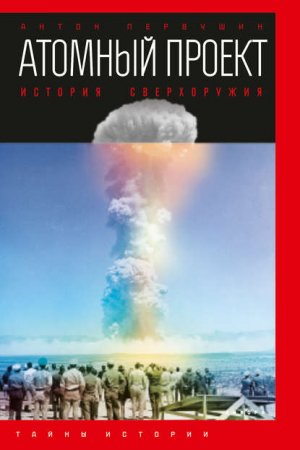
© ООО «Торгово-издательский дом «Амфора», 2015
Предисловие
Всего век назад атомное оружие казалось чем-то фантастическим – на одном уровне с межпланетными полетами, лучами смерти, спиритизмом, телепатией и путешествиями во времени. Авторы жанровой литературы и наивные популяризаторы с большим удовольствием описывали потенциальные возможности, которые дает овладение атомной энергией: от установления всемирной диктатуры до рейсов в соседние звездные системы. Никто из них и представить себе не мог, что последствия использования атомной энергии окажутся трагическими: погибнут тысячи людей, будут разрушены два японских города, несколько раз мир будет замирать в шаге от глобальной катастрофы.
Сегодня мы привыкли с опаской относиться ко всему, на чем стоит знак радиационной опасности. Еще бы! Аварии на атомных электростанциях в Припяти и Фукусиме, эвакуация населения близлежащих городов, долгосрочные последствия – всё это не могло не сказаться на отношении человечества к атомной энергетике. И в то же время масштабной войны с использованием атомных арсеналов удалось избежать. Считается, что такая война бессмысленна: ведь при любом развитии событий победителей в ней не будет. Но чтобы лидеры противостоящих государств осознали эту простую истину, понадобилось установить твердый стратегический паритет.
История атомного проекта во многом уникальна – хотя бы тем, что подразумевает многовариантность прочтения. Ее можно рассказывать как историю великих ученых, постигавших тайны материи и столкнувшихся на этом пути с необходимостью выбирать между патриотизмом и гуманизмом. Ее можно рассказывать как историю разведчиков, сумевших по крупицам собрать информацию о технических достижениях противника и ускоривших появление атомной индустрии. Ее можно рассказывать как историю политиков, использовавших «фактор атомной бомбы» для укрепления позиций своих стран на мировой арене. Ее можно рассказывать как историю людей и историю идей, как историю выдающихся открытий и историю закулисных интриг, как историю триумфального технического прорыва и историю жестокого массового убийства. И главное – можно не повторяться: хотя огромное количество документов, связанных с атомным проектом, уже рассекречено и изучено, очень многие эпизоды остаются неясными, создавая обширное поле для спекуляций.
На страницах этой книги мы даже не будем пытаться охватить всю историю атомного проекта в ее многогранности, но зато попробуем выделить главное – стержневую сюжетную линию, которая превращает набор разнообразных и слабо связанных друг с другом событий в почти детективное повествование. Кроме того, мы обратимся к первоисточникам, то есть к реальным архивным документам и дневниковым записям тех, кто создавал атомное оружие, а затем испытывал его. Мы будем вспоминать школьные уроки физики и вникать в детали. Ведь прошлый век неслучайно называют «атомным»: значительная часть процессов, происходивших в мире в течение десятков лет, так или иначе была связана с этими новыми видами энергетики и вооружений. И самое важное – история атомного проекта не завершена, она продолжается и поныне, определяя контуры нашего будущего.
Глава 1
Современная алхимия
Начало всех вещей
Если мы хотим разобраться, насколько было значимо для цивилизации открытие атомной энергии, нам следует обратиться к прошлому и вспомнить, как именно люди познавали микромир.
Процесс этого познания был связан с непосредственным опытом, который мог получить еще доисторический человек. Один из современных популяризаторов даже выдвинул гипотезу, будто бы наши предки, обтесывая камни для производства первых орудий, могли обратить внимание, что даже самый большой камень можно раздробить в пыль, и задавались вопросом: а из чего состоит сама пыль? Такая гипотеза остается на совести ее автора, однако сегодня мы определенно знаем, что по мере совершенствования разума и общества абстрактные вопросы перестают казаться чем-то странным, более того – именно через такие вопросы лежит путь к решению вполне практических задач.
Итак, в какой-то момент мыслители задумались: из чего состоит окружающий мир, то есть всё видимое пространство и материя? Первые идеи о существовании мельчайших частиц вещества зародились в учениях Древнего Востока, Древней Индии и Древнего Китая. До нас дошли сведения, что о них высказывался житель Древнего Востока, финикиянин Мох Сидонский в XII веке до нашей эры. Аналогичную идею можно найти в воззрениях древнеиндийской школы вайшешика. В «Книге перемен» («И-цзын») неизвестный древнекитайский автор утверждал, что в основе всех вещей лежит туманная масса – «тай-цзи», которая состоит из противоположных частиц «ци», а взаимодействие этих частиц обусловливает изменение вещей.
Значительно более глубоко отражены явления природы в учениях древнегреческих философов (V и IV вв. до н. э.). Мы знаем, что они серьезно задумывались над сущностью и происхождением материи. Изначально философы полагали, что природа состоит из первичных неизменных элементов: огня, земли, воздуха и воды. Соединяясь между собой, элементы дают многообразие окружающих нас предметов. Позднее возник более глубокий вопрос: а из чего состоят сами элементы? Первыми его сформулировал милетский философ Левкипп – учитель гениального материалиста Демокрита (460–370 гг. до н. э.). Оба пришли к выводу, что качественного различия первичных элементов не существует, что вся материя состоит из мельчайших частиц вещества, то есть таких, которые разделить уже нельзя. Именно Демокрит и произнес слово «атом» (от греческого «атомос» – «неделимый»), которым мы активно пользуемся по сей день.
Закладывая основы атомистической философии, Демокрит учил, что атомы бесконечны по числу и бесконечно разнообразны по форме. Они могут быть шаровидными, пирамидальными, крючковатыми. Они неделимы и лишены внутреннего строения. Они являются началом всех вещей. Они не создаются и не уничтожаются. Всякое возникновение или уничтожение вещей – только кажущееся.
В средневековье философия Демокрита была почти забыта. Именно в ту эпоху появилась алхимия, одной из целей которой стало открытие «философского камня» – катализатора, способствующего превращениям веществ (трансмутации). Разумеется, речь прежде всего шла о превращении дешевых металлов в золото. Хотя у алхимиков не было единой теории, они пошли экспериментальным путем, пробуя различные смеси и температурные режимы. В результате своих слепых поисков они все же обнаруживали кое-какие закономерности. Они узнавали, что, например, известь и вода реагируют между собой, медные стружки при нагревании превращаются в черное вещество и тому подобное. Алхимики изобрели порох, научились выделять этиловый спирт, ввели новейшие методы обработки металлов, придумали герметизацию и консервацию, составляли каталоги минералов и лекарственных трав. Однако их бурная деятельность так и не смогла привести к качественному скачку: ведь они опирались на устаревшую еще во времена Демокрита теорию четырех (или пяти, включая «квинтэссенцию») первичных элементов, что не способствовало проникновению в тайны вещества.
Перелом произошел позднее – после того, как европейские мыслители вернулись к атомистическим взглядам. Одним из первых в длинном ряду ученых стал англичанин Роберт Бойль, живший в XVII веке. В результате опытов и рассуждений он пришел к выводу: вещество может находиться в трех состояниях – жидком, твердом и газообразном. И в каждом состоянии вещество состоит из мельчайших частиц – корпускул, которые механически (то есть при помощи крючочков, зазубрин и так далее) сцепляются между собой.
Оставалось неясным, почему происходят взаимодействия между веществами. Для ответа на этот вопрос немецкий врач Эрнст Шталь, практиковавший в начале XVIII века, предположил, что должно существовать некое вещество, не имеющее ни веса, ни запаха, ни цвета. Это вещество он назвал флогистоном. По мнению Шталя, флогистон должен обуславливать связи и химическое взаимодействие между корпускулами. Например, горят дрова в камине. Видно пламя. Образуются зола и дым. Теория Шталя объясняла этот процесс очень просто: флогистон переходит из одного вещества в другие. Считалось, что флогистон – это нематериальное начало горючести. Особенно много флогистона содержат воспламеняющиеся вещества.
Теория Шталя выглядела очень стройной и стала первой теорией научной химии, отделив последнюю от алхимии. Она получила широкое распространение, и слово «флогистон» не сходило со страниц научных трудов. Никто из ученых не сомневался в его существовании. И даже когда опыты указывали на то, что в этой теории концы не сходятся с концами, ученые упорно старались ее усовершенствовать. Кстати, раньше остальных отказался от нее наш выдающийся соотечественник Михаил Ломоносов.
В 1770-х годах теория флогистона была все-таки опровергнута благодаря работам Антуана Лавуазье. Старую теорию сменила другая – кислородная теория горения. Новые идеи встретили сопротивление европейских ученых. Одним из таких был естествоиспытатель Ричард Кирван, возглавлявший Ирландскую академию в Дублине. В 1792 году Кирван официально заявил: «Я вижу теперь ясно, что нет ни одного надежного опыта, который бы доказывал образование „фиксируемого воздуха“ из флогистона и кислорода, а при этих обстоятельствах невозможно далее считать справедливой флогистическую систему».
Следующий шаг сделал ученый-самоучка из Манчестера – учитель математики и химии Джон Дальтон. На свои средства он оборудовал лабораторию, стал проводить опыты. Он задумывался над механизмом превращения веществ и постепенно сформулировал собственную теорию химического взаимодействия. Дальтон отказался от общеупотребимого термина «корпускула», вернувшись к античному «атому», что, по его мнению, лучше всего подчеркивало элементарность неделимой частицы вещества.
В 1808 году Джон Дальтон опубликовал первый том «Нового курса химической философии», в которой изложил основы созданной им теории. В этой книге он описывал атомы как упругие и неподвижные в обычном состоянии шарики. Дальтон пришел к выводу, что в природе существуют простые вещества, названные им элементами, и сложные, которые состоят из этих элементов. Каждый элемент складывается из атомов, характерных только для него, со строго определенными свойствами.
Главным выводом из теории Дальтона стал закон кратных отношений, который гласит, что атомы веществ образуют более сложное вещество только в простейшей пропорции. Другими словами, в химических реакциях могут соединяться только целые атомы, но ни в коем случае не их части. Дальтон впервые ввел в практику понятие «атомного веса» (или «атомной массы») элемента. В его времена взвесить атом было принципиально невозможно, поэтому ученый предложил оперировать относительными величинами. Скажем, если принять вес атома водорода за единицу, то можно будет посчитать вес атомов других элементов по отношению к атому водорода.
Чтобы установить атомный вес тех или иных элементов, Дальтон проводил множество опытов. Например, он брал водород с хлором и получал хлористый водород. При этом Дальтон установил, что новое вещество получается из одной весовой части водорода и приблизительно тридцати пяти весовых частей хлора. И сделал правильный вывод: атомный вес водорода в тридцать пять раз меньше атомного веса хлора. Тем не менее его теория приводила и к ошибкам. Дальтон взял водород с кислородом и нашел, что вода получается из одной весовой части водорода и восьми весовых частей кислорода. Ученый пришел к выводу, что атомный вес кислорода должен быть равен восьми. Однако в действительности атомный вес кислорода вдвое больше. Дело в том, что Дальтон полагал, будто бы атомы элементов соединяются друг с другом в пропорции один к одному. В действительности они могут образовывать сложные молекулы: та же молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода.
Ошибку Дальтона исправили итальянский физик Амедео Авогадро и шведский химик Иоганн Берцелиус. Последний также установил, что элементы не соединяются в простых отношениях. Заданное количество водорода на самом деле чуть меньше, чем восьмикратная масса кислорода. Получалось, что если атомный вес водорода предположительно составляет 1, то атомный вес кислорода должен быть не 16, а 15,87. Чтобы проводить дальнейшие исследования атомного веса элементов, показалось более удобным определить атомный вес кислорода, в отличие от атомного веса водорода, как целое число. В частности, такую попытку предпринял сам Берцелиус, опубликовав в 1828 году свою таблицу атомных весов. Вначале он определил атомный вес кислорода как 100, затем решил уменьшить цифры и установил атомный вес кислорода 16 единиц. В этом случае атомный вес водорода должен немного превышать 1, то есть стал равным 1,008. Введенная Берцелиусом система просуществовала почти полтораста лет.
На протяжении всего XIX века химики продолжали интенсивно работать над проблемой определения атомного веса. К началу XX века им удалось определить атомный вес большинства известных элементов, многих с точностью до двух знаков, а иных даже до трех. Некоторые элементы имеют атомный вес, выраженный в числах, которые близки к целым (по стандарту кислород равен 16). Атомный вес алюминия, скажем, составляет около 27, кальция около 40, углерода около 12, золота около 197. Однако выяснилось, что у некоторых элементов атомный вес очень далек от целых чисел. Атомный вес хлора – 35,5, меди 63,5, железа 55,8, серебра – 107,9 и так далее.
Химики не знали, почему у одних веществ атомный вес составляет целые числа, а у других нет. Они просто проводили опыты и публиковали результаты. Ответы на очередные вопросы были получены только тогда, когда был достигнут прогресс в исследовании электричества.
В XVIII веке ученые прямо-таки восхищались свойствами электричества. В то время его представляли как очень легкую и подвижную жидкость, которая беспрепятственно проходит через материальные тела. Однако электричество могло не только проходить сквозь тела, но и вызывать в них значительные изменения. Уже в первые годы XIX века исследователи обнаружили, что поток электричества в жидкости заставлял различные атомы или группы атомов двигаться в противоположных направлениях.
В 1832 году английский физик Майкл Фарадей заметил, что определенное количество электричества, проходящее через разные вещества, освобождает одно и то же количество атомов. Правда, в некоторых случаях освобождалась только половина, а иногда и треть ожидаемого количества атомов. Стремясь объяснить это явление, ученые высказали предположение, что электричество, так же как и материя, может состоять из крошечных частиц и при расщеплении молекул «единица электричества» прикрепляется к каждому атому. В этом случае некоторое количество электричества, содержащее одно и то же число единиц, способно освободить одно и то же количество атомов.
Со временем стало ясно, что электричество существует как бы в двух разновидностях, которые назвали положительным и отрицательным зарядами. Соответственно, если с атомом связан положительный заряд электричества, то под действием электрического напряжения он должен притягиваться в одном направлении; если же атом обладает отрицательным электрическим зарядом, то он должен притягиваться в другом направлении.
Поскольку изучать единицы электричества было гораздо труднее, чем атомные единицы материи, на протяжении XIX века они даже не имели названия. Только в 1891 году ирландский физик Джордж Стоуни предложил назвать предполагаемую единицу электричества электроном.
Как известно, электрический ток всегда течет по замкнутой цепи проводников – например, по металлической проволоке. Полюс батареи или другого источника электрического напряжения, от которого начинается движение тока, назвали положительным (анодом), а другой – отрицательным (катодом). Если возникает разрыв в цепи, то движение электрического тока прекращается. Однако в том случае, когда разрыв невелик, а напряжение достаточно высоко, ток может просочиться через разрыв в виде искры. Возникающая при этом вспышка света и треск являются результатом взаимодействия электрического тока с молекулами воздуха и их нагрева. Но свет и звук – не электричество. Для того чтобы обнаружить само электричество, ток следует пропустить через промежуток между электродами, находящимися в вакууме. Для этого два электрода впаивают в стеклянную трубку, из которой откачивают почти весь воздух.
Такая сложная технологическая операция была выполнена далеко не сразу. Только в 1854 году ее удалось осуществить немецкому стеклодуву и изобретателю Генриху Гейсслеру. Оказалось, что, если пропустить через его трубку достаточно высокое напряжение, ток пойдет и через вакуум.
В 1858 году немецкий физик Юлиус Плюккер заметил, что, когда электрический ток проходит через трубку Гейсслера, над катодом возникает зеленоватое свечение. Исследователи продолжали изучать это свечение, пока наконец другой немецкий физик Ойген Гольдштейн в 1876 году не пришел к выводу, что существуют невидимые лучи, которые испускает отрицательно заряженный электрод и которые заканчиваются у противоположного конца трубки. Он назвал их «катодными лучами» и полагал, что они представляют собой искомый электрический ток, движущийся внутри металлических проводов. Гольдштейн задумался: можно ли считать, что катодные лучи обладают теми же волновыми свойствами, что и видимый свет, или они являются потоком частиц, обладающих массой?
Существовали как сторонники, так и противники указанных точек зрения. Однако в 1885 году английский физик Уильям Крукс сумел направить катодные лучи на колесо с лопатками, и они заставили его поворачиваться. Его опыт показал, что катодные лучи обладают массой и, следовательно, представляют собой поток частиц, аналогичных атомам, а не поток волн, не имеющих массы. Больше того, Крукс продемонстрировал, что поток катодных лучей можно отклонять при помощи магнита (аналогично проводнику, помещенному в магнитное поле). Всё это означало, что, в отличие от света или обыкновенных атомов, катодные лучи содержат электрический заряд.
Представление о катодных лучах как о потоке заряженных частиц подтвердили работы английского физика Джозефа Томсона, который в 1897 году обнаружил, что поток катодных лучей может искривляться также под действием электрически заряженных предметов. По направлению их отклонения Томсон определил, что катодные лучи должны состоять из отрицательно заряженных частиц. Для их наименования и стали использовать название, предложенное Джорджем Стоуни. Другими словами, стали говорить, что катодные лучи состоят из потока электронов.
Степень отклонения катодных лучей под влиянием магнита или электрически заряженных предметов зависит от массы электрона и величины электрического заряда или магнитного поля, воздействующего на них. Измеряя это отклонение в разных условиях, ученые смогли определить свойства частиц. Казалось, что масса электрона примерно соответствует массе атома водорода. Однако Джозеф Томсон сумел доказать, что в действительности электрон гораздо легче, чем атом водорода, который считался самым легким из всех атомов. Получается, что электрон – первая «субатомная частица», открытая человеком.
Таким образом, к 1897 году физики сумели описать только два типа «неделимых» частиц, обладающих массой: атомы, образующие обычное вещество, и электроны, образующие электрический ток. Самое интересное было впереди.
Тайны «икс-лучей»
После открытия электрона исследователи пытались увязать оба вида частиц друг с другом.
В 1895 году немецкий физик Вильгельм Рентген, работая с катодными лучами, заметил странное явление. Листок бумаги, покрытый соединением бария, во время приближения к трубке Гейсслера, находящейся в чехле из черного картона, при каждом разряде начинает ярко светиться. Хорошо видимое свечение не зависело от того, какой стороной бумагу подносят к трубке: покрытой соединением бария или противоположной. Самое удивительное состояло в том, что разрядные трубки, которыми пользовался Рентген, применялись исследователями в течение сорока лет, и никто не обращал внимания на это явление. Оставалось предположить, что трубка испускает еще какие-то невидимые лучи, которые свободно проходят через картон, стекло, бумагу и вызывают свечение соединения бария.
Рентген помещал между трубкой и бумагой со слоем бария различные предметы: книгу, колоду карт, доски, алюминиевую пластинку, эбонит. Все эти вещества пропускали лучи, и свечение бария продолжалось. Тогда Рентген подставил руку. На бариевом экране появились слабые очертания руки и костей кисти. Подставил кошелек, и на экране ясно стало видно его содержимое. Фантастика! Поскольку Рентген не смог определить, какого происхождения наблюдаемое излучение, он назвал его «икс-лучами». Название сохранилось и после того, как ученые начали исследовать природу рентгеновских лучей и обнаружили, что по своим свойствам они похожи на свет, но имеют более короткую длину волны, чем тот, который видит глаз.
Физики стали искать рентгеновские лучи повсюду. Француз Анри Беккерель заметил, что сульфат урана, выставленный под солнце, затем начинал светиться в темноте. Беккерель решил проверить, не излучает ли это соединение «икс-лучи». Оказалось, что излучает. Однако в ходе дальнейших исследований, в 1896 году, Беккерель случайно обнаружил, что сульфат урана испускает «икс-лучи» постоянно, вне зависимости от того, выставляют его на солнце или нет. Затем он выяснил, что эти лучи вызывают почернение фотопластинки так же, как и обычный свет. Более того, Беккерель показал, что пластинка засвечивалась и в том случае, когда ее заворачивали в черную бумагу. Следовательно, эти лучи проникали через вещество, как и «икс-лучи», но при этом не могли быть ими: француз довольно быстро установил, что его лучи свободно проходят и через те вещества, которые стали преградой для «икс-лучей» Рентгена. Беккерель также заметил, что интенсивность испускаемых ураном лучей не зависит ни от температуры, ни от освещения и не меняется со временем. Ему стало ясно, что эти лучи представляют собой совершенно новое явление в природе. Беккерель назвал его «радиацией» (от латинского слова «радиус», что означает «луч»).
Открытие «беккерелевых» лучей вызвало сенсацию. Многих ученых заинтересовало это явление. В 1898 году французский физик польского происхождения Мария Склодовская-Кюри показала, что источником радиации может быть только атом урана. Больше того, ей удалось отыскать еще один элемент, излучающий радиацию. Им оказался торий. Склодовская-Кюри предложила назвать обнаруженное природное свойство радиоактивностью, а излучающие элементы – радиоэлементами.
Однако ученым не была понятна сущность этого явления. Оно неопровержимо указывало на то, что внутри атома происходят какие-то загадочные процессы. Для продолжения исследований Мария Склодовская-Кюри решила получить уран в чистом виде. Она и ее муж Пьер Кюри провели большую серию опытов и выделили уран из соединений. Но странное дело: этот почти чистый уран излучал радиацию гораздо слабее, чем исходная руда. Супруги-физики воспроизвели эксперимент еще и еще раз. Получалось то же самое. Они начали проверять интенсивность излучения различных минералов урана. И тут обнаружили, что радиоактивность некоторых из них сильнее, чем должно быть, судя по содержанию урана.
«Ненормальность» в поведении различных минералов урана очень удивила супругов Кюри. Напрашивался вывод: значит, в руде, которую обрабатывала Мария Склодовская-Кюри, присутствовало какое-то другое вещество, излучающее сильнее, чем уран. Новый элемент! Снова начались опыты. Супруги Кюри брали радиоактивное вещество и воздействовали на него различными химическими способами. Получались растворы. Растворы отбирались по степени радиоактивности. С наиболее радиоактивными растворами снова проводили химические реакции и снова производили отбор. Так были получены два разных химических раствора, в которых не было урана, но которые продолжали излучать радиацию. На основании этого супруги Кюри сделали единственно возможный вывод: они обнаружили не один новый радиоактивный элемент, а целых два! Теперь нужно было дать им имена. По праву первооткрывателя Мария Склодовская-Кюри предложила назвать один радиоэлемент полонием (в честь ее родины Польши), а второй – радием. Сообщение об открытии полония супруги Кюри опубликовали в июле 1898 года, а радия – полугодом позже.
Следующий шаг сделал вышеупомянутый Анри Беккерель. В 1899 году он показал, что под действием магнита часть радиоактивного излучения отклоняется в противоположном направлении, тогда как другая часть излучается по прямой линии. Постепенно установили, что уран и торий испускают три вида излучения. Один имеет положительный электрический заряд, другой – отрицательный, а третий – не несет никакого заряда. Британский физик Эрнест Резерфорд, выходец из Новой Зеландии, назвал два первых вида радиации «альфа-лучами» и «бета-лучами» по первым двум буквам греческого алфавита. Третий вид вскоре был поименован «гамма-лучами» – по третьей букве.
Со временем выяснилось, что гамма-лучи являются еще одной «светоподобной» формой излучения, но их волны короче, чем у рентгеновских лучей. Альфа– и бета-лучи, переносившие электрические заряды, оказались потоками заряженных частиц («альфа-частицами» и «бета-частицами»), как и катодные лучи. Действительно, изучив в 1900 году бета-частицы, Анри Беккерель обнаружил, что они идентичны по массе и заряду электронам. Они и были электронами.
Вскоре Беккерель сделал еще одно удивительное открытие, о котором не замедлил сообщить Марии и Пьеру Кюри. Французский физик положил пробирку с радием в жилетный карман, и на его теле, в том месте, где находилась пробирка, образовался ожог. Явлением сразу же заинтересовался Пьер Кюри. Не обращая внимания на опасность эксперимента, он привязал пробирку к своему предплечью и носил ее так в течение десяти часов. Вот что он потом записал: «Кожа покраснела на поверхности в шесть квадратных сантиметров; она имеет вид ожога, но не болит или болезненна чуть-чуть. Через некоторое время краснота, не распространяясь, начинает становиться интенсивнее; на двадцатый день образовались струпья, затем рана, которую лечили перевязками». Рана зажила только через два месяца.
Анри Беккерель опубликовал результаты своего невольного эксперимента вместе с наблюдениями Пьера Кюри 3 июля 1901 года. Дата вошла в историю: ведь в тот день родилась новая отрасль науки – радиационная биология (радиобиология).
Как только было обнаружено физиологическое действие лучей радия, этим явлением тотчас заинтересовались французские врачи. Пьер Кюри охотно откликнулся на их предложение принять участие в экспериментах над животными и дал врачам немного радиевых препаратов. Вскоре они пришли к заключению: радий, разрушая больные клетки, излечивает волчанку, злокачественные опухоли и некоторые формы рака. Только этими лучами нужно пользоваться осторожно. В больших дозах они губительно действуют на здоровую ткань. Новый вид лечения назвали «кюритерапией».
Научная революция
Оставался открытым вопрос: что же именно происходит в атомах урана, тория, полония и радия? Почему они излучают частицы и энергию?
В 1903 году, просуммировав открытия, сделанные физиками, Джозеф Томсон выдвинул принципиально новую модель строения атома. Он предположил, что атом представляет собой облако материи с положительным зарядом. Облако имеет форму сферы, в которую вкраплены электроны. «Что-то вроде пудинга с изюмом», как сказал однажды Томсон, когда его спросили о строении атома. Сумма всех положительных зарядов равна сумме отрицательных, и в целом атом нейтрален. При этом электроны расположены в атоме симметрично, но под действием внешних условий (например, под действием электрического поля) они могут смещаться в сторону, колеблясь около некоторого положения равновесия.
Модель Томсона не прожила слишком долго. Его талантливый ученик Эрнест Резерфорд сумел превзойти учителя. Чтобы экспериментально подтвердить существование «пудинга с изюмом» и развеять все сомнения, в 1906 году Резерфорд занялся изучением свойств альфа-частиц. Он установил, что они несут положительный электрический заряд, причем вдвое больший, чем отрицательно заряженный электрон. Если электрон нес заряд, который можно условно обозначить как «-», тогда заряд альфа-частицы оказывался «++». Кроме того, альфа-частица оказалась более тяжелой, чем электрон. Она была такой же массивной, как атом гелия (второй из известных самых легких атомов), и в четыре раза тяжелее атома водорода. Тем не менее альфа-частица проходила сквозь вещество, чего не могли сделать атомы. Поэтому Резерфорд предположил, что она имеет меньший диаметр, чем атомы. Следовательно, несмотря на свою массу, альфа-частица является еще одной субатомной частицей наряду с электроном.
Тогда Эрнест Резерфорд придумал простой и изящный эксперимент. Он построил своего рода пушку, которая представляла собой свинцовый ящик с узкой прорезью; внутрь нее был помещен радий, полученный супругами Кюри. Частицы, испускаемые радием во всех направлениях, кроме одного, поглощались свинцовым экраном, и лишь через прорезь вылетал направленный пучок альфа-частиц. Далее на пути пучка стояло еще несколько свинцовых экранов с узкими прорезями, отсекавших частицы, отклоняющиеся от заданного направления. В результате к мишени подлетал идеально сфокусированный пучок альфа-частиц, а сама мишень была сделана из тончайшего листа золотой фольги. После столкновения с атомами фольги альфа-частицы продолжали свой путь и попадали на люминесцентный экран, установленный позади мишени, на котором при попадании регистрировались вспышки. По ним экспериментатор мог судить, в каком количестве и насколько альфа-частицы отклоняются от направления прямолинейного движения в результате столкновений с атомами фольги.
Основная идея эксперимента Резерфорда состояла в том, чтобы по углам отклонения частиц накопить достаточно информации, по которой можно было бы судить о строении атома. Модель «пудинга с изюмом» не допускала существования в атоме столь плотных элементов структуры, которые могли бы отклонять быстрые и тяжелые альфа-частицы на значительные углы. Каково же было удивление Резерфорда, когда выяснилось, что некоторые частицы отклоняются на огромные углы, вплоть до 180°, то есть отскакивают назад! Он был вынужден заключить, что в атоме большая часть массы сосредоточена в невероятно плотном веществе, расположенном в центре, а вся остальная часть атома оказывалась на много порядков менее плотной. Из поведения рассеянных альфа-частиц следовало также, что в этих сверхплотных центрах атома, которые Резерфорд назвал «ядрами», сосредоточен и весь положительный электрический заряд атома, поскольку только силами электрического отталкивания может быть обусловлено рассеяние частиц под углами больше 90°.
Годы спустя Эрнест Резерфорд любил приводить по поводу своего открытия такую аналогию. В одной южноафриканской стране таможню предупредили, что через границу собираются провезти крупную партию контрабандного оружия для повстанцев, причем оно будет спрятано в тюках с хлопком. И вот перед таможенником после разгрузки предстает целый склад, забитый тюками с хлопком. Как ему определить, в каких именно тюках находятся винтовки? Таможенник решил задачу просто: он стал стрелять по тюкам из револьвера, и, если пули рикошетили от какого-либо тюка, он по этому признаку выявлял наличие контрабандного оружия. Так и физик, увидев, как альфа-частицы «отскакивают» от золотой фольги, понял, что внутри ее атомов скрыта гораздо более плотная структура, чем считалось ранее.
В 1911 году Резерфорд опубликовал результаты своего эксперимента и предложил вниманию коллег модель атома, которой мы пользуемся по сей день. Согласно его выкладкам, почти вся масса атома сконцентрирована в очень небольшом ядре, расположенном в самом центре. Диаметр ядра составляет всего лишь одну десятитысячную от диаметра атома. Вся оставшаяся часть атома представляет собой облако из легких электронов, которые вращаются вокруг центра. Ядра атомов несут положительный заряд и уравновешиваются отрицательно заряженными электронами. С точки зрения Резерфорда, альфа-частицы – это и есть «чистые ядра». Поскольку новая модель атома походила по своей структуре на Солнечную систему, она получила название «планетарная модель».
Теперь предстояло выяснить, из чего состоит ядро атома. Бомбардируя электронами нейтральные атомы водорода, ученый обнаружил, что они превратились в положительно заряженные. Но было уже известно, что атомы водорода имеют один электрон и один положительный заряд в центре. Значит, решил Резерфорд, этот положительный заряд и является ядром атома водорода. Он назвал частицу, несущую положительный заряд, «протоном» (от греческого слова «первый» или «основной»). Очередное открытие состоялось в 1914 году, через три года после создания «планетарной модели» и спустя семнадцать лет после открытия Томсоном первой элементарной частицы, входящей в состав атома. Теперь их стало две – электрон и протон.
Когда Резерфорд определил массу протона, то оказалось, что он неимоверно тяжел. Разумеется, по отношению к другой элементарной частице – электрону. Масса протона примерно в 1840 раз больше массы электрона. В то же время заряды у них равны, то есть отрицательный заряд маленького электрона полностью нейтрализует положительный заряд протона.
В 1919 году Эрнест Резерфорд сделал еще одно открытие, которое смело может считаться триумфом его научной деятельности. Он осуществил фантастическую мечту средневековых алхимиков о превращении одних элементов в другие: из азота получил кислород!
Открытие протона во многом прояснило картину строения атома и расположения элементов в периодической таблице, придуманной и описанной Дмитрием Ивановичем Менделеевым в марте 1869 года. Через много лет после этого, в 1915 году, Генри Мозли, который был одним из многочисленных учеников Резерфорда, установил, что числу положительных зарядов в ядре (то есть числу протонов) соответствует порядковый номер элемента в таблице Менделеева. Водород имеет один протон в ядре – он и стоит на первом месте в таблице. Уран стоит в таблице на 92-м месте – значит, он имеет 92 протона. Таким образом, числом протонов в ядре однозначно определяется, какой это элемент.
Получается, рассуждал Резерфорд, что если каким-либо способом изменить число протонов в ядре, то один элемент превратится в другой. Но как его изменить? Нужен некий снаряд, который ударит по ядру и отколет от него протон. В то время такими снарядами могли быть только альфа-частицы, испускаемые радием, – их скорость составляет 19 200 км/с. Можно было надеяться, что некоторые из альфа-частиц проникнут внутрь атомов азота и столкнутся с его ядром. В результате изменится число протонов в ядре.
Резерфорд так и сделал. После тщательных опытов он установил, что при обстреле альфа-частицами атомов азота число протонов в их ядрах изменяется на единицу. Новый получившийся элемент был кислородом – элементом, стоящим в таблице Менделеева в соседней клетке с азотом. Предположение Резерфорда блестяще подтвердилось.
Понятно, что эксперимент произвел сенсацию. Впервые в истории человек превратил один элемент в другой. В течение нескольких лет Резерфорд таким же путем осуществил искусственное превращение семнадцати других элементов, среди которых были бор, фтор, натрий, алюминий, литий, фосфор. Неслучайно впоследствии одну из своих лекций Резерфорд назвал «Современная алхимия».
Оружие будущего
Надо сказать, что в то же самое время состоялось еще одно фундаментальное открытие, которое потрясло мир. В 1905 году немецкий физик Альберт Эйнштейн опубликовал три статьи, утверждающие «специальную теорию относительности». В рамках этой теории Эйнштейн вывел формулу эквивалентности массы и энергии: E = mc2. Она поразила всех своей простотой и изяществом, но, главное, позволяла легко вычислить, какое количество энергии содержится в любом объеме вещества. И это количество оказалось огромным, ведь в формуле под обозначением с присутствует скорость света, да еще и в квадрате!
Открытие и выделение новых радиоэлементов супругами Кюри, формула Эйнштейна, опыты Резерфорда – всё это в совокупности давало надежду, что вскоре человечество овладеет колоссальной энергией, которую можно будет черпать повсюду, непосредственно из глубин окружающей материи.
Ученые практически сразу осознали как позитивные перспективы, так и угрозы, исходящие от очередного шага в постижении тайн атома. Еще до публикации теории Эйнштейна, в сентябре 1904 года, на Всемирной выставке в американском Сент-Луисе, Эрнест Резерфорд, выступая с докладом, заявил, что энергия атома может быть использована для разрушения. Он полагал, что если найдется подходящий «детонатор», то можно будет запустить самоподдерживающийся процесс распада вещества, который будет продолжаться до тех пор, пока Земля не превратится в «гелиевые отходы».
Подобные мысли можно встретить и у других физиков начала ХХ века. Они, конечно, ошибались, описывая возможность глобального распада, но в остальном были правы: высвобождение внутриатомной энергии могло стать благом, а могло – бедствием.
Идею быстро подхватили фантасты, которые внимательно следили за любыми значимыми научными достижениями и пытались в пределах своего понимания предсказать возможные последствия. Причем именно фантасты раньше других подняли проблему ответственности ученых за последствия сделанных ими открытий.
Первым в длинном ряду писателей, отметившихся в «атомной» теме, стал профессиональный американский астроном Саймон Ньюком. Герой его романа «Мудрость – вот защитник» (1900), профессор-физик Кэмпбелл, открывает в мае 1941 года новый вид энергии, позволяющий создать невиданное по разрушительной силе оружие. Быстро разгромив европейские армии, он формирует и возглавляет всемирное правительство, строя нечто вроде технократической утопии с англосаксонской аристократией во главе.
Роман Ньюкома остался незамеченным широкой публикой на фоне других произведений о грядущей европейской войне, в которых описывались более понятные виды оружия будущего типа танков, аэропланов и отравляющих газов. Поэтому в библиографиях «атомной» фантастики на первом месте стоит не «Мудрость…», а «Освобожденный мир» (1914) прославленного английского писателя Герберта Уэллса, умевшего выделять самое важное в происходящей на его глазах научно-технической революции.
При подготовке к написанию романа Уэллс внимательно проштудировал книгу «Объяснение радия» физика Фредерика Содди, ученика Резерфорда. Об этом сам писатель сообщил в письме к другу:
Я внезапно ощутил желание вновь вернуться к этим славным «научно-фантастическим романам» прошлого. Но мне необходимо собрать все новейшие данные об атомной теории и источниках энергии. <…> Идею я почерпнул из книги Содди. Предположим, люди открыли, как вызвать атомный взрыв тяжелых элементов, – подобно тому, как они обнаружили много лет назад способ сжигать уголь. Вот и бесконечное количество энергии.
Герберт Уэллс в очередной раз доказал свою прозорливость, акцентируя внимание читателей на возможных последствиях овладения внутриатомной энергией. Не сомневался он и в том, что такая энергия будет использована в качестве оружия.
Вот как английский фантаст описывал потенциальные возможности атомной энергетики, вкладывая свои соображения в уста вымышленного профессора Рафиса, выступающего с публичной лекцией:
Мы видим, что радий, который сперва представлялся нелепым исключением, безумным извращением, казалось бы, наиболее твердо установленных принципов строения материи, на самом деле обладает теми же свойствами, что и другие элементы. Просто в нем бурно и явно происходят процессы, которые, возможно, свойственны остальным элементам, но протекают в них крайне медленно и потому незаметно. Так возглас одного человека выдает во мраке бесшумное дыхание множеств. Радий представляет собой элемент, который разрушается и распадается. Но, быть может, все элементы претерпевают те же изменения, только с менее заметной скоростью. Это, несомненно, относится к урану, и к торию – веществу этой раскаленной газовой мантии, и к актинию. Я чувствую, что мы лишь начинаем длинный список. И нам уже известно, что атом, который прежде мы считали мельчайшей частицей вещества, твердой и непроницаемой, неделимой и… безжизненной… да, безжизненной!.. на самом деле является резервуаром огромной энергии. Вот каковы удивительные результаты этих исследований. Совсем недавно мы считали атом тем же, чем мы считаем кирпичи, – простейшим строительным материалом. Исходной формой материи, единообразной массой безжизненного вещества. И вдруг эти кирпичи оказываются сундуками, сундуками с сокровищами, сундуками, полными самой могучей энергии. В этой бутылочке содержится около пинты окиси урана; другими словами, около четырнадцати унций элемента урана. Стоит она примерно двадцать шиллингов. И в этой же бутылочке, уважаемые дамы и господа, в атомах этой бутылочки дремлет по меньшей мере столько же энергии, сколько мы могли бы получить, сжигая сто шестьдесят тонн угля. Короче говоря, если бы я мог мгновенно высвободить сейчас вот тут всю эту энергию, от нас и от всего, что нас окружает, осталась бы пыль; если бы я мог обратить эту энергию на освещение нашего города, Эдинбург сиял бы яркими огнями целую неделю. Но в настоящее время никто еще не знает, никто даже не догадывается, каким образом можно заставить эту горстку вещества ускорить отдачу заключенных в ней запасов энергии.
Герберт Уэллс писал не научно-популярную книгу, а научно-фантастическую, поэтому его персонаж, физик Холстен, в конце концов находит способ освободить внутриатомную энергию. Свое открытие персонаж сделал в 1933 году, а через двадцать лет атомная энергетика начала повсеместно вытеснять каменноугольную, изменив облик городов и транспортной инфраструктуры:
К осени 1954 года во всем мире начался гигантский процесс смены промышленных методов и оборудования. В этом не было ничего удивительного, если вспомнить, насколько даже самые ранние и несовершенные из этих атомных двигателей были дешевле тех, которые они вытесняли. <…> За последние полстолетия цена угля и всех форм жидкого топлива возросла настолько, что даже возвращение к ломовой лошади начинало казаться практически оправданным, и вот теперь с мгновенным исчезновением этой трудности внешний вид экипажей на дорогах мира разом преобразился. В течение трех лет безобразные стальные чудовища, которые ревели, дымили и грохотали по всему миру на протяжении четырех отвратительных десятилетий, отправились на свалку железного лома, а по дорогам теперь мчались легкие, чистые, сверкающие автомобили из посеребренной стали. В то же самое время благодаря колоссальной удельной мощности атомного двигателя новый толчок получило развитие авиации. Теперь наконец к носовому пропеллеру, который был до этого единственной движущей силой аэроплана, удалось присоединить, не опасаясь опрокидывания машины, еще и хитроумный геликоптерный двигатель Редмейна, позволявший машине вертикально спускаться и подниматься. Таким образом, люди получили в свое распоряжение летательный аппарат, который мог не только стремительно мчаться вперед, но и неподвижно парить в воздухе и медленно двигаться прямо, вверх или вниз. Последний страх перед полетами исчез. Как писали газеты той эпохи, началась эра «прыжка в воздух». Новый атомный аэроплан немедленно вошел в моду. Все, у кого были на то деньги, стремились приобрести это средство передвижения, столь послушное, столь безопасное и позволявшее забыть о дорожной пыли и катастрофах. В одной только Франции за 1953 год было изготовлено тридцать тысяч этих новых аэропланов, которые, мелодично жужжа, увлекали в небо своих счастливых владельцев.
В то же время, отмечал Уэллс, слом старого «доатомного» мира привел к крушению многих экономик, из-за чего новая война стала неизбежной. Первый атомный удар был нанесен по Парижу в ночь со 2 на 3 июля 1956 года. В ответ французы сбросили бомбы на Берлин:
– Приготовиться! – скомандовал авиатор.
Худое лицо помощника застыло в мрачной решимости: обеими руками он вынул большую атомную бомбу из ее гнезда и поставил на край ящика. Это был черный шар в два фута в диаметре. Между двух ручек находилась небольшая целлулоидная втулка, и, склонившись к ней, он, словно примеряясь, коснулся ее губами. Когда он прокусит ее, воздух проникнет в индуктор. Удостоверившись, что всё в порядке, он высунул голову за борт аэроплана, рассчитывая скорость и расстояние от земли. Затем быстро нагнулся, прокусил втулку и бросил бомбу за борт.
– Поворот! – почти беззвучно скомандовал он.
Полыхнуло ослепительное алое пламя, и бомба пошла вниз – крутящийся спиралью огненный столб в центре воздушного смерча. Оба аэроплана взлетели вверх; их подбросило, как мячики, и закружило. Авиатор, стиснув зубы, старался выправить потерявшую устойчивость машину. Его тощий помощник руками и коленями упирался в борт – он закусил губу, ноздри его раздувались. Впрочем, он был надежно закреплен ремнями…
Когда он снова поглядел вниз, его взору предстало нечто подобное кратеру небольшого вулкана. В саду перед императорским дворцом бил великолепный и зловещий огненный фонтан, выбрасывая из своих недр дым и пламя прямо вверх, туда, где в воздухе реял аэроплан; казалось, он бросал им обвинение. Они находились слишком высоко, чтобы различать фигуры людей или заметить действие взрыва на здание, пока фасад дворца не покачнулся и не начал оседать и рассыпаться, словно кусок сахара в кипятке. Тот, кто сбросил бомбу, посмотрел, обнажил в усмешке длинные зубы и, выпрямившись, насколько ему позволяли ремни, вытащил из ящика вторую бомбу, прокусил втулку и послал следом за первой.
Взрыв произошел на этот раз почти под самым аэропланом и, накренив, подбросил его вверх. Ящик с последней бомбой едва не опрокинулся, тощего швырнуло на ящик, лицом прямо на бомбу, на ее целлулоидную втулку. Он ухватился за ручки бомбы и с внезапной решимостью, словно боясь, что бомба ускользнет от него, прокусил втулку. Но прежде чем он успел бросить бомбу за борт, аэроплан начал перевертываться. И все стало опрокидываться. Человек инстинктивно ухватился руками за борт, стараясь удержаться, и его тело, прижав бомбу, помешало ей упасть.
Мгновение спустя она взорвалась, и от аэроплана, авиатора и его помощника остались только разлетевшиеся во все стороны куски металла, реющие в воздухе лохмотья и капли влаги, а третий огненный столб, крутясь, обрушился на обреченный город…
Итог войны с применением атомного оружия был катастрофичен:
А в те дни земля вся была в огне войны и разрушения достигли неслыханных размеров. На вооруженном до зубов земном шаре одно государство за другим, предвосхищая возможность нападения, спешило нанести удар. В исступлении и страхе они бросались в войну, стремясь раньше других пустить в ход свои бомбы. Китай и Япония напали на Россию и уничтожили Москву, Соединенные Штаты обрушили свой удар на Японию, в Индии бушевало стихийное восстание, и Дели превратился в огненный кратер, изрыгающий пламя и смерть, а грозный балканский король объявил мобилизацию. Казалось бы, каждому в те страшные дни должно было наконец стать ясно, что мир очертя голову устремляется к анархии. Весной 1959 года уже около двухсот центров цивилизации (и каждую неделю их количество возрастало) были превращены в негаснущие очаги пожаров, над которыми ревело малиновое пламя атомных взрывов. Вся промышленность была полностью дезорганизована, хрупкая система мирового кредита рухнула, и во всех городах, во всех населенных местностях людям грозил голод или они уже голодали. Почти все столицы были в огне, погибли миллионы людей, и многие обширные области уже никак не управлялись.
Все же уцелевшим в бойне политикам пришлось договариваться, и вскоре был установлен новый мировой порядок, в рамках которого старые системы управления были реформированы и поставлены под контроль единого Совета Всемирной Республики.
Как видите, Герберт Уэллс видел главную опасность не столько в самой атомной бомбе, сколько в том, что политические институты устарели для ХХ века и не смогут справиться с желанием применить страшнейшее оружие массового поражения против врага. Во многом английский фантаст оказался прав.
Другие писатели быстро подхватили плодотворную идею. В романах о будущем или о приключениях на других планетах все чаще стало встречаться словосочетание «атомное оружие».
К примеру, в ноябре 1914 году вышел небольшой роман писателя Артура Трейна и физика-экспериментатора Роберта Вуда «Человек, который потряс Землю». Антигерой романа, безумный ученый, называющий себя Пакс, решает на свой манер прекратить кровопролитие Первой мировой войны, которая тогда уже началась. С помощью открытых им «расщепляющих уран лучей» он демонстрирует потрясенным жителям Земли возможности нового оружия и готовится повернуть земную ось, что должно вызвать серию землетрясений и даже изменить климат. Замысел безумца состоит в том, чтобы наказать человечество, неспособное жить в согласии. К счастью, есть и положительный герой, профессор физики Бенджамен Хукер, который вовремя останавливает маньяка-миротворца.
В повести английских авторов Г. Нокса и Тревора Виньоля «Борьба за атом» (1922) французские ученые строят в Париже атомную электростанцию, но ошибаются в расчетах, что приводит к взрыву и гибели города. В финале, впрочем, выясняется, что взрыв привиделся одному из персонажей, попавшему в автомобильную аварию. Вероятно, это самое первое литературное описание возможной аварии на атомной электростанции.
Следующим в библиографии стоит известный чешский писатель Карел Чапек. В его романе «Кракатит» (1924) представлен ученый-безумец, достигший успеха в «дезинтеграции атома», а также группа заговорщиков, одержимых идеей мирового господства и начавших охоту за новым оружием огромной разрушительной силы. В финале романа оно, к счастью, уничтожено, а его создатель забывает все технические детали.
Отдал дань моде и американский прозаик Эптон Синклер. В романе «Тысячелетие: комедия 2000 года» (1924), написанном по одноименной пьесе, он рассказывает о вышедшем из-под контроля эксперименте с «радиумитом», который уничтожает все живое на Земле, кроме горстки ученых, сумевших построить после «конца света» утопическое общество на кооперативных началах.
Советские фантасты тоже заметили новую тему для осмысления. Так, в 1927 году писатель Владимир Орловский, физик по образованию, опубликовал роман под характерным названием «Бунт атомов». В нем немецкий профессор-реваншист Флиднер мечтает вернуть Германии прежнее имперское величие и для этого собирается высвободить внутриатомную энергию радия. Его эксперимент завершается полным успехом: возникает огненный шар, сжигающий все на своем пути. Однако реакцию не остановить – шар растет, превращается в облако, затем в колоссальный вихрь. Европейские города охвачены пожарами, наша планета может превратиться в сверхновую звезду, и только вмешательство русского инженера Дерюгина предотвращает глобальную катастрофу.
Но, пожалуй, самое эффектное предсказание сделал советский инженер Вадим Никольский в романе «Через тысячу лет» (1927). Вообще-то его произведение – это классическая утопия, построенная на основе коммунистической идеологии. Но при этом Никольский как бы мимоходом рассказал о том, как в ХХ веке будет освоена атомная энергия:
В поисках новых орудий военной техники ученые всех стран уже два десятилетия лихорадочно работали над тайной разложения атома. Фантастические цифры энергии, которая тогда могла бы освободиться, кружили голову не только у широкой публики, жадно следившей за этими работами и понимавшей, что покорение атомной энергии преобразует весь мир. И думавшие это не ошиблись. Энергия эта действительно в необычайной степени способствовала изменению лика земли, но далеко не так, как они того ожидали.
Особенно подвинулось дело разложения атома и освобождения заключенной в нем энергии у одной группы французских ученых, работавших, как большинство исследовательских институтов того времени, в теснейшем контакте с военным ведомством. <…> Робкие лабораторные попытки первой четверти двадцатого века должны были уступить мощным, комбинированным атакам колоссальных давлений, сверхвысоких электрических напряжений и температур. Для этой цели на берегах Бретани было построено несколько грандиозных центральных электрических станций, использовавших энергию морских волн. Станции эти снабжали также Париж светом, теплом и движущей силой. Специальная лаборатория военного ведомства, устроенная в труднодоступной и надежно охраняемой местности, неподалеку от берега, могла располагать в отдельные часы всей огромной мощностью океанских электроцентралей, оперируя миллионами вольт и сотнями тысяч киловатт. Гигантские конденсаторы могли аккумулировать эту энергию, чтобы обрушить ее молниеносным разрядом на неподатливый атом. Опыты были настолько многообещающи и успешны, что в 1945 году близкие к этому делу лица были уверены в скором и конечном успехе. Специалисты уверяли, что военная техника западноевропейских держав получит тогда такое оружие, которое сделает всякую войну невозможной – конечно, для тех, кто этим оружием не обладает. <…>
Но кудесники XX века, по-видимому, овладели не всеми заклятиями для власти над вызванным им духом разрушения и смерти по каким-то непонятным причинам, – историки объясняют их различно: непредвиденным случаем или умышленным вмешательством агентов Восточных держав, – последний решающий опыт повлек за собою небывалую катастрофу. Атомы отдали скрытую в них энергию, Прометей разорвал свои цепи, но это стоило гибели почти половине Европы.
На много километров кругом не осталось в живых никого, кто мог бы рассказать, что случилось. Катастрофа произошла ночью. <…> Ужасающей силы взрыв развернул недра земли; оттуда хлынула огненная лава и смешалась с водами океана, превратившись в облако необъятных размеров. Огненный столб был виден во всей Европе, Северной Африке, а отблески его наблюдались даже на границе Лапландии и в западной части России. Почти молниеносная сила взрыва вызвала настоящее землетрясение, разрушившее то, что осталось после опустошительного бега воздушной волны. Волна эта дважды промчалась вокруг всего земного шара, достигнув антиподов Парижа в виде громовых раскатов на ясном, безоблачном небе.
Последствия этой почти космической катастрофы были ужасны. На месте самого взрыва осталась огромная пропасть – кратер нового вулкана. Дождь земли и камней, обрушившихся с высоты нескольких сот километров, завалил под собою десятки цветущих городов Франции и Южной Англии, создав новые бесчисленные Геркуланумы и Помпеи, засыпал Ла-Манш, разделявший обе эти страны, и в смертельном объятии спаял их в один материк… Дальше шла зона, опустошенная силой воздушной волны и сотрясения почвы. Зона эта охватывала почти всю Англию, Францию, Бельгию, часть Испании, запад Германии и север Италии. Небывалой силы вихрь разметал все суда в Средиземном море и в восточной части Атлантического океана, подняв волны невиданной высоты. Взрыв сопровождался, кроме того, каким-то странным электрическим разрядом огромной проницающей силы, вызвавшим детонацию почти всех взрывчатых материалов в западной части Европы. Большинство арсеналов, набитых снарядами, превратились при этом в развалины. Общие цифры убытков и жертв никогда не могли быть приведены в ясность. Как бы то ни было, погибло больше восьми миллионов народа, пострадавших было по крайней мере в два раза больше, разрушена была масса заводов, домов и разных строений. Потрясение хозяйственной и военной мощи двух величайших европейских держав было настолько велико, что капиталистическая система Европы дала зияющую трещину в самом своем основании. Взрыв сорок пятого года ускорил процесс естественного разложения старого мира, и тщетны были попытки Франции и Италии отвлечь внимание широких народных масс войной с возрожденной Россией, которой западные державы – особенно Англия – пыталась навязать роль виновницы страшного атомного взрыва…
Как видите, Вадим Никольский пророчески угадал срок первого атомного взрыва – 1945 год.
Обращает на себя внимание, что фантасты первых десятилетий ХХ века связывали будущее атомной бомбы, атомной энергетики и атомного взрыва с Европой и более конкретно – с Францией и Германией. И в этом не было ничего удивительного: именно физикам этих стран удалось совершить реальный, а не фантастический прорыв в технологии управления внутриатомными процессами.
Глава 2
Цепная реакция
Место изотопов
В 1902 году Эрнест Резерфорд и его сотрудник Фредерик Содди экспериментально доказали, что, когда атомы урана испускают альфа-частицы, образуется новый вид атома, который больше не является урановым. Со временем именно этот новый атом испускал бета-частицы, после чего завершалось образование нового элемента.
Исследование Резерфорда и Содди положило начало целому направлению исследований, благодаря которому к 1907 году стало ясно, что существует ряд радиоактивных элементов, каждый из которых последовательно разрушается, испуская альфа– или бета-частицы, пока наконец не образуется атом свинца, не являющийся радиоактивным. Проще говоря, можно представить распад в виде радиоактивных серий: одна из них начинается с урана (атомный вес 92) и заканчивается свинцом (атомный номер 82); другая начиналась с тория (атомный номер 90) и также заканчивается свинцом; и, наконец, третий элемент, актиний (атомный номер 89), также имеет свою серию, заканчивавшуюся свинцом.
Различные атомы, входившие в три названные радиоактивные серии, вовсе не были такими уж разными. Когда атом урана испускал альфа-частицу, образовывался атом, названный «ураном-икс-первым». После тщательных исследований оказалось, что этот уран-икс-первый обладает химическими свойствами тория, но его радиоактивные свойства отличались от свойств обычного тория. При этом уран-икс-первый разлагался так быстро, выделяя при распаде бета-частицы, что половина его первоначального количества распадалась всего за 24 часа. Можно сказать и иначе (формулировка предложена Резерфордом): за 24 часа элемент икс-первый проживал половину своей жизни. Однако обыкновенный торий выпускал не бета-, а альфа-частицы, и это происходило так медленно, что половина его жизни составляла 14 миллиардов лет!
В списке элементов по химическим стандартам уран-икс-первый и обыкновенный торий располагались на одном и том же месте, но ученым было ясно, что между ними существует какое-то различие.
Аналогичное явление было зафиксировано и у другого радиоактивного элемента. В 1913 году британский химик Александр Флек изучал два элемента из радиоактивной серии урана, названные «радий-В» и «радий-D», а также «торий-В» из радиоактивной серии актиния. По химическим свойствам все четыре элемента совпадали с обыкновенным свинцом и соответственно находились на одном месте в списке элементов. Однако они отличались по радиоактивным свойствам. Хотя все элементы испускали бета-частицы, у радия-В половина жизни составляла 27 минут, у радия-D около 19 лет, а у тория-В – 11 часов.
В 1913 году Фредерик Содди предложил называть атомы, которые находились на одном и том же месте в списке элементов, но имели различные радиоактивные свойства, изотопами (от греческого словосочетания «одно место»).
Вначале казалось, что изотопы различаются лишь радиоактивными свойствами и речь идет только о радиоактивных атомах. Вскоре оказалось, что все совсем не так: один и тот же элемент может обладать несколькими формами, совершенно различными по свойствам. Серии урана, тория и актиния завершались свинцом, но были ли идентичны атомы свинца в каждом случае?
Содди исследовал способ, с помощью которого изменялся атомный вес при потере альфа– или бета-частиц, испускаемых атомом. Исследуя три радиоактивные серии, он понял, что атомы свинца в каждом случае имеют разный атомный вес. Он установил, что серия урана оканчивалась атомами свинца, имевшими атомный вес 206, серия тория образовывала свинец с атомным весом 208, а серия актиния заканчивалась атомами свинца с атомным весом 207.
Если все обстоит именно так, то в результате распада образовываются три изотопа свинца, которые отличаются не радиоактивными свойствами, а атомным весом. Изотопы можно было бы отнести к свинцу-206, свинцу-207 и свинцу-208. Сделанные в 1914 году дополнительные измерения атомного веса подтвердили гипотезу Содди.
Все три свинцовых изотопа имеют один и тот же атомный номер 82. У атомов всех трех изотопов есть ядра с электрическим зарядом +82, и у всех трех в атоме находится 82 электрона, которые уравновешивают этот положительный ядерный заряд. Различие, таким образом, заключалось только в массе ядер.
Но что же в таком случае представляет собой обыкновенный свинец с атомным весом 207,2, который извлекают из горных пород, находящихся вдали от каких-либо природных радиоактивных веществ, и который, видимо, был стабилен на протяжении всей истории Земли? Состоит ли этот стабильный свинец из атомов еще одного изотопа, имевшего дробный атомный вес? Или стабильный свинец представлял собой смесь изотопов, каждый из которых обладает различным целым атомным весом? Является ли суммарный атомный вес дробным, потому что представляет собой некую среднюю величину?
Ответить на все эти непростые вопросы, связанные со свинцом, в то время не смогли, но истина все-таки была найдена в связи с исследованиями другого элемента – редкого газа неона, имевшего атомный вес 20,2.
В 1912 году Джозеф Томсон занялся изучением неона, пропуская через него все тот же пучок катодных лучей. Электроны сталкивались с атомами неона и выбивали их собственные электроны. В результате оставался неоновый ион (атом с зарядом, образующийся в результате потери электронов), несущий один положительный заряд. Ионы неона двигались в электрическом поле точно так же, как это делали электроны, но в противоположном направлении, поскольку имели положительный заряд. Если бы все неоновые ионы обладали одинаковой массой, то у них должна была бы быть общая траектория. Если бы масса была различна, то более тяжелые должны были бы двигаться по другой траектории. Во время опытов, проводимых Томсоном, ионы неона попадали на фотографическую пластинку, которая затемнялась в соответствующем месте. Если бы все ионы имели одну массу, то на пластинке получилось бы одно пятно. Однако Томсон получил две области затемнения, доказав, что существуют два типа ионов, обладающих различными массами, которые образовывали траектории двух видов, завершавшиеся в разных местах. Изучив расстояние между точками, Томсон показал, что один изотоп неона имеет атомный вес 20, а другой – атомный вес 22. Далее, исходя из степени затемнения каждого пятна, он сделал вывод, что обыкновенный неон состоял из атомов, которые на 90 % были неоном-20 и на 10 % неоном-22. Вот и получалось, что общий атомный вес неона составляет 20,2 – то есть средний атомный вес двух изотопов.
Джозеф Томпсон оказался первым исследователем, который сумел разделить изотопы. Позже подобные инструменты стали называть «масс-спектрометрами» (термин ввел английский физик Френсис Астон, который построил аппарат такого типа в 1919 году). С его помощью Астон изучил все элементы, которые только смог. В частности, оказалось, что в действительности неон на 90,48 % состоит из неона-20 и всего на 9,25 % из неона-22. Очень небольшое количество атомов, всего 0,27 %, относилось к третьему изотопу – неону-21.
Что касается обыкновенного свинца в нерадиоактивных породах, получилось следующее: 24,1 % свинца-206, 22,1 % свинца-207 и 52,4 % свинца-208. Астон установил, что существует еще четвертый изотоп, свинец-204, которому принадлежат оставшиеся 1,4 % и который вообще не является продуктом радиоактивных серий.
Стремясь избежать путаницы, среднюю массу изотопов, из которых складывался каждый конкретный элемент, продолжали называть атомным весом (массой) этого элемента. О ближайшем к массе индивидуальных изотопов целом говорили как о «массовом числе» этого изотопа. Таким образом, обыкновенный свинец состоит из изотопов с массами 204, 206, 207 и 208, а его атомный вес равен 207,19. Неон состоит из изотопов с массовыми числами 20, 21 и 22, а его атомный вес составляет 20,183. И так далее.
Иногда атомный вес элемента выражается почти целым числом, и все же этот элемент имеет больше одного изотопа. В этом случае один из изотопов составляет почти всё число, в то время как остальные присутствуют в столь малых количествах, что их можно выделить с большим трудом, и среднее число получается почти целым. Скажем, гелий имеет атомный вес 4,0026, и действительно, почти все атомы, составлявшие его, это гелий-4. Однако 0,0001 % атомов, или по крайней мере один из миллиона, составляет изотоп гелий-3.
Даже у водорода обнаружились изотопы! Его атомный вес почти равен 1, и большинство его атомов представляют собой обыкновенный водород-1. Однако вскоре американский химик Гарольд Юри обнаружил изотоп водород-2, который оказался почти вдвое тяжелее, чем водород-1. Ни у одного элемента изотоп не отличался от обычных атомов настолько сильно. Поэтому и химические свойства водорода-2 и водорода-1 различались больше, чем обычно. Чтобы отметить это загадочное явление, Ури присвоил «тяжелому» водороду-2 название «дейтерий» (от греческого слова, означающего «второй»).
Не удалось избежать новой классификации и радиоактивным элементам. Атомный вес урана 238,029, поэтому большинство его атомов составляет уран-238, однако в 1935 году канадский физик Артур Демпстер выяснил, что 0,7 % его атомов составляет более легкий изотоп уран-235. Атомы изотопов урана существенно отличались по радиоактивным свойствам. Уран-238 имел период полураспада 4,5 миллиарда лет, в то время как у урана-235 период полураспада составлял всего лишь 700 миллионов лет. Более того, при распаде уран-235 «разбивался» на три стадии, до актиния. Именно уран-235, а не сам актиний, давал начало радиоактивным сериям.
Открытие изотопного состава элементов позволило сделать первый шаг к технологии высвобождения атомной энергии. Однако перед тем необходимо было ответить на ключевой вопрос: почему атомы одного и того же вещества имеют разный вес? На поиски ответа ушло больше десяти лет.
Третья частица
Как мы видели, период с 1895 по 1919 год был густо насыщен важными открытиями в области ядерной физики. Но после 1919 года развитие этой науки, казалось, приостановилось. И это неслучайно.
Вспомним, что для исследования атома физики использовали явление радиоактивности. Альфа-частицы (протоны) служили снарядами, которыми ученые бомбардировали атом, пытаясь проникнуть в его тайны. Но оказалось, что они не слишком подходят для того, чтобы разобраться в глубинном устройстве ядра: альфа-частицы заряжены положительно, но такой же заряд имеет и ядро атома. Одинаково заряженные частицы отталкиваются друг от друга, и очень незначительное количество альфа-частиц может преодолеть эту «силу отталкивания». Позже подсчитали, что при проведенной Резерфордом «алхимической» бомбардировке азота лишь 1 альфа-частица из 300 000 поражала ядро.
Только в 1932 году состоялось открытие, которое в конечном итоге позволило заглянуть внутрь ядра и найти способ высвободить атомную энергию.
Итак, ученые установили, что порядковый номер элементов в таблице Менделеева определяется числом протонов в ядре атома. Например, у углерода шесть протонов в ядре – он и стоит на шестом месте. Но атомный вес (то есть вес атома по отношению к атому водорода) равен двенадцати. Еще пример. Гелий стоит на втором месте. Значит, в ядре атома гелия два протона. Но атомный вес гелия в четыре раза больше, чем атомный вес водорода, содержащего один протон. Почему же атомный вес гелия в четыре раза больше, чем атомный вес водорода? Никаких объяснений этому не было. И такая «аномалия» наблюдалась по отношению к атомам всех элементов, кроме водорода.
Оставалось предположить, что в ядре атома имеются какие-то неизвестные частицы, которые утяжеляют его. Впервые такую гипотезу выдвинул все тот же Эрнест Резерфорд в 1920 году. Он сделал сообщение на основе работ своего талантливого ученика, Генри Мозли, исследованиями которого руководил и которого в то время уже не было в живых. Поскольку гипотетическая частица в ядре атома должна быть электрически нейтральной, в 1921 году американский химик Уильям Харкинс предложил именовать ее «нейтроном».
Чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу Мозли-Резерфорда, ученые приступили к новым исследованиям. Двое немецких физиков, Вальтер Боте и Генрих Беккер, облучали альфа-частицами ряд элементов. Когда они взяли для этой цели бериллий, то обнаружили, что из бериллия исходят какие-то лучи, обладающие огромной проникающей способностью. Проницаемость лучей Рентгена, альфа– и гамма-лучей по сравнению с ними была просто ничтожной. Если известные до сих пор лучи целиком задерживались относительно небольшим слоем свинца, то лучи, исходящие из бериллия, свободно проходили через самые толстые стены. Так появилась новая загадка – «бериллиевое» излучение.
Физики предположили, что бериллиевые лучи (или, как их еще назвали, «излучение Боте-Беккера») – это новый вид электромагнитных волн. В 1931 году им заинтересовалась супружеская пара молодых французских ученых: Ирен Кюри, дочь Марии и Пьера Кюри, и ее муж Фредерик Жолио. Когда они поженились, то решили не прерывать знаменитую родословную и принять двойную фамилию – Жолио-Кюри.
Фредерик и Ирен Жолио-Кюри попробовали пропускать бериллиевые лучи через вещества, содержащие водород (например, парафин). Они обнаружили, что под их действием ядра атомов водорода (то есть протоны) начинают двигаться так быстро, что величина их скорости не может быть объяснена воздействием электромагнитных волн. Об этом явлении они и сообщили на заседании Парижской академии наук 18 января 1932 года.
Сообщением заинтересовался английский физик Джеймс Чедвик, работавший в лаборатории Резерфорда в Кембридже. Он сразу начал ставить опыты, и через пять недель, 27 февраля 1932 года, сообщил о результатах. Чедвик заявил, что излучение Боте-Беккера – совсем не электромагнитные волны, а новый вид элементарных частиц, который не имеет электрического заряда. Гипотетические нейтроны были наконец-то открыты.
Теперь стало понятным, почему они свободно проходят сквозь толстые слои веществ: электрические заряды ядра и электронные оболочки атомов на них не действуют. Следовательно, они свободно проходят сквозь атом. Масса нейтрона оказалась примерно равна массе протона. Ученые разгадали старую загадку и, больше того, получили в свои руки снаряд, которым могли гораздо эффективнее обстреливать атом.
В том же знаменательном году советский физик Дмитрий Иваненко и, независимо от него, немецкий физик Вернер Гейзенберг разработали протон-нейтронную модель атомного ядра. Все оказалось на своем месте. Стал понятен атомный вес элемента: он определяется суммой нейтронов и протонов в ядре атома. Гелий стоит на втором месте в таблице Менделеева. Значит, в его ядре два протона. Но атом гелия в четыре раза тяжелее атома водорода, и его атомный вес равен четырем. Значит, в его ядре, кроме двух протонов, имеются еще два нейтрона, масса которых примерно такая же, как и масса протонов. Расчеты и наблюдения сошлись! Стало понятно и странное поведение бериллия. Альфа-частицы при попадании в его ядра выбивали из них нейтроны: эти нейтроны и были замечены учеными как «бериллиевое» излучение.
Ядерные превращения
Пауза в развитии ядерной физики завершилась триумфом. По меткому выражению Резерфорда, начался «бег на стартовой дорожке исследований». И лидировали в этом стремительном «беге» Фредерик и Ирен Жолио-Кюри, которые продолжали работу в Институте радия под руководством всемирно известной Марии Склодовской-Кюри.
Всё больше и больше статей о нейтронах стало появляться во французских научных журналах в период с 1932 по 1934 год. Супруги Жолио-Кюри точно измерили массу нейтрона, изучили условия, при которых возникает нейтронное излучение. И наконец, 15 декабря 1934 года они представили во Французскую академию наук доклад о еще одном сенсационном открытии.
Однажды Фредерик и Ирен Жолио-Кюри работали с полонием. В ходе эксперимента на пути лучей, испускаемых полонием, нужно было поставить тонкую алюминиевую пластинку, чтобы отсеять альфа-лучи. Пластинку поставили. Как и следовало ожидать, альфа-лучи (протоны) задерживались пластинкой, а бета-лучи (электроны) проходили сквозь нее. Затем полониевый источник убрали. Но что происходит? Излучение продолжается – алюминиевая пластинка сама стала радиоактивной! Пока супруги-физики размышляли над непонятным явлением, излучение алюминия прекратилось. Опыт повторили. И опять из алюминия возникало излучение, которое пропадало через несколько минут. Что же происходит с алюминием? Почему он начинает сам излучать радиацию, а затем перестает?
Супруги пришли к выводу, что излучение действует на атомы алюминия так, что они становятся радиоактивными. Но только на несколько минут, а не на тысячи лет, как атомы радия, урана, тория, полония и других естественных радиоактивных элементов. Но каков механизм возникновения радиоактивности? И супруги Жолио-Кюри делают смелое предположение: при захвате альфа-частиц ядрами алюминия происходит ядерная реакция, в результате которой эти ядра сами делаются способными испускать радиоактивное излучение. Но раз ядро поглотило альфа-частицу, то оно уже не является ядром атома алюминия, а становится ядром другого элемента – фосфора.
Предположение требует доказательств. Супруги Жолио-Кюри попросили химиков рекомендовать им такой способ обнаружения фосфора в веществе, чтобы его присутствие можно было обнаружить в течение нескольких минут. Но те только разводили руками: как делать настолько молниеносный анализ, они не знали. Пришлось разрабатывать такой способ самим. Супруги научились менее чем за три минуты определять присутствие фосфора и доказали, что радиоактивные ядра, возникающие в алюминии, действительно являются ядрами атомов фосфора.
Затем физики сделали еще один шаг: они сумели показать, что под действием альфа-частиц из ядер атомов алюминия образуются не встречающиеся в природе ядра атомов фосфора – новый «радиоактивный изотоп» фосфора. Количество искусственно полученных атомов изотопа фосфора в результате радиоактивного распада уменьшалось вдвое примерно через каждые три минуты, и излучение довольно быстро прекращалось.
Сделанное открытие чрезвычайно заинтересовало Фредерика и Ирен Жолио-Кюри. Они решили выяснить: а нельзя ли создать радиоактивные изотопы других элементов? И у них получилось! Стало ясно, что радиоактивные изотопы элементов, никогда не существовавшие в природе, могут быть созданы руками человека. Доклад об этой работе был представлен 15 января 1934 года.
Уже через год после открытия искусственной радиоактивности учеными было получено более пятидесяти радиоактивных изотопов. Они стали широко использоваться для исследований в области ядерной физике. По желанию можно было получить изотопы, испускающие различные виды излучений: нейтроны, альфа-, бета– и гамма-излучение, – причем любой интенсивности и с различными энергиями испускаемых частиц.
Золотые рыбки
В 1934 году в Римском университете собралась группа молодых и амбициозных физиков, которых прозвали «мальчуганами». Возглавил ее Энрико Ферми.
Группа плотно занялась нейтронной физикой. Двое «мальчуганов», Бруно Понтекорво и Эдоардо Амальди, бомбардируя нейтронами различные материалы и замеряя искусственную радиоактивность, обнаружили большую странность. Оказывается, величина приобретенной веществами радиоактивности зависела от того, какие предметы находились рядом с облучаемым материалом. Когда облучаемый образец находился в свинцовом ящике, то у него наблюдалась гораздо меньшая радиоактивность, чем у него же во время облучения на деревянном столе. Энрико Ферми этот факт сразу навел на серьезные размышления. Но пока ученый предпочитал о них не рассказывать. Он только посоветовал коллегам поместить облучаемый образец в парафин и посмотреть, что получится.
Они так и поступили. Взяли кусок парафина, выдолбили в нем ямку, а в нее поместили облучаемый образец – серебряный стаканчик, внутри которого находился источник нейтронов. После облучения проверили радиоактивность серебряного стаканчика. Произошло чудо: парафин в сто раз увеличил радиоактивность стаканчика!
Опыт убедил Энрико Ферми в правильности его догадки. Когда быстрый нейтрон сталкивается с ядром, то его поведение после столкновения сильно зависит от того, с каким ядром он столкнулся – легким или тяжелым. Если ядро тяжелое, то нейтрон ударится о него, как о неподвижную стенку, и отскочит почти с той же энергией, какую имел до столкновения, – примерно как бильярдный шар, ударившийся о бортик. Если же ядро легкое, то нейтрон передаст ему часть своей энергии. Чем легче ядро, тем больше энергии потеряет нейтрон.
Предельный случай – когда ядро имеет массу, равную массе нейтрона. Например, ядро атомов водорода, которое содержит единственный протон. Его масса примерно равна массе нейтрона. Ударившись о такое ядро, нейтрон может потерять всю свою энергию. Опять вспомним бильярдные шары: при лобовом столкновении двух одинаковых шаров налетающий шар останавливается, а другой отскакивает со скоростью налетевшего на него шара. А что происходит, если нейтрон пролетает через вещество с меньшей скоростью? Тогда он с большей вероятностью может быть захвачен каким-либо ядром. Ведь время нахождения нейтрона вблизи ядра при уменьшении скорости увеличивается, и, следовательно, увеличивается время взаимодействия между ними. Значит, чем легче ядра атомов вещества, тем большее количество пролетающих через него нейтронов потеряет энергию и будет захвачено ядрами. И тем больше будет радиоактивность облучаемого вещества.
Поэтому и наблюдались странные явления в опытах «мальчуганов». Когда облучаемый образец находился в свинцовом ящике, то нейтроны, ударяясь о ядра атомов свинца, почти не изменяли своей энергии. А если образец помещали на деревянный стол, то дерево, содержащее много легких ядер водорода и углерода, сильно замедляло и рассеивало нейтроны. Некоторые из них после нескольких соударений возвращались назад уже сильно замедленными. Они-то и захватывались ядрами атомов серебра, что увеличивало его радиоактивность. В парафине еще больше атомов водорода, поэтому, как и ожидал Ферми, радиоактивность серебра, облученного в парафине, оказалась еще выше.
Впрочем, физик захотел дополнительно убедиться в правильности своей теории. Для проверки «мальчуганы» выбрали бассейн с золотыми рыбками, находившийся рядом с лабораторией. По теории Ферми, вода, содержащая много водорода, должна еще лучше замедлять нейтроны. Опять провели опыт с серебряным стаканчиком. И что же? Радиоактивность серебра возросла еще больше. Теперь сомнений не было – поведением нейтронов можно управлять, используя вещества с разным атомным весом. Так было открыто явление замедления нейтронов.
Открытие «мальчуганов» Энрико Ферми было очень важным. Первая управляемая цепная реакция, которую осуществил Ферми через восемь лет, в 1942 году, была бы невозможна без замедления нейтронов.
Взорвать атом
Разумеется, наибольший интерес «мальчуганов» вызывал процесс удивительных превращений вещества. Они уже знали, что если облучать элементы нейтронами, то в результате поглощения нейтронов ядрами одного элемента, как правило, получаются ядра другого элемента, стоящего на одну клеточку дальше в таблице Менделеева. А что, если облучать нейтронами последний известный элемент – уран? Тогда должен получиться элемент, стоящий в таблице Менделеева на 93-м месте (через много лет его назвали нептунием). Это будет элемент, которого нет в природе, – искусственный элемент! Какой он? Как выглядит? Как ведет себя? Молодым ученым не терпелось узнать.
«Мальчуганы» начали облучать уран нейтронами. Как и следовало ожидать, он приобрел искусственную радиоактивность. Но эта радиоактивность была какая-то странная: после облучения в уране появился не один элемент, как ожидалось, а по крайней мере десяток. И Энрико Ферми, пославший сообщение об этом в научный журнал, писал, что здесь налицо какая-то загадка. Возможно, появился 93-й элемент, но точных доказательств этому нет. С другой стороны, есть доказательства, что появились какие-то другие элементы. Но какие?
Сообщество физиков заинтересовалось сообщением Ферми. Ирен Жолио-Кюри, имеющая большой опыт химических исследований, взялась точно выяснить, прав ли итальянский коллега. Она повторила опыты и тщательно исследовала химический состав кусочка урана. И получила невероятный результат. В уране появился лантан – элемент, стоящий в середине таблицы Менделеева!
Двое известных немецких физиков, Отто Ган и Фриц Штрассман, не захотели согласиться с результатами опытов Ирен Жолио-Кюри. Они провели контрольную серию экспериментов и убедились, что в уране появился не только лантан, но и барий. А ведь барий также стоит примерно в середине таблицы Менделеева. Снова загадка!
Ган и Штрассман сообщили о своих наблюдениях научному сообществу, а также написали письмо известному австрийскому радиохимику Лизе Мейтнер, с которой находились в хороших отношениях. Лиза Мейтнер, эмигрировавшая в Швецию после аншлюса Австрии, взялась решить проблему. В работе ей помогал племянник – физик-экспериментатор Отто Фриш. Она предположила, что при попадании нейтрона ядро урана разваливается на части: только так можно было объяснить появление в уране элементов с весом, примерно вдвое меньшим, чем уран. Свои соображения Мейтнер опубликовала 18 февраля 1939 года в виде заметки с заголовком «Распад урана под воздействием нейтронов: новый вид ядерной реакции».
Однако сообщение Лизы Мейтнер запоздало на две недели. 30 января Фредерик Жолио-Кюри представил в «Труды Парижской академии наук» обширную статью «Экспериментальное доказательство взрывного расщепления ядер урана и тория под воздействием нейтронов». Продолжая исследования лантана, Жолио-Кюри пришел к выводам, аналогичным тем, что сделали Мейтнер и Фриш, и показал, что под ударом нейтронов ядра урана разваливаются на два осколка. При этом знаменитый французский физик двинулся еще дальше, что легко заметить, сравнив заголовки опубликованных сообщений. Лиза Мейтнер писала о «распаде урана», а Жолио-Кюри – о «взрывном расщеплении ядер урана». Француз не только доказал факт деления ядра урана, но и первым сделал главный и необычайно важный для дальнейшего развития атомной физики вывод: при делении ядра урана освобождается энергия! Ядро распадается на два осколка взрывообразно. Осколки деления с необыкновенной скоростью разлетаются в разные стороны. Их огромная энергия постепенно распределяется между соседними ядрами, и весь кусок урана нагревается. А если число таких делений велико, то и выделяющаяся в результате торможения этих осколков тепловая энергия будет огромной.
Еще в 1935 году, получая Нобелевскую премию, Фредерик Жолио-Кюри произнес прозорливые слова:
Мы вправе сказать, что искатели, создавая или расщепляя по своей воле элементы, смогут осуществить настоящие цепные реакции взрывного типа и перерождение элементов. Если такое перерождение распространится, можно предвидеть огромное освобождение энергии, которую можно использовать.
В то время на пророчество француза не обратили внимания. Большинство физиков считало, что использование атомной энергии – дело отдаленного будущего. Даже Эрнест Резерфорд считал разговоры об этом вздором. Однако в начале 1939 года передовым ученым стало ясно, что они близки к заветной цели. Нагревание куска урана при облучении нейтронами – это и есть искусственно выделенная атомная энергия.
Вскоре выяснилось, что в ходе деления урана (термин «деление» стал официальным по предложению американского ученого Уильяма Арнольда, работавшего в Дании) высвобождается на порядок больше энергии, чем в ходе других ядерных реакций, известных в то время.
А что, если все ядра атомов развалятся одновременно? Значит, будет колоссальный взрыв – вроде тех, которые описывают фантасты в своих романах о войнах будущего.
Чтобы объяснить, какую энергию можно выделить из урана, обычно приводят следующее сравнение. При сгорании одного грамма древесины выделяется 0,0018 кВт·ч. Такого количества энергии достаточно, чтобы лампочка мощностью 100 Вт горела одну минуту. Если сжечь один грамм каменного угля, то энергии выделится в два раза больше – 0,0037 кВт·ч, и ее хватит, чтобы уже две стоваттные лампочки горели в течение одной минуты. При «сгорании» одного грамма уранового топлива выделяется 20 000 кВт·ч, и такого количества энергии хватит для освещения в течение часа города с населением 60 тысяч жителей. Как видите, числа несопоставимы.
Но где взять нейтроны для бомбардировки атомов урана? И как добиться более высокой эффективности процесса, то есть обеспечить большее количество попаданий нейтронов в ядра?
И снова лидером в этих исследованиях стал Фредерик Жолио-Кюри. Он заметил, что в тот момент, когда ядро урана разваливается на два осколка, из него вылетают новые нейтроны! Правда, немного, но все-таки больше, чем расходовалось на деление ядер. Тогда сразу стал ясен вопрос о принципиальном пути выделения внутриатомной энергии. Нейтрон, попавший в ядро атома урана, вызовет его деление. При этом из ядра освободятся два-три новых нейтрона. Эти нейтроны вызовут деление новых ядер урана и так далее. А поскольку деление ядер и освобождение новых нейтронов происходит почти мгновенно, то и процесс будет протекать быстро. Такой процесс назвали «цепным процессом» или «цепной ядерной реакцией».
Кажется, что принципиально все просто. Но почему тогда кусок урана при бомбардировке нейтронами не взрывается? На этот вопрос Фредерик Жолио-Кюри в то время ответить не мог. Путь к атомному взрыву открыли другие люди.
Глава 3
Творцы апокалипсиса
«Урановая машина»
Европа встретила 1939 год с предчувствием новой мировой войны. Нацисты не скрывали своих реваншистских замыслов. В марте 1938 года состоялся аншлюс Австрии: она была присоединена к Третьему рейху. В октябре 1938 года Германия аннексировала Судетскую область, фактически отобрав у Чехословакии треть территории. На очереди были Польша и Франция. В самой Германии установился жесткий авторитарный режим, евреи были поражены в правах. Многие выдающиеся физики, включая Альберта Эйнштейна, покинули Европу.
Тем не менее среди «расово чистых» немцев еще оставалось достаточно сильных физиков и радиохимиков, чтобы продолжить изыскания в области атомной энергетики.
В середине апреля 1939 года, во время коллоквиума по физике в Гёттингене, профессор Вильгельм Ханле прочитал собравшимся небольшую статью, подготовленную им к печати. Речь в ней шла о некоей «машине», использующей энергию, которая выделяется при расщеплении урана. Сразу после коллоквиума к ученому подошел его шеф – профессор Георг Йоос, авторитетный специалист по экспериментальной и теоретической физике, и пообещал оказать ему содействие в продвижении идеи.
22 апреля Йоос написал письмо в Имперское министерство науки, образования и народной культуры, которому тогда подчинялись все немецкие университеты. Там отреагировали с поразительной быстротой. Профессору Абрахаму Эзау из Йены было поручено немедленно созвать в Берлине конференцию по вопросам ядерной физики. Вообще-то он был специалистом в области высокочастотной техники, но зато не раз выказывал политическую активность, всячески поддерживая гитлеровский режим. Эзау взялся за дело, составив список ученых, которым полагалось присутствовать на конференции. На первом месте, конечно же, значился Отто Ган – один из тех, кто доказал факт распада ядер урана при бомбардировке нейтронами. Однако тот отказался от участия, сославшись на то, что его ждут в Швеции с лекционным туром. В итоге Гана замещал профессор Йозеф Маттаух.
Секретное заседание проходило 29 апреля 1939 года в здании министерства на Унтер-ден-Линден. Присутствовали: Абрахам Эзау (председатель), Георг Йоос, Вильгельм Ханле, Георг Дёпель, Вольфганг Гентнер, Ханс Гейгер, Йозеф Маттаух, Вальтер Боте и Герхард Хоффман.
В ходе обсуждения Йоос и Ханле лаконично обрисовали уровень развития ядерной физики в Германии и в других странах, а также обсудили реальность строительства экспериментальной «урановой машины» (или «урановой печи»).
Профессор Эзау рекомендовал собрать воедино все запасы урана, имеющиеся в стране. Теперь вывоз любых соединений урана из Третьего рейха был запрещен – тем более что его было мало. В то время крупнейшие запасы его находились в Бельгии, поскольку ее колония, Конго, была богата месторождениями урановых руд. На тамошних складах хранились тысячи тонн урана – их следовало срочно скупить.
Кроме того, ученые решили создать научно-исследовательскую группу, названную «Ассоциацией по ядерной физике», которая объединила бы всех ведущих физиков рейха. Руководство собирался взять на себя сам профессор Эзау. Исследования должны были проводиться в Физико-техническом институте Берлина и Гёттингенском университете.
В то же самое время атомной проблематикой заинтересовались немецкие военные. 24 апреля молодой гамбургский профессор Пауль Хартек и его ассистент Вильгельм Грот обратились с письмом в Имперское оборонное министерство. Они сообщали, что новые открытия в области ядерной физики, вероятно, позволят изобрести взрывчатку невиданной мощи. Вкратце они изложили суть исследований Отто Гана и Фрица Штрассмана и, упомянув о недавнем эксперименте Фредерика Жолио-Кюри, пояснили, что американцы, англичане и французы придают огромное значение развитию ядерной физики. В Германии же ею пренебрегают. Авторы письма подытоживали: «Страна, которая добьется в этой области наибольшего прогресса, получит такой перевес над другими, что сравняться с ней будет уже невозможно».
Письмо поначалу попало к генералу артиллерии Карлу Беккеру, возглавлявшему Управление вооружений сухопутных войск. Оттуда его переправили в Отдел научных исследований, коим руководил профессор-полковник Эрих Шуман. Наконец, тот вручил письмо доктору Курту Дибнеру, специалисту вооруженных сил по ядерной физике и взрывчатым веществам.
Курт Дибнер оказался на этом посту неслучайно. В 1931 году он защитил диссертацию на тему «Ионизация под действием альфа-лучей» и некоторое время трудился в лаборатории Физико-технического института над созданием нового ускорителя частиц. Но в 1934 году его призвали в армию, и он попал в Отдел научных исследований, где по заказу люфтваффе изучал кумулятивные взрывчатые вещества. Ему, физику-ядерщику, такая работа не слишком нравилась, и он попросил Шумана создать при отделе новую группу, которая занималась бы только атомной проблематикой.
Прочитав письмо коллег, Курт Дибнер обратился за советом к прославленному Хансу Гейгеру, создателю хорошо известного счетчика ионизирующих излучений. Тот одобрительно отнесся к рассуждениям неизвестных ему физиков о новой взрывчатке. Летом Дибнер ознакомился с литературой, посвященной производству атомной энергии. Ему не понадобилось много времени, чтобы понять ценность новой идеи и заинтересовать руководство. Итогом деятельности Дибнера стал приказ о создании группы по урановым исследованиям, которую он сам и возглавил.
Так Германия оказалась единственной промышленно развитой державой, где еще накануне Второй мировой войны были созданы сразу два научных коллектива, занимавшиеся возможностью применения атомной энергии в военных целях. Как и следовало ожидать, оба руководителя групп, Абрахам Эзау и Курт Дибнер, стали заклятыми врагами и мешали друг другу в достижении практических результатов.
В воскресенье, 3 сентября 1939 года, Великобритания и Франция в ответ на вторжение в Польшу объявили Германии войну. На следующий день профессор Абрахам Эзау встретился с генералом Беккером. Генерал заверил Эзау, что тот может рассчитывать на его поддержку.
В тот же день Эзау отправился в Имперское министерство экономики, поскольку немецкий атомный проект неожиданно оказался под угрозой. Командование люфтваффе вдруг решило конфисковать все запасы урановых соединений и радия, чтобы изготовить люминесцентные краски для своих самолетов. Эзау хотел заручиться официальной бумагой, гласившей, сколь важны для судеб страны работы физиков и что обойтись без урана им никак нельзя.
Однако выяснилось, что конкуренты тоже не дремлют. Весь доступный уран решили прибрать к рукам полковник Эрих Шуман и его протеже Курт Дибнер. Они же организовали призыв в ряды вооруженных сил молодых перспективных физиков, которых тут же направляли в лаборатории, но уже в статусе офицеров.
Чтобы закрепить позиции, военные чины решили провести секретное совещание, которое состоялось 16 сентября в стенах Физического института Общества кайзера Вильгельма. На него были приглашены Отто Ган, Вальтер Боте, Ханс Гейгер, Пауль Хартек, Йозеф Маттаух, Эрих Багге и другие. Собравшимся предстояло оценить, нужен ли вермахту атомный проект и на что следует делать ставку: на урановую машину или на атомную бомбу.
Отто Ган сообщил, что, согласно новейшим исследованиям, при бомбардировке урана нейтронами расщепляется прежде всего легкий изотоп – уран-235. В природном уране содержание его ничтожно мало. Попытаться же отделить его от остальных изотопов – задача весьма сложная.
Развернулась оживленная дискуссия. В ее ходе вспомнили о знаменитом лейпцигском физике и нобелевском лауреате Вернере Гейзенберге. Именно он, по мнению ряда присутствующих, мог создать работоспособную теорию цепной реакции, которую и можно было бы использовать при строительстве «машины». Такое предложение понравилось далеко не всем: Вальтер Боте и Герхард Хоффман поднялись со своих мест и заявили, что не хотят иметь дело с Гейзенбергом.
Ученые на совещании так и не решили, какой именно изотоп расщепляется при обстреле урана нейтронами. Впрочем, многие склонялись к мысли, что это действительно уран-235. Следовало провести чистый эксперимент: рассортировать изотопы урана, обстрелять их по очереди нейтронами и посмотреть, что произойдет. Проведение опыта поручили Паулю Хартеку: ведь он уже занимался разделением изотопов различных элементов, в том числе ксенона и ртути.
Процесс разделения, называемый «термодиффузия», кажется несложным. Установка состоит из двух концентрических трубок: внутренняя разогрета, наружная охлаждается. Пространство между трубками заполняется урановым соединением. Теоретически более легкие изотопы должны группироваться возле теплой поверхности.
Довольно быстро Пауль Хартек пришел к выводу, что для сортировки изотопов урана лучше всего использовать пары одного из его соединений – гексафторида урана (шестифтористого урана). Работать с ними, правда, было нелегко. Газ вел себя очень агрессивно: он разъедал часть материалов, из которых был изготовлен «диффузор». При температурах ниже 50 °C или при соприкосновении с водой твердел. Поэтому физику приходилось идти на разные ухищрения.
В это время, 20 сентября, доктор Эрих Багге, ученик Гейзенберга, составил вместе с Куртом Дибнером «Предварительный план работы по проведению испытаний, предназначенных для использования ядерного деления». Невзирая на мнение других немецких физиков, Багге убедил Дибнера, что Гейзенберга нужно привлечь к проекту хотя бы в качестве консультанта. Через пять дней он встретился со своим учителем в Лейпциге и обсудил с ним практический вопрос: каким должен быть прибор, измеряющий число нейтронов, выделяющихся при расщеплении урана. 26 сентября Багге вернулся в Берлин. Его ждало новое совещание в Управлении вооружений сухопутных войск.
На совещании немецкие физики еще раз четко сформулировали свои возможности. Есть только два способа извлечения энергии из урана: либо неконтролируемая реакция (то есть взрыв), либо управляемый процесс (то есть «урановая машина»). Для создания взрыва надо выделить редкий изотоп урана-235, поскольку при обстреле его нейтронами начинается цепная реакция деления ядер. С «машиной» несколько сложнее. Для нее, кроме урана, необходим «замедлитель».
Дело в том, что первичные нейтроны, вызывающие деление ядра урана, называются «медленными» (медленными по скорости движения; они обладают относительно невысокой энергией); те, которые испускаются в процессе деления, являются «быстрыми» нейтронами. Еще весной 1939 года стало известно, что медленные нейтроны более подходят для получения последующих делений, хотя причины были пока неясны. Поэтому существенным элементом каждой системы, предназначенной для запуска и поддержания цепной реакции, должен стать «замедлитель» – вещество, в котором быстрые нейтроны будут многократно отражаться и терять скорость до такого значения, которое позволит получить последующие деления. Однако важно, чтобы атомы замедлителя только замедляли быстрые нейтроны, но не поглощали их, так как каждый захваченный нейтрон уже не способен вызвать новое деление. Для создания «урановой машины» нужно смешать уран с таким замедлителем.
Пауль Хартек предложил использовать в качестве замедлителя так называемую «тяжелую воду», которую следует разместить в «машине» не вперемешку с ураном, а отдельными слоями. Тяжелая вода – это вода, в которой атомы обычного водорода заменены атомами его тяжелого изотопа дейтерия (помимо протона, ядра дейтерия содержат еще и нейтрон). Такая вода примерно на 11 % тяжелее обычной, она замерзает при +3,81 °C и кипит при +101,42 °C. Но самое главное: она замедляет нейтроны до такой скорости, что изотоп урана-238 не может их уловить, зато они всё еще способны расщепить изотопы урана-235.
Кроме технических аспектов, на совещании обсуждались ближайшие планы. Во-первых, надо научиться отделять уран-235 от других изотопов. Во-вторых, определить «эффективное поперечное сечение» атомных ядер всех тех веществ, которые можно использовать в качестве «замедлителя» (то есть определить вероятность захвата этими ядрами летящих к ним нейтронов; величину этого сечения можно сравнить с размером мишени в тире – чем больше мишень, тем вероятнее попадание). В-третьих, понять, сможет ли «урановая машина» работать на медленных нейтронах.
Далее распределили роли. Вернер Гейзенберг изучает теоретические основы цепной реакции. Эрих Багге возвращается в Лейпциг, исследует «эффективное поперечное сечение» дейтерия. Пауль Хартек доводит до конца «термодиффузию» урана-235. Различные задания получили и другие ученые. Всем было обещано: «деньги на это найдутся». В заключение Эрих Шуман сообщил, что Физический институт Общества имени кайзера Вильгельма передан в ведение Управления вооружений сухопутных войск. Институт располагает отличной аппаратурой. Туда будут переведены все ученые, работающие над «урановым проектом».
Последняя идея была встречена в штыки. Работать над амбициозным и хорошо финансируемым проектом хотели все, однако переезжать в Берлин многие отказались. К примеру, Пауль Хартек писал генералу Беккеру: «Мне нужно остаться здесь, в Гамбурге. <…> В случае надобности я могу каждую неделю на несколько дней приезжать в Берлин».
Впрочем, с объединением физиков под одной крышей можно было подождать. Для начала требовалось раздобыть достаточное количество урана. Берлинская фирма «Ауэр» занималась обработкой редкоземельных металлов. К ней и обратились армейские чины с необычной просьбой: нужно изготовить несколько тонн чистого оксида урана. Их направили в центральную лабораторию, которой руководил доктор Николай (Николаус) Риль, уроженец Санкт-Петербурга, ученик Отто Гана.
Когда в 1939 году Германия захватила Чехословакию, фирма «Ауэр» одной из первых стала осваивать тамошние урановые рудники. В ту пору всех интересовал радий, применяемый, как мы помним, в медицинских целях. Уран считался побочным продуктом, но фирма располагала некоторыми его запасами в виде оксида и неочищенного ураната натрия. Доктор Риль сразу оценил перспективы проекта и лично занялся очисткой урана. Он будет заниматься этим до конца войны.
Всего за несколько недель Риль наладил производство урана на небольшом заводике в Ораниенбурге. Каждый месяц здесь выпускалось около тонны очищенного оксида урана, причем первая тонна была отгружена военным в начале 1940 года. Работа над проектом наконец-то началась.
В первых числах декабря 1939 года Эрих Багге вновь встретился с Вернером Гейзенбергом. Тот сообщил, что, кажется, понял, как стабилизировать цепную реакцию в «урановой машине». Согласно его расчетам, по мере того как будет расти температура, эффективное поперечное сечение дейтерия станет уменьшаться. При определенной температуре реакция автоматически замедлится. Зависит эта температура от размеров «машины». По-видимому, речь идет о сотнях, а не о тысячах градусов Цельсия. Как показывает расчетный пример, если взять 1,2 тонны урана и 1 тонну тяжелой воды, смешать их в виде пасты и поместить в шар радиусом 60 см, реакция внутри подобного агрегата стабилизируется при 800 °C.
6 декабря Гейзенберг представил в Управление вооружений сухопутных войск доклад под названием «Возможность технического получения энергии при расщеплении урана», в котором показал, что предложение Пауля Хартека отделить уран от замедлителя не очень удачно, поскольку тогда «машина» окажется слишком маленькой.
Нобелевский лауреат проанализировал и возможности модификации «машины». Самым надежным методом, писал он, является обогащение природного урана изотопом урана-235. Только так можно добиться уменьшения размеров «урановой машины» до одного кубического метра, что позволит создать новое взрывчатое вещество, чья мощь в тысячи раз превзойдет мощь тротила. Но для производства энергии можно использовать и обычный уран, не прибегая к разделению его изотопов. Для этого нужно добавить к урану вещество, способное замедлять излучаемые нейтроны, не поглощая их. Согласно имеющимся данным, этим требованиям отвечают лишь тяжелая вода и очищенный уголь. Однако при малейшем их загрязнении выработка энергии прекратится. В заключение профессор Гейзенберг предупреждал, что реактор является очень интенсивным источником вредного нейтронного и гамма-излучения.
В канун Второй мировой войны единственной фирмой, выпускавшей тяжелую воду в промышленных количествах, была норвежская «Норск гидро». Она действовала при Веморкской гидроэлектростанции, близ городка Рьюкан на юге Норвегии. Тяжелая вода была побочным продуктом водородного электролиза. Еще в 1932 году американский физик Гарольд Юри доказал, что вода, остающаяся после электролиза в ячейках, содержит гораздо больше тяжелого водорода, чем обычно. Если подвергать электролизу 100 тысяч литров воды до тех пор, пока в ячейках не останется всего литр воды, то в этом литре содержание тяжелой воды достигнет 99 %. По этому принципу фирма и изготавливала тяжелую воду. Немецкий эксперт, присланный проинспектировать установку «Норск гидро», назвал ее шедевром.
Установка начала действовать в 1934 году. До 1938 года здесь изготовили всего 40 килограммов тяжелой воды. Потом ее производство увеличилось, но и в конце 1939 года здесь выпускали не более десяти килограммов воды в месяц. Впрочем, выбора у немецких военных не было. Вопрос был лишь в том, согласятся ли норвежцы поставлять тяжелую воду в Германию.
Тем временем военные власти начали выполнять решение о сборе ученых под крышей Физического института. И сразу же столкнулись с проблемой. Директор института, знаменитый нидерландский физик-экспериментатор Петер Дебай, лауреат Нобелевской премии 1936 года, будучи иностранцем, не мог возглавить секретный проект. Ученого поставили перед выбором: он либо принимает немецкое гражданство, либо покидает институт. Неожиданное приглашение из США разрешило дилемму: физика, прожившего в Германии почти всю свою жизнь, попросили выступить с циклом лекций. Петер Дебай уехал в Америку и не вернулся. Немецкий атомный проект потерял очередного ценного сотрудника.
Похищение тяжелой воды
Начавшаяся война изменила планы не только немецких физиков, но и их коллег во многих странах. Прежде всего – во Франции.
Напомню, что в 1935 году Фредерик Жолио-Кюри получил Нобелевскую премию по химии. Это помогло ему встать во главе кафедры ядерной химии, учрежденной в парижском Коллеж де Франс. Перебираясь в свою новую лабораторию, физик забрал с собой некоторых ведущих исследователей, составивших его группу: Ханса фон Халбана, Льва Коварски и Бруно Понтекорво.
В феврале 1939 года группа взялась за исследование возможности цепной реакции; менее чем через месяц их первое сообщение об этом появилось на страницах английского журнала «Нэйчур». Заголовок устрашал: «Высвобождение нейтронов в ядерном взрыве урана». В статье говорилось, что при расщеплении уранового ядра испускается некоторое количество нейтронов, способных произвести последующие акты деления.
Возник вопрос о создании атомного реактора. Его конструкция зависела от того, сколько нейтронов испускается при делении, и в Коллеж де Франс продолжались эксперименты с целью определения этого числа.
До сих пор исследования носили академический характер. Такими же были и публикации о результатах – каждый ученый стремился утвердить свой приоритет в раскрытии очередной тайны атома. Однако быстрое изменение политической обстановки в Европе заставило задуматься о возможных последствиях такой «открытости».
1 апреля 1939 года французская группа получила телеграмму от американских коллег, в которой те просили не публиковать больше сведений о результатах исследований. Сначала французы решили, что это первоапрельская шутка, но потом стало не до смеха. Американцы действительно были озабочены тем, что лидеры ядерной физики (ими много лет оставались ученые из группы Жолио-Кюри) без всякой задней мысли и невзначай могут дать в руки новоиспеченному германскому империализму оружие большой разрушительной силы. Поэтому и было предложено ввести самоцензуру – хотя бы на время.
Посовещавшись, французы отклонили предложение американцев. Это было сделано по трем причинам. Во-первых, чувствовалось, что ни один из американских коллег не сможет твердо придерживаться такого неофициального соглашения: если бы кто-то из них сделал большое открытие, то непременно запатентовал бы его. Во-вторых, Фредерик Жолио-Кюри привык придерживаться принципа Марии Склодовской-Кюри: всегда публиковать каждый научный результат. В-третьих, работа в Коллеж де Франс очень нуждалась в финансовой поддержке, а ее труднее получить, если регулярно не сообщать об успехах.
8 апреля 1939 года Жолио-Кюри, фон Халбан и Коварски написали статью, появившуюся месяцем позже под заголовком «Количество нейтронов, испускаемых в процессе ядерного деления урана». Эту величину они считали равной чему-то среднему между 3 и 4, что, казалось, говорило о теоретической возможности цепной реакции. Оставался неясным еще один момент. Не было уверенности в том, что цепная реакция, раз начавшись, продолжится достаточно долго, – она могла постепенно затухать. А если она не будет затухать, то возникнет проблема – как ею управлять.
В апреле коллектив Жолио-Кюри решил сконцентрировать свои усилия на проблеме получения цепной реакции, пригодной для промышленного использования. Потребовалось много денег: на источники нейтронов, на уран, на «замедляющий материал», составлявший существенную часть всей установки для получения энергии.
В течение летних месяцев французы применяли в качестве замедлителя воду, затем уголь и даже большие блоки из твердой углекислоты. В августе Фредерик Жолио-Кюри начал новый эксперимент, собрав блоки из окиси урана в виде сферы, которая поливалась водой. Было установлено, что деление одиночного ядра урана в середине такой сборки вызывает цепную реакцию. Но реакция не поддавалась контролю теми методами, которые были доступны экспериментаторам.
Тем не менее эксперимент (результаты его были опубликованы в следующем месяце) показал, что цепную реакцию можно вызвать искусственно. Логично было предположить, что если удастся подобрать соответствующий замедлитель и найти правильное его сочетание с ураном, то реакцию можно поддерживать сколь угодно долго. Французы взялись за разрешение этой проблемы, когда разразилась война.
Физики были немедленно мобилизованы. К примеру, Фредерик Жолио-Кюри получил от правительства длиннейшие инструкции с перечислением второстепенных научных работ, которые ему предписывалось начать. Пришлось знаменитому физику добиваться встречи с Раулем Дотри, французским министром вооружения. У министра были довольно своеобразные взгляды. Однажды он прочитал в популярной статье, что если бы было можно расщепить атомы, из которых состоит обыкновенный стол, то заключенной в них энергии хватило бы для уничтожения всего мира. Фантастическая идея пленила его, и он с интересом выслушал рассказ Жолио-Кюри о работах, проводившихся в Коллеж де Франс, после чего пообещал всевозможную помощь.
Дотри оказался хозяином своего слова. Вскоре после этой встречи Хансу фон Халбану пришла в голову мысль использовать в качестве замедлителя графит. Существенная особенность любого замедлителя – высокая степень чистоты. Будучи химиком, фон Халбан помнил, что степень чистоты у графита больше, чем у какого-либо другого материала. Фредерик Жолио-Кюри вновь направился к Дотри и попросил обеспечить его коллектив графитом. Министр подыскал источник снабжения графитом в Гренобле. Вскоре после этого фон Халбан и его коллеги получили огромную глыбу чистого графита.
К сожалению, эксперимент с графитом провалился. Тогда фон Халбану пришла в голову мысль использовать в качестве замедлителя тяжелую воду. Жолио-Кюри опять пошел к министру вооружения. Дотри спешно принял меры. В начале марта 1940 года группа французских военных тайно покинула Париж, направившись в Осло. Там они вступили в переговоры с фирмой «Норск гидро» и заключили соглашение на покупку всей тяжелой воды (185 килограммов), имевшейся в наличии на заводе в Рьюкане. Кроме того, Франции предоставлялось предпочтительное право на тяжелую воду, которая будет в дальнейшем произведена на этом заводе. 16 марта офицеры, выполнявшие тайную миссию, вернулись обратно в Париж, и весь мировой запас тяжелой воды был надежно упрятан в подвалах Коллеж де Франс.
Недолго довелось коллективу Жолио-Кюри работать с тяжелой водой: им помешало наступление немцев. За шесть дней противник заставил капитулировать Голландию и продвигался через северную Бельгию по направлению к Брюсселю. 15 мая немцы пересекли реку Маас. Министр Дотри приказал Фредерику Жолио-Кюри сделать все необходимое, чтобы тяжелая вода не попала в руки немцев. Тот поручил фон Халбану перевезти запас тяжелой воды, радий и архив в Мон-Доре – курорт в центральной Франции.
Прибыв туда, ученый приступил к организации новой лаборатории. Однако 8 июня немцы форсировали Марну, оказавшись в пригородах французской столицы. Фредерика Жолио-Кюри предупредили о решении объявить Париж «открытым городом» и о грядущей капитуляции, поэтому он начал готовиться к отъезду. Забрав самые важные документы и уничтожив остальные, физик присоединился к фон Халбану, но и в Мон-Доре остановиться не удалось. Правительство приказало перевезти тяжелую воду в Бордо, а оттуда – в Англию.
Перед учеными встал острый вопрос: каким образом они могли бы лучше всего служить Франции – оставаясь на родине или отправившись за рубеж? Фон Халбан и Коварски намеревались сопровождать тяжелую воду в Англию. Фредерик Жолио-Кюри остался во Франции. Такое решение блестящего физика впоследствии критиковалось и породило множество догадок о мотивах, по которым оно было принято. По-видимому, правильными следует считать объяснение фон Халбана: Жолио-Кюри в то время стал видной фигурой среди своих друзей с «левыми» взглядами, и ему казалось, что будет нечестным по отношению к ним покинуть страну в такое время. Кроме того, в голове Фредерика уже начала созревать идея сопротивления немецкой оккупации, которая через несколько лет охватит всю Францию.
Тяжелая вода была доставлена в Англию и отправлена в Кавендишскую лабораторию – так называли физический факультет Кембриджского университета, где некогда работали основоположники ядерной физики Джозеф Томсон и Эрнест Резерфорд.
Реактор Хартека
В Германии события развивались своим чередом. Немецким ученым уже стало ясно, что строительством «урановой машины» их работа не ограничится. Впереди их ждет урановая бомба. Однако создать «машину» необходимо было по двум причинам: во-первых, тогда ученые смогут поверить теорию практикой, а во-вторых, что еще важнее, если удастся построить «машину», то правительство и вермахт убедятся, что физикам по плечу и создание нового оружия.
В 1940 году в различных лабораториях Берлина, Лейпцига, Гейдельберга, Вены и Гамбурга был проведен ряд ключевых экспериментов. Так, летом и осенью 1940 года Вернер Гейзенберг и Георг Дёпель поставили опыты с оксидом урана и тяжелой водой. Они окончательно установили, что в реакторе на тяжелой воде можно использовать обычный уран, а не обогащенную смесь изотопов.
Особую важность имел эксперимент профессора Вальтера Боте из Гейдельберга, проведенный в июне 1940 года. Он показал, что абсолютно чистый углерод также можно использовать в качестве замедлителя быстрых нейтронов, а ведь получить это вещество было куда проще, чем тяжелую воду.
В Берлине, в Физическом институте, Карл фон Вайцзеккер начал конструировать будущую «урановую машину». Изначально ее решили строить по схеме Хартека: две тонны оксида урана и полтонны тяжелой воды расположатся вперемешку, в пять или шесть слоев. Можно было построить и сферический реактор по схеме Гейзенберга, хотя это казалось более трудным.
Впрочем, в феврале 1940 года Гейзенберг, вернувшись к докладной записке, поданной два месяца назад, дополнил ее подробным математическим расчетом. Он пришел к выводу, что использовать чистый графит в качестве замедлителя вовсе не так эффективно, как казалось поначалу. Гелий тоже не годится, ибо реактор окажется слишком громоздким. Остается тяжелая вода.
Курт Дибнер провел совещание, на котором обсуждались все проблемы, связанные с тяжелой водой. Участвовавшие в нем Вернер Гейзенберг, физик Карл Вирц и специалист по физической химии Карл Бонхеффер заключили, что проблем впереди еще очень много. Гейзенберг предложил взять вначале пару литров тяжелой воды и проверить, насколько она проницаема для нейтронов. Дибнер пообещал закупить ее у норвежцев.
Неделю спустя Пауль Хартек послал письмо своим военным шефам: судя по расчетам Гейзенберга, уран и тяжелая вода понадобятся для реактора в одинаковых пропорциях, то есть надо раздобыть примерно две тонны тяжелой воды. Придется самим налаживать ее производство.
Но для получения всего одной тонны тяжелой воды с помощью электролиза, как это делают норвежцы, придется израсходовать на выработку электроэнергии сотни тысяч тонн угля. Военных такая перспектива ужаснула. Тогда Хартек вспомнил, что несколько лет тому назад он вместе с Хансом Зюссом разработал новый метод производства тяжелой воды с помощью каталитического обмена. Однако тогда никого эта технология не заинтересовала, поскольку проще было покупать тяжелую воду у норвежцев.
Вскоре, с согласия военных, решили построить опытную установку. Пауль Хартек писал Карлу Бонхефферу, что установку для каталитического обмена ему хотелось бы разместить при каком-нибудь действующем предприятии, где занимаются гидрогенизацией. Вскоре он получил ответ: на знаменитом заводе «Лейнаверке» очень заинтересовались идеей.
Тем временем в Норвегию приехал представитель концерна «ИГ Фарбениндустри», который своими денежными вливаниями содействовал работе завода в Рьюкане. Он затребовал у норвежцев все хранящиеся запасы тяжелой воды и пообещал новый обширный заказ. Руководство завода поинтересовалось, зачем нужны столь огромные по тем временам запасы тяжелой воды. Однако немец ловко уклонился от прямого ответа. Норвежцам все это не понравилось, и когда представилась возможность, они передали тяжелую воду прибывшим с тайной миссией французам. Так что, когда весной 1940 года германские войска вторглись в Норвегию и 3 мая, после тяжелых боев, захватили завод, склады его оказались пусты.
В начале апреля 1940 года, в то время как французские физики начали эксперименты с тяжелой водой, Пауль Хартек посетил завод «Лейнаверке». Он загорелся новой идеей использования в качестве замедлителя сухого льда. И нашел поддержку у дирекции: ему выделили целый вагон сухого льда. Хартек выбрал подвал для эксперимента, но сначала следовало позаботиться об уране. Он попросил Дибнера прислать 300 килограммов оксида. При этом захваченный открывшимися перспективами ученый не учел одного: не он один мечтал построить первый в стране реактор. Весной 1940 года секретариат Курта Дибнера был завален заявками. Например, Гейзенберг требовал целую тонну уранового оксида. В целях экономии осторожный Дибнер намекнул Гейзенбергу, что неплохо было ему провести эксперимент вместе с Хартеком. Однако нобелевский лауреат, не желая уступать, снисходительно намекнул, что революционную идею с сухим льдом неплохо бы проверить опытным способом в лабораторных условиях.
В начале мая 1940 года место для будущего реактора уже было приготовлено. Несмотря на происки Гейзенберга, все складывалось удачно. Дибнер обещал-таки «несколько сот килограммов» оксида урана. 6 мая Хартек позвонил Дибнеру и сказал, что для нормального эксперимента нужно не менее 600 килограммов оксида. 9 мая, изнывая от ожидания, он написал письмо Дибнеру, надеясь узнать, сколько ему еще ждать. Лишь в последние дни месяца в Гамбург привезли вожделенный оксид, но его оказалось ничтожно мало: всего 50 килограммов! Впрочем, через несколько дней сердобольный петербуржец Николай Риль прислал «гамбургскому мечтателю» еще 135 килограммов «от себя лично». На этом урановый «ручеек» иссяк.
Таким образом, в начале июня лаборатория Пауля Хартека располагала 185 килограммами оксида урана и 15 тоннами сухого льда. Профессор изготовил изо льда блок, просверлил в нем пять шахт и заполнил их ураном. В середине блока поместил радиево-бериллиевый источник нейтронов. 3 июня он известил своих военных начальников, что в течение недели эксперимент будет завершен. При этом он умолчал, что проводить задуманный опыт с таким малым количеством урана вообще-то бессмысленно – цепная реакция не пойдет. Вся эта неделя была простой демонстрацией амбиций. Хартеку удалось измерить лишь уровень абсорбции нейтронов в уране и их диффузионную длину в твердой углекислоте.
В конце августа 1940 года Хартек заговорил о необходимости повторения эксперимента с использованием двух тонн оксида урана и пятиметрового куба сухого льда. Однако коллеги так злословили по поводу его идей, что физик дрогнул и зарекся отстаивать свое начинание.
Поиски вслепую
В июне 1940 года немецкие войска заняли Париж. Немедленно туда приехали Курт Дибнер и Эрих Шуман. По горячим следам немцы пытались восстановить ход работ в лаборатории Жолио-Кюри. Группу французских физиков, оставшихся в Париже, возглавил профессор Вольфганг Гентнер.
Некоторые находки могли послужить важными аргументами в немецких научных спорах. Например, французы, как и Хартек, считали, что урановое топливо и тяжелую воду следует размещать в реакторе не вперемешку, а отдельными слоями. По их мнению, замедлитель нужно вводить в урановую массу в виде «кубиков или шаров», а не наоборот. Так, они получили весьма обнадеживающие результаты, когда внедрили в шар из оксида урана кубики парафина.
15 июня 1940 года американский журнал «Физикал ревью» опубликовал статью, в которой сообщалось об открытии нового трансуранового элемента, занимающего в таблице Менделеева клетку с номером 94 (плутония). Статья вызвала возмущение видных британских ученых, считавших, что в военное время публикация подобных материалов должна быть запрещена. И они в какой-то мере были правы – опубликованная статья попалась на глаза Карлу фон Вайцзеккеру. Из статьи следовало, что новый трансурановый элемент можно получить из урана-238. При этом по своим свойствам он куда лучше подходит для создания атомной бомбы, чем природный уран. Впрочем, соображениям фон Вайцзеккера, которые он изложил в соответствующей записке, поданной в Управление вооружений сухопутных войск, в то время не придали особого значения.
Летом 1940 года, по соседству с Физическим институтом Общества имени кайзера Вильгельма, на участке, принадлежавшем Институту биологии и вирусных исследований, начали строить небольшую деревянную лабораторию. Здесь собирались разместить реактор, построенный по схеме Гейзенберга. Чтобы отпугнуть непрошеных гостей, над дверями здания повесили табличку «Вирусная лаборатория».
Казалось, пути к преодолению трудностей определены. Однако в Германии появилась еще одна группа ученых, претендующая на урановые и прочие ресурсы. Барон Манфред фон Арденне, блестящий изобретатель, нанес визит главе Имперского почтового министерства Вильгельму Онезорге и в многозначительных выражениях сообщил, что благодаря недавним открытиям физиков можно изготавливать особые бомбы и особые реакторы, которые превзойдут все прошлые технические достижения. Министр настолько увлекся речами барона, что при первом удобном случае явился с докладом к Адольфу Гитлеру и рассказал ему всё, что узнал об урановой бомбе.
Вильгельму Онезорге не повезло: в конце 1940 года, когда случилось это памятное событие, фюрер был настолько увлечен радостями недавних блицкригов и планами будущих войн, что эксцентрический доклад лишь раздосадовал его. Фюрер высмеял министра, и тому пришлось ретироваться. Впрочем, Онезорге всё же не оставил мыслей о «чудо-бомбе» и решил на свой страх и риск поддержать фон Арденне – благо располагал значительными средствами, предназначенными для развития почты.
Итак, теперь уже три группы немецких ученых работали над атомным проектом. Одной руководил Курт Дибнер. Вторую возглавил Абрахам Эзау. Третья возникла в Лихтерфельде, в лаборатории, где всем заправлял барон Манфред фон Арденне.
Ученые из академических институтов встретили появление барона с явным неудовольствием. Образование, полученное им, равно как и его методы, претили большинству ученых. Далек он был и от теоретиков типа Вернера Гейзенберга.
10 октября Карл фон Вейцзеккер посетил «мятежного барона». Именитый физик попытался втолковать изобретателю, что создание атомной бомбы – идея, далекая от реализации. Причина в следующем: эффективное поперечное сечение урана с ростом температуры уменьшается, поэтому цепная реакция постепенно затухает. Возможно, фон Арденне поверил хитрым речам. Во всяком случае вплоть до конца 1940 года он занимался лишь проектом «установки по превращению атомов», то есть циклотроном (ускорителем тяжелых частиц), в котором отчаянно нуждались немецкие физики.
В том же октябре была достроена «Вирусная лаборатория». Первый урановый реактор, установленный там, представлял собой сводчатый алюминиевый цилиндр. Диаметр и высота его были одинаковы – 1,4 метра. Его до краев заполнили оксидом урана. Слои оксида перемежались тонкими парафиновыми вставками – замедлителем. Цилиндр погрузили в воду, служившую отражателем нейтронов. Радиево-бериллиевый источник нейтронов помещался в трубке, которую опустили в центр реактора.
Однако цепная реакция не наблюдалась. Через несколько недель опыт повторили, проверив две другие схемы реактора и потратив на это 6800 килограммов оксида урана. Опять никакого результата! Так Вернер Гейзенберг доказал, что невозможно построить реактор на оксиде урана, если в качестве замедлителя брать парафин или обычную воду. Требовалась тяжелая вода, а ее-то как раз все еще недоставало.
В Лейпциге профессор Георг Дёпель повторил эксперимент с оксидом урана и парафином. Правда, все четыре слоя урана в его реакторе были отделены друг от друга еще и алюминиевыми сферами. Опять безуспешно!
Самые интересные результаты были получены в Гейдельберге, где Вальтер Боте и Арнольд Фламмерсфельд смешали в огромном чане почти 4,5 тонны оксида урана с 435 килограммами воды, а затем с большой точностью измерили размножение нейтронов и их «резонансную абсорбцию» в упомянутых веществах. Оба ученых тоже констатировали, что без тяжелой воды реактор на оксиде урана не будет работать.
После этой череды неудач инициативу перехватили военные. Не советуясь с физиками, они решили использовать в опытах не оксид урана, а металлический уран. Однако фирма «Aуэр» не располагала оборудованием для переработки оксида в чистый материал. Поэтому Николай Риль обратился за помощью во Франкфурт, к директору фирмы «Дегусса», которая как-то проделала для Риля схожую работу, превратив оксид тория в металлический торий. Оказалось, процессы восстановления урана и тория очень похожи. Даже оборудование можно было не менять. Очищенный оксид урана помещали в инертную аргоновую атмосферу, нагревали до 1100 °C и восстанавливали с помощью металлического кальция и хлорида кальция. Руководители фирмы были уверены, что получаемый ими уран будет необычайно чист, но в действительности он содержал даже больше примесей, чем исходный оксид. Тем не менее к концу 1940 года «Дегусса» изготовила 280 кг уранового порошка.
В это время лаборанты профессора Вальтера Боте радостно доложили, что эффективным замедлителем может служить не только тяжелая вода, но и графит – материал, чрезвычайно дешевый и имевшийся в изобилии. В качестве критерия была выбрана так называемая «диффузионная длина тепловых нейтронов» – расстояние между той точкой, где нейтрон стал тепловым, и той точкой, где он был поглощен ядром атома окружающего вещества. Понятно, что чем больше такое расстояние, тем лучше для течения цепной реакции. Как показал опыт, ловко поставленный Боте, диффузионная длина тепловых нейтронов в углероде (графит является кристаллической модификацией углерода) составляла 61 сантиметр. Если же очистить графит еще больше, показатель возрастет до 70 сантиметров. Прекрасно! Военные немедленно обратились к фирме «Сименс» с просьбой о поставках чистейшего графита.
В январе 1941 года там же, в Гейдельберге, опыт был повторен. Итог принес разочарование. Хотя образец был изготовлен из чистейшего электрографита фирмы «Сименс», приборы показывали всего 35 сантиметров. Следовательно, графит в замедлители не годится. Мнению Вальтера Боте доверяли, поэтому опыты с графитом прекратились. Только в 1945 году ошибка была обнаружена. Вероятно, причиной неудачи стали примеси азота, попавшего в графит из воздуха.
Отныне работа над немецким урановым проектом резко замедлилась. Большинство историков, изучавших отчеты о немецких ядерных исследованиях, признают ошибку профессора Боте роковой. Кстати, если бы в 1940 году Паулю Хартеку дали провести полноценный опыт с сухим льдом, он измерил бы абсорбцию нейтронов в углероде, и коллеги избежали бы ошибок.
Впрочем, такой же промах допустили и ведущие французские физики Ханс фон Халбан и Лев Коварски, работавшие в Кавендишской лаборатории. Они тоже решили, что графит – плохой замедлитель, и сосредоточили свои усилия на разработке реактора с тяжелой водой. Но когда в 1942 году американским ученым удалось построить и запустить первый в мире урановый реактор, они использовали в качестве замедлителя именно графит.
Итак, немецкие физики, нерадиво поставив важнейший эксперимент, теперь терпеливо дожидались, когда же на далеком норвежском заводе произведут нужное количество тяжелой воды. С инспекцией в Рьюкан направили доктора Карла Вирца. Тот обязался узнать, можно ли увеличить ее выпуск. До того фирма «Норск гидро» обслуживала лишь научные лаборатории, а для их нужд требовались не тонны, а килограммы или даже граммы тяжелой воды. Вирц сообщил, что производство здесь крайне нерентабельно, что на изготовление одного грамма здесь тратят 100 киловатт-часов электроэнергии, то есть 100 рейхсмарок по ценам того времени. Тонны тяжелой воды станут золотыми в буквальном смысле слова. Такая экономика резко расхолаживала даже самых горячих энтузиастов.
Если бы у немецких физиков было достаточно обогащенного урана, то замедлителем в реакторе могла бы стать обыкновенная вода. Но в начале мрачного 1941 года Пауль Хартек признал свое поражение: разделить изотопы урана у него не получилось.
В апреле 1941 года состоялось очередное совещание ведущих ядерных физиков Германии. По итогам Пауль Хартек написал в докладной записке, направленной им в Управление вооружений сухопутных войск:
Перед нами стоят две проблемы.
1. Производство тяжелой воды.
2. Разделение изотопов. <…>
Первая более актуальна, так как, судя по имеющимся данным, при наличии тяжелой воды машина будет работать и без обогащения изотопов урана. Кроме того, изготавливать тяжелую воду все же проще и дешевле, чем обогащать изотопы U-235.
Тем не менее ученые не отказались от идеи разработать эффективную методику разделения изотопов. Лейпцигский физик Эрих Багге придумал для этого совершенно новый способ, который назвал «изотопным шлюзом». Нужно получить узкий «молекулярный луч», состоящий из беспорядочно перемешанных изотопов, и пропустить его сквозь систему из двух вращающихся конусовидных заслонок-бленд. Через определенное время молекулы в «луче» перегруппируются: тяжелые отстанут от более легких. Скорость вращения бленд подбирается так, чтобы «пакет» легких изотопов успел проскочить вперед, в отстойник, а остальные – нет. Эту идею приняли, но Багге понадобился в Париже, и реализация его проекта была отложена на целый год.
Тем временем не покладая рук работал и невольный конкурент Багге – доктор Вильгельм Грот из Гамбурга. Он создавал газовую центрифугу для обогащения изотопов из гексафторида урана по схеме, почерпнутой в американских научных журналах. Такой способ разделения изотопов кажется самым наглядным, ведь центрифуга сортирует атомы разных масс за счет центробежной силы. В начале августа 1941 года Грот провел переговоры с фирмой «Аншуэтц» из Киля. Через неделю фирма получила заказ на строительство опытного образца центрифуги. 22 октября ее чертежи были готовы. Специалисты закупили электродвигатель, развивавший скорость до 60 000 оборотов в минуту. А вот другие фирмы, с которыми пришлось иметь дело, оказались менее расторопными. Так, ротор для центрифуги Вильгельм Грот хотел изготовить из очень прочного стального сплава. Он обратился на завод Круппа, но там просили подождать месяцев восемь. Пришлось обойтись сплавом из легких металлов, благо в Ганновере его выплавили к середине декабря. Планировалось, что уже в феврале 1942 года центрифуга заработает. «Ежедневно она способна выпускать около двух килограммов гексафторида урана, чей изотоп U-235 будет обогащен на 7 процентов», – многообещающе писал Грот в своем предварительном отчете.
Кроме того, руководители атомного проекта обратились к мюнхенскому профессору Карлу Клузиусу (он-то и разработал метод «термодиффузии», о котором мы говорили выше). Его спросили, можно ли заменить едкий и капризный гексафторид урана каким-либо другим летучим соединением. Физик мог порекомендовать лишь пентахлорид урана, который, однако, обладал свойствами, еще более нетерпимыми для промышленного использования. Безжалостно отринув прежние прожекты, Карл Клузиус тем не менее сумел обнадежить военных: «При нынешнем уровне наших знаний о летучих урановых соединениях следует рассчитывать на серьезный успех лишь в том случае, если мы откажемся от газообразных соединений, заменив их жидкими». Причем профессор сам вызвался разработать новый метод диффузии изотопов.
Со своей стороны, Вернер Гейзенберг и Георг Дёпель повторили у себя в Лейпциге эксперимент с урановым реактором «L–III». При этом они вновь использовали оксид урана, но зато теперь у них было целых 164 килограмма тяжелой воды, произведенной по спецзаказу в Норвегии. 142 килограмма оксида урана физики поместили внутрь алюминиевого шара диаметром 75 сантиметров. Два слоя оксида разделяла тонкая алюминиевая сфера. Источник нейтронов находился в центре. Реактор упрятали в резервуар с водой.
Но и на этот раз размножение нейтронов не было зафиксировано! Тогда оба профессора перепроверили свои расчеты и учли нейтроны, поглощаемые алюминиевой сферой. Вот тут-то они наконец-то и получили «положительный коэффициент размножения» нейтронов.
«Именно в сентябре 1941 года, – вспоминал Вернер Гейзенберг, – мы поняли, что атомную бомбу создать можно».
Критическая масса
В период, когда немецкие физики вплотную подошли к решению ключевых технологических проблем, препятствующих созданию «урановой машины», случилось страшное: войска вермахта были разбиты под Москвой, а блицкриг против Советского Союза на глазах превращался в затяжную кровопролитную войну.
3 декабря 1941 года министр вооружений Фриц Тодт доложил фюреру, что военная промышленность находится на грани краха. Пришло время затягивать пояса. Гитлер распорядился подчинить немецкую экономику нуждам войны.
Изменилось отношение и к атомному проекту. Его продолжали считать перспективным, но не первостепенным. Руководство проектом поручили Имперскому научно-исследовательскому совету, который подчинялся Имперскому министерству науки, образования и народной культуры во главе с Бернгардом Рустом – человеком, слабо разбиравшемся в физике. Фактически власть вернулась к Абрахаму Эзау, которого вроде бы совсем отстранили от атомного проекта.
Новый этап начался довольно бестолково. На 26–27 февраля 1942 года Эрих Шуман назначил большую конференцию в стенах Физического института Общества имени кайзера Вильгельма. Приглашенным раздали спецпропуска, сообщили очередность докладов, и вдруг вмешался Научно-исследовательский совет. Выяснилось, что на тот же день, 26 февраля, им созвано расширенное совещание, причем круг приглашенных был намного шире: офицеры вермахта, высшие чины СС, светила науки. К последним причислили Отто Гана, Вернера Гейзенберга, Вальтера Боте, Ханса Гейгера, Пауля Хартека, Эриха Шумана, Карла Клузиуса и, конечно, Абрахама Эзау. Всех их наметили в докладчики. Примечательно, что организаторы «параллельного» совещания за пять дней до него разослали приглашения нацистским бонзам и высшим офицерам: Альберту Шпееру, Вильгельму Кейтелю, Генриху Гиммлеру, Эриху Редеру, Герману Герингу, Мартину Борману и многим другим. В приглашениях содержалась повестка:
1. Ядерная физика как оружие (проф. Э. Шуман).
2. Расщепление ядра урана (проф. О. Ган).
3. Теоретические основы производства энергии путем расщепления урана (проф. В. Гейзенберг).
4. Результаты исследований установок по производству энергии (проф. В. Боте).
5. Необходимость исследования общих основ (проф. Х. Гейгер).
6. Обогащение изотопов урана (проф. К. Клузиус).
7. Производство тяжелой воды (проф. П. Хартек).
8. О расширении рабочей группы «Ядерная физика» за счет привлечения представителей промышленности и различных ведомств рейха (проф. А. Эзау).
К этому листку, заполненному множеством загадочных слов, секретарша по рассеянности подколола еще четыре: темы всех докладов, которые должны были слушаться в те же дни в Физическом институте. А они звучали сущей абракадаброй: «диффузионная длина», «эффективное поперечное сечение» и так далее, и тому подобное.
Немудрено, что глава СС Генрих Гиммлер, глянув на чудовищное нагромождение терминологии, отказался тратить свое драгоценное время на выслушивание докладов в коллективе высоколобых ученых и написал вежливый отказ Бернгарду Русту. Генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель дипломатично заверил организаторов, что придает большое значение «этим научным проблемам», но «бремя возложенных обязанностей» не позволяет ему принять участие в совещании. Гросс-адмирал Эрих Редер уведомил о прибытии одного из своих заместителей. В итоге никто из властей предержащих не явился слушать научную «тарабарщину». Совещание провели без них.
После докладов Эриха Шумана и Отто Гана на трибуну поднялся Вернер Гейзенберг и заговорил о цепной реакции деления ядер как основе производства атомной энергии. При этом он выбрал эпитеты, которые лучше подошли бы средневековому алхимику, нежели ученому середины ХХ века. Впрочем, ядерная физика была и остается современной алхимией.
Цепная реакция возможна, говорил Гейзенберг, лишь в том случае, если во время расщепления ядер выделяется больше нейтронов, нежели поглощается другими ядрами. С природным ураном все происходит наоборот, поэтому в чистом виде он непригоден для проведения такой реакции. Давайте попробуем сравнить процесс расщепления ядра с «заключением брака» и «рождением ребенка», а поглощение нейтронов со «смертью». В природном уране «показатель смертности» выше «числа рождений». В жизни это приводит к тому, что все «население» страны вскоре вымирает. Изменить это можно тремя способами: во-первых, требуя, чтобы каждая семья заводила больше детей, во-вторых, увеличивая число «свадеб», в-третьих, снижая «смертность». Среднее количество нарождающихся нейтронов-детей нам никак не изменить, ведь это константа, данная нам природой. Поступим по-другому. Увеличим содержание урана-235, и тогда «смертность» нейтронов снизится. Если же нам удастся совершенно изолировать уран-235, то тогда смертность вообще прекратится. Если мы накопим некоторое количество чистого урана-235, то число нейтронов может неимоверно возрасти в нем в кратчайшее мгновение. В течение доли секунды вся энергия расщепления выделится. Раздастся взрыв невиданной силы. Однако изолировать уран-235 очень и очень трудно. Большинство ученых, работающих над данным проектом, пытается решить именно эту проблему, о чем поведает собравшимся профессор Клузиус. Добавлю лишь, заявил Гейзенберг, что американцы, по всей видимости, уделяют этому вопросу особенно пристальное внимание.
Есть другой способ снизить «смертность». Новейшие исследования показали, что нейтроны «умирают», то есть поглощаются, лишь в том случае, если они наделены определенными энергиями (движутся с какой-то конкретной скоростью). Ее можно снизить. Ученые пытаются найти вещества, которые тормозят нейтроны, но не поглощают их. Лучшим их «замедлителем» был бы гелий, ведь он вообще не поглощает нейтроны, но этот газ слишком легок и использовать его мы не можем. Остается лишь тяжелая вода, поскольку опыт показал, что графит и бериллий непригодны для этой цели. «Урановая машина», очевидно, будет состоять из нескольких слоев урана и замедлителя. Тепловая энергия, им создаваемая и передаваемая обычной воде, станет вращать турбину. «Урановая машина» не потребляет кислород, поэтому она особенно хороша для оснащения субмарин. Однако этим ее польза не ограничена. Внутри «машины» при преобразовании ядер урана возникает новый элемент с порядковым номером 94. Он, очевидно, обладает такой же взрывной силой, как и чистый уран-235. Накопить этот элемент легче, чем уран-235.
Конференция в Физическом институте все же состоялась и растянулась на три дня. На ней выступили с докладами почти все ведущие ядерщики страны. Профессор Вальтер Боте доложил о проводившихся им измерениях «диффузионной длины», Карл фон Вайцзеккер – о дополнениях «к теории резонансной абсорбции в урановой машине». Профессор Георг Дёпель описал осенний опыт с реактором «L–III», содержавшим оксид урана и тяжелую воду, а Карл Вирц познакомил слушателей с опытами, которые велись в «Вирусной лаборатории», находившейся в нескольких сотнях метрах от зала заседаний. Ряд выступлений посвящался поведению урана при обстреле его быстрыми нейтронами, а также особенностям недавно открытых трансурановых элементов с номерами 93 и 94 (нептуния и плутония).
Организаторы конференции составили о ней отчет на сто тридцать одной странице, попытавшись зафиксировать даже самые невнятные идеи и высказывания, мелькнувшие на совещании. Обладая современными знаниями, нельзя не обратить внимание на один фрагмент из отчета, посвященный механике атомной бомбы:
Поскольку в каждом веществе всегда имеется некоторое количество свободных нейтронов, для взрыва вполне достаточным окажется соединить два куска взрывчатого вещества такого рода с общим весом от десятка до сотни килограммов.
Таким образом немецкие физики впервые определили пределы критической массы (то есть минимальной массы, при которой начнется самоподдерживающаяся цепная реакция) для изотопа уран-235: от 10 до 100 килограммов. Можно сравнить с достижениями в этой области американских коллег: в ноябре 1941 года те приблизительно определили ее в диапазоне от 2 до 100 килограммов изотопа.
Итоги конференций в целом оказались успешными. Гейзенберг позднее признавался: «Весной 1942 года, после того как мы наконец убедили Руста в том, что наши работы могут быть выполнены, в нашем распоряжении впервые оказались крупнейшие фонды Германии».
Министр Бернгард Руст действительно оказался податливым человеком, а вот высшие чины вермахта продолжали относиться к атомному проекту без энтузиазма. Для многих из них надежды физиков-ядерщиков оставались такими же, как и прежде, – туманными обещаниями.
Теперь судьба всего проекта зависела от мощностей небольшой норвежской фирмы. Альтернативы не было в принципе. В 1942 году немецкие физики окончательно уверились, что лишь тяжелая вода может служить замедлителем нейтронов в урановой «машине».
Тем временем на заводе «Норск гидро» всё еще пытались выполнить «заказ на производство полутора тонн тяжелой воды». К концу 1941 года было готово лишь 350 килограммов. Новых немецких хозяев такой медленный темп раздражал. В начале нового года завод оснастили новыми электролизерами и выпуск тяжелой воды… снизился до 91 килограмма в месяц.
Доктору «Норск гидро» Йомару Бруну пришлось ехать на совещание в Берлин. В «Вирусную лабораторию» его, естественно, не пустили, в цели проекта тоже не посвятили, зато поводили по Физическому институту. Директору удалось убедить немецких шефов, что дело в технологических трудностях, а не в сознательном саботаже.
Но все-таки производство тяжелой воды решили развернуть и в Германии. В конце февраля 1942 года руководство завода «Лейнаверке», принадлежавшего концерну «ИГ Фарбениндустри», встретилось с Паулем Хартеком и предложило построить опытную установку по производству тяжелой воды, работавшую по иной технологии, чем в Норвегии. Используемый метод был основан на фракционной дистилляции, придуманный самим Хартеком. Согласно расчетам, себестоимость одного грамма такой воды не превышала бы тридцать пфеннигов, а это «вполне терпимо». Строительство опытной установки обошлось бы в 150 000 рейхсмарок. Все расходы возьмет на себя концерн, дирекция которого мечтала получить доступ к новейшим разработкам в области энергетики. 30 апреля профессор Абрахам Эзау, к которому вернулось полновластное руководство атомным проектом, одобрил инициативу. Таким образом к участию в проекте привлекли концерн «ИГ Фарбениндустри», что было серьезной ошибкой. В 1944 году, когда положение станет критическим, концерн откажется выполнять взятые на себя обязательства.
Пока же немцы были далеки от краха, и даже норвежцы в марте 1942 года довели выпуск тяжелой воды до 103 килограммов в месяц. Впрочем, этим рекордом дело ограничилось. В апреле «Норск гидро» не сумел получить ни капли тяжелой воды из-за резкого понижения уровня реки. Гидротурбины заработали лишь 6 мая 1942 года.
Катастрофа в Лейпциге
Тем временем в Германии продолжались работы по обогащению урана. В начале января 1942 года Эрих Багге получил первые части своего «изотопного шлюза». 13 февраля он опробовал испаритель, заполнив его ураном.
Сразу три группы ученых пытались изолировать уран-235 электромагнитным способом. Давно было известно, что с помощью масс-спектрометра можно разделять крохотные количества изотопов. Эксперименты с этими приборами проводились в Лейпциге и в Физическом институте в Берлине. Однако всем ученым, наблюдавшим за ними со стороны, был очевиден крупный недостаток: на выходе получались действительно крошечные количества вещества, счет велся буквально на ионы.
Впрочем, барон Манфред фон Арденне, пребывавший в стороне от академических школ, считал этот недостаток исправимым. В апреле 1942 года в недрах его лаборатории в Лихтерфельде готовился отчет «О новом магнитном разделителе изотопов, предназначенном для перемещения больших масс». Под руководством фон Арденне и впрямь был создан особый магнитный сепаратор. Когда после войны правительство США рассекретило некоторые подробности своего атомного проекта, выяснилось, что настырный изобретатель-самоучка шел тем же путем, что и американцы.
В апреле 1942 года была готова и «ультрацентрифуга доктора Грота». Мы помним, что он решил не тратить восемь месяцев на ожидание редкостного стального сплава и заменил его сплавом из легких металлов. Вильгельм Грот спешил, но бойкость не всегда бывает уместна: барабан центрифуги, сделанный из эрзаца, попросту развалился во время испытаний, не выдержав нагрузки.
Физик опрометчиво заказал еще один небольшой барабан, но и тот лопнул, погребая надежду на быстрый результат. Грота утешало лишь то, что за те минуты, пока длился погибельный для оборудования эксперимент, содержание урана-235 в образце и впрямь немного увеличилось. Пауль Хартек, оценивая неудачи своего гамбургского коллеги, отмечал, что за этими «детскими болезнями» проглядывают блестящие перспективы: ведь в основе предложенной схемы лежат простые физические законы, которым подчиняется и гексафторид урана.
В первые месяцы 1942 года фирма «Дегусса» произвела почти 3,5 тонны чистого порошкового урана. Получателями его были в основном Управление вооружений сухопутных войск, бывший петербуржец Николаус Риль и профессор Вернер Гейзенберг.
3 февраля 1942 года фирма прислала Гейзенбергу 572 килограмма порошка. В Лейпциге готовился новый крупный эксперимент с урановым реактором. Предыдущий опыт на реактор «L–III» («два слоя оксида урана внутри алюминиевого шара») оказался более или менее успешным. Теперь Гейзенберг и Дёпель собирались заполнить реактор металлическим ураном. Тут-то и обнаружилось коварство уранового порошка: на воздухе он мгновенно вспыхивал. Лаборант пересыпа́л порошок с особой осторожностью, и все же произошел взрыв. Языки пламени взметнулись на три-четыре метра вверх. Лаборант сильно обжег руку. Стоявшая в полуметре от него банка с ураном тоже загорелась. Георг Дёпель вместе с пострадавшим принялись посыпать ее песком. Пламя исчезло, но на следующее утро ученые обнаружили, что уран всё еще тлеет. Пришлось швырнуть урановые «угли» в воду.
Ученые предприняли дополнительные меры безопасности. Наконец все было готово к эксперименту на модификации реактора «L–IV», который состоял из двух алюминиевых полусфер, крепко привинченных друг к другу. В реакторе уместилось более 750 килограммов урана. Внутрь добавили еще 140 килограммов тяжелой воды. Общий вес агрегата достиг тонны. Его опустили в резервуар с обычной водой. Источник нейтронов, как обычно, находился точно в центре. Измерения начались.
Вскоре был получен однозначный результат: до поверхности реактора долетало гораздо больше нейтронов, чем излучал источник. Физики подсчитали, что количество нейтронов в целом возросло на 13 %. Они докладывали в Управление вооружений:
Тем самым мы добились успеха в деле создания такой конфигурации котла, при которой число рождающихся нейтронов превышает число поглощенных. Результаты значительно превосходят то, что можно было бы ожидать, основываясь на опытах с оксидом урана. <…> Простое увеличение размеров котла при данной конфигурации приведет к возможности получения энергии из ядер атомов.
Великолепный научный триумф! Как явствовало из новых расчетов, если увеличить реактор, загрузив в него 5 тонн тяжелой воды и 10 тонн сплавленного металлического урана, то можно будет запустить первый в мире «самовозбуждающийся» атомный реактор. 28 мая франкфуртский завод № 1 начал отливать пластины из тонны урана, поставленной фирмой «Дегусса».
4 июня Вернер Гейзенберг приехал на секретное совещание в Берлин. Два месяца назад Герман Геринг распорядился приостановить все научные работы, которые не имеют прямого военного назначения. Теперь решение о приоритетности атомного проекта должен был решить Альберт Шпеер – главный архитектор рейха, назначенный в феврале 1942 года министром вооружений и боеприпасов вместо погибшего Фрица Тодта. Кроме него, на совещании присутствовали: генерал артиллерии Эмиль Лееб, возглавлявший в то время Управление вооружений сухопутных войск; генерал-полковник Фридрих Фромм, главнокомандующий армией резерва; генерал-фельдмаршал Эрхард Мильх, представлявший люфтваффе и лично Геринга; генерал-адмирал Карл Витцель, представлявший военный флот.
Вернер Гейзенберг должен был вновь проявить недюжинное красноречие, чтобы убедить высших руководителей рейха продолжить финансирование дорогостоящих научных затей. Вспомним, что к середине 1942 года характер войны решительно изменился. Любек, Росток и Кёльн лежали в руинах после массированных налетов британской авиации. Тысячи бомб, сброшенных на немецкие города, требовали возмездия. И этому потому Гейзенберг, защищая свои планы, сразу заговорил о военной выгоде, которую принесет «расщепление атома», описывая собравшимся устройство атомной бомбы.
Такая смена риторики стала неожиданностью для его коллег: ведь они полагали, что нобелевского лауреата интересует прежде всего атомная «машина». Доктор Эрнст Телшов, секретарь Общества имени кайзера Вильгельма, вспоминал, что слово «бомба», слетевшее с уст Гейзенберга, изумило не только его, но и, судя по лицам, большинство присутствовавших.
С точки зрения теории, говорил Гейзенберг, есть два вещества, которые можно использовать как взрывчатку: уран-235 и 94-й элемент (плутоний). Правда, расчеты Вальтера Боте показывают, что протактиний тоже можно расщепить с помощью быстрых нейтронов и его критическая масса такая же, как у вышеназванных элементов, однако протактиний никогда не удастся изготовить в достаточном количестве.
Едва Гейзенберг умолк, генерал-фельдмаршал Мильх спросил его, каких размеров будет бомба, способная уничтожить целый город. «Заряд будет величиной с ананас», – ответил физик и деловито очертил убийственные формы руками. Слова и жест нобелевского лауреата вызвали в зале всеобщее оживление. Но своим следующим замечанием он не замедлил поумерить восторги, сказав, что американцы, по всей видимости, в ближайшее время запустят «урановую машину», а через два года изготовят первую атомную бомбу. Немецкие физики не способны это сделать из-за тяжелых экономических обстоятельств и тотальной нехватки времени. «Я счастлив, – писал Гейзенберг после войны, – что парализовал нашу решимость. Да и действовавшие в то время приказы фюрера исключали любые возможности сосредоточить все усилия на производстве атомной бомбы».
Затем нобелевский лауреат начал рассказывать об «урановой машине», о том, как она важна для осуществления военных планов и для послевоенного развития Германии. Альберт Шпеер, выслушав великого физика, не стал возражать ему и признал, что даже сейчас, в дни войны, надо строить ядерный реактор. Его решено было разместить в специально построенном бункере на территории Физического института Общества имени кайзера Вильгельма. Значительная часть уранового проекта была спасена, хотя правительство больше не гарантировало ученым всестороннюю поддержку. Генерал-фельдмаршал Мильх покинул совещание разочарованным и через две недели подписал приказ о массовом производстве реактивного снаряда «Физелер-103», известного ныне как «Фау-1». С его помощью германские войска собирались обстреливать города Великобритании в качестве возмездия за бомбардировку крупных промышленных и военных центров.
23 июня министр Шпеер докладывал Гитлеру о проделанной работе. Под шестнадцатым пунктом в его отчете значился атомный проект. Всё, что счел нужным записать по этому поводу Шпеер, исчерпывалось одной фразой: «Фюреру вкратце доложено о совещании по поводу расщепления атома и об оказываемом нами содействии». И эта строка – единственное документальное свидетельство того, что Гитлер хоть что-то знал о планах и предложениях немецких физиков.
Довольно многие считают, что именно совещание 4 июня положило конец атомному проекту Третьего рейха. Наверное, все же это не совсем верно. Гейзенберг не хотел всецело отдавать себя гигантской работе, исход которой был для него туманен: в то время он еще многого не знал, и ему пока не удалось осуществить управляемую цепную реакцию. Позже, когда Гейзенбергу стало известно, какие силы и средства брошены на разработку и производство реактивных снарядов «Фау-1» и баллистических ракет «А-4» («Фау-2»), он испытал досаду от того, что атомному проекту не придается такого же значения. Но винить в этом он должен был только самого себя. В 1945 году Гейзенберг говорил: «Весной 1942 года у нас не было моральной смелости рекомендовать правительству отрядить на атомные работы сто двадцать тысяч человек». Однако необходимо понимать главное: если бы Гейзенберг и его коллеги сумели осуществить самоподдерживающуюся цепную реакцию в начале 1942 года, ничто не удержало бы их от следующего шага. При этом они обрели бы необходимую уверенность, а с нею и приоритетную поддержку властей.
В тот же день, 23 июня, когда фюрер слушал доклад Альберта Шпеера, в лейпцигской лаборатории всё внезапно вышло из-под контроля. Шаровидный реактор двадцать дней покоился в чане с водой. Вдруг вода заклокотала. Из глубины побежали пузыри. Происходило что-то странное. Георг Дёпель взял пробу пузырей и обнаружил водород. Значит, где-то возникла течь, и уран среагировал с водой.
Через некоторое время пузыри исчезли, всё успокоилось. Тем не менее Дёпель решил извлечь реактор из чана, чтобы посмотреть, сколько воды проникло внутрь. Тот же лаборант, который ранее пострадал от пожара, ослабил колпачок штуцера. Послышался шум. Воздух с силой втягивался внутрь, словно там, в центре шара, образовался вакуум. Через три секунды воздушная струя внезапно устремилась вверх. Из длинной трещины вырвался раскаленный газ. Тут и там замелькали искры, вылетали горящие крупицы урана. Вслед взметнулось и пламя. Вокруг него плавился алюминий. Пожар усиливался. Дёпель, прибежавший на помощь, начал тушить пламя водой, но огонь не убывал. Лишь с трудом его удалось сбить. Зато из трещины теперь непрерывно валил чад, а ее площадь быстро росла. Предчувствуя катастрофу, Дёпель велел немедленно выкачивать тяжелую воду, чтобы спасти хоть какую-то часть реактора. Саму «урановую машину» вновь опустили в чан с водой. Гейзенберг, заглянув в лабораторию, увидел, что ситуация под контролем, и отправился проводить семинар.
В действительности ситуация развивалась по катастрофическому сценарию. Температура реактора росла. К вечеру Гейзенберг завершил семинар и вернулся в лабораторию. Реактор продолжал накаляться. Его создатели напряженно вглядывались в воду, как вдруг всё в лаборатории затряслось. Не рассуждая больше, оба ученых опрометью выскочили из помещения. Через секунды грохнул сильнейший взрыв. Струи пылающего урана разлетались повсюду, здание охватил огонь. Пришлось срочно вызывать пожарную команду.
Оба ученых спаслись в тот день чудом. Большая часть их лаборатории была разрушена, все запасы урана и тяжелой воды – утрачены. Отчитываясь перед начальством, Дёпель советовал в будущем использовать только твердый уран, а не его порошок, который так бурно реагирует в контакте с водой. Впрочем, его соображения не были новостью. Еще год назад Николай Риль направил в Управление вооружений циркуляр, в котором обращал внимание на коварные свойства порошкового урана.
Последняя попытка
В июне 1942 года началась очередная реорганизация. Теперь Научно-исследовательским советом и всеми работами по атомному проекту стал руководить сам рейхсмаршал Герман Геринг. При нем был создан и особый «президиум», куда вошли министры, высшие офицеры и руководители партии, в том числе Генрих Гиммлер. Но в президиуме не было ни одного ученого.
Нацистские бонзы принялись восстанавливать пошатнувшееся реноме немецкой науки. Ученые встретили реформы с опаской. Они прекрасно помнили, что благодаря активности этих самых бонз в период с 1933 по 1936 год было уволено 40 % университетских профессоров. Другие, опасаясь преследований по расовому признаку, покинули Германию. Среди изгоев были ведущие физики страны, в том числе те, кто делал сейчас в Америке атомную бомбу.
Профессор Пауль Хартек принял кадровые перестановки и переподчинения в штыки, считая их катастрофой. Он узнал, что большой реактор решено строить в Берлине, и понял, что его собственным экспериментам в Гамбурге приходит конец. Между тем опыты с центрифугой завершались. 1 июня 1942 года вместе с доктором Вильгельмом Гротом Хартек разделил изотопы ксенона. На очереди был гексафторид урана.
26 июня Пауль Хартек написал в Управление вооружений сухопутных войск, умоляя поддержать его план. «Урановые машины» могут быть двух типов, сообщал он. Машина первого типа состоит из 5 тонн обычного металлического урана и 5 тонн тяжелой воды. Машина второго типа содержит меньше урана и тяжелой воды, зато уран обогащен изотопом уран-235. Опыт покажет, какие из этих машин целесообразнее строить. Однако нельзя не отметить, что машины второго типа более компактны, поэтому ими будет удобнее оборудовать боевые транспортные средства типа субмарин. Кроме того, они более пригодны для производства «взрывчатых веществ». До сих пор обогащение урана казалось неразрешимой проблемой. Но вот теперь опыты Вильгельма Грота с «ультрацентрифугой» обнадеживают нас, и при успешном их завершении мы можем «со всей энергией взяться за создание машин второго типа».
Не дожидаясь ответа, ученые продолжили свои эксперименты. В начале августа 1942 года барабан центрифуги впервые заполнили гексафторидом урана. Во время первых опытов степень обогащения урана-235 составила 2,7 %. Через четыре дня скорость центрифуги увеличили – коэффициент вырос до 3,9 %. Хотя Хартек надеялся на лучшее, полученные показатели всё же внушали надежду: согласно расчетам Гейзенберга, достаточно обогатить уран-235 до 11 %, и тогда тяжелую воду в реакторе можно будет заменить обычной. Следовательно, надо выстроить батарею центрифуг для ступенчатого обогащения урана.
Идея понравилась и профессору Абрахаму Эзау, и Герману Герингу. Впрочем, Эзау в отличие от своего высокопоставленного патрона вовсе не хотел превращать идею «обогащения урана» в идею создания атомной бомбы. Нет, он не был пораженцем или пацифистом – он лишь любил покой и почет, не соглашаясь променять их на тяжелый труд. Когда молодой профессор Отто Хаксель из Научно-исследовательского центра Военно-морских сил завел однажды разговор о бомбе, Эзау немедленно цыкнул на него: «Вы что, не понимаете?! Если фюрер заинтересуется ей, мы все до конца войны будем сидеть за колючей проволокой и делать эту чертову бомбу! Не надо больше о ней говорить. Пусть все считают, что „урановая машина“ и есть подлинная цель нашего проекта».
Пока же не получалось и с «урановой машиной». Вернер Гейзенберг полагал, что для возбуждения цепной реакции в реакторе нужно как минимум пять тонн тяжелой воды. К концу июня 1942 года фабрика в Рьюкане изготовила всего 800 килограммов, то есть лишь шестую часть необходимого количества. Напомним, что уже два года фабрика была в руках немцев: при таких темпах производства говорить о расширении атомного проекта было просто бессмысленно.
В середине июля ведущие физики вновь обсудили, можно ли построить подобную фабрику в Германии. Вспомнили, что под Мюнхеном есть установка, способная выпускать до 200 килограммов тяжелой воды в год. Но там работают с обычным водородом. А что, если обогащать его дейтерием? Тут, правда, вмешался Пауль Хартек, напомнив, что расходы энергии будут очень велики, но его не слушали. Наоборот, вспомнили еще и гидроэлектростанцию в итальянском Мерано, где тоже можно развернуть производство. Оптимистичный расчет показывал, что совокупно можно будет получать до 1,5 тонны в год. Поэтому решено было действовать по всем направлениям.
Впрочем, и с ураном дела обстояли немногим лучше. Франкфуртской фирме «Дегусса» удавалось выпускать по тонне очищенного урана в месяц. Но годовые отчеты удручали: в 1940 году произведено 280,6 килограмма урана, в 1941 году – 2459,8 килограмма, в 1942 году – 5601,7 килограмма. При этом технологический процесс был прост, и объяснить неудачи можно лишь двумя причинами. Во-первых, постоянные перебои с сырьем, а во-вторых, к концу 1942 года атомный проект потерял первостепенное значение, и фирма «Дегусса» стала испытывать из-за этого проблемы со снабжением: стало трудно доставать запасные детали, новые вакуумные насосы, медь для трансформаторов и тому подобные элементы нормальной индустрии. Но худшее было еще впереди.
С начала 1940 года Вернер Гейзенберг числился научным консультантом Физического института Общества имени кайзера Вильгельма, что, конечно, не соответствовало репутации прославленного ученого. Летом 1942 года Карл фон Вайцзеккер и Карл Вирц наконец убедили руководителей Общества в том, что нобелевского лауреата подобает считать «фактическим директором» института. Обойтись без оговорки было нельзя, поскольку недавний директор Петер Дебай, уехав в США, так и не подал в отставку. Гейзенберг мог лишь «исполнять его обязанности», чем и стал заниматься с 1 октября 1942 года. Что же до прежнего «исполняющего обязанности», Курта Дибнера, то он надолго убыл в Готтов, где находился полигон Управления вооружений сухопутных войск. В итоге Гейзенберг и Дибнер стали непримиримыми врагами, за каждого из них выступала партия сторонников, которые отчаянно интриговали и писали доносы на конкурентов.
Доктор Курт Дибнер не был великим теоретиком, и сравнивать его с Гейзенбергом невозможно. Зато он был хорошим экспериментатором, обладал здравым практичным умом, и Гейзенберг своей неторопливостью давно раздражал его. Теперь отставленный от дел Дибнер сам решил построить реактор.
Его модель «урановой машины», построенная в Готтове, резко отличалась от конструкции Гейзенберга. Дибнер был уверен, что из урана надо изготавливать не цельнолитые пластины, а кубики – так, чтобы ядерное топливо было со всех сторон окружено замедлителем. Вот только для своего опыта Дибнеру не удалось разжиться ни металлическим ураном, ни тяжелой водой. Он использовал оксид урана (25 тонн), а в качестве замедлителя применил парафин (4,4 тонны). Внутри алюминиевого цилиндра его лаборанты соорудили «соты» из парафина и заполнили каждую ячейку кубиками оксида урана (всего их было 6802 штуки). Алюминиевую махину опустили в бетонированную яму, залитую дистиллированной водой, которая служила «отражателем». В реакторе имелись различные канальцы, в них разместили источники нейтронов и приборы.
Результат эксперимента оказался отрицательным: размножение нейтронов не удалось зафиксировать. Иного и не могло быть, раз опыт проводился с оксидом урана и парафином. Зато было доказано преимущество металлических кубиков над пластинами. В конце ноября 1942 года Курт Дибнер подготовил секретный «Отчет об эксперименте с оксидом урана и парафином, проведенном на полигоне Управления вооружений сухопутных войск».
Тем временем в Физическом институте затевали свой грандиозный эксперимент. На него готовились потратить 1,5 тонны тяжелой воды и 3 тонны урановых пластин. Начались долгие обсуждения, уточнения, проверки. Как уберечь институт от взрыва? Как избежать коррозии урана, его разъедания водой? Может быть, позолотить урановые пластины? Но золото поглощает слишком много нейтронов. Можно быть, нанести покрытие из никеля и хрома? Но оно должно быть стойким и однородным. Может быть, использовать вместо тяжелой воды тяжелый парафин, в котором атомы водорода заменены дейтерием? Но при расщеплении урана возникают альфа-частицы, и каждая из них разрушала бы до ста тысяч молекул парафина.
Никто из немецких физиков почему-то не догадался, что пластины можно было поместить внутри металлических «оболочек», стойких к коррозии и мало поглощающих нейтроны. Американцы пошли именно по этому пути, и 2 декабря 1942 года в Чикаго был пущен первый в мире ядерный реактор.
24 ноября 1942 года Абрахам Эзау обратился к новому начальству с предложением централизовать все работы по атомному проекту.
Профессор Рудольф Менцель, один из помощников Германа Геринга, втолковывал своему шефу: урановыми исследованиями занимаются все ведущие физики мира и особенно – американцы. Менцель предложил рейхсмаршалу назначить Эзау своим «уполномоченным по ядерной физике». Пусть тот и не физик-ядерщик, он все же хорошо разбирается в этой науке, но, главное, он сумеет найти компромисс между враждующими группами.
Уговоры возымели действие. Геринг подписал соответствующий приказ:
Я назначаю Вас моим уполномоченным по всем вопросам ядерной физики и прошу Вас уделить особое внимание следующим вопросам:
1. Продолжение работ в области ядерной физики с целью полезного использования ядерной энергии урана.
2. Изготовление люминесцентных красок без применения радия.
3. Изготовление мощных источников нейтронов.
4. Исследование мер безопасности при работе с нейтронами.
Несмотря на ясное выделение приоритетов, весь следующий год немецкую физику лихорадило – слишком много врагов оказалось у Абрахама Эзау. Физики всё больше погрязали в дрязгах и склоках вместо того, чтобы подчинить свои силы, ресурсы и интеллект единой цели.
4 февраля 1943 года председатель Общества имени кайзера Вильгельма, доктор Альберт Феглер, пригласил к себе Эзау и Менцеля. Он предложил им определиться, какими работами в области ядерной физики займется его Общество, а какими – Эзау с подчиненными ему учеными. К единому мнению сразу прийти не удалось, и атомный проект приостановился. Его участники изнывали от непрестанных раздоров.
Диверсия в Норвегии
В конце 1941 года Йомар Брун, работавший на заводе «Норск гидро» в должности главного инженера, узнал, что немцы приказали его фирме значительно расширить производство тяжелой воды. В начале января должен был начаться монтаж нового оборудования.
Однажды, находясь на Веморкской гидроэлектростанции, Брун воспользовался ночной сменой и сделал копии с секретных чертежей оборудования для производства тяжелой воды. Неделю спустя он встретился с молодым норвежцем Эйнаром Скиннарландом, сочувствующим Сопротивлению. Брун сообщил ему о приказе нацистов увеличить производство тяжелой воды и передал чертежи нового оборудования. Чтобы переправить материалы в Англию, пять местных патриотов решились на дерзкий шаг и 15 марта 1942 года захватили пароход «Гальтензунд». Через три дня норвежцы были в Лондоне.
Эйнар Скиннарланд оказался сущей находкой для британской разведки, которая давно интересовалась немецким атомным проектом. Он не только жаждал помогать союзникам по антигитлеровской коалиции, но и оказался жителем Рьюкана. Чтобы никто не успел обратить внимание на его отсутствие, требовалось как можно скорее переправить Скиннарланда назад. Он прошел ускоренное обучение на специальных курсах, и ранним утром 29 марта его сбросили с парашютом в Норвегии.
Вскоре новоиспеченный агент через Швецию сообщил об установлении прямого контакта с некоторыми техниками завода «Норск гидро» и с главным инженером Йомаром Бруном, а Лондон получил более ясную картину того, какой приоритет придают немцы увеличению производства тяжелой воды. По просьбе разведки Брун добыл чертежи и фотографии всего завода, а также узнал детали того, как немцы планируют увеличить производство тяжелой воды. Материалы были скопированы на микропленку, которую спрятали в тюбик зубной пасты и с курьером переправили через Швецию в Англию.
Насколько точно первоначальные разведывательные данные отражали истинное положение дел, остается открытым вопросом. Во всяком случае, в 1944 году Пауль Хартек считал, что «меры по предупреждению саботажа, принятые на заводе, подчинение завода военным инстанциям и то давление, которое они оказывали с целью ускорения работ, привели к тому, что норвежцы переоценили важность производства тяжелой воды для военных целей». Йомара Бруна тревожила возможность того, что тяжелая вода в конце концов может быть использована для создания оружия. Хотя немецкие физики, работавшие с ним, заверяли, что их деятельность направлена на развитие энергетики в послевоенной Германии, Брун продолжал сомневаться.
В июле 1942 года британский военный кабинет указал объединенному командованию на необходимость срочной атаки завода тяжелой воды «Норск гидро». Возможность уничтожения завода с воздуха была решительно отвергнута: в таком случае риску подвергались местные жители. Аргумент оказался решающим, и объединенное командование обратилось к начальнику штаба специальных операций. Норвежский отдел штаба сообщил, что им уже подготовлена диверсионная группа. Ее забросят в Норвегию, как только сложатся благоприятные условия. Диверсанты устроят базовый лагерь на пустынном плато Хардангервидда, примерно в 50 километрах к северо-западу от Рьюкана. Кроме нее, объединенное командование планировало отправить на планерах десант из солдат инженерных войск Первой воздушной дивизии. Им предстояло высадиться неподалеку от озера Мёсватн, питающего водой гидростанцию в Веморке, сгруппироваться на шоссе, проходящем по плато к Рьюкану, и в полной военной форме атаковать завод. Взорвав его, они должны были попытаться уйти в Швецию. Операции было присвоено название «Новичок».
Головная группа «Тетерев», состоявшая из четырех норвежцев, была сброшена на парашютах 18 октября. Двое суток им пришлось разыскивать и собирать сброшенное вслед за ними оружие, оборудование и провиант. Началась сильнейшая метель, связь со штабом наладить не удалось. После нескольких дней форсированного марша группа добралась до места своего базирования. Радист снова попытался связаться с Лондоном и почти преуспел в этом, когда сел аккумулятор. Свежий аккумулятор удалось заполучить в Мёсватне у брата Эйнара Скиннарланда, смотрителя Веморкской плотины. Потом четверка норвежцев соорудила хорошую радиомачту, и они снова стали вызывать Лондон. Но и на этот раз их постигла неудача – вышел из строя приемопередатчик. Только 9 ноября контакт со штабом специальных операций был наконец налажен.
В это время из Норвегии сбежал главный инженер Йомар Брун. Перед побегом ему удалось отобрать множество заводских документов и чертежей. 24 октября, прихватив с собой документы, он перешел границу, затем перебрался в Швецию, а оттуда на самолете в Англию. Официально было объявлено, что он поехал «на неделю в горы, чтобы навестить своих родителей». Брун стал советником по техническим вопросам в деле подготовки нападения на завод «Норск гидро».
Диверсанты провели разведку и 9 ноября доложили, что в районе расквартирован немецкий гарнизон, а все объекты – завод по производству тяжелой воды, электростанция и трубы – хорошо охраняются. Тем не менее операцию все-таки решено было довести до логического конца: Брун уверял, что тяжелая вода имеет принципиальное значение для дальнейшего развития немецкого атомного проекта.
В десантную группу «Новичка» вошли 34 специально обученных сапера-добровольца под командованием лейтенанта Месвена. Вечером 19 ноября их погрузили на два планера «Хорсас», каждый из которых буксировал бомбардировщик «Галифакс». Хотя прогноз погоды был благоприятным, пилот первого бомбардировщика не смог найти место, предназначенное для высадки, и повернул назад. Смена курса обернулась трагедией. В шестидесяти километрах западнее Рьюкана сцепка попала в тяжелую облачность, и вскоре началось обледенение. Когда самолет и планер пересекли береговую линию, буксирный трос лопнул. С борта «Галифакса» коротко сообщили о падении планера в воду. В действительности он разбился на северном берегу фиорда Лизе. Оба летчика планера, командир отряда и семь членов экипажа погибли на месте, четверо получили при падении серьезные ранения. Немцы взяли их в плен, отвезли в госпиталь, а затем на допрос в штаб. После этого врач отравил раненых. Трупы с привязанными к ним камнями были выброшены в море. Пятеро диверсантов при приземлении отделались легкими ушибами. На следующий день они попытались скрыться, добрались до ближайшей фермы, но были там окружены и взяты в плен. Поскольку в то время действовал приказ Гитлера, требовавший уничтожать диверсантов на месте, англичан расстреляли.
Вторая сцепка летела над Северным морем на небольшой высоте, стремясь все время оставаться под облаками. Они пересекли береговую линию в районе Эгерсунда и, не успев пролететь и двух десятков километров вглубь, врезались в горный склон. Все шестеро членов экипажа бомбардировщика и трое из тех, кто был на планере, погибли; несколько человек получили тяжелые ранения. Обломки самолета и планера лежали далеко друг от друга: возможно, в последние мгновения пилот «Галифакса», стремясь во что бы то ни стало набрать высоту, отцепил планер. Утром на место катастрофы подоспели немецкие войска. Они захватили четырнадцать оставшихся в живых десантников. Офицер немецкой контрразведки обнаружил «значительное количество материалов, необходимых для организации диверсионных актов, и соответствующего оборудования» и убедился, что «целью, несомненно, являлось совершение диверсионного акта». Захваченные диверсанты были доставлены в штаб немецкого батальона в Эгерсунде. Здесь им устроили короткий допрос, в ходе которого они сообщили лишь свои имена, звания и служебные номера. Их ждала та же участь, что и товарищей, – расстрел.
Поспешные казни вызвали возмущение гестапо, офицеры которого очень хотели бы узнать цель высадки. Впрочем, сложить один и один было нетрудно. Немцы оцепили и прочесали район, где намечалась высадка десанта. Англичан они там не обнаружили, но арестовали много норвежцев, у которых нашли оружие или радиоприемники. Более того, 9 декабря в Рьюкане немцы объявили ложную воздушную тревогу, и двести солдат обыскали все дома, пока их владельцев держали в бомбоубежищах. Позднее гарнизон в Рьюкане получил новые подкрепления, а вокруг завода начали создавать минные заграждения.
Отряд «Тетерев» терпеливо продолжал посылать информацию в Лондон, оставаясь среди снегов. Ситуация осложнялась еще и тем, что трое из четверых десантников простудились. Сухие пайки кончались, приходилось есть ягель.
Тем временем в британском штабе специальных операций прорабатывали новый план диверсии. Благодаря документам, привезенным Йомаром Бруном, у разведки появился общий план завода. Одной из важнейших подробностей стало сообщение Бруна о тайном и никем не охраняемом кабельном вводе, по которому диверсанты могли бы незаметно проникнуть в здание.
Вскоре было получено одобрение от военного кабинета плана операции небольшой диверсионной группы. Норвежцу Иоахиму Рёнебергу было поручено подобрать пять хороших лыжников, которые пошли бы с ним. Все они были добровольцами и прошли специальную подготовку. План операции, получившей условное наименование «Ганнерсайд», заключался в следующем. Диверсантов должны забросить в Норвегию, где они соединятся с четырьмя членами головной группы. Они должны дойти до Рьюкана и взорвать завод «Норск гидро» в Веморке. После диверсии четырем десантникам предстояло остаться в Норвегии, а остальным под командой Рёнеберга – попытаться уйти в Швецию.
Поскольку для успеха операции диверсантам необходимо было уметь опознавать оборудование объекта, в одной из хорошо охраняемых казарм на территории спецшколы построили точный макет помещений завода тяжелой воды. Диверсанты упорно и непрестанно тренировались, отрабатывая технику закладки зарядов даже в полной темноте и буквально на ощупь изучая расположение оборудования. Они сами приготовили два полных комплекта зарядов и детонаторов. В каждом комплекте было по восемнадцать зарядов, то есть по одному на каждую из восемнадцати ячеек электролиза.
23 января 1943 года состоялась первая попытка высадить новую группу диверсантов на плато Хардангервидда. Бомбардировщик, доставивший к цели шестерку смельчаков, два часа кружил над территорией, но так и не увидел сигнальных ракет, которые должны были запустить десантники «Тетерева». Раздосадованным неудачей норвежцам оставалось только ждать новой возможности.
К 16 февраля, когда шестерку снова доставили на аэродром, некоторые детали операции пришлось срочно поменять, так как передовой группе удалось получить самые последние данные о расположении всех караульных постов в Веморке и передать их в Лондон. Из этих данных следовало, что немцы явно ожидают нападения на завод. Поэтому было важно, чтобы самолет с десантом ни в коем случае не пролетел вблизи Рьюканской долины или плотины в Мёсватне. Новое место высадки было перенесено к озеру Скрикен.
На этот раз полет и высадка прошли без осложнений. Всю ночь напролет в начинающемся буране диверсанты разыскивали сброшенные за ними контейнеры, перетаскивая их к одинокой охотничьей хижине на берегу озера Скрикен. К утру поднялась пурга и замела все следы. Хотя через сутки после вылета группа достаточно отдохнула, чтобы двинуться в путь, сильный ветер, обрушившийся на плато, заставил диверсантов еще почти неделю прятаться в хижине.
Радостная встреча с десантниками из группы «Тетерев» состоялась около озера Каллунгсьё. Вместе они добрались до базового лагеря, откуда до Рьюкана оставалось около тридцати километров. Согласно последним разведывательным сведениям, в бараке, расположенном между турбинным залом и зданием электролизного завода, находились пятнадцать немцев, а за узким мостом, переброшенным через ущелье, местные жители видели еще два караульных поста. Смена караула производилась через каждые два часа. Если объявлялась тревога, на территорию завода посылали три дополнительных патруля, а дорогу, серпантином спускавшуюся из Веморка, освещали прожекторами. Помимо немецких часовых, на заводской территории дежурили два норвежских ночных сторожа, а еще двое находились у главных ворот и у водяных затворов. Все двери электролизного завода, кроме одной, выходившей во двор, держали на замке.
26 февраля группа диверсантов, одетых в белые маскхалаты, наконец-то выдвинулась к Веморку. В месте базирования остались двое. Под покровом темноты десантники добрались до исходного рубежа – двух хижин, затерявшихся в лесах на горном склоне к северу от Рьюкана. Еще день ушел на разведку и планирование отхода с учетом усиления немецких постов.
Вечером 27 февраля группа отправилась в рейд. У подвесного моста они свернули с дороги, которая в этом месте вилась особенно крутыми петлями, и, сокращая путь, стали спускаться прямо по склону. В Веморке кончилась вечерняя смена, и мимо диверсантов проехали два автобуса с рабочими. У просеки, по которой проходила линия электропередачи, группа свернула направо в лес. Здесь диверсанты скинули маскхалаты, сложили лыжи, рюкзаки, припасы – теперь на них оставалась только английская форма. Они взяли с собой оружие, ручные гранаты, ножницы для разрезания колючей проволоки, мотки веревки. Начался спуск по скале. Неожиданно потеплело, и от каждого шага в ущелье срывались снежные лавины.
Спуск прошел благополучно. Диверсанты вброд перешли через полузамерзшую речушку и подошли к почти отвесной скале, по которой предстояло подняться к станции. Шум воды, идущей сквозь турбины, все усиливался. Наконец, едва дыша от усталости, группа выбралась наверх. До станции оставалось несколько сот шагов по прямой. Но где-то здесь находилось минное поле. Перешеек скального выступа был столь узок, что почти весь был занят полотном железной дороги, соединявшей Веморк с Рьюканом и кончавшейся у озера Тинсьё. Здесь диверсанты разделились на группу прикрытия и группу подрыва. Первой предстояло проделать проход в заграждении и занять позиции, с которых в случае тревоги можно было встретить немцев огнем. Второй следовало проникнуть в здание электролизного завода. На крайний случай оставался кабельный ввод, который описал Йомар Брун.
Диверсанты ступали след в след по глубокому снегу. Перерезали цепь, запиравшую ворота, взяли под контроль караульную будку. Группа подрывников проделала проход в заграждении неподалеку от железнодорожного моста. Незамеченными подрывники подобрались к зданию электролизного завода. Но двери оказались запертыми. Пользуясь указаниями Бруна, двое диверсантов отыскали кабельный ввод и проникли в здание. Они шли по туннелю до тех пор, пока не увидели через колодец помещение с аппаратами высокой концентрации тяжелой воды. Там был всего лишь один рабочий. Диверсанты прошли по колодцу в соседнее помещение и только здесь выбрались на поверхность. Дверь в помещение завода высокой концентрации оказалась незапертой, и они захватили норвежца-рабочего врасплох. Один диверсант держал его под дулом пистолета, а Иоахим Рёнеберг начал закладывать заряды. Теперь он воочию мог убедиться, что модели, изготовленные штабом специальных операций, на которых они тренировались в Англии, ничем не отличаются от настоящих ячеек. Не успел Рёнеберг заминировать и половины ячеек, как у его ног раздался звон разбитого стекла: отставший подрывник выламывал снаружи подвальное окно. Рёнеберг помог ему проникнуть внутрь. Теперь они уже вдвоем завершили закладку зарядов под каждую из восемнадцати электролизных ячеек, сделанных из прочной нержавеющей стали. К каждому заряду они подводили быстродействующие запалы, а к ним – запалы более длительного действия.
В два часа ночи все было готово. Диверсанты крикнули рабочему, чтобы тот уходил, отперли подвальную дверь, раскидали по полу свои «визитные карточки» – несколько значков английских парашютистов – и начали поджигать запалы. Они не успели отбежать и двух десятков шагов от электролизного завода, как грохнул взрыв.
Когда на крыше завода взвыла сирена воздушной тревоги, группа прикрытия и группа подрыва успели соединиться и выйти к полотну железной дороги. Вскоре десантники начали спуск в ущелье.
Диверсия была исполнена блестяще. Дно каждой из электролизных ячеек было отбито, и бесценная жидкость затопила все стоки. Еще больше увеличило ущерб то, что разлетевшиеся по помещению осколки пробили трубы охладительной системы и через все помещение били бесчисленные струи обычной воды, которая быстро разбавила и смыла остатки воды тяжелой. Уйти от погони диверсантам помогла очередная снежная буря, бушевавшая двое суток. Все они благополучно добрались до Англии.
В связи со взрывом немцы арестовали пятьдесят человек. Их неоднократно допрашивали, но и они не сообщили ничего, что могло бы пролить свет на подробности диверсии. По итогам расследования в Рьюкане были приняты дополнительные жесткие меры охраны. До конца войны там не работала телефонная станция и никому не разрешалось выезжать из города по железной дороге. Рьюкан перевели на частичное военное положение, установили комендантский час. На дорогах ввели новые контрольные посты, еще больше усилили минные заграждения вокруг электростанции.
По оценкам английских экспертов, немцы могли бы возместить ущерб не ранее чем через два года. Фактически при взрыве из-за разрушения ячеек было потеряно около тонны тяжелой воды с концентрацией от 10,5 до 99,3 %, что эквивалентно 350 килограммам чистой тяжелой воды. Перед самым взрывом на заводе были завершены работы по модернизации и расширению: производство намечали повысить до 150 килограммов, а в следующем месяце – до 200 килограммов. Теперь весь март пришлось потратить на ремонт оборудования. При этом главный инженер Альф Ларсен всячески старался увильнуть от работы.
Завод «Норск гидро» пустили вновь лишь 17 апреля, а на выпуск первой партии тяжелой воды пришлось потратить еще несколько месяцев.
На грани краха
Судьба немецкого атомного проекта повисла на волоске. Поставки тяжелой воды из Норвегии полностью прекратились. Еще в ноябре 1942 года доктор Карл Вирц объездил всю Европу в поисках подходящих фабрик, которые после быстрого переоборудования могли бы начать ее выпуск. Более или менее подходящими ему показались лишь два итальянских заводика, занимавшиеся электролизом: близ Мерано и в Котроне. Однако технология, которая там использовалась, мало годилась для выпуска тяжелой воды, и их мощность была вдвое меньше, чем у норвежского завода.
Между тем в конце марта 1943 года истощился еще один важный источник финансирования: Управление вооружений сухопутных войск свернуло свое участие в атомном проекте и даже, вопреки всем договоренностям, отказалось выделить два миллиона рейхсмарок, которые уже были заложены в бюджет. Тень Сталинграда зловеще легла на планы немецких физиков. Больше всех от изменения планов пострадал Курт Дибнер: ему разрешили продолжить эксперименты в Готтове, но попросили покинуть служебный кабинет. Теперь Дибнер подчинялся своему неумолимому врагу – профессору Абрахаму Эзау.
Готовя новый эксперимент, Дибнер обратился на фабрику «Дегусса», выпускавшую теперь вместо порошкового урана металлические пластины, и попросил изготовить партию кубиков из урана с длиной стороны 6,5 сантиметра. Однако фабрика массово изготавливала пластины из урана и отказалась выполнить «спецзаказ». Чтобы максимально использовать металл, Дибнер изготовил из пластин кубики меньших размеров с длиной грани 5 сантиметров.
Год назад, ревниво наблюдая за опытом Вернера Гейзенберга, Дибнер размышлял о том, что из-за алюминиевой оболочки нельзя точно измерить размножение нейтронов. Поэтому теперь он решил вообще обойтись без нее. Надо заморозить тяжелую воду, и внутри этой ледяной глыбы выстроить решетку из урановых кубиков. Это и было сделано. 232 килограмма урана и 210 килограммов «тяжелого льда» заключили в парафиновый шар диаметром 75 сантиметров. Эксперимент проводился при температуре минус 12 градусов.
Опыт удался: «коэффициент размножения нейтронов» был гораздо выше, чем показывали эксперименты его коллег. Похоже, что схема, предложенная Куртом Дибнером (решетка из кубиков металлического урана), оказалась лучше (или хотя бы не хуже) традиционной схемы (чередование слоев урана и замедлителя).
Группа Дибнера готовила два новых эксперимента, чтобы узнать, как влияют на размножение нейтронов размеры реактора и температура. В первом случае эксперимент проводился при нормальной температуре, но реактор был тех же размеров, что и прежде. Во втором случае реактор увеличили вдвое, зато температуру не меняли.
Однако Вернер Гейзенберг не спешил признавать успех Курта Дибнера. Выступая на совещании в Берлине 6 мая 1943 года, всего через несколько дней после столь блестящего опыта, он всячески превозносил свое достижение годичной давности, а работы Дибнера интерпретировал так: «Вся его заслуга лишь в том, что он использовал более качественную аппаратуру. Это помогло ему достичь тех же результатов, которых достигли мы». Главное же – Гейзенберг даже не упомянул, что конструкция реактора Дибнера была совершенно иной.
Совещание, на котором выступал Вернер Гейзенберг, проходило в стенах Германской академии воздухоплавания. Помимо него здесь слушали Отто Гана (открытие расщепления ядра и его значение), профессора Карла Клузиуса (способы разделения изотопов урана-235), профессора Вальтера Боте (проекты циклотронов и бетатронов). Гейзенберг говорил не только об опытах своего строптивого коллеги и не столько о них, сколько об устройстве атомной бомбы. Его слова, как всегда, были доступны и понятны неподготовленным слушателям. Вот он заботливо показывает диапозитив, на котором изображено то, что случится, если «изготовить большое количество урана-235». Нейтроны начнут беспрестанно размножаться. Если кусок урана-235 достаточно велик, то внутри него образуется столько нейтронов, что они не успеют покинуть поверхность металла. Большая часть вещества мгновенно расщепится. Все займет какую-то долю секунды, и за эту долю секунды высвободится неимоверное количество энергии. Теперь понятно, заключал Гейзенберг, почему так важны успешные опыты с ультрацентрифугой, которые проводил в прошлом году профессор Пауль Хартек. Сторонники немецкой атомной бомбы могли лишь сожалеть, что видные военные и политики не присутствовали на увлекательной лекции.
По итогам конференции была выпущена печатная брошюра объемом восемьдесят страниц, снабженная прекрасными фотографиями и диаграммами. К партийным и военным руководителям она не попала – министр Альберт Шпеер приказал уничтожить весь тираж, опасаясь, что какое-то количество экземпляров может попасть в руки английских разведчиков.
В июне 1943 года немцы снова стали получать тяжелую воду из Норвегии: всего в этом месяце было доставлено 199 килограммов. Однако в июле выработка опять снизилась – 141 килограмм. Произошло следующее. Выпуск тяжелой воды не был главной статьей доходов для фирмы «Норск гидро». Здесь прежде всего путем электролиза получали водород, который был нужен для изготовления искусственного аммиака. Аммиак поставлялся на фабрику «Херёй», выпускавшую удобрения. 24 июля американская авиация разбомбила фабрику, поэтому норвежцы сократили производство аммиака, а значит, водорода и тяжелой воды.
Немецкие власти были возмущены самоуправством меркантильных норвежцев и потребовали, чтобы тяжелую воду выпускали вне зависимости от заказа, а лишний водород попросту стравливали в воздух. Однако генеральный директор фирмы «Норск гидро» Бьёрн Эриксен с отчаянным упорством отказывался подчиниться приказу и выбрасывать на ветер дорогостоящий газ. Больше того, он порекомендовал совету директоров полностью прекратить выпуск тяжелой воды, поскольку ее производство делает фабрику желанной целью для вражеской авиации. В итоге Эриксена арестовали и отправили в концлагерь, где он и пробыл до конца войны. Его решение было отменено.
Летом 1943 года массированные налеты авиации стали мешать работам над атомным проектом и внутри Германии. Бомбы то и дело сыпались на лаборатории, в которых немецкие физики готовились к важнейшим опытам. Проблемы нарастали как снежный ком. К примеру, из-за нехватки надежных уплотнений дважды заканчивались неудачей опыты в лаборатории Пауля Хартека: оба раза барабан центрифуги взрывался. Наконец, в июле 1943 года из-за непрестанных бомбардировок лабораторию пришлось перевести во Фрайбург.
Так же неудачно шли испытания «изотопного шлюза», придуманного Эрихом Багге. Летом 1943 года начались испытания его опытного образца. Вместо урана пока разделяли изотопы серебра. Легкий изотоп серебра удалось обогатить на 3–5 %. Но опыты не удалось довести до конца. В августе начались массированные воздушные налеты на Берлин. Весь сентябрь Багге занимался эвакуацией Физического института: около трети лабораторий переехали в город Хехинген на юге Германии. В Берлине остался Вернер Гейзенберг: он не мог обойтись без здешней высоковольтной установки. Кроме того, в бункере, находившемся неподалеку от институтского здания, он вместе с профессором Боте продолжал готовиться к своему грандиозному эксперименту с урановым реактором.
В середине октября состоялось очередное секретное совещание. Руководил им Абрахам Эзау. Несколько выступавших, в том числе сам Эзау, говорили об удачном опыте с обогащением ионов серебра. Боте рассказал об эксперименте с небольшими реакторами, состоявшем из урана и тяжелой воды, причем толщина их слоев постоянно варьировалась. Выяснилось, что в будущем реакторе вес урана и тяжелой воды должен быть одинаков. Рудольф Позе и Эрнст Рексер сообщили «об опытах с различными геометрическими конструкциями, состоявшими из оксида урана и парафина». Они выяснили, что из всех возможных форм урановые пластины являются самыми непригодными. Лучше всего зарекомендовали себя кубики из урана, предложенные Куртом Дибнером, затем – урановые стержни.
Тем не менее профессор Гейзенберг и не подумал отказываться от пластин: дело в том, что рассчитать реактор, составленный из них, было гораздо проще, чем реактор, выстроенный из множества кубиков. Впрочем, эксперимент всё равно откладывался: металлурги не могли отлить более тяжелые урановые пластины. Пришлось ждать, когда они сконструируют новую плавильную печь. Была и другая проблема, тоже упомянутая докладчиками: не удавалось найти подходящее покрытие, защищающее уран от коррозии. В лаборатории Эзау экспериментировали с покрытиями из алюминия и олова, но работы пришлось прекратить из-за дефицита урана достаточной степени чистоты. В ноябре 1943 года сотрудники фирмы «Ауэр» обнаружили, что урановые пластины можно защитить с помощью фосфатной эмали. Она выдерживала температуру 150 градусов и давление в пять атмосфер. В конце года фирма начала отливать громадные пластины по заказу Гейзенберга.
16 ноября 1943 года авиация противника, воспользовавшись тем, что на заводе «Норск гидро» больше не выпускают опасный аммиак, подвергла ожесточенной бомбардировке окрестности Рьюкана. Бомбардировка длилась ровно тридцать три минуты. За это время сто сорок «Летающих крепостей» сбросили на гидроэлектростанцию свой груз, а еще полтора десятка бомбардировщиков нанесли удар по Рьюкану. Дымовые генераторы, которые установили вокруг станции сразу же после диверсии, дали нужный эффект: бомбометание оказалось неприцельным и рассеянным, и лишь очень немногие бомбы попали в жизненно важные установки. Погибли двадцать два норвежца, один из них был убит «заблудившейся» бомбой в лесу. Три бомбы угодили в трубопровод станции, две – в водяные затворы наверху, но автоматические задвижки сработали и предотвратили катастрофическое наводнение. В подвесной мост было прямое попадание, но на станцию упало всего четыре бомбы, а в здание электролизного завода – две. Сам завод тяжелой воды, размещенный в цокольном этаже здания, вовсе не пострадал. Тем не менее бомбардировка достигла цели: завод не мог работать без электроэнергии. Осмотрев его после бомбежки, эксперты сообщили в Берлин, что нужно оставить всякую надежду восстановить производство тяжелой воды. Надо было переносить завод в другое, более безопасное место.
К тому времени концерн «ИГ Фарбениндустри» построил на заводах в Лёйне небольшую опытную установку для производства тяжелой воды под условным названием «Сталинский орган», действующую по методу двойного температурного обмена, разработанному Паулем Хартеком. Однако стоимость полного завода подобного типа была неприемлемой: его строительство обошлось бы в 24,8 миллиона рейхсмарок и потребовало бы 10 800 тонн обычной стали, 600 тонн специальных сплавов и несколько сот тонн никеля. Для работы завода пришлось бы ежечасно сжигать 50 тонн бурого угля. Абрахам Эзау побоялся рекомендовать столь дорогостоящий проект вышестоящему начальству.
Тем временем в судьбу атомного проекта неумолимо вмешалась война. Доктор Эрих Багге уже готовился разделять изотопы урана с помощью своего «шлюза», когда после очередной бомбардировки Берлина были уничтожены и сама экспериментальная установка, и все ее чертежи.
Следующим пострадавшим стал Курт Дибнер. Он готовил новый эксперимент, пытаясь оценить размеры атомной «самодействующей машины», когда его враг и начальник Абрахам Эзау написал Герингу следующее: «Планировалось увеличить размеры установки, но ввиду того, что производство тяжелой воды теперь прекратилось, проводить опыт согласно предусмотренному плану нельзя». Больше того, все запасы тяжелой воды у Дибнера изъяли и передали их Гейзенбергу, выбравшему для своего грандиозного опыта самую непригодную схему размещения урана.
Однако и начало эксперимента Гейзенберга тоже откладывалось. Фирма «Дегусса» никак не могла изготовить нужное количество урановых пластин. А потом случилась катастрофа. Франкфурт бомбили всю ночь, и наутро заводские цеха «Дегусса» лежали в руинах. Ни о каком производстве урана там не могло идти речи.
В конце 1943 года профессор Абрахам Эзау, год назад возглавивший довольно успешный проект, был отправлен в отставку. Работы над проектом застопорились. Недоставало сырья, проверенных технологий, сплоченности ученых. Дефицитные ресурсы раздавались по чину и рангу, а не по значимости эксперимента.
2 декабря Герман Геринг подписал указ, назначив с 1 января нового года руководителем всей немецкой ядерной программы мюнхенского профессора Вальтера Герлаха, который еще недавно возглавлял разработку… торпедных взрывателей. Впрочем, среди несомненных плюсов профессора, столь далекого от урановой темы, были его авторитет, ровные отношения с Вернером Гейзенбергом и Отто Ганом, трезвый циничный ум и приверженность идеалам «чистой науки». Уязвленного Эзау рейхсмаршал перебросил на исследования в области высоких радиочастот.
На Вальтера Герлаха немедленно обрушился вал неразрешимых проблем. Он совершал бесконечные поездки из Берлина в Мюнхен и обратно. Проводил совещания с Хартеком, Эзау, Дибнером и Шуманом. Посетил завод «ИГ Фарбениндустри» в Лёйне. Там, в феврале 1944 года, Герлах простудился и заболел. Однако и в таком состоянии исправно ходил на службу, ночи напролет просиживая у себя в кабинете под завывание сирен. В Мюнхене же он жил в квартире, где были выбиты оконные стекла и отсутствовало центральное отопление.
В ночь на 15 февраля произошел очередной воздушный налет на Берлин. Герлах в своем дневнике назвал его «катастрофическим». Бомба угодила точно в здание Химического института, где Отто Ган и его коллеги исследовали продукты расщепления урана. После этого институт перевели в Тайльфинген, местечко на юге Германии, поблизости от Хехингена, где уже находилась большая часть Физического института.
Последний удар
Местом подлинной катастрофы опять стала Норвегия. К концу января 1944 года там полностью подготовили к перевозке в Германию остатки тяжелой воды. Из электролизеров завода «Норск гидро» слили остатки – всего 14 тонн жидкости с концентрацией тяжелой воды от 1,1 до 97,6 %. Жидкость распределили в 39 барабанов. Для охраны транспорта в Рьюкан выслали специальную воинскую команду, а в Берлине Курт Дибнер, который теперь стал заместителем Герлаха, поручил своему помощнику выехать в Норвегию в качестве личного представителя и сопровождать тяжелую воду на всем пути.
Подготовка к вывозу тяжелой воды не ускользнула от внимания агентов английской разведки. В конце первой недели февраля Эйнар Скиннарланд радировал, что отправка состоится в ближайшие дни, поэтому подпольная организация Сопротивления должна получить соответствующие инструкции, если от нее требуются какие-либо действия. Английские власти отреагировали на сообщение с лихорадочной поспешностью. Военный кабинет приказал штабу специальных операций сделать все возможное для уничтожения тяжелой воды. Приказ был передан агенту Кнуту Хаукелиду.
Тот ясно представлял себе, насколько успех операции зависит от точности и подробности информации. Ночью он явился в Рьюкан и пошел к тому, кто мог дать самую лучшую информацию, – к главному инженеру Альфу Ларсену. Агент рассказал Ларсену о своей задаче, и они вместе продумали все варианты уничтожения воды. Единственно возможным казалось уничтожение транспорта – но оно должно было повлечь за собой репрессии против населения. Хаукелид обратился к Скиннарланду, чтобы тот снова запросил Лондон, действительно ли уничтожение тяжелой воды настолько необходимо. Ответ из Лондона пришел в тот же день: тяжелую воду следует уничтожить любой ценой.
И вновь Хаукелид пошел к Ларсену, чтобы обсудить план диверсии. Сначала возникла мысль взорвать расположенный у полотна железной дороги склад динамита как раз в тот момент, когда мимо него пройдет состав с тяжелой водой. Однако этот план имел явные недостатки. Подвесной мост через ущелье был разрушен бомбардировкой, и норвежских рабочих теперь доставляли на станцию по железной дороге: вагоны с тяжелой водой немцы обязательно прицепят к пассажирскому составу. Взрыв динамитного склада привел бы к гибели многих людей, но в то же время не гарантировал полного уничтожения тяжелой воды.
Опасаясь «непредвиденных обстоятельств», немцы не собирались транспортировать тяжелую воду через Норвегию по дорогам. Было решено доставить барабаны в вагонах на железнодорожный паром, который через озеро Тинсьё переправит их в Тинносет. Оттуда тяжелая вода по железной дороге через Нотодден должна быть перевезена в Герёйю, где будет ждать корабль, направляющийся в Гамбург. Избранный немцами маршрут натолкнул норвежцев на новый план: напасть на железнодорожные вагоны где-нибудь на последнем участке пути. Но и он страдал теми же недостатками, что и первый. Кто-то предложил попросить англичан устроить нападение на корабль во время плавания в Германию. А это предложение, в свою очередь, сразу же подсказало еще один план – уничтожить тяжелую воду, когда ее станут переправлять через озеро Тинсьё. Глубина в нем большая, и, если потопить паром в удачном месте, груз никогда не удастся поднять на поверхность.
Альф Ларсен решил участвовать в деле при условии, что ему помогут бежать из Норвегии. Хаукелид обещал устроить побег сразу же после диверсии. Последний план и был принят к исполнению.
Чтобы потопить паром наверняка, следовало приобрести электрические детонаторы. Кнут Хаукелид нанес ночной визит в лавку скобяных изделий в Рьюкане, но вызвал подозрения у хозяина. Через посредника Хаукелид все же приобрел пару дюжин детонаторов и передал хозяину скобяной лавки совет уехать и не показываться в Рьюкане, пока здесь снова не наступит спокойствие.
Взрывчатка в виде толстых коротких шашек была сброшена подполью штабом специальных операций прошедшей осенью, и у Хаукелида ее было более чем достаточно. Теперь ему следовало так рассчитать заряд, чтобы после взрыва паром оставался на плаву совсем недолгое время и не успел добраться до мелководья. В то же время Хаукелид не хотел мгновенной катастрофы, так как она вызвала бы излишние человеческие жертвы. Он решил заложить заряд в корму парома. Тогда взрыв не только создаст пробоину, но и повредит винты и руль – паром не сможет двигаться, и можно будет оставить хотя бы пять минут на спасение людей.
Немцы сделали всё для обеспечения безопасности транспортировки тяжелой воды. В Рьюкан выслали специальную команду из 7-го полицейского полка СС, а Генрих Гиммлер лично приказал эскадрилье из 7-й специальной воздушной группы перебазироваться на небольшой аэродром неподалеку от завода.
Вечером 19 февраля заговорщики встретились в Рьюкане и, убедившись, что тяжелая вода погружена в железнодорожный состав под усиленной охраной, отправились на автомобиле в Маэль, к паромному причалу. Хаукелид и двое его товарищей вышли из машины. Ночь была очень холодной. Хаукелид приказал шоферу и Альфу Ларсену ждать в машине. Он дал главному инженеру пистолет и сказал, что, если они не вернутся через два часа или же Ларсен услышит перестрелку, ему с шофером следует немедленно уехать. В этом случае Ларсену самостоятельно придется уходить в Швецию.
Позже Кнут Хаукелид доносил штабу специальных операций:
Почти вся команда парома собралась в кубрике у длинного стола, и там шла довольно шумная игра в покер. Только механик и котельный машинист работали в машинном отделении, и, конечно, мы не могли войти туда. Тогда мы спустились в пассажирскую каюту, где нас сразу же застиг сторож. Слава богу! Он оказался добрым норвежцем и позволил нам остаться, услышав, что мы бежали из гестапо.
Сторож показал дорогу к люку, через который диверсанты проникли в трюм. Один человек остался в пассажирском отделении, а Хаукелид и второй его помощник спустились к плоскому дну парома и прошли к корме. На одной из донных плит агент на ощупь уложил взрывчатку и прикрепил к ее концам два быстродействующих взрывателя. Затем он вывел из-под воды четыре соединенных провода и привязал их к стрингерам – стальным балкам парома. Здесь же он укрепил два будильника, служивших часовым механизмом, и батареи. Затем надо было выполнить самую опасную операцию – подключить взрыватели. Хаукелид отослал помощника наверх и выполнил ее сам.
К машине все трое возвратились без приключений и сразу же пустились по пустынному шоссе в обратный путь. Перед Рьюканом диверсанты разделились. Ларсен и Хаукелид встали на лыжи и двинулись в Конгсберг, где они купили билеты на поезд до Осло.
В воскресенье, 20 февраля 1944 года, с товарной станции в Рьюкане отошел короткий состав. Вдоль всего пути от Рьюкана до паромного причала были расставлены цепи немецких солдат. В 10 часов утра вагоны благополучно закатили на паром «Гидро», и, отвалив от причала, он взял курс на юг. Кроме груза тяжелой воды, на борту было 54 пассажира.
В 10.45, когда паром находился над самой большой глубиной, его команда и пассажиры почувствовали страшный толчок. Паром стал быстро крениться на корму. В какой-то момент вагоны сорвались с тормозов и скатились в воду. В течение трех-четырех минут «Гидро» полностью затонул, увлекая с собой 26 человек. На поверхности ледяных вод остались лишь спасательные лодки и какие-то обломки. Затем на поверхность выпрыгнули один за другим четыре контейнера с тяжелой водой, но это было все.
В воскресенье Кнут Хаукелид уже прогуливался по Осло. Он купил вечернюю газету и нашел в ней коротенькое сообщение о потоплении парома. В то время в Норвегии акты диверсии на кораблях стали частым явлением, и пресса не уделяла им особого внимания.
Подводя итоги операций, направленных на прекращение производства тяжелой воды в Норвегии, кульминацией которых стало потопление парома «Гидро» в феврале 1944 года, уверенно можно сказать, что они сыграли важнейшую роль в разрушении надежд немецких физиков, планирующих построить действующий атомный реактор. Лучше всего это подтверждают слова Курта Дибнера, сказанные после войны:
Что касается последнего периода войны, то в 1945 году запасы тяжелой воды в Германии уже не увеличивались; в последних экспериментах, проведенных в начале 1945 года, мы фактически располагали двумя с половиной тоннами тяжелой воды. Наша неудача в попытках запустить атомный реактор еще до конца войны объясняется главным образом прекращением производства тяжелой воды в Норвегии.
План Герлаха
В середине апреля 1944 года профессор Пауль Хартек, пытаясь спасти атомный проект, предложил властям три новых способа получения тяжелой воды: дистилляция воды при пониженном давлении, дистилляция водорода при низкой температуре, ионообмен при двух различных температурах. По его словам, можно было немедленно начинать строительство промышленных установок, работающих по второму или третьему методу. Вот только одной фабрикой обойтись было уже нельзя. «Если мы будем изготавливать тяжелую воду в одном-единственном месте, то нам следует опасаться новых воздушных налетов, направленных на уничтожение этого производства». Вообще же, продолжал Хартек, лучше было бы выпускать тяжелую воду низкой концентрации в качестве побочного продукта на ряде действующих предприятий. Опасаясь вражеских шпионов, Хартек даже не называл в своем секретном докладе эти «перспективные заводы». Заканчивая доклад, он сообщал, что на строительство небольшой установки, выпускающей до двух тонн тяжелой воды в год, уйдет всего два года. Она обойдется в несколько миллионов рейхсмарок и начнет действовать весной 1946 года.
Профессор Вальтер Герлах осторожничал, выбирая метод попроще и подешевле. Наконец ему приглянулась схема дистилляции водорода при низкой температуре. Стоимость ее – всего 1,3 миллиона рейхсмарок. Пока же в течение двух лет оставалось довольствоваться лишь теми скудными запасами, что уцелели после экспериментов, диверсий, лабораторных взрывов и воздушных налетов. Весь запас составлял 2,6 тонны тяжелой воды.
В конце мая Герлах радостно сообщил начальству, что первый реактор с критической массой ядерного топлива будет построен в ближайшее время. Вот только из-за постоянных воздушных налетов никак не удавалось отлить нужное количество урановых пластин. В местечке Грюнау под Берлином – благо бомбардировки его почти не затронули – спешно строилась новая печь для вакуумного литья.
Вальтер Герлах полностью оправдал свою репутацию сторонника «чистой науки». Пользуясь своим главенствующим положением, профессор смело поддерживал перспективные научные проекты, не имевшие военного значения, и пренебрегал нуждами ядерщиков, которые могли принести пользу в военное время. К примеру, он всячески опекал сотрудников Физического института, определявших магнитные моменты и спектры атомных ядер и измерявших коэффициенты теплового расширения урана. Работы эти имели чисто теоретический смысл, и только ярлык «ядерная физика» да настойчивость Герлаха помогали молодым ученым и впредь безмятежно исследовать тайны атомного ядра в те дни, когда страна близилась к катастрофе. Вот еще пример поведения Герлаха: в Германии было мало циклотронов, и «главный физик» страны наперекор военным нуждам приказал использовать циклотроны для биологических и медицинских опытов.
При таком обилии целей, планов и направлений атомный проект сходил на нет. В 1944 году лишь две программы из множества его составлявших получили высшую степень срочности: «изотопный шлюз» и изготовление урановых пластин для реактора Гейзенберга.
В апреле и мае 1944 года Вальтер Герлах обновил планы научных исследований. К категории срочных были отнесены лишь работы по разделению изотопов, проводившиеся Паулем Хартеком. Составляя план на следующий год, Герлах урезал все финансовые вливания. Теперь ни один из проектов не смел претендовать на сумму, большую 65 000 рейхсмарок. С таким подходом атомный проект скоро должен был благополучно заглохнуть сам по себе.
Тем не менее работы над реактором Гейзенберга продолжались. Бункер для реактора напоминал небольшой плавательный бассейн. Здесь имелись свое насосное устройство, вентилятор, резервуар для хранения тяжелой воды и даже комнатка, где тяжелую воду можно было очищать. Специальный воздухозаборник удалял радиоактивные газы. Автомат, управляемый дистанционно, перемещал урановое топливо. Особые «телекамеры» позволяли наблюдать за реактором издали, не подвергая жизнь опасности. Двойные, герметичные стальные двери отделяли эту лабораторию от других подземных комнат. Имелась мастерская для обработки урана и лаборатории для исследования тяжелой воды.
Как мы уже отмечали, ни Вернер Гейзенберг, ни помогавший ему Карл Вирц не вняли выводам Курта Дибнера и решили, что реактор будет состоять из урановых пластин толщиной один сантиметр, чередующихся с тяжелой водой. Оболочку для него изготовили из очень легкого магниевого сплава, поглощавшего крайне мало нейтронов (высота и диаметр цилиндра были одинаковы – 124 см). Ученые хотели опробовать четыре схемы расположения пластин. Каждая из них требовала от 900 до 2100 килограммов урана. Реактор устанавливали стоймя, а пластины располагали в нем горизонтально. Друг от друга их отделяли с помощью «распорок» из того же магниевого сплава. В готовый реактор вливали полторы тонны тяжелой воды и помещали его в яму, заполненную обычной водой.
Монтаж «урановой машины» был долгим процессом. Схему реактора, то есть количество пластин и расстояние между ними, успели поменять четыре раза. В конце концов после долгих расчетов и прикидок теоретики поняли, что расстояние между пластинами должно равняться восемнадцати сантиметрам, дабы размножение нейтронов протекало интенсивнее.
В начале июня 1944 года в очередной раз был готов «изотопный шлюз». На этот раз его строили в местечке Буцбах, неподалеку от Франкфурта. Доктор Эрих Багге решил опробовать модель. Всего через два часа работы заело подшипники. Агрегат надо было переделывать. Лишь через месяц «шлюз» удалось исправить. 10 июля начались новые испытания. «Машину» включили, и она проработала шесть суток подряд. Казалось, путь к обогащению урана-235 открыт. Но нет: «из-за транспортных неурядиц, вызванных военным положением, невозможно наладить регулярные поставки жидкого воздуха. Отсутствует и гексафторид урана». В конце августа установку пришлось разобрать, погрузить в фургон для перевозки мебели и отправить в Хехинген. Туда же поспешил и доктор Багге.
В это время в Лихтерфельде изобретательный барон Манфред фон Арденне построил наконец-то электромагнитный разделитель изотопов урана, работавший по тому же принципу, что и масс-спектрометр: электрически заряженные частицы разной массы, попадая в магнитное поле, движутся по разным траекториям. Чтобы увеличить плотность ионов, фон Арденне хотел использовать плазменный источник. Однако коллеги пренебрегали идеями самоучки. А зря! Похожий способ разделения изотопов урана-235 применяли в США, создавая атомную бомбу. Советские ученые тоже пользовались магнитным разделителем изотопов. Ныне их успехи общеизвестны, как и неудача коллег фон Арденне.
В июле 1944 года американские самолеты непрерывно бомбили Мюнхен. Квартира профессора Герлаха сгорела. В городе не подавали ни воду, ни электричество. Лишь в ночь на 21 июля налеты утихли. В ответ разъяренный Гитлер поклялся с помощью снарядов «Фау-1» и идущих им на смену ракет «Фау-2» сровнять Лондон с землей. Все лето фюрер обдумывает и план удара по Нью-Йорку. Громадный самолет доставит к побережью США небольшой бомбардировщик, и тот забросает американцев бомбами, а потом, развернувшись, совершит посадку прямо в океане. Подлодка подберет летчиков-героев. Лишь 21 августа 1944 года Гитлер окончательно отказался от этого сумасшедшего замысла. Атомная бомба в те месяцы не занимала его внимания.
25 июля профессор Вальтер Герлах покинул родные мюнхенские пепелища и прибыл в Берлин. Никаких решительных изменений он не обнаружил. Работа ученых была парализована. Столицу непрерывно бомбили, и ни о каком нормальном снабжении эксперимента Гейзенберга не могло быть и речи. Реактор надо было увозить на юг, к швейцарской границе. Место для него профессор уже присмотрел: деревушка Хайгерлох, в пятнадцати километрах к западу от Хехингена. Весной Герлах не раз заходил в эту деревушку, чтобы полюбоваться цветущей сиренью. Рядом протекала река и круто вздымалась скала, у подножия которой была пещера. Герлах хотел поместить в ней реактор. Работа могла занять несколько месяцев. Еще труднее было достать тяжелую воду. Гейзенберг требовал 2,5 тонны, то есть практически весь немецкий запас.
28 июля противник разбомбил завод в Лёйне, принадлежавший концерну «ИГ Фарбениндустри», полностью его разрушив. Похоже было, что изготавливать тяжелую воду здесь не получится. 11 августа Герлах, Дибнер и Хартек приехали в Лёйну: они увидели повсюду толпы энтузиастов, пытавшихся что-то восстановить в разоренном городе. Экспериментальное оборудование для выпуска тяжелой воды было уничтожено. Директора завода обвиняли во всех бедах не англичан, а ученых: это из-за вашей тяжелой воды нас так бомбили!
В конце беседы один из директоров произнес и вовсе неслыханные слова. Он говорил о «джентльменском соглашении», которого держались промышленники Германии, Великобритании и США. Поскольку американцы и англичане в свое время вложили огромные средства в этот завод в Лёйне, они не собирались его разрушать. Но что-то важное и очень неприятное заставило их отказаться от «соглашения». Причина одна – планы по производству тяжелой воды.
Получалось, что в самый разгар войны концерн «ИГ Фарбениндустри», уповая на милость врагов и блюдя свои экономические интересы, саботировал важный научный проект, хотя его руководители знали о возможностях, которые открывает расщепление атома.
Поиски «чудо-оружия»
В июне 1944 года майор Бернд фон Браухич, адъютант Германа Геринга, приехал к Вернеру Гейзенбергу и мрачно сообщил, что, по слухам, исходящим из немецкого посольства в Лиссабоне, американцы в ближайшие шесть недель сбросят атомную бомбу на Дрезден – если Германия не капитулирует. Обеспокоенный рейхсмаршал поинтересовался, имеют ли эти слухи под собой реальную основу. Гейзенберг заявил, что для создания атомной бомбы необходимо преодолеть массу трудностей и вряд ли американцы сумели это сделать.
Однако первый по-настоящему тревожный звоночек прозвучал. Вскоре последовал еще один. Немецкое информационное агентство «Транс-океан» сообщало из Лондона:
В США ведутся эксперименты с новой бомбой. Материалом служит уран. Если удастся высвободить силы, таящиеся внутри него, раздастся взрыв невиданной прежде силы. Бомба весом пять килограммов оставит воронку глубиной километр и радиусом сорок километров. На расстоянии 150 километров от места взрыва все здания будут разрушены.
К счастью для Эриха Шумана, по-прежнему представлявшего интересы военных в атомном проекте, его шефы не обратили внимания на эту публикацию. Да и обстановка не располагала отвлекаться на какие-то «фантастические заметки», слишком стремительна была круговерть событий в тот период: двадцатое июля, покушение на Гитлера, аресты, «народная судебная палата», репрессии, казни, раскол элиты, перестановки в верхах. Сам Шуман никогда не стал бы убеждать нацистских бонз в достоинствах атомной бомбы. Он догадывался, что Гитлер немедленно потребовал бы от ученых создать такую бомбу за полгода. А они пытались создать эту мифическую бомбу уже несколько лет и по-прежнему были далеки от цели.
Впрочем, Гитлер все-таки кое-что услышал о новой бомбе и даже говорил о ней. 5 августа 1944 года фюрер беседовал с генерал-фельдмаршалом Вильгельмом Кейтелем, немецким министром иностранных дел Иоахимом фон Риббентропом и румынским маршалом Ионом Антонеску. Гитлер упомянул, что в Германии созданы уже четыре вида секретного оружия: летающая бомба «Фау-1», ракета «Фау-2» и взрывное устройство такой мощи, что в трех-четырех километрах от места взрыва погибнут все люди. Фюрер отвлекся и не договорил до конца, а маршал Антонеску больше его не видел и не смог переспросить. Мы так и не узнаем никогда, что за «четвертое оружие» имел в виду Гитлер. Возможно, он просто предавался мечтам, что за ним водилось. Однако действие атомной бомбы Гитлер описал довольно-таки верно, и маршал Антонеску, доживший до взрыва в Хиросиме, имел возможность в этом убедиться.
Сохранилось и свидетельство другого союзника Третьего рейха – маршала Бенито Муссолини, фашистского диктатора Италии. Он тоже любил поговорить о «чудо-оружии», которое изменит ситуацию на фронтах. В частности, зафиксировано такое его высказывание:
Надеждой является чудо-оружие. Сейчас для нас смешно и бессмысленно угрожать кому-либо, не имея реальных оснований для этих угроз.
Хорошо известные бомбы массового поражения почти готовы. Всего через считанные дни Гитлер, тщательно проанализировав всю информацию, вероятно, нанесет ужасающий удар, потому что у него появится полная уверенность. <…> Судя по всему, таких бомб три – и каждая обладает поразительными возможностями. Создание каждого такого устройства является задачей необычайно сложной и очень длительной.
29 августа 1944 года профессора Фредерика Жолио-Кюри доставили в Лондон. На допросе он рассказывал, что в годы оккупации в его лаборатории работали несколько немецких физиков, в том числе профессор Эрих Шуман, профессор Вольфганг Гентнер, профессор Вальтер Боте и другие. Они отремонтировали стоявший там циклотрон и использовали его для исследований, не имевших никакого отношения к войне. Офицеры американской разведки, допрашивавшие Жолио-Кюри, считали, что французский физик скрывает от них правду. Но это была правда: несмотря на мечты фюрера и фантазии его иностранных клевретов, к осени 1944 года немецкий атомный проект практически остановился.
В ноябре были прекращены все работы по обогащению урана-235, что велись в Кандерне (округ Фрайбург), близ швейцарской границы. Однако ультрацентрифугу не торопились вывозить из Фрайбурга: власти всё еще не избавились от иллюзии, что в войне произойдет перелом. Лишь 24 ноября лабораторию начали демонтировать. Едва оборудование было вывезено в городок Целле под Ганновером, как наступил роковой день: 27 ноября вражеская авиация разрушила Фрайбург до основания. Очень сильно пострадали цеха фирмы «Хеллиге», изготовившей центрифугу.
В Целле место под лабораторию нашли в помещении прядильной фабрики, где еще недавно изготавливали шелк для парашютов. Пауль Хартек распорядился не оставлять все опытные образцы центрифуги в одном и том же здании. Поэтому часть их отвезли в Гамбург и укрыли в бункере.
Между тем в середине декабря для Вернера Гейзенберга и многих других ученых, работавших в Хехингене, Тайльфингене и Хайгерлохе, началась новая жизнь. Все они были призваны в народное ополчение – «фольксштурм». Нацисты готовились к последнему решительному бою, в котором собирались принести в жертву немецких стариков и детей. Разумеется, за своих физиков немедленно вступился Вальтер Герлах. 16 декабря он написал протестующее письмо начальнику партийной канцелярии и «личному секретарю фюрера» Мартину Борману:
Вообще же призвать в ряды ополчения даже небольшую часть персонала, и так уже ограниченного нами до самых необходимых пределов, означает, что работы, проводящиеся в этой лаборатории, придется приостановить. А ведь эти работы относятся к числу важнейших в области физики, проводимых в Германии в настоящее время. Я же отвечаю за то, чтобы эти работы продолжались в любых обстоятельствах. Вам, несомненно, известно, что речь идет о работах, которые могут самым неожиданным образом решить судьбу всей войны. Вам также известно, какие усилия прикладывают американцы, чтобы решить те же самые задачи, что стоят перед нами. Мы же стремимся решить их гораздо меньшими силами, и потому силы надо беречь.
В конце письма профессор требовал, чтобы Борман вмешался и запретил штутгартскому гауляйтеру использовать ценнейших ученых для каких-нибудь «зондеракций». Борман не ответил своему корреспонденту, но, похоже, приказал гауляйтеру сделать то, о чем просил профессор.
Впрочем, было поздно что-либо предпринимать. Американские войска стремительно заняли Страсбург. В плен попадали семь немецких ученых, работавших над атомным проектом. Профессор Карл фон Вайцзеккер чудом успел бежать из города. Изучив документы, найденные в Страсбургском университете, американские разведчики поняли, что еще в 1942 году нацисты знали о возможности создания атомного оружия, но к августу 1944 года работы над этим оружием не продвинулись дальше начальной стадии.
Реактор Гейзенберга
Всё же, стремясь избежать голословности в своих разговорах с руководством, Вальтер Герлах задумал обобщить опыт работы ведущих групп физиков-ядерщиков и опубликовать серию «Секретные научно-исследовательские проекты», включив туда пять статей знаменитых ученых, в которых рассказывалось бы о сделанных достижениях. Сам он написал для этой серии предисловие, вкратце изложив в нем результаты, полученные в ходе многочисленных экспериментов. Они представляют ценность по сей день – как еще одна перевернутая страница в истории постижения тайн атомного ядра. Герлах писал:
1. Кубические конфигурации лучше пластинчатых. Первые при использовании лишь полутонны металлического урана дали увеличение количества нейтронов в 2,06 раза, последние же при использовании полутора тонн металлического урана дали увеличение в 2,36 раза, то есть во втором случае при значительно большем количестве урана увеличение числа нейтронов оказывалось относительно меньшим. Что касается кубической конфигурации, то еще не ясно, имели кубы оптимальные размеры или нет.
2. Экстраполяция теоретических положений в связи с проведенными экспериментами позволяет с высокой вероятностью предполагать, что полые сферы, подвешенные в тяжелой воде, дадут еще большее увеличение количества нейтронов; можно также предполагать, что кубы различных размеров приведут к большему увеличению нейтронов. Оба эти предположения еще подлежат экспериментальной проверке.
3. <…> Самым надежным методом уменьшения потребности в тяжелой воде и уменьшения объема реактора является повышение концентрации изотопа урана-235 в металлическом уране. Разработка ультрацентрифуги теперь завершена, и ведется строительство завода для получения обогащенного урана с требуемой концентрацией урана-235. С этой же целью разрабатываются и другие методы, которые позволят создавать менее дорогостоящие приборы.
Вальтер Герлах закончил свою статью утверждением, что в настоящее время готовятся эксперименты, которые, быть может, позволят обойтись без тяжелой воды – в том числе и опыт с расщеплением урана при низких температурах. Но в действительности его намерения были далеки от реализации.
В конце 1944 года в последний раз в берлинском бункере, близ Физического института Общества имени кайзера Вильгельма, начались испытания нового уранового реактора «B-VII», построенного Карлом Вирцем. Впервые агрегат был окружен отражателем из графита (отметим, что еще в январе 1944 года немецкие физики показали, что при использовании графитового отражателя коэффициент размножения нейтронов заметно увеличивается). У реактора была алюминиевая оболочка – цилиндр высотой 216 сантиметров и диаметром 210,8 сантиметра. Внутрь цилиндра вставили сосуд из магниевого сплава. Пространство между стенками заполнили графитом. Реактор содержал 1,25 тонны урана и 1,5 тонны тяжелой воды. Урановые литые пластины толщиной 1 сантиметр разделяла прослойка воды толщиной 18 сантиметров. Реактор установили на деревянном основании, уложенном на дне бетонного бассейна в главном помещении бункера, и залили в бассейн обычную воду. Как и прежде, в конструкции не были предусмотрены органы регулирования и прекращения цепной реакции. Как указывал впоследствии профессор Вирц, эксперимент был рассчитан в основном на получение «подкритических» условий, когда надобности в регулирующих стержнях нет.
На этот раз коэффициент размножения нейтронов достиг 3,37, хотя использовалось столько же материалов, что и в предыдущих опытах. По-видимому, показатель улучшился за счет графитового рефлектора. Если бы участники этого опыта были внимательнее, они наверняка задумались бы, почему так плох показатель абсорбции нейтронов в углероде, и тогда «роковая ошибка» профессора Боте стала бы очевидной. Однако они не заметили этого разнобоя в результатах. Возможно, они не обнаружили ее и потому, что полученные результаты оказались замечательными и в другом отношении – они показали, что имеющейся в Германии тяжелой воды должно хватить для создания котла с критическими условиями.
Война приближалась к концу, Германия была обречена на поражение, но ученые еще верили в успех. На второй неделе января в Берлин прибыл Вальтер Герлах. Он побывал в лаборатории Вирца, вглядываясь, с каким лихорадочным упорством физики пытаются построить первый реактор нулевой мощности на тяжелой воде.
Условия, в которых проходил эксперимент, были ужасными. Каждую ночь город бомбили. Телефонной связи не было. Электричество то и дело отключалось. Герлах вернулся к себе в Мюнхен, но и там царило разорение. Положение на фронте стало катастрофическим. Советские войска уже наступали на Берлин, и продолжать научные работы в городе, который скоро будет осажден, не имело смысла. Остатки института надо было эвакуировать в Хехинген.
И тем не менее 29 января крупнейший немецкий реактор на тяжелой воде «В-VIII» был готов к запуску. Он вместил в себя сотни урановых кубиков и еще полторы тонны тяжелой воды. Герлах, как и Вирц, Дибнер, Гейзенберг, понимал: если бы в реакторе действительно началась контролируемая цепная реакция, этот эксперимент, несомненно, поднял бы дух людей. Да и разве можно остаться спокойным, узнав, что в минуты труднейших испытаний, которые переживала страна, ее ученые, делившие вместе с народом все тяготы, сумели совершить грандиозное открытие? Разве эта поразительная весть не сплотит вновь нацию, терпевшую одно поражение за другим?
Решение было тяжелым, но профессор Герлах принял его: 30 января приказал начать демонтаж реактора. На следующий день сам Вальтер Герлах, Курт Дибнер и Карл Вирц покинули Берлин на автомобиле, направившись в сторону Куммерсдорфа. За ними следовали несколько грузовиков, перевозивших уран, тяжелую воду и оборудование. Герлах был бледен и удручен. Половину дня и всю ночь колонна продвигалась по обледенелому шоссе. Наконец показался городок Штадтильм. Профессор Герлах полагал, что здесь, в новой лаборатории Дибнера, обстановка для работы будет лучше, чем в Хайгерлохе, тем более что и Вирц проводил свой эксперимент по «дибнеровской» схеме. Вот только сам Вирц никак не ожидал такого поворота событий. Возмущаясь этим «захватом», он начал звонить в Хехинген, к Гейзенбергу.
Пока расстроенный берлинец жаловался своему патрону, Герлах поспешил в Веймар. Он уговорил гауляйтера Тюрингии освободить всех сотрудников секретной лаборатории от службы в «фольксштурме» и трудовых отрядах, а также обеспечить нормальную подачу электричества.
Вечером того же дня Герлаху позвонил Гейзенберг. Слыханное ли дело, создавать первый критический реактор в лаборатории «этого Дибнера»? Как вы смеете передавать ему наши материалы: наш уран, нашу тяжелую воду, наше оборудование, наши схемы, наш опыт, наши идеи?! Герлах, чувствуя трудности предстоящего спора, пригласил Гейзенберга в Штадтильм.
5 февраля, в день прибытия Гейзенберга и его помощников, само небо, казалось, благоволило нобелевскому лауреату. Беспрерывно звучала воздушная тревога. Над городом кружили самолеты, и, не подыскивая других аргументов, Гейзенбергу достаточно было ткнуть пальцем в небо, указывая на невозможность серьезной научной работы в нещадно атакуемом городишке. Однако Герлах не сдался без боя. Переговоры длились весь следующий день, а на раздел имущества и сборы ушло еще две недели. Гейзенберг тоже пошел на компромисс, согласившись перевезти реактор в деревушку Хайгерлох, выбранную Герлахом весной прошлого года.
Оборудование берлинского бункера прибыло туда лишь в конце февраля. Целый месяц был потрачен впустую. Организационные вопросы, переезды, уговоры, визиты, встречи, обещания и протесты захватили всё внимание физиков. А тем временем Германия продолжала сотрясаться под ударами союзников по антигитлеровской коалиции. До полного разгрома оставалось всего два месяца.
После прибытия в Хайгерлох начался монтаж реактора «В-VIII». Его, как и было решено ранее, оборудовали внутри пещеры. В распоряжении Гейзенберга теперь находились 1,5 тонны урановых кубиков, 1,5 тонны тяжелой воды, 10 тонн графитовых блоков и некоторое количество кадмия, отлично поглощающего медленные нейтроны, – его надо было ввести внутрь реактора, если вдруг цепная реакция станет неконтролируемой. Все остальные запасы сырья хранились в Штадтильме.
26 февраля на совещании в Берлине Вальтер Герлах узнал, что «в целях экономии» работы по атомному проекту придется сократить наполовину. В тот же день он отослал письмо в Научно-исследовательский совет. Он убеждал, что ученые-ядерщики находятся уже на пороге успеха, что ведутся «решающие работы», поэтому просил защитить все исследовательские группы, причастные к проекту. В очередной раз профессор Герлах отстаивал интересы своей научной касты, завораживая военных и партийных профанов магическим словом «взрывчатые вещества» и рисуя перед ними мечту об атомной бомбе.
Между тем все было готово к проведению эксперимента с реактором «B-VIII». Посреди пещеры была вырыта яма. Ее залили водой и поместили туда огромный цилиндр, изготовленный из легкого металла. Цилиндр заполнили графитовыми блоками (там уместились все десять тонн), оставив посередине полость (тоже цилиндрической формы). Туда и поместили собственно реактор, сделанный из алюминиево-магниевого сплава. К крышке реактора подвесили 78 тонких проволочек, нанизав на них урановые кубики (по восемь-девять штук на каждой). Подобную схему еще недавно применял Курт Дибнер. Сама крышка состояла из магниевых пластин, переложенных графитом. Имелись штуцеры, сквозь которые можно было залить тяжелую воду и ввести источник нейтронов.
Два великих физика, Вернер Гейзенберг и Вальтер Боте, приступили к эксперименту. Крышка реактора туго завинчивается. Яма заливается водой, куда добавлена антикоррозионная присадка. В последний раз проверяются все уплотнения. Наконец, в сердцевину реактора вводят источник нейтронов и медленно закачивают внутрь тяжелую воду. То и дело ученые отключают насос и измеряют размножение нейтронов внутри цилиндра и снаружи. Этот показатель становится все выше. Похоже, вот-вот начнется цепная ядерная реакция. Мощность реактора выше, чем когда бы то ни было в немецких лабораториях. Вот уже все запасы тяжелой воды вылиты внутрь… И тут внезапно интенсивность размножения нейтронов останавливается: на 100 нейтронов, излученных источником, реактор испускает всего 670 нейтронов. Прекрасный результат, но цепная ядерная реакция так и не началась.
После этой неудачи теоретики снова примутся за расчеты. Выяснится, что размеры реактора надо увеличить наполовину. Надо снова доставать тяжелую воду, уран – еще по 750 кг и того, и другого. Где это все взять? В Норвегии? В Италии? Невозможно! Быть может, что-то осталось у Дибнера в Штадтильме? Но до него сотни километров. Сколько же еще ждать?..
22 марта профессор Герлах явился в Берлин, чтобы уладить служебные дела. Тут его и застала явно преждевременная новость о том, что в Хайгерлохе создан «критический» реактор. Профессор почувствовал себя на вершине успеха: «урановая машина» работает! Вскоре не нужны будут ни уголь, ни нефть, ни бензин. Ядерное топливо вытеснит все остальные виды горючего!
Через неделю Герлах снова заехал в Штадтильм. Американские войска уже находились неподалеку от этого городка. Все работы в лаборатории прекратились. Физики равнодушно дожидались развития событий.
Дальнейший путь привел Герлаха в Хехинген и Хайгерлох. Он переговорил с Вернером Гейзенбергом. Тот, рассказав ему о последнем опыте, тут же принялся давать советы, обещавшие «непременный успех». Надо забрать из Штадтильма весь остальной уран и тяжелую воду. Но и этого мало: надо забрать еще оксид урана и брикеты, оставленные у того же Дибнера. Что бы ни говорили другие теоретики, надо испытать еще одну схему реактора, поместив оксид урана внутри графитовой оболочки. Недавний опыт Карла Вирца показал, что графит все-таки можно использовать в качестве замедлителя. Почему мы должны доверять давнему приговору Боте? Его расчеты могут быть неверны!
Но было поздно – американские войска вошли в пригороды Штадтильма. 3 апреля Герлах приехал в Мюнхен и принялся звонить Курту Дибнеру, но связи больше не было. Он попробовал сам съездить в Штадтильм, но путь преградила линия фронта, отсекая последнюю надежду.
Атомные трофеи
30 марта 1945 года американские войска захватили Гейдельберг. В руки разведки попали профессор Вальтер Боте, доктор Вольфганг Гентнер, несколько лет работавший в Париже, и новенький циклотрон. Город Целле и лаборатория, где создавали центрифугу, были заняты американцами 17 апреля. Там же был задержан доктор Вильгельм Грот.
В ходе допросов американская разведка узнала о Хехингене. В воскресенье, 22 апреля, в этот городок вошли французские и марокканские части. Никто не сопротивлялся. Отряды «фольксштурма» были распущены два дня назад, когда местные партийные деятели бежали в центральную Германию. Карл фон Вайцзеккер сидел на своем рабочем месте, но его личность пока не вызвала интереса ни у кого из вошедших. Все документы, запасы урана и тяжелой воды уже были вывезены из института и спрятаны близ Хайгерлоха, где, как надеялись немцы, их никто не найдет. Вернер Гейзенберг еще в пятницу сел на велосипед и куда-то уехал. Спустя трое суток его семья, укрывавшаяся в местечке Урфельд, в горах Баварии, с удивлением увидит у своих дверей нежданного усталого гостя.
23 апреля отряд полковника военной разведки Бориса Паша занял Хайгерлох. Полковник возглавлял миссию «Алсос» (от греческого слова «роща»), главной целью которой был сбор любых сведений о немецком атомном проекте. На следующий день американцы взломали дверь в пещеру. Там было сыро, душно, темно. Принесли свечи. Теперь можно было заглянуть внутрь. Среди офицеров был и Майкл Перрин, занимавшийся вопросами «атомного» сотрудничества с союзниками и только что прилетевший сюда из Лондона. Весной 1942 года он побывал в Чикаго, видел громадный, еще недостроенный графитовый реактор, видел, с какой осторожностью ведутся работы. И вот теперь в этой пещере его шокировало отсутствие каких-либо мер защиты. Всё, очевидно, делалось наспех и с единственной целью: быстрее создать реактор. Немецкие физики, похоже, забыли о всякой осторожности!
Осмотревшись, американцы начали демонтировать реактор. Рядом нашли графитовые блоки, немного урана и тяжелой воды. Остальные запасы бесследно исчезли. Найденное в пещере погрузили на военные грузовики и вывезли. Французы находились в нескольких километрах отсюда, поэтому, чтобы они не узнали о лаборатории, ее заминировали и взорвали, завалив вход в пещеру.
В тот же день четыре американских танка и несколько грузовиков въехали в занятый накануне Хехинген. Американские контрразведчики действовали здесь как хозяева. Они раздали немецким ученым «охранные грамоты», запрещавшие французам обыскивать их лаборатории. Сами же перерыли весь дом доктора Эриха Багге и конфисковали все документы, датированные 1942 годом и позже. Ученому также сообщили, что ближайшим утром ему предстоит отправиться в «дальний путь».
Следующие четыре дня американцы допрашивали задержанных ученых. Они предложили Карлу фон Вайцзеккеру и Карлу Вирцу продолжать опыты под присмотром новых властей. Оба ученых, польщенные доверием, рассказали, где можно найти уран и тяжелую воду.
26 апреля небольшая спецгруппа, состоявшая из американцев и англичан, выехала из Хайгерлоха. В пятнадцати километрах от города стояла старая мельница. В ее подвале стояли бочки из-под бензина. Только в бочках хранилось не горючее, а тяжелая вода. Рядом с мельницей, в поле, обнаружились закопанные кубики урана.
Тем временем полковник Борис Паш продолжал прочесывать окрестности. Вскоре он был в Тайльфингене, возле старого школьного здания, где помещались теперь сотрудники Химического института. Там они нашли исхудавшего и очень больного Отто Гана. Поблизости в лазарете лежал сын ученого, потерявший руку на Восточном фронте. Ган просил оставить его с сыном и женой, но ему снова предстояло стать заложником своего открытия. Его увезли.
1 мая у себя в кабинете, в Мюнхене, был задержан Вальтер Герлах. Все время он пытался созвониться с Куртом Дибнером, но терпел фиаско. Доктор Дибнер оставался в деревушке в тридцати километрах к юго-востоку от Мюнхена. Вскоре и он был арестован новыми властями.
Полковник Борис Паш отыскал Гейзенберга в Урфельде, где он укрывался с семьей. Профессор паковал чемоданы, чтобы бежать оттуда, когда за ним пришли. Его отвели в бронемашину и усадили рядом с двумя автоматчиками. Машина тронулась в путь, сопровождаемая внушительным конвоем. Впереди ехал огромный танк, сзади – еще один танк и несколько джипов. Местные жители высыпали на улицы, с любопытством глядя на происходящее. Кто-то из них сказал вслед, что, наверное, даже Сталина так не охраняют.
2 мая 1945 года премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю было доложено, что в руки союзников попал почти весь немецкий уран и около полутора тонн тяжелой воды. Задержаны видные ученые-ядерщики. Обнаружена и собрана секретная документация. Компетентные эксперты утверждают, что физики Третьего рейха отстали от американских коллег как минимум на три года. Немецкий атомный проект бесславно завершился.
Глава 4
Абсолютное оружие
Призвание Силарда
Высвобождение атомной энергии за счет цепной реакции было предугадано задолго до того, как Фредерик Жолио-Кюри и Лиза Мейтнер сумели описать явление расщепления атома урана при бомбардировке нейтронами. Впервые о подобном процессе задумался венгерский физик Лео Силард. Он получил высшее образование в Берлине и по праву считался одним из самых перспективных немецких физиков.
В 1933 году, после прихода нацистов к власти, этнический еврей Лео Силард был вынужден покинуть Германию и уехать сначала в Вену, а затем в Англию. В сентябре того же года, когда физик осваивался в Лондоне, он прочитал статью в «Таймс», в которой излагалась недавняя речь Эрнеста Резерфорда. Великий экспериментатор заявил, что вряд ли когда-нибудь получится использовать атомную энергию в практических целях. Вывод Резерфорда опирался на многочисленные опыты, которые, казалось, свидетельствовали: при работе с субатомными частицами энергии затрачивается всегда больше, чем удается получить.
12 сентября, прогуливаясь по столице Великобритании и размышляя о романе Герберта Уэллса «Освобожденный мир», Лео Силард вдруг понял, как можно вызвать цепную ядерную реакцию за счет недавно открытых нейтронов. Хотя механизм деления атомных ядер еще не был описан, физик интуитивно почувствовал, что находится на верном пути. Он рассуждал следующим образом. При создании определенных условий быстрые нейтроны способны поразить ядро с такой энергией, что при этом выделится два нейтрона. Тогда, поглотив один нейтрон и выпустив два ядра, атомы становятся более легкими изотопами того же самого элемента. Но что произойдет, если каждый из двух выпущенных нейтронов ударит новое ядро и вызовет выделение еще пары нейтронов из каждого? Тогда получится четыре нейтрона. С каждым ударом нового ядра станет образовываться по восемь нейтронов – и так далее, по нарастающей. Другими словами, единичный нейтрон может стать причиной образования миллионов нейтронов, каждый из которых в свою очередь инициирует ядерную реакцию.
Физик решил сразу перейти от слов к делу. Вызвав цепную реакцию бомбардировкой нейтронами атомов бериллия и индия, он убедился, что эти элементы не подходят для такой цели. Тем не менее в 1936 году он запатентовал свою идею, причем сделал это тайно, поскольку опасался, что гитлеровцы могут использовать ядерную цепную реакцию для изготовления атомной бомбы. Вообще, Лео Силард оказался одним из первых, кто задумался о возможных последствиях проникновения в тайны атомного ядра. В середине 1930-х годов он неоднократно обращался к именитым коллегам с вопросом, не считают ли они благоразумным воздержаться, хотя бы временно, от публикации результатов работ, имея в виду серьезные и даже опасные последствия их изысканий. Увы, коллеги отвергли его предложение, желая стать первооткрывателями и добиться всемирной славы.
Переехав в 1937 году в США, Лео Силард продолжал испытывать сильное беспокойство по поводу работ, которые ведут беспринципные европейские физики. Даже если немцы не добьются успеха, Гитлер всегда может прибегнуть к шпионажу. Понимание он нашел только после того, как Германия присоединила к себе Австрию и Судеты, а немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман доказали практическую осуществимость расщепления ядра атома. К «заговору» Силарда первыми присоединились его земляки – венгры Юджин Вигнер и Эдвард Теллер, которые эмигрировали в США, успев испытав на себе все «прелести» нацистского режима.
Широкая популяризация идеи цепной ядерной реакции в Соединенных Штатах связана с именем Нильса Бора, главой Копенгагенского института теоретической физики. В 1939 году Бор, достигший тогда возраста пятидесяти четырех лет, обрел статус «отца» ядерной физики, заняв место Резерфорда, умершего за два года до этого. После Рождества, проведенного в Копенгагене, ученый узнал от своего помощника об «урановых экспериментах» Отто Гана и Фрица Шрассмана и о теории ядерного деления, развитой Лизой Мейтнер и Фредериком Жолио-Кюри. Вскоре Бор выехал из Копенгагена в США, где ему предстояло выступить 26 января на V Вашингтонской конференции по теоретической физике. Доклад Бора об эксперименте Гана-Штрассмана был принят с большим интересом. Конференция закрылась через два дня, но за это время еще четыре американские лаборатории (Колумбийский университет в Нью-Йорке, Институт Карнеги в Вашингтоне, Университет Джона Хопкинса и Калифорнийский университет) воспроизвели эксперимент, расщепив атомное ядро урана.
В своем воскресном выпуске от 29 января газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала сообщение о расщеплении ядра, сравнивая его с «атомным взрывом», при котором «высвободилось бы двести миллионов вольт». То, что это всего лишь «электрон-вольты», а взрывы были микроскопического масштаба, не снижало пафоса статьи.
Значение нового открытия могло остаться чисто академическим, если бы не необычайно большое количество энергии, которая могла выделиться в ходе удачного эксперимента. Если же прибавить к этому возможность запуска самоподдерживающейся цепной реакции, то ядерная физика из области науки, чьей ареной была лаборатория, превращалась в явление, которое следовало контролировать во имя государственных интересов. Технологии искусственного расщепления атомов урана давали не только перспективу беспредельного могущества, но и шанс обрести «абсолютное» (или «последнее», если пользоваться американской терминологией) оружие.
Лео Силард, как никогда раньше, встревожился по поводу последствий открытия процесса расщепления уранового атомного ядра. Живое воображение ученого снова опережало события, и он с поразительной ясностью предугадал грядущую гонку атомных вооружений. Силард обратился за поддержкой к итальянскому физику Энрико Ферми, который тоже переселился в США, спасаясь от фашизма. Коллега наконец-то внял его аргументам и приостановил публикации о собственных достижениях. 2 февраля 1939 года Силард написал Фредерику Жолио-Кюри, но тот не ответил: французская группа физиков была близка к осуществлению цепной реакции и не желала лишаться первенства из-за сомнений далекого от текущих проблем эмигранта.
Письмо Эйнштейна
Весной 1939 года Лео Силард и его друзья всерьез размышляли над тем, как наилучшим образом довести до американского правительства огромное значение атомных исследований и их возможное влияние на военную тактику и стратегию. Первая попытка заинтересовать должностных лиц потерпела фиаско. 17 марта Энрико Ферми посетил контр-адмирала Стэнфорда Хупера, начальника Технического управления Военно-морских сил, имея на руках рекомендательное письмо от Джорджа Пеграма из Колумбийского университета:
Эксперименты, проведенные в физических лабораториях Колумбийского университета, показали, что могут быть созданы условия, при которых химический элемент уран окажется в состоянии освободить большой избыток своей атомной энергии, и что это может означать возможность использовать уран в качестве взрывчатого вещества, которое выделяло бы в миллион раз больше энергии на килограмм вещества, чем любой известный тип взрывчатки. Мне лично кажется, что шансов здесь мало, но мои коллеги и я считаем, что нельзя пренебрегать даже малейшей возможностью, и поэтому я позвонил <…> сегодня утром, главным образом с целью установить канал, по которому результаты наших экспериментов могут быть, если в этом появится необходимость, переданы соответствующим лицам в министерстве ВМС США.
Профессор Энрико Ферми, который совместно с <…> другими работает над этой проблемой в наших лабораториях, сегодня отправился в Вашингтон, чтобы вечером выступить перед Философским обществом, и завтрашний день пробудет в Вашингтоне. Он позвонит в Ваше управление и, если Вы пожелаете встретиться с ним, будет рад более определенно рассказать о состоянии этой проблемы в настоящее время.
Ферми <…> является профессором физики Колумбийского университета <…> был награжден Нобелевской премией. <…> В этой области ядерной физики нет человека более компетентного, чем он.
Профессор Ферми недавно прибыл в нашу страну для постоянного жительства и в положенное время станет американским гражданином…
Контр-адмирал Хупер отнесся к идее использования атомной энергии без интереса, но организовал для Энрико Ферми встречу с группой технических экспертов и ученых, работающих на ВМФ. В то время физик-эмигрант не сумел достучаться до военных. Он постоянно сбивался, переходил с английского на итальянский. Его вежливо выслушали и попрощались, не задавая вопросов.
Тогда венгерские «заговорщики» придумали обратиться к «суперавторитету» – к самому Альберту Эйнштейну, благо Силард был хорошо с ним знаком благодаря совместной работе в Берлине.
12 июля Юджин Вигнер и Лео Силард встретились с Эйнштейном в доме на Лонг-Айленде, где знаменитый физик отдыхал летом. Ученые рассказали Эйнштейну о цепной реакции в уране и возможностях ее использования в военных целях. Они были переполнены научными новостями, догадками, прогнозами и сумели произвести на Эйнштейна большое впечатление. В первую очередь было решено через бельгийскую королеву Елизавету, дружески относившуюся к Эйнштейну, предостеречь правительство Бельгии от дальнейшей продажи Германии больших количеств урана, добываемого в Конго. Эйнштейн даже продиктовал черновик письма по-немецки, а Вигнер записал его. Тут же встал вопрос о лояльности: физики-эмигранты не могли обращаться к иностранным лидерам без уведомления Государственного департамента США. Поэтому сошлись на том, что если уж все равно придется информировать американские власти о политической инициативе, то следует обратиться прямиком к президенту Франклину Рузвельту, известному своими антифашистскими взглядами.
По совету коллег Лео Силард встретился с финансистом Александром Саксом – близким другом и неофициальным советником Рузвельта по вопросам экономики. Сакс оценил значение информации о делении урана и дал несколько советов по оформлению письма.
2 августа Лео Силард вновь поехал к Эйнштейну. На этот раз его сопровождал другой венгерский заговорщик – Эдвард Теллер. Они привезли два варианта готового письма для Рузвельта: короткий и длинный. Эйнштейн выбрал длинный вариант письма; текст был отредактирован и перепечатан на машинке. Кроме того, Силард подготовил специальный меморандум, в котором разъяснялись детали поставленной проблемы. Письмо выглядело так:
Альберт Эйнштейн, Олд Гров Ред, Нассау-Пойнт-Пеконик, Лонг-Айленд
2 августа 1939 г.
Ф. Д. Рузвельту, Президенту Соединенных Штатов, Белый дом, Вашингтон
Сэр!
Некоторые недавние работы Ферми и Силарда, которые были сообщены мне в рукописи, заставляют меня ожидать, что уран может быть в ближайшем будущем превращен в новый и важный источник энергии. Некоторые аспекты возникшей ситуации, по-видимому, требуют бдительности и при необходимости быстрых действий со стороны правительства. Я считаю своим долгом обратить Ваше внимание на следующие факты и рекомендации.
В течение последних четырех месяцев благодаря работам Жолио во Франции, а также Ферми и Силарда в Америке стала вероятной возможность ядерной реакции в крупной массе урана, вследствие чего может быть освобождена значительная энергия и получены большие количества радиоактивных элементов. Можно считать почти достоверным, что это будет достигнуто в ближайшем будущем.
Это новое явление способно привести также к созданию бомб, и возможно – хотя и менее достоверно, – исключительно мощных бомб нового типа. Одна бомба этого типа, доставленная на корабле и взорванная в порту, полностью разрушит весь порт с прилегающей территорией. Хотя такие бомбы могут оказаться слишком тяжелыми для воздушной перевозки.
Соединенные Штаты обладают лишь незначительным количеством урана. Ценные месторождения его находятся в Канаде и Чехословакии. Серьезные источники – в Бельгийском Конго.
Ввиду этого не сочтете ли Вы желательным установление постоянного контакта между правительством и группой физиков, исследующих в Америке проблемы цепной реакции. Для такого контакта Вы могли бы уполномочить лицо, пользующееся Вашим доверием, неофициально выполнять следующие обязанности:
а) поддерживать связь с правительственными учреждениями, информировать их об исследованиях и давать им необходимые рекомендации, в особенности в части обеспечения Соединенных Штатов ураном;
б) содействовать ускорению экспериментальных работ, ведущихся сейчас за счет внутренних средств университетских лабораторий, путем привлечения частных лиц и промышленных лабораторий, обладающих нужным оборудованием.
Мне известно, что Германия в настоящее время прекратила продажу урана из захваченных чехословацких рудников. Такие шаги, быть может, станут понятными, если учесть, что сын заместителя германского министра иностранных дел фон Вайцзеккер прикомандирован к Институту кайзера Вильгельма в Берлине, где в настоящее время повторяются американские работы по урану.
Искренне Ваш Альберт Эйнштейн
Через много лет Эйнштейн, рассказывая японскому журналисту о своей роли в разработке американского атомного оружия и словно бы оправдываясь, заявил:
Мое участие в изготовлении атомной бомбы выразилось в одном-единственном поступке: я подписал письмо президенту Рузвельту, в котором подчеркивалась необходимость широких экспериментальных исследований возможности изготовления атомной бомбы. Конечно, я понимал, что удача этого мероприятия угрожала человечеству ужасной опасностью. Но вероятность того, что немцы тоже работают над этой проблемой, и, возможно, работают успешно, вынудила меня сделать этот шаг. Я не видел иного выхода, несмотря на то что всегда был убежденным пацифистом. Убийство на войне, по моему мнению, ничем не лучше обычного убийства.
Тем не менее дело было сделано. 15 августа Лео Силард передал письмо Александру Саксу, а тот, улучив момент, 11 октября передал его президенту. Рузвельт сам прочитал текст, подписанный Эйнштейном, и внимательно выслушал финансиста. Президент почти не задавал вопросов. Казалось, он не испытывает энтузиазма при мысли о новом крупном проекте национальной обороны, который потребует больших бюджетных расходов. Затем он и вовсе предложил Саксу перенести разговор на завтра.
Опасаясь, что шанс убедить президента ускользает, финансист явился в Белый дом на следующее утро весьма взволнованным. Однако теперь Рузвельт был настроен на беседу и с готовностью начал слушать. Особый упор Сакс делал на использовании энергии атома в мирных целях, лишь вскользь упомянув о «бомбах невиданной ранее разрушительной силы». Закончив, финансист выразил собственное мнение: «Остается только надеяться на то, что люди не станут использовать энергию атомного ядра лишь для того, чтобы заставить своего соседа взлететь на воздух». Рузвельт уточнил: «В конечном счете то, чего вы добиваетесь, Алекс, это всеми средствами помешать нацистам пустить всех нас в воздух, не так ли?» Сакс ответил утвердительно. После этого Рузвельт вызвал своего военного советника, генерал-майора Эдвина Уотсона, известного в политических кругах под странным прозвищем Па, и передал ему бумаги Лео Силарда со словами: «Па, это требует действий!»
19 октября Франклин Рузвельт написал Альберту Эйнштейну ответ:
Мой дорогой профессор!
Я хочу поблагодарить Вас за ваше недавнее письмо и интересные сведения.
Я нашел их столь важными, что созвал комитет, в который вошли глава бюро стандартов, а также избранные представителей Армии и Военно-морского флота, которые тщательно исследуют возможности Вашего предложения, касающиеся урана.
Я рад сообщить, что доктор Сакс будет сотрудничать с этим комитетом, и я считаю, что это самый практичный и эффективный метод работы по данной теме.
Пожалуйста, примите мою искреннюю благодарность.
21 октября 1939 года состоялось и первое секретное заседание Консультативного комитета по урану под председательством Лаймана Бриггса, возглавлявшего в то время Национальное бюро стандартов США. На него были приглашены эксперты по вооружениям Кит Адамсон и Гилберт Гувер, инициатор проекта Александр Сакс, а также заинтересованные физики: Лео Силард, Эдвард Теллер, Юджин Вигнер и Ричард Робертс. Получил приглашение и Альберт Эйнштейн, но он отказался, сославшись на занятость. Собрание проходило непосредственно в самом бюро, располагавшемся в помещениях Министерства торговли.
Вначале Лео Силард рассказал собравшимся обо всех научных достижениях в сфере ядерных исследований, затем остановился на важности практического воплощения цепной реакции. Он заявил, что эксперименты с реактором, построенным на основе окиси урана и графита, весьма масштабны. Силард пытался проводить их еще с июля в Колумбийском университете, что на Манхэттене, вместе с Энрико Ферми, но до сих пор они не имели успеха.
Присутствовавшие эксперты по вооружениям не скрывали своего скептического отношения к словам физика. Разрушительный потенциал атомной бомбы попросту лежал далеко за пределами тех величин, которыми они привыкли оперировать. Подполковник Кит Адамсон не удержался от того, чтобы не рассказать армейский анекдот про козу, которую якобы привязали к колышку на лугу у Министерства обороны, назначив премию тому, кто сможет уничтожить животное смертоносным излучением, управляемым на расстоянии; и вот коза уже постарела и поседела, а премию пока никто не получил.
Со своей стороны и физики весьма слабо подготовились к собранию. Прямой вопрос о сумме, которую государство должно будет выделить на исследовательский проект Силарда, попросту поставил их в тупик. Первым опомнился Эдвард Теллер и поспешно назвал сумму: шесть тысяч долларов. Позже он скажет: «Все друзья потом упрекали меня за эти слова, потому что огромный проект по освоению ядерной энергии пришлось начинать с такой нищенской суммы. Думаю, они и до сих пор еще держат на меня обиду». После собрания Силард, быстро прикинувший в уме, что на один только графит им понадобится не менее 33 000 долларов, чуть не растерзал Теллера за его неожиданное вмешательство с такой скромной просьбой.
Но даже несмотря на ничтожность названной суммы, подполковник Адамсон решил немного охладить пыл ученых. «Исход войны определяет не оружие, – назидательно заявил он. – Оно не творит историю. Победа в любой войне зависит только от морального духа гражданского населения». Тут Юджин Вигнер, всегда вежливый и часто даже слишком официальный с коллегами, не смог сдержаться. «Что ж, если это действительно так, – сказал физик своим высоким голосом, – то значит, мы легко можем урезать финансирование армии на тридцать процентов и передать деньги гражданскому населению, что гарантированно укрепит моральный дух». Подполковник сильно покраснел и пробормотал, что физики получат свои деньги.
В течение пяти дней после этого исторического заседания Лео Силард подготовил программу проекта по исследованию свойств урана на территории США и отправил ее Лайману Бриггсу. В программе перечислялись необходимые, по мнению Лео, эксперименты и лаборатории, которые должны участвовать в проекте. Ученый также настаивал на том, чтобы все будущие доклады о ходе исследований были строжайшим образом засекречены и запрещены к публикации в общедоступной научной литературе.
Однако члены Консультативного комитета оказались не готовы к решительным действиям. В сообщении Франклину Рузвельту, датированном 1 ноября, говорилось всего лишь о решении начать исследования контролируемой цепной ядерной реакции, которая может быть использована в двигателях субмарин. Если выяснится, что при реакции выделяется еще и взрывная энергия, можно будет начать изучение урана как компонента бомбы. Для экспериментов Энрико Ферми и Лео Силарду выделялось 4 тонны очищенного графита и 50 тонн окиси урана – при убедительном обосновании необходимости их использования.
Важность работ над расщеплением ядра урана вроде бы никем, включая американского президента, не отрицалась, и это должно было бы воодушевлять Лео Силарда, однако получилось совсем не так, как он мечтал. Начался 1940 год, а у физика-эмигранта все еще не было гражданства и официального места работы. Он также не имел ни малейшего понятия о том, сколько еще продлится его сотрудничество с Колумбийским университетом. Он не мог даже вернуть две тысячи долларов, которые взял в кредит для оплаты экспериментов по подтверждению образования свободных нейтронов при расщеплении ядра атома.
Можно, конечно, объяснить бедственное положение ученого тем, что его новый шеф Лайман Бриггс недооценивал важность порученной работы и вообще страдал от слабого здоровья. Но в действительности главная проблема заключалась в том, что война шла в далекой Европе, – вступят ли в нее США, оставалось под вопросом. Казалось очень рискованным вкладывать значительные суммы в проект, который завтра может обернуться полным пшиком. И Биггс не хотел рисковать. Первые деньги – те самые жалкие шесть тысяч долларов, запрошенные Эдвардом Теллером, – поступили на счет физиков только 20 февраля 1940 года.
Трансурановые элементы
Хотя практическая ядерная физика в США застопорилась из-за сомнений военных, академические исследования продолжали получать финансирование и принесли результаты, которые впоследствии очень пригодились тем, кто создавал атомное оружие. В частности, были наконец-то открыты трансурановые элементы таблицы Менделеева: нептуний и плутоний.
Мы помним, что одним из первых получить химические элементы, стоящие в таблице за ураном, пытался еще Энрико Ферми со своими римскими «мальчуганами». И вроде бы у него это даже получилось. В июне 1934 года Ферми анонсировал статью «О возможном производстве элементов с порядковым числом больше 92». Он даже придумал названия для новых элементов: «аузоний» для элемента с порядковым номером 93 и «гесперий» для элемента с порядковым номером 94. Однако физик быстро осознал шаткость доказательной базы и решил еще раз всё перепроверить. На проверке настаивала и оппонент Ферми – немецкий радиохимик Ида Ноддак. Ее аргументы возымели действие, и великий итальянец отказался от сомнительного открытия. И оказался прав: в уране после бомбардировки традиционным методом получались не трансурановые тяжелые, а более легкие элементы. Для того чтобы получить вожделенные «аузоний» и «гесперий», понадобилось оборудование следующего поколения – циклотрон.
Циклотрон изобрел американский физик Эрнест Лоуренс в 1929 году. Вспомним суть его изобретения. Чтобы заставить поток протонов двигаться по кругу, можно использовать магнит. Если затем воздействовать на протоны еще и переменным электрическим полем, то скорость движения частиц будет возрастать. Как выяснил Лоуренс, именно так и должен работать аппарат, открывающий человеку путь к секретам атомного ядра. На постройку маленькой демонстрационной модели у него ушло всего 25 долларов. Диаметр устройства составлял чуть более 10 сантиметров – ее можно было держать на ладони. Хотя модель пока не сообщала протонам той большой энергии, о которой говорил Лоуренс, ее работа впечатлила коллег. Научное название аппарата – «циклический резонансный ускоритель» – было слишком громоздким, а вот слово «циклотрон» звучало как термин из научно-фантастического романа и было гораздо привлекательнее для потенциальных спонсоров.
Лоуренс поставил производство аппаратов на поток. Циклотрон с магнитом, полюсный наконечник которого имел диаметр около 28 сантиметров, придавал протонам энергию, равную более чем миллиону электрон-вольт. Затем диаметр увеличили до 68 сантиметров, а вскоре и до 94. Когда в январе 1939 года стало известно о расщеплении ядра урана, Лоуренс как раз планировал 152-сантиметровый циклотрон, который придавал протонам энергию, равную приблизительно 20 миллионам электрон-вольт. Вес магнита в подобном устройстве составлял 200 тонн.
Циклотрон диаметром 152 сантиметра едва только заработал, а Эрнест Лоуренс уже трудился над новым устройством. Его очередным детищем должен был стать гигантский суперциклотрон диаметром более 300 сантиметров, магнит в котором весил уже 2000 тонн. По оценкам изобретателя, такое устройство давало протонам энергию в 100 миллионов электрон-вольт, что практически равнялось той, которая выделяется при ядерных реакциях. Воодушевление Лоуренса, который за свои изобретения получил Нобелевскую премию, росло, и он решил еще увеличить размеры будущего суперциклотрона: теперь в нем должен был стоять магнит с полюсным наконечником диаметром 467 сантиметра и массой 5000 тонн. По расчетам, аппарат должен был обойтись в полтора миллиона долларов.
Впрочем, мало создать устройство, важнее – его правильно применить. И тут свое слово сказал еще один выдающийся американский физик, Эдвин Макмиллан. Он много лет работал с циклотронами Лоуренца. Когда стало известно о том, что атомное ядро расщепляемо, Макмиллан решил провести простые эксперименты, только чтобы подтвердить данный феномен. В результате бомбардировки нейтронами ядра урана образовалось радиоактивное вещество, период распада которого равнялся приблизительно 23 минутам. Подобно предшественникам, Макмиллан посчитал его ураном-239, полученным после резонансного захвата нейтрона атомом урана-238. Однако было выделено еще одно вещество с периодом распада примерно в два дня. Макмиллан решил, что это некий новый элемент, образующийся при испускании ураном-239 бета-частицы – в ходе превращения нейтрона в протон. Возможно, получившееся вещество – это и есть искомый многими элемент с атомным номером 93, то есть первый в ряду трансурановых элементов. Как и Отто Ган, Макмиллан полагал, что по своим свойствам 93-й элемент должен походить на рений.
При поддержке Эмилио Сегре, одного из римских «мальчуганов» Ферми, американский физик попытался собрать доказательства своего предположения. Эксперименты, однако, не дали заметного результата. Итоги исследований Сегре опубликовал в «Физикал ревью» с комментарием: «Поиск трансурановых элементов не увенчался успехом».
Макмиллан тем временем уточнил данные о периоде распада таинственного вещества. Согласно последним измерениям, он составлял 2,3 дня. Ученый твердо намеревался распознать этот элемент. Весной 1940 года для дальнейших исследований он использовал 152-сантиметровый циклотрон Лоуренса. Теперь ему помогал еще и Филип Абельсон из Института Карнеги. Как оказалось, по своим свойствам вещество не так уж сильно отличалось от урана. Напрашивался единственный вывод: все-таки перед нами тот самый элемент-93. Макмиллан назвал новый элемент «нептунием», используя простой принцип: новый элемент стоит в периодической таблице следом за ураном, точно так же, как планета Нептун в Солнечной системе находится сразу за Ураном. Не видя особых причин скрывать свое открытие, 27 мая Макмиллан и Абельсон отослали в «Физикал Ревью» статью, в которой рассказали обо всех результатах своей работы. 15 июля она была опубликована.
Новое открытие породило очередной вопрос. Если элемент-93 радиоактивен, имеет период распада, равный 2,3 дня, то во что он превращается в результате этого распада? У Макмиллана уже имелись мысли на сей счет. Он считал, что элемент-93 распадается, возможно, также с испусканием бета-частицы и превращением в протон еще одного нейтрона. Образуется элемент-94, за которым можно зарезервировать название «плутоний».
Лео Силард ничего не знал о готовящейся статье Макмиллана и Абельсона до того момента, когда она была опубликована. У них даже и мысли не было о том, чтобы спросить у кого-нибудь из коллег, безопасно ли размещать материалы исследований в открытой печати. Однако, по чистому совпадению, в тот же самый день, когда физики отправили статью в редакцию журнала, Силард получил рукопись с материалами по тому же самому вопросу от Льюиса Тернера из Принстона, который занимался теоретической физикой.
В январе 1940 года Тернер изучил всю доступную литературу по расщеплению ядра урана. Всеобщее внимание в то время было обращено на изотоп уран-235, но Тернер упрямо развивал идею получения атомной энергии из стабильного и гораздо более распространенного урана-238. Захват нейтронов ядром урана-238 рассматривался как досадная помеха, ликвидировать которую можно при использовании подходящего замедлителя. Дальше Льюис Тернер размышлял следующим образом. Захват нейтрона ядром урана-238 должен создавать нестабильный изотоп уран-239, при распаде которого выделится элемент с порядковым номером 93. Исходя из известных теоретических принципов, можно сделать вывод о том, что элемент-93 нестабилен и довольно быстро претерпит распад, образовав элемент с атомным номером 94. Получение очередного элемента таблицы Менделеева открывало большие перспективы. Его ядро должно состоять из 94 протонов и 145 нейтронов, то есть всего из 239 нуклонов. Похожее соотношение количества нуклонов наблюдается у урана-235 (92 протона, 143 нейтрона). Простейшие вычисления подсказывали, что новый элемент будет расщепляться даже проще, чем уран-235. Получить его можно будет из распространенного повсюду урана-238, а учитывая тот факт, что это самостоятельный элемент, то отделить его от исходного урана химическим методом не составит особого труда. Льюис Тернер предположил, что элемент-94 – потенциально новое ядерное топливо, пригодное для поддержания цепной реакции.
Ученый набросал статью для публикации в «Физикал ревью», а к Лео Силарду обратился за советом: безопасно ли размещать ее в печати? «На первый взгляд это почти сумасшедшая гипотеза, – писал он, – и поэтому публикация вряд ли кому-то повредит. Но хотелось бы услышать чье-то еще мнение». Конечно, выводы Тернера были умозрительными, но Силард умел разглядеть ясную перспективу там, где остальные видели лишь туман. Он был потрясен заключениями, проистекавшими из того, что было изложено его коллегой. «Когда я понял выводы Тернера, – признался Силард впоследствии, – то перед моими глазами ясно предстало будущее атомной энергии». Он понял, что с применением элемента-94 осуществить самоподдерживающуюся цепную реакцию, а значит, и создать атомную бомбу станет намного проще, чем раньше. В итоге Силард порекомендовал Тернеру отложить публикацию статьи «на неопределенный срок».
Несмотря на новые революционные открытия, Консультативный комитет по урану топтался на месте. Лео Силарду пришлось опять обратиться к Эйнштейну. 7 марта 1940 года знаменитый физик направил президенту Рузвельту второе письмо, в котором, в честности, сообщалось:
С начала войны в Германии усилился интерес к урану. Сейчас я узнал, что в Германии в обстановке большой секретности проводятся исследовательские работы, в частности в Физическом институте, одном из филиалов Общества имени кайзера Вильгельма. Этот институт передан в ведение правительства, и в настоящее время группа физиков под руководством К. Ф. фон Вайцзеккера работает там над проблемами урана в сотрудничестве с Химическим институтом. Бывший директор института отстранен от руководства, очевидно, до окончания войны.
Второе общее заседание Консультативного комитета состоялось 28 апреля. На нем был поставлен вопрос о более энергичной поддержке работ и лучшей их организации. Резолюция, принятая на втором заседании, эффекта не возымела.
Впрочем, на горизонте наконец-то замаячили некие перемены. Еще летом 1939 года Ванневар Буш оставил пост вице-президента Массачусетского технологического института и перешел на должность президента Научного института Эндрю Карнеги в Вашингтоне. Электротехник по образованию, с годами он становился все более практичным управленцем. Возглавив Институт Карнеги, Буш начал оказывать на законодателей давление: он хотел учредить государственную организацию, которая должна была заниматься поддержанием взаимного сотрудничества между учеными и военными. 12 июня 1940 года он представил свои аргументы Франклину Рузвельту. Благодаря его инициативе и поддержке президента был сформирован Национальный комитет по оборонным исследованиям (НКОИ).
Одним из первых действий Национального комитета стало взятие под надзор Консультативного комитета по урану. Незамедлительно было принято решение ввести строгий контроль над информацией: все документы по исследованиям расщепления ядра урана объявили совершенно секретными. На посту председателя комитета оставили Лаймана Бриггса. Однако он должен был регулярно отчитываться перед Джеймсом Конентом – президентом Гарвардского университета, вступившим в комитет по приглашению Буша. Теперь финансирование уранового проекта в гораздо меньшей степени зависело от военных советников с их вечным скептицизмом.
И все же коренным образом ситуация не изменилась. Буш и Конент осознавали явную угрозу, которую может представлять созданная Германией атомная бомба. Но вместо того чтобы настаивать на увеличении финансирования американской ядерной программы, они предпочли направлять исследования на получение доказательств невозможности создания такой бомбы. Ведь если бы это действительно оказалось так, то от нацистов не стоило ожидать угрозы ее применения. В докладе от 1 июля 1940 года Лайман Бриггс сообщал о прогрессе, достигнутом на данный момент, и просил выделить 40 000 долларов на крайне важные исследования – определение ядерных свойств изучаемых материалов. Еще 100 000 требовались ему для крупномасштабных экспериментов над уран-графитовым реактором. Однако комитету выделили только 40 000.
Учреждение Национального комитета по оборонным исследованиям породило непредвиденную проблему. Поскольку эта организация была чисто американской и занималась секретными военными проектами, то ее сотрудниками могли быть только граждане США. В результате Ферми, Силарда, Теллера и Вигнера отстранили от работы. Невероятный абсурд! Финансист Александр Сакс изо всех сил защищал ученых, доказывая, что вся работа Консультативного комитета по урану напрямую зависит от достижений этих эмигрантов, которым теперь запретили продолжать исследования.
Военная контрразведка провела все возможные проверки. Результаты были парадоксальны. Например, в обобщенном донесении об Энрико Ферми говорилось, что он, «вне всякого сомнения, фашист». Далее следовала рекомендация не допускать его к засекреченным исследованиям. В разведданных, касающихся Лео Силарда, сообщалось, будто он настроен «крайне прогермански» и «неоднократно высказывал свое мнение о том, что победителем в войне будет именно Германия». Его также рекомендовали отстранить от любых работ, объявленных секретными. Оба донесения ссылались на «полностью достоверные источники». Ирония заключалась в том, что информацией, которую стоило в первую очередь засекречивать, владели как раз те ученые, коих власти хотели отстранить от работы.
Донесения контрразведки в августе 1940 года отправили Джону Гуверу с просьбой привлечь к дальнейшим проверкам Федеральное бюро расследований. Данные, полученные его ведомством, почти слово в слово повторяли то, что ранее сообщали военные. Но рекомендации из донесений в полной мере выполнены не были: аргументы Александра Сакса оказались сильнее. Всем четверым физикам-эмигрантам разрешили участвовать в проекте, правда не в качестве полноправных членов Национального комитета, а только как консультантам.
Хотя проект получил гораздо более высокий статус, работа продвигалась медленно. Объективности ради следует сказать, что все полученные на тот момент результаты выглядели обескураживающими. Стало точно известно, что под воздействием медленных нейтронов расщепляется только изотоп уран-235, однако отделить его от урана-238, по мнению ученых, было очень сложно. Первые данные, указывающие на возможность создания самоподдерживающегося уранового реактора, обнадеживали и разочаровывали одновременно. Предполагалось, что очищенный графит послужит неплохим замедлителем, однако до сих пор не было точно известно, возможна ли самоподдерживающаяся цепная реакция в урановом «котле», в котором количество урана-235 не увеличено (то есть он не обогащен). Если удастся построить и запустить реактор, то в нем при поглощении нейтронов ядрами урана-238 должен образоваться элемент-94 (плутоний), который выделить, судя по всему, гораздо проще. В свою очередь, этот элемент также мог быть расщепляемым. В довершение ко всему Эдвард Теллер произвел вычисления, результаты которых позволяли предположить, что масса урановой бомбы превышает 30 тонн. Даже если допустить, что подобное устройство все-таки получится привести в действие, доставить его к цели будет невозможно ни одним из известных способов.
Таким образом, целый год для американского уранового проекта был безвозвратно потерян. В сомнениях оставались и физики, и политики, и военные. Но именно в это время в Великобритании произошел настоящий прорыв в области теоретических предпосылок к созданию атомной бомбы.
Прямая и явная угроза
Британские физики по праву могли гордиться своими достижениями. Именно в Великобритании вскоре после окончания Первой мировой войны Эрнест Резерфорд «расщепил атом». Именно в Великобритании неуклонно развивалась Кавендишская лаборатория Кембриджского университета, слава о которой распространилась по всему миру. Логично предположить, что именно здесь в связи с угрозой военной опасности будет исследоваться возможность изготовления атомного оружия. Но поначалу дело обстояло не так: все силы были брошены на конструирование радара, который мог уберечь территорию Великобритании от неожиданных и сокрушительных налетов люфтваффе.
Попытку продолжать эксперименты с атомным ядром предпринял лишь один ученый – Джордж П. Томсон, сын знаменитого Джозефа Томсона, который, как мы помним, придумал модель атома в виде «пудинга с изюмом». Томсон-младший знал о войне не понаслышке: в 1914 году он отказался от чтения лекций и вступил в армию. После войны он возвратился в Кембридж и выполнил в Кавендишской лаборатории экспериментальные исследования по аэродинамике, а в 1930 году был назначен профессором физики в Имперском колледже науки и техники. Именно здесь Томсон прочитал в журнале «Нейчур» о работах коллектива Жолио-Кюри в Париже. «Я начал думать о некоторых экспериментах с ураном, – рассказывал он позднее. – И то, о чем я думал, представляло нечто большее, чем чисто академические исследования, поскольку в основе моих раздумий лежали мысли о возможности создания оружия».
Для проведения экспериментов Джорджу Томсону потребовалось около тонны окиси урана. Его целью было получить ответ на вопрос: можно ли осуществить продолжительную цепную реакцию, используя окись урана и воду или парафин в качестве замедлителя? Интересно, что парафин Томсон и его сотрудники добывали из обычных елочных свечек. Главная проблема состояла в том, чтобы найти такие варианты комбинаций окиси и замедлителя, которые обеспечили бы желаемое размножение нейтронов. Проходило лето, и становилось все более очевидным, что получение цепной реакции в уране таким способом – дело сложное. И к концу августа 1939 года физикам стало казаться, что высвобождение атомной энергии – дело отдаленного будущего. Выход следовало искать в использовании тяжелой воды, но в Великобритании ее было очень мало.
Такие пессимистические, но хорошо обоснованные взгляды сказались на содержании письма, направленного в конце последнего предвоенного лета Уинстоном Черчиллем государственному секретарю по авиации Кингсли Вуду:
Несколько недель назад одна из воскресных газет поместила статью об огромных количествах энергии, которую можно выделить из урана с помощью недавно открытых цепных процессов, возникающих при расщеплении атома урана нейтронами. На первый взгляд могло показаться, что это предвещает появление новых взрывчатых веществ сокрушительной мощности. <…>
Возможно, что будут умышленно распускаться слухи (как делается всегда, когда усиливается международная напряженность) относительно использования этого процесса для производства какого-то ужасающего нового секретного взрывчатого вещества, способного смести Лондон с лица Земли. Несомненно, что «пятая колонна» попытается повлиять на нас и посредством этой угрозы посеять дух капитуляции. По этой причине категорически необходимо установить истинное положение дел.
Во-первых, самые лучшие авторитеты считают, что лишь небольшая составная часть урана эффективно участвует в этих процессах. Использование же их в крупных масштабах – дело многих лет. Во-вторых, цепная реакция возможна лишь в том случае, если уран собран в большую массу. По мере нарастания энергии масса будет взрываться с умеренной детонацией, до того как произойдут какие-либо сильные эффекты. Это может оказаться тем же, что и современные взрывчатые вещества, и маловероятно, чтобы могло произойти что-нибудь значительно более опасное. В-третьих, данные эксперименты не могут быть проведены в малом масштабе. Если бы они были успешно выполнены в большом масштабе (то есть с результатами, которые угрожали бы нам вне зависимости от шантажа), то это невозможно было удержать в секрете и мы бы узнали о них. В-четвертых, на территории Чехословакии, контролируемой Берлином, урана имеется сравнительно немного.
Поэтому боязнь того, что новое открытие обеспечит нацистов каким-то зловещим новым секретным взрывчатым веществом, с помощью которого они уничтожат своих противников, очевидно, не имеет оснований. Несомненно, будут делаться туманные намеки и непрестанно распускаться пугающие шепотки, но следует надеяться, что никто им не поддастся.
Многие замыслы об атомной бомбе, в сентябре 1939 года казавшиеся в какой-то степени реальными, в первые месяцы войны потеряли всякое значение. В научно-популярных журналах еще могла обсуждаться возможность такого оружия, однако физики имели другое мнение на этот счет. Они знали, что с помощью замедленных нейтронов можно изготовить «котел», но бомбу с разрушительной силой, оправдывающей затраченные на нее усилия, – едва ли. Что касается быстрых нейтронов, то они, казалось, никогда не смогут стать спусковым механизмом чудовищного взрыва.
Такое безнадежное положение дел обернулось реальным прорывом из-за двух обстоятельств. Одним из них стало подстегивающее действие страха при мысли, что кто-то в Германии найдет ключ к решению проблемы (чего совершенно не было в США, если исключить Лео Силарда с его богатым воображением). Другим была не потерянная еще уверенность, что небывалый взрыв все же можно получить, если изготовить блок из чистого урана, превосходящий «критическую массу». В таком блоке быстрые нейтроны могли быть достаточно эффективными, чтобы произвести взрыв, даже если большая часть их захватят ядра урана-238.
О такой возможности физики знали давно, и в начале 1939 года она служила темой для шуток, которые можно было слышать в студенческих аудиториях Кембриджа. Говорили, что физики в состоянии легко разрешить «проблему Гитлера». Достаточно сотрудникам дюжины лабораторий упаковать в виде посылок имеющийся у них уран, адресовать их фюреру и высылать почтой по заранее составленному расписанию. Посылки стали бы прибывать в различное время дня и попадать к Гитлеру на письменный стол. Наконец прибудет последняя «критическая» посылка. Самая тщательная проверка ничего не даст: посылка будет выглядеть совершенно безобидно до тех пор, пока ее не положат на стол рядом с остальными. И в тот же момент фюрер исчезнет в пламени атомного взрыва.
Как бы ни шутили, оставалось препятствие, кажущееся непреодолимым: вопрос о размере критической массы. Хотя точных чисел назвать никто не мог, а вычисления были весьма сложными, ученые представляли себе, что критическая масса, если она вообще существует, должна значительно превосходить все количество чистого урана, добытого за год. Высказывались предположения, что если бы даже и удалось ее получить, то взрыв атомной бомбы был бы эквивалентен взрыву нескольких тонн тринитротолуола или аналогичного ему химического взрывчатого вещества – и не больше.
В Великобритании разрешением этого вопроса занимался берлинец Рудольф Пайерлс, эмигрировавший сначала в Цюрих, а затем перебравшийся в Кембридж. Пайерлс, подобно многим другим эмигрантам, испытавшим на себе давление нацистского режима, постоянно находился в тревоге из-за слухов о том, что в Германии может появиться оружие, с помощью которого Гитлер поработит весь мир. Летом 1939 года профессор Пайерлс решил определить критическую массу блока из чистого урана. Вопрос и ответ, приведенные в статье, полученной Кембриджским физическим обществом 14 июня, носили вроде бы чисто академический характер. Пайерлс писал, что цепная реакция, вызываемая размножением нейтронов, по-видимому, осуществима в чистом уране. Он добавлял, что «размножение нейтронов возможно только в том случае, если путь, пройденный каждым нейтроном внутри тела, достаточен, чтобы произошло столкновение». Далее он предлагал серии уравнений, в которые было необходимо лишь подставить ядерные константы, чтобы получить критическую массу урана (то есть размер возможной бомбы). Позднее он рассказывал, что его проверочный расчет давал массу в несколько тонн и огромные размеры, поэтому он с легкой душой отправил статью в печать, полагая, что такую «махину» никогда и никто построить не сможет. Статья под заголовком «Критические условия процесса размножения нейтронов» была опубликована в октябрьском выпуске «Трудов Кембриджского физического общества» – через несколько недель после начала войны.
Тут эстафету подхватил Джеймс Чедвик – тот самый английский физик, который в 1932 году открыл нейтрон. Через три года после своего выдающегося открытия Чедвик перебрался из Кембриджа в Ливерпуль, где занялся сооружением первого британского циклотрона. К началу 1939 года на циклотроне было проведено немало работ, и Чедвику удалось сколотить неплохой коллектив экспериментаторов. Среди них был талантливый молодой поляк Джозеф Ротблат, первым осуществивший в Варшаве эксперименты по ядерному делению.
Мысль о том, что цепная реакция деления урана может послужить основой для создания бомбы, возникла у Джеймса Чедвика поздней осенью 1939 года. Как он думал, реакция, распространяемая медленными нейтронами (единственный вариант, рассматривавшийся в то время), способна вызвать эффект, лишь ненамного отличавшийся от того, который дает сильно взрывчатое химическое вещество. Поэтому, чтобы изготовить новый вид оружия, нужно получить цепную реакцию, инициируемую быстрыми нейтронами. Такая реакция казалась невозможной в природном уране, хотя бы и в большом объеме. Чедвик решил исследовать уран-235, установив раз и навсегда его эффективное поперечное сечение на быстрых нейтронах.
Серию экспериментов на циклотроне он начал в январе 1940 года. Непосредственной работой занимался Джозеф Ротблат. После запуска циклотрона записывающие приборы показали ежеминутное возникновение нескольких перемежающихся всплесков на кривой. Затем настала очередь урана-235. Разница в результатах оказалась громадной: аппаратура записала очень высокую активность. Атомы урана-235 расщеплялись со скоростью, которая в 10 000 раз и более превосходила скорость деления атомов урана-238. Теперь оставалось определить, какая критическая масса урана-235 потребуется для того, чтобы вызвать атомный взрыв.
Эмигрантская бомба
Одной из ключевых фигур британского атомного проекта стал знакомый нам австрийский физик Отто Фриш – племянник Лизы Мейтнер, вместе с которой он открыл распад ядра урана под воздействием нейтронов. Зимой 1939 года Отто Фриш жил с семьей в Стокгольме, но чувствовал, что мирная жизнь заканчивается. Росло чувство незащищенности. Когда в лабораторию Нильса Бора в Копенгагене приехали британец Патрик Блэкетт и австралиец Марк Олифант, Фриш попросил их о помощи. Олифант очень участливо отнесся к просьбе Фриша и вскоре прислал ему письмо, в котором приглашал его посетить Бирмингем летом 1939 года. Спокойствие и уверенность Олифанта весьма впечатлили Фриша, который никак не мог выйти из депрессии, и он не стал ждать еще одного приглашения. Упаковав два маленьких чемодана, он выехал в Англию в качестве туриста.
Австралиец устроил Фриша на должность младшего преподавателя. Тот работал со студентами не на постоянной основе, поэтому, имея достаточно свободного времени, мог снова заняться проблемой деления ядер. Используя лабораторию в те моменты, когда она не была занята, Отто Фриш провел несколько небольших экспериментов по обогащению урана-235 методом термодиффузии. Прогресс, однако, был невелик.
Тем временем к Фришу обратилось Британское химическое общество с просьбой написать для них обзорный материал по достижениям в области изучения атомов. Рассказывая в своей статье о расщеплении ядра, Отто Фриш повторял общепринятое на тот момент мнение: если однажды и удастся осуществить самоподдерживающуюся цепную реакцию, то с учетом того, что в ней должны использоваться медленные нейтроны, взорвать атомную бомбу будет практически невозможно. Но, закончив статью, он задумался. Основная проблема на данный момент заключается в медленных нейтронах. Ядро урана-238 всегда захватывает быстрые нейтроны, имеющие определенную «резонансную» скорость; для реакции же с природным ураном необходимы исключительно медленные нейтроны. Если построить цепную реакцию на медленных нейтронах, то высвобождаемая энергия нагреет уран и, возможно, расплавит его еще до того, как он сможет взорваться. По мере нагревания урана в реакцию будет вступать всё меньше нейтронов, и в итоге она попросту затухнет.
Все ведущие физики пришли к такому же мнению. Однако Фриша очень интересовал ответ на вопрос: что все-таки произойдет, если использовать быстрые нейтроны? Вдруг для цепной реакции на быстрых нейтронах окажется достаточно меньшего количества урана-235, чем считалось прежде?
Отто Фриш поделился своими мыслями с Рудольфом Пайерлсом, который, как мы помним, в июне 1939 года вывел формулу расчета критической массы материала, необходимой для поддержания цепной ядерной реакции. Пайерлс использовал свою формулу для расчета смеси изотопов с большим содержанием урана-238. Фришу необходимо было проводить вычисления другого порядка – с участием чистого урана-235 в присутствии не медленных, а быстрых нейтронов. Проблема заключалась в том, что никто пока не знал, какой должна быть доля урана-235, чтобы обеспечить успешное участие в реакции быстрых нейронов. А не знали этого ученые потому, что пока еще никому не удалось получить достаточное количество урана-235 в чистом виде.
В такой ситуации оставалось только выдвигать предположения. Например, можно было допустить, что каждый нейтрон, попадающий в ядро урана-235, вызывает его немедленный распад. Подобное допущение заметно упростило расчеты. Теперь оставалось только вычислить, какое количество урана-235 необходимо для того, чтобы он легко расщеплялся быстрыми нейтронами.
Отто Фриш и Рудольф Пайерлс подставили в формулу новые числа и были сражены полученным результатом. О десятках тонн урана теперь и речи не шло. Критическая масса, согласно расчетам, составляла всего несколько килограммов. Для вещества с плотностью урана объем такого количества не превышал бы величины мячика для гольфа. По оценкам Фриша, столько урана-235 можно получить за несколько недель, использовав сто тысяч обогатительных аппаратов, подобных тому, который он собрал в бирмингемской лаборатории. В тот момент физики осознали, что создать атомную бомбу все-таки возможно.
Интересно, что поляк Джозеф Ротблат, живший в Ливерпуле, пришел примерно к такому же выводу, что и его коллеги. Зверства, которые творили гитлеровцы у него на родине, подтолкнули Ротблата в конце ноября 1939 года сделать Джеймсу Чедвику предложение обдумать проблему создания атомной бомбы. О своих чувствах поляк писал впоследствии так: «В то время я просто места себе не находил, пытаясь решить, возможно, самую ужасную дилемму из тех, что могут встать перед ученым. Работа над оружием массового поражения ломала все мои убеждения – убеждения о том, каким целям должна служить наука, – но любым идеалам все равно пришел бы конец, если бы в руках у Гитлера всё-таки оказалась бомба».
Ротблат самостоятельно пришел к выводу о том, что расщепление урана-235 медленными нейтронами не породит взрывное выделение ядерной энергии – это возможно только при использовании быстрых нейтронов. Чедвик, выслушав его, лишь хмыкнул в ответ. Однако первоначальный скептицизм англичанина вскоре уступил место нарастающему интересу, а приведенные Ротблатом аргументы подтверждали некоторые догадки Чедвика по данному вопросу. В итоге они вместе сели обсуждать эксперименты, необходимые для достижения поставленной цели.
В это время Отто Фриш и Рудольф Пайерлс обсудили новейшие полученные результаты с австралийцем Марком Олифантом. Тот сразу согласился с приведенными аргументами и рекомендовал изложить их в коротком меморандуме. Ученые составили меморандум в двух частях, обе датированы мартом 1940 года. В первой части рассказывалось главным образом о реальной возможности создать «супербомбу» с использованием урана-235 и о физических принципах, на которых основывалось ее действие. Вторая часть, озаглавленная «Краткое сообщение о свойствах радиоактивной супербомбы», содержала в себе множество удивительно точных предсказаний самого разного толка. Авторы утверждали, что создание атомного оружия – «дело ближайшего времени»; что применение атомной бомбы невозможно без «гибели большого количества мирного населения»; что, «по всей вероятности, Германия действительно занимается разработкой этого оружия».
Энергия, выделяющаяся при взрыве такой супербомбы, примерно такая же, какая выделяется при взрыве 1000 тонн динамита. Энергия выделяется в небольшом объеме, в одно мгновение, при этом возникает температура, сравнимая с солнечной. Ударная волна от такого взрыва уничтожит жизнь в обширной области. Размер этой области трудно оценить, но, вероятно, она покроет центр большого города.
Кроме того, некоторая часть энергии, освобожденной при взрыве бомбы, произведет радиоактивные вещества, которые будут генерировать очень мощные и опасные излучения. Влияние этих излучений будет наибольшим сразу после взрыва, но вещества распадаются лишь постепенно, и даже в течение нескольких дней после взрыва любой человек, оказавшийся в зоне поражения, погибнет.
Некоторые из этих радиоактивных веществ будут распространяться вместе с ветром, загрязняя территорию в несколько миль и продолжая убивать людей.
Удивительно точное для того времени описание последствий атомного взрыва. В записке косвенно говорилось и о «политике сдерживания», которая войдет в практику с появлением атомного оружия:
Если детально проработать предположение о том, что Германия располагает или будет располагать таким оружием, становится совершенно очевидно: найти надежное укрытие от него попросту невозможно, тем более укрытие для большого количества людей. Наиболее эффективной мерой противодействия такому оружию будет только встречная угроза применения аналогичной бомбы.
Марк Олифант отправил подготовленный учеными материал Генри Тизарду – химику из Оксфорда, который занимал должность председателя Комитета по исследованиям в области авиации. Хотя практически все внимание Комитета было отдано разработкам радаров, он всё же считался одной из ведущих организаций, заинтересованных в использовании науки в военное время. Тизард порекомендовал создать небольшую консультативную группу. В итоге в нее вошли сам Олифант, Джордж Томсон, Патрик Блэкетт и Джон Кокрофт. Во главе группы поставили Джорджа Томсона. И опять сложилась парадоксальная ситуация: Отто Фриша и Рудольфа Пайерлса, которые сделали ключевое открытие, прямиком ведущее к созданию атомной бомбы, в состав консультативной группы не включили, поскольку они формально числились гражданами враждебного государства.
Первое заседание группы состоялось 10 апреля в Лондоне, в здании Королевского научного общества. За день до этого германские войска вошли в Данию и Норвегию. Участники группы изучили материалы, подготовленные Фришем и Пайерлсом, но отнеслись к ним скептически. Они признали, что серия небольших экспериментов по обогащению урана-235 имеет смысл, но в то же время нет никаких причин переводить эти исследования в ранг имеющих стратегическое военное значение. Как видите, на этом этапе проекта заседание группы, возглавляемой Джорджем Томсоном, ничем не отличалось от аналогичного заседания комитета, возглавляемого Лайманом Бриггсом в США.
Впрочем, на этом сходство и заканчивалось. 16 апреля Томсон написал Джеймсу Чедвику письмо с приглашением присоединиться к группе. Узнав подробнее о планах Фриша и Пайерлса, Чедвик оказался сбит с толку. В целом его мысли совпадали с тем, что предлагали коллеги, однако Чедвик, не имея на тот момент экспериментальных доказательств, не был уверен, что создание атомной бомбы с использованием урана-235 реально. Британский ученый согласился только с технической частью меморандума, и это резко повысило убедительность изложенного материала для других членов консультативной группы.
Отто Фриш ждал реакции на меморандум, все больше беспокоясь о своей дальнейшей судьбе. Он получил вызов из полиции и выдержал целый допрос. Над ним нависла угроза высылки на остров Мэн, куда отправляли всех нежелательных или подозрительных иностранцев. В это беспокойное время Фриш придумал альтернативный способ выявления механизма цепной реакции. Он решил бомбардировать природный уран медленными нейтронами, которые выбивал гамма-излучением радия из бериллиевой мишени (в то время этот способ считался устаревшим и уступил место более совершенным – с использованием циклотрона Лоуренса). Фриш обработал примерно грамм урана, помещенного в камеру ионизации. И ему удалось сделать целых два важных открытия.
Прежде всего Фриш обратил внимание на явление, которое сначала интерпретировал как аномалию, возникшую в ходе эксперимента. Ядра урана-235 оказались настолько нестабильны, что время от времени попросту распадались без всякого внешнего воздействия, выделяя свободные нейтроны и прочие продукты деления. Вторым открытием стал тот факт, что Фриш, как оказалось, преувеличил количество урана-235, необходимого для эффективного расщепления вещества медленными нейтронами. Это означало, что он преуменьшил критическую массу этого изотопа, необходимую для поддержания цепной реакции. По стечению обстоятельств в то же самое время Пайерлс установил, что критическую массу можно сократить, если окружить делящееся вещество таким материалом, который станет отражать все стремящиеся во внешнюю среду нейтроны обратно в это вещество. Фактически ученые вернулись к тому, с чего начинали.
«Комитет Мауд»
Наконец-то консультативная группа по урану обрела официальный статус. В разговорной речи ее называли «Комитетом Томсона» или «Комитетом профессора Томсона», но такие названия, разумеется, не годились. Прямое указание на то, что Томсон возглавляет какую-то группу, говорило любому мало-мальски осведомленному человеку о работе англичан над проблемой ядерного деления. Нужно было придумать условное наименование в чисто военном стиле.
Существуют две версии о том, как его выбрали.
Самая популярная звучит так. На первом заседании группы вместе с другими вопросами обсуждалась загадочная телеграмма, полученная Фришем и пересланная им Томсону. Она была отправлена 9 апреля Лизой Мейтнер физику Оуэну Ричардсону, в тот день, когда немецкие войска перешли границы Дании: «НЕДАВНО УДАЛОСЬ ВСТРЕТИТЬСЯ С НИЛЬСОМ И МАРГАРЕТ ОБА В ПОРЯДКЕ НО РАССТРОЕНЫ НЕДАВНИМИ СОБЫТИЯМИ ПОЖАЛУЙСТА ИЗВЕСТИТЕ КОКРОФТА И МАУД РЕЙ КЕНТ». В начале сообщения речь шла о том, что с Нильсом Бором и его женой все благополучно, а вот последняя часть («PLEASE INFORM COCKCROFT AND MAUD RAY KENT») казалась совершенно необъяснимой. Ричардсон показал телеграмму Джону Кокрофту, а тот передал ее своим коллегам в консультативной группе. Судя по воспоминаниям участников тех давних событий, научные и военные авторитеты, присутствовавшие на заседании, изо всех сил состязались в догадливости. Наконец все сошлись на мнении, что это анаграмма, которую следует читать так: «RADIUM TAKEN» – «РАДИЙ ЗАБРАН», что означает: немецкие ядерщики быстро продвигаются вперед. Затем кто-то из присутствующих на заседании предложил назвать консультативную группу словом «Мауд», не имеющим никакого значения, но напоминающим его членам, с чего все началось. Предложение единогласно приняли: «Комитет профессора Томсона» превратился в «Комитет Мауд» (MAUD Committee). Постскриптум к этой истории добавил сам Нильс Бор, когда через три с половиной года прибыл из Дании в Англию. Оказалось, что его телеграмма была сильно искажена при передаче, а точный адрес после слов «МАУД РЕЙ» выпал из текста. Бор поинтересовался: дошла ли его телеграмма до Кокрофта, а также до… его прежней гувернантки мисс Мауд Рей, проживавшей тогда в Кенте?
То, что телеграмма Лизы Мейтнер обсуждалась на заседании консультативной группы под председательством Джорджа Томсона, не подлежит сомнению. Но позднее было объявлено и в различных публикациях подтверждено, что «MAUD» на самом деле означало «Military Application of Uranium Detonation» («Военное применение уранового взрыва»).
Тем временем война разгоралась. Германия захватывала одну страну за другой. Известные ученые бежали от нацистов. 21 июня 1940 года в Великобританию прибыли французские физики Ханс фон Халбан и Лев Коварски из группы Фредерика Жолио-Кюри. Они же привезли с собой драгоценный груз тяжелой воды, уведенной практически из-под носа немецких оккупационных властей. Тяжелую воду временно поместили на хранение в тюрьму Вормвуд-Скрабз, а затем поручили за ней присматривать библиотекарю Виндзорского замка. Фон Халбана и Коварски включили в быстро растущую команду физиков «Комитета Мауд». Теперь они работали в Кавендишской лаборатории Кембриджа и в составе недавно образованной исследовательской группы занимались постройкой реактора на тяжелой воде и уране.
Предоставленную Отто Фришем и Рудольфом Пайерлсом информацию наконец-то оценили должным образом, и теперь физиков, бежавших с континента, всё-таки допустили к участию в программе. Хотя в сам «Комитет Мауд» доступ им по-прежнему был закрыт, ученым разрешили создать вспомогательную техническую группу.
Один из наиболее важных на тот момент вопросов касался выделения урана-235. Уже стало ясно, что лабораторные мощности в Бирмингеме не позволяют одновременно работать над радарной техникой и проводить исследования, связанные с созданием атомной бомбы. Было решено перевести центр главных усилий в Ливерпуль: там, в частности, находился самый совершенный британский циклотрон.
К «Комитету Мауд» присоединился химик Франц Симон из Оксфорда. Для обогащения урана-235 он предложил газовую диффузию – метод обогащения изотопов за счет прокачки их в газовой смеси через пористую мембрану. К началу декабря Симон разработал детальный проект создания завода с полным циклом производства. По его расчетам, такой завод станет вырабатывать в день не менее килограмма урана-235. Строительство подобного комплекса обойдется в 5 миллионов фунтов. Симон обобщил все свои наработки в детальном отчете и сам повез его, превозмогая страх перед бомбежками, в Лондон, где и передал Томсону лично в руки.
К апрелю 1941 года группа Симона испытала уменьшенную модель одной ступени для газодиффузионной установки. Результаты обнадежили физиков, и Симон выступил с предложением построить опытно-промышленную установку из двадцати ступеней. К концу мая контракт на ее сооружение получила компания «Метрополитен-Виккерс». Установку планировали возвести до конца года на базе промышленного комплекса в Ридимуине, местечке на севере Уэльса.
Судя по всему, ученые наконец-то нашли способ выделения большого количества урана-235, и мало кто сомневался: в бомбе будет использован расщепляемый материал с достаточно малой сверхкритической массой. Следующим в центре внимания оказался вопрос, как лучше всего реализовать такое решение. Напрашивался простой способ: чтобы получить взрывчатую «сверхкритическую» массу урана-235, нужно объединить две «докритические» массы. Процесс объединения должен идти с очень высокой скоростью, поскольку в ином случае обе массы начнут испускать нейтроны и взорвутся преждевременно, причем энергия от такого взрыва будет гораздо меньше, чем при объединении и дальнейшей детонации. Тогда был предложен вариант схемы, который впоследствии станет известен как «пушечный»: нужно выстрелить небольшой докритической массой активного вещества в другую докритическую массу. Эксперты по оружию уверенно заявили Джорджу Томсону о том, что создание подобной «пушки» вполне возможно.
Тем временем Ханс фон Халбан и Лев Коварски из группы Фредерика Жолио-Кюри продолжали исследования реактора на уране и тяжелой воде. Хотя эти работы не имели прямого отношения к проектированию атомной бомбы, физики «Комитета Мауд» уже знали о возможности получения плутония в реакторе, поэтому создание действующего уранового «котла» воспринималось ими как одна из приоритетных задач. Однако на фоне требований военного времени, с которыми нельзя было не считаться, становилось ясно, что необходимые для дальнейших исследований материалы, так же как и финансирование, предоставлены не будут.
Обсуждение дальнейшей судьбы этого проекта постепенно переросло в гораздо более обширную дискуссию о том, на что вообще может надеяться «Комитет Мауд» в свете активных военных действий, в которые была вовлечена Великобритания. В конечном счете стало очевидно, что следующим шагом физиков должен стать подробный и убедительный доклад правительству, которое одно только и могло оказать существенную поддержку. И такой доклад, опять же в двух частях, был завершен 15 июля 1941 года.
В первой части, озаглавленной «Использование урана для создания бомбы», совершенно недвусмысленно сообщалось:
Мы пришли к выводу о возможности создания действующего образца атомной бомбы, в которой будет использовано всего 11 килограммов активного вещества. Взрыв такой бомбы по разрушительному эффекту эквивалентен взрыву примерно 1800 тонн тротила; кроме того, произойдет выделение большого количества радиоактивного материала, из-за чего территория, примыкающая к месту взрыва, в течение длительного периода будет представлять опасность для жизни человека.
Далее в отчете содержались следующие рекомендации:
1) Комитет считает, что проект урановой бомбы реален, и, весьма вероятно, он окажет решающее влияние на исход военных действий;
2) следует продолжать работу над созданием бомбы, придав этому проекту высочайший приоритет и обеспечив его максимальный темп, поскольку действующие образцы данного вида оружия должны быть получены в наименьшие сроки;
3) сотрудничество с США по данному вопросу следует продолжать и, более того, расширить, особенно в сфере экспериментальных работ.
Физики «Комитета Мауд» признали, что сначала относились к проекту «довольно скептично и не очень-то в него верили». Они также подчеркивали, что «проблемы, над которыми мы сейчас работаем, не так уж сложно решить любому хоть сколько-нибудь способному физику». Кроме того, в докладе давался довольно оптимистичный прогноз: атомная бомба появится в арсенале военных уже в конце 1943 года.
16 сентября доклад «Комитета Мауд» официально рассмотрел Совет по оборонным заказам Научно-консультативного комитета при Кабинете министров. Он признал, что «проекту по созданию урановой бомбы необходимо придать первостепенную важность». 20 сентября начальники штабов выразили свое согласие с предложениями экспертной группы, рекомендовав не жалеть на исследования ни денег, ни материалов, ни рабочих рук.
После этого ответственность за британский атомный проект возложили на Управление научных и промышленных исследований. Возглавить работы над атомной бомбой поручили промышленнику Уоллесу Акерсу. Он решил дать проекту имя, которое вводило бы в заблуждение непосвященных: «Трубные сплавы». Новая организация, возглавленная Акерсом, стала именоваться соответственно: «Дирекция „Трубные сплавы“». Заместителем руководителя дирекции стал еще один представитель промышленности – Майкл Перрин. В октябре 1941 года в Лондоне открылся офис новой организации.
Урановая секция
Зимой 1940–1941 годов американский атомный проект еще продолжал развиваться, однако движение вперед шло очень неуверенно, и складывалось впечатление, что работа вот-вот заглохнет. В различных учреждениях изучали теорию деления ядра, обогащения изотопов, свойства плутония. Кое-где сумели развернуть исследования, связанные с созданием реакторов и производством тяжелой воды. Однако ни одно из перечисленных направлений всё еще не было связано напрямую с военными нуждами.
Ванневар Буш по-прежнему скептически относился к перспективам создания бомбы, поэтому в верхах обсуждались главным образом вопросы, как использовать деление ядра в качестве источника энергии. Чтобы определить приоритеты, Буш попросил, чтобы «группа высококомпетентных ученых-физиков» сделала для него «нескучный, но в то же время беспристрастный обзор по данной проблеме». В апреле 1941 года просьба была переадресована нобелевскому лауреату Артуру Комптону. Тот был весьма авторитетным ученым, но не считал себя специалистом в ядерной физике. Тем не менее он согласился и сформировал группу, в состав вошли физики Эрнест Лоуренс, Джон Слэтер и Джон Ван Флек.
Первый вариант обзора был представлен 17 мая. В нем сообщалось, что контролируемое высвобождение ядерной энергии возможно, однако для овладения подобной техникой потребуются годы. Относительно необходимости создания бомбы никаких прямых рекомендаций в докладе не приводилось – авторы сообщали только, что появления подобного вида оружия до 1945 года ждать не стоит. Участники группы Комптона также ни словом не обмолвились ни о расщеплении ядра урана-235 быстрыми нейтронами, ни о понятии критической массы, ни о возможной конструкции бомбы.
Тем временем перспектива создания бомбы с использованием плутония становилась всё более реальной. К проекту присоединился радиохимик Гленн Сиборг (Шеберг), сын эмигрантов из Швеции. Узнав об открытии Отто Гана и Фрица Штрассмана, он занялся изучением свойств урана, а также новых элементов с атомными номерами 93 и 94. Работая вместе со своим аспирантом Артуром Валем, Сиборг сумел выделить микроскопическое количество элемента-94. О своем открытии ему хотелось сообщить всему миру, но вместо этого ученому пришлось ограничиться докладом Национальному комитету по оборонным исследованиям и редактору «Физикал ревью». Опубликовать полученные результаты можно было только после войны. Интересно, что до появления официального названия «плутоний» Гленн Сиборг в своих записках именовал 94-й элемент «медью» или «настоящей медью».
Ученые Калифорнийского университета в Беркли немедленно начали изучать реакцию деления нового элемента. Сиборг вдвоем с Эмилио Сегре нарабатывали плутоний на 152-сантиметровом циклотроне. 18 мая они зафиксировали интенсивное деление ядер плутония, примерно вдвое превышающее аналогичный показатель для урана-235. Теперь не стало никаких сомнений в том, что новый элемент лучше подходит на роль активного вещества атомной бомбы.
В то же самое время Ванневар Буш с головой ушел в реорганизацию системы исследований, финансируемых правительством, ее структуры и управления. Национальный комитет довольно успешно руководил лабораториями, однако не имел никаких полномочий в опытно-конструкторских работах, а ведь именно благодаря им результаты деятельности ученых обретали воплощение в виде реальных образцов оружия. Буш предложил создать новую организацию – Управление научных исследований и разработок (УНИР), которое руководило бы любыми техническими проектами на основе полученных научных данных. Начальник УНИР должен был отчитываться непосредственно перед Франклином Рузвельтом. На этот пост Буш предложил собственную кандидатуру. Председателем Национального комитета вместо него назначили Джеймса Конента.
22 июня войска Третьего рейха вторглись на территорию СССР, и темпы американского атомного проекта пришлось резко ускорить. Результатов ждали не просто «срочно», а «крайне срочно». Джеймс Конент, посчитав, что участникам группы Артура Комптона недостает прагматичности, которой обладают технари, обратился за помощью к инженерам компаний «Дженерал электрик», «Белл» и «Вестингауз». Однако и второй доклад группы, обнародованный 11 июля, мало отличался от первого. В нем снова положительно оценивались перспективы использования ядерной энергии, однако о бомбе и плутонии ничего не говорилось.
Артур Комптон, который в это очень важное для проекта время был в Южной Африке, всерьез опасался, что правительство вообще откажется от финансирования. Эрнест Лоуренс пропустил собрание, на котором составлялся отчет, из-за болезни своей дочери Маргарет, поэтому решил отправить участникам группы письмо и подробнейшим образом объяснить важность плутония. «Если в нашем распоряжении окажется большое количество элемента-94, – писал он, – то, скорее всего, с помощью быстрых нейтронов нам удастся вызвать цепную реакцию, в которой произойдет взрывное выделение энергии – то есть фактически мы получим „супербомбу“».
Незадолго до того, как в июле утвердили окончательный вариант доклада «Комитета Мауд», Ванневару Бушу неофициально переделали черновой вариант этого документа, составленный Джорджем Томсоном. Полученная информация прошла обсуждение в верхних эшелонах власти, после чего вопрос о будущем ядерных исследований еще более обострился. Однако Буш, видимо, решил ничего не предпринимать до тех пор, пока копия отчета не будет предоставлена ему из официальных источников.
И тут на первый план вышел Марк Олифант. Стало совершенно ясно, что Великобритания не сможет в одиночку создать атомную бомбу. Шла война, остро чувствовалась нехватка денег и материальных ресурсов. Кроме того, несмотря на то что внимание Гитлера было теперь обращено на восток, Англия все равно оставалась на осадном положении. В конце августа 1941 года Олифант вылетел в США, чтобы узнать, на какой стадии находились исследования тамошних ученых и, если потребуется, перенять их опыт. Прибыв на место, он узнал, что доклад «Комитета Мауд» передали Лайману Бриггсу, а этот «косноязычный и невзрачный человечек сунул все бумаги в сейф и ни словом не обмолвился о них членам своей организации». Ситуация не могла не огорчить Олифанта. Он встретился с руководством S-1 и открыто рассказал коллегам о возможности создания атомного оружия. Говорил Олифант весьма убедительно, и по крайней мере один из присутствующих был просто шокирован его словами: «Он так и сказал: „бомба“ <…>. А я все это время думал, что мы работаем над источником энергии для подводных лодок».
21 сентября Олифант встретился с Эрнестом Лоуренсом, и тот решил отвезти коллегу на холм Чартер-Хилл, где полным ходом шло строительство 467-сантиметрового суперциклотрона. Когда гость из Великобритании кратко рассказал о содержании доклада «Комитета Мауд», Лоуренс тут же загорелся идеей выделения урана-235 электромагнитным методом. Он проявил также огромный интерес к реакции деления ядра плутония. Когда оба ученых вернулись в кабинет Лоуренса, к ним присоединился молодой физик Роберт Оппенгеймер, который тогда впервые услышал о работе над атомной бомбой.
Возвращаясь обратно в Англию, Марк Олифант не мог отделаться от мысли, что его поездка не имела никакой пользы. Однако его беспокойство было напрасным: из полученной информации Эрнест Лоуренс сделал правильные выводы и немедленно начал действовать. Он связался с Артуром Комптоном и сообщил ему о возможности создания атомной бомбы, которая сможет решить исход войны. Тот предложил поговорить с Джеймсом Конентом, встретившись с ним на церемонии по поводу пятидесятилетия Чикагского университета, на которую ученых пригласили для присвоения им почетных званий.
Встреча состоялась в доме Комптона. Лоуренс кратко рассказал о достижениях англичан и подробно остановился на перспективах получения урана-235 и на свойствах элемента-94. Он также выразил крайнее разочарование бездействием Вашингтона, который никак не желал реагировать на очевидные факты, указывающие на значительную заинтересованность Германии в развитии ядерных исследований. Джеймс Конент изначально был не очень-то настроен заниматься нововведениями, однако то, как Артур Комптон ратовал за дело, заставило его изменить отношение. Выслушав Лоуренса, Конент посмотрел на него и сказал: «Эрнест, ты говоришь, что убежден в огромной важности этой бомбы. Готов ли ты посвятить ее созданию следующие несколько лет своей жизни?» Лоуренс согласился без малейших колебаний.
Официальную копию доклада «Комитета Мауд» Ванневар Буш получил 3 октября 1941 года. 9 декабря Буш показал его Рузвельту. Америка, которую со всех сторон критиковали за политику «изоляционизма», не спешила вступать в войну. Однако, ознакомившись с фактами, подтверждавшими возможность создания атомной бомбы еще до окончания войны в Европе, президент решил действовать немедленно, даже минуя конгресс. Право принимать решения, связанные с ядерными исследованиями, он оставил за собой и крохотной горсткой своих советников, которых впоследствии стали называть «Высший президентский совет». В эту группу вошли Ванневар Буш, Джеймс Конент, вице-президент Генри Уоллес, военный министр Генри Стимсон и глава Генштаба армии США Джордж Маршалл.
6 ноября 1941 года группа Артура Комптона представила Бушу третий, и последний, вариант своего доклада. Как и в отчете «Комитета Мауд», в нем совершенно однозначно говорилось:
Действие атомной бомбы огромной разрушительной силы основано на свойствах урана-235. Создать такую бомбу ничуть не менее реально, чем воплотить в жизнь любой другой проект, не опробованный пока на практике и проверенный только в теории и на экспериментальных данных. <…> Масса урана-235, необходимая для взрывного деления, будет вряд ли составлять менее 2 килограммов, но и не превысит 100 килограммов. <…> Не следует также забывать и о том, что, вероятно, уже в ближайшие годы применение бомб, подобных описанной здесь, либо другого оружия, в котором будет использован расщепляемый уран, может обеспечить любой державе значительное военное превосходство. Очевидно, что оборонные нужды страны требуют немедленного развития данного направления.
Как видите, плутоний снова ускользнул от внимания ученых, всецело поглощенных стремлением подчинить своей власти уран-235. 27 ноября третий вариант доклада получил и Рузвельт – президент одобрил решение, принятое раньше.
В результате появилась еще одна организация, именуемая «Урановой секцией» или «Комитетом S-1» Управления научных исследований и разработок. Во главе нового образования Ванневар Буш сначала хотел поставить Эрнеста Лоуренса, но, убедившись, что тот не способен работать в условиях строгой секретности (Лоуренс даже получил выговор за несанкционированное разглашение Роберту Оппенгеймеру информации о проекте), назначил председателем Джеймса Конента.
Официальных документов, которые подтверждают принятие решения о начале работы американского атомного проекта, по всей видимости, не существует. Сохранилась только короткая записка, нацарапанная на сопроводительной бумаге из Белого дома, вместе с которой возвратили доклад группы Комптона. В записке, датированной 19 января 1942 года, говорится: «В. Б., всё в порядке, возвращаю – думаю, лучше хранить это в вашем сейфе. Ф. Д. Р.».
Страсть Оппенгеймера
Соединенные Штаты Америки вступили в войну 7 декабря 1941 года, после того как японская авиация атаковала американские базы в Пёрл-Харборе. На политике «изоляционизма» был поставлен жирный крест. Изменилось и отношение к атомному проекту. Одним из главных приоритетов на этом этапе стало создание реактора, причем сразу с прицелом на получение плутония.
Работы над реактором следовало вести в одном месте, и Артур Комптон должен был принять решение, что это будет за место. Лео Силард предлагал Колумбийский университет на Манхэттене. Эрнест Лоуренс настаивал на университете Беркли в Калифорнии. Рассматривались также Принстонский университет в Нью-Джерси и промышленные лаборатории в Питтсбурге и Кливленде. Но Комптон выбрал Чикаго.
Из соображений секретности в Чикаго развернули некий проект под названием «Металлургическая лаборатория» (или просто «Метлаб») – название не менее загадочное, чем «Комитет Мауд» или «Трубные сплавы». Энрико Ферми практически сразу согласился переехать из Колумбии в Чикаго. Одной из причин быстрого решения было то, что его исследовательская группа достигла значительных успехов в создании реактора на основе кубиков оксида урана, вставленных в решетку из графитовых брусков, но распалась, поскольку физиков директивно переводили на решение других проблем в рамках программы S-1.
Гленн Сиборг прибыл в Чикаго 19 апреля 1942 года. Если перед Ферми стояла задача запустить новый реактор до конца года, то Сиборг взялся разработать метод, который позволил бы выделить плутоний из отработанного ядерного топлива. Самая большая трудность для Сиборга состояла в том, что ему нужно было понять химию нового элемента еще до того, как будет построен реактор. Следовательно, ему нужно было найти некий другой способ накопления плутония в количестве, достаточном для химического анализа. Лучшее, что он мог придумать, – бомбардировать нитрат урана в циклотроне в течение нескольких месяцев кряду. И к 14 августа группе Сиборга удалось выделить первую крохотную партию плутония.
В рамках программы S-1 разрабатывалось несколько различных путей создания атомной бомбы. Кроме «Метлаба», целью которого были конструирование реактора и производство плутония, развивались и другие проекты: в частности, проект по выделению урана-235 способом газовой диффузии и электромагнитными методами, основанными на 94-сантиметровом циклотроне Лоуренса и на центробежной сепарации. На тот случай, если не удастся создать ураново-графитовый реактор, разрабатывалась также модель реактора на тяжелой воде. В Канаде начали строительство завода по ее производству. Учитывая неясности и проблемы, Комитет S-1 не мог определить, какой из различных способов создания атомной бомбы наиболее предпочтителен. И было принято решение прорабатывать все пути. «Чтобы реализовать такой наполеоновский подход к проблеме, потребуются инвестиции в размере около пятисот миллионов долларов и приличная партия оборудования», – заключил Джеймс Конент.
Хотя британские физики и могли по праву считать, что продвинулись дальше американских коллег в теории создания бомбы, было очевидно: американцы значительно опережают их на практическом поприще. «Ясно одно, – отмечал Уоллес Акерс вскоре после прибытия в США, – этой работой занято огромное количество людей, так что возможностей по быстрой разработке схем у них значительно больше, чем у нас».
Перед англичанами замаячила перспектива поглощения их атомного проекта американцами. Даже если бы правительство Великобритании отказалось от столь тесных контактов, американцы все равно продолжали бы работу, но больше не делились бы с союзниками своими достижениями. Серьезным препятствием было и то, что иностранцев не допускали к секретным американским проектам. Ванневар Буш считал, что для британских подданных можно сделать исключение, но далеко не все физики, работавшие в Англии, были британцами. Казалось, что проблема непреодолима.
Полным ходом работая над материалом для бомбы, Артур Комптон обращал внимание на физику реакций под действием быстрых нейтронов и последствия создания бомбы. Он поручил это направление физику Грегори Брейту, выходцу из России, но Брейт разочаровался медленным продвижением проекта и вернулся в морской флот, где служил до участия в программе S-1. Тогда Комптон пригласил на роль руководителя Роберта Оппенгеймера, который изначально был помощником у Брейта.
Роберт Оппенгеймер был выдающимся физиком, но его личные качества вызывают споры до сих пор. Сын еврейских эмигрантов, разбогатевших в США, он вырос в достатке и имел феноменальную способность к обучению. В возрасте девяти лет он мог предложить кузену задать вопрос по-латыни, на который сам отвечал по-гречески. Однако при всех его талантах Оппенгеймеру было чуждо человеческое сочувствие. Мальчиком Роберт чрезмерно гордился своей ученостью, любил покрасоваться. Роберт мог вести себя хвастливо и покровительственно, у него был острый язык. Чувства, которые он вызывал у однокашников, а потом у коллег и сотрудников, колебались от жалости до раздражения.
Окончив Гарвард, под руководством Джозефа Томпсона он занимался в Кавендишской лаборатории Кембриджа, а потом перебрался в Германию, в Гёттинген. Здесь он работал с Джеймсом Франком и Максом Борном, познакомился с Вернером Гейзенбергом, с английским физиком Полем Дираком и многими другими прославленными учеными.
Получив докторскую степень, Оппенгеймер снова прибыл в Гарвард, а потом перешел в Калифорнийский технологический институт в Пасадене. Затем он отказался от нескольких предложений научных должностей, чтобы вернуться в Европу и продолжить образование. Сначала он отправился в голландский Лейден, где сотрудничал с Паулем Эренфёстом, а потом перебрался в швейцарский Цюрих, чтобы обменяться опытом с Вольфгангом Паули, который только что завершил первый этап совместной работы с Гейзенбергом по квантовой электродинамике. В июле 1929 года Оппенгеймер вернулся в Америку и получил должность на кафедре Калифорнийского университета в Беркли.
Кроме всего прочего, Роберт Оппенгеймер также активно интересовался политикой. В середине 1930-х годов он состоял практически во всех коммунистических организациях, которые существовали в Калифорнии. Позже он пытался объяснить свою страсть к «левацким» идеям:
Я ощущал непрерывную, неугасающую ярость, вызванную тем, как с евреями обращались в Германии. У меня там были родственники, и я собирался помочь им бежать и добраться до [Америки]. Я видел, что сделала с моими студентами Великая депрессия. Они не могли найти работу, а та работа, что попадалась, совершенно им не подходила. И на их примере я начал понимать, как сильно на человеческие жизни влияют политические и экономические события.
Поэтому неудивительно, что Оппенгеймер стал участвовать в сборе средств на борьбу с растущей угрозой европейского фашизма. Говоря откровенно, он был «находкой для шпиона», и все же его вклад в программу S-1 был ценен. Поэтому Артур Комптон без задней мысли поручил ему работу над реакциями на быстрых нейтронах и над принципиальной схемой атомной бомбы. Руководство проекта настаивало, чтобы Оппенгеймер прекратил якшаться с леворадикальными политиками, и тому пришлось уступить. После этого он получил временный допуск к секретной информации и теперь мог помогать Эрнесту Лоуренсу в работе. Анкету на проверку благонадежности Оппенгеймер заполнил в апреле 1942 года, причем на вопросы ответил по большей части честно.
В Беркли ученые начали с теории, обратившись в первую очередь к докладу «Комитета Мауд» и результатам исследований различных групп. Вскоре стало ясно, что атомная бомба «наверняка может получиться», оставалось доработать детали. В августе Оппенгеймер писал, что для бомбы на уране-235 потребуется около 30 килограммов этого изотопа, а ее «разрушительный эффект сравнится с эффектом от взрыва более 100 000 тонн тротила». Это было гораздо больше 1800 тонн тротила, заявленных физиками из «Комитета Мауд» годом ранее.
Тогда же Ванневару Бушу стало ясно, что разделение программы S-1 между армией и гражданским Управлением научных исследований и разработок себя не оправдало. Он обсудил этот вопрос с генералом Брехоном Сомервеллом, главой армейской службы снабжения. Буш пытался оставить программу под управлением гражданских лиц, но Сомервелл хотел отдать проект под полный контроль армии. Ситуация вот-вот должна была измениться, и не в лучшую сторону для ученых, занятых в проекте.
Генерал хотел видеть при себе зависимого подчиненного, которого можно было бы назначить руководителем военной программы, и, казалось, уже подыскал подходящего кандидата: им оказался полковник Лесли Гровс. Закончив военную академию Вест-Пойнта, Гровс собирался на службу за границей, так как порядком устал от бюрократической деятельности в Управлении военными строительными проектами (кстати, незадолго до этого полковник курировал строительство здания Пентагона). Но вышестоящие чины решили по-своему. «Если вы хорошо выполните свою задачу, – сказал Гровсу генерал Сомервелл, – мы выиграем войну». Тому ничего не оставалось, как согласиться.
Лесли Гровс приступил к руководству атомным проектом с военной прямолинейностью. Один из его подчиненных, подполковник Кеннет Никол, вспоминал Гровса такими словами: «Последняя сволочь, но одновременно и один из наиболее умелых людей, которых я встречал в жизни. <…> Я не мог выносить его характер, да и никто его не выносил, но мы по-своему понимали друг друга».
Возможно, Гровс действительно не отличался тактом, зато он очень быстро действовал. Только один пример из его бурной биографии. Еще в 1940 году из бельгийского Конго в США была переправлена тысяча тонн урановой руды для того, чтобы она не попала в руки немцев. Ценный груз полгода простоял в Порт-Ричмонде на острове Статен-Айленд. 17 сентября Гровс узнал о том, что ему поручили руководить программой S-1. И на следующий день направил подчиненных в Нью-Йорк, чтобы те выкупили руду. В тот же самый день он одобрил изъятие участка площадью более 20 тысяч квадратных километров близ Ок-Риджа на востоке штата Теннесси. Впоследствии это место стали называть «Зоной Х»: здесь был построен огромный комплекс для обогащения урана-235 и производства плутония.
Американский атомный проект наконец-то обрел твердого решительного руководителя и начал развиваться немыслимыми до того темпами. Со временем проект обрел и свое уникальное название. Инженерный корпус армии США при упоминании в связи с программой S-1 стал именоваться «Манхэттенский инженерный округ» (его штаб-квартира располагалась на Бродвее, неподалеку от Сити-Холла). Теперь, когда во главе проекта встал армейский инженерный корпус, это название распространилось и на всю программу. Так зародился знаменитый впоследствии «Манхэттенский проект».
Манхэттенский проект
В сентябре 1942 года, сразу после вступления в новую должность и получения звания бригадного генерала, Лесли Гровс отправился с инспекцией по предприятиям, вовлеченным в атомный проект. То, что он увидел, порядком его разочаровало.
Первую остановку он сделал в Питтсбурге, где находились исследовательские лаборатории, принадлежащие корпорации «Вестингауз». Перед ними стояла задача сконструировать объемные высокоскоростные центрифуги для выделения урана-235. Определенно то было не лучшее место для начала проверки. У ученых накопились технические проблемы, проект балансировал на пределе. И по рекомендации Гровса эти исследования вскоре закрыли.
Из Питтсбурга Гровс направился в Колумбийский университет Нью-Йорка, где изучался метод газовой диффузии. Контролировал работы химик Гарольд Юри. Ученые, с которыми здесь встретился Гровс, более оптимистично высказывались об изучаемом ими методе. Единственной серьезной проблемой была коррозия, вызываемая гексафторидом урана. В газодиффузионной установке требовалось смонтировать бесчисленное количество пористых мембран из коррозиеустойчивого вещества. Пока такое вещество известно не было. Гровс счел, что работы следует продолжить, но усомнился, что они дадут положительный результат.
Из Колумбийского университета путь Лесли Гровса лежал на запад. 5 октября генерал прибыл в чикагский «Метлаб». Он пришел к выводу, что возведение экспериментального реактора, которым руководил Энрико Ферми, уверенно продвигается вперед. Однако Гровс поразился, насколько смутно ученые представляли себе детали работы, которые с инженерной точки зрения считались фундаментальными. Если бомбу планируется сконструировать вовремя, то программа уже должна была дать ответы на ключевые вопросы. Сколько потребуется урана? Какого размера будет бомба? Как долго будут продолжаться работы? Физикам же, казалось, доставляло удовольствие предполагать и прикидывать. Гровс заметил физикам, что если бы перед ними стояла задача организовать свадебный банкет, то разговоры наподобие «Мы можем ожидать от десяти до тысячи гостей» совсем не годились бы для грамотного планирования.
Гровс, убежденный, что его окружают одни «ботаники», считал необходимым еще раз дать понять своим подчиненным (среди которых, кстати, было несколько нобелевских лауреатов): он не испытывает пиетета перед их ученостью. Гровс утверждал, что его десятилетнее среднее образование стоит двух докторских степеней. После этого генерал дал ученым время обдумать важность этого утверждения. Но Лео Силарду времени на размышления почти не понадобилось. «Как можно работать с такими людьми?!» – вопрошал он своих коллег. Впрочем, неприязнь между Силардом и Гровсом была взаимной: генерал почти сразу счел венгерского эмигранта-физика «возмутителем спокойствия» и приложил немало усилий, чтобы интернировать его как «враждебного иностранца».
Из Чикаго Лесли Гровс двинулся дальше на запад, в радиационную лабораторию Беркли, куда прибыл 8 октября. Эрнест Лоуренс, мастерски превративший инспекцию в экскурсию, произвел на Гровса очень приятное впечатление. Гровс надеялся, что хотя бы здесь, в Калифорнии, его ждут хорошие новости. Лоуренс пообещал продемонстрировать ему новейшую машину. На тот момент он перешел от работы с 93-сантиметровым циклотроном к использованию 467-сантиметрового суперциклотрона, который уже был готов. Лоуренс сел за пульт управления огромной машины и объяснил, как она работает. Впечатленный Гровс спросил, сколько времени потребуется, чтобы приступить к практически значимому разделению. Лоуренс признался, что пока сколь-нибудь серьезные опыты не проводились; машина еще ни разу не работала дольше 10–15 минут подряд. Чтобы в циклотроне установился необходимый вакуум, она должна проработать от 14 до 24 часов.
Генерал, чувствуя себя обманутым, направился в лабораторию Роберта Оппенгеймера в Беркли. Удивительно, но эта встреча прошла совсем не так, как можно было предположить, зная описываемых персонажей. Оппенгеймер – худой, аскетичный, остроумный интеллектуал с леворадикальными взглядами. Гровс – белозубый, полноватый, консервативный сын пресвитерианского пастора, пропитанный прагматизмом военный инженер, с презрением относящийся к «ботаникам». Но при всем очевидном несходстве эти двое сразу прониклись симпатией друг к другу.
Позднее Лесли Гровс так отзывался о физике, который стал знаменитым благодаря атомному проекту:
С точки зрения сегодняшнего дня кандидатура Оппенгеймера кажется самой подходящей, поскольку он полностью оправдал наши ожидания. Работая непосредственно под руководством Комптона, он возглавлял исследования по созданию бомбы и, без сомнения, знал абсолютно всё, что тогда было известно в этой области. Однако его исследования носили теоретический характер и сводились, по существу, к грамотной оценке мощности взрыва в результате реакции деления ядер атомов. В таких же практических областях, как разработка конструкций взрывателя и бомбы, обеспечивающих ее эффективный взрыв, ничего не было сделано. <…>
Он человек больших умственных способностей, имеет блестящее образование, пользуется заслуженным уважением среди ученых, и я все больше склонялся к мысли, что он справится с предстоящей работой, ибо в своих поисках я не мог найти ни одной кандидатуры, хоть сколько-нибудь более подходящей для решения поставленных задач.
Еще Гровса поразило умение Оппенгеймера доходчивым языком объяснять сложные научные проблемы. Но, что важнее, физику удалось обнадежить Гровса. «Экспертов в этой области нет, – заявил Оппенгеймер. – Она слишком нова». Однако, если всех ученых, изучающих физику бомбы и ее конструкцию, собрать в одной специальной лаборатории, они смогут решить все проблемы, с которыми пришлось столкнуться.
Гровс мыслил в том же направлении и сам планировал создать специальную лабораторию в «Зоне Y». 15 октября он предложил Оппенгеймеру возглавить ее.
Многим специалистам, занятым в проекте, такое назначение показалось немыслимым. На то было немало причин. Во-первых, Оппенгеймер – теоретик со свойственным теоретикам неумением проводить эксперименты. Во-вторых, у него нет Нобелевской премии, а ведь в проекте уже задействовано много нобелевских лауреатов, которым логичнее было бы предложить пост, соответствующий их статусу. И в-третьих, Оппенгеймер дружит с коммунистами, а значит, проект под его руководством может оказаться в опасности. Но все доводы были проигнорированы. Гровс нашел «своего человека» и быстро продавил решение через самые разные комитеты. Роберт Оппенгеймер получил назначение 19 октября 1942 года.
Теперь предстояло найти место для «Зоны Y», где должна была разместиться новая центральная лаборатория. Отдаленный лесистый каньон Хемес-Спрингс в Нью-Мексико Оппенгеймер отверг как слишком «мрачное и удручающее место». Поисковая группа двинулась от Хемес-Спрингс к плато с другой стороны гор Хемес, на котором располагалась частная школа для мальчиков, которая называлась «Лос-Аламосское ранчо». Среди ее выпускников можно назвать Уильяма Берроуза и Гора Видала. Кроме того, эту школу хорошо знал Джеймс Конент – он подумывал отдать туда своего младшего сына. Здесь были здания, водопровод и электричество. Единственная проблема – грунтовая дорога, проложенная к плато от Санта-Фе, расположенного в 50 километрах юго-восточнее, выглядела как тропинка, утопающая в грязи. Тем не менее генералу Гровсу понравилось, что комплекс находится в таком изолированном месте.
На первом этапе Оппенгеймер полагал, что в лаборатории потребуется разместить не более тридцати ведущих ученых плюс вспомогательный персонал. Гровс сразу начал переговоры о приобретении участка, которые завершились быстро и успешно: школа так и не восстановилась после Великой депрессии, поэтому ее последние выпускники получили дипломы 21 января 1943 года.
Оппенгеймер приступил к неофициальному набору ученых для лаборатории через несколько дней после назначения на пост руководителя. Теперь, когда нашли «Зону Y», он и Лоуренс занялись делом всерьез. Многие ученые пытались уклониться от работы в отдаленном месте, некоторые жаловались на трудности с переездом. Лео Силард, например, заявил: «Там никто не сможет ясно мыслить. Все, кто туда отправятся, сойдут с ума».
Но большая часть ученых, которым предложили переехать в Лос-Аламос, сильнее всего беспокоились о том, что им придется работать в военной лаборатории, а значит, служить в армии, чего им совсем не хотелось. Физики Исидор Раби и Роберт Бахер из Массачусетского технологического института убедили Оппенгеймера, что лаборатории нужно сохранить «научную автономность», а превращение ее в чисто армейскую структуру совсем не обязательно. Генерал Гровс согласился с этим неохотно, оговорив, что военные сохранят свою иерархию и будут отвечать за безопасность комплекса.
Итак, ученые Лос-Аламоса получили возможность работать на атомный проект как гражданские лица. Однако из-за беспрецедентных мер безопасности лаборатория вскоре стала напоминать концентрационный лагерь.
Реактор Ферми
Первый американский «критический» реактор изначально было решено соорудить в Аргонском лесу, вблизи Чикаго, но строительство здания задерживалось. Тогда Энрико Ферми предложил собрать атомный «котел» под западными трибунами стадиона «Стагг Филд» Чикагского университета.
Работы по сборке начались 16 ноября 1942 года. Местные жители наблюдали необычайное оживление на территории стадиона. К воротам, ведущим к западным трибунам, один за другим подкатывали машины с грузом. Многочисленная охрана, выставленная вокруг стадиона, не разрешала даже приблизиться к ограде. За самой оградой, в помещении теннисного корта, в строжайшей тайне Ферми вместе с группой коллег готовил необычный и опаснейший эксперимент – осуществление первой в мире контролируемой цепной реакции деления ядер урана.
В ящиках, которые привозили грузовики, находились большие бруски черного материала – графит. Груда ящиков из-под графита росла, и вместе с ней росло сооружение на площадке теннисного корта. Две группы физиков под руководством Уолтера Зинна и Герберта Андерсона работали круглосуточно, в несколько смен. Для реактора понадобилось около 46 тонн оксида урана и около 385 тонн графита. Сборка «котла» осуществлялась по общему плану: детально проработанных чертежей просто не было. Большинство «строительных материалов» изготавливалось непосредственно на месте, в соседних помещениях. Порошкообразный оксид урана прессовался в брикеты на гидравлическом прессе. Графитовые блоки выпиливались с помощью обычных деревообрабатывающих станков. По воспоминаниям самих участников, из-за большого количества образующейся черной пыли они походили на шахтеров после смены.
Согласно плану, «котлу» была придана форма эллипсоида. Для эффективного использования урана нужно было располагать более чистое топливо как можно ближе к центру. Вся конструкция была заключена в деревянную раму. Исходные оценки критического размера активной зоны были завышены, поэтому в конструкции реактора предусматривалась оболочка, из которой можно было бы откачать воздух для уменьшения поглощения нейтронов. Она была изготовлена на заводе компании «Гудъер», специализирующейся на производстве оболочек аэростатов. Из-за секретности проекта назначение оболочки было сокрыто, что вызвало среди физиков массу шуток о «квадратном воздушном шаре».
Укладку каждого нового слоя «котла» начинали после анализа уже полученных результатов. В графитовых кирпичах на строго определенном расстоянии одно от другого высверливали отверстия, куда помещались бруски урана. Сверху вниз через всю графитовую кладку проходили несколько каналов. В каналах располагались бронзовые стержни, покрытые кадмием. Кадмий поглощает нейтроны, и стержни служили для них ловушкой. После укладки очередного слоя поглощающие стержни осторожно извлекались, и проводились измерения потока нейтронов. К пятидесятому слою из семидесяти пяти запланированных стало ясно, что критичность может быть достигнута даже при несколько меньших размерах активной зоны, чем предполагалось в начальных расчетах. Соответственно, количество и размеры последующих слоев были уменьшены.
1 декабря измерения показали, что размер собираемого реактора приближается к критическому. К концу дня, после укладки пятьдесят седьмого слоя, Зинн и Андерсон провели серию измерений активности и пришли к выводу, что при извлечении управляющих стержней в реакторе сможет развиться самоподдерживающаяся ядерная реакция.
Утро 2 декабря 1942 года выдалось холодным. Подмораживало, дул пронизывающий ветер. Около 10.00 Энрико Ферми приказал удалить из реактора все кадмиевые регулирующие стержни, кроме одного. Последний стержень наполовину выдвинули из реактора. Физики внимательно следили за интенсивностью нейтронов и сравнивали результаты с теми, что были спрогнозированы в лабораторных условиях. Около тридцати человек наблюдали за работой с балкона. Среди них были Лео Силард и Юджин Вигнер. Тут Ферми решил сделать перерыв и дождаться руководителей проекта. Регулирующие стержни встали на место.
Около 14.00 прибыл глава «Металлургической лаборатории» Артур Комптон с коллегами – группа наблюдателей увеличилась до сорока двух человек. Ферми распорядился повторить эксперимент, выполненный ранее, и все регулирующие стержни, кроме одного, вновь извлекли из реактора. Когда последний стержень вышел из реактора примерно на 2,5 метра, ядерная реакция стала самоподдерживающейся, а реактор – почти критическим. Ферми приказал своему помощнику Джорджу Вейлю извлечь стержень еще сантиметров на тридцать. Скорость высвобождения нейтронов стала неумолимо расти, из-за этого мерное тиканье нейтронных счетчиков начало ускоряться, пока не слилось в общий гул.
Вот как описал дальнейшие события физик Герберт Андерсон:
Мы работали в режиме высокой интенсивности, и счетчики больше не могли объективно отражать ситуацию. Снова и снова нам приходилось менять шкалу записывающего устройства, чтобы фиксировать скорость высвобождения нейтронов, которая росла все более стремительно. Вдруг Ферми поднял руку. «Реактор стал критическим», – объявил он. Никто из присутствовавших нисколько в этом не сомневался.
По чикагскому времени было 15.25. Атомному «огню» разрешили гореть 28 минут. Затем Ферми дал новый сигнал, и введением кадмиевых стержней «огонь» был погашен.
Физики праздновали победу, а Лео Силард и Энрико Ферми стояли в стороне. «Мы с ним обменялись рукопожатием, – вспоминал позднее Силард, – и я признался в своих опасениях, что этот день запомнится как один из самых мрачных дней в истории человечества».
Тем же вечером Артур Комптон позвонил Джеймсу Коненту и объявил ему:
«Представь себе, итальянский мореплаватель только что высадился в Новом Свете. Земля оказалась не столь большой, как он предполагал, в результате чего он прибыл в место назначения раньше, чем ожидалось».
«Да что ты! – сказал Конент. – А туземцы были любезными?»
«Да. Никто не пострадал, и все в восторге».
На месте проведения эксперимента ныне установлена бронзовая скульптура, созданная Генри Муром.
Фиаско Черчилля
В течение первых пяти месяцев 1942 года английские и американские физики вели свои атомные проекты параллельно, время от времени обмениваясь информацией и нанося «визиты вежливости» друг к другу. В июне союзные лидеры наконец решили, что «супербомбу» следует делать в США, опираясь на ресурсы обеих стран.
Обстоятельства, при которых было принято это важное решение, изложены Уинстоном Черчиллем в его фундаментальном труде «Вторая мировая война», в котором он описывает встречу с Франклином Рузвельтом 20 июня. Присутствовал также Гарри Гопкинс, помогавший впоследствии Черчиллю восстановить смысл исторического разговора. Черчилль свидетельствовал:
Я был твердо убежден в необходимости сразу же объединить все наши сведения и работу продолжать на равных началах, разделив ее плоды, какими бы они ни были, поровну между нами. Затем был поднят вопрос относительно того, где следовало создавать исследовательские организации. Мы были уже осведомлены о чудовищных расходах, которые надо было сделать, отвлекая ресурсы всякого рода, в том числе и умственную энергию, от остальных военных нужд. Учитывая, что Великобритания находилась в зоне бомбежек и непрерывной воздушной разведки противника, казалось невозможным построить на нашем острове огромные, бросающиеся в глаза заводы, необходимые для решения задачи. Мы представляли себе, насколько далеко продвинулся наш союзник, и, конечно, его следовало предпочесть Канаде, которая и так внесла свой важный вклад в дело снабжения ураном. Это было очень трудным решением: направить несколько сот миллионов фунтов стерлингов в проект, успех которого ни один ученый на любой стороне Атлантики не брался гарантировать. Тем не менее если бы американцы не пожелали участвовать в этом рискованном предприятии, то мы совершенно определенно должны были бы собственными силами продвигаться вперед в Канаде или, если канадское правительство будет возражать, в любой другой части империи. Однако я был очень рад, когда президент сказал, что Соединенные Штаты, по его мнению, должны это сделать. Поэтому мы приняли совместное решение и определили основу соглашения. У меня не было сомнений, что сделанное нами в Британии являлось действительным прогрессом, и именно уверенность наших ученых в конечном успехе дала президенту возможность принять это важное и роковое решение.
Однако к началу 1943 года принцип равноправного партнерства нарушился столь решительно, что даже Черчилль был вынужден протестовать. 16 февраля Гарри Гопкинс получил от него следующую телеграмму: «Я был бы очень признателен за какие-нибудь новости <…>, поскольку в настоящее время американское военное ведомство просит нас информировать его о наших экспериментах и в то же время отказывает нам в любой информации об их работах». Гопкинс в ответ попросил прислать ему копию стенограмм соответствующих переговоров или памятные записки, которые, по его словам, «выявили бы характер недоразумения».
Впрочем, не стоит приписывать возникшее «недоразумение» целиком американскому коварству. Во многом оно было обязано своим происхождением армейскому представлению о безопасности, которого придерживался генерал Лесли Гровс. Кроме того, у американцев возникали подозрения, что англичане, предоставив США расходовать колоссальные ресурсы на изготовление атомной бомбы, могли направить собственные усилия на создание ядерного реактора, с помощью которого Великобритания могла бы стать ведущей энергетической державой послевоенного мира.
Уинстон Черчилль не успокоился и обсудил возникшую проблему непосредственно с Франклином Рузвельтом сразу после завершения двухнедельной Третьей Вашингтонской конференции, состоявшейся в мае. Президент лично гарантировал британскому премьеру, что обмен информацией с «Трубными сплавами» будет возобновлен.
Тем не менее взаимные подозрения только обострились. Такое положение вещей не могло сохраняться долго. Кто-то должен был уступить. И в конечном итоге уступила Великобритания. Соглашение, подписанное Рузвельтом и Черчиллем на первой Квебекской конференции в августе 1943 года, положило конец независимости английского атомного проекта.
В соглашении не было ни слова о ранних британских работах над бомбой. Но при этом в нем отмечались большие расходы, в которые вовлекались США. В связи с этим было оговорено, что «любые послевоенные преимущества промышленного или коммерческого характера будут распределяться между Соединенными Штатами и Великобританией на условиях, изложенных президентом Соединенных Штатов премьер-министру Великобритании». Были и другие статьи соглашения: например, о том, что ни одна из сторон не использует бомбу против другой или против любой третьей без взаимного согласия. Было также решено производить обмен информацией между британскими и американскими учеными, работающими в одних и тех же областях.
Почему Черчилль подписал столь унизительный для Великобритании пакт, легко объяснить, взглянув на геополитическую ситуацию того времени. Во-первых, Британия, ослабленная четырьмя годами войны, в принципе не могла торговаться. Во-вторых, Черчилль полностью доверял президенту Рузвельту, что подтверждает его переписка и взаимные инициативы. В-третьих, подписывая соглашение в августе 1943 года, ни Черчилль, ни Рузвельт не сознавали того, как изменится мир, в котором появится атомное оружие.
Способы, которыми должны были осуществляться «ядерные взаимоотношения» между США и Великобританией, оставались не определены, и дискуссии даже после заключения этого секретного соглашения продолжались. Адмирал Уильям Лэги, начальник штаба при президенте Рузвельте, писал по этому поводу:
Во время длительного обсуждения политических и военных вопросов, главным образом касавшихся в высшей степени секретного проекта, носившего название «Трубные сплавы», решалось: будем мы или не будем предоставлять англичанам всю информацию, которую они хотели иметь относительно получения и использования атомной энергии для военных целей.
Мнение президента было таково, что атомные военные секреты не следовало бы сообщать даже союзникам. Но так как англичане сделали свой вклад в атомные экспериментальные работы и продолжали работать в этом направлении, то Рузвельт думал, что секретными данными следовало делиться в той части, которая относилась к промышленному применению. Президент питал большие надежды на то, что после войны будет успешно расширяться научное и промышленное применение атомной энергии. Он принимал на себя ответственность за риск вложения огромных сумм денег, которые в конечном счете составили более двух миллиардов долларов, в работы с атомными экспериментами. <…> В моем присутствии совершенно определенно установили, что Соединенные Штаты, Канада и Британия будут на равных правах участвовать в промышленном использовании атомной энергии. Насколько я знаю, не было никакого соглашения о совместном использовании ее для военных целей. После этого сообщалось, что Рузвельт якобы согласился поделиться с Британией секретами бомбы. Но такого соглашения на данной конференции не было достигнуто.
Каковы бы ни были толкования квебекского соглашения, подписание Рузвельтом и Черчиллем этого документа фактически закрывало британский атомный проект.
В течение осени 1943 года почти все ядерные физики, работавшие в Англии, перебрались в США. Многие из них отплывали из Ливерпуля на пароходе «Эндис». Из-за путаницы случилось так, что не оказалось машин для перевозки их самих и багажа из отеля в порт. В последний момент руководство сумело мобилизовать у частных предпринимателей нужное количество похоронных автомашин. И на этих машинах ученых вместе с багажом доставили на пароход. Куда уж символичнее?
Лаборатория Лос-Аламоса
Роберт Оппенгеймер приступил к руководству лабораторией в Лос-Аламосе очень неуверенно. Казалось, скептики, утверждавшие, что он даже гамбургер продать не сможет, были правы.
В течение первых нескольких месяцев строительство шло в полном беспорядке. Если не считать умения договариваться с военными, у Оппенгеймера не получалось сделать из лаборатории организованную структуру. В представлении Оппенгеймера все выглядело просто: тридцать физиков направляются в Нью-Мексико, чтобы сконструировать атомную бомбу. Столкнувшись с хаосом уже на прощальном ужине у себя дома, Оппенгеймер пришел в ярость. Но после вспышки гнева приступил к спокойному анализу. Учился он быстро. К марту 1943 года Оппенгеймер составил организационную схему нового комплекса и продумал, сколько действительно сотрудников понадобится в Лос-Аламосе (отказалось, что от 100 до 1500!), и взял наконец на себя административный контроль.
В начале апреля на Холме – так стали называть лабораторию Лос-Аламоса и ее окрестности – собралось первые физики. Оппенгеймер не терял времени и быстро завербовал «светил», с которыми работал в прошлом году. Среди них были немец Ханс Бете, швейцарец Феликс Блох, венгр Эдвард Теллер, американцы Роберт Сербер и Ричард Фейнман. Кроме того, Оппенгеймер желал видеть под своим руководством Энрико Ферми. Но труд над ураново-графитовым реактором в Чикаго был для итальянца слишком важным, чтобы отказаться от него и переехать в Лос-Аламос. В итоге ученые достигли компромисса: Ферми работает в качестве удаленного консультанта и при необходимости приезжает в Лос-Аламос.
Оппенгеймер хотел назначить своим заместителем Исидора Раби, но тот занимался радаром и считал решение этой военной задачи более важным, чем попытки построить оружие массового поражения на новых физических принципах. Впрочем, Оппенгеймеру и его удалось убедить стать консультантом Лос-Аламоса.
15 апреля 1943 года в пустой местной библиотеке состоялось первое собрание физиков Лос-Аламоса, и Роберт Сербер прочитал вступительную лекцию. Генерал Лесли Гровс сделал при этом несколько пессимистических замечаний. Казалось, он готовится к провалу проекта и подумывает, что скажет на заседании Комиссии по атомной энергии Конгресса, которое обязательно состоится и на котором обязательно выяснят, на что Гровс растратил колоссальные деньги.
После этого Сербер прочитал первый доклад, составленный по результатам работ за последний год в области деления ядер быстрыми нейтронами. Сербер слыл не самым лучшим оратором, но в данном случае содержание было гораздо важнее формы. «Цель проекта, – говорил Сербер, – создание реального боевого оружия в форме бомбы, энергия в которой высвобождается в результате цепной реакции на быстрых нейтронах в одном или более веществах, характеризующихся атомным распадом». На лекции выяснилось, что многие присутствующие ученые из-за секретности, окружавшей проект, не имеют целостного представления о том, чем им предстоит заниматься. Одни догадывались о деталях. Другие только о чем-то слышали. Теперь всем им предстояло подготовиться к решению гораздо более масштабной задачи.
На первый взгляд казалось, что сконструировать атомную бомбу достаточно просто. Берутся два куска урана-235 или плутония докритической массы так, чтобы вместе они составили массу значительно выше критической. При получении такой суммарной массы происходит взрыв. Но перед тем как это случится, необходимо решить довольно сложные проблемы.
Главная проблема связана с эффективностью. Необходимая критическая масса урана-235 оценивалась в 200 килограммов – многовато для устройства, которое предстояло сбросить с бомбардировщика. Исследователи предложили увеличить эффективность бомбы, уменьшив массу активного вещества, для чего его предлагалось заключить в «отражатель нейтронов» – оболочку из урана-238 или золота, которая позволила бы возвращать вылетающие нейтроны обратно в активное вещество. В случае с ураном-235 такой отражатель позволит снизить критическую массу примерно до 15 килограммов. Для плутония, заключенного в отражатель из урана-238, критическая масса составит всего 5 килограммов.
Однако критическая масса – это минимум, при котором возникает цепная ядерная реакция, а для боевой бомбы активного вещества потребуется значительно больше. Было ясно, что это количество превысит критическую массу, и его стали называть «сверхкритической массой». При соединении докритических элементов в сверхкритическую массу будет запущена разветвленная (дивергентная) цепная реакция, при которой свободных нейтронов будет производиться больше, чем поглощаться. При этом очень важно было рассчитать время. Вычисления показывали, что один килограмм урана-235 распадется за миллионную долю секунды, энергия взрыва составит 20 000 тонн в тротиловом эквиваленте, а вызванная взрывом начальная температура намного превысит солнечную. При такой температуре уран сразу же испарится, газообразное вещество быстро рассеется, из-за чего будет все сложнее поддерживать цепную реакцию. В определенный момент пар достигнет «вторичной критической точки»: количество нейтронов, высвобождаемых в результате распада, сравняется с количеством нейтронов, покидающих зону реакции, – детонация и взрывное высвобождение энергии завершатся. Получается, что, если компоненты соединятся слишком медленно и сверхкритическая масса взорвется преждевременно (и тут же разлетится в разные стороны), взрыв получится значительно слабее, чем планируется. Одно из решений этой проблемы заключалось в следующем. Цилиндрической пробкой из активного вещества (ее окрестили «затравкой») нужно выстрелить в сферу, имеющую докритическую массу. Таким образом, их суммарная масса превзойдет критическую. Следуя терминологии британских физиков из «Трубных сплавов», такой метод получения сверхкритической массы назвали «пушечным».
На ранних этапах конструирования бомбы пришлось столкнуться с еще одной неясностью. Куски активного вещества должны соединиться достаточно быстро, чтобы не произошло преждевременной детонации. Относительная скорость элементов при этом должна была составлять около 10 000 м/с или более. Максимальная начальная скорость снарядов в неядерных видах оружия составляла около 9600 м/с при весе снаряда 22,5 килограмма. Такими показателями обладала пушка, стоявшая на вооружении армии США, с калибром 120 миллиметров, длиной ствола 6,4 метра, весом 5 тонн. Если предположить, что «затравка» с ураном-235 должна быть в два раза тяжелее снаряда, соответственно, нужна и более тяжелая пушка. «Стрелять» бомбой, начиненной ураном-235, предстояло из пушки, которая весит 10 тонн!
Далее встал вопрос об инициирующем заряде для бомбы. Нельзя было с уверенностью утверждать, что простая сборка компонентов в единый кусок со сверхкритической массой приведет к цепной реакции. Для ее запуска в веществе должны появиться подходящие нейтроны, причем в подходящий момент. Роберт Сербер предлагал использовать в качестве инициирующего заряда небольшое количество бериллия и полония. Как мы помним, полоний радиоактивен, он излучает альфа-частицы, которые могут высвобождать нейтроны бериллия. Этот метод получения свободных нейтронов для бомбардировки ядер использовался задолго до создания первого циклотрона. Идея Сербера заключалась в том, чтобы изолировать полоний и бериллий друг от друга специальным экраном до того момента, пока не выстрелит «затравка». «Пушечный» выстрел должен смешать оба компонента инициирующего заряда, вызвав резкий выброс нейтронов как раз в момент достижения сверхкритической массы.
Несмотря на всю простоту «пушечного» метода, Роберт Сербер рассматривал и альтернативный, более замысловатый, способ сборки критической массы. «Допустим, – говорил Сербер, – мы расположим фрагменты по кольцу. <…> Если взрывчатое вещество распределится по кольцу, те фрагменты, в которых начнется реакция, станут слетаться к центру кольца, образуя сферу». Сербер сделал набросок, показав, как будут расположены клинья из активного вещества и отражатели нейтронов. Если эти клинья под действием инициирующего заряда слетятся к центру кольца, то вместе они создадут сверхкритическую массу.
Следующую лекцию читал специалист по баллистике, и на ней слово попросил Сет Неддермейер, молодой физик из Национального бюро стандартов США. Он предложил еще один способ собрать массу активного вещества в сверхкритическую за счет «имплозии». Его идея заключалась в том, чтобы сконструировать полую сферу из отдельных элементов активного вещества, а затем «схлопнуть» их к центру сферы силой взрыва обычных взрывчатых веществ (сферу нужно предварительно ими обложить). «Схлопывание» сферы внутрь себя позволит собрать сверхкритическую массу ядерного горючего исключительно быстро.
Предложение Сета Неддермейера тут же раскритиковали. Самый серьезный контраргумент звучал так: чтобы взрывная масса активного вещества собралась в правильную сферу, обычная взрывчатка должна давать ударную волну практически идеальной сферической формы. Сам Роберт Оппенгеймер критически отнесся к этой идее. Однако ему и раньше приходилось ошибаться. После лекции он поговорил с Неддермейером и согласился, что предложенный молодым физиком вариант нужно хотя бы теоретически исследовать. Оппенгеймер организовал в артиллерийско-техническом отделе специальную группу, которой поручил обдумать предложенную схему, и назначил Неддермейера ее руководителем.
Роберт Сербер завершил свою лекцию, сформулировав задачу, которую предстояло решить:
Из предыдущего обзора мы видим, что проблемы, требующие преодоления в настоящий момент, тесно связаны с измерением свойств нейтронов в различных веществах, а также с баллистикой. Кроме того, мы должны начать разработку технологий по экспериментальному определению критической массы и по расчету времени, оперируя при этом большими, но докритическими объемами активного вещества.
Любые предположения, что может произойти, если такое оружие действительно будет применено, отошли на задний план. Физики сосредоточились только на тех задачах, которые стояли перед ними здесь и сейчас: нейтроны, преждевременная детонация, критические массы, «пушечный» метод, имплозивные ударные волны. И многие взялись за дело с огромным энтузиазмом. Только Энрико Ферми был в замешательстве. Итальянец воспринимал свою работу над бомбой исключительно как гражданский долг, продиктованный необходимостью военного времени. Он сказал Оппенгеймеру слегка ошеломленно: «Мне кажется, ваши люди действительно хотят создать бомбу».
Атомная индустрия
К осени 1943 года Роберт Оппенгеймер и его исследовательская группа уже ясно представляли себе путь к созданию атомной бомбы и не менее ясно видели проблемы, которые придется преодолеть на этом пути.
В то время в Ок-Ридж возводились два комплекса для крупномасштабного выделения урана-235. Один из них назывался «Y-12». Это был завод для электромагнитного разделения изотопов на базе суперциклотрона, сконструированного Эрнестом Лоуренсом. Лоуренс предполагал, что для выделения 100 граммов урана-235 в день нужно оборудовать суперциклотрон как минимум 2000 коллекторными баками, и все они должны располагаться вертикально между лицевыми поверхностями полюсов тысяч и тысяч тонн магнита. Баки и магниты должны образовать овальные блоки, получившие название «беговых дорожек», – по 96 баков в каждой «дорожке». Лесли Гровс счел, что постройка 2000 коллекторных баков – это нереальная задача для строительной компании, и снизил их количество до 500 (то есть до 5 «дорожек»), предполагая, что совершенствование технологии, которое будет ощутимо еще до завершения строительства, позволит ускорить темпы производства урана и компенсировать разницу.
Чтобы комплекс заработал, нужны были вакуумная система и магниты, которые никогда еще не приходилось конструировать в таких огромных масштабах. Длина каждого магнита составляла 76 метров, вес – от 3000 до 10 000 тонн. На их конструкцию ушла почти вся добытая в США медь. Министерство финансов ссудило для проекта 15 000 тонн серебра, из которого изготавливались обмотки электромагнитных катушек. Магниты требовали больше энергии, чем крупный город. На заводе было занято 13 000 рабочих. Первая «дорожка» под названием «Альфа-1» начала работу в ноябре 1943 года.
Несмотря на колоссальные масштабы «Y-12», Лесли Гровс все еще с сомнением относился к перспективам электромагнитного метода. Примерно в 13 километрах юго-западнее «Y-12» расположился комплекс с газодиффузионной установкой – он назывался «К-25» и также пока еще находился на стадии возведения. Этот завод располагался в U-образном строении длиной километр и шириной три километра. В то время это было самое крупное здание в мире. На заводе должно было работать 12 000 человек. Метод газовой диффузии считался более освоенной технологией, нежели электромагнитное разделение. Но укрощение и этой технологии все еще напоминало авантюру: в Колумбийском университете процесс газовой диффузии по-прежнему активно изучали, но еще не решены были проблемы, связанные с коррозией от гексафторида урана.
Другое направление работ было связано с плутонием. После того как в декабре 1942 года Энрико Ферми успешно продемонстрировал самоподдерживающуюся ядерную реакцию, ученые приступили к сборке гораздо более крупного реактора, предназначенного для производства плутония. Комплекс сооружали в «Зоне W» – на территории города Хэнфорд, на юге штата Вашингтон. Работы начались в марте 1943 года, в строительстве было занято 45 000 человек. Первый ядерный реактор, названный «В» (или «105-В»), на основе ураново-графитовой модели, предложенной Ферми, начали строить в августе 1943 года. При этом на возведение завода должно было уйти около года. Следовательно, первая значительная партия плутония, достаточная для применения в атомной бомбе, могла быть получена не ранее 1945 года.
Кроме того, пока оставалось неясным, будет ли эффективен «пушечный» метод в плутониевой бомбе. На тот момент ученые слишком мало знали о физических свойствах нового элемента (в частности, о спонтанном распаде и о преждевременной детонации), чтобы делать какие-то выводы. Если плутоний покажет выраженную тенденцию к преждевременной детонации, начальной скорости заряда не хватит даже при выстреле из самой большой пушки. Плутониевая «затравка» войдет в докритическую массу слишком медленно, чтобы вызвать взрыв. В отличие от «пушечного» метода, имплозия позволяла собрать сверхкритическую массу быстрее и надежнее. Более того, Эдвард Теллер предположил, что докритическую массу плутония в сверхкритическую способна сжать сильная взрывная волна: обычный взрыв буквально спрессует элементы бомбы, после чего уже последует атомный взрыв.
Математик и физик Джон фон Нейман показал, что ударная волна должна быть практически идеальной сферой с погрешностью не более 5 %. В начале июля Сет Неддермейер приступил к небольшим имплозивным экспериментам, которые проходили на плато к юго-востоку от лаборатории Лос-Аламос. Опыт выглядел так. Обычные взрывчатые вещества, обернутые вокруг коротких отрезков трубы, подрывали, и в итоге трубы должны были тесно сблизиться друг с другом, образуя таким образом плоские металлические слитки. Сначала результаты были неудовлетворительными: трубы кривились и сгибались – это означало, что ударная волна имеет неправильную форму.
Согласно расчетам, урановая или плутониевая бомба, основанная на «пушечном» методе, должна быть длинной и тонкой – 5 метров в длину и примерно 60 сантиметров в диаметре. Роберт Сербер назвал эту модель «Худыш» – как персонажа одноименного детективного романа Дэшила Хэммета, написанного в 1933 году. Предполагалось, что плутониевая имплозивная бомба, если имплозию действительно удастся осуществить, должна быть около 3 метров в длину и чуть больше 1,5 метра в диаметре. Такую бомбу Роберт Сербер назвал «Толстяком» в честь Каспера Гатмена – персонажа, сыгранного Сидни Гринстритом в фильме «Мальтийский сокол» по роману все того же Дэшила Хэммета.
Испытания по сбросу бомб таких размеров с бомбардировщика «Б-29» начались в августе 1943 года. Крупномасштабное производство самолетов этой модели для военных целей в Америке только начиналось, и машину требовалось усовершенствовать – так, чтобы она могла донести бомбы до цели. В ходе экспериментов нужно было определить, какие именно изменения понадобится внести в конструкцию самолета. Для сохранения секретности при телефонных разговорах авиационные служащие говорили о самолетах так, как будто они предназначались для перелетов Франклина Рузвельта («Худыш») и Уинстона Черчилля («Толстяк»).
В это время итальянский физик Эмилио Сегре сделал открытие, значительно приблизившее день создания атомной бомбы. В декабре 1943 года он обосновался в небольшом деревянном домике в укромном каньоне Пахарито в нескольких милях от основной лаборатории. Здесь Сегре повторял эксперименты, направленные на изучение спонтанного деления ядер природного урана, которые ранее проводил в Беркли. В целом результаты были такими же, но явно указывали на большее содержание урана-235. Сегре попытался выяснить почему. Оказалось, что дело в высоте. На плато (2225 метров над уровнем моря) образцы Сегре рассеивали гораздо больше нейтронов – из-за воздействия космических лучей, проникавших через верхние слои атмосферы. Чем ближе к верхним слоям атмосферы находился образец, тем больше нейтронов рассеивалось и тем выше была скорость деления. В Беркли удавалось получить гораздо меньше рассеянных нейтронов, так как по отношению к уровню моря город располагался ниже. Это означало, что, если защитить бомбу от рассеянных нейтронов, риск ее преждевременной детонации значительно снизится. Материал активной зоны может быть гораздо менее чистым, чем предполагалось ранее. Кроме того, можно снизить начальную скорость заряда в пушке, требуемую для сбора сверхкритической массы, а значит, можно уменьшить длину ствола и сделать бомбу гораздо компактнее. С 5 метров (длины «Худыша») размер бомбы теперь уменьшился примерно до 1,8 метра. Новая модель получила название «Малыш» – младший брат «Худыша».
Но оставалось еще одно. Согласно оценкам Эрнеста Лоуренса, за время, отведенное на «Манхэттенский проект», можно выделить такое количество урана-235, которого хватит лишь на одну бомбу. Нельзя угрожать атомной бомбой, не имея ее в наличии. Допустим, союзники по антигитлеровской коалиции используют атомную бомбу в начале 1945 года, но они не смогут подкрепить ее разрушительный эффект угрозой повторного применения. Или придется пойти на очень опасный блеф. А что, если немцы ответят собственной бомбой?..
В Ок-Ридже действовал небольшой экспериментальный ядерный реактор – «Х-10», впервые достигший критической массы в ноябре 1943 года. Он предназначался для производства плутония, который собирались применять в лабораторных опытах. И, работая на этом реакторе, физики из Лос-Аламоса обнаружили проблему, которая поставила под сомнение само существование плутониевой бомбы. Оказалось, что свойства плутония из «Х-10» значительно отличаются от свойств микроскопических доз плутония, которые были получены в циклотроне. Годом ранее Гленн Сиборг предупреждал о том, что плутоний, производимый в реакторе, может содержать небольшие количества изотопа плутоний-240, образующегося из плутония-239 после захвата еще одного нейтрона. Сиборг был прав, но ошибся в количестве. Чем дольше плутоний накапливался в реакторе, тем выше становилась доля плутония-240. И этот изотоп оказался очень нестабильным, активно излучал альфа-частицы и был постоянным источником фоновых нейтронов. Считалось, что при применении «пушечного» метода компоненты с докритической массой дают сверхкритическую в течение примерно одной десятитысячной доли секунды. Высокая же скорость спонтанного деления плутония-240 вызовет попадание целого потока нейтронов в собираемую массу еще до достижения оптимальной конфигурации заряда – значит, преждевременная детонация неизбежна. При этом бомба «займется», но не взорвется.
Чтобы очистить плутоний, нужно было отделить плутоний-240 от плутония-239. Из-за того что ядра двух изотопов отличались только на один нейтрон, задача была значительно сложнее, нежели отделение урана-235 от урана-238. Перспектива получить плутоний, а значит, получить доступ к ядерному топливу, которое не требовало трудоемкого разделения изотопов, теперь представлялась совершенно нереальной.
Для обсуждения проблемы Роберт Оппенгеймер встретился 17 июля 1944 года с Джеймсом Конентом, Артуром Комптоном, Энрико Ферми и Лесли Гровсом в Чикаго. Методов очистки плутония, реализуемых на практике, не существовало. Применять же неочищенное топливо в бомбе, сконструированной по «пушечному» принципу, было нельзя. Конент предложил в качестве альтернативы использовать смесь урана с плутонием. Но это будет маломощное оружие, а его взрывная сила не превысит нескольких сотен тонн тротила. Конечно, создав такое оружие, физики получат опыт, необходимый для конструирования более мощных бомб, но Оппенгеймер решительно возразил, что в таком случае в работе возникнет недопустимая задержка. В заключительном отчете, подготовленном на следующий день, он написал:
Представляется целесообразным прекратить интенсивные работы, направленные на получение высокоочищенного плутония, и сосредоточиться на разработке методов, не требующих низкого нейтронного фона. В настоящее время наивысший приоритет следует присвоить имплозивному методу.
Взрывные линзы
Сет Неддермейер и его группа, изучавшая имплозию в артиллерийско-техническом отделе, подошла к проблеме достаточно старательно и академично. «Я чувствовал, что [Оппенгеймер] был очень недоволен тем, что я не спешу с результатами, что я как будто работаю не над военным проектом, а над обыденной научной проблемой», – признавал позже Неддермейер.
Однако решение проблемы имплозии предложил не он, а Джеймс Так – физик из Манчестера, специализировавшийся на кумулятивном эффекте и прибывший в США вместе с другими британскими учеными. Неддермейер пытался создать ударную волну практически идеальной сферической формы, изменяя контуры взрыва, вид взрывчатого вещества, количество детонаторов и их расположение. Взрывная волна, порождаемая точечным детонатором, распространялась по взрывчатому веществу точно так же, как расходятся круги по воде, если бросить в воду камешек. При размещении рядом нескольких детонаторов получались непредсказуемые комбинации сходящихся и расходящихся взрывных волн, как если бы в воду бросили целую горсть камней. Джеймс Так утверждал, что эта проблема не нова: американцы и англичане уже давно разрабатывали бронебойные снаряды, в которых вся взрывная сила заряда направлялась внутрь атакуемой брони, в результате чего образовывались так называемые «взрывные линзы». Эффект возникал по тем же законам, которые действовали при фокусировке световых волн обычными линзами. Оптическая линза влияет на скорость проходящего через нее света так, что в различных частях линзы эта скорость становится разной и свет «собирается» к центру. Взрывная линза состоит из серии зарядов с различной скоростью детонации – в результате взрывная волна «собирается» и фокусируется. Если окружить сферическое плутониевое ядро взрывными линзами, а затем синхронно детонировать все заряды, то, по мнению Джеймса Така, можно получить взрывную волну идеальной сферической формы, направленную точно в центр ядра.
Его предложение не сразу было признано искомым решением проблемы. Создать взрывные линзы было гораздо сложнее, чем просто попытаться получить сферическую взрывную волну с помощью обычной взрывчатки. Однако начальные опыты с имплозией, которые проводил Сет Неддермейер, казались многообещающими. Джеффри Тейлор, ведущий британский специалист по гидродинамике, приехал в Лос-Аламос в мае 1944 года и высказал свое веское мнение. Его расчеты свидетельствовали о том, что обычными методами проблему не решить, и физики Лос-Аламоса стали постепенно приходить к пониманию того, что взрывные линзы – это единственный выход.
Роберт Оппенгеймер решил в корне изменить направление деятельности. В августе 1944 года он разделил артиллерийско-технический отдел на два новых: отдел G (от «gadget» – «устройство, штуковина, прибамбас»), в задачу которого входило изучение имплозии и разработка бомбы «Толстяк», и отдел X (от «eXplosives» – взрывчатое вещество), основной задачей которого стала разработка взрывных линз. Во главе второго отдела Оппенгеймер поставил Георгия Кистяковского, американского физика российского происхождения, который до этого бывал на Холме в качестве консультанта. Через несколько месяцев отдел «Х» включал более 600 специалистов, в том числе 400 военных физиков и инженеров, набранных в Специальное инженерное подразделение. В его состав входили рядовые и сержанты, многие из которых имели специальное образование, а некоторые и докторскую степень.
Обогащенный уран начал поступать в Лос-Аламос из Ок-Риджа в начале 1945 года. Отто Фриш, поселившийся на Холме вместе с другими британскими физиками, разработал хитроумный способ точно определить, сколько именно ядерного топлива понадобится для создания бомбы. Ученые уже имели большой опыт работы с конструкциями из уложенных друг на друга блоков гидрида урана. Массу приближали к критической, снижая долю водорода и пропорционально увеличивая содержание урана-235. Такая «голая» конструкция, которую Фриш называл «Леди Годива», была довольно опасна в эксплуатации. Сам Фриш получил изрядную долю радиации, когда прислонился к установке. От его тела отразилась часть нейтронов. Если бы не препятствие в виде тела ученого, нейтроны вылетели бы из конструкции. А так они вернулись обратно, и сборка стала критической. Фриш заметил, как маленькие красные лампочки, индикаторы интенсивности нейтронов, перестали мигать – они ярко светились, а счетчики нейтронов были перегружены. Фриш поспешно остановил эксперимент.
Теперь предстояло узнать, как обеспечить при работе с критическими и сверхкритическими сборками относительную безопасность. Фриш предлагал собирать блоки из обогащенного гидрида урана в конфигурации, близкие к критическим, но оставлять в центре сборки сквозное отверстие, а затем загнать в это отверстие еще один блок обогащенного гидрида урана (его назвали «ядром»), чтобы сборка стала критической мгновенно, в момент прохождения ядра через сборку и еще до того, как оно из конструкции выпадет. Ричард Фейнман, выступавший в роли эксперта, интуитивно понял, что эксперимент многообещающий, уподобив его «дерганию за хвост спящего дракона». С тех пор этот опыт стали называть «драконьим». Практически это означало, что ученые могли запустить атомный взрыв, ничего на самом деле не взрывая. Но если ядро застрянет, проскакивая через сборку, масса станет критической, и физики получат смертельные дозы радиации.
Возглавив отдел «G», Отто Фриш сконструировал первую из серии таких сборок в небольшой лаборатории в каньоне Омега, немного отдаленной от основного комплекса Лос-Аламоса. Фриш работал круглыми сутками, чтобы провести первые точные измерения критической массы урана-235. Эксперименты были очень успешными. Ядро проскакивало через сборку за доли секунды, и в это мгновение происходил огромный выброс нейтронов, а температура аппарата возрастала на несколько градусов. Максимальный показатель выделения энергии составил 12 миллионов ватт; выброс, длившийся в течение всего лишь трех тысячных долей секунды, увеличил температуру сборки на 6 °C. Это был первый опыт изучения сверхкритической массы урана в лабораторных условиях.
В то же время отдел «X», руководимый Георгием Кистяковским, развил бурную деятельность. Леса, окружавшие Лос-Аламос, гудели от бесконечной череды взрывов, грохотавших все чаще по мере того, как ученые наращивали мощь своих экспериментов. Группа расходовала примерно по тонне фугасной взрывчатки ежедневно, наполняя ею формы и создавая кумулятивные заряды, каждый из которых весил около 23 килограммов и требовал ювелирной точности при обработке. Изучая имплозию, сотрудники отдела «G» придумали серию диагностических испытаний: в них можно было проверить, насколько симметричной получалась взрывная волна. Джон фон Нейман разработал разновидность взрывных линз, состоявших из быстро сгоравшего внешнего слоя и медленно горевшего внутреннего компонента – вместе они действовали как увеличительное стекло, формируя контуры взрывной волны и направляя ее прямо к ядру бомбы. Каждая линза преобразовывала волну от исходного взрыва из сферической, распространяющейся во все стороны, в сферическую, сходящуюся к центральной точке. Второй слой быстро сгоравшего топлива наращивал и усиливал взрывную волну.
7 февраля 1945 года испытания дали обнадеживающие результаты, хотя сферического сжатия твердого ядра всё еще достичь не удалось. 28 февраля состоялось совещание, на котором в числе прочих присутствовали Роберт Оппенгеймер, Лесли Гровс, Джеймс Конент и Георгий Кистяковский. В ходе обсуждения ученые окончательно определили химический состав взрывных линз и общие принципы конструирования плутониевой бомбы.
1 марта Оппенгеймер создал комитет «Ковбой», руководить которым поручил физику Сэмюелю Эллисону, недавно освобожденному от работ в «Метлабе». Задачей «Ковбоя» было «гнать процесс» на заключительных стадиях разработки бомбы. Кистяковский не доверял Эллисону и считал, что Оппенгеймер приказал новоприбывшему коллеге наблюдать за ним. Давление возрастало, нервы у физиков начинали сдавать.
Хотя в Ок-Ридже надежно наладили производство оружейного урана-235, до вероятного конца войны вряд ли было возможно создать хотя бы одну бомбу. С другой стороны, в Хэнфорде полным ходом шла наработка плутония, которого хватило бы на несколько бомб, но обычная «пушечная» схема детонации не могла применяться с реакторным плутонием. Получалось, что все зависело от успеха работ с имплозией. Кистяковский оказался на своеобразной линии фронта. Неважно, насколько ценен был плутоний, прибывавший из Хэнфорда: ученые в Лос-Аламосе сомневались, что «Толстяк» взорвется. Поэтому требовалось провести полномасштабное испытание.
«Троица»
План такого испытания начал разрабатываться годом ранее. Тогда определили место – на краю полигона Аламогордо в пустыне в Нью-Мексико. Его использовала военная авиация для учебных бомбометаний. Полигон имел почти 39 километров в длину и 29 километров в ширину. Когда пришло время дать полигону название, эрудированный Роберт Оппенгеймер вспомнил XIV-й сонет Джона Донна:
В итоге полигон стал называться «Трехликий Господь», то есть «Троица» («Тринити»). Таким же кодовым словом пользовались и для обозначения самого испытания. Подготовку полигона Оппенгеймер поручил гарвардскому физику Кеннету Бейнбриджу.
В середине марта 1945 года ученые получили экспериментальное доказательство сжатия твердого ядра взрывной волной, симметрия которой была настолько близка к идеалу, что результаты четко соответствовали теоретическим прогнозам. Можно было вздохнуть с облегчением. 11 апреля Оппенгеймер написал письмо генералу Лесли Гровсу, поделившись с ним добрыми известиями. Темпы производства урана-235 в Ок-Ридже позволяли предположить, что первая атомная бомба на этом изотопе будет готова к 1 июля. Теперь Оппенгеймер сообщил Гровсу, что и плутониевая бомба может быть собрана в июле.
На следующий день, 12 апреля, умер Франклин Рузвельт. Президент позировал портретисту, когда вдруг внезапно скончался от инсульта.
Весь Лос-Аламос был в шоке. Многие оплакивали уход любимого лидера нации, занимавшего свой пост в течение 13 лет. Некоторые задавались вопросом, продолжится ли существование «Манхэттенского проекта». Во время панихиды, состоявшейся на Холме в следующее воскресенье, 15 апреля, Роберт Оппенгеймер произнес поминальную речь. Он начал ее цитатой из священной индийской книги «Бхагавадгита»:
«Вера каждого соответствует его природе. Человек образован верой; он таков, какова его вера». Рузвельт верил в то же, что и миллионы мужчин и женщин во всем мире. Поэтому мы можем сохранять надежду, поэтому было бы правильно, если бы мы все посвятили себя надежде, что доброе дело Рузвельта не завершится с наступлением его смерти.
Гарри Трумэн, преемник Рузвельта, завоевал определенную известность благодаря своей кампании по борьбе с чрезмерными военными расходами и созданием специального сенатского комитета по исследованию национальной программы обороны, вошедшего в историю как «Комитет Трумэна». Он постоянно думал о том, куда исчезает огромная разница между декларируемым бюджетом Министерства обороны и реальными расходами. Дело в том, что Трумэн не входил в число членов «внутреннего круга» американской администрации и ему не сообщали о «Манхэттенском проекте». И вот теперь человеку, очень далекому от проблем ядерной физики и ее использования в оружейном качестве, предстояло решить ее судьбу. Гарри Трумэн очень быстро понял, что «супербомба» – это мощнейший геополитический козырь в послевоенном мире. Но чтобы этот козырь воспринимали всерьез, требовалось продемонстрировать его в действии.
Предстояло определить цели. Последнее и самое важное совещание по этому поводу состоялось 25 мая 1945 года в Пентагоне. Консультантом от физиков выступал сам Роберт Оппенгеймер. Вел заседание генерал Лесли Гровс. Понятно, что против Германии применить бомбу было уже невозможно – она капитулировала. Оставалась Япония.
Ранее для дальнейшего рассмотрения определили четыре цели. Лесли Гровс вспоминал:
Комитет наметил, а я утвердил в качестве целей следующие объекты:
1) арсенал в городе Кокура, крупнейший в Японии центр военного производства и снабжения самым различным военным снаряжением. Он занимал площадь 44 квадратных километра. Вплотную к нему примыкали железнодорожные депо, машиностроительные заводы и электростанции;
2) Хиросима – крупный центр по переброске морем японских сухопутных войск и пункт формирования морского конвоя. Это город, в котором размещался штаб местных сухопутных войск, а также контингент в 25 тысяч солдат. Вдоль восточной границы города располагались железнодорожные депо, армейские склады и порты, где происходила погрузка войск на суда. К главной части города примыкало несколько крупных промышленных объектов;
3) Ниигата – порт в Японском море, в последнее время приобретавший большое значение. В нем имелись алюминиевый завод и очень крупный металлургический комбинат, а также нефтеперегонные заводы и порт заправки танкеров;
4) Киото – культурно-промышленный центр с населением около миллиона человек. В прошлом столица Японии. В последнее время в этот город были эвакуированы многие отрасли промышленности и большое количество населения из разрушенных городов. Большая площадь, занимаемая этим городом, позволяла ожидать, что область разрушений окажется внутри его территории, а это поможет определить разрушительную силу бомбы.
Среди тех, кто выступал на совещании, был и военный министр Генри Стимсон. Удивительно, но даже занимая такую должность, Стимсон обладал сильным чувством нравственности, верил в человечность и международное право. Он испытывал страх от того, что долгая и кровопролитная война изменила моральные ориентиры лидеров западных демократий. Когда союзническая авиация засыпала зажигательными бомбами Гамбург, Дрезден и Токио, Стимсон увидел в этом проявление тотальной бойни, которую решительно не принимал. Стимсон настаивал: атомную бомбу нужно использовать так, чтобы свести к минимуму жертвы среди мирного населения. Он прямо заявил Трумэну:
Закрепившаяся за Соединенными Штатами репутация государства, ведущего войну в духе честного соперничества и принципов максимально возможной гуманности, – это величайшее достояние, которое позволило бы обеспечить мир на несколько последующих десятилетий. Я считаю, что аналогичный принцип сохранения жизней мирного населения должен применяться, насколько это возможно, и при использовании любого нового оружия.
Аргументы Генри Стимсона приняли к сведению. И даже пошли на уступку: Лесли Гровс исключил из списка целей Киото – крупнейший культурный центр.
Тем временем Кеннет Бейнбридж во главе группы из 250 специалистов готовился к атомному испытанию в пустыне Аламогордо. Для этого его люди возвели макет небольшого города. В эпицентре будущего взрыва высилась 110-метровая башня, на верхушке которой и следовало взорвать бомбу. Командный центр с железобетонными стенами расположился в 9 километрах южнее эпицентра. Построили также несколько наблюдательных бункеров, полевую лабораторию и базовый лагерь. Подготовили инструментарий для измерения характеристик взрыва, его сейсмического эффекта, интенсивности потока нейтронов и гамма-лучей, уровня радиации и тому подобного.
Роберт Оппенгеймер поручил своему младшему брату Франку обеспечить Бейнбриджу административную поддержку, а также помочь исправить возможные ошибки на этапе подготовки испытания. В то время Франк Оппенгеймер работал вместе с Эрнестом Лоуренсом в радиационной лаборатории. Теперь ему пришлось отправиться в Нью-Мексико. Он прибыл на испытательный полигон «Троица» в конце мая и поразился тому, какая активная работа кипит в пустыне.
Плутоний для испытательной бомбы доставили в Лос-Аламос также в конце мая. Группа Отто Фриша подтвердила эффективность твердого ядра 24 июня. Ядро, чья масса была немного ниже критической, следовало сжать методом имплозии до массы, в два раза превышавшей критическую. Потребовалось всего 5 килограммов ядерного топлива – по размеру такой кусок плутония был не больше апельсина. На ощупь он был теплым.
Сначала испытание назначили на 4 июля, но в конце июня комитет «Ковбой», проанализировав текущий уровень готовности, пришел к выводу, что дату надо сдвинуть. Гарри Трумэн, надеявшийся прибыть на Потсдамскую конференцию глав государств-союзников с «атомным козырем в рукаве», договорился о переносе конференции на 15 июля. Таким образом, самой поздней датой для проведения первого атомного взрыва назначили 16 июля.
Проблема заключалась во взрывных линзах. Формы для них, доставленные в лабораторию Георгия Кистяковского, оказались потрескавшимися и имели следы точечной коррозии. Рентгеновский анализ выявил воздушные полости, которые негативно сказывались на качествах линзы и вызывали риск несимметричной имплозии. Непригодных форм было больше, и к 9 июля выяснилось, что форм для линз может не хватить. В довершение всего Оппенгеймер настаивал на проведении «холостого испытания» имплозии, для которого требовался еще один экземпляр «Толстяка», но без плутониевого ядра. Кистяковский едва успевал изготовить достаточное количество линз для одного испытания, а теперь от него требовали сделать вдвое больше. Бывший киевлянин героически трудился круглыми сутками, исправляя дефектные формы с помощью стоматологической бормашины и жидкой взрывчатки.
«Холостое испытание» провели через пять дней, 14 июля, в изолированном каньоне недалеко от Лос-Аламоса. Оно оказалось неудачным. Оппенгеймеру пришлось созвать экстренное совещание. Последние несколько недель тяжело сказались на главе Лос-Аламоса: нервы физика были истрепаны, он был близок к срыву. Теперь он набросился на Кистяковского. Неудача, конечно же, означала провал готовящейся «Троицы», и Оппенгеймер, движимый эмоциями, кричал, что Кистяковский лично ответит за срыв всего проекта.
Бывший киевлянин не понимал, что произошло. Он выразил сомнение в результатах магнитных измерений, которые использовались для достижения симметрии при имплозии, после чего его обвинили в том, что он покушается на основы теории электромагнетизма, сформулированные еще в 1860 году. Но Кистяковский оставался непреклонен: он поставил свое месячное жалованье против десяти долларов, что взрывные линзы не подведут в ходе «Тринити». Оппенгеймер принял пари.
Даже если бомба сработает, все еще сложно было спрогнозировать точную мощность взрыва. Ученые могли только гадать. Теллер называл оптимистичную цифру – 45 000 тонн в тротиловом эквиваленте. Сербер предполагал 12 000 тонн, Кистяковский – 1400 тонн. Оппенгеймер ожидал, что мощность взрыва не превысит 300 тонн тротила.
За несколько дней до испытания стала стремительно ухудшаться погода. 14 июля начались бури; по прогнозам, они должны были продлиться не менее двух дней. Ночью 16 июля все еще бушевала гроза, шел проливной дождь. Деревянная конструкция на верхушке башни в эпицентре выглядела среди этой неистовой стихии хрупкой и ненадежной.
Приглашенные высокопоставленные чиновники и ученые, которые непосредственно не участвовали в этом заключительном этапе эксперимента или не числились наблюдателями, прибыли на холм Кампанья, расположенный в 32 километрах северо-западнее эпицентра, около двух часов утра. В группу в числе прочих входили Джеймс Чедвик, Энрико Ферми, Эрнест Лоуренс, Роберт Сербер, Ричард Фейнман, Эдвард Теллер и Отто Фриш. У каждого был с собой кусочек закопченного сварочного стекла – через него следовало смотреть на взрыв. А Теллер даже прихватил солнцезащитный фильтр.
В тесном командном центре расположились около двадцати человек, они готовились к испытанию, едва справляясь с волнением. Лесли Гровс старался успокоить Роберта Оппенгеймера и позвал его прогуляться под дождем, когда физик уже был готов сорваться в истерику.
Часы перевалили за 4.00, когда погода стала потихоньку улучшаться, и время взрыва перенесли на 5.30. Кеннет Бейнбридж привел бомбу в готовность и вернулся в командный центр вместе с Георгием Кистяковским и другими специалистами, которые провели последнюю ночь рядом с «Толстяком». В 5.10 утра 16 июля начался последний отсчет. Лесли Гровс покинул командный пункт и уехал в базовый лагерь. Были запущены три сигнальные ракеты – за пять, за две и за одну минуту до взрыва.
Таймер дошел до нуля. Взрывная цепь замкнулась. Электронные детонаторы, симметрично расположенные на поверхности «Толстяка», вызвали тридцать два одновременных взрыва. Кумулятивные заряды прожгли бомбу до центра. Урановый отражатель нейтронов взорвался вовнутрь, то же произошло и с плутониевым ядром. Когда смешались полониевые и бериллиевые компоненты инициирующего заряда, альфа-частицы, выпущенные полонием, стали выбивать нейтроны из ядер бериллия. Нейтроны устремились в маленький сверхплотный плутониевый центр, достигший сверхкритической массы. Ядра плутония-239 стали стремительно делиться, порождая все новые волны нейтронов, а вместе с ними материя стала превращаться в первобытную энергию.
Вот как Отто Фриш описывал то, что произошло далее:
А потом без единого звука как будто вспыхнуло солнце – так это выглядело. Песчаные барханы на краю пустыни засияли очень ярким светом, практически бесцветным и бесформенным. Я повернулся, но объект на горизонте все еще выглядел как маленькое солнце, он был слишком ярок – на него невозможно было смотреть. Я моргал и пытался взглянуть на взрыв. Еще примерно через несколько секунд облако увеличилось, потускнело и выглядело теперь как колоссальный нефтяной пожар… Это было чудовищное зрелище; любой, кто хоть раз видел атомный взрыв, никогда его не забудет. И все это происходило в полной тишине – мы услышали звук взрыва только через несколько минут, и он был настолько силен, что я заткнул уши. Потом последовал долгий раскат, похожий на гул от исполинской автомобильной пробки, собравшейся где-то далеко. Я все еще слышу этот звук.
Отвлеченная проблема, которой Отто Фриш и Лиза Мейтнер некогда занимались ради научного любопытства, обернулась реальным кошмаром.
Кто-то из наблюдателей смеялся, кто-то плакал. Большинство молчали. Энрико Ферми провел простой эксперимент: когда взрывная волна добралась до ученых, он выпустил из рук маленькие клочки бумаги и замерил, как далеко они отлетели. Это позволило ему оценить мощность взрыва: около 20 000 тонн в тротиловом эквиваленте. Показания более точных приборов подтвердили его анализ.
Георгий Кистяковский упал, опрокинутый взрывной волной. Затем он поднялся и потребовал у Оппенгеймера свои десять долларов. «Мой разум пронзила строка из Бхагавадгиты, – вспоминал Оппенгеймер, – „Я стал смертью, разрушителем миров“. Бейнбридж выразился менее образно. „Оппи, – сказал он, – какие же мы теперь сукины дети“».
В базовом лагере руководители программы Лесли Гровс, Джеймс Конент и Ванневар Буш признали успех, тихо пожав друг другу руки.
Последняя битва
Пока участники «Манхэттенского проекта» наблюдали за тем, как над пустыней Нью-Мексико занималась заря маленького рукотворного солнца, на военно-морской верфи Хантере-Пойнт в Сан-Франциско полным ходом шли приготовления к первому военному применению «абсолютного оружия». На борт корабля «Индианаполис» доставили части бомбы «Малыш». Капитану не объяснили ни сути возложенной на него миссии, ни ее истинного назначения. Ему только сообщили, что корабль как можно скорее должен прибыть на остров Тиниан в Тихом океане.
Через четыре дня, в пятницу 20 июля, туда же из Лос-Аламоса направилась небольшая группа физиков. Ее возглавлял Норман Рамзей. Физики должны были собрать бомбы «Малыш» и «Толстяк» на острове Тиниан и подготовить их к сбросу в Японии. Из аэропорта Альбукерке они сначала вылетели на военную базу Вендовер в штате Юта. Там физиков зачислили в действующую армию, выдали паспорта, военную форму, армейские жетоны и наборы для технического обслуживания. Из всех в форме наиболее естественно смотрелся Роберт Сербер: проходившие мимо солдаты отдавали ему честь.
Группа пересекла Тихий океан на транспортном самолете «С-54» и 27 июля прибыла на аэродром Норт-Филд острова Тиниан. «Индианаполис» доставил свой груз к месту назначения днем раньше.
Тиниан – это маленький остров, 20 километров в длину и не более 8 километров в самом широком месте. На этом этапе войны Норс-Филд стал крупнейшим в мире аэродромом, где было шесть взлетных полос длиной по 2,5 километра, которые заканчивались на вершине крутой скалы, возвышавшейся над морем. Физикам довелось наблюдать за тем, как день за днем в небо поднимались сотни «Б-29», отправляясь в дальний полет, чтобы снова и снова сбрасывать на японские города убийственный град бомб. Генерал-майор Кертис Лемей, командующий стратегическими военно-воздушными операциями против Японии, называл эти вылеты «огненной работой». До отказа нагруженные бомбардировщики, взлетев, иногда грозно ухали вниз и лишь после этого медленно поднимались на свою крейсерскую высоту.
На Тиниане физики привыкли к служебному распорядку, об этом Роберт Сербер писал своей жене Шарлотте, ожидая возвращения в Лос-Аламос.
Жизнь здесь быстро вошла в колею. Мы вставали около 6.00, завтракали в 7.00. Затем все отправлялись работать до 11.00. Потом был ланч и мы загорали до часу дня, если погода позволяла. Затем работали примерно до 16.30, обедали около 17.00 и бездельничали до 19.15 – бывало, нам показывали кино или какое-нибудь представление. Кино прерывалось на 15 минут на новости и фронтовые сводки. После кино мы шли в офицерский клуб, пили пиво или колу и около 22.00 отправлялись спать.
Провести первую атомную бомбардировку было поручено полковнику Полу Тиббетсу-младшему, личному пилоту Дуайта Эйзенхауэра, который пользовался репутацией лучшего летчика американских ВВС. Его назначили командующим специальным авиационным подразделением, 509-й сводной группой, собранной для доставки и сброса атомной бомбы. Тиббетс должен был пилотировать «Б-29», переоборудованный под бомбу «Малыш». Экипаж проходил тренировки на Кубе, где пилоты обучались летать над водой с тяжелым грузом на борту. Приказ на отправку 509-й группы на боевое задание выдали в апреле, и передовая группа прибыла на аэродром Норт-Филд всего за 10 дней до задания, 18 мая.
После прибытия на Тиниан Тиббетс и экипажи пятнадцати модифицированных «Б-29» продолжили тренировки в боевых условиях, совершая налеты на японские базы. Теперь они практиковались в сбросе «тыкв» – примитивных моделей «Толстяка», выполненных в натуральную величину. «Тыквы» состояли из бетона, каждая была начинена тремя тоннами фугасной взрывчатки и окрашена в ярко-оранжевый цвет. Только Тиббетсу было известно, чему именно они сейчас учатся, хотя ему самому запретили выполнять боевые вылеты.
Поскольку раньше никто и никогда не сбрасывал атомных бомб, неудивительно, что Пол Тиббетс волновался за судьбу своего экипажа. Он разработал тщательный план маневра, позволявшего уйти от взрыва: поворот на 150° примерно за 30 секунд на высоте 9100 метров на скорости 320–400 км/ч и с выходом на обратный курс на 500 метров ниже уровня сброса бомбы. Он попросил Роберта Сербера оценить такой маневр. Тот быстро сделал некоторые расчеты и пришел к выводу, что в таком случае экипаж будет в полной безопасности.
Пока «Малыш» и физики различными путями добирались до Тиниана, в Москве, Потсдаме и Токио бушевали политические дебаты. Там решалась судьба Японии и вопрос о том, какую роль в ее будущем сыграют атомные бомбы.
Дуайт Эйзенхауэр узнал от Генри Стимсона об успешном исходе испытания «Троица» за обедом в штаб-квартире западных союзников в Германии. Он сказал, что следовало бы обойтись без применения бомбы, полагая, что японцы готовы к капитуляции. Эйзенхауэр не хотел, чтобы именно его страна первой воспользовалась таким оружием. Другие члены американского командования разделяли соображения Эйзенхауэра, но некоторые – по причинам скорее практического, чем морального плана. Например, командующий Кертис Лемей и без атомной бомбы методично сжигал японские города один за другим, поэтому полагал, что победить можно и без применения нового оружия.
Но сколько именно времени и человеческих жизней понадобится для окончательного разгрома? Готовность Японии капитулировать все еще была предметом споров. Разведданные вроде бы показывали, что японские дипломаты в Европе пытаются заключить мир без санкции Токио. Единственное официально разрешенное дипломатическое мероприятие провел Наотаке Сато в Москве 11 июля. Однако оно окончилось безрезультатно. На все предложения японской стороны советский министр иностранных дел Вячеслав Молотов отвечал уклончиво. 12 июля Сато получил письмо из Токио, в котором ему рекомендовали сделать следующий шаг, проинформировав СССР об «имперской воле» закончить войну. В сущности, японское политическое руководство пыталось заручиться помощью СССР как посредника при заключении мира на условиях, которые были бы приемлемы для японцев. 18 июля Сато отправил ответное письмо, в котором доказывал, что безоговорочная капитуляция – все, на что может рассчитывать Япония. Ответ министра Сигэнори Того от 21 июля был весьма экспрессивный:
На безоговорочную капитуляцию (меня проинформировали о вашем сообщении от 18 июля) мы согласиться не можем ни при каких условиях. Даже если война продолжится и станет ясно, что она будет еще более кровопролитной, вся страна как один человек выступит против врага согласно имперской воле. Следует не допустить такого, поскольку нам нужен мир, а не так называемая безоговорочная капитуляция при содействии России.
Представление Того о целой стране, которая восстает против врага как один воин, основывалось на принципе «кецуго» – военной стратегии, направленной на ослабление американской решимости путем нанесения максимального ущерба живой силе противника на начальных этапах ожидавшегося вторжения западных союзников на японские острова. Японские вооруженные силы планировали «специальную атаку», под которой понималась практика нанесения ущерба противнику ценой собственной жизни («камикадзе»), и формировали национальную программу обороны, в соответствии с которой все годные к службе граждане, включая стариков и женщин, вооружались для того, чтобы дать отпор захватчикам.
Со своей стороны, американцы прорабатывали план «Даунфол», предусматривавший вторжение западных союзников в Японию. Его реализация должна была начаться с операции «Олимпик» – нападения на Кюсю, самый юго-западный из пяти крупнейших островов японского архипелага. К операции планировали приступить 1 ноября 1945 года. После захвата этот остров послужил бы воздушной и морской базой для развертывания операции «Коронет», целью которой было взятие Токио. Ее предварительно наметили на 1 марта 1946 года. При подготовке «Олимпика» предполагалось, что японцы смогут расположить на Кюсю не больше шести дивизий, что было вполовину меньше предполагаемого количества американских войск вторжения. Однако перехватываемые радиосообщения свидетельствовали о стягивании на Кюсю гораздо более значительных японских сил. Оценки возможных потерь американской экспедиционных сил значительно варьировались. В боях за Окинаву погибли или пропали без вести около 12 500 американцев. Никто не питал иллюзий относительно того, сколь высокую цену придется заплатить за захват всей Японии.
Вдобавок к прочим проблемам в войну с Японией готовился вступить СССР. Формально решение Сталина выглядело как желание поскорее завершить войну на условиях безоговорочной капитуляции Японии (то есть предложение японских дипломатов Молотову о компромиссном варианте было негласно отвергнуто), однако американцы прекрасно понимали: за счет внезапного нападения Советский Союз сумеет значительно расширить подконтрольные территории в Тихоокеанском регионе.
Напрашивался очевидный выход из сложной геополитической ситуации. Атомная бомба позволяла закончить войну с Японией еще до того, как в нее вступит СССР. Кроме того, можно было сохранить жизни американцев – война, грозившая затянуться на годы, завершилась бы в кратчайшие сроки. При этом США недвусмысленно продемонстрировали бы превосходство своих военных технологий, закрепив за собой сильную позицию в мире. Наконец, был еще один аргумент. Трата двух миллиардов долларов на разработку оружия, которое в итоге так и не найдет применения, – разве это не нонсенс?
Президенту Трумэну несложно было принять решение. 25 июля он написал в своем дневнике:
Данное оружие следует применить против Японии до 10 августа. Я приказал военному министру, мистеру Стимсону, использовать это оружие таким образом, чтобы оно поразило военные цели, солдат и матросов, но не женщин и детей. Даже притом что японцы дики, безжалостны, жестоки и фанатичны, мы как лидеры мира, стремящегося к достижению всеобщего благоденствия, не можем сбросить эту ужасную бомбу на старую или новую столицу Японии.
Мы с министром пришли к общему мнению. Цель будет чисто военной, и мы сделаем японцам предупреждение о необходимости капитулировать и спасти жизни своих соотечественников. Я уверен, что они на это не пойдут, но мы дадим им шанс. Миру определенно пошло на пользу, что атомную бомбу изобрели не представители окружения Гитлера или Сталина. Вероятно, это самая ужасная из когда-либо изобретенных вещей, но, возможно, она окажется и самой полезной.
26 июля, когда «Малыша» выгрузили на Тиниане, Гарри Трумэн, Уинстон Черчилль и китайский лидер Чан Кайши подготовили к печати Потсдамскую декларацию. Позиция осталась без изменений: «Мы призываем японское правительство немедленно объявить безоговорочную капитуляцию всех вооруженных сил Японии и обеспечить надлежащие и адекватные гарантии своей честности при вынесении такого решения. Альтернативой для Японии является быстрое и окончательное уничтожение».
Однако уступок с японской стороны не последовало.
Советский Союз пока не находился в состоянии войны с Японией, поэтому Иосиф Сталин не участвовал в подписании декларации. Министр Сигэнори Того полагал, что все же удастся достичь более выгодных условий заключения мира через имевшиеся у него дипломатические каналы в Москве. Вероятно, он не знал, что СССР уже перебрасывает войска к границам Маньчжурии, готовясь к вторжению.
На следующий день японский Верховный Совет по делам войны собрался для обсуждения этой декларации. В Совет входили: премьер-министр Кантаро Судзуки, министр армии Корэтика Анами, министр флота Мицумаса Ёнай, генерал Ёсидзиро Умэдзу и адмирал Соэму Тоёда, начальники штаба армии и флота, а также министр иностранных дел Сигэнори Того. Неудивительно, что милитаристы Анами и Умэдзу выступали за отказ от капитуляции; Того же доказывал, что следует попытаться выиграть время, пока Сталин не вернулся в Москву из Потсдама, и настоять на заключении мира при посредничестве Советского Союза на более приемлемых условиях.
Итог дебатов вышел предсказуемым. Кантаро Судзуки озвучил официальный ответ Японии 28 июля, в ходе пресс-конференции, состоявшейся в его резиденции в Токио. Когда журналист поинтересовался, какое мнение сложилось у премьера о Потсдамской декларации, он заявил, что его правительство «не нашло в документе ничего ценного». Он сказал, что нет иного выхода, кроме как «игнорировать» эту декларацию. Японцы собирались «решительно сражаться до победного конца войны».
Лео Силарда не пригласили на испытание «Троица», поскольку к тому времени он стал известен своей антивоенной агитацией, которую проводил среди физиков Лос-Аламоса. Кроме того, он продолжал посылать президенту петиции, в очередной раз заручившись поддержкой Эйнштейна и призывая отказаться от использования атомной бомбы. 16 июля он составил очередное воззвание, в котором признавал объективно сложившуюся ситуацию, но вместе с этим делал упор на том, что Японии нужно дать возможность капитулировать:
Война стремительно приближается к победному концу, и нанесение удара с применением атомной бомбы вполне может считаться эффективным способом ведения боевых действий. Однако мы считаем, что такая атака на Японию не оправдана как минимум до того, как условия послевоенного существования не будут официально предъявлены Японии в детальной форме и Япония не получит возможности капитулировать.
Если такое официальное заявление позволит японцам рассчитывать на жизнь, посвященную мирному достижению благополучия их Родины, и если Япония и после этого откажется капитулировать, то мы можем признать, что нам не остается ничего иного, кроме как применить атомную бомбу. Однако к такому шагу не следует прибегать ни при каких обстоятельствах, если предварительно не взвешены со всей серьезностью моральные аспекты, связанные с использованием такого оружия.
Под этим документом поставили подписи шестьдесят восемь ученых Холма, и ее отправили Артуру Комптону 19 июля. Тот решил сначала проконсультироваться с Лесли Гровсом. Генерал держал у себя петицию до 1 августа и только тогда отправил ее в кабинет Генри Стимсона. Но военный министр все еще оставался в Потсдаме и увидел письмо лишь после возвращения.
К тому времени колеса уже завертелись: потсдамская декларация требовала безоговорочной капитуляции совершенно недвусмысленно. Союзники по антигитлеровской коалиции угрожали Японии «быстрым и полным уничтожением», и теперь следовало показать, как они собирались это сделать.
«Малыш» над Хиросимой
К 31 июля 1945 года группа физиков, работавших на Тиниане, практически завершила техническую подготовку «Малыша». Окончательно привести оружие в боевую готовность поручили Уильяму Парсонсу по прозвищу Финт – он должен был сделать это уже на борту «Б-29».
В тот же день три бомбардировщика из состава 509-й сводной группы закончили последний тренировочный полет на Иводзиму и отработали маневр, предложенный Полом Тиббетсом. Полет прошел нормально. Все было готово.
«Малыша» не сбросили 1 августа только из-за неблагоприятной погоды. 2 августа три «Б-29» доставили на Тиниан компоненты для сборки второй бомбы, «Толстяка». Тиббетс и его экипажи следили за погодными сводками, напряжение возрастало.
4 августа Пол Тиббетс собрал экипажи семи «Б-29», которые должны были участвовать в первой атомной бомбардировке. Планировалось, что три самолета вылетят за час до остальных, чтобы определить погодные условия и уровень облачности над целями. «Б-29» с бортовым номером 82, который нес на борту «Малыша» и который должен был пилотировать полковник самолично, имел имя собственное – «Энола Гей» (так звали мать Тиббетса). В качестве сопровождения с ним шло еще два самолета, экипажи которых должны были наблюдать за процессом и фотографировать результат. Седьмой бомбардировщик оставался на тинианском аэродроме в резерве на случай, если с самолетом Тиббетса возникнут проблемы при взлете.
Летчики, собравшиеся на совещание, удивились тому, что кабинет охраняла военная полиция. Полковник Тиббетс стоял у трибуны, за спиной у него были две закрытые классные доски и проекционный экран. «Время пришло, – сказал Тиббетс. – Теперь мы должны сделать то, над чем так долго работали. Совсем недавно оружие, которое мы должны применить, было успешно испытано в Штатах. Получен приказ о бомбардировке противника». Затем он открыл доски. На них в порядке приоритета были прикреплены карты трех японских городов: Хиросимы, Кокуры и Нагасаки. Синоптики предсказывали, что через несколько дней погода на юге Японии изменится, и атаку предварительно назначили на утро 6 августа.
Затем Тиббетс представил Уильяма Парсонса, который продолжил объяснения. Он сказал, что новое оружие беспрецедентно для всей истории войн. «Это самое разрушительное оружие из когда-либо созданных. Мы предполагаем, что оно уничтожит все живое в радиусе пяти километров». Разрушения предполагаются такими же, какие способны нанести две тысячи «Б-29», до отказа загруженные обычными бомбами. Физик рассказал об испытании «Троица», но отснятый на пленку фильм об испытании не показал, поскольку проектор забарахлил. Взяв темные очки сварщика, Парсонс объяснил, что взрыв должен быть ярче солнца и ослепит любого, кто посмотрит прямо на него без защиты. Тиббетс сделал несколько замечаний, и собрание завершилось в звенящей тишине.
Последнее собрание летчиков перед вылетом состоялось в ночь с 5 на 6 августа. Протестантский капеллан прочел молитву. «Энолу Гей» стали готовить к вылету в 2:45. «Малыша», весившего 4 тонны, надежно уложили в бомбовый отсек. Пол Тиббетс и его второй пилот, капитан Роберт Льюис, то и дело бросавший на бомбу нервные взгляды, благополучно миновали взлетную полосу и мастерски подняли машину в воздух.
Полет до японского архипелага прошел без инцидентов. Уильям Парсонс привел бомбу в боевую готовность в 7:30. Высланные вперед самолеты-разведчики доложили, что над Кокурой и Нагасаки низкая плотная облачность. Пилот третьего разведчика, пролетавший над Хиросимой, сообщил о чистом небе и послал в эфир сообщение: «Бомбите первую цель». Пол Тиббетс ответил, что они приближаются к основной цели и поднимаются на высоту 9500 метров. Пролетая над Кюсю, экипаж «Энолы Гей» не заметил ни японских истребителей, ни зенитного огня.
Бомбардир Тиббетса, майор Томас Фереби, выбрал прицельную точку – мост Айой, огромное сооружение над развилке рек Ота и Мотоясу в центре Хиросимы. Бомбовый отсек распахнулся. По сигналу Фереби радист Ричард Нельсон подал предупреждающий сигнал остальным «Б-29» – длинный низкий тон, означавший «пятнадцать секунд до сброса».
Радиопереговоры закончились. В 8:14 по местному времени люки распахнулись, и бомба полетела вниз. «Энола Гей» рванул вверх. Пол Тиббетс взял управление на себя и совершил спланированный и заученный маневр. Он надел очки сварщика и сразу понял, что через них ровным счетом ничего не видно. Он отложил очки, и в этот самый момент ярчайший свет залил кабину самолета.
До сих пор Хиросиму не бомбили. Подобно жителям немецкого Дрездена, которые до конца верили, что существует негласная договоренность между союзниками по антигитлеровской коалиции сохранить их город неприкосновенным, обитатели Хиросимы полагали, что армады вражеских самолетов обходят ее стороной, потому что отсюда родом многие американцы японского происхождения. Еще бытовала версия, что американцы боятся случайно нанести удар по лагерю военнопленных, расположенный поблизости. Ходил и фантастический слух, что в городе живет кто-то из родственников президента США.
Понедельник 6 августа начался, как и другие дни войны. После двух ночных воздушных тревог мало кто обратил внимание на третью. Ее объявили в 7:09, когда высоко над Хиросимой появился один-единственный «Б-29» – это был передовой самолет-разведчик. Затем появились еще два бомбардировщика, но они, казалось, стали уходить. Будничные утренние заботы вновь овладели горожанами вплоть до мгновения, когда все вокруг превратилось в ослепительный ад.
Урановая бомба «Малыш» взорвалась на высоте 580 метров над Хиросимой, высвободив энергию, эквивалентную эффекту от взрыва 12 500 тонн тротила. Температура в эпицентре достигла 60 миллионов градусов, что примерно в четыре раза выше, чем температура на поверхности Солнца. Находившиеся ближе всего к эпицентру взрыва умерли мгновенно – их тела обратились в пепел. Пролетавшие мимо птицы сгорали в воздухе. Световое излучение выжигало темный рисунок одежды на коже и оставляло силуэты человеческих тел на стенах. Взрывная волна последовала почти немедленно, сбивая с ног. Все здания, кроме самых прочных, обрушились. В течение нескольких минут умерли почти все, кто находился на расстоянии 800 метров и меньше от эпицентра.
Многочисленные небольшие пожары, которые одновременно возникли в городе, вскоре объединились в один большой огненный смерч, создавший сильный ветер, направленный к эпицентру. Огненный смерч захватил свыше 11 квадратных километров города, убив тех, кто не успел выбраться из этого района в течение первых нескольких минут после взрыва.
Вспоминает Акико Такакура – одна из немногих выживших, находившихся в момент взрыва на расстоянии трехсот метров от эпицентра:
Три цвета характеризуют для меня день, когда атомная бомба была сброшена на Хиросиму: черный, красный и коричневый. Черный, потому что взрыв отрезал солнечный свет и погрузил мир в темноту. Красный был цветом крови, текущей из израненных и переломанных людей. Он также был цветом пожаров, сжегших всё в городе. Коричневый был цветом сожженной, отваливающейся от тела кожи, подвергшейся действию светового излучения от взрыва.
После бомбардировки в Хиросиме начался настоящий кошмар. Вспоминает военный врач Шунтаро Хида, в момент взрыва находившийся за городом:
В тот момент ослепительная вспышка ударила мне в лицо. Адская жара опалила мне лицо и руки. <…> Я в мгновение ока заполз на татами, инстинктивно закрыв лицо обеими руками и попытавшись ползком выбраться наружу. «Пожар!» – подумал я сразу, но меж пальцев увидел только синее небо. Кончики листьев на ограде не сдвинулись ни на дюйм. Было совсем тихо.
Лишь после этого я увидел гигантское огненное облако, висящее в небе над Хиросимой, как будто на город положили огромнейшее кольцо. Через секунду в центре этого кольца стало расти грязно-белое облако. Оно росло все быстрее, постепенно заполняя пространство внутри красного кольца. В то же мгновение появилось длинное черное облако, которое стало распространяться надо всем городом, по склону холма, а потом устремилось по долине Оты в сторону деревни Хесака, охватывая леса, рощи, рисовые поля, фермы и дома. Это был чудовищный огненный смерч, вскидывавший в воздух городскую грязь и песок. После этой колоссальной вспышки и волны теплового излучения у меня было всего несколько секунд, чтобы обозреть всю мощь ударной волны.
Я увидел, как крышу начальной школы, находившейся за домом фермера, легко сорвало облако пыли. Меня вдруг подбросило в воздух, прежде чем я успел как-то защититься. Межкомнатные перегородки и ширмы летали вокруг меня, как старая бумага. С фермерского дома сдуло тяжелую соломенную крышу вместе с потолком, и уже через секунду сквозь зияющую дыру было видно синее небо.
Я пролетел десять метров через две комнаты, закрыв глаза и согнувшись, и угодил в большой буддистский алтарь, стоявший во внутренней части дома. Огромная крыша и масса грязи с ужасным звуком свалились на меня. Я почувствовал боль во всем теле, но мне было не до того. Я выполз наружу, ощупью отыскивая путь. Мои глаза, уши, нос и даже рот были полны грязи.
Хида сел на велосипед и поехал в город по берегу реки Ота. На дороге он встретился с первым пострадавшим:
Это был кто угодно, но не человек. Странная фигура медленно приближалась ко мне, пошатываясь. Существо напоминало человека, но было голым, окровавленным и покрытым грязью. Все его тело опухло. Куски изорванной одежды свисали с обнаженной груди и бедер. Руки он держал перед грудью, ладонями вниз. Капли воды стекали с клочьев одежды. Оказалось, что это была не рваная одежда, а человеческая кожа, и капала с нее не грязная вода, а кровь. Я не мог понять, женщина это или мужчина, военный или гражданский. У него была неестественно большая голова, заплывшие веки, а страшно распухшие губы, казалось, занимали половину лица. На его обгоревшей голове не было ни единого волоса. Я непроизвольно отшатнулся. Определенно, это существо было человеком. Но от человека осталась только масса сгоревшей плоти, куски которой висели как сыромятина, покрытая кровью и грязью.
Пострадавший упал и забился в конвульсиях. Хида попытался нащупать у него пульс, но поздно: человек умер. Врач повернулся и увидел новых обгорелых и окровавленных людей. Бесчисленное количество «живых мертвецов» приближалось к нему: некоторые шли пошатываясь, другие ползли на коленях, третьи – на четвереньках. Жертвами вспышки и ударной волны стали от 70 000 до 80 000 человек.
Вспоминает Ясухико Такэта:
Наша начальная школа стала временным пунктом оказания первой помощи, его классные комнаты – преобразованы в больничные палаты. Жертвы бомбардировки были выстроены в очередь, ожидая помощи.
Волосы жертв были завиты, и их лица раздувались от темно-красных ожогов. Части их кожи свисали с открытых ран, а их одежда, покрытая кровью, была опалена и разорвана. Многие из них были принесены на ставнях, которые служили носилками. Они были похожи на призраков, лежа там, и их внутренние органы выпирали через их руки! Некоторые люди просто стонали. Другие кричали имена членов семьи. Были люди, которые просили: «Воды, пожалуйста. Дайте мне воды». Это была ужасная сцена. <…>
Когда жертвы прекращали стонать, мы знали, что они умерли. По мере роста числа жертв, а росло число с ужасающей быстротой, могила за могилой выкапывались на территории крематория. Сосновые ветви клали сверху на гору трупов, затем поливали их нефтью, и таким способом кремировали. Пепел засыпался в специально заготовленные «могилы». День за днем, с утра и до позднего вечера, воздух был заполнен дымом и зловонием гниющей, сожженной плоти.
Но даже через много дней смерти не прекратились. Шунтаро Хида работал в полевом госпитале, наскоро организованном в Хесака, и каждый день видел, как искалеченные умирали в муках. Через неделю умерли все, у кого были тяжелые травмы, а оставшиеся в живых начали медленно выздоравливать. И тут одна из медсестер заметила, что у больных стала резко подниматься температура.
Мы поспешно стали оказывать им помощь. С больных градом катился пот, их миндалины отмирали. Мы не понимали, откуда взялись такие тяжелые и грозные симптомы. А тем временем у больных стали кровоточить слизистые оболочки, и вскоре несчастные стали харкать кровью.
Врачи подозревали тиф или дизентерию. Но причина была не в инфекции – то проявлялись первые симптомы «лучевой болезни», которая до конца 1945 года погубила еще около 60 000 человек.
«Толстяк» над Нагасаки
Взрыв «Малыша» оказался слишком успешным. Инфраструктура города была повреждена настолько серьезно, что сообщение о бомбардировке добралось до Токио только через день. Оно было коротким: «Хиросима полностью уничтожена одной-единственной бомбой. Возникшие пожары продолжают распространяться».
Известно, что в самой Японии велась небольшая исследовательская программа в области ядерной физики под руководством физика Иошио Нишина. Однако попытки японцев получать уран-235 методом газовой диффузии ни к чему не привели. Японские военные знали, что производство компонентов атомной бомбы – исключительно сложная задача. Поэтому некоторые взялись утверждать, что та бомба, которую сбросили на Хиросиму, не была атомной. Другая точка зрения сводилась к тому, что если даже американцам удалось преодолеть все трудности, то их арсенал насчитывает максимум одну-две бомбы.
Иошио Нишине было поручена важная миссия: посетить Хиросиму, изучить последствия бомбардировки и установить, насколько оправданы подозрения военных. Когда физик увидел испепеленный город с самолета, он все понял правильно: ничто, кроме атомной бомбы, не могло причинить таких огромных разрушений. Собрав куски оплавившейся черепицы, Нишина вычислил температуру взрыва. А силуэты людей и различных предметов, которые отпечатались на гладких каменных поверхностях, позволили ему довольно точно определить высоту, на которой взорвалась бомба. Ученый собрал образцы почвы на разных расстояниях от эпицентра, чтобы определить их радиоактивность. Четыре месяца спустя, в декабре 1945 года, все тело физика покрылось волдырями. Как он и предполагал, это был результат остаточной радиации.
9 августа со специальным заявлением выступил президент Гарри Трумэн. Он говорил:
Мир должен знать, что первая атомная бомба была сброшена на Хиросиму, военную базу. Это было сделано потому, что мы хотели в этой первой атаке по возможности избежать убийства мирных жителей. Но эта атака – только предупреждение о том, что может последовать. Если Япония не сдастся, бомбы упадут на ее военную индустрию и, к сожалению, потеряны будут тысячи человеческих жизней. Я призываю гражданское население Японии немедленно покинуть индустриальные центры и спасти себя от гибели.
Но даже после этого японские военные отказались от капитуляции. Посол Наотаке Сато вновь предпринял попытку убедить Советский Союз выступить в качестве посредника, но услышал от Молотова лишь то, что СССР объявляет войну Японии. В ночь с 8 на 9 августа советские войска перешли границу Маньчжурии и атаковали японские позиции.
Верховный Совет по делам войны собрался утром 9 августа. Страна оказалась в тупике. Мнения разделились примерно поровну. Милитаристы утверждали, что начало войны с СССР не отменяет доктрины «кецуго». Министр армии Корэтика Анами и адмирал Соэму Тоёда настаивали на концессиях: оккупации японского архипелага допустить нельзя, Япония должна самостоятельно разоружится и провести суд над военными преступниками. Теперь министр иностранных дел Сигэнори Того утверждал, что страна должна принять Потсдамскую декларацию при условии, что будут даны гарантии относительно судьбы императора. Премьер-министр Кантаро Судзуки и министр флота Мицумаса Ёнай с ним соглашались.
Пока в Токио кипели дебаты, майор Чарльз Суини управлял самолетом «Б-29» (бортовой номер – 77, имя собственное – «Бокскар», в честь первого командира экипажа Фредерика Бока). Самолет нес на борту плутониевую бомбу «Толстяк» для сброса на основную цель – арсенал города Кокура. Хотя майор получил информацию о благоприятных погодных условиях, город оказался затянут туманом и дымом, который поднимался с близлежащего городка, недавно подвергнутого воздушной атаке. За самолетом Суини погнались вражеские истребители, вдобавок по нему открыли огонь зенитки. Помимо всего прочего, стало заканчиваться горючее. Логичнее было бы повернуть назад, но майор принял решение сбросить «Толстяка» на Нагасаки. Там тоже было облачно, но бомбардир Кермит Бихан нашел в тучах небольшой просвет, через который разглядел городской стадион, вполне подходящий для прицеливания.
Бомба «Толстяк» упала на Нагасаки в 11:02 по местному времени. Она взорвалась на высоте 500 метров над городом с силой, эквивалентной взрыву около 22 000 тонн тротила. Эпицентр оказался посередине между двумя основными целями в Нагасаки: сталелитейными производствами Мицубиси на юге и торпедным заводом Мицубиси-Ураками на севере. Если бы «Толстяка» сбросили дальше к югу, между деловым и жилым районами, то урон был бы намного больше.
Нагасаки, как и Хиросима, никогда ранее не подвергался крупномасштабной бомбардировке. Тем не менее 1 августа 1945 там было сброшено несколько фугасных бомб. Часть из них угодила в верфи и доки юго-западного района города. Хотя разрушения от нападения были сравнительно невелики, они породили беспокойство у городских властей, и часть населения, в основном школьники, были эвакуированы в сельские районы – таким образом, к моменту атомной атаки население города несколько сократилось.
Утром 9 августа в Нагасаки прозвучала воздушная тревога, отмененная в 8:30. Люди вышли из убежищ. Когда в 10:53 два самолета попали в поле видимости, местное военное командование приняло их за разведывательные и не выдало приказ об объявлении новой тревоги. Всё же многие горожане, заметив «Б-29», побежали в укрытия. А потом полыхнуло.
Вспоминает Танигути Сумитэру, оказавшийся в полутора километрах от эпицентра:
При взрыве я был обожжен со спины тепловыми лучами от огненного шара <…>. В следующий миг ударная волна отбросила меня вместе с велосипедом приблизительно на четыре метра и ударила о землю. Ударная волна <…> сносила здания и деформировала стальные каркасы.
Земля содрогалась так сильно, что я лег на ее поверхность и держался так, чтобы не быть снова сбитым с ног. Когда я взглянул вверх, здания вокруг меня были полностью разрушены. Детей, игравших неподалеку, сдуло, как если б они были просто пылью. Я решил, что поблизости была сброшена большая бомба, и меня поразил страх смерти. Но я продолжал твердить себе, что не должен умирать.
Когда, казалось, все улеглось, я поднялся и обнаружил, что моя левая рука целиком обгорела и кожа свисает с нее как изодранные лохмотья. Я дотронулся до спины и обнаружил, что она также сожжена. Она была склизкой и покрыта чем-то черным.
Мой велосипед был изогнут и скручен до потери формы, корпус, руль и все прочее, будто спагетти. Все дома поблизости были разрушены, и на их месте и на горе вспыхнуло пламя. Дети вдалеке были все мертвы: некоторых сожгло до золы, другие, казалось, не имели ран.
Там была женщина, полностью потерявшая слух, лицо которой распухло до такой степени, что она не могла открыть глаза. Она была изранена с головы до ног и кричала от боли. Я до сих пор вспоминаю эту сцену, как будто видел ее только вчера. Я не мог ничего сделать для тех, кому было плохо, и кто отчаянно звал на помощь, и глубоко сожалею об этом, даже сейчас.
Многие были обожжены дочерна и умерли в поисках воды.
Я шел как лунатик и достиг близлежащего завода. Там я сел и попросил одну женщину срезать сожженную кожу, свисавшую с моих рук. Она отрезала кусок материи от остатков моей рубашки, налила на него машинное масло и протерла мне руки. Полагаю, заводские рабочие подумали, что целью атаки был их завод, – они убедили меня спасаться бегством до другого возможного удара.
Я не смог ни идти, ни даже встать, хотя пытался изо всех сил. Один человек отнес меня на спине к горе и положил в зарослях кустарника. Люди называли свои имена и адреса в надежде, что выжившие передадут весть их семьям. Они умирали один за другим в поисках воды.
Когда пришла ночь, выживших на земле обстрелял самолет американских воздушных сил. Они могли видеть людей в свете пересекавших город пожаров. Несколько шальных пуль ударили в камень, находившийся за мной, и упали на траву. Американские воздушные силы были неумолимы. Они всё еще жаждали атаковать людей, уже испытавших то, что я могу описать только как ад.
Ночью шел моросящий дождь. Я глотал воду, капавшую с листьев, и так провел ночь. Когда наступило утро, казалось, что все вокруг мертвы. <…> Наутро третьего дня я был найден и доставлен в соседний город. В это время все городские госпитали были переполнены жертвами, поэтому меня доставили в начальную школу, превращенную во временное пристанище для пострадавших».
Согласно отчету префектуры Нагасаки, «люди и животные погибли почти мгновенно» на расстоянии до одного километра от эпицентра. Почти все дома в радиусе двух километров были разрушены. Хотя в городе не возникло огненного смерча, фиксировались многочисленные локальные пожары. Общее количество жертв к концу 1945 года составило от 60 до 80 тысяч человек.
Верховный Совет по делам войны все еще колебался, когда появилась новость о бомбардировке Нагасаки. Император Хирохито наконец-то вмешался в политический процесс и сдвинул ситуацию с мертвой точки, настояв на капитуляции Японии. Официальное предложение о капитуляции было послано в Вашингтон 10 августа при посредничестве Швеции и Швейцарии. В принципе в этом предложении дублировались условия Потсдамской декларации, но с одной значительной оговоркой: «Декларация не содержит никаких требований, которые ставили бы под сомнение прерогативы Его Величества как суверенного правителя».
На деле это была уступка, на которую ранее рекомендовал пойти военный министр Генри Стимсон, однако высшее политическое руководство США продолжало настаивать на безоговорочной капитуляции. В отчетном письме было заявлено прямо: «С момента капитуляции права Императора и японского правительства на управление государством будут определены Главным командованием союзных сил, которое примет те меры, которые сочтет целесообразными для выполнения условий капитуляции».
Лесли Гровс начал готовить к отправке на Тиниан третью атомную бомбу, которую планировалось сбросить после 17 августа. Впрочем, сам Гарри Трумэн уже потерял охоту к атомным побоищам и распорядился прекратить подготовку. Он сказал, что «превратить в ничто еще сто тысяч человек было бы слишком чудовищно».
В Токио ответ американцев вызвал разочарование и новую милитаристскую истерику. Министр армии Корэтика Анами доказывал, что у страны есть еще силы сражаться. Перехваченные радиосообщения свидетельствовали о намерении японцев воевать до самого конца: «Однако Имперская армия и флот решительно намерены продолжить прилагать усилия для сохранения целостности государства даже ценой уничтожения армии и флота».
13 августа Гарри Трумэн приказал Военно-воздушным силам возобновить бомбардировки японских островов зажигательными бомбами. Тогда же возобновились дебаты о сбросе третьей атомной бомбы – на Токио.
Наконец 14 августа император вновь вмешался в происходящее. Хирохито заговорил о необходимости «стерпеть нестерпимое» и приказал своим министрам составить Имперский рескрипт о том, что страна принимает Потсдамскую декларацию. В документе признавалось, что «теперь у врага есть новое ужасное оружие, способное лишить жизни множество невинных людей и нанести неисчислимый ущерб». Император записал свою речь на пленку, чтобы на следующий день ее передали по радио всей нации. Армейские офицеры попытались совершить переворот и даже помешать записи речи. Переворот провалился, Корэтика Анами лишил себя жизни. Обращение императора было передано утром 15 августа 1945 года.
Все это означало конец войны. И начало новой войны – «холодной».
Глава 5
Русская бомба
«Первый большевистский»
Традиции отечественной науки в изучении строения атомов насчитывают не одно десятилетие. В мировую копилку знаний внесли свой уникальный вклад Михаил Ломоносов и Дмитрий Менделеев. Можно, к примеру, вспомнить и то, как академик Иван Тарханов (Тархан-Моуравов) уже через год после открытия «икс-лучей», сделанного Вильгельмом Рентгеном, приступил к изучению их воздействия на живые организмы, чем заложил основы радиобиологии.
Менее известно, что к развитию российской ядерной физики приложил руку наш великий соотечественник Владимир Иванович Вернадский, вошедший в историю не только как ученый, но и как крупный мыслитель, философ-космист. Будучи авторитетным минералогом, обладавший широкими научными и философскими интересами, он был очень вдохновлен открытием радиоактивности. В лекции, прочитанной на общем собрании Академии наук в декабре 1910 года, Вернадский высказал убеждение, что пар и электричество изменили уклад цивилизации. «А теперь, – говорил он, – перед нами открываются в явлениях радиоактивности источники атомной энергии, в миллионы раз превышающие все те источники сил, какие рисовались человеческому воображению». Он настаивал на том, что в России должны быть нанесены на карту все месторождения радиоактивных минералов, «ибо владение большими запасами радия дает владельцам его силу и власть, несравнимо большую, чем та, которую имеют владеющие золотом, землей или капиталом».
Именно благодаря Владимиру Вернадскому в 1911 году началось изучение имевшихся в России радиоактивных минералов, поддержанное государством и частными инвесторами. Академия наук направила экспедицию на Урал, Кавказ и в Среднюю Азию для поисков урановых месторождений. Летом 1914 года экспедиция нашла «слаборадиоактивные ванадаты меди и никеля» в Ферганской долине и пришла к заключению, что некоторые из этих месторождений могут разрабатываться в промышленных масштабах. Однако ими в то время толком так и не занялись, поэтому до 1917 года единственный в России урановый рудник принадлежал частной компании «Ферганское общество по добыче редких металлов», учрежденной в 1908 году.
Первая мировая война сильно ограничила возможности поисков радиоактивных минералов. Однако в марте 1918 года Льву Яковлевичу Карпову, главе Отдела химической промышленности Высшего совета народного хозяйства, сообщили о том, что «Ферганское общество» все еще располагает остатками руды. По сделанным оценкам, из них можно было выделить 2,4 грамма радия для медицинских целей. Карпов приказал конфисковать этот запас и попросил Академию наук создать завод для извлечения из него радия. Академия согласилась с предложением и основала в Комиссии по изучению естественных производительных сил (КЕПС) новый отдел, ответственный за все вопросы, связанные с редкими и радиоактивными минералами. Владимир Вернадский был назначен председателем этого отдела, хотя самого его в то время не было в Петрограде. Один из рекомендованных им людей, геолог Александр Евгеньевич Ферсман, был выбран заместителем председателя отдела, а другой, радиохимик Виталий Григорьевич Хлопин, стал секретарем отдела. Кстати, в то время грамм радия стоил 180 тысяч долларов – сумасшедшая сумма!
В мае 1918 года радиоактивные материалы были вывезены из Петрограда, которому угрожали германские войска. Ценный груз путешествовал по стране вплоть до мая 1920 года, когда добрался до завода в поселке Бондюга (ныне город Менделеевск) Вятской губернии. Именно там в 1921 году из урановой руды был выделен радий с помощью оригинального процесса фракционного осаждения, придуманного Виталием Хлопиным.
Владимир Вернадский не принял участия в этих работах. В сентябре 1917 года он стал товарищем министра просвещения Временного правительства, а вскоре после большевистского переворота уехал из Петрограда на Украину. В то время он был настроен резко против большевиков, но не был готов выбрать какую-то из сторон в разгорающейся Гражданской войне. Из Киева Вернадский написал Ферсману, что хочет делать все от него зависящее для обеспечения того, чтобы «научная (и вся культурная) работа в России не прерывалась, а усиливалась». Летом 1918 года он принял участие в организации Украинской академии наук в Киеве и был избран первым ее президентом.
Однако большевики продемонстрировали такое отношение к науке, какое Вернадский вряд ли мог ожидать. Их взгляды в значительной степени соответствовали революционным традициям XIX века. Наука имела для большевиков особое значение, поскольку они полагали, что марксизм является строгой научной теорией. При этом они не отвергали капиталистическую науку и технику. Напротив, Владимир Ильич Ленин доказывал: «Нужно взять всю культуру, которую капитализм оставил, и из нее построить социализм. Нужно взять всю науку, технику, все знания, искусство. Без этого мы жизнь коммунистического общества построить не можем». Он также высказал мысль о том, что социализм должен строиться на основе технического прогресса – в той же мере, как и на достижениях социальной революции.
Однако большевики увидели, что их собственный энтузиазм в отношении науки не поддерживает сообщество российских ученых. Академики приветствовали Февральскую революцию 1917 года, поскольку полагали, что царская власть является тормозом на пути развития образованного общества. Но они же опасались большевиков как вероятных разрушителей российской культуры. Большевики ощущали это недоверие и старались организовать научную деятельность так, чтобы она стала привлекательной для «старорежимных» ученых.
В марте 1918 года, по инициативе профессора Михаила Исаевича Немёнова и при участии будущего академика Абрама Фёдоровича Иоффе, нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский подписал проект положения о создании первого в мире Государственного рентгенологического и радиологического института. Президентом института стал сам Иоффе, а вице-президентом и руководителем медико-биологического отдела – профессор Немёнов. Советское правительство выделило 50 тысяч рублей золотом для закупки за рубежом рентгеновской аппаратуры, книг и необходимого оборудования.
Датой рождения института считается 8 октября 1918 года. С момента своего основания он был гордостью молодой Советской республики – «первый большевистский» называли его в Петрограде. В сентябре 1920 года Вильгельм Рентген писал профессору Немёнову: «Как величественно запланирован и осуществлен Ваш институт: я этим поражен и очень обрадован, что Вам удалось в тяжелых условиях привести к счастливому концу такое огромное предприятие!»
Впрочем, усилия Немёнова не могли бы обрести сколько-нибудь значимое воплощение, если бы не поддержка Абрама Иоффе. На личности этого великого физика стоит остановиться подробнее.
Иоффе был выходцем из зажиточной еврейской семьи, проживавшей в маленьком украинском городке Ромны. После окончания в 1902 году Санкт-Петербургского технологического института он поехал в Мюнхен, чтобы работать в лаборатории Вильгельма Рентгена. В 1905 году он получил степень доктора философии за исследования электропроводности диэлектрических кристаллов. На следующий год после этого Иоффе вернулся на родину, хотя Рентген предложил ему работу в Мюнхенском университете. Иоффе объяснил принятое решение так: «Я считаю своим долгом при теперешнем печальном и критическом положении в [России] сделать все от меня зависящее (пусть даже очень малое) в этой ожесточенной борьбе или же по крайней мере не уклоняться от опасностей, связанных с ней. Ни в коем случае я не хочу стать политиком – у меня к этому нет никакого предрасположения, я могу найти удовлетворение только в науке».
В Петербурге карьере Иоффе препятствовало еврейское происхождение (хотя он и принял лютеранство, чтобы вступить в брак со своей первой женой), а также сложившаяся система образования. Степень доктора философии немецких университетов здесь не признавалась, и Иоффе был вынужден принять предложение Политехнического института работать в должности лаборанта. Но он мог продолжать свои исследования и читать лекции, благодаря чему вскоре заявил о себе в российской физике и привлек способных студентов. В 1913 году он стал профессором Политехнического института, а еще через два года Академия наук присудила ему премию за исследования магнитного поля катодных лучей.
Иоффе был настроен против царского режима, но, как и большинство русских ученых, относился к большевикам с осторожностью и в 1918 году уехал из Петербурга в Крым. Вскоре, однако, он решил «связать свою судьбу со страной Советов и в сентябре вернулся в Петроград, где стал одним из первых ученых России, оказавших поддержку советскому правительству.
Даже на ранних этапах научной карьеры Абрама Иоффе можно заметить особенности, которые позднее стали характерными для целой школы в советской физике. Он придавал большое значение узам, которые связывали его с Германией, и практически каждый год, вплоть до начала Первой мировой войны, проводил некоторое время в Мюнхене. Иоффе научился у Рентгена работать с молодежью и передавать ей интеллектуальный энтузиазм. В 1916 году он организовал семинар по новой физике в своей лаборатории в Политехническом институте. Среди одиннадцати постоянных участников этого семинара двое, Пётр Леонидович Капица и Николай Николаевич Семёнов, позднее стали лауреатами Нобелевской премии. Некоторые другие, такие как Яков Ильич Френкель и Пётр Иванович Лукирский, тоже в дальнейшем получили всемирную известность.
Участники этого семинара и составили ядро «первого большевистского» института. Абрам Иоффе стал не только его президентом, но и возглавил Физико-технический отдел. Однако вскоре между ним и Михаилом Немёновым возникли разногласия по поводу путей развития института. В результате в 1921 году институт разделился на три части, причем Физико-технический его отдел превратился в Государственный физико-технический рентгенологический институт.
Другой причиной выделения Физико-технического отдела в особый институт стала необходимость создания условий для серьезных научных исследований. Абрам Иоффе писал Паулю Эренфёсту, который к этому времени стал профессором Лейденского университета:
Мы прожили тяжелые годы и многих потеряли, но сейчас начинаем снова жить. Работаем много, но закончено пока немногое, так как год ушел на организацию работы в новых условиях, устройство мастерских и борьбу с голодом. Сейчас наша главная беда – полное отсутствие иностранной литературы, которой мы лишились с начала 1917 года. И первая и главная моя просьба к тебе – выслать нам журналы и главные книги по физике.
Помимо Физико-технического отдела из Государственного рентгенологического и радиологического института выделился Радиевый институт, который в январе 1922 года возглавил Владимир Вернадский, вернувшийся в Петроград из Крыма. Институт был сформирован путем объединения всех имевшихся к тому времени радиологических учреждений: Радиевой лаборатории Академии наук, Радиевого отделения Государственного рентгенологического и радиологического института, Радиохимической лаборатории и Коллегии по организации радиевого завода.
Владимир Вернадский очень широко определял задачи новой научной организации. «Радиевый институт, – писал он, – должен быть сейчас организован так, чтобы он мог направлять свою работу на овладение атомной энергией». При этом Вернадский проницательно разглядел опасность, которую может повлечь за собой подобная технология. В феврале 1922 года он писал:
Мы подходим к великому перевороту в жизни человечества, с которым не могут сравниться все им раньше пережитые. Недалеко время, когда человек получит в свои руки атомную энергию, источник такой силы, которая даст ему возможность строить свою жизнь, как он захочет. Это может случиться в ближайшие годы, может случиться через столетие. Но ясно, что это должно быть. Сумеет ли человек воспользоваться этой силой, направить ее на добро, а не на самоуничтожение? Дорос ли он до умения использовать ту силу, которую неизбежно должна дать ему наука? Ученые не должны закрывать глаза на возможные последствия их научной деятельности, научного прогресса. Они должны себя чувствовать ответственными за все последствия их открытий. Они должны связать свою работу с лучшей организацией всего человечества. Мысль и внимание должны быть направлены на эти вопросы. А нет ничего в мире сильнее свободной научной мысли.
Вернадский не принимал большого участия в управлении Радиевым институтом в первые годы его существования, поскольку в мае 1922 года уехал из Петрограда, чтобы читать курс лекций по геохимии в Сорбонне, а возвратился в Советский Союз только в 1926 году. Поэтому наибольшая доля ответственности по руководству деятельностью института пришлась на химика Виталия Хлопина. Он не обладал широким видением науки, который был присущ Вернадскому, и сконцентрировал свои усилия на химии радиоактивных элементов.
Сразу после основания института был учрежден Государственный радиевый фонд: весь радий, произведенный в Советской России, объявлялся собственностью государства и его надлежало хранить в институте. Завод в Бондюге был передан под контроль института, но в 1925 году завод был закрыт, а производство радия перенесено в Москву. В Ферганской долине и в районе Кривого Рога на Украине обнаружили несколько новых месторождений урана – разрабатывать их начали много позднее. В 1920-х годах радий был обнаружен и в буровых скважинах нефтеносных полей Ухты в области Коми, и именно эти месторождения стали основным источником радия в период между двумя мировыми войнами. Для определения же того, каковы запасы урана в Советском Союзе, было сделано очень мало.
В то время за извлечение и очистку радия отвечала советская спецслужба – Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ при СНК СССР). «Выясняется интереснейшее явление, – записал Владимир Вернадский в своем дневнике. – Удивительный анахронизм, который я раньше считал бы невозможным. Научно-практический интерес и жандармерия. Возможно ли это для будущего?..»
Атомная комиссия
В декабре 1919 года в Петроградском университете состоялось открытие годичного собрания научных работников недавно созданного Государственного оптического института. После сообщения ученого секретаря о проделанной работе на кафедру поднялся директор института профессор Дмитрий Сергеевич Рождественский. Его доклад назывался «Спектральный анализ и строение атомов». Профессор начал свое выступление так:
В трудных внешних условиях, которыми окружена научная работа у нас на родине, судьба оказалась благоприятной оптическому институту. В вопросе строения атомов, где предшествующая работа расчистила широкий путь, нам удалось сделать три важных шага. И мы навряд ли переоценим их значение, если скажем, что теперь пробита брешь в ограде, скрывавшей таинственную область строения атомов.
Доклад Рождественского был восторженно встречен присутствовавшими. О нем вскоре заговорили на страницах печати: к примеру, 21 декабря «Красная газета» поместила соответствующую статью А. Болотина:
Наука в Советской России занимает самое почетное место. <…> Заботливое отношение Советской власти к науке признают даже наши многочисленные враги, как внутренние, так и внешние. Отношение это станет для всех еще более ясным, когда все узнают, что в большевистском красном Питере сделано русским ученым громадной важности научное открытие.
Газета сообщала, что профессор Дмитрий Рождественский направил в Петроградский отдел народного образования письмо, в котором предлагал учредить при Оптическом институте особую комиссию из математиков, астрономов и физиков-теоретиков для проведения математической и вычислительной работы в целях «выяснения строения других, более сложных атомов». Отдел народного образования, как отмечалось далее в статье, решил обратиться в Исполком Петроградского Совета с предложением направить сообщение о научном открытии профессора Рождественского в Голландскую академию наук на имя известных ученых Хендрика Лоренца и Пауля Эренфёста. К сожалению, вскоре выяснилось, что работы по изучению атомов с помощью спектрального анализа давно выполнены западными физиками.
Тем не менее зимой 1920 года Атомная комиссия, о которой говорил Рождественский, была создана. 21 января состоялось ее первое заседание, в котором принимали участие петербургские академики, профессора и ведущие физики. С докладами выступили Абрам Фёдорович Иоффе («Данные о строении атома, вытекающие из рентгеновских спектров») и Алексей Николаевич Крылов («Некоторые замечания о движении электронов в атоме гелия»). На том же заседании комиссия наметила план работ по изучению атома и приняла ряд конкретных решений.
Иоффе считал необходимым проводить исследования атома быстро и в напряженном ритме. Для этого он предложил поставить работу по атомной физике в особые условия. Его идея встретила понимание и поддержку Наркомпроса (Народного комиссариата просвещения). Придавая огромное значение исследованиям атома, комиссариат выделил Атомной комиссии зимой 1920 года дополнительные средства на расходы – 1 миллион 104 тысячи рублей.
Развитие научных исследований требовало новых экспериментов и общения ученых Советской России с зарубежными специалистами. Первым удалось прорваться сквозь «кольцо блокады» научным сотрудникам Государственного оптического института. С радушием встретили в Лейдене прибывшего туда вскоре Иоффе: в его честь был устроен коллоквиум. Пауль Эренфест помог организовать в печати «рекламу» достижений русских физиков. Не без его участия английский журнал «Нейшн» 20 ноября 1920 года напечатал следующее сообщение:
Радиотелеграф принес нам известие о том, что один из русских ученых полностью овладел тайной атомной энергии. Если это так, то человек, который владеет этой тайной, может повелевать всей планетой. Наши взрывчатые вещества для него смешная игрушка. Усилия, которые мы затрачиваем на добычу угля или обуздание водопадов, вызовут у него улыбку. Он станет для нас больше чем солнцем, ибо ему будет принадлежать контроль над всей энергией. Как же воспользуется он этим всемогуществом? И кому он предложит тайну вечной энергии: Лиге Наций, Папе Римскому или, быть может, Третьему интернационалу? Отдаст ли он ее на то, чтобы создать на земле золотой век? Или же продаст свое открытие первому попавшемуся американскому тресту?
Интересно, что эту статью прочитал «вождь пролетариата» Владимир Ленин и в кулуарах VIII Всероссийского съезда Советов, проходившего в конце декабря 1920 года и посвященного плану ГОЭЛРО по созданию единой энергетической сети, оживленно обсуждал его, чему сохранились документальные свидетельства.
Работа Атомной комиссии положила начало планомерным отечественным исследованиям в области ядерной физики. Из группы в пятнадцать человек вскоре вырос большой коллектив научных работников. Центром исследований поначалу стал Государственный рентгенологический и радиологический институт, а после его разделения в ноябре 1921 года – Государственный физико-технический рентгенологический институт во главе с академиком Абрамом Иоффе.
Институт Иоффе
В феврале 1921 года Абрам Иоффе отправился в шестимесячную поездку в Западную Европу, для того чтобы закупить научные журналы, книги и приборы, а также установить контакты с зарубежными коллегами. Организация поездки оказалась непростым делом: правительства западных стран неохотно выдавали визы гражданам Советской России, и, кроме того, потребовалось вмешательство Ленина, чтобы получить необходимую для этих закупок твердую валюту, запасы которой в стране были весьма ограниченными. Но в конце концов деньги нашлись, и в том же году с такого же рода миссиями за границу были направлены и другие советские ученые.
Большую часть своей командировки Иоффе провел в Германии и Англии. В Германии он присутствовал на коллоквиуме, на котором обсуждалась его совместная с Рентгеном работа. В Лондоне к нему присоединился Пётр Капица. Вместе они отправились в Кембридж, и там Эрнст Резерфорд согласился взять Капицу на работу в Кавендишскую лабораторию. Там великий российский физик трудился двенадцать лет.
Еще раньше академик Иоффе создал в Политехническом институте новый факультет, на котором студенты обучались физике и технике. Он стал важным источником пополнения штата сотрудников института Иоффе. Многие из них учились в Политехническом институте, расположенном через дорогу от нового здания Физико-технического института, и Иоффе всячески поощрял стремление студентов проводить исследовательскую работу еще до окончания ими Политеха. Например, Исаак Константинович Кикоин поступил на Физико-механический факультет в 1925 году. Он и его сокурсники мечтали об исследовательской работе в институте Иоффе, и он был туда приглашен, когда учился на втором курсе. «Еще в стенах вуза мы приучились считать науку основным делом нашей жизни и работали в лаборатории практически непрерывно, – писал Кикоин позднее. – Неудивительно, что мы научно довольно быстро росли». После окончания института в 1930 году и краткой стажировки в Мюнхене, где он работал у Вальтера Герлаха, Кикоин был назначен заведующим электромагнитной лабораторией в институте Иоффе, а после Второй мировой войны ему было поручено возглавить работы по методам газовой диффузии и центрифугирования для разделения изотопов урана.
Институт Иоффе называли по-разному: и «Парнасом новой физики», и «Могучей кучкой», и даже «Детсадом папы Иоффе». Исаак Кикоин вспоминал:
Это действительно был детский сад в том смысле, что основную силу, основную армию сотрудников института составляли студенты первого, второго, третьего курсов. Они и делали науку в Физико-техническом институте, а это значит, они делали науку – физику – и в стране.
В этом проявилась замечательная особенность нашего общего учителя – академика Абрама Фёдоровича Иоффе. А ведь мы так и называли его у себя: «академик», именем и отчеством мы не называли. Его идея и заключалась в том, чтобы построить подобный детский сад. Сейчас уместно спросить: как эта идея оправдалась? Как и подобает нормальному саду, он должен был бы цвести, и он действительно расцвел… Очень приятно аромат этой физики ощущать.
Но сад должен и плодоносить. Этот физтеховский детский сад принес свои плоды, и, я бы сказал, плоды неплохие. <…>
Свойственное молодости непочтение к авторитетам никак не преследовалось в Физико-техническом институте. Оно вызывало к жизни шутки и остроты, и сам директор – при всей общей любви и уважении к нему в коллективе – бывал иногда их мишенью. Он не обижался на это, так как умел ценить юмор. На институтских вечерах было немало остроумных шуток, сценок, кукольных представлений, над которыми он заразительно хохотал, хотя ему не раз доставалось от доморощенных остряков.
Институт, в соответствии с принятыми в 1921 году установками, должен был проводить исследования в области рентгеновских лучей, электронных и магнитных явлений, структуры материи, а также содействовать применению технических результатов этих работ на практике. Наркомпрос, которому подчинялся институт, делал все необходимое, чтобы поддержать эти работы необходимыми фондами. Однако ресурсы, которыми располагал комиссариат, были ограничены, и финансовые проблемы оставались серьезными. Институт добывал какие-то средства за счет производства и продажи рентгеновских трубок и другого оборудования, но этого было явно недостаточно для обеспечения всех потребностей.
В 1924 году Иоффе обратился в Научно-технический отдел Высшего Совета народного хозяйства (ВСНХ) с идеей новой лаборатории, в которой должны были быть сконцентрированы прикладные исследования. Многие из работ его института могли найти применение в электроэнергетике и металлургической промышленности. И такая лаборатория была создана.
К концу десятилетия Физико-технический институт и лаборатория выросли в большое и сложное исследовательское учреждение, где постоянно трудилось более сотни физиков, причем за спиной у многих из них были учеба и работа на Западе. Некоторые сотрудники института получили международную известность. Так, Яков Ильич Френкель возглавил теоретический отдел, где в то время работали еще не известные тогда молодые теоретики: Дмитрий Дмитриевич Иваненко, Владимир Александрович Фок, Лев Давидович Ландау. В стенах института начал свои исследования Николай Николаевич Семёнов – будущий нобелевский лауреат по химии.
Интерес к ядерной физике резко усилился в Советском Союзе после 1932 года – «года чудес», в течение которого было сделано несколько важных открытий. Джеймс Чедвик в Кавендишской лаборатории открыл нейтрон, а Джон Кокрофт и Эрнест Уолтон расщепили ядро лития на две альфа-частицы. Определенное отношение к проведению последнего эксперимента имел Георгий Антонович Гамов, входивший в штат сотрудников Радиевого института. В 1928 году он развил на основе новой квантовой механики теорию альфа-распада. Из нее следовало, что частицы со сравнительно небольшой энергией могут за счет туннельного эффекта проникнуть сквозь «кулоновский» барьер отталкивания одноименно заряженных частиц, окружающий ядро, а потому имеет смысл построить установку, которая могла бы разогнать частицы до нескольких сотен тысяч электрон-вольт. Кокрофт и Уолтон приняли это предложение и построили аппарат, способный ускорять протоны до энергии в 500 тысяч электрон-вольт, которые они и использовали для расщепления ядра лития. В том же году Эрнест Лоренс в Беркли использовал изобретенный им циклотрон для ускорения протонов до энергии в миллион электрон-вольт. В Калифорнийском технологическом институте Карл Андерсон идентифицировал положительный электрон (позитрон). Гарольд Юри из Колумбийского университета открыл изотоп водорода-2 – дейтерий.
Советские ученые с большим энтузиазмом встретили известие об открытиях, сделанных в 1932 году. Они внимательно следили за тем, что делалось на Западе, и быстро откликались на эти достижения. Дмитрий Иваненко, теоретик из института Иоффе, выдвинул новую модель атомного ядра, включив в нее нейтроны. В Украинском Физико-техническом институте группа ученых повторила опыт Кокрофта и Уолтона. В том же году в Радиевом институте решили построить циклотрон, а Вернадский пытался заручиться поддержкой властей для кардинального расширения технической базы. В декабре 1932 года Иоффе создал группу ядерной физики и в следующем году получил от народного комиссара тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе 100 тысяч рублей на новое оборудование, необходимое для ядерных исследований.
Требовалось скоординировать усилия советских физиков на очередном рубежном этапе, и Абрам Иоффе решил созвать Всесоюзную конференцию по атомному ядру. На эту конференцию, собравшуюся в сентябре 1933 года под Ленинградом, он пригласил несколько иностранных физиков. Среди докладчиков были Фредерик Жолио-Кюри, Поль Дирак, Франко Россетти (сотрудник Энрико Ферми) и Виктор Вайскопф (в то время ассистент Вольфганга Паули в Цюрихе). В кругу молодых исследователей, принимавших участие в ее работе, было и несколько человек, которые позднее сыграли ведущую роль в советском атомном проекте: Игорь Евгеньевич Тамм, Юлий Борисович Харитон, Лев Андреевич Арцимович и Александр Ильич Лейпунский.
Академик Иоффе не принуждал своих молодых коллег перейти к работе в области ядерной физики, но он поддержал их, когда они приняли такое решение. До 1932 года только одна практическая работа, выполненная в институте, могла быть отнесена к области ядерной физики: то было исследование космических лучей, которое проводил Дмитрий Владимирович Скобельцын. А к началу 1934 года в отделе ядерной физики института было уже четыре лаборатории, в которых работало тридцать сотрудников. Ядерная физика стала второй по важности после физики полупроводников областью исследований.
По мнению Юлия Харитона, который был студентом Иоффе и работал в Институте химической физики, руководимом Николаем Семёновым, поддержка начинаний в области ядерной физики была смелым поступком со стороны академика, «потому что в начале 30-х годов все считали, что ядерная физика – это предмет, совершенно не имеющий никакого отношения к практике и технике».
«Генерал» Курчатов
Итак, в 1930-е годы Физико-технический институт под руководством академика Абрама Иоффе стал ведущим советским центром атомных исследований. Первым заведующим отделом ядерной физики в нем стал уралец Игорь Васильевич Курчатов, получивший образование в Таврическом университете (Симферополь).
Для расширения своих знаний Курчатов уехал в Ленинград, где поступил в Политехнический институт. Чтобы обеспечить себе средства к существованию, он нашел работу в магнитно-метеорологической обсерватории в пригородном Павловске и по полученным там результатам опубликовал статью, посвященную радиоактивности снега. Потом опять последовали переезды, но весной 1925 года академик Иоффе, услышав о талантливом ученом, пригласил двадцатидвухлетнего Курчатова в свой институт.
Игорь Курчатов поначалу работал в руководимой Иоффе лаборатории физики диэлектриков. Несмотря на значительные успехи в этой области, в конце 1932 года Курчатов решил переключиться на ядерную физику. Уже в ту пору Курчатова прозвали «генералом», потому что он любил проявлять инициативу и отдавать команды. По воспоминаниям близких друзей, одним из его любимых слов было «озадачить». У него были энергичные манеры, и он любил спорить. Он мог выразительно выругаться, но, если доверять памяти тех, кто с ним работал, никого не оскорблял. При этом у него было хорошее чувство юмора.
В описаниях характера Игоря Курчатова всегда присутствует ощущение некоторой дистанции, как если бы за человеком с энергичными манерами стоял другой, которого не так-то легко разглядеть. Он мог оградить себя неким щитом, отделываясь шуточками или выбирая ироничный тон по отношению к себе или к другим. Все воспоминания о Курчатове доносят до нас, наряду со свидетельствами о его сердечности и открытости, также и впечатление о его серьезности и сдержанности. В воспоминаниях одного из коллег, работавших с Курчатовым в послевоенное время, он предстает как человек закрытый, многослойный, а потому идеально подходящий для проведения секретных работ.
Большую часть 1933 года Игорь Курчатов посвятил изучению литературы по ядерной физике и подготовке приборов для будущих исследований. Он организовал строительство небольшого циклотрона и сконструировал высоковольтный ускоритель протонов, который впоследствии использовал для изучения ядерных реакций с бором и литием. Весной 1934 года, после ознакомления с первыми заметками Энрико Ферми и его группы о ядерных реакциях, вызываемых нейтронной бомбардировкой, Курчатов сразу переменил направление своих работ. Он оставил опыты с протонным пучком и начал изучать искусственную радиоактивность, возникающую у некоторых изотопов после их бомбардировки. Между июлем 1934 года и февралем 1936 года Курчатов и его сотрудники опубликовали семнадцать статей, посвященных искусственной радиоактивности. Наиболее существенным и оригинальным его достижением в то время стала гипотеза, гласящая, что наличие нескольких периодов полураспада некоторых радиоизотопов могло быть объяснено ядерной «изомерией» (то есть существованием элементов с одной и той же массой и с одним и тем же атомным номером, но с различной энергией). Другим исследованным Курчатовым явлением было протон-нейтронное взаимодействие и селективное поглощение нейтронов ядрами различных элементов. Как мы помним, в середине 1930-х годов эти вопросы были главными в исследованиях по ядерной физике.
Тем не менее Игорь Курчатов не чувствовал удовлетворения, ведь он лучше остальных понимал, что идет путями, проложенными Ферми, и не прокладывает своих собственных. В 1935 году он полагал, что открыл явление резонансного поглощения нейтронов. Однако они разошлись со Львом Арцимовичем, с которым Курчатов в то время сотрудничал, в интерпретации полученных результатов. В итоге еще до того, как советские физики выполнили решающие опыты, Энрико Ферми и его «мальчуганы» опубликовали статью, в которой сообщили о существовании этого явления. Курчатов был очень разочарован тем, что приоритет был упущен.
Как и многие другие, Игорь Курчатов испытывал трудности, связанные с нехваткой источников нейтронов, необходимых для проведения исследований. Единственным местом в Ленинграде, где их можно было получить, оставался Радиевый институт. Поэтому Курчатов организовал совместную работу со Львом Владимировичем Мысовским, возглавлявшим в институте физический отдел. В отношениях между Радиевым институтом и остальными физиками-ядерщиками существовала некоторая натянутость: Вернадский относился к Иоффе без особого почтения, считал его честолюбивым и недобросовестным человеком. Хуже того, Игорь Тамм вызвал гнев Вернадского, когда предложил в 1936 году передать циклотрон Радиевого института в институт Иоффе. Физики, заявил Вернадский, медлят с осознанием важности явления радиоактивности; у них по-прежнему нет адекватного понимания этой области. Именно Радиевый институт, утверждал он, должен работать над проблемами ядерной физики, которая и развилась-то благодаря изучению явления радиоактивности. Циклотрон, который скоро начнет функционировать, необходим прежде всего для Радиевого институт. Установка осталась под контролем Вернадского, и запустить ее удалось лишь в феврале 1937 года, выйдя на энергию около 500 тысяч электрон-вольт, а затем и на энергию 3,2 миллиона электрон-вольт.
Однако циклотрон работал нестабильно. Игорь Курчатов был расстроен таким положением дел, потому что планировал использовать его для своих собственных исследований. Весной 1937 года он начал работать в циклотронной лаборатории Радиевого института, проводя в ней один день в неделю, и постепенно стал лидером в этой области. Циклотрон начали использовать для проведения масштабных экспериментов в 1939 году, но лишь к концу 1940 года установка стала функционировать нормально.
Физики-ядерщики института Иоффе продолжали настаивать на строительстве собственного циклотрона. В январе 1937 года академик Абрам Иоффе обратился к народному комиссару тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе с просьбой о финансировании строительства большого циклотрона, а также о том, чтобы командировать двух физиков в Беркли для изучения работы аналогичных установок, созданных Эрнестом Лоуренсом (письмо было отправлено за месяц до самоубийства Орджоникидзе). Наркомат поддержал этот план, и в июне 1939 года, спустя примерно два с половиной года (!) после того, как Иоффе отправил свое письмо, было принято представительное постановление об ассигновании необходимых для строительства циклотрона средств. В Беркли, однако, никто не поехал.
Иоффе направлял многих молодых физиков за рубеж для выполнения исследований. В их числе он рекомендовал и Курчатова. Тот планировал командировку в США на зиму 1934–1935 годов, и в сентябре 1934 года Яков Френкель написал Лоренсу, обратившись к нему с просьбой организовать Курчатову приглашение. Тот ответил 1 октября, официально приглашая Игоря Курчатова в свою лабораторию «на некоторое время». Но Курчатов не поехал за границу, быть может потому, что ссылка его отца делала его «политически неблагонадежным» в глазах сотрудников Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), которые вовсю начинали бороться с «врагами народа». Из-за этого же с середины 1930-х годов личные контакты советских физиков с их западными коллегами все больше сокращались. Так, на конференции по ядерной физике в 1933 году примерно половина докладов была прочитана иностранными учеными, а в 1937 году на такой же конференции они сделали только пять из двадцати восьми докладов. Наконец, в работе ядерной конференции, состоявшейся в 1938 году, иностранцы вообще не принимали участия.
Несмотря на очевидное и жесткое давление, советские физики всё же продолжали считать себя частью международного научного сообщества и внимательно следили за иностранными журналами.
Харьковская бомба
Ленинград был не единственным местом, где проводились исследования по ядерной физике. Другим важным центром перед войной стал Украинский физико-технический институт (УФТИ) в Харькове, созданный Иоффе в 1928 году при поддержке украинских властей. Академик предполагал организовать там первоклассную исследовательскую структуру, которая установила бы тесные связи с промышленностью Украины. Для этого он направил в Харьков несколько своих сотрудников из Ленинграда. Именно они образовали интеллектуальное ядро нового института. Игорь Курчатов в 1930-е годы проводил там по два-три месяца в году.
Иоффе старался, чтобы в Харьков переехал его давний друг, Пауль Эренфест, и писал ему, что институт нуждается в «широко образованном физике». Эренфест действительно приехал, проработал в институте несколько месяцев, но потом вернулся восвояси. Всё же в Харькове поселилось несколько иностранных физиков: австрийский коммунист Александр Вайсберг, который возглавил низкотемпературную экспериментальную станцию; англичанин Мартин Руэман, руководивший одной из низкотемпературных лабораторий, немцы Фридрих Хоутерманс и Фриц Ланге.
Директором УФТИ стал Иван Васильевич Обреимов – оптик, один из первых студентов Иоффе. Он был прекрасным физиком, но оказался слабым директором. В 1932 году его заменил на этом посту Александр Ильич Лейпунский, которого относили к числу самых способных молодых советских физиков. Научные интересы Лейпунского были связаны главным образом с ядерной физикой. В 1932 году он вместе с коллегами повторил эксперимент Кокрофта и Уолтона. В середине 1930-х Лейпунский более года провел в Кавендишской лаборатории. При этом он был членом коммунистической партии, что для того времени считалось «несерьезным поведением» среди физиков.
УФТИ был богатым и хорошо обеспеченным институтом, и к середине 1930-х годов по размеру бюджета и числу сотрудников перегнал ленинградский институт Иоффе. Достаточно взглянуть, какие «светила» в нем работали. Лев Васильевич Шубников, возглавивший исследования в области низких температур, с 1926 по 1930 год занимался исследованиями в Лейдене – одном из ведущих европейских центров. Другим известным сотрудником института был Лев Давидович Ландау – наверное, самый блестящий в своем поколении советский физик: он руководил теоретическим отделом УФТИ. Институт посещали многие иностранные физики, в том числе Нильс Бор, Джон Кокрофт и Поль Дирак. Виктор Вайскопф проработал в нем восемь месяцев в 1932 году. Институт выпускал советский физический журнал на немецком языке.
Однако во второй половине 1930-х годов над советской физикой и наукой в целом начали сгущаться тучи. Коммунистический режим выбрал направление на «закручивание гаек». Наступала эпоха ежовщины, когда любое вольнодумство воспринималось как признак враждебной деятельности. Многие из ведущих сотрудников УФТИ были арестованы во время Большого террора и обвинены в фантастических заговорах против государства.
Первыми под каток репрессий попали Александра и Эва Вайсберги. В апреле 1936 года арестовали Эву: ее обвинили в том, что она якобы наносила на разработанные ею образцы чашек свастику, занималась их контрабандой и хранила два пистолета, чтобы «на съезде партии убить Сталина». Видимо, абсурдность обвинений стала очевидна даже следователям, поэтому в середине 1937 года ее освободили, после чего она сразу выехала за границу. Александра Вайсберга стали таскать на допросы в Харьковское управление НКВД. 15 февраля 1937 он уволился из УФТИ и пытался покинуть Советский Союз, однако через две недели был арестован как «участник антисоветской контрреволюционной организации». В течение трех месяцев Вайсберг категорически отрицал какую-либо вину. Но после применения пыток признал себя виновным и дал 1 июня 1937 года показания против других сотрудников института. Они легли в основу двух дел о «контрреволюционных группах» в УФТИ, в одну из которых входили иностранные специалисты и их жены. Позднее Вайсберг отказался от показаний, выдавленных под пытками, но было уже поздно.
Он вспоминал, что в беседах со своими сокамерниками описывал ситуацию так:
Послушайте, наш институт – один из самых значительных в Европе. Возможно даже, что в Европе нет института, столь же хорошо оснащенного и имеющего так много различных лабораторий, как наш. Правительство не пожалело денег. Ведущие ученые частично получили образование за границей. Долгое время их посылали за государственный счет к знаменитейшим физикам мира для продолжения образования. В нашем институте 8 отделов, во главе их стояли 8 научных руководителей. Как все это выглядит теперь?
Лаборатория кристаллов… Руководитель Обреимов арестован.
1-я криогенная лаборатория… Руководитель Шубников арестован.
2-я криогенная лаборатория… Руководитель Руэман выдворен из страны.
Ядерная лаборатория… Руководитель Лейпунский арестован.
Рентгеновский отдел… Руководитель Горский арестован.
Отдел теоретической физики… Руководитель Ландау арестован.
Опытная станция глубокого охлаждения… Руководитель Вайсберг арестован.
Лаборатория ультракоротких волн… Руководитель Слуцкин пока работает.
За освобождение Александра Вайсберга и Фридриха Хоутерманса в 1938 году ходатайствовали четыре нобелевских лауреата: Альберт Эйнштейн в письме Сталину от 16 мая и Жан Перрен, Ирен и Фредерик Жолио-Кюри в письме Генеральному прокурору от 15 июня. Но только в конце декабря 1939 года Особое совещание при НКВД СССР приняло по делу следующее решение: «Вайсберга Александра Семёновича, как нежелательного иностранца, выдворить из пределов Союза ССР». 5 января 1940 года на мосту через Буг в Брест-Литовске он в числе других европейских коммунистов, антифашистских беженцев и прочих нежелательных иностранцев был передан офицерами НКВД офицерам гестапо. Всю войну Вайсберг содержался тюрьмах на территории Польши, оказался в Краковском гетто, а после войны уехал в Швецию.
Лев Ландау к моменту ареста, 28 апреля 1938 года, перебрался в Москву и возглавил теоретическую группу Института физических проблем Петра Капицы. Понятно, что Капица немедленно написал Сталину письмо с просьбой об освобождении. Он указывал, что Ландау – один из самых сильных физиков-теоретиков в стране, что его потеря будет очень ощутимой для мировой науки. «Конечно, ученость и талантливость, как бы велики они ни были, не дают права человеку нарушать законы своей страны, и, если Ландау виноват, он должен ответить, – продолжал Капица. – Но я очень прошу Вас, ввиду его исключительной талантливости, дать соответствующие указания, чтобы к его делу отнеслись очень внимательно». Далее Капица объяснял, каким образом Ландау мог нажить себе врагов: «Следует учесть характер Ландау, который, попросту говоря, скверный. Он задира и забияка, любит искать у других ошибки и когда находит их, в особенности у важных старцев, вроде наших академиков, то начинает непочтительно дразнить». Пётр Капица продолжал прилагать усилия, чтобы защитить коллегу, и в результате добился своего: Ландау был освобожден ровно через год после своего ареста. Для этого Капице пришлось написать короткое письмо на имя Лаврентия Павловича Берии, нового главы НКВД, в котором он поручился за лояльное поведение физика.
Однако далеко не всем так повезло. Сотрудников УФТИ Льва Шубникова, Льва Розенкевича, Конрада Вайсельберга, Валентина Фомина и Вадима Горского расстреляли в ноябре 1937 года за «вредительство» и участие в «контрреволюционной организации». Реабилитированы они были только в 1956 году. Парторг института Пётр Комаров и юный аспирант Иван Гусак погибли в заключении.
Результаты проведенной в институте «чистки» оказались сокрушительными: потенциал УФТИ необычайно понизился, и он утратил то положение исследовательского центра, о котором мечтали ведущие ученые несколькими годами ранее. Получается, что в канун открытия деления ядер атомов чекисты-«ежовцы» разрушили один из наиболее важных физических институтов страны.
Тем не менее именно в Харькове намного раньше остальных был предложен работоспособный проект атомной бомбы. В 1938 году, сразу после «чистки», УФТИ был переименован в Харьковский физико-технический институт (ХФТИ). В таком качестве он и стал известен, но уже не как крупный международный научный центр, а как закрытая организация, занимающаяся секретной военной тематикой.
Поскольку во время войны архивы ХФТИ сильно пострадали, сегодня трудно определить конкретные области, в которых велись изыскания. Более или менее достоверно известно, что часть проектов института была связана с созданием сверхмощных генераторов ультракоротких волн, авиационных двигателей на жидководородном топливе, каких-то «рассеивающих силовых лучей» и… «атомно-молекулярного боезапаса»!
О результатах этого последнего проекта говорит патентная заявка, которую харьковские ученые Фриц Ланге, Владимир Семёнович Шпинель и Виктор Алексеевич Маслов подали в 1940 году. Их изобретение настолько опередило время, что они не смогли получить авторские свидетельства и не скоро стали формальными изобретателями первой в мире атомной бомбы. Еще летом 1940 года Маслов опубликовал в ведомственном сборнике трудов ХФТИ тематический обзор по возможностям использования внутриядерной энергии, в котором утверждал, что «создание атомного боезапаса в значительной степени становится технической проблемой». При этом Маслов выделял две главные проблемы: производство достаточного количества изотопа урана-235 для изготовления сердцевины атомной бомбы и разработку инженерной схемы для комплектации критической массы в момент подрыва боезапаса.
Трое изобретателей подали не одну заявку как таковую, а целый пакет, связанный с разработкой «атомно-молекулярного боезапаса»: «Об использовании урана как взрывчатого и ядовитого вещества», «Способ приготовления урановой смеси, обогащенной ураном с массовым числом 235. Многомерная центрифуга» и «Термоциркуляционная центрифуга». В рамках этих работ была впервые предложена ставшая впоследствии общепринятой схема атомного взрыва: через подрыв обычной взрывчатки, который силой ударной волны сжимает урановую смесь и создает критическую массу, в которой запускается цепная реакция. Изобретатели, в частности, писали:
Как известно, согласно последним данным физики, в достаточно больших количествах урана (именно в том случае, когда размеры уранового блока значительно больше свободного пробега в нем нейтронов) может произойти взрыв колоссальной разрушительной силы. Это связано с чрезвычайно большой скоростью развития в уране цепной реакции распада его ядер и с громадным количеством выделяющейся при этом энергии (она в миллион раз больше энергии, выделяющейся при химических реакциях обычных взрывов). <…>
Нижеследующим показывается, что осуществить взрыв в уране возможно, и указывается, каким способом. <…> Проблема создания взрыва в уране сводится к созданию за короткий промежуток времени массы урана в количестве, значительно большем критического.
Осуществить это мы предлагаем путем заполнения ураном сосуда, разделенного непроницаемыми для нейтронов перегородками таким образом, что в каждом отдельном изолированном объеме – секции – сможет поместиться количество урана меньше критического. После заполнения такого сосуда стенки при помощи взрыва удаляются, и вследствие этого в наличии оказывается масса урана значительно больше критической. Это приведет к мгновенному возникновению уранового взрыва. Для перегородок могут быть использованы взрывчатые вещества типа ацетиленид серебра. Подобные соединения не дают газообразных продуктов. Поэтому их взрыв приведет к улетучиванию стенок, не вызвав никакого разброса урана.
В качестве примера осуществления такого принципа может служить следующая конструкция. Урановая бомба может представлять собой сферу, разделенную внутри на пирамидальные сектора, вершинами для которых служит центр сферы и основаниями – ее поверхность. Эти сектора-камеры могут вмещать в себе количество урана только немногим меньше критического. Стенки камер должны быть полыми и содержать воду либо какое-нибудь другое водосодержащее вещество (например, парафин и т. д.). Поверхность стенок должна быть покрыта взрывчатым веществом, содержащим кадмий, ртуть или бор, т. е. элементы, сильно поглощающие замедленные водяным слоем нейтроны (например, ацетиленид кадмия). Наличие этих веществ даже в небольшом количестве сделает вместе с водяным слоем совершенно невозможным проникновение нейтронов из одних камер в другие, а потому и сделает невозможным возникновение цепной реакции в сфере. В желаемый момент при помощи какого-нибудь механизма в центре сферы может быть произведен взрыв промежуточных слоев. <…>
В отношении уранового взрыва, помимо его колоссальной разрушительной силы (построение урановой бомбы, достаточной для разрушения таких городов, как Лондон или Берлин, очевидно, не явится проблемой), необходимо отметить еще одну чрезвычайно важную особенность. Продуктами взрыва урановой бомбы являются радиоактивные вещества. Последние обладают отравляющими свойствами в тысячи раз более сильной степени, чем самые сильные яды (а потому – и обычные ОВ). Поэтому, принимая во внимание, что они некоторое время после взрыва существуют в газообразном состоянии и разлетятся на колоссальную площадь, сохраняя свои свойства в течение сравнительно долгого времени (порядка часов, а некоторые из них даже и дней, и недель), трудно сказать, какая из особенностей (колоссальная разрушающая сила или же отравляющие свойства) урановых взрывов наиболее привлекательны в военном отношении.
Как видите, заявка харьковчан настолько точно описывает атомный взрыв и его последствия, что невольно задумываешься: неужели уже в 1940 году для профессионалов все было настолько ясно? Но так кажется только с позиций сегодняшнего дня, ведь нам уже известно, как и когда была создана «супербомба». В далеком 1940-м все представлялось немного иначе, и даже Виталий Хлопин, знаток ядерной физики, в своем заключении отмечал: «Следует относительно первой заявки сказать, что она в настоящее время не имеет под собой реального основания. Кроме того, и по существу в ней очень много фантастического».
Виктора Маслова такой отзыв, конечно, задел, но не заставил опустить руки. Он был уверен в правильности своих расчетов и обратился с письмом к наркому обороны Семёну Константиновичу Тимошенко:
Чисто научная сторона вопроса сейчас находится в такой стадии, что позволяет перейти к форсированному проведению работ в направлении практического использования энергии урана. Для этой цели мне представляется крайне необходимым как можно быстрее создание в одном из специальных институтов лаборатории специально для урановых работ, что дало бы нам возможность проводить работу в постоянном контакте с наиболее квалифицированными техниками, химиками, физиками и военными специалистами нашей страны. Особенно для нас необходимо сотрудничество с высококвалифицированными конструкторами и химиками.
Письмо попало на стол наркома, но на нем была сделана приписка: «Не подтверждается экспериментальными данными». Тимошенко не стал разбираться в сути дела и отклонил предложение физиков. Посему патентная заявка была на несколько лет отложена под сукно, а когда о ней вспомнили, то сделали лишь одно – наложили гриф «Секретно».
Время ФИАН
В начале и середине 1930-х годов ведущие физические институты были частью сети научно-исследовательских учреждений в структуре промышленных комиссариатов. Академия наук не имела в своем составе ни одного большого физического института. Георгий Гамов попытался создать Институт теоретической физики на базе Физического отдела Ленинградского физико-математического института, но Абрам Иоффе и Дмитрий Рождественский подавили его инициативу. Всё же в результате возникшей дискуссии Академия наук в 1932 году предложила Сергею Ивановичу Вавилову организовать физический институт. Вавилов, интересы которого были связаны с явлениями люминесценции и природой света, энергично взялся за дело. Когда в 1934 году Академия переехала в Москву, отдел, руководимый Вавиловым, переместился туда вместе с ней и стал Физическим институтом Академии наук (ФИАН). Многие ведущие физики Ленинграда и Москвы вошли в его штат.
Поскольку Сергей Вавилов хотел, чтобы его институт занимался исследованиями наиболее важных областей физики, он уговорил некоторых из своих молодых сотрудников, в том числе Павла Алексеевича Черенкова и Илью Михайловича Франка, начать работать в области ядерной физики. В частности, Черенков исследовал люминесценцию растворов солей урана, возникающую под действием гамма-лучей. При этом он открыл «черенковское излучение» – голубое свечение, испускаемое под действием пучка высокоэнергичных заряженных частиц, проходящих через прозрачную среду, подобно головной волне, образующейся при движении судна по воде. Игорь Тамм и Илья Франк вскоре развили теорию, объясняющую данный эффект (за эту работу в 1958 году они с Черенковым получили Нобелевскую премию по физике).
Сергею Вавилову, как и Абраму Иоффе, приходилось защищать ядерную физику от критики. Институт периодически проверяли комиссии, которые, как вспоминал позднее Илья Франк, критиковали институт с двух сторон: «Если это была ведомственная комиссия, то она отмечала, что поскольку ядерная физика – наука бесполезная, то нет оснований для ее развития. При обсуждениях в Академии наук мотив критики был иной. Ядерной физикой не занимается здесь никто из признанных авторитетов, а у молодых ничего не выйдет».
Но Вавилов не прекратил попыток превратить ФИАН в центр исследований по физике ядра. В конце 1938 года он сделал доклад на заседании президиума Академии наук, по которому была принята резолюция, где отмечалось «неудовлетворительное организационное состояние этих работ, выражающееся в раздробленности ядерных лабораторий по различным ведомствам, в нерациональном распределении мощных современных технических средств исследования атомного ядра по институтам, в неправильном распределении руководящих научных работников в этой области и т. п.». Президиум просил правительство разрешить ФИАНу начать в 1939 году строительство нового здания, с тем чтобы ядерные исследования как можно скорее были сконцентрированы в Москве. Было также решено учредить Комиссию по атомному ядру, которая бы планировала и организовывала ядерные исследования. Ее председателем должен был стать сам Сергей Вавилов, а членами, помимо прочих, – Абрам Иоффе, Абрам Алиханов и Игорь Курчатов.
Новый мощный толчок ядерной физике придала весть об открытии деления ядра, которая облетела мир в январе 1939 года. Советские ученые узнали об открытии, когда до них дошли иностранные журналы с описанием эксперимента Фредерика Жолио-Кюри. Виталий Хлопин и его сотрудники в Радиевом институте немедленно воспроизвели эксперимент и приступили к изучению химической природы продуктов деления. Открытие деления атомного ядра вызвало сильные сомнения в существовании трансурановых элементов. Но Хлопин продолжал глубоко интересоваться «трансуранами» и проводил опыты, чтобы выяснить, не обнаружатся ли они при расщеплении ядра. В ходе этого исследования он открыл некоторые до этого времени неизвестные реакции распада ядер урана. Хотя выявить трансурановые элементы не получилось, Хлопин заключил, что цепочки радиоактивных превращений на самом деле свидетельствовали об их существовании. 1 апреля 1939 года он написал Владимиру Вернадскому: «Опыты, которые удалось пока поставить, использовав циклотрон, делают весьма вероятным, что трансураны всё же существуют, т. е. что распад урана под действием нейтронов течет различными путями».
В Физико-техническом институте Иоффе открытие деления атомного ядра также привело всех в волнение. Первая советская работа по делению ядра была сделана Яковом Френкелем. Он рассказал об этом на семинаре Курчатова, и вскоре его статья «Электрокапиллярная теория расщепления тяжелых ядер медленными нейтронами» была опубликована в «Журнале экспериментальной и теоретической физики».
Лаборатория Игоря Курчатова приступила к поискам ответа на вопрос, высвобождаются ли свободные нейтроны в процессе деления ядра и если высвобождаются, то в каком количестве. Мы помним, что это был ключевой вопрос, поскольку самоподдерживающаяся цепная реакция возможна только при высвобождении более чем одного нейтрона. Георгий Николаевич Флёров и Лев Ильич Русинов пришли к выводу, что на одно деление приходится от одного до трех таких нейтронов. Первое сообщение об этом они сделали 10 апреля 1939 года. К этому времени, однако, Фредерик Жолио-Кюри и два его сотрудника, Ханс фон Халбан и Лев Коварский, уже опубликовали статью, в которой утверждали, что в процессе деления испускаются вторичные нейтроны, а 22 апреля сообщили, что среднее число этих нейтронов на одно деление составляет три с половиной.
Как только эти эксперименты были завершены, Игорь Курчатов решил проверить гипотезу Нильса Бора, согласно которой медленные нейтроны вызывают деление только редкого изотопа урана-235. Проведя серию экспериментов, Флёров и Русинов подтвердили, что Бор прав, о чем доложили на семинаре 16 июня 1939 года.
К сожалению, результаты опытов, которые ставили советские физики, попадали в западную печать с большой задержкой, и получалось так, что приоритет доставался другим. Работы, выполненные в 1939 году лабораторией Курчатова, не были опубликованы вплоть до 1940 года, а к тому времени они утратили передовое значение.
Самая важная теоретическая работа, выполненная на тот период в СССР, принадлежала ленинградским исследователям Якову Борисовичу Зельдовичу и Юлию Борисовичу Харитону. Летом 1939 года в автобусе по пути в институт Зельдович узнал от коллеги о статье, в которой французский физик Франсис Перрен пытался определить величину критической массы урана, необходимой для возникновения в ней цепной реакции. Идея заинтересовала Зельдовича, и он рассказал Харитону о расчетах, выполненных Перреном. Вместе они проштудировали статью француза, но его анализ не показался им убедительным, и они решили, что сами исследуют проблему.
Поначалу Зельдович и Харитон работали над новой темой по вечерам, но вскоре поняли, что задача настолько велика, что ее решению они должны посвятить все свое время. Они стали посещать семинар Курчатова, на котором вскоре ознакомились с новейшими исследованиями в области ядерной физики.
В октябре 1939 года они направили в «Журнал экспериментальной и теоретической физики» две свои работы. В первой из них рассматривалась возможность развития цепной реакции в уране-238 под воздействием быстрых нейтронов. Зельдович и Харитон теоретически определили условия, при которых цепная реакция может запуститься, и сделали заключение, основанное на имеющихся экспериментальных данных, что требуемые условия не могут осуществиться в уране-238, будь то окись урана или чистый металлический уран.
Во второй статье Зельдович и Харитон исследовали возможность цепной реакции на медленных нейтронах. Опыты, проведенные Энрико Ферми совместно с Лео Силардом и Гербертом Андерсоном в Нью-Йорке, а также Фредериком Жолио-Кюри и его группой в Париже, показали, что на возможность цепной реакции в природном уране существенным образом влияет резонансное поглощение нейтронов в уране-238 до того, как они замедлятся и смогут вызвать деление урана-235. Напомню, что Ферми с сотрудниками провели свои опыты с ураном, помещенным в бак с водой, и пришли к выводу, что «даже при оптимальной концентрации водорода остается крайне неопределенным, превзойдет ли выход нейтронов их полное резонансное поглощение». Иными словами, все еще не было ясно, сможет ли вода замедлить нейтроны так, чтобы избежать резонансного захвата и тем самым сделать возможной цепную реакцию.
Зельдович и Харитон по-другому интерпретировали результаты, полученные группами Ферми и Жолио-Кюри, и, основываясь на своей собственной теории, трактующей условия, необходимые для возникновения цепной реакции, сделали вывод о том, что она не будет возможной в системе уран – вода. Зельдович и Харитон писали о том, что для осуществления цепной реакции «необходимо для замедления нейтронов применять тяжелый водород, или, быть может, тяжелую воду, или какое-нибудь другое вещество, обеспечивающее достаточно малое сечение захвата. <…> Другая возможность заключается в обогащении урана изотопом-235». Если содержание урана-235 в природном уране будет повышено с 0,7 до 1,3 %, то, по их расчетам, в качестве замедлителя могли бы быть использованы простая вода или водород. Как мы помним, в этом и состоит ключевое открытие, определяющее путь к высвобождению атомной энергии.
На 4-й Всесоюзной конференции по физике ядра, состоявшейся в ноябре 1939 года в Харькове, Юлий Харитон доложил о работе, выполненной совместно с Яковом Зельдовичем:
Из этих расчетов, которые на первый взгляд приводят к пессимистическим выводам, видно, однако, по какому пути можно идти для осуществления цепной реакции. Достаточно повысить в уране концентрацию изотопа-235, чтобы реакция оказалась возможной. Если, с другой стороны, в качестве замедлителя вместо водорода использовать дейтерий, то поглощения в замедлителе практически не будет, и реакция, очевидно, также будет осуществима. Оба пути кажутся сейчас довольно фантастическими, если вспомнить, что для осуществления реакции необходимы тонны урана. Однако принципиально возможность использования внутриядерной энергии открыта.
Игорь Тамм, комментируя работу Зельдовича и Харитона, заявил: «Знаете ли вы, что означает это новое открытие? Оно означает, что может быть создана бомба, которая разрушит город в радиусе, возможно, десяти километров». Однако большинство советских ученых скептически относились к возможности использования атомной энергии. Абрам Иоффе в докладе, сделанном в Академии наук в декабре 1939 года, отметил, что если основываться на выводах, изложенных в статьях Зельдовича и Харитона, то представляется маловероятным использование результатов ядерной физики в практических целях. Пётр Капица в начале 1940 года по этому же поводу заметил, что для осуществления ядерных реакций потребуется больше энергии, чем они могут отдать. Было бы весьма удивительным, сказал он, если бы атомная энергетика стала реальностью.
Тем не менее исследования условий осуществления цепной реакции деления продолжались и после харьковской конференции. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на план, который составил для своей лаборатории Игорь Курчатов:
В последнее время было открыто явление развала некоторых тяжелых ядер при захвате нейтронов. Эта реакция является новым типом ядерных превращений и представляет большой научный и, возможно, практический интерес.
В 1940 г. предполагается изучить взаимодействие нейтронов с ядрами урана и тория. Будет исследовано, происходит ли испускание вторичных нейтронов при захвате ядрами урана и тория быстрых нейтронов.
Курчатов поручил проведение одного из запланированных экспериментов Георгию Николаевичу Флёрову и Константину Антоновичу Петржаку, молодому исследователю из Радиевого института. Задача опыта состояла в наблюдении за тем, как меняется величина потока нейтронов из урановой сферы, если внутрь поместить источники нейтронов с различными спектрами энергий. Флёров и Петржак построили очень чувствительную ионизационную камеру для регистрации актов деления. Когда в начале 1940 года они приступили к опытам, то, к своему большому удивлению, обнаружили, что ионизационная камера продолжает срабатывать (то есть регистрировать деление ядра) и в том случае, когда они убрали источник нейтронов. Вскоре они пришли к заключению, что открыли спонтанное деление, происходящее без бомбардировки нейтронами. Теоретически такой процесс был предсказан Нильсом Бором и Яковом Френкелем, но теперь он получил экспериментальное подтверждение.
Игорь Курчатов предложил Флёрову и Петржаку провести ряд контрольных опытов, чтобы исключить возможность ошибки в эксперименте. Один из них был проведен под землей – в помещении станции московского метро «Динамо», чтобы показать, что деление вызывается не космическими лучами, а происходит само собой. В мае 1940 года Хлопин и Курчатов доложили об этом открытии в Академии наук, и вскоре в советских журналах появились соответствующие статьи. Курчатов, всегда придававший значение мнению иностранных физиков, послал короткое телеграфное сообщение об открытии в американский журнал «Физикал ревью», и оно было опубликовано в номере от 1 июля 1940 года. В Советском Союзе это открытие привлекло очень большое внимание. Его рассматривали как свидетельство того, что Курчатов и его сотрудники работают теперь на том же уровне, что и ученые ведущих исследовательских центров на Западе. Позднее Флёров вспоминал: «Тогда, до войны, в нас очень были сильны приоритетные страсти. Все дрались за первенство».
7 марта 1940 года Яков Зельдович и Юлий Харитон направили в «Журнал экспериментальной и теоретической физики» свою третью статью «Кинетика цепного распада урана», которая была опубликована в мае. Если в первых двух статьях они исследовали условия развития цепной реакции в системе «бесконечного размера», то теперь изучали цепную реакцию в ситуации, близкой к критической. Цепная реакция будет развиваться только в блоке критических размеров, писали они. При этом она могла бы дать огромное количество энергии и сделать возможным «некоторые применения урана». Но окончательный вывод об использовании деления ядер для получения энергии или для взрывов нельзя сделать, пока не будет понята кинетика цепной реакции. Особенно важно понять переход от «подкритического» состояния к «надкритическому», потому что этот переход может произойти очень быстро. Вычисления Зельдовича и Харитона показали, что как только система приближается к критическому состоянию, тепловое расширение урана (которое позволило бы нейтронам покинуть блок урана) и испускание запаздывающих нейтронов способны оказывать решающее влияние на переход в критическое состояние.
Такие свойства системы (прежде всего регулировка через тепловое расширение) делают экспериментальное исследование и энергетическое использование цепного распада урана безопасным. Взрывное использование цепного распада требует специальных приспособлений для весьма быстрого и глубокого перехода в сверхкритическую область и уменьшения естественной терморегулировки.
В статье также говорилось о физических процессах, которые должны оказаться определяющими при конструировании атомных реакторов. Из нее также видно, что Зельдович и Харитон размышляли о цепных реакциях на медленных и быстрых нейтронах и что они предполагали возможность использования внутриядерной энергии как для бомб, так и для получения энергии.
Достижения советских ядерных физиков наконец-то начали получать призвание в мире. Во многом это было связано не только с возросшим уровнем советской науки, но и с тем, что после начала Второй мировой войны многие ведущие западные ученые были вынуждены прервать работу, эмигрировать или прекратить публикации о своих достижениях из опасения, что они поспособствуют развитию немецкой физики, подчиненной интересам гитлеровцев. Поведение советских ученых было совсем другим. Они продолжали свободно публиковать свои работы. Не было и попыток предупредить свое правительство о возможности практического применения реакции деления ядер. В отличие от США в Советском Союзе не оказалось большой группы физиков-эмигрантов, которые забили бы тревогу о нацистской атомной бомбе. Кроме того, выражение тревоги по отношению к перспективам создания такой бомбы противоречило бы советско-германскому пакту, подписанному в августе 1939 года, и договору о дружбе, который последовал за ним в сентябре.
Открытое заключение стратегических договоров между СССР и нацистской Германией привело в итоге к тому, что западные физики решили прекратить обмен научной информацией по проблемам деления ядра еще и со своими советскими коллегами.
Урановая комиссия
Научный обозреватель газеты «Нью-Йорк таймс» Уильям Лоуренс внимательно следил за достижениями в области ядерных исследований. В конце апреля 1940 года он узнал от Петера Дебая, который тогда посетил США, что большая часть сотрудников Физического института Общества имени кайзера Вильгельма ориентирована на работы по урану. Он счел это подтверждением своих подозрений о том, что нацистская Германия работает над созданием атомной бомбы. В то же время Лоуренс прослышал, что два маленьких образца урана-235 были выделены Альфредом Ниром, работавшим в Миннесотском университете, и что эти образцы были использованы Джоном Даннингом из Колумбийского университета для экспериментального подтверждения деления редкого изотопа под действием медленных нейтронов. Обозреватель решил, что пришло время написать «сенсационную статью».
В воскресенье 5 мая 1940 года газета «Нью-Йорк таймс» поместила на своей первой полосе статью Уильяма Лоуренса под заголовком «Наука открыла громадный источник атомной энергии». Обозреватель писал об эксперименте Даннинга и утверждал, что последним шагом, который осталось сделать для решения проблемы нового источника энергии, является усовершенствование методов извлечения урана-235. Он особо остановился на исключительной взрывной мощности урана-235 и на «возможном колоссальном влиянии последствий этого открытия на исход войны в Европе». Он также сообщал, что «каждому немецкому ученому, работающему в этой области, – физику, химику, инженеру <…> приказано бросить все остальные исследования и посвятить себя только этой работе».
Уильям Лоуренс надеялся, что его статья насторожит политических деятелей, показав им опасность того, что нацистская Германия может создать атомную бомбу. Когда из Вашингтона не последовало никакого отклика, обозреватель был этим очень обескуражен. Но его статья повлекла за собой событие, которого Лоуренс совершенно не ожидал и о котором, возможно, так никогда и не узнал.
Георгий Владимирович Вернадский, сын знаменитого мыслителя, преподававший историю в Йельском университете, зная, конечно, об интересе своего отца к проблемам атомной энергии, послал ему статью Лоуренса. Когда академик Владимир Вернадский получил это письмо, он находился в подмосковном санатории «Узкое». История, рассказанная Лоуренсом, произвела сильное впечатление. И первый вопрос, который пришел Вернадскому в голову: хватит ли у Советского Союза урановой руды для использования в качестве источника атомной энергии? Он и академик Виталий Хлопин, который тоже находился в «Узком», написали в Отделение геологических и географических наук АН СССР, предлагая разработать план разведки залежей урана:
Уран из металла, находившего себе лишь ограниченное применение и рассматривавшегося всегда как побочный продукт при добыче радия, приобретает совершенно исключительное значение. <…> Разведки известных месторождений и поиски новых производятся темпами совершенно недостаточными и не объединенными общей идеей.
26 июня 1940 года Академия наук сформировала «тройку», в которую вошли Владимир Вернадский, Виталий Хлопин и Александр Ферсман, для разработки «проекта мероприятий, которые необходимо осуществить в связи с возможностью использования внутриатомной энергии». Несколькими днями позже Вернадский написал письмо вице-президенту академии, в котором объяснил, почему он считает этот вопрос таким срочным:
По имеющимся известиям, полученным мною почти случайно и в неполной форме из-за искусственных препятствий, установленных, к сожалению, для чтения зарубежной прессы, сейчас в США и в Германии идет энергичная и организованная работа в этом направлении, несмотря на мировые военные события. Наша страна ни в коем случае не может стоять в стороне и должна дать возможность и денежные средства для широко организованной и спешной работы в этой области первостепенного значения.
12 июля Вернадский и Хлопин направили письмо Николаю Александровичу Булганину, заместителю председателя Совнаркома, ответственного за химическую и металлургическую промышленность. В письме они обращали внимание на открытие деления атомного ядра и на огромное количество энергии, которое при этом освобождается. То была фактически первая попытка советских ученых предупредить одного из главных членов правительства о том, что открытие деления урана-235 медленными нейтронами дает возможность управлять реакцией деления ядра. На пути практического использования атомной энергии, считали они, стоят весьма значительные трудности, которые «не имеют, однако, принципиального характера». Ученые просили правительство предпринять шаги, «которые обеспечили бы Советскому Союзу возможность не отстать в разрешении этой важнейшей задачи от зарубежных стран». Перед Академией наук должны быть поставлены задачи сконструировать устройство для разделения изотопов и ускорить проектирование нового «сверхмощного» циклотрона ФИАНа.
30 июля 1940 года на основе письма правительство одобрило учреждение Комиссии по проблеме урана при президиуме Академии наук. Ее председателем стал Виталий Хлопин, а Владимир Вернадский и Абрам Иоффе были назначены его заместителями. Перед комиссией была поставлена задача составить план необходимых исследований, организовать работу по методам разделения изотопов урана, начать изучение управляемых ядерных реакций, а также координировать исследования в этой области. Группе под руководством минералога Александра Ферсмана было предписано еще до конца года отправиться в Среднюю Азию, чтобы исследовать месторождения урана и организовать в Ташкенте соответствующую конференцию. Кроме того, группа Ферсмана должна была представить план создания Государственного уранового фонда.
Урановая комиссия приступила к работе. На одном из первых ее заседаний, на котором присутствовали руководители промышленности и геологи, Виталий Хлопин объяснил, что проведенное недавно исследование «сделало вероятным осуществление так называемой цепной реакции», сопровождающейся выделением исключительно большого количества энергии. Он предупредил, что «на пути стоит очень много трудностей», а сам «механизм этой реакции недостаточно выяснен». Он объяснил, что такая реакция может быть осуществлена на уране-235. Однако необходимо попробовать осуществить ее на уране-238, что «не является совершенно невозможным теоретически». Цепная реакция потребует «количеств, исчисляемых десятками килограммов этой смеси», – сообщил Хлопин, подчеркнув, что накопление запасов урана является теперь фундаментальной задачей: «Прежде всего надо выяснить, какими запасами мы можем располагать, то есть можем ли дать нужное количество. Затем, познакомившись с тем, в каком положении находится наша сырьевая база на сегодняшний день, выяснить, правильно ли проводятся геологические поиски урановых месторождений».
Проблема дефицита урана стояла очень остро. Из-за того, что он почти не пользовался спросом в предыдущий период, его запасы были скудны, а разведанные месторождения можно было пересчитать по пальцам. Для одного из первых экспериментов, выполненных в его лаборатории, Игорь Курчатов отправил своих молодых сотрудников в рейд по фотомагазинам Ленинграда с поручением закупить весь имевшийся там нитрат урана. Теперь такого рода импровизации были неуместны: чтобы получить необходимые данные о перспективах осуществления цепной реакции, ученые нуждались в больших количествах урана. В работе, написанной в начале лета 1940 года, Зельдович и Харитон дали обзор исследований по делению ядра и подсчитали, что для осуществления цепной реакции на медленных нейтронах необходимо 2,5 тонны урана и 15 тонн тяжелой воды. О реакциях на быстрых нейтронах ничего не было сказано.
9 сентября Курчатов написал Хлопину, что ему надо от 500 до 1000 граммов чистого металлического урана для изучения возможности возникновения цепной реакции в уране-238. Немного позднее он написал ему снова, спрашивая, когда металлический уран может быть получен и какие меры следовало бы предпринять, чтобы ускорить дело.
Отметим, что в планах ленинградских физиков того времени не было и намека на исследования по атомной бомбе. Они, конечно, понимали, что деление ядер может быть использовано в военном деле, но основной их интерес в то время состоял в том, чтобы установить, действительно ли возможна цепная реакция, а не в том, чтобы достигнуть какой-либо практической цели.
Будущее ядерных исследований явилось предметом «весьма оживленной» дискуссии на 5-й Всесоюзной конференции по ядерной физике, которая состоялась в Москве 20–26 ноября 1940 года. В ней приняло участие около двухсот ученых. Игорь Курчатов прочитал основной доклад о делении атомного ядра, в котором проанализировал успехи в этой области, достигнутые в предыдущем году, и особо остановился на проблематике цепной реакции. Самое важное – физик представил таблицу, в которой сравнил требуемые количества урана и тяжелой воды с имеющимися их мировыми запасами: 500 килограммов обогащенного урана против нескольких граммов, 15 тонн тяжелой воды против 500 килограммов, накопленных в лабораториях. По своему тону доклад Курчатова был сдержанным и трезвым, но в нем указывалось на необходимость принятия «чрезвычайных мер», если потребуется получить цепную реакцию.
Дискуссия физиков началась во время перерыва. Основной вопрос заключался в том, достаточно ли известно о цепных реакциях, чтобы оправдать средства, необходимые для серьезных работ по разделению изотопов, получению необходимых количеств урана-235 и производству тяжелой воды. После перерыва академик Хлопин вернулся на сцену и заявил, что пришел к выводу о преждевременности «чрезвычайных мер»: в Европе идет война и деньги нужны для других целей. Он сказал, что необходимо поработать еще как минимум год в лабораторных условиях и только тогда решить, есть ли основания обращаться к правительству и запрашивать несколько миллионов для строительства экспериментального уранового реактора. Курчатов, по-видимому, приготовил записку, в которой просил правительство об увеличении средств, но заявление Хлопина исключало такой ход.
30 ноября, через четыре дня после окончания конференции, Урановая комиссия собралась, чтобы заслушать отчет Александра Ферсмана об экспедициях, которые той же осенью вели разведку урановых месторождений в Средней Азии. Ферсман обрисовал довольно мрачную картину. Через три-четыре года можно будет добывать 10 тонн урана в год, если будет построен рудник. Однако создание сырьевой базы потребует значительных капиталовложений, а потребность в уране для получения атомной энергии может быть оценена лишь приблизительно. Поэтому Ферсман предложил, чтобы были учтены потребности и других отраслей, в которых может быть использован уран, то есть металлургии, красильной и фармацевтической промышленности.
Параллельно Яков Зельдович и Юлий Харитон продолжали изучать условия возникновения цепной реакции. В ходе исследований они поставили тот же вопрос, который был поднят годом ранее Отто Фришем и Рудольфом Пайерлсом: если предположить, что у вас есть достаточно чистого урана-235, то какова должна быть его критическая масса, чтобы вызвать цепную реакцию? Так же как и предшественники, они исходили из допущения, что в уране-235 почти каждое столкновение нейтрона с ядром урана приводит к делению. Вместе с сотрудником Радиевого института Исаем Израилевичем Гуревичем они подсчитали величину критической массы для цепной реакции на быстрых нейтронах в куске чистого урана-235, окруженного отражателем нейтронов. В статье, представленной весной 1941 года в журнал «Успехи физических наук», они бегло сослались на эти расчеты: «Для осуществления цепного деления урана с выделением огромных количеств энергии достаточно десятка килограммов чистого изотопа урана-235». Статья не была опубликована из-за начавшейся войны, а потом ее засекретили – в итоге она увидела свет через сорок лет, когда изложенные в ней данные стали общеизвестны. Полученная советскими физиками оценка (10 килограммов) была на порядок выше той, которую сделали британские коллеги (1 килограмм), но разница невелика в сравнении с более ранними оценками, согласно которым нужны были тонны урана-235. Помимо прочего, Зельдович и Харитон высказали несколько соображений, касающихся инициирования атомного взрыва, и подсчитали, что, если блок урана-235 будет сжат с помощью обычной взрывчатки, может начаться цепная реакция.
Урановая комиссия продолжала свою работу, а исследования проводились широким фронтом, но без особой интенсивности. Поскольку было понятно, что именно уран-235 является делящимся изотопом, интерес к методам разделения изотопов начал возрастать. У советских физиков наибольшей популярностью пользовались два метода: термодиффузия и центрифуга. Многие ядерщики, однако, полагали, что эти методы не очень перспективны для осуществления разделения в промышленных масштабах, потому что процесс разделения потребовал бы затрат такого же количества энергии, которое могло быть получено за счет деления урана-235. К примеру, харьковский физик Владимир Семёнович Шпинель считал, что использование диффузионных методов для разделения изотопов тяжелых элементов очень непроизводительно и что для этих целей подошла бы центрифуга. Исследовались и другие методы. Так, Игорь Курчатов поручил Льву Арцимовичу начать в институте Иоффе эксперименты с электромагнитным методом разделения изотопов, а в Радиевом институте изучали возможность разделения с помощью линейного ускорителя.
Однако работа Урановой комиссии была затруднена двумя обстоятельствами. О первом академик Вернадский записал в своем дневнике так: «Рутина и невежество советских бюрократов». Второе препятствие заключалось в напряженности отношений, сложившихся между группой Вернадского и физиками. Отчасти неприязнь коренилась в давнем соперничестве за скудные ресурсы, но она отражала и разногласия, связанные с тем, чему отдавать приоритет: теории ядра или разведке урана. 16 мая 1941 года Вернадский записал содержание разговора, который состоялся у него с одним из вице-президентов Академии наук: «Между прочим я ему указал, что сейчас обструкция в физиках (Иоффе, Вавилов – я не называл лиц). Они направляют усилия на изучение атомного ядра и его теории, и здесь (например, Капица, Ландау) делается много важного, но жизнь требует направления рудно-химического».
Хотя соперничество между группой Вернадского и физиками было достаточно острым, физики никогда не позволяли себе обращаться к «сталинским» методам ведения дискуссии: не было обвинений в саботаже, вредительстве или антимарксизме. Все эти люди были слишком преданы науке, чтобы прибегать к помощи репрессивного аппарата.
Письмо Флёрова
22 июня 1941 года немецкие войска вероломно пересекли советскую границу. Началась Великая Отечественная война.
На следующий день президиум Академии наук собрался на внеочередное заседание, на котором ученые говорили о своем желании отдать всю свою энергию и способности делу обороны от немецко-фашистских захватчиков. Несколько ведущих химиков отправили Иосифу Сталину письмо, предлагая создать новую организацию для перевода науки на «военные рельсы». Их практически сразу вызвали на встречу к Вячеславу Михайловичу Молотову, который поддержал инициативу. 10 июля был образован Научно-технический совет, в который вошли ведущие академики (среди них были Иоффе, Капица и Семёнов). Его председателем стал Сергей Васильевич Кафтанов – глава Комитета по делам высшей школы и уполномоченный Государственного комитета обороны по науке. На совет возлагалась ответственность за организацию в научных учреждениях работ для нужд обороны и оценку научно-технических предложений. Вначале совет имел дело с химией и физикой, но потом расширил свою деятельность, включив в круг решаемых вопросов геологию и другие области знаний.
Однако ученые не собирались отсиживаться в лабораториях. Через пять дней после нападения Германии тридцать сотрудников института Иоффе ушли в армию добровольцами или по мобилизации, а месяц спустя их число возросло до ста тридцати. Институт был реорганизован, приоритет теперь отдавался оборонным работам: радиолокации, бронезащите и размагничиванию кораблей. Такое положение было повсеместным.
Игорь Курчатов решил оставить свои работы по делению ядра, и его лаборатория была расформирована. Часть оборудования перевезли в Казань, куда институт Иоффе эвакуировался в июле – августе. Остальное, включая недостроенный циклотрон, осталось в Ленинграде. Сам Курчатов присоединился к группе, занимающейся проблемами защиты кораблей от магнитных мин. Он провел три месяца в Севастополе, который был главной базой Черноморского флота, и покинул его в начале ноября, когда город осадили немецкие войска. В апреле 1942 года Курчатов и другие члены группы размагничивания получили за свою работу Сталинскую премию. Из-за подорванного здоровья Курчатов не смог возвратиться на флот, а взял на себя руководство броневой лабораторией Физико-технического института.
Большинство ученых-ядерщиков оставили свои исследования, чтобы работать на нужды фронта. Физический институт был эвакуирован из Москвы в Казань, где члены группы ядерной физики использовали свои знания для разработки акустической аппаратуры по обнаружению самолетов и контроля качества военной продукции. Институт химической физики также переехал в Казань, а Зельдович и Харитон оставили свои исследования цепной реакции деления, занявшись совершенствованием пороховых смесей для снарядов реактивной артиллерии «БМ» («катюша»). Харьковский физико-технический институт был эвакуирован в Алма-Ату и в Уфу, где сконцентрировал свои усилия на разработке нового оружия и помощи промышленности. Только Радиевый институт, также переехавший в Казань, продолжил работу по синтезу соединений урана с целью их использования в процессах разделения изотопов, однако исследования проводились в очень малом масштабе.
С началом войны Урановая комиссия прекратила свою работу. Владимир Вернадский вместе с группой других пожилых академиков был эвакуирован в курортную местность Боровое в Казахстане. В своем дневнике в записях от 13 и 14 июля он выразил опасение, что Германия сможет применить на полях сражений отравляющие газы или «энергию урана», но его вера в победу СССР была непоколебимой.
Особую озабоченность влиянием науки на жизнь людей выразил Пётр Капица на митинге ученых, состоявшемся в Москве 12 октября 1941 года. Капица не забыл об атомной бомбе. «Мое личное мнение, что технические трудности, стоящие на пути использования внутриатомной энергии, еще очень велики, – сказал он. – Пока еще это дело сомнительное, но очень вероятно, что здесь имеются большие возможности. Мы ставим вопрос об использовании атомных бомб, которые обладают огромной разрушительной силой». Будущая война будет еще более ужасной, чем эта, сказал Капица, и «поэтому ученые должны сейчас предупредить людей об этой опасности, чтобы все общественные деятели мира напрягли все свои силы, чтобы предотвратить возможность другой войны, будущей». Хотя Капица говорил о возможном влиянии науки на ход войны, он не призывал к разработке атомной бомбы для использования ее против Германии.
Впрочем, среди советских физиков был человек, который ощущал настоятельную необходимость возобновления ядерных исследований. То был 28-летний Георгий Флёров, открывший спонтанное деление атомов урана. В начале войны он был призван в армию и направлен в Ленинградскую военно-воздушную академию для подготовки в качестве инженера, обслуживающего пикирующие бомбардировщики «Пе-2». Мысль о ядерной физике не оставляла Флёрова. Он написал Абраму Иоффе о своем желании выступить на научном семинаре. Флёрова командировали из Йошкар-Олы, куда была эвакуирована Военно-воздушная академия, в Казань. Там в середине декабря 1941 года он и выступил перед группой ученых, среди которых были Иоффе и Капица. Георгий Флёров говорил, как всегда, с энтузиазмом, живо, но убедить академиков у него не получилось, что объяснимо: война вошла в самую ожесточенную фазу, немцы приближались к Москве, а военная промышленность еще не оправилась от разрушительных ударов, нанесенных ей гитлеровским вторжением.
И всё же неугомонный Флёров не дал своей инициативе заглохнуть. Он отправил большое письмо Курчатову. В нем молодой физик начал с утверждения, что цепная реакция на медленных нейтронах в природном уране невозможна, а на обогащенном уране или же в природном уране с замедлителем она оказалась бы столь дорогостоящей, что использование ядерной энергии стало бы экономически невыгодным. Но энергетический выход цепной реакции на быстрых нейтронах, писал он, был бы эквивалентен взрыву ста тысяч тонн тринитротолуола, и поэтому соответствующие исследования заслуживают времени и затрат. «Основной вопрос, – писал он, – сможем ли мы вообще осуществить цепную ядерную реакцию на быстрых нейтронах».
Первое условие для осуществления цепной реакции на быстрых нейтронах, отмечал Флёров, состоит в том, чтобы каждый акт деления вызывал по меньшей мере еще одно деление. Далее Флёров рассматривал число нейтронов, образующихся в одном акте деления, для урана-235 и протактиния-231. Оба эти элемента, писал он, можно использовать как активный материал, а критическая масса для каждого оценивается между 0,5 и 10 килограммами. Вторым условием взрывной цепной реакции является быстрый скачкообразный переход в сверхкритическое состояние. Если переход будет слишком медленным, то делению подвергнется лишь малая доля ядер урана и произойдет преждевременная детонация от случайных нейтронов.
Флёров представил расчеты, касающиеся реализации этих условий, а также набросал эскиз экспериментальной бомбы. Он предположил, что обеспечить быстрый переход в сверхкритическое состояние возможно путем сжатия активного материала. На эскизе Флёрова уран-235 или протактиний-231 разделены на две полусферы, а обычная мощная взрывчатка используется для быстрого выстрела одной полусферы в другую. Этот метод позднее стал известен как «пушечный». Флёров надеялся, что письмо заставит Курчатова вновь заняться ядерными исследованиями. Но тот не ответил на него, хотя и хранил это многостраничное послание в ящике рабочего стола до самой смерти.
В начале 1942 года часть, в которой служил лейтенант Георгий Флёров, расположилась в Воронеже, вблизи линии фронта. Воронежский университет эвакуировался, но его библиотека осталась. «Американские физические журналы, несмотря на войну, в библиотеке были, и они больше всего интересовали меня, – писал Флёров позднее. – В них я надеялся ознакомиться с новыми статьями по делению урана, найти отклики на нашу работу по спонтанному делению». Когда Флёров просматривал журналы, он обнаружил, что в них не только отсутствовал отклик на его открытие, но не было и других статей по делению. Возникало четкое ощущение, что ведущие ядерщики переключились на какие-то другие темы.
Флёров сделал напрашивающийся вывод: исследования по ядерному делению в США строго засекречены. И был абсолютно прав. История сохранила анекдотический случай, когда агенты ФБР вызвали на допрос известного американского издателя Джона Кэмпбелла за то, что в его журнале «Эстаундинг сайнс фикшн» (мартовский номер за 1944 год) был опубликован рассказ Клива Картмилла «Дедлайн», в котором фантаст очень точно описал конструкцию реальной атомной бомбы и процесс обогащения урана. Поскольку некоторые из авторов, сотрудничавших с Кэмпбеллом, работали на военные проекты правительства, агенты заподозрили, что произошла «утечка» секретной информации. В действительности Картмилл всего лишь воспользовался научно-популярной литературой по атомной тематике, выходившей еще до войны.
Все это означает, заключил Георгий Флёров, что американцы трудятся над созданием атомного оружия. Еще более тревожным был тот факт, что у нацистской Германии тоже имелись свои первоклассные ученые, значительные запасы урановых руд, завод тяжелой воды, технология получения урана и методы разделения изотопов. Флёров решил бить тревогу и отправил письмо Сергею Кафтанову, уполномоченному Государственного комитета обороны по науке. В письме физик указывал на отсутствие в иностранных журналах публикаций по делению: «Это молчание не есть результат отсутствия работы. <…> Словом, наложена печать молчания, это-то и является наилучшим показателем того, какая кипучая работа идет сейчас за границей». Он также считал уместным «запросить англичан и американцев о полученных ими за последнее время результатах».
Не дождавшись ответа, Флёров решил прибегнуть к последнему возможному для советского гражданина средству – в апреле 1942 года он отправил письмо Иосифу Сталину, в котором утверждал:
Единственное, что делает урановые проекты фантастическими, – это слишком большая перспективность в случае удачного решения задачи. <…> В военной технике произойдет самая настоящая революция. Произойдет она без нашего участия, и все это только потому, что в научном мире сейчас, как и раньше, процветает косность. Если в отдельных областях ядерной физики нам удалось подняться до уровня иностранных ученых и кое-где даже их опередить, то сейчас мы совершаем большую ошибку, добровольно сдавая завоеванные позиции.
Чтобы у вождя не возникло мысли, будто бы физик всего лишь пытается избежать фронта и вернуться к исследованиям из эгоистических соображений, Флёров предложил созвать совещание ученых для обсуждения ядерных исследований. На него должны были быть приглашены Иоффе, Ферсман, Вавилов, Хлопин, Капица, Лейпунский, Ландау, Алиханов, Арцимович, Френкель, Курчатов, Харитон, Зельдович, Гуревич и Петржак. Флёров просил, чтобы лично ему для сообщения выделили полтора часа. «Очень желательно, Иосиф Виссарионович, Ваше присутствие, – добавлял он, – явное или неявное». Флёров настаивал на том, чтобы все приглашенные на совещание выразили свое мнение об урановой проблеме письменно и количественно оценили вероятность того, что она может быть решена. От тех, кто чувствует, что не может этого сделать, все равно следует потребовать присутствия на совещании.
Добралось ли до Сталина письмо Флёрова, доподлинно неизвестно. Заседание, которого он требовал, не состоялось. Письмо было передано Сергею Кафтанову, который, конечно, не обрадовался обвинению в небрежном отношении к делу, затрагивающему интересы государства. Хотя много позже сам Кафтанов вежливо говорил о некоторой значимости письма физика-лейтенанта для принятия решения о старте советского атомного проекта, решающее слово в вопросе сказала разведка.
Разведка и атом
Деятельность британских и американских ядерщиков не осталась без внимания советских разведчиков. Первое оперативное письмо, касающееся темы атомных исследований, было направлено 27 января 1941 года «Геннадию» от «Виктора».
«Геннадий» – оперативный псевдоним Гайка Бадаловича Овакимяна, заместителя резидента в Нью-Йорке. «Виктор» – Павел Михайлович Фитин, новоиспеченный глава внешней разведки органов госбезопасности в должности начальника 1-го Управления НКВД СССР. Письмо четко обозначало круг задач дня разведчиков в США, охватывая все области науки и техники, которые не только представляли интерес для обороны, но и могли открывать новые направления. Именно поэтому в нем значилось:
30. О уране-235.
В шанхайской газете «Норс чайна дейли ньюс» от 26.6.40 г. была помещена статья о работе, проводимой физическим отделением Колумбийского университета (Нью-Йорк), по получению нового вещества, обладающего громадной энергией, превышающей энергию угля в несколько миллионов раз, это вещество названо «U-235». О первых результатах этой работы было напечатано в официальном органе американских физиков – в «Физикел ревью».
В конце февраля прошлого года в университете Минезоты [имеется в виду Миннесота] под наблюдением проф. Альфреда О. Ниера это вещество в минимальных количествах было якобы получено в чистом виде и испытано при помощи колумбийского 150-тонного циклотрона (установка для дробления атома в Колумбийском университете). Испытания дали положительный результат и стимулировали дальнейшие усилия в этой работе.
Данной проблемой много занимаются и советские физики, и, по-видимому, эта проблема реальна…
Документ демонстрирует, что советские разведчики не только внимательно следили за уровнем научно-технического развития в США и других странах, но и тщательно изучали прессу всего мира. Небольшая заметка в шанхайской газете запустила мощный тайный процесс, о котором даже советским физикам пока ничего не нужно было знать.
Количество разведывательных сообщений об атомных исследованиях резко увеличивается, как только начинается война. В конце сентября 1941 года в Москве становится известно о важном совещании в Англии, на котором обсуждались вопросы создания атомной индустрии. На основании информации разведчиков была подготовлена «Справка на № 6881/1065 от 25.IX.41 г. из Лондона». В ней, в частности, говорится:
«Вадим» передает сообщение «Листа» о состоявшемся 16.IХ.41 г. совещании Комитета по урану. Председателем совещания был «Босс» <…>.
«Вадим» – А. Горский [Анатолий Горский].
«Лист» – Д. Маклин [Дональд Маклэйн].
«Босс» – Хенке [лорд Морис Хэнки].
На совещании было сообщено следующее.
Урановая бомба вполне может быть разработана в течение двух лет, в особенности если фирму «Империал кемикал индастриес» обяжут сделать ее в наиболее сокращенные сроки.
Представитель Вульвичского арсенала С. Фергюссон заявил, что запал бомбы может быть сконструирован в течение нескольких месяцев. <…> В ближайшее время намечается проведение опытов по достижению наибольшей эффективности взрыва определением плотности нейтронов в промежутке между соседними массами U-235.
3 месяца тому назад фирме «Метрополитен Виккерс» был выдан заказ на конструирование 20-ступенчатого аппарата, но разрешение на это было дано только недавно. Намечается обеспечение выполнения этого заказа в порядке 1-й очереди.
Фирма «Империал кемикал индастриес» имеет договор на получение гексафторурана, но производство его фирма еще не начала. Не так давно в США был выдан патент на более простой процесс производства с использованием нитрата урана.
На совещании было сообщено, что сведения о лучшем типе диффузионных мембран можно получить в США.
Комитетом начальников штабов на своем совещании, состоявшемся 20.IХ.41 г., было вынесено решение о немедленном начале строительства в Англии завода для изготовления урановых бомб.
«Вадим» просит оценку материалов «Листа» по урану.
Анатолий Вениаминович Горский, использующий оперативный псевдоним «Вадим», был резидентом НКВД в Лондоне. Переданная им информация, без сомнения, была получена с одного из заседаний Совета по оборонным заказам Научно-консультативного комитета при Кабинете министров, где обсуждался доклад «Комитета Мауд».
Через восемь дней «Вадим» проинформировал Москву о докладе Научно-консультативного комитета правительству Великобритании. Он даже заполучил копию этого доклада, в котором обнаружились важные технические детали: величина критической массы («от 10 до 43 кг»), проекты сепарационного завода, некоторые особенности конструкции мембран и тому подобное.
С большой долей уверенности можно утверждать, что источником этой информации был «двойной» агент Джон Кернкросс (оперативный псевдоним «Карел»), вошедший в историю как «пятый человек» из «Кембриджской пятерки». Он был завербован в середине 1930-х годов, когда обучался в Кембриджском университете. Кернкросс поступил в Министерство иностранных дел, но затем перешел в Казначейство. В 1941 году он был личным секретарем лорда Мориса Хэнки, министра без портфеля и председателя Научно-консультативного комитета при Кабинете министров. Хэнки председательствовал на Совете по оборонным заказам, которое рассматривало работу «Комитета Мауд». Именно Джон Кернкросс имел доступ к материалам, которые использовались в двух сообщениях Горского. Упоминание лорда Хэнки как «Босса» опять же указывает на причастность этого разведчика.
Сотрудники НКВД осознали, что в их распоряжении оказался уникальный материал. В недрах 4-го спецотдела была подготовлена «Записка» наркому Лаврентию Павловичу Берии:
Присланные из Англии совершенно секретные материалы Британского правительства, касающиеся работ английских ученых в области использования атомной энергии урана для военных целей, содержат два доклада Научно-совещательного комитета при Английском комитете обороны по вопросу атомной энергии урана и переписку по этому же вопросу между руководящими работниками комитета.
Судя по этим материалам, в Англии уделяется большое внимание проблеме использования атомной энергии урана для военных целей. <…> В частности, из материалов видно, что английскими учеными на основе расчетов выбран оптимальный вес урановой бомбы, равный 10 кг; прорабатываются вопросы, связанные с выбором типа аппаратуры, пригодной для изготовления взрывчатого вещества, и произведены примерные расчеты стоимости постройки завода урановых бомб. <…>
На основе изучения присланных материалов можно сделать следующие выводы:
1. Материалы представляют безусловный интерес как свидетельство большой работы, проводимой в Англии в области использования атомной энергии урана для военных целей.
2. Наличие только имеющихся материалов не позволяет сделать заключение о том, насколько практически реальны и осуществимы различные способы использования атомной энергии, о которых сообщается в материалах…
Берия получил «Записку» и тут же распорядился подготовить письмо Сталину. Однако нет никаких данных, что письмо попало на стол вождя. Возможно, Берия на словах передал Сталину информацию из Лондона, но тот отмахнулся, ведь в то время были дела поважнее. Тем не менее разработка темы разведкой была продолжена. В марте 1942 года из Москвы в Лондон и Нью-Йорк резидентам были отправлены оперативные письма.
В Лондон:
По линии техники перед нами сейчас стоит большая необходимость в получении как информации, так и конкретных материалов по проводимым в Вашей стране работам в области: 1) военной химии – отравляющим веществам и защите от них; 2) бактериологии – изысканиям новых бактериологических средств нападения и защиты; 3) проблемам урана-235 и 4) новым взрывчатым веществам.
Всем этим вопросам сейчас уделяется исключительное внимание, и в Вашей стране необходимо максимальное усилие для освещения этих вопросов…
В Нью-Йорк:
Обстановка настоящего времени настоятельно требует мобилизации всех имеющихся у нас возможностей для развертывания разведывательной работы в разрезе заданий, данных в п. № 4 (1941 г.) и др. Указаний, и особенно по химии ОВ, защите от ОВ, вопросам бактериологии и проблеме урана-235. <…>
Над проблемой получения урана-235 и использования его как взрывчатого вещества для изготовления бомб огромной разрушительной силы в настоящее время очень усиленно работают в Англии, Германии и США и, по-видимому, проблема довольно близка к ее практическому разрешению. Этой проблемой нам необходимо заняться со всей серьезностью…
В Академии наук ничего не знали о материалах, которые получает разведка. Показателен диалог академиками и 2-м Управлением Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Красной армии, состоявшийся в мае 1942 года. В ГРУ были уверены, что в АН хорошо осведомлены об использовании за рубежом ядерной энергии в военных целях, и руководство разведки просит проинформировать, «имеет ли в настоящее время эта проблема реальную основу для практической разработки вопросов использования внутриядерной энергии, выделяющейся при цепной реакции урана». Им отвечает академик Хлопин:
Сообщаем, что Академия наук не располагает никакими данными о ходе работ в заграничных лабораториях по проблеме использования внутриатомной энергии, освобождающейся при делении урана. Мало того, за последний год в научной литературе, поскольку она нам доступна, почти совершенно не публикуются работы, связанные с решением этой проблемы. Это обстоятельство единственно, как мне кажется, дает основание думать, что соответствующим работам придается значение и они проводятся в секретном порядке. <…>
Если Разведывательное управление располагает какими-либо данными о работах по проблеме использования внутриатомной энергии урана в каких-нибудь институтах или лабораториях за границей, то мы просили бы сообщать эти данные в спецотдел АН СССР.
Другие ученые также были осторожны, когда с ними консультировались по поводу интереса западных ученых и политиков к атомной бомбе. В истории сохранился интересный эпизод. В апреле 1942 года полковник Илья Григорьевич Старинов встретился с помощником Сергея Кафтанова в Научно-техническом совете и передал ему записную книжку немецкого офицера, которая была найдена на южном берегу Таганрогской бухты Азовского моря. Записная книжка содержала список материалов, необходимых для создания атомной бомбы, и вычисления по выходу энергии, которая высвобождалась бы при критической массе урана-235. Старинов, офицер НКВД и специалист по минированию, получил записную книжку из штаба 56-й армии, но ничего не смог в ней понять. Книжку переслали Александру Ильичу Лейпунскому и генералу Георгию Иосифовичу Покровскому, эксперту по взрывчатым веществам, запрашивая, не думают ли они, что Советский Союз должен начать работу по созданию атомной бомбы. Оба ответили, что Советский Союз не должен этого делать, а Лейпунский даже приписал, что, когда страна находится в таком невероятно трудном положении, было бы ошибкой швырять миллионы рублей на проект, который даст результаты лишь через десять, а скорее пятнадцать – двадцать лет.
Но письмо Флёрова к Сталину, полученное Сергеем Кафтановым, свидетельствовало, что Лейпунский и Покровский могут ошибаться. Кафтанов все больше укреплялся в мнении, что работы над советским атомным проектом пора начинать. Позднее он вспоминал, что перед принятием столь важного решения консультировался с академиком Иоффе, которого он знал с конца 1920-х годов, и Иоффе согласился с тем, что создание атомной бомбы в принципе возможно. В результате Кафтанов послал короткое письмо в Государственный комитет обороны (ГКО), рекомендуя образовать ядерный исследовательский центр.
Тремя днями позже Кафтанова вызвали к Сталину. Высказанное им предложение было встречено скептически, но Кафтанов уверенно защищал его. Он признал, что существует риск неудачи, а проект может стоить от 20 до 100 миллионов рублей, но в случае отказа от работ опасность будет куда большей. И Сталин согласился «рискнуть». Точную дату этой встречи назвать невозможно, но представляется, что она состоялась еще до того, как Георгий Флёров был переведен в Москву с Юго-Западного фронта (в середине июля). К тому времени, писал впоследствии Флёров, решение возобновить ядерные исследования уже было принято.
После консультаций, в августе 1942 года, Флёров выехал в Казань, чтобы продолжить свои исследования по размножению нейтронов.
«Работа по урану»
27 сентября 1942 года Вячеслав Молотов представил Иосифу Сталину проект распоряжения «Об организации работ по урану». В нем отмечалось: «Академия наук, которой эта работа поручается, должна к 1 апреля 1943 года представить в Государственный Комитет Обороны доклад о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива».
Осенью Иоффе, Капица, Хлопин, Вавилов и Вернадский были вызваны в Москву для обсуждения целесообразности возобновления ядерных исследований. Изначально предполагалось, что проект возглавит академик Иоффе, но тот отклонил предложение, сославшись на возраст, и рекомендовал в качестве кандидатов на этот пост Игоря Курчатова и Абрама Алиханова. Курчатов, если верить Кафтанову, имел репутацию ученого, не способного сконцентрироваться на одном проекте, но его сильно поддерживал Иоффе. Алиханов, который уже был членом-корреспондентом Академии наук, как физик был известен лучше. Курчатов и Алиханов приехали в Москву 22 октября. По итогам собеседований Кафтанов всё-таки рекомендовал Курчатова на пост руководителя.
Курчатов вернулся в Казань 2 декабря, в тот самый день, когда Энрико Ферми запустил цепную ядерную реакцию в ядерном «котле» в Чикаго. Курчатов отрастил бороду, что сделало его похожим на священника. Когда друзья подшучивали над бородой, он говорил, что не сбреет ее, пока «фрицы не будут побиты». С тех пор за ним закрепилось прозвище Борода. Однако окончательного утверждения пришлось дожидаться – после дополнительных переговоров, консультаций, согласований докладов и докладных записок атомный советский проект все же стартовал, и 10 марта 1943 года Курчатов официально был назначен его научным руководителем.
Интересная историческая деталь. Решение начать работы над советским атомным проектом было принято во время битвы за Сталинград. Когда Игорь Курчатов 22 октября был вызван в Москву, Красная армия отчаянно пыталась удержать город. 19 ноября она начала контрнаступление с целью окружить и изолировать немецкие войска в Сталинграде. 2 февраля немецкие войска капитулировали. Советский план контрнаступления под Сталинградом имел кодовое название «Уран». Обычно его связывают с планетой Уран, но оно могло также означать и химический элемент уран. Юрий Сивинцев, автор одной из книг о Курчатове, полагал, что совпадение вряд ли можно считать случайным, если учесть, что в то же самое время, когда оно планировалось, было принято решение возобновить «работу по урану». Случайность или нет, но связь между этими двумя событиями нельзя полностью исключить. Победа под Сталинградом, ее стратегический вклад в победу над нацистской Германией означали появление новой мировой державы – Советского Союза, тогда как реализация независимого атомного проекта должна была обеспечить этой державе ключевую позицию в послевоенном мире.
В феврале 1943 года Игорь Курчатов еще не был стопроцентно уверен, что атомная бомба может быть создана. Он сказал Молотову, что многое пока под вопросом. И Молотов решил дать физику материалы по британскому атомному проекту, собранные разведчиками. Курчатов несколько дней в марте просидел в приемной у Молотова, изучая их. 7 марта он написал на основе прочитанного подробную памятку, разбив ее на три части.
Первая часть относилась к проблеме разделения изотопов. Советские ученые считали прежде, писал он, что центрифугирование – это наиболее эффективный метод разделения. Предпочтение, отдаваемое англичанами газовой диффузии, было неожиданным, но информация о работе англичан делала необходимым включение в советский план наряду с центрифугированием и газовой диффузии.
Вторая часть памятки касалась «проблемы ядерного взрыва и горения». Здесь самым интересным, по мнению Курчатова, было подтверждение того, что цепная реакция возможна в смеси урана и тяжелой воды. Советские ученые, писал Курчатов, пришли к выводу, что это невозможно. Проблема заключалась не в теоретических расчетах, выполненных Зельдовичем и Харитоном, а в данных, которые им пришлось использовать в расчетах. Из-за отсутствия мощных циклотронов и больших количеств тяжелой воды советские физики не сумели точно измерить сечение захвата тепловых нейтронов в тяжелом водороде. Теперь эксперименты, проведенные в Кембридже, показали возможность осуществления цепной реакции в уране с тяжелой водой.
Там же Курчатов коснулся проблематики альтернативного пути к атомной бомбе. «В части материала, посвященной проблеме ядерного взрыва и горения, – писал он, – содержатся очень важные замечания об использовании в качестве материала для бомбы элемента с массовым числом 239, который должен быть получен в урановом котле в результате поглощения нейтронов ураном-238».
В третьей части памятки Курчатов рассматривал физику процесса деления. Он был весьма удовлетворен тем, что Отто Фриш подтвердил существование спонтанного деления, открытого Флёровым и Петржаком. Из-за спонтанного деления невозможно, писал Курчатов, держать весь «бомбовый заряд урана» как единое целое. Уран должен быть разделен на две части, которые в момент взрыва должны соединиться с относительно высокой скоростью. «Этот способ приведения урановой бомбы в действие рассматривается в материале и для советских физиков также не является новым. Аналогичный прием был предложен нашим физиком Г. М. Флёровым; им была рассчитана необходимая скорость сближения обеих половин бомбы, причем полученные результаты хорошо согласуются с приведенными в материале».
В заключение Курчатов отметил, что материалы, с которыми он ознакомился, заставили его пересмотреть свои взгляды на многие вопросы и нацелиться на три новых направления исследований: разделение изотопов газовой диффузией, цепную реакцию в смеси с тяжелой водой и исследование характеристик трансурановых элементов. Из этих материалов следовало, что для решения урановой проблемы требуется значительно меньше времени, чем думали советские ученые. Кроме того, Курчатов подтвердил, что материалы подлинные и не рассчитаны на дезинформацию разведки. Хотя в материалах имеются некоторые сомнительные выводы, писал Курчатов, это связано, скорее всего, с ошибками британских ученых, а не с источником информации.
22 марта Курчатов написал еще одну памятную записку, которая стала основополагающим документом советского атомного проекта. В ней физик заявил: наиболее перспективен плутониевый путь к атомной бомбе. В этом случае можно обойти сложную проблему разделения изотопов. Однако советские ученые не будут иметь возможности изучить свойства элемента-94 до лета 1944 года, когда будут восстановлены и запущены советские циклотроны. Следовательно, очень важно узнать, что об этом элементе знают в США. Курчатов сформулировал четыре ключевых вопроса. Первый – делится ли элемент-94 быстрыми или медленными нейтронами? Второй – если делится, то каково сечение деления? Третий – подвержен ли элемент-94 спонтанному делению и каков период его полураспада? Четвертый – какие превращения претерпевает элемент-94 со временем? В дополнение Курчатов привел список американских лабораторий, где могли проводиться подобные работы. Список открывался Радиационной лабораторией в Беркли.
Новая памятка Курчатова попала Гайку Бадаловичу Овакимяну – заместителю начальника иностранного отдела Главного управления государственной безопасности НКВД, а тот поручил своим сотрудникам передать вопросы физика агентам за границей. Так начиналась сверхсекретная операция «Энормоз», призванная помочь советским физикам как можно быстрее создать атомную бомбу.
Лаборатория № 2
12 апреля 1943 года, выполняя решение Государственного Комитета Обороны, Академия наук приняла постановление о создании новой лаборатории под руководством Курчатова. Она стала известна как Лаборатория № 2. Находясь формально в составе Академии наук, Лаборатория № 2 подчинялась наркому химической промышленности Михаилу Георгиевичу Первухину, который должен был курировать работы от имени правительства. Сергей Кафтанов отошел на задний план.
Игорь Курчатов написал для Первухина доклад, озаглавленный «Протон, электрон и нейтрон», из которого тот мог получить основные сведения о структуре атомов. В следующем месяце физик составил более обширный доклад «Урановая проблема», где описал путь, пройденный от открытия радиоактивности к пониманию атомной структуры, и рассказал о разработке ускорителей частиц и их роли в ядерной физике. В этом докладе давался обзор представлений о цепной ядерной реакции по состоянию на июнь 1941 года, когда соответствующие исследования в СССР были прекращены. Курчатов лишь кратко остановился на атомной бомбе, упомянув, что цепная реакция на быстрых нейтронах в блоке урана-235 приведет к «взрыву исключительной силы». Но это будет зависеть, писал он, от «решения невероятно сложной технической задачи выделения большого количества этого изотопа из обычного урана». Потребуется по меньшей мере несколько килограммов чистого урана-235. Оценки критической массы лежат, отмечал Курчатов, в пределах от двух до сорока килограммов. В этом докладе Курчатов коротко коснулся и элемента-94, но по каким-то причинам не упомянул, что его можно использовать вместо урана-235 в качестве активного материала для бомбы.
Затем Курчатов встретился с Харитоном, Флёровым, Зельдовичем, Кикоиным, Алихановым и Лейпунским в Москве, чтобы принять коллективное решение о главных направлениях исследований. На себя он взял проектирование и постройку экспериментального реактора, производящего образцы элемента-94 для химического и физического анализа.
Первое решение, которое ему предстояло принять, заключалось в выборе типа сборки. В апрельском докладе Первухину он оценил, что для реактора потребуется 15 тонн тяжелой воды и 2 тонны природного урана, а для уран-графитовой системы – 500–1000 тонн графита и 50–100 тонн урана. К началу июля Курчатов выбрал в качестве замедлителя графит. Главная причина его выбора заключалась в том, что получить графит было легче, чем тяжелую воду: в Советском Союзе имелись электродные заводы, где производился графит, в то время как строительство завода по производству тяжелой воды в Чирчике (Таджикистан) так и не было завершено.
Курчатову не хватало урана для экспериментов. И все, что он мог на тот момент сделать, – это предложить теоретикам Лаборатории № 2 рассчитать конструкцию сборки. Исай Гуревич и Исаак Померанчук разработали теорию гетерогенной сборки, в которой урановые блоки распределялись в графитовом замедлителе в виде решетки. Такое размещение снижало вероятность резонансного поглощения нейтронов ураном-238, поскольку уменьшало возможность столкновения нейтронов с атомами урана-238 в процессе их замедления, когда вероятность поглощения была особенно велика. В январе 1944 года Померанчук разработал теорию экспоненциальных экспериментов, в которых ключевые измерения могли быть проделаны еще до окончания полной сборки реактора.
Курчатов знал, что для создания экспериментального реактора потребуются годы. В марте 1943 года он предложил Леониду Немёнову, который перед войной вел работы по циклотрону в институте Иоффе, завершить их и как можно скорее получить регистрируемые количества элемента-94. На это он дал Немёнову шестнадцать месяцев и отправил его и Петра Яковлевича Глазунова, инженера из института Иоффе, в Ленинград, чтобы разыскать там генератор, изготовленный для физтеховского циклотрона. Немёнов и Глазунов вылетели в Ленинград с письмами от Первухина к Андрею Александрович Жданову, секретарю ленинградского обкома. Там физики разыскали части конструкции циклотрона, подготовили генератор и выпрямитель к перевозке, извлекли из земли медные трубы и латунные шины, закопанные во дворе Физико-технического института перед эвакуацией его персонала в Казань. Они нашли даже 75-тонный электромагнит на заводе «Электросила», который находился всего лишь в трех километрах от линии фронта. С помощью солдат, присланных военным командованием, физики погрузили оборудование в два товарных вагона, чтобы транспортировать его в Москву.
По возвращении в столицу Немёнов начал собирать циклотрон. Сделать оставалось еще многое: спроектировать и изготовить ускорительную камеру, разработать систему охлаждения магнитных обмоток, изготовить поковки для магнита на московском заводе «Серп и молот». Наконец сборка циклотрона была завершена, и 25 сентября 1944 года, на два месяца позже назначенного Курчатовым срока, в циклотроне был получен пучок дейтронов. Немёнов сообщил об этом по телефону Курчатову, который находился на совещании у народного комиссара боеприпасов. Тот выехал посмотреть на циклотрон в действии и после этого привез всю группу, работавшую над циклотроном, к себе домой, чтобы отметить успех шампанским. На следующий день началось облучение уранил-нитрата. Полученный материал был передан для исследования в лабораторию Бориса Курчатова, младшего брата физика. Борис Курчатов выделил элемент-93 в первой половине 1944 года, а затем сосредоточился на элементе-94. Он поместил колбу с перекисью урана в сосуд с водой, служившей замедлителем, а в центре колбы расположил радиево-бериллиевый источник нейтронов, остававшийся там в течение трех месяцев. Затем он повторил процесс с облученным ураном и выделил препарат с альфа-активностью. Так в октябре 1944 года были получены следы наличия элемента-94 в экспериментальных образцах. Первые крупицы плутония из урана, облученного в циклотроне, Борис Курчатов выделил только в 1946 году. Кроме того, вопросами выделения плутония занималась группа Радиевого института под руководством академика Хлопина, к которому Игорь Курчатов испытывал определенный пиетет.
Разделение изотопов было также включено в план работ Лаборатории № 2, но за военные годы достижений было немного. Ответственным за эту часть проекта был назначен Исаак Кикоин. Он организовал исследования по различным методам разделения. Фриц Ланге продолжал свою работу над центрифугой, и в 1944 году они с Кикоиным изготовили в Лаборатории № 2 центрифугу пятиметровой длины. Однако она была слишком шумной в работе и развалилась при резонансной частоте вращения. Ланге переехал в Свердловск, а Кикоин сосредоточил свои усилия на методе газовой диффузии. В конце 1943 года Курчатов предложил Анатолию Александрову организовать исследования по термодиффузии. В 1944 году в лабораторию пришел Лев Арцимович, чтобы возглавить работу по электромагнитному разделению.
Лаборатория № 2 расширялась медленно. В распоряжение Курчатова предоставили сто московских прописок: для проживания в Москве требовалось специальное разрешение. Он также получил право демобилизовать людей из Красной армии. По мере разрастания лаборатории Курчатов присматривал для нее специальное место. Он нашел его в районе Покровское-Стрешнево, на северо-востоке города, вблизи Москвы-реки. Там уже начались работы по строительству нового здания Всесоюзного института экспериментальной медицины, и, поскольку площадка располагалась за городом, хватало места для последующего расширения лаборатории. Курчатов принял на свой баланс недостроенное здание, к нему были добавлены другие строения, и в апреле 1944 года Лаборатория № 2 переехала в новые помещения. На 25 апреля 1944 года в ее штате числилось 74 сотрудника, 25 из них были учеными мирового уровня.
Когда Курчатову предложили возглавить исследования по урановой проблеме, он сомневался, будет ли его авторитета достаточно для такой должности. Очередные выборы в Академию наук должны были происходить в сентябре 1943 года. Когда стало ясно, что на имевшуюся вакансию по отделению физических наук изберут Алиханова, Иоффе и Кафтанов обратились в правительство с просьбой предоставить дополнительную вакансию для Курчатова. Просьба была удовлетворена, и Курчатов стал академиком, минуя промежуточное звание члена-корреспондента. Избранию Курчатова воспротивились некоторые физики старшего поколения, такие как Френкель и Тамм, но решение правительства никто не решился оспорить.
Самой серьезной проблемой для Курчатова как руководителя конкретной темы было получение урана и графита для реактора. Весной 1943 года у него был только «пестрый набор небольших количеств разнородных, далеко не лучшей чистоты кустарных изделий в виде кусков урана и порошкового урана и его окислов» общей массой около двух тонн.
Первухин вызвал в Москву академика Хлопина, чтобы тот доложил об имеющихся государственных запасах, которые оказались весьма незначительными. Когда в ноябре 1940 года на заседании Урановой комиссии обсуждались результаты экспедиции в Среднюю Азию, то был сделан вывод, что к началу 1943 года можно будет извлекать ежегодно до 10 тонн урана. При таких темпах Игорю Курчатову понадобилось бы от пяти до десяти лет, чтобы получить уран в необходимом для его реактора количестве. После доклада Хлопина правительство дало задание Наркомату цветной металлургии как можно скорее получить 100 тонн чистого урана. В мае Курчатов попросил Институт редких и драгоценных металлов снабдить его разными соединениями урана и металлическим ураном, причем в каждом случае требовалась необычайно высокая химическая чистота. Однако первый слиток урана весом около килограмма был получен лишь в конце 1944 года.
В августе Игорь Курчатов просил Александра Ивановича Васина, помощника Первухина, помочь в получении графита. Вскоре 3,5 тонны графита были отгружены с Московского электродного завода. Графит, предназначавшийся для использования в качестве замедлителя, должен быть исключительно чистым. Испытания показали, что зольность и примеси бора в графите увеличивают сечение захвата нейтронов на порядки. Когда Курчатов стал настаивать на том, чтобы завод исключил примеси, ему сказали, что он требует невозможного. Пришлось решать проблему своими силами: с помощью физиков из Лаборатории № 2 завод разработал соответствующую технологию производства. В палатке во дворе лаборатории были проведены испытания по определению чистоты ряда партий графита. Только к началу осени 1945 года был получен графит требуемой чистоты.
Тогда советское правительство решило воспользоваться преимуществами военного союзника западных держав. Оно послало в Управление по ленд-лизу запрос на 10 килограммов металлического урана, 100 килограммов окиси урана и 100 килограммов нитрата урана. Генерал Лесли Гровс удовлетворил запрос из опасения, что отказ привлек бы внимание к американскому атомному проекту. Соединения урана были отправлены в Советский Союз в начале апреля 1943 года. Несмотря на предоставленную лицензию, закупочная комиссия не смогла найти на американском рынке 10 килограммов металлического урана и вынуждена была удовлетвориться килограммом загрязненного. Кроме того, в ноябре 1943 года СССР получил из Соединенных Штатов килограмм тяжелой воды, а затем, в феврале 1945 года, еще 100 граммов.
В 1943 году нескольким отделениям Академии наук было поручено провести поиски радиоактивных руд. Для координации разведывательных работ и составления рекомендаций создали постоянное консультативное бюро, в которое вошли академики Владимир Вернадский и Виталий Хлопин. В декабре было доложено о том, что залежи урана найдены в Киргизии. Однако прогресс шел медленно, так что в мае 1944 года Вернадский обратился к руководству Управления геологии с жалобой на невыполнение взятых обязательств по разведке урана. Реально же полевые экспедиции начали полномасштабную разведку в сентябре 1945 года, и центр внимания был перенесен на Ферганскую долину.
Игорь Курчатов был обескуражен темпами работы над проектом. 29 сентября 1944 года, спустя четыре дня после запуска циклотрона, он написал Лаврентию Берии, выразив свою озабоченность ходом дел:
В письме т. М. Г. Первухина и моем на Ваше имя мы сообщали о состоянии работ по проблеме урана и их колоссальном развитии за границей.
В течение последнего месяца я занимался предварительным изучением новых весьма обширных (3000 стр. текста) материалов, касающихся проблемы урана.
Это изучение еще раз показало, что вокруг этой проблемы за границей создана невиданная по масштабу в истории мировой науки концентрация научных и инженерно-технических сил, уже добившихся ценнейших результатов.
У нас же, несмотря на большой сдвиг в развитии работ по урану в 1943–1944 году, положение дел остается совершенно неудовлетворительным.
Особенно неблагополучно обстоит дело с сырьем и вопросами разделения. Работа Лаборатории № 2 недостаточно обеспечена материально-технической базой. Работы многих смежных организаций не получают нужного развития из-за отсутствия единого руководства и недооценки в этих организациях значения проблемы.
Зная Вашу исключительно большую занятость, я все же, ввиду исторического значения проблемы урана, решился побеспокоить Вас и просить Вас дать указания о такой организации работ, которая бы соответствовала возможностям и значению нашего Великого Государства в мировой культуре.
Курчатов прекрасно понимал, что главной причиной многочисленных проволочек было непризнание советским руководством решения урановой проблемы как задачи первостепенной важности. Особенно он был раздосадован тем, что «Манхэттенский проект» на годы опережает советских физиков. Курчатов лучше, чем кто-либо другой, сознавал, насколько это опасно, и надеялся найти поддержку в лице всесильных спецслужб. У него получилось.
Шпионские страсти
В конце 1942 года Пётр Иванов, сотрудник советского консульства в Сан-Франциско, попросил английского инженера Джорджа Элтентона, который ранее работал в Ленинградском институте химической физики, чтобы тот раздобыл информацию о работе Радиационной лаборатории в Беркли. Элтентон обратился за помощью к Хакону Шевалье, близкому другу Роберта Оппенгеймера, только что назначенного руководителем лаборатории в Лос-Аламосе. В начале 1943 года у Шевалье состоялся короткий разговор с Оппенгеймером, в ходе которого Шевалье сказал ему, что Элтентон мог бы передать информацию для Советского Союза. Оппенгеймер ответил, что он не хочет иметь ничего общего с подобными делами. Оно и понятно – служба контрразведки «Манхэттенского проекта» взялась за «ненадежных» и «подозрительных» всерьез.
Прорыв в поступлении разведывательных данных из США наступил, когда туда в декабре 1943 года прибыл Клаус Фукс (оперативный псевдоним «Отто»). Он был немецким коммунистом, а в 1933 году бежал в Великобританию. После начала войны его интернировали в лагерь для «нежелательных иностранцев», но в 1941 году как опытного физика-экспериментатора подключили к группе Рудольфа Пайерлса, которая в то время работала над уточнением критической массы урана и проблемой разделения изотопов. В конце того же года, несколько месяцев спустя после начала войны Германии против СССР, Фукс вышел на представителя советской разведки Семёна Давидовича Кремера (оперативный псевдоним – «Александр») и начал передавать ему сведения о британском атомном проекте.
После переезда в составе группы британских ядерщиков Клаус Фукс оставался в Нью-Йорке девять месяцев, разрабатывая теорию процесса газодиффузионного разделения изотопов. В январе 1944 года контроль над Фуксом перешел от ГРУ к Наркомату госбезопасности (НКГБ), возглавляемому Всеволодом Николаевичем Меркуловым. Тогда же спецслужбы приняли решение о целенаправленной координации деятельности своих разведок. В структуре НКГБ был создан отдел «С», которым руководил комиссар госбезопасности третьего ранга Павел Анатольевич Судоплатов. С этого момента результаты работы двух разведок по «Проблеме № 1» регулярно докладывались лично Лаврентию Берии.
Поначалу получить хоть какие-то данные о «Манхэттенском проекте» Фуксу было очень сложно. Он знал, что строится большой завод, но не знал, что строительство осуществляется в Ок-Ридже. Он передал своему новому курьеру, Гарри Голду (оперативный псевдоним «Раймонд»), общую информацию о технологиях разделения изотопов, но это было все. Как признался Фукс позже, в то время он «на самом деле еще ничего не знал ни о реакторном процессе, ни о роли плутония». Тем не менее благодаря полученной информации Игорь Курчатов узнал, что в США для получения урана-235 в больших масштабах выбран метод газовой диффузии. Он также получил представление о проекте завода и о трудностях, с которыми было сопряжено его строительство. Без сомнения, эти разведданные повлияли на решение Исаака Кикоина сконцентрировать усилия на работах по газовой диффузии, а не по центрифугированию. Решение оказалось ошибочным, ведь позднее выяснили, что центрифугирование является более эффективным методом.
Куда более существенную и достоверную информацию из США в то время передавал советский инженер-полковник шведского происхождения и резидент-нелегал Артур Александрович Адамс (оперативный псевдоним «Ахилл»). В 1935 году Адамс был принят на службу в ГРУ и после обучения направлен на нелегальную работу в Соединенные Штаты. В короткий срок он сумел легализоваться как гражданин Канады, радиоинженер по специальности и владелец фирмы «Технические лаборатории». Параллельно со своей легализацией Адамс создал агентурную сеть из более чем двадцати специалистов различных военно-промышленных предприятий США. Профессиональные действия Адамса позволили передать первую информацию в Москву уже через несколько месяцев после засылки.
Поздно вечером 21 января 1944 года Артур Адамс возвращался после очередной встречи с агентом «Эскулапом». От него разведчик получал материалы о ходе разработок новых типов боевых отравляющих веществ, а также образцы средств индивидуальной защиты. На встрече «Эскулап» сообщил Адамсу о том, что один из его старых друзей Мартин Кэмп (подлинное имя до сих пор неизвестно), сочувствующий Советскому Союзу, работает в лаборатории, которая занимается теорией атомной бомбы. Будучи инженером высокой квалификации, Адамс сразу понял особую значимость полученных сведений. Хотя Москва не ставила перед ним задачу сбора данных по атомному проекту, Адамс немедленно сообщил руководству о Мартине Кэмпе. Получив добро ГРУ, Адамс сам вышел на Кэмпа. Тот сразу согласился сотрудничать, но оговорил, что не будет шпионом в классическом понимании и не примет денег в оплату своих услуг, действуя исключительно в интересах всего мира, над которым нависает угроза «атомной монополии».
Следующая встреча советского разведчика с американским ученым состоялась 23 февраля, и Адамс получил от Кэмпа тяжелый портфель с документами о ходе исследований, проводимых в лаборатории. Кэмп попросил к утру возвратить ему все документы. Когда разведчик прибыл на конспиративную квартиру, хозяина которой предусмотрительно отправил к родственникам, то обнаружил в портфеле около тысячи страниц материалов. Там же лежали образцы чистого урана и бериллия. Несколько часов Адамс без отдыха фотографировал секретные инструкции и отчеты о ходе исследований.
В очередной сеанс радиосвязи Адамс направил в ГРУ донесение, в котором сообщал о полученных от Кэмпа материалах. Кроме того, в нарушение традиций он написал два личных послания своему начальству, которые приложил к документам, полученным от американского физика при отправке их через океан. В одном из них он, в частности, писал:
Не знаю, в какой степени Вы осведомлены о том, что здесь в США усиленно работают над проблемой использования энергии урания (не уверен, так ли по-русски называется этот элемент) для военных целей. Я лично недостаточно знаю молекулярную физику, чтобы Вам изложить подробно, в чем заключается задача этой работы, но могу доложить, что эта работа здесь находится в стадии технологического производства нового элемента – плутониума, который должен сыграть огромную роль в настоящей войне. Только физики уровня нашего академика Иоффе могут разобраться в направляемых Вам материалах.
Для характеристики того, какое внимание уделяется этой проблеме в США, могу указать следующее:
1. Секретный фонд в один миллиард долларов, находящийся в личном распоряжении Президента США, уже почти израсходован на исследовательскую работу и работу по созданию технологии производства названных раньше элементов. Шесть ученых с мировым именем – Ферми, Аллисон, Комптон, Урей, Оппенгеймер и другие (большинство имеет Нобелевские премии) стоят во главе этого атомного проекта.
2. Тысячи инженеров и техников заняты в этой работе. Сотни высококвалифицированных врачей изучают влияние радиоактивного излучения на человеческий организм. В университетах, где были сконцентрированы исследовательские работы (Чикагский, Колумбийский и др.), построены огромные здания специально для этих работ. Специальная комиссия, состоящая из наивысших военных чинов и ученых, руководит этими работами.
3. Три основных метода производства плутониума применялись в первоначальной стадии исследования: диффузионный метод, массо-спектрометрический метод и метод атомной трансмутации. По-видимому, последний метод дал более положительные результаты. Это важно знать нашим ученым, если у нас кто-нибудь ведет работу в этой области, потому что здесь затратили более ста миллионов долларов, раньше чем установили, какой из этих методов более пригоден для практического производства этого нового элемента в количествах, могущих оказать влияние на ход текущей войны. Созданы новые химические и физические организации по производству ряда вспомогательного оборудования и материалов. Так, например, производство тяжелой воды, которая раньше была лабораторной редкостью, теперь нужна в количествах сотен тонн. Ураний и бериллий высокой чистоты нужны в количествах тысяч тонн. В числе посылаемых материалов имеются спецификации на все материалы, идущие в процесс производства. Пилотный завод в 700 киловатт производит один миллиграмм плутония в день. Первая большая установка в 50 000 киловатт будет пущена 1 мая с. г., и подачу продукта предполагают начать в сентябре. В стадии строительства находятся несколько заводов, и все они размещены в районах крупного производства электроэнергии (штаты Миссисипи, Новая Мексика и др.). Уран добывается в Канаде.
4. Мой источник – специалист высокой квалификации. Он был бы еще более полезен нам, если бы с ним могли бы встретиться наши физики и химики. Если возможности подобного производства у нас имеются, то мы должны немедленно использовать мою связь и послать сюда минимум два человека, знающих язык, тему или предмет. Сначала нужно в срочном порядке, а не в порядке очередности ознакомиться с посылаемым мною материалом. Это огромная работа. Это только начало. Я буду несколько раз получать от него материал. В первой оказии около 1000 страниц. Материал совершенно секретный. <…>
5. Мой источник сообщил, что уже проектируется снаряд, который будет сброшен на землю. Своим излучением и ударной волной этот взрыв уничтожит все живое в районе сотен миль. Он не желал бы, чтобы такой снаряд был сброшен на землю нашей страны. Это проектируется полное уничтожение Японии, но нет гарантии, что наши союзники не попытаются оказать влияние и на нас, когда в их распоряжении будет оружие. Никакие противосредства не известны исследователям, занятым в этой работе. Нам нужно также иметь такое оружие, и мы теперь имеем возможность получить достаточно данных, чтобы вести самим работы в этом направлении. <…>
Я считаю, что практичные американцы, при всей их расточительности, не тратили бы таких огромных человеческих ресурсов наивысшей квалификации и гигантских средств на не обещающую результатов работу. <…>
6. Посылаю образцы ураниума и бериллиума.
Материалы, добытые Артуром Адамсом, прибыли в Москву в июне 1944 года. Резолюции на письмах разведчика были короткими: «Материал срочно обработать и направить тов. Первухину». Понятно, что они практически сразу были переданы Игорю Курчатову, который после изучения дал им высочайшую оценку.
На следующей встрече с Мартином Кэмпом разведчик получил еще 2500 страниц закрытых материалов по атомному проекту и новые образцы, а затем еще около 1500 страниц. О том, какой объем документов пересылался Адамсом, говорит следующий документ:
Народному Комиссару
химической промышленности СССР
Тов. Первухину
В дополнение к № 036 cc от 26 июня 1944 г. направляю Вам добытые агентурным путем совершенно секретные материалы научно-исследовательских учреждений США по вопросу использования энергии урана для военных целей и связанных с этим разработкам атомного уран-графитового котла и другой аппаратуры.
По получении этих материалов прошу сообщить оценку, а также перечень вопросов, требующих дальнейшего освещения. <…>
Приложение:
1. Материалы – на 3869 листах;
2. Опись – на 7 листах.
Начальник ГРУ Красной Армии
Генерал-лейтенант Ильичёв
8 августа 1944 года
В сентябре Мартин Кэмп на встречу не прибыл. Разведчик не смог увидеть его и в октябре. Адамс понял, что с физиком что-то случилось. Через месяц он был вынужден обратиться за помощью к «Эскулапу», попросив своего проверенного агента навестить Кэмпа. В итоге «Эскулап» сообщил, что их общий знакомый тяжело болен, причем его недуг неизвестен медицине. Кэмп, как и другие ученые, еще не знал, что работа с радиоактивными веществами очень опасна для здоровья человека. Вскоре и сам Артур Адамс был вынужден покинуть США, спасаясь от сотрудников ФБР, которые все-таки сумели его вычислить.
Условную «эстафету» в разведывательной деятельности немедленно подхватил глубоко законспирированный нелегал Георгий (Жорж) Абрамович Коваль (оперативный псевдоним «Дельмар»). Когда в 1943 году Коваля как «законопослушного гражданина» призвали в американскую армию, он благодаря своему образованию попал на специальные курсы, где готовили технически подкованную молодежь на объектах по производству радиоактивных материалов. В августе 1944 года Коваль завершил обучение на курсах и был направлен на службу в Ок-Ридж. Он оказался в самом сердце американского атомного проекта, вокруг которого генерал Лесли Гровс создал настоящую «мертвую зону».
Перед отъездом Коваль встретился со своим резидентом (оперативный псевдоним «Фарадей») и доложил о назначении. Разведчики обсудили условия связи. Они были просты – как только представится возможность, Коваль сообщит о себе и своей работе. Были предусмотрены и условия для передачи информации об объекте, которая, как предполагали разведчики, должна была представить интерес.
То, что Коваль увидел в Ок-Ридже, его потрясло. В закрытом городе работали несколько десятков тысяч ученых, инженеров, технических специалистов, полицейских, агентов ФБР и военной контрразведки. В 1943 году военная разведка благодаря Клаусу Фуксу уже знала о существовании в США лабораторий по ядерным исследованиям в Лос-Аламосе и Чикаго, а Ок-Ридж оставался тайной за семью печатями.
Через полгода Коваль получил первый отпуск. Это позволило ему покинуть Ок-Ридж и увидеться с «Фарадеем». После встречи в Москву была направлена срочная радиограмма, в которой докладывалось о проектах Ок-Риджа. Информация Коваля была очень важной: военной разведке стало точно известно местонахождение атомного города, существование которого тщательно скрывалось американцами. Даже Клаус Фукс, который занимался разработкой математического аппарата газодиффузионного процесса и решением технологических проблем строившегося комплекса в Ок-Ридже, ни разу в самом городе не был.
От Коваля стало известно, что в Ок-Ридже производится обогащенный уран и плутоний, что этот объект разделен на три основных литерных сектора: К-25, Y-12 и Х-10. «Дельмар» работал на предприятии Х-10, где находилась в эксплуатации секретная установка по производству плутония. Коваль был радиометристом и поэтому имел доступ в разные отделы предприятия. Всё, что делалось в секторах К-25 и Y-12, ему тоже было известно. Он смотрел на американские эксперименты глазами дипломированного специалиста, который умел выделять самое главное.
Последующие встречи с «Дельмаром» проводил советский разведчик, действовавший под оперативным псевдонимом «Клайд». Таких встреч было несколько. В частности, Коваль сообщал о том, что обогащенный уран и плутоний, производившиеся в Ок-Ридже, под усиленной охраной отправляются военными самолетами на другой секретный объект, находящийся в Лос-Аламосе.
В начале 1945 года Коваля перевели на новое место службы – в лабораторию в городе Дейтон (штат Огайо), которая выполняла большой объем специальных исследований, связанных с американским атомным проектом. Он даже получил повышение по службе. Сведения Коваля немедленно передавались в Москву.
Помимо Жоржа Коваля на советскую разведку работало еще несколько физиков. Среди них выделялся вундеркинд Теодор Холл (оперативный псевдоним «Млад»). В 14 лет он был принят в Колумбийский университет, в 16 лет – в Гарвард. Там он получил ученую степень в 18 лет, через год был принят в «Манхэттенский проект». Он сам из чистого идеализма начал искать контакты с советской разведкой. В октябре 1944 года, во время своей поездки в Нью-Йорк, он встретился с военным журналистом Сергеем Николаевичем и передал ему отчет об ученых, которые работали в Лос-Аламосе, условиях работы и краткие сведения о плутониевой бомбе «Толстяк». После этого Холл стал передавать сверхсекретную информацию о Лос-Аламосе до осени 1946 года, когда уехал в Чикаго для получения степени доктора наук в области физики. Самые важные сведения, переданные им, касаются имплозии – способа детонации атомной бомбы. Холл также сумел сообщить дату первого ядерного испытания. Много позже американским дешифровщикам удалось расшифровать перехваченные радиопередачи из советских консульств, и Теодор Холл был разоблачен. Однако предавать суду его не стали, поскольку деятельность по расшифровке советских сообщений, известная ныне как проект «Венона», до 1995 года оставалась сверхсекретной, а ее существование отрицалось на всех уровнях.
На основе поступающих в Москву разведывательных материалов об атомном проекте готовились донесения на имя Павла Судоплатова. Из отдела «С» в обезличенном виде они направлялись Игорю Курчатову, который анализировал их, давал оценку, а затем излагал полученные из-за границы идеи на совещаниях физиков. Долгое время коллеги и подчиненные Курчатова полагали, что он выдает оригинальные идеи самостоятельно или консультируется у какого-то авторитетного физика. Они и предположить не могли, что к нему стекается информация прямиком из «Манхэттенского проекта».
Эскизы бомбы
Группу физиков и инженеров для работы непосредственно над конструкцией атомной бомбы Игорь Курчатов начал собирать в 1943 году. Возглавить ее он предложил Юлию Харитону. Тот вначале отказался, так как хотел продолжать работу по минному и противотанковому оружию, но Курчатов настаивал и сказал ему следующее: «Нельзя упускать время, победа будет за нами, а мы должны заботиться и о будущей безопасности страны». Харитон согласился присоединиться к проекту, продолжая в то же время работать для Наркомата боеприпасов.
Группа по созданию бомбы делала все что могла для изучения условий, при которых происходит взрывная ценная реакция в уране-235 и в плутонии, но она испытывала явные затруднения из-за отсутствия конкретных данных. Были проведены эксперименты по изучению «пушечного» метода подрыва бомбы. Инженер-механик Владимир Иосифович Меркин построил стенд с двумя ружьями, стреляющими друг в друга, и разработал методику высокоскоростного фотографирования столкновения двух пуль. Позднее в небольшом сарае, возведенном вблизи Лаборатории № 2, подобные эксперименты были проведены с 76-миллиметровыми орудиями.
В первые месяцы 1945 года, после получения информации из Соединенных Штатов, группа по созданию бомбы изменила направление работы. В августе 1944 года Клаус Фукс был направлен в Лос-Аламос. В это время там пришли к выводу, что «пушечный» метод получения сверхкритической массы не сработает в случае плутония. Детонация плутониевой бомбы оказалась самой трудной технической проблемой, с которой столкнулись исследователи. Фукс решал трудную задачу, связанную с расчетом имплозии, и поэтому оказался в центре поисков нового подхода к конструкции бомбы. В феврале 1945 года, когда он навещал свою сестру, жившую в Бостоне, он передал Гарри Голду сообщение о конструкции атомной бомбы. По признанию Фукса, сделанному впоследствии, он «сообщил о высокой скорости спонтанного деления плутония и о заключении, что в плутониевой бомбе для ее детонации должен использоваться метод имплозии, а не более простой пушечный метод, который мог быть применен для урана-235». Это были крайне важные сведения, и когда Фукс снова встретился с Голдом, он дополнил их более детальной информацией.
Во время их следующей встречи, состоявшейся в Санта-Фе в июне 1945 года, Фукс передал Голду отчет, который он написал в Лос-Аламосе, сверяя свои выкладки с достоверными данными. В этом отчете Фукс исчерпывающе описал плутониевую бомбу, которая к этому времени была сконструирована и должна была пройти испытания под кодовым названием «Тринити». Он также представил набросок конструкции бомбы и ее элементов, привел все важнейшие размеры. Он сообщил, что бомба имеет твердую сердцевину из плутония, описал полониевый запал, привел все сведения об отражателе, алюминиевой оболочке и о системе взрывных линз. Фукс информировал Голда, что на испытаниях «Тринити», как ожидается, произойдет взрыв, эквивалентный взрыву 10 000 тонн тринитротолуола. В своем сообщении он упомянул, что, если испытания окажутся успешными, существуют планы применения бомбы против Японии.
Хотя советские физики только недавно услышали об имплозии, им сразу стали ясны ее преимущества перед «пушечным» методом. Разведка добыла очень ценные данные о распространении волны детонации во взрывчатке и о процессе сжатия активного материала. В тех же сообщениях указывалось, как может быть достигнута симметрия имплозии и как можно избежать неравномерного действия взрывчатки соответствующим распределением детонаторов и чередованием слоев различных сортов обычной взрывчатки.
Со своей стороны Лаврентий Павлович Берия прилагал значительные усилия, чтобы дать физикам дефицитный уран в необходимых для сборки реактор количествах. 3 декабря 1944 года ГКО принял постановление «О неотложных мерах по обеспечению развертывания работ, проводимых Лабораторией № 2 Академии наук СССР», в котором были намечены пути решения самых острых проблем. На НКВД в соответствии с этим постановлением было возложено проведение всех строительных и дорожных работ для Лаборатории № 2. Была официально определена и роль Берии в советском атомном проекте: на него возложили наблюдение за разведкой и добычей урана. Следующим постановлением от 8 декабря, озаглавленным «О мероприятиях по обеспечению развития добычи и переработки урановых руд», определялся конкретный фронт работ структур Наркомата внутренних дел в задаче обеспечения атомного проекта. Вот некоторые выдержки из него:
1. Возложить на НКВД СССР:
а) разведку урановых месторождений Табошар, Уйгур-Сай, Майли-Су, Тюя-Муюн и Адрасман, а также доразведку других урановых месторождений, которые будут передаваться НКВД СССР для эксплуатации в дальнейшем;
б) добычу и переработку урановых руд из указанных месторождений;
в) строительство и эксплуатацию рудников и обогатительных фабрик на существующих и вновь открываемых урановых месторождениях;
г) строительство и эксплуатацию заводов по переработке урановых руд и концентратов;
д) разработку технологии наиболее рационального передела урановых руд на химические соединения и технологии получения из них металлического урана.
2. Обязать Наркомцветмет (т. Ломако) не позднее 1 января 1945 г. передать НКВД СССР:
а) рудники и месторождения урановых руд Табошар, Уйгур-Сай, Майли-Су, Адрасман и Тюя-Муюн;
б) завод «В» и Ленинабадский завод;
в) геолого-разведочные партии Наркомцветмета на урановых месторождениях, передаваемых НКВД СССР, со всем наличным <…> персоналом, сооружениями, имуществом, оборудованием, транспортом, фондами, а также материалами и оборудованием (включая импортное и союзное), находящимися в пути или в изготовлении. <…>
3. Обязать НКВД СССР (т. Завенягина) к 1 февраля 1945 г. представить на утверждение Государственного комитета обороны предложения на 1945 год по планам добычи урановых руд, производства урана и строительства урановых рудников и заводов.
4. Поручить НКВД СССР (т. Завенягину) совместно с Наркомчерметом (т. Тевосяном) выяснить вопрос о возможности совместной добычи урана и ванадия, а также о размерах возможной добычи урана из месторождений Кара-Тау и представить в ГКО к 1 февраля 1945 г. свои предложения.
5. Возложить на Наркомцветмет попутную добычу урановых концентратов на эксплуатируемых Наркомцветметом комплексных месторождениях цветных и редких металлов со сдачей этих концентратов НКВД СССР по плану, утверждаемому для каждого месторождения Государственным комитетом обороны.
6. В целях обеспечения надлежащего руководства разведками, добычей и переработкой урановых руд организовать в составе Главного управления лагерей горно-металлургических предприятий НКВД СССР Управление по урану – «Спецметуправление НКВД СССР» со штатом в 40 человек.
7. Обязать НКВД СССР (т. Берия):
а) организовать в системе НКВД СССР научно-исследовательский институт по урану, присвоив ему наименование «Институт специальных металлов НКВД» (Инспецмет НКВД).
Возложить на Инспецмет НКВД изучение сырьевых ресурсов урана и разработку методов добычи и переработки урановых руд на урановые соединения и металлический уран;
б) построить в районе Москвы завод по производству урановых соединений и металлического урана.
Таким образом, в соответствии с этим постановлением все урановые предприятия Наркомцвета СССР перешли в ведение НКВД СССР. 6 января 1945 года Берия подписал приказ о порядке реализации постановления ГКО. Основным исполнителем всех работ по урану стало Главное управление лагерей горнометаллургических предприятий (ГУЛГМП). В его составе было образовано Управление специальных металлов (разведка, добыча и переработка урана) со штатом 40 человек. Заместителем начальника и главным инженером Спецметуправления НКВД этим приказом был назначен инженер-полковник Семён Петрович Александров. Начальником Спецметуправления НКВД 12 марта 1945 года был назначен комиссар госбезопасности Сергей Егорович Егоров, а 28 июня Спецметуправление переименовывается в 9-е управление НКВД СССР.
Приказ от 6 января предписывал также организовать в системе Спецметуправления научно-исследовательский институт по урану, присвоив ему наименование «Институт специальных металлов НКВД СССР (Инспецмет НКВД СССР)», который в последующем получил название НИИ-9 НКВД СССР. Его задачей было изучение сырьевых ресурсов и разработка методов добычи и переработки урановых руд на урановые соединения и металлический уран. ГУЛГМП было обязано также построить в районе Москвы завод по производству урановых соединений и металлического урана, присвоив ему наименование «Завод № 5 НКВД СССР». Начальником института № 9 и завода № 5 стал инженер-полковник Виктор Борисович Шевченко.
Реорганизация, конечно, была определенным шагом вперед. В то же время видно, что принятое решение было лишь промежуточным, что эффективной государственной системы реализации атомного проекта в результате проведенной реформы создано фактически не было. Берия приложил немало усилий, чтобы придать проекту динамику, однако все же был необходим специальный правительственный орган, который в условиях командно-административной системы координировал бы усилия всех звеньев народного хозяйства, направленные на создание ядерного оружия. Некоторые возложенные на Наркомат внутренних дел задачи явно не соответствовали его профилю. Например, трудно было ожидать, что среди сотрудников НКВД найдется достаточно компетентных специалистов, готовых работать в «урановом» НИИ-9. Частные реорганизации, переименования, переподчинения и всевозможные кадровые перестановки также не способствовали успеху.
Продвижение советских войск в Центральной Европе создало давало новые возможности для реализации атомного проекта. В конце марта 1945 году чехословацкое правительство в изгнании, возглавляемое Эдвардом Бенешем, возвращаясь в Прагу, переехало из Лондона в Москву. Во время его пребывания в Москве было подписано секретное соглашение, дававшее Советскому Союзу право добычи в Чехословакии урановой руды. Урановые шахты в Яхимове (Йоахимстале) вблизи границы с Саксонией в начале столетия были главным мировым источником урана. Перед Второй мировой войной они давали около 20 тонн оксида урана в год. Правительство Бенеша, вероятно, ничего не знало о том, какое значение приобрел уран, и легко согласилось поставить советским друзьям весь его запас, имеющийся в Чехословакии, и в будущем поставлять добываемую урановую руду только в СССР.
Доступ к чехословацкому урану был важен, но еще большую выгоду можно было ожидать от оккупации Германии. 5 мая Игорь Курчатов направил Лаврентию Берии записку следующего содержания:
Последняя полученная нами информация о работе за границей показывает, что в настоящее время в Америке уже работает 6 уран-графитовых котлов, в каждом из которых заложено около 30 тонн металлического урана.
Два из этих котлов используются для научных исследований, а четыре, наиболее мощные, – для получения плутония.
В той же информации указано, что толчок тем грандиозным работам по урану, которые сейчас проводятся в Америке, был дан получением из Германии отчетов об успехах в области котлов «уран – тяжелая вода».
В связи с этим я считаю совершенно необходимой срочную поездку в Берлин группы научных работников Лаборатории № 2 Академии наук СССР <…> для выяснения на месте результатов научной работы, вывоза урана, тяжелой воды и др. металлов, а также для опроса ученых Германии, занимавшихся ураном.
Реакция Берии была мгновенной. Еще не стихли раскаты боев, не подписан акт о капитуляции Германии, а 7 мая на место вылетел заместитель члена ГКО Василий Алексеевич Махнёв с группой сотрудников НКВД и Лаборатории № 2. Руководством работ группы занимался генерал-лейтенант Авраамий Павлович Завенягин, один из заместителей Берии. В ее состав входили двадцать четыре видных физика, включая Арцимовича, Зельдовича, Кикоина, Немёнова, Харитона и Флёрова. Все они для конспирации и представительности были переодеты в военную форму.
Советские ученые вскоре обнаружили, что из германской ядерной физики много извлечь не получится. Их немецкие коллеги не выделили уран-235, не создали работоспособный реактор, не сумели разобраться в принципах построения атомной бомбы. Советская группа, однако, обнаружила, что ведущие немецкие ядерщики, среди которых были Отто Ган и Вернер Гейзенберг, попали на Запад. Десять известнейших физиков англичане интернировали в имение Фарм-Холл, вблизи Кембриджа.
Впрочем, некоторые немецкие ученые решили не бежать на Запад. Среди них был барон-изобретатель Манфред фон Арденне, у которого была частная лаборатория в Берлин-Лихтерфельде и который создал прототип устройства для электромагнитного разделения изотопов. Другим физиком был нобелевский лауреат Густав Герц, который разрабатывал газодиффузионный метод разделения изотопов. С советскими оккупационными властями согласились сотрудничать петербуржец Николай Риль и химик Макс Фольмер. Немецкие ученые были перевезены в Советский Союз в мае и июне 1945 года вместе с оборудованием из их лабораторий.
Однако не немецкие ученые или их оборудование, а немецкий уран стал главной находкой советской миссии. Юлию Харитону и Исааку Кикоину удалось в результате тщательного расследования отыскать спрятанное сокровище – сто тонн оксида урана. Впоследствии американская разведка установила, что в конце войны Советский Союз получил в Германии и в Чехословакии около 340 тонн оксида урана.
В мае 1945 года, после капитуляции Германии, Михаил Первухин и Игорь Курчатов настаивали перед Политбюро ЦК ВКП(б) на том, что работы над атомным проектом должны быть ускорены. Об ответе на их обращение нет никаких данных. Сталин и Молотов были хорошо информированы о «Манхэттенском проекте», но не проявили никакой заинтересованности в расширении советских работ. Почему? Одно из объяснений заключается в том, что они не могли полностью доверять сообщениям разведки. С самого начала возникло подозрение, что противник пытается втянуть Советский Союз в громадные траты средств на работы, которые не имеют четкой перспективы. Подозрения накладывались и на своеобразное отношение Сталина к инициативам Берии: вождь всегда очень настороженно воспринимал любую деятельность своего наркома, которая усиливала бы авторитет последнего, и в особенности если она касалась военной тематики.
Каковы бы ни были причины, сегодня ясно одно. Несмотря на сообщения Клауса Фукса и Теодора Холла о том, что США планируют испытать бомбу в середине июля и, если испытания окажутся успешными, применить ее против Японии, ни Иосиф Сталин, ни его правительство не понимали той роли, которую предстояло сыграть атомной бомбе в международных отношениях.
Атомная дипломатия
16 июля 1945 года Соединенные Штаты испытали плутониевую бомбу типа «Толстяк» в пустыне Аламогордо в штате Нью-Мексико. Взрыв оказался сильнее, чем ожидалось: он был эквивалентен взрыву свыше двадцати тысяч тонн тринитротолуола.
Испытание, названное «Тринити», состоялось за день до открытия Потсдамской конференции, на которой Иосиф Сталин, Гарри Трумэн и Уинстон Черчилль должны были обсудить послевоенное устройство мира. Вечером 16 июля военный министр Генри Стимсон, который присутствовал в Потсдаме, получил из Вашингтона телеграмму, извещавшую, что испытание было успешным. Через пять дней пришел и детальный отчет от генерала Лесли Гровса. Стимсон лично прочитал его Трумэну, который остался чрезвычайно доволен.
На следующее утро Стимсон передал доклад премьер-министру Черчиллю, который воскликнул после чтения: «Это – второе пришествие!» Теперь пришло время проинформировать о бомбе Сталина. 24 июля, после пленарного заседания, Трумэн подошел к советскому вождю как раз в тот момент, когда тот собирался покинуть зал заседаний. Трумэн небрежно бросил ему: «У нас есть новое оружие необычайной разрушительной силы», при этом не уточнив, что речь идет об атомной бомбе. Сталин поблагодарил за информацию.
Трумэн и Черчилль были убеждены: Сталин не понял, что имелось в виду. Вероятно, они ошибались. Сталин был наслышан о «Манхэттенском проекте» от того же Берии и знал, что первые испытания назначены на июль. Возможно, он догадался, что имел в виду Трумэн, если и не сразу, то очень скоро после этого разговора. Маршал Георгий Константинович Жуков вспоминал в своих мемуарах:
Вернувшись с заседания, И. В. Сталин в моем присутствии рассказал В. М. Молотову о состоявшемся разговоре с Г. Трумэном. В. М. Молотов тут же сказал: «Цену себе набивают». И. В. Сталин рассмеялся: «Пусть набивают. Надо будет сегодня же переговорить с Курчатовым об ускорении нашей работы». Я понял, что речь шла о создании атомной бомбы.
Итак, Сталин понял, что Трумэн говорит именно об атомной бомбе. Менее ясно, понимал ли он глобальное значение слов американского президента. Есть две возможности. Первая – он еще не видел существенной угрозы, исходящей от бомбы. Вторая – наоборот, только теперь Сталин и ощутил, каким важным фактором становится атомная бомба в международных отношениях. И в том и в другом случае реакция Сталина была бы одинаковой. Его невозмутимость могла указывать и на некоторую недооценку слов Трумэна, но это могла быть и сознательная попытка скрыть озабоченность. Так или иначе, влияние американской атомной бомбы на советскую политику стало очевидным только после Хиросимы.
Официальная реакция СССР на уничтожение Хиросимы была сдержанной. «Известия» и «Правда» напечатали короткое сообщение ТАСС, в котором излагалось заявление Трумэна о том, что на Хиросиму была сброшена атомная бомба огромной разрушительной силы. В нем также говорилось, что Англия и Соединенные Штаты совместно работали над бомбой с начала 1940 годов, и передавался комментарий Трумэна, что при полном развертывании проекта в нем было задействовано 125 тысяч человек. Цитировалось предупреждение Трумэна, что Соединенные Штаты могут полностью уничтожить японский военный потенциал. Сообщалось также о планах учреждения Комиссии по атомной энергии и по принятию мер, которые обеспечивали бы использование атомной энергии для сохранения мира во всем мире.
На правительство Хиросима произвела более сильный эффект, чем можно было судить по советской прессе. Светлана Аллилуева, дочь Сталина, посетив дачу отца на следующий день после бомбардировки Хиросимы, обнаружила у него посетителей. «Они сообщили ему, что американцы сбросили свою первую атомную бомбу на Японию. Каждый был озабочен этим, и мой отец обращал на меня мало внимания».
Журналист Александр Верт высказался еще более эмоционально:
Новость повергла всех в крайне депрессивное состояние. Со всей очевидностью стало ясно, что в политике мировых держав появился новый фактор, что бомба представляет угрозу для России, и некоторые российские пессимисты, с которыми я разговаривал в тот день, мрачно замечали, что отчаянно трудная победа над Германией оказалась теперь, по существу, напрасной.
Поздним вечером 8 августа, после того как Советский Союз объявил войну Японии, Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов приняли в Кремле американских дипломатов Аверелла Гарримана и Джорджа Кеннана. Сталин сказал им, что советские войска только что вступили в Маньчжурию и быстро продвигаются в глубь вражеской территории. Когда Гарриман спросил советского вождя, что тот думает об эффекте, который окажет на японцев атомная бомба, Сталин ответил, что «он думает, что японцы в настоящий момент ищут предлог для смены существующего правительства таким, которое было бы способно согласиться на капитуляцию. Бомба могла бы дать им такой предлог». Кроме того, Сталин доверительно сообщил, что советские ученые пытаются сделать атомную бомбу, но еще не добились успеха. В Германии они обнаружили лабораторию, где немецкие физики, очевидно, работали над атомной бомбой, но без ощутимого успеха. «Если бы они добились своего, – сказал Сталин, – Гитлер никогда бы не капитулировал». Гарриман ответил, что для создания своей бомбы Англия объединила усилия с Соединенными Штатами, но, чтобы довести проект до завершения, потребовалось создание огромных установок и затраты в два миллиарда долларов. При этом он добавил по поводу бомбы, что, «если бы не взрывать ее, а использовать как гарантию мира, это было бы великолепно». Сталин согласился и сказал, что «это положило бы конец войнам и агрессорам. Но секрет нужно было бы сохранить».
Хотя может показаться, что Сталин в разговоре с Гарриманом раскрыл все карты, в действительности он беседовал очень осторожно. Он не выказал и намека на раздражение тем, что союзники по антигитлеровской коалиции не информировали его о своем атомном проекте, не подал виду, что сильно встревожен тем, что США монопольно обладают новым оружием массового поражения. При этом за кулисами Иосиф Сталин предпринял немедленные шаги, чтобы поставить советский атомный проект на новую основу. В середине августа он провел совещание с Игорем Курчатовым и генерал-полковником Борисом Львовичем Ванниковым, возглавлявшим Народный комиссариат боеприпасов. Ванников вспоминал: «Сталин вкратце остановился на атомной политике США и затем повел разговор об организации работ по использованию атомной энергии и созданию атомной бомбы у нас в СССР». Сталин упомянул о предложении Лаврентия Берии возложить все руководство на НКВД и заявил: «Такое предложение заслуживает внимания. В НКВД имеются крупные строительные и монтажные организации, которые располагают значительной армией строительных рабочих, хорошими квалифицированными специалистами, руководителями. НКВД также располагает разветвленной сетью местных органов, а также сетью организаций на железной дороге и на водном транспорте». На совещании было принято предварительное решение о создании Специального комитета для руководства «всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана», который должен был возглавить Берия.
Соответствующие указания были даны и разведке. 22 августа руководитель ГРУ в Москве телеграфировал полковнику Николаю Ивановичу Заботину (оперативный псевдоним «Грант»), занимавшему должность военного атташе в Канаде: «Примите меры для организации получения документальных материалов по атомной бомбе! Технические процессы, чертежи, расчеты». Другие резиденты, несомненно, получили похожие инструкции. 23 августа Михаил Иванович Иванов, консул советского посольства в Токио, прибыл в Хиросиму, чтобы собственными глазами увидеть масштаб разрушений, вызванных атомной бомбой. В сентябре из посольства поступили доклад и подборка статей из японской прессы с описанием последствий атомных бомбардировок. Этот материал был направлен Сталину, Берии и членам советского правительства.
Но Сталин надеялся на то, что ему удастся некоторое время игнорировать атомную угрозу. 16 августа он написал Трумэну, предлагая, чтобы советские войска приняли капитуляцию японских войск в северной части острова Хоккайдо. Это обстоятельство имело бы особое значение для общественного мнения в СССР, писал он, так как японские войска оккупировали советский Дальний Восток в начале 1920-х годов. Двумя днями позже Трумэн ответил, отклонив эту просьбу и повторив, что японские войска капитулируют перед Соединенными Штатами на всех главных островах Японии, включая Хоккайдо. Сталин отменил приказ о захвате Хоккайдо, тогда как операции по оккупации Южных Курил был дан ход. Приказ, отменяющий нападение, гласил: «Во избежание создания конфликтов и недоразумений в отношении союзников категорически запретить посылать какие бы то ни было корабли и самолеты в сторону о. Хоккайдо». Сталин решил удовлетвориться закреплением уступок, которых он добился в Ялте.
Теперь Сталин окончательно убедился, что в международных отношениях появился новый фактор, и Гарри Трумэн как президент страны, обладающей атомным оружием, может вести политический диалог более уверенно, чем прежде. Бомба была важна и в более широком контексте: баланс сил, который сложился в конце Второй мировой войны, был явным образом нарушен. Хиросима показала мощь бомбы и американскую готовность применить ее. Сталин хотел восстановить равновесие как можно скорее. Физики сказали ему, что это займет пять лет, а до тех пор Соединенные Штаты будут обладать атомной монополией. В течение этого времени, полагал Сталин, американцы используют ее, чтобы навязать свои планы Европе и Советскому Союзу. Вождь собирался воспрепятствовать этим далеко идущим планам.
Под контролем Берии
20 августа 1945 года Государственным Комитетом Обороны был учрежден Специальный комитет по атомной бомбе. Его, как и ожидалось, в качестве председателя возглавил Лаврентий Павлович Берия. Из влиятельных политиков в состав Спецкомитета вошли также Георгий Максимилианович Маленков и Николай Алексеевич Вознесенский. Членами комитета стали три руководителя промышленности – Борис Львович Ванников, Авраамий Павлович Завенягин и Михаил Георгиевич Первухин, а также двое ученых – Игорь Васильевич Курчатов и Пётр Леонидович Капица. В его состав вошел также генерал Василий Алексеевич Махнёв, возглавивший секретариат. Спецкомитет принимал наиболее важные решения по атомному проекту: в частности, рассматривал предложения Ванникова и Курчатова, готовил документы на подпись Сталину. Предполагалось, что Берия будет еженедельно докладывать Сталину о развитии работ по проекту.
Для непосредственного руководства проектом были учреждены еще две организации. Первое Главное управление при Совете народных комиссаров отвечало за проектирование и строительство шахт, промышленных предприятий и исследовательских организаций атомной промышленности. Во главе управления встал Ванников, а Завенягин, Первухин и несколько других руководителей были его заместителями. В составе Первого Главного управления был учрежден Научно-технический совет (иногда называемый Техническим советом), его тоже возглавлял Ванников, а Первухин, Завенягин и Курчатов были назначены его заместителями.
Лаврентий Берия осуществлял свою работу не только через эти организации. Он имел своих представителей, известных как «уполномоченные Совета народных комиссаров», на каждом предприятии и в каждом научном учреждении, связанном с атомным проектом. Они сообщали Берии обо всем происходящем. Некоторые из них помогали директорам предприятий; присутствие других таило скрытую угрозу.
В расширенный урановый проект вливался поток не только офицеров НКВД, но и руководителей промышленности. Ванников, Завенягин и Первухин были весьма компетентными людьми. Подобно другим начальникам, привлеченным к проекту, они играли главную роль в превращении Советского Союза в индустриальную державу. В 1930-е годы они служили политике, лозунгом которой было «Догнать и перегнать Запад». Теперь перед ними стояла, казалось бы, такая же задача, но она была невероятно трудна.
Борис Ванников находился в смятении от возложенной на него ответственности. Он должен был организовать совершенно новую отрасль промышленности, опираясь на то, что говорили ему ученые, хотя он и не понимал, что они говорили. В начале сентября 1945 года он сказал Василию Емельянову, которого только что просил стать его заместителем в Первом Главном управлении:
Вчера сидел с физиками и радиохимиками из Радиевого института. Пока мы говорим на разных языках. Даже точнее, они говорят, а я только глазами моргаю: слова будто бы и русские, но слышу я их впервые, не мой лексикон. <…> Мы, инженеры, привыкли всё руками потрогать и своими глазами увидеть, в крайнем случае микроскоп поможет. Но здесь и он бессилен. Атом все равно не разглядишь, а тем более то, что внутри него спрятано. А ведь мы должны на основе этого невидимого и неощутимого заводские агрегаты построить, промышленное производство организовать.
Игорю Курчатову пришлось срочно организовать семинары, в задачи которых входило объяснение существа атомных проблем руководителям промышленности. На одном из таких семинаров Исаак Кикоин сделал доклад о разделении изотопов. Когда он закончил, Вячеслав Малышев, один из руководителей промышленности, обернулся к Емельянову и спросил: «Ты что-нибудь понял?» Емельянов шепнул ему, что понял мало, после чего Малышев вздохнул и признался, что он практически ничего не понял. Курчатов догадался об этом и начал задавать Кикоину вопросы таким образом, чтобы ответы на них были понятны руководителям промышленности.
«Манхэттенский проект» завершился успехом, и у Советского Союза была обширная информация о нем. На советские технические решения существенно повлияло то, что сделали американцы. Об этом свидетельствует выбор методов разделения изотопов, но еще в большей степени – конструкция первой советской атомной бомбы. В июне 1945 года Клаус Фукс передал подробности о плутониевой бомбе типа «Толстяк»: перечень компонентов и материалов, из которых она была сделана, все важнейшие размеры и набросок конструкции. Дополнительную информацию он передал в сентябре, а 18 октября Меркулов послал Берии пакет документации, в которой детально описывалась бомба. Юлий Харитон позднее охарактеризовал полученную информацию как достаточную для того, чтобы компетентный инженер смог воспроизвести чертежи бомбы.
Изучив данные, переданные Фуксом, Курчатов и Харитон решили использовать их при конструировании первой советской атомной бомбы. Сталин хотел получить ее как можно скорее, поэтому имело смысл воспользоваться американской конструкцией, ведь ее описание было под рукой. Конечно, все, что указывалось в сообщении, следовало проверить: проделать те же расчеты, провести всю теоретическую и экспериментальную работу.
Не всем нравилось то, как были организованы работы по реализации проекта. 3 октября 1945 года Пётр Капица направил Иосифу Сталину письмо, в котором просил позволить ему выйти из состава Спецкомитета из-за «недопустимого» отношения Берии к ученым. Впрочем, по мнению Капицы, предметом разногласий были не хорошие манеры, а более важный момент, касающийся положения ученых в обществе. «Было время, – писал Капица, – когда рядом с императором стоял патриарх, тогда церковь была носителем культуры. Церковь отживает, патриархи вышли в тираж, но в стране без идейных руководителей не обойтись». Только наука и ученые, по мнению Капицы, могли бы стать фундаментом технического, экономического и политического прогресса. «Поэтому уже пора товарищам типа тов. Берия начать учиться уважению к ученым». Пока еще не пришло время «тесного и плодотворного сотрудничества политических сил с учеными», – заключал Капица. И так как он не мог быть патриархом, то предпочел бы «в монахах посидеть» и уйти из Спецкомитета.
Сталин не ответил. 25 ноября Капица написал снова, изложив более полно свои критические замечания по организации работ. Путь к созданию атомной бомбы, который был выбран, писал он, не самый быстрый и дешевый. США потратили два миллиарда долларов, чтобы создать самое мощное оружие войны и разрушения, что соответствует примерно тридцати миллиардам рублей. Советский Союз вряд ли сможет понести такое бремя в ближайшие два-три года, во время восстановления народного хозяйства. Советский Союз имеет только одно преимущество, писал Капица, он знает, что бомбу можно сделать, тогда как американцы шли на риск. Но советская промышленность слабее, она исковеркана и разрушена войной, в СССР меньше ученых, а условия их труда хуже, американская научная база и индустрия научного приборостроения сильнее. Эти препятствия не означают, что Советский Союз должен сложить оружие. «Хоть и тяжеловато будет, – писал Капица, – но, во всяком случае, попробовать надо скоро и дешево создать А[томную] Б[омбу]. Но не таким путем, как мы идем сейчас, он совсем безалаберен и без плана. <…> Мы хотим перепробовать все, что делали американцы, а не пытаемся идти своим путем. Мы позабыли, что идти американским путем нам не по карману и долго».
В качестве альтернативы Пётр Капица предложил свой собственный подход. Следует составить двухлетнюю программу исследований, направленных на поиск более дешевого и быстрого пути создания бомбы. За это время необходимо подготовить индустриальную базу. Научная база в этот период также должна быть усилена за счет улучшения благосостояния ученых, повышения уровня высшего образования и организации производства приборов и химических реактивов. Ученые и инженеры с большим энтузиазмом занимаются проблемами, связанными с бомбой, писал Капица, но этот энтузиазм нужно использовать должным образом. Главнокомандующий, который хочет взять крепость, может получать множество советов, как это сделать, но он не станет приказывать генералам штурмовать крепость по своему усмотрению. Он должен выбрать один план и одного генерала, который его выполнит. Вот каким образом Советский Союз должен решать проблему создания бомбы: сконцентрировать все свои усилия на узком участке фронта и на верно выбранном направлении.
Очень резко Капица критиковал руководство атомного проекта: «Товарищи Берия, Маленков и Вознесенский ведут себя в Спецкомитете как сверхчеловеки. В особенности тов. Берия. Правда, у него дирижерская палочка в руках. Это неплохо, но вслед за ним первую скрипку все же должен играть ученый. Ведь скрипач дает тон всему оркестру. У тов. Берия основная слабость в том, что дирижер должен не только махать палочкой, но и понимать партитуру. С этим у Берия слабо».
В конце своего ноябрьского письма Капица добавил постскриптум: «Мне хотелось бы, чтобы тов. Берия познакомился с этим письмом, ведь это не донос, а полезная критика. Я бы сам ему все это сказал, да увидеться с ним очень хлопотно». Когда Берия увидел письмо, он позвонил Капице по телефону и попросил его приехать. Ученый отказался, сказав: «Если вы хотите поговорить со мной, то приезжайте в институт». Берия приехал и привез Капице в подарок двуствольное ружье. Впрочем, Капица и Берия не смогли преодолеть разногласий, и 19 декабря физик ушел из атомного проекта.
25 января 1946 года Сталин вызвал к себе Курчатова. Их встреча длилась час и проходила в присутствии Молотова и Берии. Хотя имеются свидетельства, что Сталин и Курчатов встречались раньше, в 1943 году и в августе 1945 года, эта встреча была первой, о которой имеются документальные свидетельства. Курчатов сделал несколько записей после разговора. Его главным впечатлением, писал он, была «большая любовь т. Сталина к России и В. И. Ленину, о котором он говорил в связи с его большой надеждой на развитие науки в нашей стране».
На встрече Сталин отверг выдвинутые Капицей аргументы в пользу того, что Советский Союз должен попытаться найти свой особый путь к атомной бомбе. Он сказал Курчатову, что «не стоит заниматься мелкими работами, а необходимо вести их широко, с русским размахом, что в этом отношении будет оказана самая широкая всемерная помощь». Сталин говорил также, что он позаботится об улучшении условий жизни ученых и о наградах за достигнутые ими успехи. Сталин подчеркнул, что самым главным является «решающее» продвижение атомного проекта. Курчатову было дано задание составить перечень мер, необходимых для ускорения дела, назвать, какие еще ученые нужны для работы по реализации проекта.
9 февраля 1946 года, две недели спустя после встречи с Курчатовым, Сталин произнес речь в Большом театре, в которой подчеркнул важность науки. «Я не сомневаюсь, – сказал он, – что, если мы окажем должную помощь нашим ученым, они сумеют не только догнать, но и превзойти в ближайшее время достижения науки за пределами нашей страны».
Реактор Курчатова
Советский атомный проект напоминал крупнейшие строительные проекты 1930-х годов – возведение Магнитогорска и Днепростроя. Героическое предприятие, на которое нужно было мобилизовать ресурсы всей страны, включая лучших ученых и руководителей производства, а также заключенных ГУЛАГа.
Нет достоверных данных о стоимости проекта или о числе вовлеченных в него людей. Некоторое представление о масштабах дает, однако, доклад Центрального разведывательного управления США, в котором число занятых в советском атомном проекте оценивается в пределах от 330 до 460 тысяч человек. Большинство из них, от 255 до 361 тысяч, работало в горнодобывающей промышленности, 50–60 тысяч человек были заняты в строительстве, 20–30 тысяч – на производстве, и 5–8 тысяч занимались исследованиями. Хотя оценки американцев носят приблизительный характер, они выглядят правдоподобными.
Первая проблема состояла в том, чтобы найти уран. Ее решение уже нельзя было откладывать. Она усугублялась еще и тем, что Соединенными Штатами и Великобританией в июне 1944 года с целью контроля над мировыми запасами урана и тория был учрежден «Объединенный трест развития», возглавляемый Лесли Гровсом. Гровс полагал, что Советский Союз не сможет получить достаточное количество урана для своего проекта из шахт в Чехословакии, и был намерен препятствовать получению урана из других источников. Его оценка оказалась ошибочной. В 1947 году советские и восточноевропейские рудники добыли свыше 100 тонн оксида урана, а в следующем году резко нарастили добычу.
Задача получения металлического урана была поставлена перед немецким физиком Николаем Рилем. Его привезли в Москву в июне 1945 года, и бывший петербуржец сразу приступил к работе. Под производство чистого урана Авраамий Завенягин выбрал Электросталь – город, расположенный в семидесяти километрах к востоку от Москвы. Там был завод боеприпасов № 12, а также мастерские, электростанция, большая автобаза, высококвалифицированные рабочие. Риль был обрадован таким выбором, считая, что работать будет там легче, чем в столице. С урановой обогатительной фабрики в Ораниенбурге было демонтировано и вывезены в Электросталь все оборудование, пережившее американские бомбардировки. В четвертом квартале 1945 года при активном участии немецких специалистов завод № 12 выпустил первую партию металлического урана массой 137 килограммов, о чем было немедленно доложено Сталину.
Тем не менее производство чистого урана в промышленных масштабах оказалось трудной задачей. К концу 1945 года завод был готов лишь частично, и строительство явно не укладывалось в сроки, установленные правительством. Атмосфера становилась напряженной и неприятной, и в начале 1946 года на завод прибыл сам Завенягин для инспекции и стимуляции работ. Обстановка нормализовалась после того, как группе Риля удалось получить несколько тонн двуокиси урана достаточной чистоты для экспериментов, которые хотел провести Игорь Курчатов. А к октябрю 1946 года завод № 12 давал Лаборатории № 2 около трех тонн металлического урана в неделю.
Следующим шагом на пути к бомбе был экспериментальный реактор Ф-1 (первый физический), создание которого планировалось Игорем Курчатовым с начала 1943 года. Хотя зона ответственности, лежавшей на нем, резко возросла после августа 1945 года, Курчатов продолжал руководить строительством реактора. При этом численность его группы заметно увеличилась: с одиннадцати человек в январе 1946 года до семидесяти шести – в декабре.
Летом 1946 года из Электростали в Лабораторию № 2 начали поступать большие партии металлического урана. Вскоре физики обнаружили, что часть урана содержит повышенную концентрацию бора. Борис Ванников поехал в Электросталь разбираться с проблемой. Его тон в разговорах с заводскими руководителями был вежливым, но угрожающим, и проблема была вскоре решена. Если бы примесь не была выявлена, реактор не достиг бы критичности, поскольку бор является сильным поглотителем нейтронов.
К июлю 1946 года на территории Лаборатории № 2 было построено специальное здание для реактора размером 15 Ч 40 метров; из соображений секретности его называли в документах «монтажными мастерскими». Сам реактор собирали в шахте глубиной 7 метров, окруженной мощными бетонными стенами и толстым слоем земли и песка. Вход в реактор походил на лабиринт из блоков свинца, парафина и борной кислоты. Две независимые подстанции давали электрический ток, необходимый для управления реактором. Измерение уровня радиации осуществлялось системой дозиметров, установленных внутри и снаружи здания.
Как и первый американский реактор, построенный под руководством Энрико Ферми, в реакторе Ф-1 использовались металлический уран с природным содержанием изотопа уран-235 (около 0,7 %) и графит в качестве замедлителя. Кадмиевые стержни управляли потоком нейтронов. Реактор не имел системы охлаждения, поэтому длительная работа на сколько-нибудь большой мощности была невозможна.
Курчатов решил продвигаться к расчетному диаметру «котла», составлявшему около 6 метров, шажками, начав с небольшой модели. Первая уран-графитовая сферическая сборка имела диаметр 1,8 метра, а предпоследняя, четвертая – 5,6 метра. Все работы вручную выполнял коллектив так называемого Сектора № 1 численностью тридцать человек, среди которых около четверти составляли женщины. Сотрудникам пришлось пять раз собирать и разбирать сферу. Графитовые призмы и урановые блоки таскали на руках, а ведь в совокупности это несколько сотен тонн! Иногда в такелажных работах принимал участие и сам Игорь Курчатов.
В ноябре 1946 года началась сборка самого реактора. Для этого послойно укладывали графитовые брикеты размером 100Ч100Ч600 миллиметров с тремя цилиндрическими отверстиями, в которые вставляли урановые блоки. 20 декабря, когда к реактору был добавлен пятьдесят восьмой слой, стало ясно, что критичность будет достигнута гораздо раньше, чем при расчетных семидесяти шести. Теперь Курчатов и его коллеги действовали очень осторожно. Днем 25 декабря был добавлен шестьдесят второй слой. Курчатов попросил всех, кто не был непосредственно занят измерениями, покинуть здание. Он сам и пять человек из его группы остались. В 18.00 реактор, управляемый Курчатовым, достиг критичности, и впервые в Советском Союзе (да и во всей Европе) была получена цепная ядерная реакция. Курчатов оставался за пультом управления всю ночь и поднял мощность реактора до 100 ватт, прежде чем заглушить его.
Как только реактор был запущен, некоторые из Сектора № 1 поспешили к «монтажным мастерским», чтобы увидеть сам процесс. «Это был для всех нас волнующий и радостный вечер, – писал один из присутствующих. – Сдержанно, как то позволяла рабочая обстановка, но тепло и искренне мы поздравляли друг друга с необычным и особенным Рождеством». Игорь Курчатов был счастлив. «Атомная энергия, – сказал он торжественным тоном, – теперь подчинена воле советского человека!»
Об успешном пуске котла Курчатов сразу же сообщил Лаврентию Берии. Тот, не очень доверяя ученым и желая перед докладом Сталину убедиться во всем своими глазами, попросил Курчатова на следующий день еще раз запустить ядерную реакцию в его присутствии. Пуск «котла», естественно, повторили.
В исходном варианте Ф-1 содержал 35 тонн чистого урана и 436 тонн чистого графита. Затем сборку увеличили, чтобы поднять мощность. В реакторе Ф-1 были получены значительные (так называемые «весовые») количества плутония. Блоки, в которых часть урана-238 превратилась в плутоний, доставили в НИИ-9, находившийся под руководством Андрея Анатольевича Бочвара. Сотрудники института выделили новый элемент и приступили к исследованиям его ядерных и физико-химических свойств, без чего невозможно было сконструировать атомную бомбу.
Чтобы наработать необходимое химикам количество плутония, реактор нужно было хотя бы периодически выводить на мощность в несколько сотен киловатт. Но поскольку серьезной биологической защиты у него не было, около здания отмечался очень высокий радиационный фон. Поэтому во время работы на форсированном режиме реактором управляли из помещения, расположенного на расстоянии около 500 метров, а на крыше «монтажных мастерских» загорался большой красный фонарь, предупреждавший сотрудников Лаборатории № 2 об опасности.
Даже когда практическая надобность в реакторе Ф-1 отпала, его решили не разбирать, как это сделали американцы с первым реактором Ферми. Ветеран продолжает работать на старом месте, и благодаря высокой стабильности нейтронного потока его используют в качестве эталона для обучения студентов-физиков и для калибровки аппаратуры, используемой на реакторах новых атомных электростанций. Согласно расчетам, Ф-1 способен проработать еще 700 лет.
Опыт эксплуатации Ф-1 позволил приступить к строительству на Урале промышленного «котла» А-1 («Аннушка») мощностью 100 тысяч киловатт («Строительство № 859»). Место, в пятнадцати километрах к востоку от города Кыштыма и в восьмидесяти километрах к северо-западу от Челябинска, было выбрано Авраамием Завенягиным в самом конце 1945 года. Он хорошо знал этот район, поскольку, став депутатом в декабре 1937 года, представлял Кыштымский округ в Верховном Совете. Новый комбинат был назван Челябинск-40 в соответствии с практикой давать секретным заводам название близлежащего города и номер почтового ящика. Он должен был стать советским эквивалентом американского комплекса в Хэнфорде.
Челябинск-40 (впоследствии получивший название Озёрск) был возведен на необычайно красивой территории среди озер, гор и лесов. Место имело также и практические преимущества: поблизости были озера Иртяш и Кызылтяш, содержащие огромные запасы воды, которая необходима для охлаждения реактора; в районе была отличная по тем временам линия электропередачи; район прилегал к железной дороге и шоссе, был близок к индустриальным центрам Урала, которые могли обеспечить комбинат материалами; он располагался внутри страны и был менее уязвим для нападения вражеской авиации. В первые месяцы 1946 году там были проложены новые подъездные дороги и подготовлена площадка для строительства; рытье котлованов под фундаменты началось летом. Завенягин поставил во главе строительства генерал-майора Якова Давидовича Рапопорта, который в 1930-е годы был одним из ответственных за строительство Беломорско-Балтийского канала. Та стройка вошла в историю трагической страницей из-за неоправданной гибели свыше десяти тысяч заключенных, работавших на ней. Челябинск-40 также строился заключенными, причем одновременно работало не менее 70 тысяч человек.
Осенью 1946 года был заложен фундамент для главного здания реактора, и к концу 1947 года оно было готово. К этому времени физики получили достаточное количество материалов для И-1. Курчатов и Ванников приехали в Челябинск-40 в начале 1948 года для наблюдения за сборкой реактора. Сборка реактора началась в начале марта. Перед этим Курчатов произнес прочувствованную речь:
Здесь, дорогие мои друзья, наша сила, наша мирная жизнь на долгие-долгие годы. Мы с вами закладываем промышленность не на год, не на два <…> на века. «Здесь будет город заложен назло надменному соседу». Надменных соседей еще хватает, к сожалению. Вот им назло и будет заложен! Со временем в нашем с вами городе будет все – детские сады, прекрасные магазины, свой театр, свой, если хотите, симфонический оркестр! А лет так через тридцать дети ваши, рожденные здесь, возьмут в свои руки все то, что мы сделали. И наши успехи померкнут перед их успехами. Наш размах померкнет перед их размахом. И если за это время над головами людей не взорвется ни одна урановая бомба, мы с вами можем быть счастливы! И город наш тогда станет памятником миру. Разве не стоит для этого жить?..
К концу мая сборка реактора была в основном завершена, а первый запуск состоялся 18 июня 1948 года. В июле реактор начал работать согласно плану производства плутония, но возникли неожиданные проблемы. Началась сильная коррозия алюминиевой оболочки топливных стержней. Еще более серьезной проблемой стало разбухание топливных стержней и возникновение складок и выступов на поверхности урана – стержни застревали в охлаждающих трубах. Представители Берии заподозрили саботаж, но Курчатов заявил, что вполне можно ожидать сюрпризов в поведении материалов в сильных нейтронных полях. Реактор нужно было заглушить, уран вынуть и исследовать, а образовавшийся плутоний извлечь. В проекте реактора сделали изменения, и все проблемы были решены.
Вторым элементом атомного проекта в Челябинске-40 был «объект Б» – радиохимический завод, где плутоний выделялся из урана, облученного в реакторе. Завод по выделению плутония был готов в декабре 1948 года и начал производить этот элемент в начале следующего года. Вместе с ним был построен «объект С» – хранилище радиоактивных отходов, ставшее печально известным вследствие аварии 1957 года.
Третьей составляющей Челябинска-40 был «объект В» – химико-металлургический завод, где выделенный плутоний очищали и перерабатывали в металл для бомб. Первый «продукт» (концентрат плутония, предварительно очищенный от основной массы урана и продуктов деления) поступил на переработку 26 февраля 1949 года. Растворы привозили на машине в металлических контейнерах, затем разливали в «стаканы». Освоение процесса шло трудно: с радиохимического завода часто приходил некондиционный продукт, большое количество примесей осложняло процесс очистки.
Физик Лия Павловна Сохина, работавшая на «объекте В», вспоминала:
Анализируя начало работы атомного предприятия спустя десятки лет, можно определенно сказать, что если реакторное производство и металлургию плутония освоили и подняли мужчины (женщин-физиков и металлургов было мало), то химическую технологию выделения плутония из облученных урановых блоков и очистку плутония до спектрально чистого состояния вынесли на своих плечах в основном женщины, молодые девушки. При этом надо сказать, что на химиках лежала самая неблагодарная, самая «грязная» и вредная работа.
Нередко на рабочие места аппаратчиков становились сами ученые, стараясь вникнуть в суть возникающих проблем. Неожиданности подстерегали на каждом шагу: то оксалат плутония начинал гореть пламенем в сушильном шкафу, то осадки пироксида разлагались с выбросом раствора из «стакана». Тем не менее к июню 1949 года на заводе было накоплено достаточно плутония для изготовления первой атомной бомбы.
Расширение комбината в Челябинске-40 не прекращалось и после создания бомбы. В сентябре 1950 года вступил в строй второй уран-графитовый реактор, за ним запустили еще два аналогичных реактора в апреле 1951 года и сентябре 1952 года. В январе 1952 года был запущен небольшой реактор для получения изотопов. Тогда же был построен реактор на тяжелой воде.
Одновременно со строительством в Челябинске-40 были выбраны площадки под газодиффузионный и электромагнитный комбинаты для обогащения урана.
Первый («Комбинат № 813», «Завод Д-1») должен был строиться на Среднем Урале, около Невьянска, примерно в пятидесяти километрах к северу от Свердловска; ему дали кодовое название Свердловск-44 (ныне город Новоуральск).
Второй («Завод № 814», «База № 9») возводили на Северном Урале, в Северной Туре, он был назван Свердловск-45 (ныне город Лесной). Научными руководителями этих двух заводов были назначены Исаак Кикоин и Лев Арцимович.
Однако там дела не шли гладко. Строительство электромагнитного завода в Свердловске-45 закончилось в 1948 году. Когда он начал производство, в конце последнего каскада вообще не оказалось конечного продукта, и даже в 1949 году степень обогащения изотопом уран-235 достигала только 40 % – намного меньше требуемых для бомбы 90 %. Уран, обогащенный до 40 %, был привезен в Лабораторию № 2, и после месяца круглосуточной работы Лев Арцимович и его группа, используя экспериментальную установку, получила 400 граммов урана, обогащенного до 92–98 %.
В ноябре 1949 года немецким ученым поручили помочь в доработке газодиффузионного процесса. Шесть физиков были привезены в Свердловск-44. На следующий день после их прибытия Ванников и Кикоин ознакомили ученых с возникшими трудностями. Исаак Кикоин объяснил, что завод не достиг ожидаемого уровня обогащения – получено только 50–60 % вместо требуемых 90 % и выше. Кроме того, сказал он, большая часть гексафторида урана в процессе диффузии вообще исчезает. Возможно, дело в коррозии, но химический анализ не мог показать, почему теряется уран. Немцы, однако, оказались не в состоянии помочь. Берия прибыл на завод и дал Кикоину и его коллегам три месяца для решения проблемы. В конце концов было обнаружено, что уран теряется внутри компрессоров: их роторы имели арматуру из многослойного железа, внутренние слои были влажными и реагировали с гексафторидом урана. Группа Кикоина устранила проблему и начала получать высокообогащенный оружейный уран.
Командно-административная система оказалась способной мобилизовать ресурсы в огромном масштабе и направить их на атомный проект. Сталин и Берия приняли дорогостоящую стратегию нескольких альтернативных путей к бомбе. Принципу избыточности следовали почти во всех частях проекта: плутоний и уран-235, графитовый и тяжеловодный реакторы, газодиффузионное и электромагнитное разделение изотопов. Выбор именно такой стратегии означает, что главным для Сталина было время.
«Россия делает сама»
Клаус Фукс в июне 1945 года передал детальное описание плутониевой бомбы, но Юлий Харитон и его сотрудники стремились проверить всё сами, потому что не могли быть полностью уверены в достоверности полученных сведений. Для изучения метода имплозии они должны были выполнить многократные эксперименты с высокоэффективными взрывчатыми материалами, а этого нельзя было сделать в Лаборатории № 2, расположенной на окраине Москвы. Поэтому Курчатов решил организовать филиал в местности, достаточно отдаленной от столицы, где можно было бы спокойно заняться работами по проектированию и изготовлению бомбы.
Возглавил новую организацию Юлий Харитон, при этом он не пожелал возложить на себя обязанности по административному руководству, чтобы не упускать возможность полностью сконцентрироваться на решении научно-технических задач. По совету Курчатова он обратился к Лаврентию Берии, который назначил на должность административного директора генерал-майора Павла Михайловича Зернова – заместителя народного комиссара танковой промышленности. До этого Зернов и Харитон не знали друг друга, но между ними сразу установились хорошие деловые отношения.
Борис Ванников предложил им осмотреть некоторые заводы по производству боеприпасов – в поисках подходящего места для размещения новой организации, которая позднее стала известна как Конструкторское бюро № 11 (КБ-11) при Лаборатории № 2 АН СССР. В апреле 1946 года Зернов и Харитон побывали в небольшом поселке Сарове, расположенном на границе Горьковской области и Мордовской автономной республики. Население Сарова составляло около трех тысяч человек; там находилась небольшая фабрика № 550, выпускавшая в годы войны снаряды для реактивных установок залпового огня «БМ» («катюша»).
Существенным преимуществом Сарова было то, что этот поселок располагался на краю большого лесного заказника; это позволяло расширять площади для проведения работ. Кроме того, место располагалось на достаточном удалении от основных путей сообщения, что было важно с точки зрения секретности, но было и не слишком далеко от Москвы. Поселок, быстро превратившийся в небольшой производственный центр атомного проекта, стал известен как Арзамас-16 – по городу Арзамасу, расположенному в шестидесяти километрах севернее. Иногда его называли «Волжское бюро», а также, по понятным причинам, «Лос-Арзамасом».
В центре Сарова находились остатки православного монастыря, расцвет которого пришелся на XVIII и XIX века. Причисленный к лику святых Серафим Саровский, известный своим аскетизмом и милосердием, жил здесь около пятидесяти лет, вплоть до своей кончины в 1833 году. Саровский монастырь был закрыт коммунистами в 1927 году. Когда Харитон и его группа приехали туда, в поселке еще сохранилось несколько церквей со строениями, в которых находились кельи монахов. Именно в этих кельях и были оборудованы первые лаборатории. Заключенные из располагавшегося неподалеку исправительно-трудового лагеря построили новые лабораторные корпуса и жилые дома.
В отличие от них, ученым и инженерам, поселившимся в охраняемой зоне, были обеспечены привилегированные условия жизни. Они были защищены от ужасных экономических условий, в которых жила остальная разоренная войной страна. Арзамас-16, в сравнении с полуголодной Москвой, представлялся курортом. Сотрудники проекта, как вспоминал один из участников работ Лев Владимирович Альтшулер, «жили очень хорошо. <…> Ведущим сотрудникам платили очень большую по тем временам зарплату. Никакой нужды наши семьи не испытывали. И снабжение было совсем другое. Так что все материальные вопросы сразу же были сняты».
Наряду с имевшимися привилегиями работа ученых-ядерщиков проходила в обстановке строгой секретности и придирчивого контроля со стороны органов госбезопасности. Арзамас-16 был отрезан от остального мира. Зона площадью в 250 квадратных километров была окружена колючей проволокой; в первые годы было трудно получить разрешение хотя бы на время покинуть ее. Разумеется, физики могли говорить о своей работе только с теми, кто был к ней допущен, и не имели возможности публиковать какие-либо материалы о своих достижениях. Отчеты писались вручную, так как не доверяли даже машинисткам. Если всё же документы приходилось печатать, как это было, например, с техническим заданием для первой атомной бомбы, то ключевые слова вписывались в текст лично конструкторами. Вместо научных терминов в лабораторных записях использовались кодовые слова. Так, например, нейтроны назывались «нулевыми точками». При этом информация строго разграничивалась. В 1949 году, во время первого визита будущего академика Андрея Дмитриевича Сахарова в Арзамас-16, Яков Зельдович сказал ему: «Тут кругом все секретно, и чем меньше вы будете знать лишнего, тем спокойней будет для вас».
Среди занятых в проекте было множество информаторов и поощряемых доносчиков. Позднее Харитон отметил, что «везде были люди Берии». Однажды, когда Харитон приехал в Челябинск-40, он присутствовал на обеде, во время которого отмечался день рождения Курчатова. После обеда с выпивкой представитель Берии сказал Харитону: «Юлий Борисович, если бы вы только знали, сколько они донесли на вас!» И хотя он добавил: «Но я им не верю», – стало ясно, что имеется множество доносов, которые Берия мог бы пустить в дело, если бы только захотел.
Ученые вполне отдавали себе отчет в том, что ошибка будет им дорого стоить, и знали, что Берия выбрал дублеров, которые в случае неудачи займут руководящие должности. Но хотя террор и был одним из ключевых элементов стиля управления, характерного для сталинского режима, однако он не определял действия ученых. Те, кто принимал участие в работах по проекту, действительно верили, что Советский Союз нуждается в собственной бомбе для самозащиты. Они приняли брошенный советской науке вызов, на который могли ответить созданием собственной бомбы.
Виктор Борисович Адамский, работавший в теоретическом отделе Арзамаса-16 в конце 1940-х годов, вспоминал:
У всех ученых было убеждение, да оно и сейчас представляется правильным для того времени, что государству необходимо обладать атомным оружием, нельзя допускать монополии на это оружие в руках одной страны, тем более США. К сознанию выполнения важнейшего патриотического долга добавлялось чисто профессиональное удовлетворение и гордость от работы над великолепной физической и не только физической задачей. Поэтому работа шла с энтузиазмом, без учета времени, с предельной самоотдачей.
К лету 1949 года плутониевая бомба имплозивного типа РДС-1 («Изделие 501», атомный заряд «1–200») была готова к испытаниям. Ее название впервые появилось в правительственном постановлении № 2143565 сс/оп «О мерах по обеспечению развертывания работ в КБ-11» от 19 июня 1947 года, где атомная бомба была зашифрована как «реактивный двигатель С», сокращенно «РДС». Аббревиатура широко вошла в обиход после снятия грифа секретности с итогов испытания, причем расшифровывалась по-разному: «Реактивный двигатель Сталина» или «Россия делает сама».
Семипалатинский взрыв
В степях Казахстана, примерно в ста сорока километрах к северо-западу от Семипалатинска, был построен небольшой поселок на реке Иртыш. В документах он проходил как Семипалатинск-21 (ныне город Курчатов). Бомбу РДС-1 собирались испытать примерно в семидесяти километрах к югу от поселка – в месте, где был развернут 2-й Государственный центральный испытательный полигон (2 ГЦИП). Один из участников испытаний позднее писал:
Каждый день ранним утром выезжали на «газиках» в рабочие домики вблизи полигона. На всем протяжении пути – ни домов, ни деревца. Кругом каменисто-песчаная степь, покрытая ковылем и полынью. Даже птицы здесь довольно редки. Небольшая стайка черных скворцов да иногда ястреб в небе. Уже утром начинал чувствоваться зной. В середине дня и позже над дорогами стояло марево и миражи неведомых гор и озер. Дорога подходила к полигону, расположенному в долине между невысокими холмами.
На полигоне была воздвигнута башня высотой 30 метров, а рядом с ней – мастерская, в которой должна была проходить окончательная сборка бомбы.
Игорь Курчатов и его коллеги не только хотели знать, взорвется ли бомба, им нужно было еще сделать замеры результатов взрыва, определить, какой разрушительной силой она обладала. Соединенные Штаты опубликовали лишь малую часть информации об эффективности ядерного оружия, и советская разведка несколько раз запрашивала Клауса Фукса о данных, относящихся к американским взрывам. Теперь, когда советские ученые получили свою собственную бомбу, они могли самостоятельно изучить эти эффекты. Поблизости от башни были построены одноэтажные деревянные дома и четырехэтажные кирпичные здания, а также мосты, туннели, водокачки и другие сооружения. Железнодорожные поезда и вагоны, танки и артиллерийские орудия размещались на прилегающей площади. Регистрирующие приборы поместили в блиндажи около башни и на больших расстояниях от нее – на поверхности. В открытых загонах и в закрытых помещениях разместили животных, чтобы можно было исследовать первые последствия ядерного излучения.
Аветик Игнатьевич Бурназян, заместитель министра здравоохранения и руководитель службы радиационной защиты, был ответственным за изучение влияния радиации на живые организмы и за измерение уровня радиоактивности после испытания. Он подготовил два танка, которые были оборудованы дозиметрической аппаратурой и должны были направиться к эпицентру взрыва немедленно после его осуществления. Бурназян хотел убрать танковые башни и добавить свинцовые щиты, чтобы обеспечить команду лучшей защитой, но военные были против этого, поскольку искажался бы силуэт танков. Курчатов отверг протест военных, сказав, что «атомные испытания – это не выставка собак, а танки – не пудели, которых надо оценивать по их внешнему виду и позам».
Башня для атомного заряда была полностью подготовлена к августу 1949 года. В мастерской, расположенной у ее основания, установили подъемный кран. По всей длине зала были проложены рельсы. С одной стороны соорудили въезд для грузовиков, доставлявших компоненты бомбы. С другой стороны были двери, через которые тележка с РДС-1 подавалась на платформу, поднимаемую на башню. Вдоль зала располагались помещения, в которых велась работа с отдельными элементами бомбы.
Посетив полигон с инспекцией, Михаил Первухин вернулся в Москву, чтобы доложить о готовности полигона. Следуя практике испытания любого типа вооружений, была создана комиссия. Ее председателем стал Лаврентий Берия. Вместе со Завенягиным он прибыл на полигон во второй половине августа, осмотрел испытательный зал и по линии правительственной связи доложил Сталину о готовности. На следующий день Курчатов объявил, что испытание будет произведено 29 августа 1949 года, в 6 часов утра.
Приезд Берии явился напоминанием о том, что по результатам будет оценено не только качество работ, выполненных Курчатовым и его сотрудниками, но и решена их собственная судьба. Михаил Первухин позднее писал: «Мы все понимали, что в случае неудачи нам пришлось бы держать серьезный ответ перед народом». Его заместитель Василий Емельянов, который тоже присутствовал на испытаниях, выразился об этом еще более прозрачно, сказав сослуживцу, что если испытание не увенчается успехом, то «все будут расстреляны».
Однако Игорь Курчатов и Юлий Харитон были уверены в успехе. Под их руководством перед приездом Берии были проведены две репетиции, чтобы убедиться в том, что каждый знает, где ему следует находиться, что все приборы и коммуникационные линии находятся в исправном состоянии. Они разработали также детальный план на завершающую неделю, и это дало нужный эффект: Берия каждый день приезжал на полигон, появляясь на нем неожиданно, но ни разу никого не застал врасплох.
Были построены два наблюдательных поста: один в 15 километрах к югу от башни – для военных, второй – в 15 километрах к северу от нее, для ученых. Командный пункт находился в 10 километрах от башни, с которой он был связан кабелем для передачи команды подрыва и линиями связи для получения информации о состоянии РДС-1. Было воздвигнуто здание из двух помещений: с пультом управления и телефонами, связывающими его с различными пунктами полигона – в одной комнате, и с телефонами для связи с Москвой и городом – в другой. Здание снаружи было окружено земляным валом, предохраняющим его от ударной волны.
В ночь испытаний на командном пункте собрались Игорь Курчатов, Юлий Харитон, Кирилл Щёлкин, Михаил Первухин, Виктор Болятко, Георгий Флёров и Авраамий Завенягин, а также Лаврентий Берия со своей свитой. Курчатов отдал приказ о взрыве. Щит управления начал работать в автоматическом режиме.
Владимир Степанович Комельков оставил прекрасное описание всей сцены взрыва, увиденного с северного наблюдательного пункта:
Ночь была холодная, ветреная, небо закрыто облаками. Постепенно рассветало. Дул резкий северный ветер. В небольшом помещении, поеживаясь, собралось человек двадцать. В низко бегущих тучах появились разрывы, и время от времени поле освещалось солнцем.
С центрального пульта пошли сигналы. По сети связи донесся голос с пульта управления: «Минус тридцать минут». Значит, включились приборы. «Минус десять минут». Все идет нормально. Не сговариваясь, все вышли из домика и стали наблюдать. Сигналы доносились и сюда. Впереди нас сквозь разрывы низко стоящих туч были видны освещенные солнцем игрушечная башня и цех сборки. <…> Несмотря на многослойную облачность и ветер, пыли не было. Ночью прошел небольшой дождь. От нас по полю катились волны колышущегося ковыля. «Минус пять» минут, «минус три», «одна», «тридцать секунд», «десять», «две», «ноль»!
На верхушке башни вспыхнул непереносимо яркий свет. На какое-то мгновение он ослаб и затем с новой силой стал быстро нарастать. Белый огненный шар поглотил башню и цех и, быстро расширяясь, меняя цвет, устремился кверху. Базисная волна, сметая на своем пути постройки, каменные дома, машины, как вал, покатилась от центра, перемешивая камни, бревна, куски металла, пыль в одну хаотическую массу. Огненный шар, поднимаясь и вращаясь, становился оранжевым, красным. Потом появились темные прослойки. Вслед за ним, как в воронку, втягивались потоки пыли, обломки кирпичей и досок. Опережая огненный вихрь, ударная волна, попав в верхние слои атмосферы, прошла по нескольким уровням инверсии, и там, как в камере Вильсона, началась конденсация водяных паров. <…>
Сильный ветер ослабил звук, и он донесся до нас как грохот обвала. Над испытательным полем вырос серый столб из песка, пыли и тумана с куполообразной, клубящейся вершиной, пересеченной двумя ярусами облаков и слоями инверсий. Верхняя часть этой этажерки, достигая высоты 6–8 км, напоминала купол грозовых кучевых облаков. Атомный гриб сносился к югу, теряя очертания, превращаясь в бесформенную рваную кучу облаков гигантского пожарища.
На другой точке полигона, в десяти километрах от башни, за одним из холмиков в степи, притаился Аветик Бурназян со своими танками. Ударная волна всколыхнула танки, как перышки, а одна из ионизационных камер была повреждена. Бурназян и его коллеги наблюдали несколько минут за радиоактивным облаком, а затем заняли свои места в танках. Они включили дозиметры, надели противогазы и двинулись вперед на полной скорости. Позднее Бурназян вспоминал:
Буквально через десяток минут после взрыва наш танк был в эпицентре. Несмотря на то что кругозор наш ограничивала оптика перископа, глазам все же представилась довольно обширная картина разрушений. Стальная башня, на которой была водружена бомба, исчезла вместе с бетонным основанием, металл испарился. На месте башни зияла огромная воронка. Желтая песчаная почва вокруг спеклась, остекленела и жутко хрустела под гусеницами танка. Оплавленные комки мелкой шрапнелью разлетелись во все стороны и излучали невидимые альфа-, бета– и гамма-лучи. В том секторе, куда пошел танк Полякова, горела цистерна с нефтью, и черный дым добавлял траура к и без того мрачной картине. Стальные фермы моста были свернуты в бараний рог.
Лаврентий Берия в порыве чувств обнял Курчатова и Харитона, поцеловав каждого в лоб. Присутствующие поздравили друг друга с успехом. Кирилл Щёлкин говорил позднее, что не испытывал такой радости со Дня Победы в мае 1945 года.
После того как измерения были выполнены, а образцы почвы собраны, танки Бурназяна взяли обратный курс. Вскоре они встретили колонну легковых автомобилей, на которых Курчатов с комиссией направлялись в зону взрыва. Колонна остановилась, чтобы выслушать отчет Бурназяна. Работали фотографы, стремясь запечатлеть исторический момент.
Когда Курчатов вернулся в гостиницу, он написал от руки отчет и в тот же день послал его самолетом в Москву. Измерения показали, что мощность взрыва была той же или, возможно, чуть большей, чем при взрыве американской бомбы в Аламогордо. Он был эквивалентен примерно 22 тысячам тонн тринитротолуола.
Анализ результатов испытания продолжался в течение последующих двух недель на полигоне. Проводились измерения уровня радиоактивности, был сделан анализ почвы. Самолеты проследовали по пути радиоактивного облака, а автомобильные экспедиции были посланы в районы, где на землю выпали осадки – с тем, чтобы собрать информацию о загрязнении.
Совет Министров СССР принял секретное постановление, подписанное Иосифом Сталиным, о присуждении премий и наград участникам работ атомного проекта. Постановление было подготовлено лично Берией. Решая, кто должен получить и какую награду, Берия, как говорят, использовал простой принцип: тех, кто мог быть расстрелян в случае неудачи испытания, сделали Героями Социалистического Труда; тем, кому присудили бы большие сроки заключения, дали орден Ленина – и так далее, по намеченному списку. Эта история выглядит мрачным апокрифом эпохи сталинизма, но тем не менее отражает чувства участников проекта, судьба которых действительно напрямую зависела от успеха испытания.
Самой высокой награды, то есть звания Героя Социалистического Труда, была удостоена небольшая группа ведущих руководителей проекта. Кроме того, они получили денежную премию, автомобили марки «ЗИС-110» или «ГАЗ-М-20» («победа»), звание лауреатов Сталинской премии первой степени и дачи в подмосковной Жуковке. Игорь Курчатов был награжден дачей в Крыму. Их детям было дано право получить образование в любом высшем учебном заведении за государственный счет; сами они получали также право бесплатного проезда для себя, своих жен и детей до их совершеннолетия в пределах Советского Союза. Из немецких специалистов только петербуржец Николай Риль стал Героем Социалистического Труда за работу по обогащению урана и производству металлического урана.
25 сентября 1949 года газета «Правда» опубликовала сообщение ТАСС «в связи с заявлением президента США Трумэна о проведении в СССР атомного взрыва»:
23 сентября президент США Трумэн объявил, что, по данным правительства США, в одну из последних недель в СССР произошел атомный взрыв. Одновременно аналогичное заявление было сделано английским и канадским правительствами.
Вслед за опубликованием этих заявлений в американской, английской и канадской печати, а также в печати других стран, появились многочисленные высказывания, сеющие тревогу в широких общественных кругах.
В связи с этим ТАСС уполномочен заявить следующее.
В Советском Союзе, как известно, ведутся строительные работы больших масштабов – строительство гидростанций, шахт, каналов, дорог, которые вызывают необходимость больших взрывных работ с применением новейших технических средств. Поскольку эти взрывные работы происходили и происходят довольно часто в разных районах страны, то возможно, что это могло привлечь к себе внимание за пределами Советского Союза.
Что же касается производства атомной энергии, то ТАСС считает необходимым напомнить о том, что еще 6 ноября 1947 года министр иностранных дел СССР В. М. Молотов сделал заявление относительно секрета атомной бомбы, сказав, что «этого секрета давно уже не существует». Это заявление означало, что Советский Союз уже открыл секрет атомного оружия и он имеет в своем распоряжении это оружие. Научные круги Соединенных Штатов Америки приняли это заявление В. М. Молотова как блеф, считая, что русские могут овладеть атомным оружием не ранее 1952 года. Однако они ошиблись, так как Советский Союз овладел секретом атомного оружия еще в 1947 году.
Что касается тревоги, распространяемой по этому поводу некоторыми иностранными кругами, то для тревоги нет никаких оснований. Следует сказать, что Советское правительство, несмотря на наличие у него атомного оружия, стоит и намерено стоять в будущем на своей старой позиции безусловного запрещения применения атомного оружия.
Относительно контроля над атомным оружием нужно сказать, что контроль будет необходим для того, чтобы проверить исполнение решения о запрещении производства атомного оружия.
Ядерное противостояние
Испытание первой советской атомной бомбы произвело обескураживающий эффект на западные политические круги, которые за четыре послевоенных года привыкли к мысли, что могут использовать атомный шантаж для диктата своей воли. Нельзя сказать, что они делали это в агрессивной манере, которую приписывала им сталинская пропаганда, но в их публичных высказываниях все явственнее слышалось нежелание идти на какой-либо разумный компромисс с коммунистами.
Правительство США начало собирать разведывательные данные о советских ядерных исследованиях еще весной 1945 года, но не могло получить ясной картины прогресса в этой области, посему он постоянно недооценивался. К примеру, в июле 1948 года адмирал Роскоу Хилленкоттер, директор ЦРУ, направил Гарри Трумэну меморандум, утверждавший, что «Советский Союз сможет завершить работу по созданию своей первой атомной бомбы к середине 1950 года – это самый ранний возможный срок, но наиболее вероятная дата, можно думать, – это середина 1953 года». Годом позже, 1 июля 1949 года, адмирал повторил эту оценку. Сделано это было менее чем за два месяца до испытаний РДС-1.
Гарри Трумэн охотно верил своим экспертам, и ему, очевидно, было приятно сознавать, что в его руках находится оружие сокрушительной мощи, одна угроза применения которого способно менять мир по американским лекалам. Он полагал, что абсолютное оружие дает и абсолютную власть, благо можно было не бояться возмездия. История сохранила детали встречи Роберта Оппенгеймера и Гарри Трумэна, на которой американский президент спросил у физика: «Когда русские сумеют создать свою собственную бомбу?» Оппенгеймер, подумав, ответил: «Я не знаю». Тогда сам Трумэн ответил за него: «А я знаю. Никогда!»
Поэтому нет ничего удивительного, что в высших военно-политических кругах США возобладало решение до последней возможности не допускать нарушения атомной монополии. Развернувшаяся после Хиросимы и Нагасаки жаркая дискуссия о судьбах человечества в ядерный век и неделимости мира не поколебала сторонников «сдерживания» Советского Союза путем атомного шантажа. Высказывания Гарри Трумэна о «приведении в чувство» России посредством «сильных слов» и зуботычин «железным кулаком»; государственного секретаря Джеймса Бирнса о том, что США не оставят без последствий попытки Москвы продвигать границы своего влияния в Европе и Азии; ведущего политического стратега Джона Даллеса о недопустимости для США добровольно расписываться в «слабоумии», передавая атомные секреты СССР; и, наконец, знаменитая фултоновская речь Уинстона Черчилля 5 марта 1946 года, в которой обосновывалась необходимость сохранения абсолютного превосходства в новейших вооружениях как средства сдерживания коммунизма, – выразили политико-философскую доктрину верховенства западной (точнее – англосаксонской) цивилизации в послевоенном мире. Именно так понимали ситуацию в Вашингтоне, не слишком, впрочем, уповая на помощь английского союзника. И уже в марте 1946 года Гарри Трумэн позволил себе в беседе с советским послом пригрозить сбросить на Советский Союз атомную бомбу в случае отказа Москвы вывести свои войска из Ирана.
Сакрализация атомного оружия подкреплялась формированием образа врага, воинственного, но в сущности немощного. «Вешать всех собак» на русских, писал знаменитый прозаик Джон Стейнбек, стало самым обычным делом. Тревоги и сомнения обывателя гасились в приподнято-оптимистичном потоке славословий бомбе: американский научно-технический гений и индустриальная мощь сделали возможным то, что еще вчера казалось невероятным – развеяли надежды Советского Союза встать вровень с «лидером свободного мира».
Соображения общего характера превращались на уровне военного планирования в конкретные цели на карте будущего театра военных действий. Вашингтонские стратеги начали размышлять о способах применения атомных бомб в войне против СССР. Самый первый список целей атомного нападения был подготовлен 3 ноября 1945 года: он был результатом широкого изучения Советского Союза Объединенным разведывательным штабом при Объединенном комитете начальников штабов. К июню 1946 года был составлен промежуточный план с кодовым наименованием «Пинчер», в котором бомба рассматривалась как «явное преимущество» в военно-воздушном нападении на Советский Союз. Этот план не был утвержден и не был принят для подготовки, но он указывал направление стратегической мысли.
Летом 1947 года, после подробного анализа очередных испытаний на атолле Бикини, Объединенный комитет заключил, что атомные бомбы способны «свести на нет все военные усилия любого государства и разрушить его социальные и экономические структуры», и рекомендовал правительству США иметь «наиболее, по возможности, эффективные ударные силы, вооруженные атомной бомбой». В то время, когда проводились эти оценки, американские запасы атомных бомб были еще малы: на 30 июня 1946 года в арсенале находилось 9 атомных бомб; годом позже – 13, а в 1948 году – 56.
Необходимость в конкретном военном планировании возникла в 1948 году. Коммунистический переворот в Чехословакии в феврале и блокада Берлина в июне вызвали резкое ухудшение в отношениях с Советским Союзом. В июле Гарри Трумэн направил в Европу бомбардировщики «Б-29». Они не были еще модернизированы для несения атомных бомб, но тем не менее продемонстрировали готовность Соединенных Штатов защитить Западную Европу и в случае необходимости применить ядерное оружие.
13 сентября 1948 года Трумэн сказал министру обороны Джеймсу Форрестолу, что он «молится, чтобы никогда не пришлось принимать такое решение», но он использует атомное оружие, «если это станет необходимым». Тремя днями позже он одобрил доклад Совета национальной безопасности, в котором делался вывод, что США должны быть готовы «использовать быстро и эффективно все имеющиеся доступные средства, включая атомные вооружения, в интересах национальной безопасности, и должны планировать это соответствующим образом». Таким образом, атомное нападение стало ключевым элементом американской военной стратегии против Советского Союза, что в общем-то не особо скрывалось.
Со своей стороны Иосиф Сталин был вынужден придерживаться совершенно противоположной риторики. Он сделал упор на маниакальной приверженности западных «поджигателей войны» идее разъединения человечества, стоящего перед перспективой еще более сокрушительной общемировой бойни. В итоге он оказался единственным из политических лидеров, фактически осудивших войну с применением атомного оружия. В своем интервью «Правде» 10 марта 1946 года советский вождь, оценивая речь Черчилля, недипломатично заявил:
По сути дела, господин Черчилль стоит теперь на позиции поджигателей войны. И господин Черчилль здесь не одинок, – у него имеются друзья не только в Англии, но и в Соединенных Штатах Америки.
Следует отметить, что господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира. Немецкая расовая теория привела Гитлера и его друзей к тому выводу, что немцы как единственно полноценная нация должны господствовать над другими нациями. Английская расовая теория приводит господина Черчилля и его друзей к тому выводу, что нации, говорящие на английском языке, как единственно полноценные должны господствовать над остальными нациями мира.
По сути дела, господин Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше господство добровольно, и тогда все будет в порядке, – в противном случае неизбежна война.
Но нации проливали кровь в течение пяти лет жестокой войны ради свободы и независимости своих стран, а не ради того, чтобы заменить господство гитлеров господством черчиллей. Вполне вероятно поэтому, что нации, не говорящие на английском языке и составляющие вместе с тем громадное большинство населения мира, не согласятся пойти в новое рабство.
Через это интервью Сталин прямо призвал всех антифашистов и сочувствующих выступить единым фронтом против новой военной эскалации на стороне СССР. Может быть, в Кремле и не верили в вероятность атомной войны, но в крупных городах строились специальные сооружения-укрытия для правительственных учреждений и населения, явно призванные смягчить последствия атомного удара. Тема атомной войны становилась чем-то повседневно привычным, заставляя верить в возможность благоприятного исхода лишь при осуществлении воли вождя.
Такая идеологическая установка: США как атомный шантажист и СССР как миротворец, сдерживающий агрессию новых гитлеров, – сохранилась и после обретения Советским Союзом своей собственной бомбы. Можно даже утверждать, что она послужила основой для конфигурирования ядерного противостояния второй половины ХХ века, сформировав мировоззренческие представления трех поколений. И не станет большим откровением, если я скажу, что политико-социальная поляризация мира по образцу 1946 года остается актуальной, хотя давно нет на свете ни Гарри Трумэна, ни Уинстона Черчилля, ни Иосифа Сталина, ни всех тех, кто проник в тайны атома, чтобы создать самое страшное и разрушительное оружие в истории планеты Земля.
Послесловие
В 1901 году голландский ботаник Хуго Де Фрис на основе наблюдений за травой ослинником ввел узкоспециальный термин «мутация», означающий внезапные изменения, ведущие к появлению новых биологических видов. Термин так и остался бы принадлежностью ученых, но он запомнился публике, после того как в 1927 году американский генетик Герман Мёллер на мушках дрозофилах показал, что воздействие рентгеновских лучей способно порождать и ускорять мутации. В 1946 году, получая Нобелевскую премию за это открытие, он заявил, что использование атомной энергии, даже в мирных целях, неизбежно приведет к возникновению мутаций среди людей.
Понимание огромной опасности для грядущих поколений, которую таит ядерное оружие, побудило ученого активно включиться в антивоенное движение. В 1955 году Мёллер был в числе одиннадцати деятелей науки, подписавших манифест Рассела – Эйнштейна, в котором вполне конкретно говорилось:
Общественность и даже многие государственные деятели не понимают, что будет поставлено на карту в ядерной войне. <…> Одной водородной бомбы хватило бы для того, чтобы стереть с лица Земли крупнейшие города, такие как Лондон, Нью-Йорк и Москва. Нет сомнения, что в войне с применением водородных бомб большие города будут сметены с лица Земли. Но это еще не самая большая катастрофа, с которой придется столкнуться. <…> Теперь мы знаем, особенно после испытаний на Бикини, что ядерные бомбы могут постепенно приносить смерть и разрушение на более обширные территории, чем предполагалось. Мы авторитетно заявляем, что сейчас может быть изготовлена бомба в 2500 раз более мощная, чем та, которая уничтожила Хиросиму. Такая бомба, если она будет взорвана над землей или под водой, посылает в верхние слои атмосферы радиоактивные частицы. Они постепенно опускаются и достигают поверхности земли в виде смертоносной радиоактивной пыли или дождя. <…> Никто не знает, как далеко могут распространяться такие смертоносные радиоактивные частицы. Но самые большие специалисты единодушно утверждают, что война с применением водородных бомб вполне может уничтожить род человеческий.
Многие видные ученые и авторитеты в области военной стратегии не раз предупреждали об опасности. Ни один из них не скажет о том, что гибельные результаты неизбежны. Они считают, что катастрофа вполне возможна и что никто не может быть уверен в том, что ее можно избежать. <…> Мы установили, что люди, которые знают очень много, выражают наиболее пессимистические взгляды. Поэтому вот вопрос, который мы ставим перед вами, вопрос суровый, ужасный и неизбежный: согласны ли мы уничтожить человеческий род или человечество откажется от войн?
Такое заявление людей науки может показаться парадоксальным. Ведь именно они выпустили злого джина из бутылки познания – им ли учить человечество мудрой сдержанности? Но на самом деле никакого противоречия здесь нет. Ученые не только сумели высвободить внутриатомную энергию, но и раньше остальных разглядели, какие опасности она таит. Причем не только для тех, кто может попасть под атомный удар сегодня, но и для тех, кто придет в этот мир завтра. Наша биологическая основа не справится с мутагенными факторами, которые неизбежно порождают атомные взрывы. И тогда погибнет не только известная нам цивилизация – человечество выродится и исчезнет как вид.
Подлинная наука не терпит рамок и ограничений, навязываемых пуританской моралью, но в конечном итоге не приемлет зла. История атомного проекта и его участников убедительно показала: разум всегда побеждает – хотя бы и путем исправления собственных ошибок.
Библиография
Азимов А. Миры внутри миров. История открытия и покорения атомной энергии. М.: Центрполиграф, 2004.
Андрюшин И., Чернышев А., Юдин Ю. Укрощение ядра. Страницы истории ядерного оружия и ядерной инфраструктуры СССР. Саров, 2003.
Ауст З. Атомная энергия. М.: Слово, 1994.
Бэгготт Д. Тайная история атомной бомбы. М.: Эксмо, 2011.
Гаков В. Ультиматум. Ядерная война и безъядерный мир в фантазиях и реальности. М.: Издательство политической литературы, 1989.
Гернек Ф. Пионеры атомного века. Великие исследователи от Максвелла до Гейзенберга. М.: Прогресс, 1974.
Гоудсмит С. Миссия «Алсос». М.: Государственное издательство литературы по атомной науке и технике, 1963.
Грешилов А., Егупов Н., Матущенко А. Ядерный щит. М.: Логос, 2008.
Гровс Л. Теперь об этом можно рассказать. История Манхэттенского проекта. М.: Атомиздат, 1964.
Губарев В. Секретный атом. М.: Алгоритм; Эксмо, 2006.
Жучихин В. Первая атомная. Записки инженера-исследователя. М.: ИздАТ, 1993.
Иванов С., Йорыш А., Морохов И. А-бомба. М.: Наука, 1980.
Ирвинг Д. Атомная бомба Адольфа Гитлера. М.: Яуза, Эксмо, 2004.
Кларк Р. Рождение бомбы. М.: Государственное издательство литературы в области атомной науки и техники, 1962.
Корнев В. Атомное наследие Сталина. М.: Палея, 2001.
Корниенко Г. «Холодная война». Свидетельство ее участника. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001.
Корякин Ю. Биография атома. Рассказы об открытии и использовании атомной энергии. М.: Государственное издательство литературы в области атомной науки и техники, 1961.
Лота В. ГРУ и атомная бомба. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.
Мальков В. Игра без мяча: социально-психологический контекст советской «атомной дипломатии» (1945–1949 гг.) // Холодная война. 1945–1963. Историческая ретроспектива. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003.
Мания Х. История атомной бомбы. М.: Текст, 2012.
Михайлов В. Физические основы получения атомной энергии. М.: Военное изд-во Мин. обороны СССР, 1958.
Некрасов В. НКВД-МВД и атом. М.: Кучково поле; Гиперборея, 2007.
Новоселов В. Тайна «сороковки». Екатеринбург: Уральский рабочий, 1995.
Обухов В. Уран для Берии. Восточный Туркестан в Атомном проекте Кремля. М.: Вече, 2010.
Овчинников В. Горячий пепел. Хроника тайной гонки за обладание атомным оружием. М.: Издательство агентства печати «Новости», 1985.
Рузе М. Роберт Оппенгеймер и атомная бомба. М.: Государственное издательство литературы по атомной науке и технике, 1963.
Рэймонд Э., Хогертон Д. Когда Россия будет иметь атомную бомбу? М.: Государственное издательство иностранной литературы, 1948.
Славин С. Секретное оружие Третьего рейха. М.: Вече, 1999.
Смит Г. Атомная энергия для военных целей. М.: Трансжелдориздат, 1946.
Староверов В. Секретный проект «Немецкая „Танечка“». Немецкий след в советском атомном проекте 1945–1949 гг. М.: Русь, 2005.
Степанова О. «Холодная война»: историческая ретроспектива. М.: Международные отношения, 1982.
Томсон Д. Дух науки. М.: Знание, 1970.
Фейгин О. Цепная реакция. Неизвестная история создания атомной бомбы. М.: Альпина нон-фикшн, 2013.
Холловей Д. Атомоход Лаврентий Берия. М.: Эксмо; Алгоритм, 2011.
Холловей Д. Сталин и бомба: Советский Союз и атомная энергия. 1939–1956. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997.
Червов Н. Ядерный круговорот: что было, что будет. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001.
Чиков В., Керн Г. Охота за атомной бомбой. Досье КГБ № 13 676. М.: Вече; АРИА-АиФ, 2001.
Ярошинская А. Ядерная энциклопедия. М.: Благотворительный фонд Ярошинской, 1996.