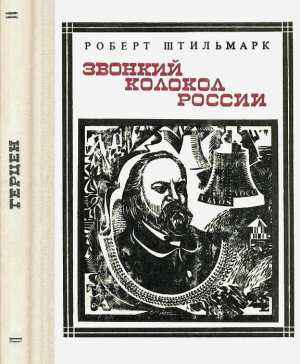
…Герцен первый поднял великое знамя борьбы путем обращения к массам с вольным русским словом.
В. И. Ленин
Нет более великого сердца и более благородного ума, чем Александр Герцен.
Виктор Гюго
…Герцен с Огаревым стали издавать с 1857 года «Колокол» — прообраз революционной газеты.
В первом номере «Колокола» А. И. Герцен говорил о его целях: «Везде, во всем, всегда быть со стороны воли — против насилия, со стороны разума — против предрассудков, со стороны науки — против изуверства, со стороны развивающихся народов — против отстающих правительств…»
«Колокол» выходил два раза в месяц, на тонкой бумаге, которую легко было сложить и незаметно спрятать. Его тайно перевозили в Россию в чемоданах с двойным дном, в переплетах книг, в посылках — под видом оберточной бумаги, даже в жерлах пушек военных кораблей, даже в пустом гипсовом бюсте Николая I. Его тайно продавали в столице — на улицах, в книжных магазинах. Каждый номер жадно читался революционно настроенными людьми — студенчеством, учителями. Попадал он и в руки крестьян…
Тысячами тайных нитей «Колокол» был связан с Россией. К Герцену приезжало множество людей, он получал горы писем. Ему тайно пересылали секретные документы царских канцелярий, и он печатал в «Колоколе» то, что хотели скрыть от народа царские чиновники. «Колокол» был первым периодическим русским революционным изданием, выходившим без цензуры, голосом «свободной России», борцом против крепостного права и царского строя. Впервые была создана бесцензурная русская печать. В. И. Ленин писал, что в этом великая заслуга Герцена.
Академик М. В. Нечкина
Глава первая. Красна дорога ездоками
…цель, для которой требуются неправые средства, не есть правая цель.
К. Маркс
1
Глубоко, в самом сердце швейцарских Альп, на водораздельном хребте, близ горной группы Сен-Готарда, рождаются две знаменитые реки Европы — Рона и Рейн. Рона уходит на запад, к Женевскому озеру, Рейн — на север, к озеру Боденскому.
Не каждый турист в силах добраться до обоих истоков Рейна в Лепонтинских и Гларнских Альпах.
Там, где крутой белой стеной валит со снежных вершин в тесное ущелье гигантский Рейнвальдглетчер, взору альпиниста открывается в этой холодной ледяной стене темная проталина — трещина. И оттуда, из этой холодной щели, пробивается к свету узкая, как лезвие, сильная, кристально чистая струя.
Она-то и есть будущий Рейн!
Этот исток с Рейнвальдглетчера именуется Задним Рейном. Ибо есть у него еще и брат-близнец — Передний Рейн. Он рождается по соседству, северо-восточнее Сен-Готарда: три горных ручья питают небольшое озеро Тома, а из него струится Передний Рейн. В этих долинах и ущельях еще римляне начинали сооружать мосты и жилища, а на рубеже XVIII–XIX веков строители прокладывали здесь головокружительный почтовый тракт от Кьявенны до Хура, через перевал у Сплюгена. Окончили его в 1822-м и прозвали «виа-мала» — «дорога бед». Много на ней опасных мостов через туманные пропасти. Их каменные арки похожи на знаменитый Чертов мост в верховьях реки Рейс, взятый штурмом суворовскими чудо-богатырями в 1799-м.
Задний и Передний Рейн, речки-близнецы, набравши силу, встречаются у швейцарского селения Рейхенау и сливаются в одну, внушительную и стремительную реку. Именем этой реки народ величает и лесные урочища в ее бассейне: они все здесь — рейнские.
Несколько остепенясь, река впадает в голубую чашу Боденского озера, но не теряется в нем: пополнив Бодензее чистой водой, Рейн покидает озеро у замка Штейн. И уж перед разлукой со своей горной родиной — Швейцарией Рейн дарит ей на прощанье нечто редкостное — Шафгаузенский водопад.
От одного каменистого берега до другого здесь всего сто семьдесят метров. Быстрая, порожистая река, загнанная в эту долину, совершает прыжок через горный кряж и срывается со скального уступа высотою в добрый восьмиэтажный дом (24 метра). С ревом и грохотом валящаяся река обтекает два уцелевших среди кипящей стремнины утеса.
Среди множества гостей, любующихся водопадом, часто бывают не только праздные зеваки, богатые туристы и усердные художники с мольбертами, альбомами и этюдниками, но и люди деловые, думающие над тем, как обуздать и приручить эту дикую силищу; нередки здесь и путешествующие ученые, и авторы путевых очерков, и поэты-романтики, поклонники могучей природы.
Всем им швейцарский север обещает немало интересного и помимо Рейнского водопада. Романтичен и красив средневековый город Шафгаузен с его остроконечными кровлями, своеобразным здешним диалектом жителей, мшистыми стенами крепости Мунот и очень почтенным собором XII века. Простоять более семи столетий на пути стольких рыцарей, воинственных орд и наполеоновских армий удавалось, увы, не каждой древней постройке! Солдаты Наполеона сожгли здесь, например, уникальный висячий деревянный мост XVII века…
На башне-часозвоне шафгаузенского собора висит звучный колокол, сработанный большим средневековым мастером-литейщиком. Горожане гордятся им, и любой поможет прочитать и перевести древнюю латинскую надпись на позеленевшей колокольной меди, среди затейливой вязи узоров:
Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura frango. — ЗОВУ ЖИВЫХ. ОПЛАКИВАЮ МЕРТВЫХ. УКРОЩАЮ МОЛНИИ.
Это звучит как клятва или девиз большой жизни. Поистине «медь торжественной латыни»!..
Но слова эти кажутся давно слышанными, знакомыми, потому что во все века и всем народам разнесла их звучная медь мировой поэзии: поэт Шиллер, в самом расцвете сил, увлеченный красотою Рейнского водопада и романтикой города, избрал девиз шафгаузенского колокола эпиграфом к своей «Песне о колоколе» — самому вдохновенному гимну во славу творческого мастерства. Было это в 1799-м…
А полустолетием позже — в 1857-м — первая формула латинского девиза: «Вивос воко!» — «Зову живых!» — снова прозвучала колокольным набатом над всем миром насилия и лжи: русский мыслитель и борец за вольное слово Александр Герцен взял эпиграф шиллеровской поэмы и надпись со старинного колокола девизом для своего боевого, революционного «Колокола» — самого звонкого в России!
Еще одиннадцать лет спустя, в конце июля 1868 года, обновившаяся семья Александра Ивановича Герцена любовалась Шафгаузенским водопадом с открытой террасы гостиницы Швейцергоф, построенной на скалах чуть не в самой стремнине.
Восхищенные зрелищем, оглушенные ревом потока, мокрые от брызг, они все, восьмером, осторожно спустились по крутой лестнице к небольшой заводи, размытой напором волн за многие века. Здесь их поджидал лодочник, чтобы перевезти на другой берег, к экипажам.
Снизу водопад казался еще грознее и величественнее. Разноцветные радуги вспыхивали то тут, то там, особенно когда ветерком относило тучу брызг подальше. Герцен вел за ручку свою младшенькую, Лизу. Старший сын, Александр, медик-физиолог, помогал дамам усаживаться в лодку. Красивая старшая Наталья, прозванная в семье Татой, пропустила вперед мачеху, Наталью Алексеевну Тучкову-Огареву. За нею уселась воспитательница и друг семьи госпожа Мальвида Мейзенбуг. После смерти первой жены Герцена она делила с Александром Ивановичем заботы об осиротевших детях — Саше, Тате, Оле. Последней забралась в лодку Ольга, 18-летняя барышня, лицом и манерами менее напоминавшая покойную мать, чем Тата. Шалунью и капризницу Лизу, дочку от Натальи Алексеевны, второй жены, Герцен усадил рядом с собою. Лодка осела низко, было жутковато на быстрой, порожистой реке, но всерьез волновались только старшие женщины: г-жа Мейзенбуг, дама строгого, аристократического воспитания, не повела и бровью, но все же чуть-чуть изменилась в лице и побледнела. Наталья Алексеевна, менее сдержанная и не привыкшая подавлять свои эмоции, вся напряглась, делала судорожные движения и готова была вот-вот закричать… Герцен заметил ее тревогу и умело отвлек внимание жены от воды. Невозмутимый швейцарец на веслах между тем старался объяснить Лизе, что где-то в Америке есть водопад много выше и шире, а река там еще поуже, и какой-то отчаянный смельчак затеял спуститься по тому водопаду внутри деревянной бочки, но погиб…
Пассажиров немного рассмешил этот медлительный рассказ на северошвейцарском диалекте; даже Лиза легко догадалась, что лодочник толкует о Ниагаре. Вспомнили, что похожий рассказ слышал здесь и Карамзин.
Герцен торопился в Сен-Галлен, а дальше во Фрейбург и Берн; у него было много забот и материальных трудностей, ездить такой большой семьей было сложно и дорого, но он привез сюда жену и детей через Цюрих из Люцерна показать Шафгаузенский водопад. Он был убежден, что красоты природы обогащают и облагораживают юные души, учил эти души умению удивляться и радоваться красоте.
В первом же деловом письме другу своему Николаю Платоновичу Огареву в Женеву среди многих неотложных распоряжений, советов, вопросов и издательских соображений по делам газеты «Колокол» Александр Герцен не позабыл прибавить строку:
«Водопад хорош, и очень, внизу — вероятно, ты его видел».
И подписал: «Шафгауз — Сен-Гален, 1 августа 1868 г. возле водопада».
2
Вагон перестало покачивать. Ноющий звук от подтянутых проводником ручных тормозов больше не проникал в купе. Но внезапное наступление тишины нарушило сонное забытье пассажира. Он приподнялся и глянул в окно.
Что это? Ольтен? Энзинген? Или Золотурн? А может, Биль?
Названия здешних станций он знает только понаслышке или из справочника для путешествующих. Он впервые едет среди Альп. Вчера, рано утром, скорый поезд, Д-цуг, как их называют в Германии, вышел из Франкфурта-на-Майне. Поздний обед пассажир вкушал в Баден-Бадене, а ужинал на станции Базель, уже за швейцарской границей. Вот это современные скорости, достойные нынешнего, 1869 года! Еще лет двадцать назад, в его молодости, это было бы совершенно немыслимо. Промышленный прогресс, господа!
…За вагонным окном растаяла августовская ночь. В утреннем сумраке ландшафт обозначался лишь черными и белыми штрихами, без оттенков и красок, как на проявляющемся фотоснимке.
Горный белопенный ручей срывался чуть поодаль в черную пропасть. За нею в призрачном полусвете угрожающе придвинулись к дороге громады серых, безжизненных утесов. Несколько двухэтажных домиков с крутыми кровлями казались лишенными жизни и обитателей. На бесцветном небесном полотне смутно выступали снежные шапки далеких вершин, выгибались черные спины хребтов, и уже готовился порозоветь и засверкать одинокий, неподвижно устремленный в зенит ледяной пик. Все это воплощало вечность и величие, могущество первозданных сил, застывших в безмолвии льда и камня. Лишь поток, тоже холодный и враждебный живому, с огромной скоростью нес в провал белую от ярости пену.
Человек со стесненным сердцем глядел в окно. Пугающая близость бездны, куда рвался поток, холодила душу, ужасала и в то же время неотвратимо влекла к себе, бередила слабое, хрупкое человеческое сердце. У пассажира оно пошаливало не первый год. Сказалась Крымская кампания, особенно памятное сражение на речке Черной в августе 1855-го, батальные невзгоды и пулевая рана при отражении ноябрьского штурма союзников перед тем, как войска наши оставили севастопольские руины и окопы. Потом хлопотная служба старшим адъютантом при штабе 2-го армейского корпуса… Были и иные, тайные причины для бессонных тревог и острых волнений, нарушающих спокойный сердечный ритм. Табачок крепчайший да пирушки офицерские — где уж тут было беречь покой сердечных мускулов и клапанов!
Обычно природа нисколько не волновала его, но здешний дикий горный ландшафт вывел из душевного равновесия. Пассажир ощущал уже нечто вроде приступа дурноты. Чтобы отвлечься, он стал рассматривать обстановку своего купе, рассчитанного на четверых сидящих: два дивана, обшитые красным плюшем, четыре медных крюка, заботливо начищенные ручки, багажные сетки, плисовые[1] шторки, полированные планки стен.
Ночные часы он провел среди всей этой дешевой роскоши в одиночестве: вчерашние попутчики покинули вагон в Базеле, а проводник, или по-местному — шаффнер, пожилой усатый баварец, настоящий диктатор со всеми едущими, ни разу не заглядывал в двери купе после границы. Видимо, считал русского гостя — ден гнедиген руссишен херрн — немаловажной персоной, чей сон попусту беспокоить не следует!
А тому хотелось узнать у проводника о некоторых здешних обстоятельствах. Вчерашние соседи были итальянские немцы, неважно понимавшие по-французски, и все-таки из смеси их итало-франко-немецкого диалекта он кое-что выяснил для самого близкого будущего. Попутчики жили в Базеле, но часто навещали родственников в Женеве. Там, оказывается, их зять владеет маленькой, но известной в городе ресторацией «Кафе де мюзее», то есть кофейней близ Женевского художественно-исторического музея с его великими сокровищами искусства и науки.
Собеседники с гордостью поведали чужестранцу, что в кафе их зятя можно всегда встретить известных ученых, художников, писателей и ценителей искусства.
— Из какой вы страны, синьор? И что интересует вас в Швейцарии? — осведомились попутчики на прощание. Услыхав, что интересует его издательское дело и что он уроженец Российской империи, благожелательные иностранцы посоветовали ему непременно посетить в Женеве родственное им кофейное заведение, любимое, по их словам, и русскими туристами, даже графами и князьями.
— Я… выпечен из другого теста! — мягко отвечал гость из России. — Человека красит не титул!
— О да, синьор! — радостно закивали собеседники. — Но даже некоторые ваши князья бывают подчас большими оригиналами, непохожими на других, обыкновенных аристократов. Мы видели не раз в Женеве русскую княгиню Оболенскую, которая сочувствует тем полякам, кто дрался за свободу Польши против войск императора Николая Первого. У нас здесь хорошо помнят и очень уважают российского князя Петра Долгорукова. Он многие годы жил в Женеве и недавно скончался в Берне. Он тоже был большим издателем, и писателем, и ученым.
Пассажир слушал собеседников с явным интересом.
— Вам приходилось встречать этого князя? — спросил он несколько настороженно. — Я теперь припоминаю, что такой князь-вольнодумец действительно жил эмигрантом в Швейцарии… А скажите, вам не случалось слышать в Женеве и такую фамилию: пан Тхоржевский?
— Кажется, нет, синьор, ведь и мы… выпечены из другого теста. Мы лишь видели князей и княгинь и могли бы только прислуживать таким господам, но совершенно убеждены, что наш зять в Женеве охотно поможет синьору найти его знакомых или клиентов!
Едва жизнерадостные попутчики оставили купе, пассажир из России достал карманный журнальчик в кожаном переплете и пометил на одном из листков:
«Женева. „Кафе де мюзее“…».
Его собеседники и не подозревали, сколько мыслей и тревожных эмоций вызвало у соседа-пассажира одно лишь упоминание имени князя Петра Долгорукова!
3
…Князь Петр Владимирович Долгоруков — натура сложная, противоречивая, будто сотканная из сплошных контрастов.
«Кривоногий» — такую кличку дали юному аристократу, князю Петруше, сверстники по Пажескому корпусу. Врожденный недостаток — сильная хромота — озлобил его с детства. Он с ненавистью, молча кривя лицо, прислушивался к шепоту насмешек, хихиканью товарищей. Они рано почувствовали его острый иронический ум, злопамятность и мстительность. Вместе с тем он был очень честолюбив, высокомерен, заносчив. Завидовал чужому успеху и хотел играть крупную роль в обществе. Казалось, что это было ему заранее обеспечено знатностью рода, богатством, склонностью к научным изысканиям и незаурядными способностями.
Однако, несмотря на умственное превосходство над многими, более счастливыми, чем он, избранниками фортуны, он сам портил себе карьеру то непозволительными шутками, а то и тайными интригами, выплывавшими наружу. За дерзкую шалость его очень рано прогнали из камер-пажей. И этим навсегда закрылся ему путь к чинам придворным. Весь собственный род он считал тоже несправедливо обойденным — по его мнению, князья Долгоруковы были бы уместнее на российском престоле, чем бояре Романовы, тем более что династия эта с Петра Второго фактически прекратилась по мужской линии. Сам же Петр Владимирович происходил от долгоруковской ветви древних князей Оболенских. Род этот велся от князя Михаила Черниговского, замученного в татарской орде после отказа поклониться тени Чингисхана, за что церковь причислила князя Михаила к лику святых.
Окончив Пажеский корпус, молодой князь усердно принялся за весьма почтенное и нужное для всей российской знати дело — составление, проверку, изучение дворянских родословных. Ученому отпрыску знатных родов с радостью доверили работу в государственных архивах и в частных собраниях семейных документов, а то и просто дарили целые коллекции исторических материалов. И князь Петр Долгоруков углубился в серьезные научные изыскания. Составленные им в течение многих лет тома «Российской родословной книги» легли в основу российской научной генеалогии, были использованы позднейшими исследователями-генеалогами — Леонидом Савеловым и иностранными специалистами.
И никто из тех, кто столь охотно предоставил князю архивы, передал устно многие генеалогические тайны, выдал допуск к секретнейшим бумагам, относящимся к высшим сановникам империи и тайнам рождений, смертей, коронаций и смен венценосцев, даже не подозревал, какое употребление сделает Петр Владимирович из своих открытий.
Сначала труды его вызывали одно одобрение. Затем в 1842 году в Париже вышла книга под псевдонимом «Граф Альмагро» — «Заметки о главных фамилиях России». Книгу признали в России опасной, быстро выяснили подлинное имя автора и приказали ему прервать заграничное путешествие. По возвращении в Россию Долгоруков был арестован и сослан в Вятку, через шесть лет после отъезда оттуда ссыльного Герцена. Впрочем, ссыльный Долгоруков был слишком знатен и богат, поэтому через год получил освобождение и продолжал свои изыскания в родовом тульском поместье, куда перевез свои бумаги.
Спустя еще полтора десятка лет князь Петр, продолжавший тем временем накапливать историко-генеалогические материалы, издавая их в России, собрал огромный архив. Уже после воцарения Александра Второго Долгоруков хитростью сумел перевезти архив за границу и в 1859 году навсегда эмигрировал сам.
Большие средства помогали ему жить, где нравилось и где имелось больше издательских возможностей. Он курсировал между Лейпцигом, Парижем, Брюсселем, Лондоном и Женевой. В этих городах он издавал журналы и газеты, резко оппозиционные русским властям: «Будущность», «Листок», «Правдивый» (последняя — на французском языке). На Западе его порой ставили наравне с Герценом и Огаревым — так широко известна была его издательская деятельность. В своих очерках (он так и назвал их «Петербургские очерки»), газетных статьях и научных публикациях из архива он разоблачал тайны, касавшиеся прошлого, недавнего и отдаленного, от убийства Павла или Петра Третьего до секретного следствия по делу декабристов.
При этом он, однако, любил подчеркивать, что худшие, более сильные разоблачения еще ждут своей очереди и спокойно дремлют пока в его личном архиве. Так как в России жил его сын Владимир Петрович, занимавшийся химией, князь-папа предупреждал власти, что разоблачения последуют немедленно, если сыну будет причинен хоть малейший вред.
Царскому правительству, особенно же тайной полиции, эти угрозы внушали ужас. Нападая на прошедшее, Долгоруков подрывал и подтачивал российский трон! Он верил в изречение: «Кто владеет прошлым, может управлять настоящим и будущим».
Был ли князь Петр Владимирович Долгоруков настоящим революционером, каким, например, сочли его те итальянцы, что сошли в Базеле с курьерского поезда?
Одинокий пассажир в купе тоже считал князя Петра революционером, хотя знал, что по своим политическим взглядам князь Долгоруков скорее принадлежал к старым либералам. Дескать, верил покойный князь-вольнодумец не в социализм, а в конституционную монархию и парламент в британском вкусе. Князь остро ненавидел нынешнюю форму российского самодержавия, крепостничества, чиновнической бюрократии и особенно тайную царскую полицию, печально знаменитое III отделение. По иронии судьбы, однако, во главе ее стоял не кто иной, как его кровный близкий родственник, двоюродный брат, сын дяди Андрея — князь Василий Андреевич Долгоруков. На посту шефа жандармов и начальника III отделения князь Василий сменил графа Алексея Федоровича Орлова, лично подавлявшего восстание декабристов. Таким образом, два кузена Долгоруковы — Петр и Василий — противостояли друг другу не на жизнь, а на смерть. Один наносил самодержавию чувствительные удары своими разоблачительными материалами, другой ревностно защищал монарха и был вынужден уйти в отставку после того, как в царя Александра Второго выстрелил из пистолета у ворот петербургского Летнего сада революционер Дмитрий Каракозов. Раздался этот выстрел 4 апреля 1866 года, царь остался невредим. Месяцев через пять 26-летний террорист был казнен на Смоленском поле в Петербурге, а князя Василия Долгорукова заменил в должности шефа жандармов и начальника III отделения граф Петр Шувалов. Он люто ненавидел князя-эмигранта Петра Долгорукова за разоблачения скользкого шуваловского пути к придворной карьере со времен Елизаветы и Екатерины до времен более свежих.
Тем временем Вольная русская типография Герцена и Огарева в Лондоне, а затем и в Женеве не раз привлекала Петра Долгорукова к сотрудничеству в «Колоколе» и других изданиях. Отношения Герцена и Огарева с Долгоруковым иногда портились, доходили даже до разрыва, но совместная борьба против одного врага сближает и очень разных людей.
После того как вышла из печати на Западе разоблачительная книга Долгорукова «Правда о России», правительство вызвало его домой. Но, понимая, что легкой ссылкой теперь уже не отделаться, Долгоруков насмешливо отказался от возвращения. Царское правительство лишило его всех прав состояния и объявило князя Петра вечным изгнанником.
Но в женевском доме этого русского князя хранился и даже еще более пополнился за годы эмиграции огромный архив тайных материалов. Их-то публикацию Петр Владимирович, что называется, и придерживал под занавес.
Судьба таинственного архива, оставшегося после смерти князя, сильно тревожила теперь многих людей, и притом людей весьма разных, противоположных интересов!..
Снаружи совсем развиднелось, и поезд углубился в горы. Подъемы становились круче. Перед перевалом через отрог хребта к поезду прицепили еще один паровоз. Пассажир понял это по гудкам и резким толчкам. На разъезде разминулись со встречным составом, ехали туннелем, где в купе проник залах угля, и пришлось опять, как ночью, зажечь дорожный фонарик: пассажир с вечера укрепил его на выступе маленького раздвижного стола. За ночь в фонарике сгорел почти весь запас минерального масла, так внимательно пассажир листал взятые с собою книги. Купил он их во Франкфурте. Его глубоко интересовали не только сами книги, но и судьбы их авторов: русского писателя с арабским псевдонимом Искандер и опального поэта Николая Платоновича Огарева. Пассажир и сейчас углубился бы в их произведения, но мешал пробудившийся аппетит; менялись живописные пейзажи, громко перекликались гудками оба паровоза.
Путь повел среди прибрежных скал довольно крупного озера, потом в купе стало сумрачно — оказалось, что въезжали в серое облако, сползшее с высот.
А когда спустились в следующую долину, вдруг очутились на ярком солнце. Вагон озарился. Захотелось открыть окно. Слева от дороги засинела прекрасная, необъятно просторная озерная даль, и, будто по тайному приказу пассажира, двери купе распахнулись, приоткрывая вид на красивое станционное строение. Шаффнер-баварец громогласно объявил со ступеньки:
— Нойенбург! (Так этот город называли немцы.)
Затем уже потише добавил на французский лад:
— Невшатель!..
И продолжал, обращаясь к пассажиру:
— Не угодно ли господину погулять? Стоянка — более часа, а поблизости есть уютный ресторан «Шомон», в честь здешней знаменитой горы. А если пожелаете, найдете на площади быстрых лошадей и отличный экипаж, чтобы прокатиться по городу, взглянуть на древний замок и картинную галерею. Господин не пожалел бы об истраченных франках!
— Когда мы должны быть в Женеве?
— О, только вечером, сударь! Еще добрых 120 километров пути и много станций на нашей горной дороге. После Ниона, женевского пригорода, все еще останется побольше двадцати километров… Вам надо подкрепиться здесь, хотя бы в вокзальном заведении. Спросите порцию угрей — здесь их умеют не только ловить, но и подавать в винном соусе, из виноградников Виньобла, вон оттуда, с западного берега Невшательского озера.
Пассажир вышел на привокзальную площадь. Красивый город ступенями поднимался по склонам Шомона. Светло-желтый камень городских построек понравился путешественнику: при солнечном свете фасады домов привлекали своим теплым тоном, таким неожиданным среди серых альпийских утесов по пути сюда.
Он прокатился в коляске парой по городским улицам, видел живописные развалины замка и отведал в ресторане блюдо из угрей, оказавшееся действительно превосходным. Мысли же его были далеко…
В купе теперь оказался еще один едущий, тоже до самой Женевы. Он сухо раскланялся с воротившимся пассажиром и тут же углубился в газету. Вид у него был сонный и несвежий. Прежнему пассажиру осталось вновь извлечь свои книжки и журнальные номера, чтобы вникнуть в них еще настойчивее, чем давешней ночью.
…Поезд вез его по железным путям чужой ему, необыкновенной страны, знаменитой красотами своих курортов и свободами граждан, книги же будто возвращали его назад, в страну равнинную и степную, к березовым перелескам и глухим хвойным лесам, издали напоминающим море; к ровным барским нивам, где еще столь недавно трудились крепостные мужики; к пестрой чересполосице мужицких полей и убогих наделов, «дарованных» манифестом. Эх, кабы хоть дарованных, а то ведь оплаченных помещику-владельцу горьким крестьянским потом и тяжкими обязательствами…
Пассажир читал, и перед его умственным взором возникала и прояснялась бурная жизнь человека с псевдонимом Искандер и тоже искусственным настоящим именем — Герцен.
Эту странную для русского уха фамилию сочинил, оказывается, отец писателя, вывел ее от немецкого выражения «херценскинд» — дитя сердца, дитя любви… Человек необычайной судьбы, сам Герцен-Искандер лучше любых биографов описал ее в своих книгах.
…Теперь пассажир как бы сам вживался в эту жизнь, осмысливал и додумывал то, что угадывалось между строк читаемых творений. Жизнь титаническая, отданная борьбе с многоликим злом тирании в Российской империи, в сытой буржуазной Европе, в том мире, где еще плачут нищие сироты, где казнят и сживают со света юнцов правдолюбцев, где не имеют теплого ночлега обездоленные старики.
Этот мир неправды хотят изменить такие люди, как Искандер-Герцен, Николай Огарев и их единомышленники. Главная книга жизни Герцена носит странное название «Былое и думы». Такой книги мировая литература еще не знала. Трудно решить, к какому жанру ее отнести. Не к мемуарному же, как его обычно понимали до Герцена? Ведь она захватывает, как роман, широтою жизнеописания, напряженностью сцен, художественным, хоть и непростым языком. На ее страницах мгновенно сменяют друг друга картины личных судеб, диалоги любви и ревности, мировые катастрофы и милые семейные анекдоты.
Рядом с нитью художественной, романической вплетены в многоцветную ткань книги философские рассуждения, экскурсы в глубь истории, пророчества о будущем народов и стран, горькая критика многих, европейских правителей, рассказы о революционерах, друзьях автора… На иных страницах любовь и ненависть, вера и надежда уступают место горечи отчаяния, соленым слезам навечных разлук. Вот уж поистине целая бездна «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»!
Углубляясь в прочитанное, пассажир делал все новые заметки в дополнение к тем, что уже имелись в кожаном журнальчике. Там, кроме Герцена и Огарева, значилось еще одно имя, польского звучания — Тхоржевский. Оно менее громко, но и его носитель принадлежит к соратникам тех, двоих… А едет пассажир, чтобы воочию увидеть этих людей, добиться их внимания, доверия, дружбы. Поэтому так важно уже заранее, загодя, изучить их труды, замыслы и свершения. От успеха всего этого начинания зависит ныне судьба самого пассажира, его собственных тайных замыслов и целей…
И он не отрывался более от своего чтения и заметок, даже когда засинела вдали покойная гладь огромного Женевского озера и остались до цели путешествия последние, считанные часы, километры и станции.
Глава вторая. Мальчик Шушка
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые…
Ф. Тютчев
1
…Зарево небывалого пожара полыхало над Москвой 4 сентября 1812 года. Отблеск его заметен был в Калуге, Серпухове, Александрове… Огненное море уже окружило Кремль, но император французов все еще медлил отдать приказ к выступлению своих гвардейцев за кремлевские стены. Только крик «Кремль горит!» заставил поторопиться и Наполеона.
Оказалось, запылала костром (как во времена древнепсковские) кремлевская Троицкая башня у моста через Неглинную реку, а главное, рядом с Арсеналом! Гвардейцы самоотверженно потушили пожар в башне, однако осажденный пламенным морем Кремль мог стать для французов настоящей ловушкой. Наполеон решил выехать в загородный Петровский дворец.
Но как выбраться из Кремля? Пламя уже угрожало всем воротам, и выйти долго не удавалось, пока не вспомнили о ходе к Москве-реке, под Кремлевским холмом. Этим выходом воспользовались старые гвардейцы и вся свита во главе с самим императором.
Наугад пустились в дыму вдоль кремлевской стены, к старинному обветшавшему Каменному мосту. Ориентировались с трудом. Лишь один узкий извилистый переулок (Лебяжий) показался кое-как доступным среди искр и языков огня. Французы понадеялись достичь Пречистенских ворот и двинулись по этому переулку к улицам Ленивке и Волхонке.
Пробираться им пришлось среди настоящего ада: трещали пылающие дома, рушились бревна и раскаленные железные листы с крыш, сносимых ураганным ветром, — спутником всякого великого пожара.
Шагавшие обжигали руки, стараясь защитить глаза от жара. Наконец в огненном тупике проводник окончательно растерялся и сбился. Всей группе грозила жалкая, бесславная гибель. Но и тут императору французов не изменила его счастливая звезда!
Послышалась поблизости французская речь. Солдаты из корпусов Нея и Даву грабили дом русского вельможи. Внезапно они очутились лицом к лицу со своим повелителем! Им и пришлось выводить его вместе со свитой из огня, но уже теперь не к Каменному, а к Дорогомиловскому мосту. Наполеон велел добираться до села Хорошева, переправиться по плавучему мосту и мимо Ваганьковского кладбища следовать полями к Петровскому дворцу на Петербургском тракте. В Кремль они смогли вернуться лишь через четверо суток, когда пожары выжгли Москву дотла.
…В эти-то грозные дни терпело нужду и лишения наравне со всеми москвичами, не успевшими или не сумевшими покинуть город, и семейство богатого пожилого барина-помещика, отставного капитана лейб-гвардии Измайловского полка Ивана Алексеевича Яковлева.
Беда застала семейство врасплох — слишком долго Иван Алексеевич спорил со своим зятем Павлом Ивановичем Голохвастовым (мужем старшей сестры), куда выезжать, да что брать с собою, да как быть с прочим имуществом и дворней. Спорили, пока не появились на улицах французские драгуны в касках с конскими хвостами.
Решили покинуть дом старшего брата, Александра Алексеевича, на Тверском бульваре (в этом-то доме и родился Александр Герцен, которому в дни московского пожара было всего полгода). Перебрались к тетке Ивана Алексеевича, княжне Мещерской, во флигель на Малую Бронную. Здесь кое-как отсиживались, пока флигель не загорелся. Кинулись было спасаться поблизости, в каменный дом Голохвастова, но и это здание уже полыхало ярым огнем.
Вот как описал дальнейшие события сам Герцен:
«Мой отец… встретил у Страстного монастыря эскадрон итальянской конницы; он подошел к их начальнику и рассказал ему по-итальянски, в каком положении находится семья. Итальянец, услышав ла суа долче фавелла (сладкую родную речь. — Р. Ш.), обещал переговорить с герцогом Тревизским (этот титул Наполеон присвоил маршалу Мортье, назначенному губернатором Москвы. — Р. Ш.) и предварительно поставить часового в предупреждение диких сцен… С этим приказанием он отправил офицера с моим отцом. Услышав, что вся компания второй день ничего не ела, офицер повел всех в разбитую лавку; цветочный чай и левантский кофе были выброшены на пол вместе с большим количеством фиников, винных ягод, миндаля; люди наши набили себе ими карманы; в десерте недостатка не было. Часовой оказался чрезвычайно полезен: десять раз ватаги солдат придирались к несчастной кучке женщин и людей, расположившихся на кочевье в углу Тверской площади (впоследствии Страстной, ныне Пушкинской. — Р. Ш.), но тотчас уходили по его приказу.
Мортье вспомнил, что он знал моего отца в Париже, и доложил Наполеону; Наполеон велел на другое утро представить его себе (7 сентября. — Р. Ш.). В синем поношенном полуфраке с бронзовыми пуговицами, назначенном для охоты, без парика, в сапогах, несколько дней не чищенных, в черном белье и с небритой бородой, мой отец — поклонник приличий и строжайшего этикета — явился в тронную залу Кремлевского дворца по зову императора французов…
…Наполеон разбранил Ростопчина (московский военный губернатор и главнокомандующий. — Р. Ш.) за пожар, говорил, что это вандализм, уверял, как всегда, в своей непреодолимой любви к миру, толковал, что его война в Англии, а не в России, хвастался тем, что поставил караул к Воспитательному дому и к Успенскому собору, жаловался на Александра, говорил, что он дурно окружен, что мирные расположения его неизвестны императору.
Отец мой заметил, что предложить мир скорее дело победителя.
— Я сделал, что мог, я посылал к Кутузову, он не вступает ни в какие переговоры и не доводит до сведения государя моих предложений. Хотят войны, не моя вина — будет им война.
После всей этой комедии отец мой попросил у него пропуск для выезда из Москвы….
— Возьметесь ли вы доставить императору письмо от меня? На этом условии я велю вам дать пропуск со всеми вашими.
— Я принял бы предложение вашего величества, — заметил ему мой отец, — но мне трудно ручаться.
— Даете ли вы честное слово, что употребите все средства лично доставить письмо?
— Же мангаж сюр мон оннер, сир. (Ручаюсь своей честью, государь. — Р. Ш.)
— Этого довольно. Я пришлю за вами. Имеете ли вы в чем-нибудь нужду?
— В крыше для моего семейства, пока я здесь, больше ни в чем….
Мортье действительно дал комнату в генерал-губернаторском доме (ныне здание Моссовета — Р. Ш.) и велел нас снабдить съестными припасами; его метрд’отель прислал даже вина. Так прошло несколько дней, после которых в четыре часа утра Мортье прислал за моим отцом адъютанта и отправил в Кремль…
…Когда мой отец взошел, Наполеон взял запечатанное письмо, лежавшее на столе, подал ему и сказал, откланиваясь: „Я полагаюсь на ваше честное слово“. На конверте было написано: „А мон фрер л’имперер Александр“ („Моему брату императору Александру“. — Р. Ш.).
…Несколько посторонних, узнав о пропуске, присоединились к нам, прося моего отца взять их под видом прислуги или родных. Для больного старика (Павла Ивановича Голохвастова, раненного французским солдатом-грабителем. — P. Ш.), для моей матери и кормилицы дали открытую линейку; остальные шли пешком. Несколько улан верхами провожали нас до русского арьергарда… Через минуту казаки окружили странных выходцев и повели в главную квартиру».
Ивана Алексеевича тотчас же отправили в фельдъегерской кибитке на холодные берега Невы, в Санкт-Петербург. Семья же его потащилась на Волгу-матушку. Тем же петербургским трактом беженцы добрались до Клина, миновали его и от села Решетникова свернули к уездному городу Корчеве Тверской губернии. Оттуда оставалось им всего несколько верст высоким берегом Волги до поместья Новоселье, принадлежащего старшему из братьев Яковлевых, Петру Алексеевичу. Прожили там немного и переехали в другое яковлевское имение — Глебовское, в соседней, Ярославской губернии. Земли этого яковлевского поместья раскинулись вдоль почтового тракта из Ярославля в Данилов.
Тут, в Глебовском, семью постигла беда: скоропостижно умер от удара, не выдержав дорожных тягот и ранения, Павел Иванович Голохвастов. У 17-летней Сашиной матери Луизы, еще не понимавшей даже по-русски, смерть эта, в отсутствии Ивана Алексеевича, отняла единственную сейчас на чужбине родственную опору. Она осталась одна с грудным сыном и 9-летним пасынком Егором среди крепостных крестьян. Люди эти, озабоченные войной и «нашествием иноплеменников», показались ей сперва сумрачными, недобрыми. Но очень скоро молоденькая мамаша уразумела, как эти хмурые подневольные мужики и их сердобольные жены сочувствуют ее бедам и страхам, как они посильно стараются облегчить ее участь. В глухую пору войны они баловали ее даже изюмом и пряниками, для чего приходилось отряжать тележку в город Ярославль, верст за двадцать.
Тем временем Сашин отец, Иван Алексеевич, сидел в Санкт-Петербурге под арестом в доме самого страшного человека в России и самого близкого лица к государю. По должности он был председателем департамента военных дел Государственного Совета, а Пушкин звал его «всей России притеснитель». От фамилии его произведено жутковатое слово: аракчеевщина, то есть режим насилия и подавления.
Граф Аракчеев вручил государю Александру Первому письмо Наполеона, доставленное Яковлевым. Царь решил, что писать Наполеону не станет: ответ, мол, будет дан ядрами русских пушек, штыками пехоты и казачьими пиками.
Под арестом в доме Аракчеева Иван Алексеевич пробыл месяц. Он оказался первым из прибывших в Петербург очевидцев захвата Москвы. О подробностях расспрашивал его сам Аракчеев да еще адмирал Шишков. Яковлеву запретили встречаться с кем-либо, кроме старшего брата. Скоро ему позволили вернуться к семье в поместье, не поставив в вину, что брал пропуск у неприятеля.
«Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моей колыбельной песнью, детскими сказками, моей Илиадой и Одиссеей» — так написал Герцен о своем детстве.
Семья Яковлевых скоро вернулась в опустошенную Москву, и Иван Алексеевич снял уцелевший и наспех починенный дом вблизи Страстного монастыря и затейливой церковки Рождества Богородицы в Путинках. (Сейчас на месте Страстного монастыря находится кинотеатр «Россия», а некогда монастырь примыкал к древней стене Белого Города.) В восемнадцатом столетии стену снесли и разбили на ее месте кольцо бульваров. Поэтому перекрестки улиц и Бульварного кольца до сих пор хранят название «ворот» — это память о реально существовавших въездных воротах в городской центр, или Белый Город.
В этом же старинном, просторном доме в Путинках поселился и брат Ивана Алексеевича, сенатор Лев Алексеевич Яковлев, имевший придворное звание камергера. В недавнем прошлом Лев Алексеевич был видным дипломатом.
Москва тех лет превратилась как бы в огромную строительную площадку и возрождалась из руин и пепла с необыкновенной быстротою. Чинились взорванные французами при отступлении кремлевские стены и башни — Никольская, Собакина, Арсенальная и другие. Расширилась и очистилась Красная площадь — там засыпали старый Алевизов ров и убрали ненужные мосты к Спасской, Никольской и Константино-Еленинской башням.
Против Сенатской башни Кремля, спиною к Торговым рядам, воздвигли памятник героям освобождения Москвы от поляков в 1612 году, Минину и Пожарскому. Это была первая в Москве городская скульптура, и народ понимал ее как памятник победы над иноплеменниками в двух войнах.
Возник Александровский сад над взятой в трубу Неглинною рекою. Интересно задуманный Манеж (строил его инженер Бетанкур) украсил сразу две улицы — Моховую и Неглинную. Классическое здание Манежа протянулось вдоль Александровского сада между выходами к нему двух улиц — Большой Никитской и Воздвиженки. Оперный Большой театр получил свой великолепный фасад с колоннадой и колесницей по проекту Бове, а Тверскую улицу уже в начале 30-х годов завершила и как бы приподняла великолепная Триумфальная арка в честь побед российского оружия.
Задуман и заложен был необыкновенный храм на Воробьевых горах по смелому проекту молодого зодчего Александра Лаврентьевича Витберга… Впоследствии недобрая судьба при недобрых обстоятельствах свела с ним в Вятке Александра Герцена…
И пока сотни, тысячи новых дворянских и купеческих особняков грибоедовской Москвы сооружались в той уютной и красивой манере, что получила потом широкое признание под именем московского ампира, семейство Яковлевых зажило в одном из таких зданий в Путинках, обычной, беспечной жизнью богатых и праздных московских господ…
2
Детство Герцена-Искандера приходится на те ранние годы XIX века, о которых Лев Толстой сказал: «Времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий[2], которых так много развелось в наше время, — те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или в карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой, пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики: и бублики, — когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи[3], когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и с другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков; когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света — наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных…»[4]
Звали мальчика в родительском доме Шушкой. Рос он одиноко, баловнем, малейшее противоречие выводило его из себя. Игрушек у него бывала пропасть, большей частью дорогих. Имелась у него, например, французская заводная кухня, где целая толпа поваров и поварят пекла, рубила секачами котлеты, украшала блюда зеленью. Чтобы узнать, как это устроено, Шушка разломал заднюю стенку кухни, вытащил заводные пружины, и все повара замерли навсегда. Успокоился на том и Шушка.
Сумрачный глава дома, Иван Алексеевич, рано заметил в сыне черты большой одаренности. По-своему он очень любил Шушку и каждый вечер приходил в детскую провожать мальчика ко сну, попыхивая короткой своей трубкой. Он считал необходимым покурить в спальне сына, чтобы прогнать из комнаты вредных насекомых. А чтобы мальчик не простужался, раскрывшись ночью, нянюшка пришивала на живую нитку его простыню к матрасу, и уж поверх этой приметанной простыни сам отец укрывал его байковым одеялом. Обкурив кроватку, перекрестив сына и убедившись, что в стальной все в порядке, отец уходил к себе.
Пока оба брата Яковлевы — отставной гвардии капитан и сенатор — жили под одной крышей в Путниках, у Страстного монастыря, в доме насчитывалось крепостной прислуги более шестидесяти человек, не считая «мелюзги» — дворовых детей, казачков, мальчиков на побегушках. Эту крепостную молодь сызмальства приучали к службе в доме, то есть к лени, безделью и лганью. А сверх слуг крепостных были еще и наемные служащие — иностранцы камердинеры, Сашина гувернантка мадам Прово, впоследствии немец-гувернер…
Легко представить себе, сколько добра и всяких припасов требовалось в доме, чтобы кормить, одевать и ублажать господ, содержать такую челядь и такое количество домочадцев. Нужны были настоящие склады, огромные потреба и хранилища рядом со всевозможными службами, начиная от бани и кончая конюшней с каретным сараем. А чтобы наполнять эти погреба и хранилища, требовались целые обозы, не уступавшие по грузоподъемности среднему товарному поезду.
Прибытие этого обоза бывало в родительском доме мальчика Шушки едва ли не самым крупным и хлопотным событием в году.
Отряжали обоз крепостные оброчные крестьяне самого большого из всех яковлевских поместий. Его называли «керенским имением» — по Керенскому уезду Пензенской губернии, где это поместье находилось. Свой оброк помещику Яковлеву крестьяне его платили не деньгами, а провиантом — сотнями пудов муки, крупы, масла, меда, мороженого мяса, десятками голов крупного и мелкого скота; на дворе у Яковлевых в дни прихода обоза стоял оглушительный рев, блеянье, хлопанье крыльев, поросячий визг, гоготание гусей, надменная болтовня индюков, кудахтанье сотен кур.
В часы приемки всей этой провизии, скота и птицы во дворе присутствовал вместе с матерью и Шушка. Как потом рассказывали очевидцы, он очень рано стал вмешиваться в сложные хозяйственные дела. Кто-то из слуг, любивших мальчика, шепнул ему, будто писарь Епифаныч и керенский староста Шкун берут с крестьян взятки, чтобы облегчить им сдачу господского оброка и отпустить со двора побыстрее.
Мальчик становился рядом со сдающим свой товар мужиком и внимательно следил, чтобы тот не передал старосте ничего липшего. Положение резко менялось, когда сам староста, дрожа от страха, шел к Ивану Алексеевичу подписывать квитанции за сданный крестьянами оброк. Тут уж Шушка горой становился за старосту!
Иван Алексеевич имел обыкновение (как, впрочем, большинство помещиков), что называется, тянуть душу из своих бурмистров и приказчиков. При малейшем подозрении в неисполнительности он сердился, выходил из себя, грозил обрить старосте его седую бороду, прогнать с должности, наказать розгами при всем народе.
Облитый потом от волнения, староста в ответ только кланялся в ноги, молил о прощении за несуществующую вину, заверял в своем рабском усердии. Такие сцены и нотации длились часа по три, и все это время Шушка не выходил из отцовского кабинета и мужественно заступался за старосту, пока отец не подписывал все квитанции за мужицкий оброк.
Мальчик был на редкость наблюдателен.
Любимец отца (в отличие от нелюбимого старшего мальчика Егора, чьей отнюдь не злой мачехой сделалась Шушкина мать, Луиза Ивановна), юный Герцен рано стал угадывать признаки нерасположения к себе всего семейства Яковлевых. С годами он и сам стал платить родственникам отца такой же неприязнью. Мальчик почувствовал, что эти люди недоброжелательно смотрят на его мать — добрую, кроткую и заботливую Луизу Ивановну. Вся дворня, мелкие служащие, дальние бедные родственники-приживалы, сельские старосты из яковлевских поместий любили ее, выражали ей свое расположение, а то и прямо отваживались давать советы, как избежать гнева и капризов главы дома. С годами он становился все более придирчивым и замкнутым.
Но кто же была эта молоденькая женщина, жившая в доме Яковлевых как будто на равных правах с членами всей семьи?
Звали ее Луиза Гааг. Была она дочерью мелкого немецкого чиновника в городе Штутгарте, росла в бедности, рано осиротела, знала только свой родной немецкий язык и даже во сне не представляла себе России. Ей едва исполнилось шестнадцать лет, когда попалась она на глаза богатому русскому барину Ивану Алексеевичу Яковлеву, когда тот скуки ради разъезжал по Европе.
Яковлев увлекся красивой Луизой, несмотря на разницу в годах (ему было уже лет под 45), и уговорил бежать с ним из-под материнской опеки. В декабре 1811 года он добыл с помощью брата фальшивый паспорт на мужское имя, переодел свою возлюбленную в мужское платье и перевез ее под видом молодого человека через российскую границу месяца за три до рождения Александра Герцена и за полгода до великого пожара.
Сашина мать вскоре освоилась в Москве со своим сложным положением в доме и немалыми заботами, материнскими и хозяйственными. Она постепенно училась русскому языку, привыкала к здешним порядкам и строго воспитывала сына (отец и дядя-сенатор только баловали Шушку).
Иван Алексеевич, «повелитель и похититель» Луизы Ивановны, привязался к ней, любил ее, но отважиться на женитьбу все-таки не смог — мешали светские предрассудки и яковлевская дворянская спесь. Вся жизнь Луизы Ивановны, весь ее «возраст красоты» отданы были заботам о сыне и капризном, как ребенок, отце мальчика. Иван Алексеевич не любил, чтобы она покидала четыре стены его дома, бывала на людях или в театре. Отдыхом от домашних забот служила ей Петропавловская лютеранская кирха и томики любимых романов на родном немецком языке. Умер Иван Алексеевич в 1846 году, за пять лет до трагической гибели самой Луизы.
Ей нередко приходилось сносить от него горькие обиды, даже оскорбления — дразня ее, Иван Алексеевич называл ее иногда «барышня со своим сынком», — однако никаких других женских привязанностей у него за всю жизнь с Луизой Ивановной не было, в доме она распоряжалась по собственному усмотрению, он никогда не давал ее в обиду другим и завещал ей наравне с сыновьями очень большое состояние, навсегда обеспечив будущее Луизы Ивановны без всяких оговорок и условий. «Сердце старика было больше открыто любви и даже нежности, нежели я думал», — писал о своем отце уже в зрелые годы сам Герцен. Разумеется, Иван Алексеевич никак не мог предугадать, как мало лет оставит ей судьба, чтобы пожить без него свободной, обеспеченной и еще нестарой женщиной…
Главной ее заботой, гордостью и радостью был сын Александр.
«Вся ее жизнь — в тебе», — писали ему впоследствии близкие люди. Сын платил матери благодарной любовью и заботой до последнего дня ее жизни, трагически оборванной морской катастрофой. Гибель матери и сына Коли он описал в «Былом и думах».
3
…Взгляд пассажира спального купе нечаянно упал на газету в руках соседа.
Газета была женевского издания, на французском языке. «Суисс радикаль», то есть «Радикальная Швейцария». Хм, любопытно! Еще любопытнее большая заметка, набранная крупным шрифтом с подзаголовком. В ней фигурирует русское имя, притом древнее, княжеское…
Владелец газеты задремал, видимо, именно на этой заметке. Поезд тихо двигался берегом Женевского озера. Даже сам воздух в купе казался голубоватым, на потолке ходили радужные солнечные зайчики. Пассажир напряг зрение, чтобы хоть бегло прочитать, что пишут про князя Оболенского. О его громком здешнем деле он кое-что знал еще до выезда из России.
Князь Алексей Васильевич Оболенский, в недавнем прошлом губернатор Москвы, член Сената, ныне состоящий на действительной военной службе в высоком ранге генерал-лейтенанта, особо доверенное лицо императора Александра Второго, находится в Швейцарии с необычайным визитом, вовсе не имеющим касательства к делам государственным. Князь Оболенский занят семейными розысками!
Он ищет свою жену, Зою Сергеевну, в девичестве — графиню Сумарокову, дочь графа Сергея Павловича Сумарокова, даму из высшей придворной знати России.
Княгиня, оказывается, уже несколько лет назад покинула мужа и самостоятельно живет за границей, в Италии и Швейцарии, вместе с тремя дочерьми.
В эмиграции она познакомилась с молодыми русскими революционерами и стала пользоваться их доверием. Друзья шутливо прозвали ее «княгиней-нигилисткой». Известный анархист Бакунин, друг и покровитель злокозненного террориста Нечаева, дал княгине Оболенской рекомендательное письмо к редакторам «Колокола» Герцену и Огареву, вождям зарубежной русской эмиграции старшего поколения.
Бакунин охарактеризовал в письме Герцену княгиню Оболенскую как одну из редких женщин России, которые не только сердцем и умом, но и волею, а когда нужно, и делом, сочувствуют революционерам.
Узнав о таком образе мыслей своей жены, князь Оболенский потребовал, чтобы она немедленно вернулась в Россию. Зоя Сергеевна ответила презрительным молчанием. Супруг пришел в бешенство. Обеспокоился и отец княгини, граф Сергей Сумароков. Самые тревожные слухи о поведении княгини Оболенской полностью подтверждал русский посланник в Берне (кстати, будущий российский министр иностранных дел), Николай Карлович Гирс.
Вот что Н. К. Гирс доносил товарищу министра иностранных дел России, сенатору В. И. Вестману: «…подпав под пагубное влияние политических эмигрантов вреднейшего толка, эта дама в конце концов порвала узы, связывающие ее с семьей и родиной».
По донесениям тайной полиции, дело обстояло еще опаснее: Оболенская будто бы открыто вступила даже в гражданский брак с польским революционным эмигрантом Валерианом Мрочковским и, главное, воспитывает дочерей в духе свободы, уважения к труду, любви к угнетенному народу.
— Во что бы то ни стало вернуть несчастных детей в наше общество, — порешили и граф-дедушка и князь-папа трех девочек Оболенских.
И оба знатнейших лица в Петербурге, граф Сумароков и князь Оболенский, обратились за помощью в этом сомнительном деле в самую верховную инстанцию страны — лично к царю Александру Второму. Царь дал своим приближенным благожелательное согласие и повелел министру иностранных дел князю Горчакову, а вместе с ним и шефу жандармов графу Петру Шувалову принять все нужные меры и исполнить желание князя Оболенского.
Дальше события стали нарастать быстро: и царские дипломаты, и полицейские агенты (а их у царской полиции было в одной Швейцарии весьма немало!) с жаром принялись за исполнение высочайшей воли. Для начала им не стоило никакого труда установить, что княгиня Оболенская с дочерьми снимает дом в швейцарском курортном городке Веве, в кантоне Во. Было очевидно, что княгиня ничего не подозревает о готовящейся против нее операции.
Самую деятельную роль взял на себя князь-отец. В сопровождении своего брата он приехал в Швейцарию, и ранним июльским утром, когда весь городок мирно спал на восходе солнца, под окнами княгини собрались полицейские агенты, швейцарские жандармы, даже представители республиканского парламента, например, в лице его депутата г-на Серезоля. Жандармами командовал супрефект полиции г-н Дюпра. Оба брата Оболенских стали за дверью, и, когда горничная отомкнула запор, вся мощная группа ворвалась в дом. Желая отличиться перед русским князем, швейцарские жандармы отталкивали кулаками княгиню, умолявшую дать ей хоть проститься с детьми.
— А где же… Катя? — возопили братья Оболенские. Ибо две меньшие сестрицы оказались в постелях (девочки были больны), а постель старшей пустовала. По счастливой для княгини случайности старшая, Екатерина, находилась в другом доме.
В сопровождении жандармов торжествующий князь Оболенский повез плачущих девочек в Берн. Оттуда их спешно переправили в Россию, хотя друзья княгини сразу же поспешили ей на помощь и пытались отбить девочек у князя и полицейских, чтобы вернуть матери. Пытались они протестовать и в печати — об этом свидетельствовала заметка в «Суисс радикаль».
Попытка русских и польских эмигрантов воротить матери детей обошлась им дорого. Силы были неравны!
Николая Исаковича Утина и Алексея Яковлевича Щербакова грубо избили, причем Утина сбросили с площадки вагона прямо на рельсы. Против Валериана Мрочковского провокационно возбудили грязное уголовное дело.
Князь Оболенский отвез девочек в Россию и недели через две вернулся в Швейцарию для розысков старшей дочери и непокорной жены. Обеим удалось скрыться. Впоследствии Катя Оболенская стала женой знаменитого русского врача Сергея Боткина, видного общественного деятеля. Имя его уже при Советской власти было присвоено крупнейшей московской больнице.
Сам президент швейцарской конфедерации г-н Вельте оказал русскому князю полное содействие и буквально развязал ему руки даже для прямого рукоприкладства.
С целой группой сыщиков, агентов и жандармов князь рыскал по Швейцарии, грубо вламывался в квартиры русских эмигрантов. В доме, где жил Бронислав Жуковский, они взломали запертую дверь и произвели разгром квартиры. Подверглись налетам и типографии органов эмигрантской печати. Газета «Суисс радикаль» сообщила вопиющие подробности.
Этот скандал взволновал членов швейцарского федерального, парламента. Шутка ли, полицейский произвол в свободном республиканском государстве! Они потребовали объяснений у правительства. Сессия парламента собралась 14 августа. Выступавшие вспомнили, что в начале лета то же самое правительство выслало из Швейцарии итальянского революционера Маццини, дружившего со многими швейцарскими деятелями. Неслыханное дело! Полицейские власти республиканской Швейцарии выдали революционера монархическим властям в Италии!
Президент Вельте сумел, однако, быстро успокоить взволнованные чувства парламентских коллег. Он сослался на то, что в обоих случаях — в инциденте с высылкой Маццини и в эпизоде с похищенными детьми — эмигранты, мол, заходили слишком далеко в своей политической деятельности и намеревались «сделать из нашей страны центр своего активного политического движения». После столь внушительного оправдания полицейского произвола парламент перешел, как говорится, к очередным делам…
Кстати, можно себе представить, с каким облегчением вздохнул при этом царский посланник г-н Н. К. Гирс, сильно опасавшийся дипломатических осложнений и громких публичных протестов в связи с делом княгини Оболенской. И княжеский титул, и генеральский кулак ее супруга, видимо, перевесили свободолюбие парламентариев.
Сосед пассажира открыл глаза, приподнялся и оправил костюм. Поезд стоял в Селиньи. Что-то задержало впереди железнодорожное движение, скорый немного опаздывал. Небо и снега полиловели, а воды Женевского озера кое-где уже отражали первые огни. Пассажир из России достал сигару и попросил у соседа разрешения курить. Тот равнодушно кивнул. Это был болезненного вида молодой человек с грубоватыми руками и усталым лицом.
— Кажется, интересная заметочка, — обратился к нему пассажир по-французски. — Некрасивый случай для нейтральной страны. Не правда ли?
Молодой человек безнадежно махнул рукой.
— Теперь они ищут третью дочь. В типографии, где я служу, был очень грубый обыск. Хозяин у нас поляк с русской фамилией.
Сосед пассажира говорил по-французски со славянским акцентом и затруднялся в выборе слов.
— Послушайте, сосед, да вы не мой ли соотечественник? Может, вам легче по-русски или по-польски? Прошу пана!
— Родной мой язык — словенский, а жил с детства и во Львове (австрийцы зовут его Лембергом), и в Варшаве. Могу и по-русски, и по-польски, и по-сербски… Мое имя Вольдемар. А фамилия… Бог с ней, все равно забудете, я человек маленький. Как прикажете вас величать?
— Постников, Николай Васильевич. Отставной штаб-ротмистр Новомиргородского уланского полка… Вы, г-н Вольдемар, по делам путешествуете или вроде меня, для поправления здоровья?
— По делам эмигрантским ездил, не по собственным. Дела-то у нас неважные, заказов маловато, а какие заказы есть, так это больше не ради коммерции. Да вам, наверное, про это неинтересно…
— Что вы, г-н Вольдемар, совсем напротив! Я и сам издательским делом занимался. С тех пор, как в отставке… Вы что же, и на русском печатаете?
— И по-русски. В одной Женеве сейчас русских типографий три: я у Антона Даниловича Трусова служу, и еще, бывает, перепадает мне работа в типографии г-на Элпидина, Михаила Константиновича. Журнал они выпускают, «Народное дело», может, слышали?
— А… третья русская типография?
— Та г-на Чернецкого, а вернее сказать, Александр Иванович Герцен ее основатель. Она сперва в Лондоне была, потом не очень давно ее в Женеву перевели. Дела-то и у них как будто тихие.
— Почему же так? Из Лондона они на всю Россию гремели!
— Ныне времена другие. В самой России, как изволите знать, с цензурой полегче стало, реформы идут, земства, суды новые. Гласности больше, пишут открыто и печатают быстро, только успевай читать. Наши отсюда не всегда поспевают, быстрее надо. Возможно, типографию поближе к России пододвинуть полезно. Отсюда за всеми новшествами не поспеешь следить. Так я понимаю. Может, конечно, я маловато осведомлен.
— Почему же, может, вы и правы… Так вы сказали, у вас в типографии обыск недавно был? Или тиснули что недозволенное?
— Кабы хоть тиснули! А то просто так, за здорово живешь! Вломились жандармы, на хозяина нашего, Антона Даниловича Трусова, пистолет навели, прямо в грудь! А меня и печатника — в каморку, под замок! Несколько часов просидели, пока они рылись, полный обыск производили. Нет ли, мол, княжны Кати Оболенской среди станков и касс наших! Смех один! Князь Оболенский полицейским все покрикивал: «Ищите лучше, отсюда, мол, на весь мир самая страшная крамола идет!»
— Нашли они что-нибудь эдакое, опасное? Вроде «Народного дела»?
— Так «Народное дело» не у нас, а у Элпидина печатается, хотя хозяин наш, Трусов, этим делом как раз там и занимается, только на чужих станках, элпидинских… Он там и набором и печатью руководит. Ну а у нас ничего такого, особенного, не нашли, только насорили и перепутали все. Время отняли, заказ один мы теперь к сроку не выполним. Опять же, нашествие получилось вроде татарского, как ни говори, жутковато, и настроение всем испорчено.
— Невероятно! Вот уж никогда бы такого про Швейцарию не мог и подумать! И… полиция швейцарская всему этому помогала? А как давно все это случилось?
— Да на этой неделе! Тех эмигрантов, наших сотрудников, что княгине пробовали помочь, будто под арест брали, теперь выслать грозят.
— Бывало, герценовский «Колокол» про такие дела первым трезвон поднимал. На весь мир крещеный!
— Я к Александру Ивановичу материал и возил, по совету Николая Платоновича Огарева. Герцен сейчас в Париже, ему теперь все подробности известны, материал у него в руках. Он хочет и сам в газеты написать, и другим писателям материал этот передать. Видел я его в Париже второпях. Сказал, давно его, дескать, ничего так не волновало, как произвол над Зоей Сергеевной Оболенской. Пусть-ка, говорит, теперь почитают в Швейцарии «Ла Либерте» и «Сиекль». Передайте, сказал, всем своим, мы, мол, себе и представить не могли, что швейцарская конфедерация, «оплот права и свободы», докатилась до того, что станет филиалом петербургской полиции.[5]
— Скажите, пожалуйста, г-н Вольдемар, кто же из здешних, женевских книготорговцев принимает ваши издания к продаже? Как их за границей распространяют? Я ваши издания везде видел — и в Париже, и в Петербурге — из-под полы, конечно, — и в Венеции даже, в магазине Висконти.
— Этих дел я в точности не знаю, но и Женеве книготорговец г-н Георг нашими изданиями торгует. В его магазине вы всегда любые наши книги и журналы найдете. Наверно, у него договор с Герценом.
Поезд сильно дернуло. Паровоз брал с места крутой подъем. Несколько мгновений, и станционное здание курорта Селиньи поплыло назад.
— Ну, кажется, тронулись, — с облегчением вздохнул Постников. — Шаффнер, почему стояли долго?
— Ночью размыло дождями горный склон, и произошел небольшой оползень. Ничего страшного, господа, опоздание невелико. Через час — Нион, а еще через полчаса за ним — Женева, главный вокзал.
Поезд шел плавно, и от качки утомленный собеседник Постникова задремал. А может, забеспокоился, не слишком ли много сказал постороннему? Забыл, дескать, старинную российскую мудрость; ешь пироги с грибами, а язык держи за зубами. Ничего, пусть не тревожится, не на сплетника напал, а на охотника… Паренек, видно, не совсем глуп, да не больно осведомлен. Жаль, что дремлет, а то надо бы еще и про Тхоржевского… Впрочем, и те издатели-эмигранты, у кого он работает, тоже, верно, имеют отношения с Огаревым и самим Герценом… Что ж, нечего терять и эти золотые полтора часа до Женевы! Их никто не воротит, а использовать можно и сейчас с толком! Говорят, старый друг лучше новых двух. Искандеров друг, Николай Огарев… С некоторых пор близок и к г-ну Бакунину, а возможно, через того и к Нечаеву… Придется, значит, освежить в памяти кое-что и о г-не Огареве…
Глава третья. Московский университет — alma mater Герцена и Огарева
Юность! Ты как восходящее солнце, весь мир обливаешь розовым светом… И пусть юноши будут юношами, пусть отдаются верованиям, пусть рвутся к мировым подвигам, к великому; пусть отдаются дружбе, любви, льют слезы грусти и восторга. Душа, раз отдавшись широкому разливу, не забудет его никогда…
Счастлив тот, кто сохранит юность души в старости, кто не даст душе окаменеть, ожесточиться. Да будет благословенна юность!
Татьяна Пассек, подруга детства и юности A. И. Герцена и Н. П. Огарева
1
Из юношеских лет Александра Герцена и Николая Огарева г-н Постников, пассажир швейцарского поезда, помнил с некоторых пор только клятву на Воробьевых горах да еще детское имя Огарева — Ник.
Постников полистал герценовскую книгу «Былое и думы» и перечел описание эпизода с клятвой…
«Раз после обеда отец мой собрался ехать за город. Огарев был у нас, он пригласил и его с Зонненбергом (немец-гувернер Ника. — P. Ш.). Поездки эти были нешуточными делами. В четвероместной карете „работы Иохима“ (придворный поставщик. — Р. Ш.), что не мешало ей в пятнадцатилетнюю, хотя и покойную службу состареться до безобразия и быть по-прежнему тяжелее осадной мортиры, до заставы надобно было ехать час или больше (имеется в виду тогдашняя Лужнецкая застава на отрезке Камер-Коллежского вала за Новодевичьим монастырем. Впоследствии на этом отрезке вала прошла линия Московской Окружной железной дороги. — Р. Ш.). Четыре лошади разного роста и не одного цвета, обленившиеся в праздной жизни и наевшие себе животы, покрывались через четверть часа потом и мылом; это было запрещено кучеру Авдею, и ему оставалось ехать шагом. Окна были обыкновенно подняты (закрыты. — Р. Ш.), какой бы жар ни был; и ко всему этому рядом с равномерно-гнетущим надзором моего отца беспокойно суетливый, тормошащий надзор Карла Ивановича, — но мы охотно подвергались всему, чтоб быть вместе.
В Лужниках мы переехали на лодке Москву-реку… Отец мой, как всегда, шел угрюмо и сгорбившись; возле него мелкими шажками семенил Карл Иванович, занимая его сплетнями и болтовней. Мы ушли от них вперед и, далеко опередивши, взбежали на место закладки Витбергова храма на Воробьевых горах (примерно площадка перед зданием университета. — P. Ш.).
Запыхавшись и раскрасневшись, стояли мы там, обтирая пот. Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас, постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу.
Сцена эта может показаться очень натянутой, очень театральной, а между тем через двадцать шесть лет я тронут до слез, вспоминая ее, она была свято искренна, это доказала вся жизнь наша… Мы не знали всей силы того, с чем вступали в бой, но бой приняли… С этого дня Воробьевы горы сделались для нас местом богомолья, и мы в год раз или два ходили туда, и всегда одни».
А ведь мальчикам этим было всего-навсего… пятнадцать и тринадцать годков! Клятва их прозвучала примерно через год после казни пятерых декабристов на кронверке Петропавловской крепости в Петербурге. «Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души», — написал Герцен, и очень близкие слова есть в «Исповеди» Ника Огарева.
Еще два года спустя, 17-летним, в октябре 1829 года Герцен был зачислен в студенты Московского университета. Его друг Ник был на полтора года моложе. Он стал сопровождать студента Герцена на университетские занятия. Да и дома Ник, один или с учителями, усиленно занимался философскими, экономическими и юридическими науками, иностранными языками и литературным чтением. С января 1832-го Огарев тоже поступил в университет на правах вольнослушателя, избрав факультет нравственно-политический (так назывался тогда юридический факультет).
Московский университет был особым миром, непохожим на остальной мир фамусовской Москвы — чиновничий, барский, военный, обывательский, торговый, ремесленный, церковный… Университет чем-то напоминал давно ушедшую в прошлое, ставшую как бы древнерусской легендой вечевую новгородскую вольницу.
Сам воздух университетских аудиторий был особенный — в нем совсем не ощущалось затхлого душка чинопочитания, лести, фискальства, подобострастия, лицемерия. Так и задумывал его Ломоносов, но отнюдь не этого духа вольнолюбия желали сиятельные устроители и попечители с монархом во главе.
По их предначертаниям, университет должен был служить рассадником науки и просвещения, но, конечно, в строгих рамках официальной благонамеренной народности и православия. Предполагалось, что аудитории будет заполнять преимущественно дворянская молодежь и что она в дальнейшем возьмет в свои чистые руки, не знающие ни черного труда, ни взяток, ни затрещин, все дело народного образования и развития наук в России, без излишнего вольнодумства и крайностей. Однако университетская действительность оказалась иной, притом гораздо ближе к тому, о чем как раз и мечтал крестьянский сын Ломоносов.
Богатые и родовитые юноши не так-то охотно пошли в университеты! Их вовсе не привлекала, а скорее отпугивала та будущность, что ждала выпускников: нива науки, медицины и просвещения, ожидавшая посева разумного, доброго, вечного!
В самом деле, лишь незначительное меньшинство способных молодых дворян задумывалось о научных открытиях, лабораторных исследованиях и ученых изысканиях, хотя бы при университетских кафедрах. Большинству же абитуриентов открывались и еще более скромные должности — гимназических учителей, больничных докторов, на худой же конец — офицерские обязанности в армии, потому что университетский диплом давал право на младший офицерский чин, а годы студенчества засчитывались в стаж службы.
Все это, конечно, мало привлекало тех, кто желал попасть в дипломаты, сделаться гвардейским офицером, метил в придворные или мечтал стать на ступеньку той лестницы, что ведет к высшим государственным постам. Такую карьеру мог сулить, скажем, Царскосельский лицей, Пажеский корпус, частные привилегированные пансионы, эскадрон кавалерийских юнкеров при школе гвардейских прапорщиков.
И вот вопреки ожиданиям и планам правительства потекли в университеты, притом как раз охотнее всего в Московский, молодые разночинцы, сыновья обедневших, мелкопоместных дворян (женщины в российские университеты не допускались, исключение позднее было сделано лишь для одного Гельсингфорсского), и даже лица податных сословий, состоятельного мещанского, а как исключение даже и крестьянского происхождения: изредка попадали в университет одаренные дети крепостных крестьян, преимущественно из дворовых людей, чьим владельцам удавалось отдавать этих мальчиков в классические гимназии или в так называемые мещанские классы, существовавшие некоторое время при гимназиях. Если такой подневольный гимназист оканчивал курс с отличием, а его покровитель или владелец готов был оплатить университетское образование, этот юноша — выпускник гимназии мог стать и студентом. Разумеется, огромное большинство студентов, даже и беднейших, принадлежало к сословиям свободным, или, как тогда говорили, «неподатным».
Профессорская же среда в университете поначалу была преимущественно иностранной. Но и в эту среду стали быстро вступать талантливые люди «российского корня», такие, как археолог, впоследствии этнограф, Н. И. Надеждин, историки Т. Н. Грановский и М. П. Погодин (сын крепостного), физик М. Павлов, ботаник И. Двигубский, математики П. Щепкин и Д. Перевощиков. Университетские лекции помогли развитию Тургенева и Белинского, Ушинского и Пирогова. В Московском университете познавал науки и юный Лермонтов…
Университет был многолюден: восемь-девять сотен будущих врачей, учителей, ученых ежедневно наполняли его аудитории (в иных российских университетах число студентов иногда опускалось человек до ста). В жизни Москвы университет был самым важным центром общественной мысли. Да и во всей остальной обширной империи думающие люди с надеждой смотрели на московских выпускников, а развращенное лихоимством провинциальное чиновничество просто их побаивалось…
Обновленный после пожара, главный корпус с монументальной колоннадой его портика над лестничными крыльями и низкой входной аркой с Моховой улицы окружали целые кварталы служебных строений, флигелей, жилых корпусов, где находились квартиры профессоров (в одной из них и жил Грановский).
В этой части Москвы лавочники и извозчики обращались к любому молодому человеку со словами: «Г-н студент!» Так примелькалась в Охотном ряду, на Моховой и параллельной ей Неглинной улицах вдоль Александровского сада учащаяся в университете молодежь.
В то время, когда к ней принадлежали Герцен и Огарев, устав университета был еще очень демократичен: ректор и деканы факультетов избирались сроком на один год. Всеми делами вершил совет, имевший право выбирать профессоров для кафедр. Совет утверждал также решения отдельного студенческого суда, который выносил приговоры даже по некоторым уголовным делам студентов.
Над собою университет знал только власть Сената и так называемого попечителя, назначаемого Сенатом для наблюдения за деятельностью университета. И напротив, подчинялись университету во всем учебном округе все учебные заведения — гимназии, воспитательные дома и детские приюты, институты благородных девиц, училища технические и т. д.
Аудитории университета были просторны, и посещать их могли люди посторонние, желавшие послушать того или иного профессора. Так, на знаменитые лекции Грановского по западноевропейской истории собиралась буквально вся тогдашняя образованная Москва, в том числе женщины. Студенты в те времена еще не носили формы, и подчас их трудно бывало отличить от гостей…
Однако надо всей этой университетской вольницей уже накапливались тучи после петербургских событий 14 декабря 1825-го… Царь Николай Первый возненавидел университетский дух, особенно когда ему доложили, что многие декабристы получили образование в университетах. Ему услужливо уточнили, дескать, Каховский, Якушкин, оба брата Муравьевы, Трубецкой…
Университетское самоуправление начали потихоньку ограничивать. Отняли право руководить низшими учебными заведениями. С 1835 года новый устав подчинил университет непосредственно попечителю, срок ректорства продлили до четырех лет, ввели обязательную форму для студентов, запретили студенческий суд.
Усилился надзор и за студенческими кружками, до тех пор занимавшимися тем, что интересовало студентов, по их вкусу и выбору. Во главе университетских кружков в тридцатые годы находились такие люди, как Николай Станкевич и Александр Герцен…
«Как большая часть живых мальчиков, воспитанных в одиночестве, — рассказывает Герцен о своих студенческих годах, — я с такой искренностью и стремительностью бросался каждому на шею, с такой безумной неосторожностью делал пропаганду и так откровенно сам всех любил, что не мог не вызвать горячий ответ со стороны аудитории, состоявшей из юношей почти одного возраста (ему шел тогда 18-й год. — P. Ш.)… Неотлучная мысль, с которой мы вступили в университет… что здесь мы бросим семена, положим основу союзу. Мы были уверены, что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым, и что мы будем в ней…
Молодежь была прекрасная в наш курс… Порядочный круг студентов не принимал больше науку за необходимый, но скучный проселок, которым скорее объезжают в коллежские асессоры… С другой стороны… наука не отвлекала от вмешательства в жизнь, страдавшую вокруг… Мы и наши товарищи говорили в аудитории открыто все, что приходило в голову; тетрадки запрещенных стихов ходили из рук в руки, запрещенные книги читались с комментариями, и при всем том я не помню ни одного доноса из аудитории, ни одного предательства».
Лишь однажды некий, по выражению Герцена, «пустой мальчик» из университетской аудитории проговорился матери о студенческом сговоре против грубого и непопулярного профессора Малова. Мать студента сообщила ректору о доносе сына. В результате нескольким студентам пришлось посидеть в карцере, а разоблаченному доносчику не дали даже кончить курса — ему пришлось уйти из университета. Кстати, увенчался полным успехом и студенческий протест — покинул кафедру и Малов. Сам царь был вынужден согласиться со студенческим решением и утвердить изгнание Малова за университетские ворота!
2
…Прошел всего один учебный год со дня вступления Герцена в университет на Моховой. Промелькнуло каникулярное лето в живописном имении Васильевском над Москвою-рекою между Старой Рузой и Звенигородом. Начался второй учебный сезон…
И в эту осень 1830 года страну постигло бедствие: та самая холерная эпидемия, что задержала Пушкина в его Болдине, унесла по всей стране тысячи жизней и вызвала крестьянские бунты и волнения. Болезнь началась в Оренбурге, перекинулась на Астрахань, затем на Москву, а военные действия русского царя против восставшей Польши помогли эпидемии перемахнуть и в Западную Европу.
Помещичьи семьи покидали Москву — казалось, в деревне легче сласти от заразы детей. Семья Огарева увезла Ника в имение. Студентам же, особенно медикам, пришлось держать настоящий экзамен мужества и самоотверженности.
С сентября 1830 года учебные занятия в университете прекратились. Москва помрачнела и выглядела как осажденный город. По улицам полицейские сопровождали окрашенные в белый цвет кареты с больными и черные повозки с мертвыми. Духовенство служило молебны, у застав стояли военные караулы, цепи солдат днем и ночью несли строгую охрану и стреляли в тех, кто пытался тайком попасть в город или выбраться из него.
Девятнадцать лет спустя Александру Герцену пришлось пережить такую же страшную эпидемию в Париже. Вот как он сравнивал действия московской общественности в 1830-м и положение в холерном Париже 1849 года:
«Болезнь (в Париже) свирепствовала страшно. Июньские жары ей помогали, бедные люди мерли как мухи… Правительство, исключительно занятое своей борьбой против революционеров, не думало брать деятельных мер. Бедные работники оставались покинутыми на произвол судьбы, в больницах не было довольно кроватей, у полиции не было достаточно гробов, и в домах, битком набитых разными семьями, тела оставались дни по два во внутренних комнатах.
В Москве было не так.
Князь Д. В. Голицын, тогдашний генерал-губернатор, человек слабый, но благородный, образованный и очень уважаемый, увлек московское общество, и как-то все уладилось по-домашнему, то есть без особенного вмешательства правительства. Составился комитет из почетных жителей… В несколько дней было открыто двадцать больниц, они не стоили правительству ни копейки… Купцы давали даром все, что нужно для больниц, — одеяла, белье и теплую одежду… Университет не отстал. Весь медицинский факультет, студенты и лекаря… привели себя в распоряжение холерного комитета; их разослали по больницам, и они остались там безвыходно до конца заразы. Три или четыре месяца эта чудная молодежь прожила в больницах ординаторами, фельдшерами, сиделками, письмоводителями — и все это без всякого вознаграждения».
Лишь в январе 1831-го Московский университет снова открыл свои двери для учебных занятий.
Осенью 1832 года в герценовском университетском кружке занимались его друзья и коллеги: Николай Огарев, Вадим Пассек, Николай Кетчер, Николай Сазонов, Николай Сатин, Алексей Савич, Алексей Лахтин и Михаил Носков. И никто из этих молодых людей не подозревал еще, какая горькая участь ожидает многих, и как она уже близка!
…Первый сигнал угрозы прозвучал, как пристрелочный выстрел, по соседству: по университетским коридорам пролетел слух об аресте членов другого кружка, которым руководил студент Сунгуров.
Вскоре стала известна свирепая расправа правительства над кружковцами Сунгурова, но причину такой жестокости увидели в том, что в кружок входили студенты-поляки. Их подозревали в сношениях с революционерами в Польше, где велись военные действия и царили жестокие порядки военного времени…
«Середь этого разгара, — вспоминает Герцен, — вдруг, как бомба, разорвавшаяся возле, оглушила нас весть о варшавском восстании… Мы радовались каждому поражению Дибича, не верили неуспехам поляков…»
«В самое это время (начало 31-го года. — Р. Ш.) я видел во второй раз Николая, и тут лицо его еще сильнее врезалось в мою память. Дворянство ему давало бал, я был на хорах собрания и мог досыта насмотреться на него. Он еще тогда не носил усов, лицо его было молодо, но перемена в его чертах со времени коронации поразила меня. Угрюмо стоял он у колонны, свирепо и холодно смотрел перед собой, ни на кого не глядя. Он похудел. В этих чертах, за этими оловянными глазами ясно можно было понять судьбу Польши, да и России. Он был потрясен, испуган, он усомнился в прочности трона и готовился мстить… С покорения Польши все задержанные злобы этого человека распустились. Вскоре почувствовали это и мы. Сеть шпионства, обведенная около университета с начала царствования, стала затягиваться…
…За одну дурно скрытую слезу о Польше, за одно смело сказанное слово — годы ссылки, белого ремня (солдатчины. — Р. Ш.), а иногда и каземат; потому-то и важно, что слова эти говорились и что слезы эти лились… Черед был теперь за нами. Имена наши уже были занесены в списки тайной полиции».
Первым пострадал младший из обоих друзей — Николай Огарев.
Когда сосланные в Оренбург студенты-сунгуровцы получили возможность писать письма родным, они совершили неосторожность: передали с одним чиновником послание друзьям со словами благодарности за собранные для ссыльных деньги, теплую одежду и продукты. Ссыльные писали, что погибли бы на этапе без этой товарищеской поддержки с воли. А проводил подписку среди студентов Николай Огарев, ему в первую очередь и адресовали ссыльные свои благодарственные слова. Чиновник же, которому осужденные доверились, оказался сугубо верноподданным и вручил послание… обер-полицмейстеру Москвы.
Группу кружковцев-студентов вызвал к себе начальник корпуса жандармов Московского округа генерал С. И. Лесовский. Он сказал студентам:
— На первый раз государь так милосерд, что прощает вам поступок в пользу государственных преступников. Однако полиция учредит отныне строгий надзор за всеми вами. Идите, но будьте осторожны!
Герцен успел окончить университетский курс, пока полиция еще только расставляла сети. Выпускные экзамены он держал в июне 1883 года. За сочинение на заданную тему «Аналитическое изложение солнечной системы Коперника» он был удостоен серебряной медали и утвержден кандидатом отделения физико-математических наук.
«Год, проведенный нами после курса, торжественно заключил первую юность. Это был продолжающийся пир дружбы, обмена идей, вдохновения, разгула…
Небольшая кучка университетских друзей… не разошлась и жила еще общими симпатиями и фантазиями, никто не думал о материальном положении, об устройстве будущего. Я не похвалил бы этого в людях совершеннолетних, но дорого ценю в юношах. Юность, где только она не иссякла от нравственного растления мещанством, везде непрактична, тем больше она должна быть такою в стране молодой, имеющей много стремлений и мало достигнутого. Сверх того, быть непрактическим далеко не значит быть во лжи, все, обращенное к будущему, имеет непременно долю идеализма… Я помню юношеские оргии, разгульные минуты, хватавшие иногда через край, я не помню ни одной безнравственной истории в нашем кругу, ничего такого, от чего человек серьезно должен был краснеть, что старался бы забыть, скрыть. Все делалось открыто — открыто редко делается дурное.
Я считаю большим несчастьем положение народа, которого молодое поколение не имеет юности; мы уже заметили, что одной молодости на это недостаточно. Самый уродливый период немецкого студентства во сто раз лучше мещанского совершеннолетия молодежи во Франции и Англии; для меня американские пожилые люди лет в пятнадцать от роду — просто противны».
3
Пришел июль 1834 года. Он положил конец юношескому «пиру дружбы, обмену идей, вдохновения»…
Надзор, обещанный генералом Лесовским, теперь велся тоньше. Занимался этим надзором уже другой полицейский деятель, хитрый, коварный, стремящийся к быстрой карьере полковник Шубинский, управляющий делами Московского округа жандармов.
А должную осторожность, потребованную генералом Лесовским, герценовские кружковцы отнюдь не соблюдали. Втереться к ним в доверие для ловкого полицейского агента было несложно: студенческая доверчивость, чистые университетские традиции были еще слишком свежи и привычны. В кругу молодых товарищей Герцена и Огарева, либо только что окончивших университет, либо из выпускников более ранних, уже поступивших в разные ведомства, все еще веяло духом прежней студенческой вольницы. Их новые сослуживцы тоже отчасти проникались тем же духом вольномыслия и вольнодумства.
И в этот-то круг незаметно проник отставной офицер, за что-то расставшийся с полком, Иван Иванович Скаретка, «подсадная утка» полковника Шубинского и обер-полицмейстера Цынского.
Надо сказать, что Скаретка сразу не понравился Герцену и Огареву. Они его, правда, не разгадали, Огарев после ареста сначала считал доносчиком другое лицо, однако Скаретка оттолкнул их своим вульгарным поведением, навязчивостью и умственной серостью. Саша и Ник стали избегать его, но другие приятели такой осмотрительности не проявили и вели себя в присутствии тайного агента весьма непринужденно. На выпускном вечере студента Егора Машковцева молодежь спела бойкую песенку с малопочтительной характеристикой царствующих особ. Автором песенки многие считали приятеля Герцена и Огарева, талантливого русского поэта Владимира Соколовского, ровесника всей этой ватаги вчерашних студентов.
Такая песенка была настоящей находкой для жандармов, хотя полиция выяснить автора так и не смогла. Впоследствии ее стали приписывать поэту Полежаеву.
Скаретка, услышав эти крамольные слова, тотчас доложил куда следовало. Ему велели непременно повторить вечеринку с теми же людьми и таким же пением, чтобы взять преступников с поличным.
Агент посулил ребятам еще более веселую вечеринку, сказав, что ему удалось выгодно продать кавалерийскую лошадь, а посему, мол, будет выставлена дюжина шампанского. Ни Герцен, ни Огарев приглашения не приняли, остальные, человек двадцать, явились на вечеринку. Шампанское полилось. Умы разгорячились. Песенка раздалась снова. Поэт Соколовский дирижировал хористами… Голоса еще не успели отзвучать, как двери распахнулись, полицейские во главе с обер-полицмейстером Цынским ворвались в комнату. Арестовали всех. Однако Цынский был разочарован: тех, за кем следили давно, не оказалось среди арестованных. Добраться же надо было непременно до них! Пришлось усиленно порыскать в бумагах у всех задержанных на дому. И нашли! У поэта Соколовского нашли письма кружковца Сатина. У Сатина — письма Огарева…
На другой же день после провокационной пирушки у Скаретки полиция арестовала Огарева, а через две недели — в ночь на 21 июля 1834 года — и Герцена. Потому что оказались среди бумаг Огарева «крамольные письма» Александра.
Губернатор Москвы Д. В. Голицын назначил следственную комиссию во главе с обер-полицмейстером Цынским. Сам граф Бенкендорф требовал от этой комиссии раскрыть тайного революционную организацию и обезвредить ее.
И вот Александр Герцен препровожден в Пречистенскую часть, «на съезжую», как тогда говорили. Через трое суток повезли арестанта с Пречистенки на Тверской бульвар, в обер-полицмейстерский дом, на первый допрос, в следственную комиссию…
«В большой, довольно красивой зале сидели за столом человек пять, все в военных мундирах, за исключением одного чахлого старика. Они курили сигары, весело разговаривали между собой, расстегнувши мундиры и развалясь на креслах».
Это и была комиссия под председательством генерал-майора Л. М. Цынского, московского обер-полицмейстера. Перед началом допроса старичок священник велел арестанту приложиться к евангелию и к кресту, в знак готовности говорить всю правду.
— Запираться вам нельзя, — проговорил обер-полицмейстер и многозначительно указал на уличающие документы и бумаги, письма и портреты, изъятые при обысках у арестантов и теперь разложенные на столе перед членами комиссии. — Итак, молодой человек, объявите звание ваше, имя, отчество и фамилию, сколько имеете лет от рождения, какого вероисповедания, ежели христианского, то бываете ли на исповеди и у святого причастия, обучались ли каким наукам и где; ежели состоите на службе, то где, в какой должности и с какого времени… На сей вопрос, молодой человек, равно как и на все последующие, вы дадите ответы в письменном виде. Вот бумага, перо и отдельный столик. Благоволите сесть и ответить на все вопросы с должной обстоятельностью. Одно лишь откровенное признание может смягчить вашу участь!..
Николай Диомидович, — продолжал обер-полицмейстер, повернувшись к члену комиссии по фамилии Оранский, — прошу вас с особенным тщанием вести протоколы всех допросов по настоящему делу…
Арестант только теперь хорошенько разглядел секретаря следственной комиссии: глаза скрыты за плохо протертыми очками, седые колечки волос будто приклеены к височкам, выражение лица — смесь злобы, ханжества, лицемерия и верноподданности, худые скулы, впалая грудь, сухие пальцы с крепкими ногтями, похожими на когти, — так выглядел этот старый сыщик, «поседевший в зависти, стяжании и ябедах». По должности он был секретарем канцелярии московского губернатора и в данной комиссии совмещал как бы две обязанности — аудитора, то есть следователя на военных правах, и секретаря.
Арестант Герцен узнал и еще одного участника допроса — это был жандармский полковник Н. П. Шубинский, вкрадчивый карьерист, управляющий делами Московского округа жандармов. Еще два человека в мундирах, полицмейстер Микулин и полковник И. Голицын, хранили важное молчание и никаких вопросов не задавали. Было нетрудно понять, что ласково-мягкий Шубинский — самая важная фигура в комиссии и негласно задает тон всей ее работе, хотя внешне первенствовал генерал-майор Цынский, старший по чину.
И молодой арестант принялся за письменные ответы. Их было много, до пятнадцати, и отвечать приходилось подробно. На вопрос, заданный председателем, он написал свой первый ответ:
«Титулярный советник Александр Иванов сын Герцен, 22 лет, греко-российского исповедания, ежегодно бываю на исповеди и у святого причастия, обучался в Московском императорском университете, получил кандидатскую степень физико-математического отделения и медаль, теперь же нахожусь на службе в Московской дворцовой конторе…»
— Не имели ли вы связей и сношений с людьми, желающими ниспровергнуть государственный порядок, наименуйте, кто сии лица? Не составляют ли они особого общества, где оно имеет собрания, в чем состоят главнейшие намерения его и какие предприняты или предположены средства к приведению оных в действие? Не имеют ли сообщники какого-либо принятого для себя устава, не обязываются ли какими подписками или клятвою; нет ли у них условных знаков или тайных письмян, коими передают друг другу мысли свои?
Аудитор Оранский, прочитывая этот вопрос, поднял палец и выговорил все эти слова так зловеще-многозначительно, будто и впрямь был уверен, что сейчас, тут же на месте, молодой преступник проникнется раскаянием и ужасом, раскроет тайное общество и назовет всех его участников.
Вместо такого раскаяния вольнодумец слегка усмехнулся и, почти не раздумывая, принялся снова скрипеть пером по бумаге. Он писал: «Ни к каким тайным обществам не принадлежал и о существовании таковых не знаю, равно и людей, желающих ниспровергнуть государственный порядок; так же не давал подписок, ни клятвенных обещаний, а будучи связан верноподданнической присягой его императорскому величеству, сделать сего не мог».
Сам генерал-майор Цынский громко прочитал ответ Герцена к сведению остальных членов комиссии. Последовали укоризненные вздохи и тихие, неодобрительные замечания вполголоса.
— Вы, я вижу, ничего не знаете, — проговорил сердито председатель. — Значит, сами усложняете свое положение!
Однако и допросы остальных арестованных, особенно Огарева, Оболенского, Сатина, Соколовского, дали столь же мало данных в руки следствия, и доклад комиссии не понравился графу Бенкендорфу. Остался недоволен работой комиссии и сам Николай Первый: тайного общества раскрыть так и не сумели!
Царь назначил тогда новую комиссию, во главе с другим Голицыным — Сергеем Михайловичем, попечителем Московского учебного округа, — для «ведения следствия по делу о лицах, певших в Москве пасквильные стихи». В составе второй комиссии остались аудитор Оранский, жандармский полковник Шубинский и обер-полицмейстер Цынский. Но прибавился еще один чиновник III отделения, в придворном звании камергера, почти сорокалетний князь Александр Федорович Голицын, с большим опытом иезуитски-каверзных допросов и запугивания подследственных!
Эта вторая комиссия под председательством С. М. Голицына, закончив следствие, резко отрицательно охарактеризовала и Огарева и Герцена, «хотя они в пении песен и не обнаруживаются». «Из переписки Герцена с Огаревым видно, что он смелый вольнодумец, весьма опасный для общества…»
И снова шеф жандармов Бенкендорф, один из главных тайных убийц Пушкина и Лермонтова, докладывает Николаю Первому результаты многомесячных стараний полковника Шубинского, обер-полицмейстера Цынского, аудитора Оранского и попечителя С. М. Голицына.
Увы, тайного общества так обнаружить и не удалось, но… имело место оскорбление песенкой его величества и опасная философская переписка! За такие злодеяния сам Николай определил меру наказания для трех «главных обвиняемых» — поэта Соколовского, художника Уткина и офицера Ибаева. Расправу с остальными он предоставил комиссии, на ее усмотрение.
И вот в марте 1835 года молодых узников привезли — кого из Крутицких казарм, кого из казарм Петровских — в дом князя Голицына выслушать приговор.
Он был ужасен.
Соколовский, Уткин и Ибаев приговаривались к бессрочному заключению в Шлиссельбургской крепости. Герцен и Огарев — к ссылке. Первого ссылали в Пермь, второго — в Пензу. Еще четверых отправляли в дальние губернии на гражданскую службу (Лахтин, Оболенский, Сорокин и Сатин). Остальные поступали под надзор полиции — это были «чистосердечно раскаявшиеся»…
— Так мы вам и поверили, будто у вас не было тайного общества, — сказал полковник Шубинский Герцену в одну из последних встреч с ним на следствии. — Ваше счастье, что следов и прямых улик мы не обнаружили. Просто мы вас вовремя остановили, или, проще сказать, спасли!..
Как выглядело это царское и жандармское «спасение» на самом деле, пассажир женевского поезда знал. Он хорошо помнил судьбы осужденных по делу о «пении пасквильных песен в Москве».
Поэт Владимир Соколовский. За три жутких года заморен в каземате Шлиссельбурга, доведен до чахотки, выпущен полумертвым в Вологду, скончался на Кавказе через полгода, в возрасте 31 года.
Живописец Алексей Уткин. Не вынес условий Шлиссельбургского каземата и трех лет. Погиб в самой крепости на третьем году заключения, в возрасте 30 лет.
Отставной поручик Лев Ибаев, переведенный из крепости в пермскую ссылку, впал в религиозное помешательство.
Алексея Лахтина приговорили к ссылке в Саратовскую губернию. Единственной уликой против него было письмо на философские и исторические темы, найденное среди бумаг Огарева. Лахтин рассуждал в этом письме о причинах, почему многие российские дворяне, в отличие от западноевропейских, играют в стране революционную роль. Наказание постигло Лахтина, в сущности, за одно это слово. Судьба его сложилась печально: уже в этапе он заболел, не смог вынести отрыва от доброй, любящей семьи, не выдержал тягот саратовской ссылки, непривычных условий, грубой среды. Он умер в ссылке, не достигнув и 30 лет.
Герцен и Огарев ссылку и этапы пережили, хотя Александр чуть не утонул при весенней переправе под конвоем на пароме через Волгу, по пути в Пермь, откуда его вскоре перевели в Вятку. После нескольких лет вятской, затем владимирской и новгородской ссылок Герцен смог эмигрировать в январе 1847 года за границу. Через несколько лет, в Лондоне, к нему присоединился Огарев.
Да, оба друга ухитрились избежать шубинского «спасения» в отличие от многих своих товарищей! Если бы не эмигрантская судьба и не эмигрантские связи редакторов «Колокола», пожалуй, не было бы надобности в женевской поездке к ним Николая Васильевича Постникова, пассажира скорого поезда Базель — Женева!
Глава четвертая. И вдохновенье, и любовь
А я люблю Москву, люблю ее за ее русский характер, люблю за воспоминания юности, люблю за тебя, Наташа!
А. И. Герцен, письмо к невесте Натали Захарьиной, 22 сентября 1837 года, из вятской ссылки.
1
Николай Васильевич Постников был личностью незаурядной. Одаренный воображением, хорошей памятью, умением нравиться, начитанностью, юмором, способностью внушать доверие как начальникам, так и подчиненным, обладатель немалого жизненного опыта, он хорошо подходил для деятельности редакторской, дипломатической, военной. После Крымской кампании и тягот армейской лямки он немало времени трудился в редакции широко известного журнала «Военный вестник» в штате генерала Менькова и приобрел ценный опыт в публикации историко-мемуарных военных материалов.
Однако искуснее всего Николай Васильевич бывал в амплуа внимательного молчаливого слушателя. Он был, так сказать, непревзойденным мастером слуха. Никогда не прерывал повествования лишним вопросом — или боже упаси! — поправкой, выражением скепсиса или шуткой. Но по ходу чужого рассказа тактично морщил лоб, проявляя молчаливое удивление, сочувственно смеялся, угадав намерение рассмешить, мрачнел или вздыхал столь искренне, что повествователь увлекался до самозабвения и уж не мог остановиться, не обнажив душевных глубин.
Кое-что из рассказанного ниже, в этой главе, Николай Васильевич почерпнул из чужих повествований и литературных воспоминаний, однако, как удивились бы сами герои, когда б узнали, по каким сокровенным и заповедным источникам г-н Постников сумел дополнить слышанное и читанное!..
Далеко в прошлое вернули г-на Постникова, подъезжающего к Женеве, мысли о трудной и счастливой поре в жизни Александра Герцена — поре его первых литературных успехов. То была для него и полоса первой, большой, разделенной любви…
…Парковая листва в имении Загорье будто совсем еще и не поредела, а в кронах вековых лип, как проседь на мужских висках, проявилась первая, еще нежная и неотвердевшая позолота. У пятипалых кленовых листьев чуть наметился нарядный багряный отлив. Задумчивая и грустная девушка Наташа одиноко бродила по этим аллеям. Она прислушивалась, как меняется, становится суше шелест листьев. После каждой ветреной ночи под ногами прибавлялось опавшей парковой красы.
Второй, или по-крестьянски яблочный, спас выдался в августе 1837 года ведреным и обильным плодами даже здесь, в Подмосковье, издавна славном грибами, ягодами и лесной дичью более, нежели яблоками и грушами. Но среди всего осеннего изобилия в садах и огородах Загорья девушка Наташа чувствовала себя одинокой, чужой и обездоленной.
Имение принадлежало той самой «княгине Марье Алексеевне», о чьем суждении в московском свете так сокрушался грибоедовский Фамусов.
Княгиня Мария Алексеевна Хованская, урожденная Яковлева, приходилась теткой Александру Герцену. В старомосковском доме Хованских на Малой Бронной росла и воспитывалась с восьмилетнего возраста живая игрушка княгини Марьи ее бедная племянница Наташа Захарьина, будущая невеста опального Искандера.
Летом ее увозили в Загорье, где она чувствовала себя как подневольный зверек, выпущенный на летнее время из домашней клетки в более просторную парковую вольеру, с липовыми аллеями и травянистыми лужайками. Конечно, тут было куда как просторнее против пыльных и душных московских комнат.
Под парковыми липами Загорья было легче терпеть и духовное одиночество, и все бесчисленные унизительные запреты, и все «старое, дурное, мертвое, ложное» в ее окружении, о чем она так рано и так глубоко задумывалась.
Природу Загорья она полюбила и писала Александру в далекую Вятку: «Прелестное местоположение… Рано утром я встаю, отправляюсь гулять, из родника пью воду и хожу по аллеям».
А его радовали, наполняли предчувствием счастья строки ее размышлений и признаний. От письма к письму взаимное чувство близости, понимания, любви росло, поддерживало обоих, обогащало их.
«Ежели б государь дозволил мне жить где хочу, не въезжая в столицы, я бы приехал в Загорье. И может, несколько месяцев были бы мы вместе. А после — после можно бы и умереть, даже не видевши Италии…» Так, горькой шуткой, отзывался он на всевозможные планы и раздумья любящей Наташи.
Над обоими то сгущались тучи, то прояснялось небо судьбы. Ведь драматичным было самое начало их сближения. Накануне его ареста они шли вдвоем мимо кладбища и толковали об участи уже схваченного Огарева. После томительного следствия и вынесенного Александру приговора Наташа получила позволение навестить осужденного, проводить в ссылку. Их тянуло друг к другу, но он тогда считал своей избранницей не ее, а в Натали видел лишь сестру и близкого по духу человека. Глубже они узнали друг друга только в письмах. И, как это нередко бывает, разлука даже помогла им. Все произошло, как в старой поговорке, где разлука сравнивается с действием ветра на огонь: малую любовь гасит, большую — раздувает.
Наташиным отцом был брат Ивана Алексеевича, Александр Алексеевич Яковлев, один из последних петербургских вельмож екатерининского времени, камергер и сенатор. Он занимал одно время должность обер-прокурора святейшего Синода. В Москве ему принадлежал тот дом на Тверском бульваре (ныне № 25), где родился Герцен. О матери Наташи, Аксинье Ивановне Захарьиной, известно мало. По некоторым документальным данным, у нее была еще другая фамилия — Фролова. Какая из этих двух фамилий — Захарьина и Фролова — была девичьей, а какую она получила в замужестве, не установлено. По-видимому, она была крепостной женщиной в петербургском доме А. А. Яковлева. Сохранилось ее изображение — молодая, изящно одетая, с тонкими, интеллигентными чертами.
Впоследствии Наталья Александровна писала:
«Воспитание началось с того, что меня убедили в стыде моего рожденья, моего существованья, вследствие этого — отчуждение от всех людей, недоверчивость к их ласкам, отвращение от их участия, углубление в самое себя, требование всего от самое себя».
В самом деле, в Москве она очутилась случайно, потому что после смерти Александра Алексеевича Яковлева его «законный» сын и наследник Алексей (двоюродный брат Александра Герцена и родной брат Наташи по отцу, по прозвищу Химик) отослал из Петербурга в деревню всех своих бесправных родственников и домочадцев покойного отца, в том числе и Аксинью Ивановну с маленькой Наташей и другими детьми. Наташа попалась на глаза княгине Марии Алексеевне, и… началось ее существование в доме на Малой Бронной и в Загорье.
Но вот из девочки-приживалки выросла барышня. Княгиня-тетка стала по-своему намечать устройство ее судьбы. Обещала приданое при условии полной покорности. Конечно, о собственном мнении или о своем выборе и речи не было! Сватали Наташу то за состоятельного полковника, то за некоего молодого офицера, да еще увлекся было Наташей Егор Герцен, брат Александра по отцу.[6]
От всех этих тревог, препятствий и опасностей, волновавших ссыльного Александра, уже считавшего Наташу бесповоротно своей, любовь только крепла. Наконец следует в 1838 году перевод Герцена из Вятки во Владимир благодаря заступничеству поэта Жуковского.
Рискуя грозными для ссыльного последствиями, Александр Герцен тайком кидается из Владимира в Москву для первого свидания с любимой, разумеется, тайного. Следует полоса непрерывных хлопот, хитростей, обходных маневров и… с помощью друзей удается оформить Наташины документы, действительные для венчания. Снова Герцен тайком мчится в Москву по Владимирскому тракту, встречается в Перове с невестой, тайком покинувшей дом тетки, везет ее в ямщицкой тройке в свой Владимир на Клязьме и с разрешения архиепископа владимирского и суздальского Парфения венчается с Натальей Захарьиной в маленьком храме Ямской слободы, в трех верстах от города.
Пошли материально суровые будни молодоженов. Им предстояло еще добиться прощения родных, построить свое несложное хозяйство и готовиться к той деятельности, для которой был рожден Герцен. Ведь Белинский скоро узнает его лично и скажет: «У тебя страшно много ума, так много, что я не знаю, зачем его столько одному человеку…» «Мы смело можем поздравить публику с приобретением необыкновенного таланта в совершенно новом роде». А про молодую жену Герцена Белинский высказался так: «Что за женственное, благороднейшее создание, полное любви, кротости, нежности и тихой грации! И он стоит ее!»
Владимир на Клязьме знаменит своим расположением на Печерней горе, подобно Киеву. Это был один из живописнейших городов средней России, еще не отсеченный тогда железнодорожным хозяйством от речной поймы. Он утопал в вишневых садах и зелени, славился древними архитектурными памятниками — соборами. На Герцена особенное впечатление производил Дмитриевский, одноглавый, пластичный и задумчивый в своем белокаменном кружевном узоре. Герцен встретил среди губернских деятелей сочувственное отношение и впоследствии вспоминал владимирский период своей жизни как счастливую полосу, которую мало омрачали даже материальные неудобства и трудности: отец на первых порах не увеличил небольшого вспомосуществования — одна тысяча рублей в год, — установленного для сына-холостяка. Жалованье же на службе в губернаторской канцелярии было ничтожно мало.
«…Так бедствовали мы и пробивались с год времени», — вспоминал позднее Герцен. Жизнь во Владимира, несмотря на бедность, потекла радостно. Вскоре смягчился и отец, простил своему Шушке самоволие, похищение невесты (к тому же двоюродной сестры), тайный брак и нежелание всецело посвятить себя деловой карьере.
Ибо накопленные жизненные наблюдения в Перми, Вятке и Владимире, служебные разъезды по губерниям, долгое путешествие по этапу и встречи с необыкновенными людьми, радости первой любви, рождение сына Александра, хлопоты о разрешении жить в столицах, ближе к редакциям, театрам, друзьям, университету — все это наполняло жизнь до краев, торопило, звало к перу, не давало покоя.
И молодой служащий губернской канцелярии Александр Герцен пишет свои автобиографические «Записки одного молодого человека». Через два года они появляются на страницах лучшего тогдашнего журнала «Отечественные записки». Работы у Александра выше головы: набрасывает статьи, руководит редакцией «Губернских ведомостей», исполняет поручения владимирского губернатора Куруты. Иван Эммануилович Курута, образованный и умный человек, будущий сенатор, отнесся к молодому ссыльному с дружеской симпатией.
Летом 1839 года благодаря отличным отзывам владимирского начальства с Герцена снимают полицейский надзор, он посещает Москву и получает во Владимире новую должность — чиновника по особым поручениям при губернаторе. В декабре того же 39-го года он впервые побывал в Петербурге. Первые шаги его в этом городе — к Исаакию, Зимнему, на Сенатскую площадь… Он пришел к Медному Петру в самый день 14 декабря, через 14 лет после тех событий, что «разбудили ребяческий сон его души»…
2
…С Невы мело метельным ветром. Торцы мостовой скрывал глубокий снежный пласт, но кое-где снег сносило вьюгой, и казалось, что пороша только-только прикрыла алую кровь. Всадник на скале, серея над площадью, по-прежнему скакал во мглу, и чудилось, что вся она полна тенями. В фонарном луче мелькнуло тонкое лицо с курчавыми бакенбардами, край цилиндра… Ни с кем не сравнимое лицо автора великой поэмы. Живое, ясноглазое, истинно царственное, недосягаемо высокое, медленно бледнеющее, измученное болью, презренной болью от презренной пули… Поэт дружил со всеми, кто здесь, на этой снежной площади, первым восстал против самовластья, и все они любили его. Имени его гореть рядом с их именами!
Однако обо всем, что именно происходило на площади 14 лет назад, ходят пока лишь слухи, обнародовано, же очень мало. Сколько войска выстроили декабристы, как держал себя Николай, были ли у повстанцев хоть небольшие реальные шансы на успех, как растерялись власти, что делали вожди восстания, почему их упрекают в нерешительности, кто вызывал артиллерию и заставил слать братоубийственные залпы по своим… Все это обсуждается тайно и ждет своего историка, поэта, исследователя. Материалы секретной следственной комиссии держатся в строгой тайне, оглашенный приговор краток и ничего не раскрывает. Как удивился и как был бы горд 27-летний Герцен, если бы сквозь мглу и метель смог увидеть собственное будущее и узнать, что именно сам он и сделается этим историком, и поэтом, и исследователем декабристов! Что именно он приподнимет завесу тайны, первым напечатает в «Вольной русской типографии» и материал следствия, и рассказы о судьбах мучеников великой шеренги, спрятанных во глубине сибирских руд…
Власти уже успокоились, полагая, что повешенные обречены вечному молчанию за безвестными своими могилами, а сосланные каторжники и их героические жены принуждены молчать заживо: им запрещено все — переписка, свидания, возвращение. Дети их не имеют права носить фамилии отцов. Какая невыносимая, жгучая тайна! Она стучала в сердце Искандера, когда он тихо шагал мимо Зимнего дворца (отстроенного вновь после страшного пожара 1837 года), словно обходил невидимые шеренги декабристского каре на площади!..
…Среди войск, выведенных для присяги Николаю 14 декабря 1825 года, все громче слышался ропот. Шестнадцать суток назад войска уже присягнули Константину. Его мало знали, но про Николая говорили, что он еще и похуже Константина.
Собравшимся в Зимнем военачальникам повелели начать церемонию присяги построенных на площади войск, но даже не все командиры знали, что по воле покойного Александра Константин уступает престол Николаю и что недавнюю присягу Константину надо считать недействительной. С площади прибегали в Зимний дворец адъютанты и вестовые, докладывали, что войска не хотят присягать другому императору.
Что это? Ужели бунт в Московском полку? Вот флигель-адъютант князь Голицын приносит весть, что на площади смертельно ранен генерал Милорадович… И, пожалуй, был момент, когда у повстанцев имелся шанс победить. Три роты мятежных лейб-гренадеров перебежали Неву, направляясь к Зимнему, и ринулись во внутренний его двор, рассчитывая там встретить своих. Но встретили саперов, верных царю, и… пустились прочь! У лейб-гренадеров вполне хватило бы сил захватить дворец, арестовать Николая и его свиту. Николай встретил их у Адмиралтейского бульвара, покрытого снегом.
— Куда вы? — крикнул им будущий самодержец. — Если вы за меня — ступайте направо. Если против — налево!
— Налево мы! — ответили солдаты и отхлынули к строящемуся Исаакию.
Николай посылал на площадь митрополита Серафима.
— Воины! — пытался тот увещевать восставших. — Вы против бога, царя и отечества!
— Какой ты митрополит? — отвечали ему голоса солдат. — Двум царям на двух неделях присягнул!
Но командиры восставших теряли инициативу, власти же, оправившись, действовали решительнее. Сорвалась попытка завязать с восставшими переговоры, возложенные на великого князя Михаила Павловича и генерала Войнова. Кюхельбекер заставил их удалиться, пригрозив пистолетным выстрелом. Не удались конные атаки — восставшие вместе с народом на площади встретили конников камнями и поленьями от постройки Исаакиевского собора. Щетиной штыков отразили солдаты новые попытки конницы прорвать каре.
А тем временем готовили артиллерию. Залпом командовал сам Николай.
Каре смешалось. Стонали раненные картечью. На Неве Бестужев еще пытался собрать остатки войск, занять Петропавловскую крепость. Картечью лед взломало. «Братцы, тонем!..» Пушки били по тонущим. Ночью на Неве рубили проруби, спускали под лед убитых и умирающих.
так Рылеев писал незадолго перед событиями…
«Эти люди, — думалось Герцену на площади, — знали, что погибнут, но раз всенародно заявленная мысль о русской свободе никогда не погибнет. Пушечный гром с Сенатской площади разбудил целое поколение, а раскаты его дойдут до всего народа. Замолчать их не удастся!»
В тот же день, 14 декабря 1839 года, пытался он разговориться о событиях на площади со своим 20-летним кузеном Сергеем Львовым-Львицким, сыном того самого дяди-сенатора, с которым Шушка обитал в старом московском доме близ церкви Рождества Богородицы в Путинках.
От вопросов Александра Герцена его молодой кузен Сергей позеленел и съежился.
— Шушка, — ответил он, понижая голос до шепота. — Ты с ума сошел! Забыл, где мы находимся? Это, братец ты мой, не Вятка, а Санкт-Петербург! Здесь за всеми нами — шпион на шпионе, у каждой стены — уши, каждый третий — доноситель. А все Дубельты, Бенкендорфы и Аракчеевы живехоньки-здоровехоньки и по-прежнему всегда начеку! Замолчи!
На другой день те же предостережения повторил поверенный в делах Ивана Алексеевича, чиновник Лисенко, косясь в сторону кухарки: мол, нынче при посторонних не очень-то разговаривайте!
«Веселый городок», — подумалось Герцену.
Зато очень теплый прием молодой Герцен нашел у поэта В. А. Жуковского, И. И. Панаева, встретился (и на первых порах не поладил!) с Белинским (спустя немного времени они стали близкими друзьями), с восхищением смотрел спектакли лучших столичных театров. «Велик, необъятен Шекспир!» — восклицает он в письме жене под впечатлением игры Каратыгина в роли Гамлета. Этой поездкой в столицу Герцен подготовил себе почву для продолжения службы здесь, в умственном центре империи.
В город всеслышащих ушей Герцены переезжали не без тайных опасений и неважных предчувствий. И хотя за недолгую петербургскую жизнь в 1840 году Александр немало написал, познакомился с выдающимися людьми столицы, виделся со своим другом по вятской ссылке архитектором Витбергом, наслаждался театрами столицы, а по службе был произведен в коллежские асессоры — все-таки свое настроение безнадежности и безвыходности выразил он в письме Огареву. Тот подтвердил: «Душно, душно, невыносимо душно!» По оценке обоих друзей, такое настроение было общим для всех.
Гроза разразилась как будто бы из-за пустяка, но… предостережения оправдались. Полиция перехватила письмо Герцена к отцу, Ивану Алексеевичу Яковлеву. Сын рассказывал в письме, что, по слухам, некий петербургский будочник у Синего моста сам грабил прохожих.
«За распространение неосновательных слухов» Герцен высочайшим повелением был выслан из Петербурга «с определением на службу в одну из губерний, кроме столиц». Неусыпный граф Бенкендорф поспешил довести царскую волю до сведения министра внутренних дел А. Г. Строганова. Высылка была на этот раз оформлена как «перевод по службе». В июле 1841 года после начальственных увещеваний, вызовов к Дубельту и сильных волнений жены Герцен приносит должностную присягу в знаменитом Софийском соборе Новгорода в связи со своим вступлением в должность советника губернского правления.
Древний и красивый город на Волхове оказался для Герцена неприветливым. Семейные горести и болезни омрачали и без того горькую полосу новгородской ссылки. Потеряв еще в Петербурге новорожденного сына, Герцены похоронили в Новгороде только что родившуюся дочь.
Раздражали и служебные неудачи. С большим трудом удалось освободить одну женщину от закрепощения и привлечь к ответу жестокого помещика, который издевался над мужиками. Но так и не добился молодой чиновник судебного решения оставить при матери ее ребенка, которого помещик продавал отдельно. Возмущенный Герцен подал в знак несогласия в отставку.
Но именно в Новгороде как-то особенно ярко проявился литературный дар ссыльного Герцена. Он начал здесь свой цикл философских статей «Дилетантизм в науке» и написал первую часть повести «Кто виноват?». Эта вещь быстро выдвинула автора в число самых заметных писателей России.
«Одно чувство всплывает над всеми, тягостное и ужасное. Чувство моего положения, — записывает Герцен в дневнике. — Двоих детей я уже лишился по милости гонений» (он имеет в виду сына Ивана и дочь Наташу). Скоро к ним прибавилась потеря третьего новорожденного ребенка, уже в Москве. Друзья подсказали Наталье Александровне средство избавления от новгородской ссылки — возбудить ходатайство перед императрицей о переводе по здоровью в другие условия. Николай нехотя разрешил Герцену переезд в Москву, но без права бывать в Петербурге и при условии установления над неблагонадежным писателем полицейского надзора в Москве. Поселилась семья в Малом Власьевском переулке, впоследствии несколько лет прожила на Сивцевом Вражке, в доме, купленном Иваном Алексеевичем. Ныне в этом доме устроен первый мемориальный музей Герцена (дом № 27).
Московские эти годы прекрасно отражены в «Былом и думах». И особенно памятны были для Герцена и его жены те счастливые летние месяцы, когда уезжали они из пыльного и многозвонного города на лоно природы, в имение отца Покровское-Засекино, лежавшее на пути к Васильевскому.
«Уединенное Покровское, потерянное в огромных лесных дачах, имело совершенно другой характер, гораздо больше серьезный, чем весело брошенное на берегу Москвы-реки Васильевское со своими деревнями… Покровские мужички, задвинутые лесами, меньше васильевских походили на подмосковенных, несмотря на то, что жили двадцатью верстами ближе к Москве. Они были тише, проще и чрезвычайно тесно сжились между собой». «Выйдешь под вечер на балкон, ничто не мешает взгляду; вдохнешь в себя влажно-живой, насыщенный дыханием леса и лугов воздух, прислушаешься к дубравному шуму — и на душе легче, благороднее, светлее… Вот так и кажется, что годы бы не выехал отсюда».
Московская жизнь Александра и Натали в 40-х годах полна литературных событий и творческого напряжения. В университете Грановский читает знаменитые свои лекции, вызывающие восторг студентов и гостей. Между Герценом и Грановским устанавливается дружеская близость, их семьи навещают друг друга, возрождается московский кружок друзей. Идут горячие споры славянофилов с западниками; на стороне последних горячо ораторствует Искандер. Печатаются его лучшие литературные произведения — повести, рассказы, научные статьи. «Сорокой-воровкой», «Доктором Круповым», повестью «Кто виноват?» зачитываемся вся мыслящая Россия. Пожалуй, эти годы — зенит его писательской славы.
И все-таки чувство неудовлетворенности подцензурным литературным трудом растет. Все сильнее ощущается невозможность говорить печатно в цензурной узде о главных нуждах России.
В 1843 году увеличилась семья Герцена — у него родился сын Коля. Тревожным симптомом явилось для родителей то обстоятельство, что мальчик появился на свет глухим и рос глухонемым. Год спустя родилась дочь Тата. Подорванное нервными потрясениями здоровье Натали угрожающе слабело. Заглушая тревогу, утешал ее муж, обещая путешествие к теплому морю и цветущим зимним курортам. Взор ее становился все печальнее, рвал ему сердце своей безнадежностью. Он настойчивее хлопотал о разрешении заграничного путешествия для спасения жены.
Схоронив в 1846 году отца, Герцен унаследовал крупные средства — материальная возможность путешествовать теперь появилась. Дело было за позволением!
Тем временем тайный агент III отделения, печально известный враждою к Пушкину и лучшим литературным силам России, презренный Фаддей Булгарин, подал в тайную полицию докладную записку под заглавием:
«Социализм, коммунизм и пантеизм в России в последнее время».
Булгарин обращал внимание начальства на первые главы повести «Кто виноват?». Доносчик жаловался: «Дворяне изображены подлецами и скотами, а учитель, сын лекаря, и прижитая дочь с крепостной девкой — образцы добродетели». Начальник штаба корпуса жандармов и управляющий III отделением Л. В. Дубельт (тот самый, что учинил посмертный обыск в кабинете Пушкина) начертал на доносе резолюцию, что тоже находит «всю повесть предосудительной». А в те же дни Ф. М. Достоевский пишет брату: «Явилась целая тьма новых писателей. Иные мои соперники. Из них особенно замечателен Герцен».
В сентябре 1846 года редакция журнала «Современник» перешла в руки Панаева и Некрасова. Лучшие литературные силы страны — Белинский, Тургенев, Гончаров, Григорович, Огарев, Герцен-Искандер — изъявили готовность сотрудничать в этом журнале, «благородном по духу», как выразился Чернышевский. Тем временем правительство после долгих колебаний и задержек, бесконечных бюрократических оттяжек и формального крючкотворства разрешило наконец выдать Искандеру заграничный паспорт. И в январе 1847 года друзья-москвичи провожали Герцена и его спутников в далекий путь. Этот день стал одной из самых важных переломных дат в судьбе Искандера.
3
Первой перекладной станцией от Москвы на Петербургском тракте была Черная Грязь. Здесь предъявляли подорожную станционному смотрителю и требовали свежих лошадей, если ехали в собственном экипаже, или терпеливо ожидали в казенной почтовой карете, пока ямщики сменят подставу, то есть впрягут отдохнувших коней на место усталых, выпряженных. Их ставили на короткий отдых и запрягали во встречный экипаж, до московского почтамта на Мясницкой улице.
Сюда, до первой подставы, частенько доезжали провожающие москвичи. Напутствовать семью Герцена приехали Грановские, Корши, Кетчеры, Мельгуновы, Кавелины, Астраковы, Егор Герцен, знаменитый артист Михаил Щепкин, В. П. Боткин, Д. Засядко и Ю. Мюльгаузен…
«…Шесть-семь троек провожали нас до Черной Грязи… Мы там в последний раз сдвинули стаканы и рыдая расстались. Был уже вечер, возок скрипел по снегу… Вы смотрели печально вслед, но не догадывались, что это были похороны и вечная разлука…» Так помянуты проводы в «Былом и думах». А накануне прощались в доме Грановских, и маленькой вещественной памяткой этого вечера 18 января осталась у Грановского стеклянная подставка для бутылки. На этой подставке Герцен чем-то острым выцарапал памятную надпись:
22 января Александр и Натали Герцены вновь увидели Новгородский кремль и Софийский собор, потом дня на два останавливались в Риге, а 31 января в Таурогене, маленьком местечке Ковенской губернии, простились с Россией: миновав эту последнюю пограничную станцию, они через несколько минут очутились на территории соседней Пруссии. С тех пор нога Герцена уже никогда не ступала на землю родины. Он служил ей умом и сердцем из-за рубежа, но вера в свой народ спасла его от жестокой тоски по оставленной отчизне.
На первых порах радовали новые впечатления, чувство освобождения от упорных полицейских ищеек, «ушей и пашей», красота Парижа и Рима, знакомство с новыми обычаями и порядками, так свежо и талантливо показанное в «Письмах из Франции и Италии», встречи с выдающимися революционерами, писателями, учеными Запада. С огромным, радостным волнением встречал Герцен февральские события во Франции в 1848 году.
Горькое разочарование в результатах февральской революции испытывали парижские рабочие, а с ними и Герцен. После того как майская попытка рабочих масс Парижа разогнать контрреволюционное Национальное собрание и образовать правительство революции потерпела неудачу, тяжело пережитую Герценом, он видел, как день ото дня французские буржуа усиливают притеснения и гонения на рабочих. «Начали сажать в тюрьмы. Запретили на улицах собираться толпами…»
В те дни познакомился Герцен с поэтом Гервегом, сыгравшим впоследствии столь роковую роль в семейной драме Искандера. В дни тяжелых баррикадных боев, длившихся несколько дней июня, Герцен жестоко страдал от вынужденного бездействия и неудачи восставших. На квартире писателя было несколько обысков, Герцену грозил арест и расправа за связи с революционерами. Один из парижских рабочих предложил ему тайное убежище. Герцен не думал им воспользоваться, но был глубоко тронут этой заботой о своей судьбе.
Вечером 26 июня семья Герцена услышала за окном правильные залпы с небольшими расстановками.
«Ведь это расстреливают, — сказали мы в один голос и отвернулись друг от друга. Я прижал лоб к стеклу окна. За такие минуты ненавидят десять лет, мстят всю жизнь. Горе тем, кто прощает такие минуты!»
Написанные Герценом вскоре после этих событий очерки «С того берега» полны горечью раздумий о поражении революции.
Вот с какими словами Герцен обращается к своим московским друзьям со страниц этой книги:
«Наша разлука продолжится еще долго — может, всегда… Не радость, не рассеяние, не отдых, ни даже личную безопасность нашел я здесь… Жизнь здесь очень тяжела… Зачем же я остаюсь? Остаюсь затем, что борьба здесь, что, несмотря на кровь и слезы, здесь разрешаются общественные вопросы, что здесь страдания болезненны, жгучи, но гласны, борьба открытая, никто не прячется… Где не погибло слово, там и дело еще не погибло… Месяцы целые взвешивал я, колебался и, наконец, принес все в жертву:
В том же 1849 году разразилась в Париже та страшная холерная эпидемия, что заставила его вспомнить времена своего студенчества и холеру в Москве. Несколько парижских знакомых стали жертвами болезни. В те дни гостил у Герценов Иван Сергеевич Тургенев. В Париже царила страшная жара, что усиливало опасность, но сам Герцен берегся мало. Страстный любитель купанья еще со времен жизни в Васильевском, Герцен уговорил Тургенева поплавать в Сене… В тот же вечер у Тургенева начался сильный жар и появились явные признаки роковой заразы. Спасение от нее в то время было редкостью.
Герцен проявил в уходе за больным другом поразительное мужество и самообладание. Он отправил всю свою семью — мать, жену и троих детей — в дачный пригород, на лоно природы и свежий воздух, а сам остался спасать больного писателя. Тургенев, при могучем телосложении и мягкой, глубоко русской душе, страдал мнительностью и несколько преувеличенным ужасом ко всякой хвори. В возможность победить холеру он не верил, и Герцену пришлось применить всю силу характера, чтобы поддержать в больном веру в победу жизни над недугом. Три недели длилась эта борьба не на жизнь, а на смерть, и Тургенев рассказывал впоследствии, как Герцен буквально выходил его и поставил на ноги.
Для французской полиции русский изгнанник становился все менее желательным явлением. В тесном контакте с полицией российской она вела наблюдение за Герценом. Реакция усиливалась, жизнь в Париже становилась опасной, и Герцену пришлось с чужим паспортом на время уехать в Швейцарию. Вскоре после возвращения из Женевы он, в 1850 году, был лишен права жительства в Париже и выслан из Франции как нежелательный иностранец. Герцен с семьей переехал в Ниццу, где родилась его дочь Ольга.
Здесь, в «кроткой Ницце», в «мирной обители», как называл этот средиземноморский курортный город Герцен, разыгрались главные события его горестной семейной драмы, унесшей Натали в раннюю могилу на кладбище Ниццы…
«Огромный венок из небольших алых роз лежал на гробе; мы все сорвали по розе — точно на каждого капнула капля крови. Когда мы входили на гору, поднялся месяц, сверкнуло море, участвовавшее в ее убийстве…»
Это был май 1852 года. «Море, участвовавшее в ее убийстве», унесло полугодом ранее, в ноябре 51-го, мальчика Колю и мать писателя, Луизу Ивановну. Они погибли во время морской катастрофы у Гиерских островов, совершая маленький переезд, чтобы прибыть в Ниццу. Подорванное событиями семейной драмы здоровье Натальи Александровны такого удара не вынесло. Фантазия без конца рисовала ей картины несчастья: как мальчик падает с наклонной палубы в холодное море, как тело его становится добычей рыб и морских чудовищ. Ей рассказали, что последний возглас уносимой волнами Луизы Ивановны, которую пытались спасти из лодки, был: «Спасайте ребенка!..» Смерть сына Коли и Луизы Ивановны была страшным потрясением и для Герцена. В годы эмиграции мать была ему верным сподвижником, хранила его опасные бумаги, посылала деньги нуждающимся революционерам, прятала рукописи от полиции, заботилась о детях…
Там же, в Ницце, Герцен узнал, что русское правительство лишило его всех прав состояния и объявило государственным преступником и вечным изгнанником.
Могучий дух Искандера одолел всю эту полосу бедствий. Начался лондонский период его жизни. Возникла лондонская «Вольная русская типография». 1 июля 1857 года, вскоре после того, как к Герцену в Лондон приехал и Огарев, вышел первый номер газеты «Колокол». Его набатный звон услышала вся Россия. «Третье отделение ласкало мысль украсть меня у Англии из кармана или прирезать из-за угла», — пишет со свойственным ему юмором Александр Герцен.
От своих друзей в России Герцен стал получать дружеские предостережения о грозящей ему опасности.
Вот одно из таких анонимных предостережений от неизвестного друга: Герцен получил его 9-10 октября 1861 года:
«Третье отделение готовит попытку похитить вас или, если это понадобится, убить. Ради бога, не покидайте Англию, никуда не уезжайте и будьте крайне осторожны… Граф Шувалов (начальник III отделения. — Р. Ш.) поклялся, что отныне ни одно письмо не дойдет до вас. Все мрачно».
И вот в номере «Колокола» от 15 октября 1861 года появляется саркастически-едкое герценовское «Письмо к русскому послу в Лондоне» — один из маленьких шедевров отточенного, разящего искандеровского публицистического пера; вот его текст, несколько сокращенный:
«Милостивый государь!
Вам, верно, покажется очень странным, что я к Вам пишу; меня самого это удивляет не меньше Вас… В последнее время мы стали в качестве редакторов („Колокола“) довольно часто получать подметные письма, исполненные большой роскошью площадных ругательств и угрозами убить Огарева, князя Долгорукова (спешу Вас успокоить, что речь идет не о князь Василье, начальнике жандармов, — его жизнь совершенно безопасна — а о князе Петре Владимировиче) и меня. Третьего дня (9 октября) я получил два письма… в которых неизвестный друг извещает меня положительно, что III отделение решилось „похитить меня или убить“. Первое из этих предположений слишком смешно, чтоб быть возможным. Рассудите, барон, сами — что я за Прозерпина с бородой и что Шувалов за Плутон с эксельбантом?[7] Остается угроза смерти.
Кто хочет убить меня? По чьему приказу? Обвинение, естественно, падает на государя. Я не верю, чтоб он это приказал. Вы, может быть, знаете, что я во многом расхожусь в мнениях с Александром Николаевичем, но никогда не допущу мысли, чтоб он стал подсылать спадассинов (наемных убийц. — Р. Ш.). Я бы не сделал этого ни в каком случае. Да это и не в его характере, и не в традиции императорского дома — что они за корсиканцы и за Борджии, чтобы резать из-за угла! Я очень хорошо знаю, барон, что они иногда участвовали в ускорении путей природы, в предварении естественного течения дел — но это делалось в самом интимном, задушевном кругу, между женой и мужем, сыном и отцом (намек на убийства Петра III и Павла I. — Р. Ш.). Я не настолько знаком с Александром Николаевичем, чтобы считать себя вправе на такое родственное внимание и на такую фамильярность.
Стало, не он. Кто же?
Шувалов?.. Пожалуй, что и он. Но вот в чем беда: Шувалов ли или другой, все равно ответственность во всяком случае всем своим грузом падет на Александра Невинного… Что же хорошего, что его заподозрят в том, что оно (правительство) ставит капканы и рассылает полицейских Брутов за моря и горы, с кинжалом под плащом… Вы должны, барон, отныне беречь меня, как зеницу Вашего ока; каждый волос, который упадет с головы моей, падет на русское правительство, скажут, что его Александр Николаевич выщипнул.
…Поручая себя таким образом материнской попечительности императорского посольства, позвольте мне, господин посланник, засвидетельствовать мое глубочайшее почтение. Александр Герцен. Орсет-хаус».
Это герценовское письмо вызвало множество откликов в мировой прессе. «Журналы презабавно трунят», — констатирует Герцен эффект этой публикации. Осуществить свой замысел против Герцена царская тайная полиция так и не отважилась.
…Не без юмора рассказывал автор «Былого и дум», как ему после лишения в 1851 году всех прав состояния пришлось принять швейцарское подданство — кантон Фрибург принял Герцена и всю его семью в число своих граждан (это называлось «натурализацией»).
Герцена глубоко огорчало, что дети его растут в чужой обстановке и сам он лишен живой связи с родиной, но, писал он, «мы не рабы нашей любви к родине, как не рабы ни в чем. Свободный человек не может признать такой зависимости от своего края, которая заставила бы его участвовать в деле, противном его совести». И в подтверждение ему писали из России: «Твой „Колокол“ заменяет для правительства совесть, которой ему по штату не полагается, и общественное мнение, которым оно пренебрегает. По твоим статьям подымаются уголовные дела, давно преданные забвению, твоим „Колоколом“ грозят властям. Что скажет „Колокол“, как отзовется „Колокол“! Вот вопрос, который задают себе все, и этого отзыва страшатся министры и чиновники всех классов».
В 1863 году Польша подняла знамя восстания против притеснений со стороны царской власти, за национальное освобождение. И разыгралась в России невиданная вакханалия шовинизма. Печать, церковь, власти под малиновый трезвон и пение акафистов призывали к единению русского народа против польского супостата. Глава реакционной журналистики Катков вопил, будто каждый, кто не помогает победе русского оружия, — предатель России. Мол, народ и царская власть — одно, а польский вопрос — это вопрос самого существования России.
Волна этой шовинистической пропаганды захватила тогда многих, и нужно было герценовское мужество, чтобы решительно встать на защиту Польши. Популярность «Колокола» в России, захваченной и обманутой реакционной пропагандой, стала падать. Герцен пошел на эту жертву и остался верен революционной своей совести.
…Годы спустя смелость и благородство Герцена получили заслуженную оценку. 8 мая 1912 года в газете «Социал-демократ» Владимир Ленин скажет об Александре Герцене: «Когда вся орава русских либералов отхлынула от Герцена за защиту Польши, когда все „образованное общество“ отвернулось от „Колокола“, Герцен не смутился. Он продолжал отстаивать свободу Польши и бичевать усмирителей, палачей, вешателей… Герцен спас честь русской демократии…»
Вскоре обстоятельства заставили Герцена оставить Англию и переехать в Женеву. Членом его семьи стала бывшая супруга Огарева, Наталья Алексеевна. Началась заключительная, почти скитальческая полоса жизни изгнанника Искандера.
Глава пятая. Немного переписки, дружеской и недружеской
…Мой отец верил в Россию, в русский народ, все время верил, до последней минуты, несмотря на все разочарования, на все неудачи.
…Отец говорил, что не надо обзаводиться, что вот-вот наступит в России другой режим и мы поедем к себе домой. Отцу так этого хотелось. Это была мечта всей его жизни.
Тата Герцен
1
Острая тоска по России всякий год мучила Александра Герцена под самый конец декабря, перед наступлением Нового года. Он скучал по рождественским морозам, запаху снега, деревенским избам, по крестьянской речи, лесам Подмосковья, вкусу воды в Москве-реке, там, в родном Васильевском… В такие дни острой ностальгии Герцен особенно радовался встречам с людьми из России, тем более если приехали недавно, со свежими новостями и впечатлениями. Но до юга Европы, до Италии и Франции, российские гости добирались не так-то часто!
Не ладилось и в семье.
Наталья Алексеевна Тучкова-Огарева не сумела объединить осиротевшее семейство, а играла роль, пожалуй, скорее обратную — разобщающую. С той самой поры, как в 1857 году, еще в Англии, она оставила Огарева, увлеклась Герценом и внушила Александру Ивановичу ответное чувство. Как сама она потом признавалась, увлечение прошло быстро. Осталось только чувство долга с его стороны, сознание связанности — с ее.
Брак ее с Огаревым решено было, по общей договоренности, не расторгать, во избежание юридических трудностей и обывательских кривотолков. Приходилось держать в неведении и членов семьи — им предстояло самим догадываться и сообразовываться с этими непростыми обстоятельствами.
Наталья Алексеевна была дочерью декабриста Алексея Алексеевича Тучкова, племянника героев Отечественной войны. Алексей Тучков дружил с Огаревым — их имения в Пензенской губернии располагались рядом — и с Герценом. Военную службу отец Наталья Алексеевны оставил после восстания декабристов; по недостатку улик он под суд не попал, хотя с 1818 года был членом тайного «Союза благоденствия».
Сама Наташа Тучкова много читала, но систематического образования не получила. Определенного призвания у нее тоже не было, не сложились и прочные идейные убеждения, хотя помогала и первому и второму супругам в их публицистической и издательской деятельности, а впоследствии и сама написала известные мемуары.
По характеру же она была женщиной трудной, неуживчивой, склонной к мучительному самобичеванию и крайней обидчивости. Ее нетерпеливость, резкость доходили до деспотизма, свойственного помещикам-самодурам. Это болезненно отражалось на отношениях и с Огаревым, и с Герценом. Ни тому, ни другому любовь ее счастья не принесла. Страдая сама, мучимая сомнениями, колебаниями и угрызениями совести из-за своего перехода от одного любимого человека к другому, она не смогла достичь главной первоначальной цели, какой оправдывала свой поступок: заменить мать осиротевшим детям Герцена. Она довольно близко знала покойную Наталью Александровну, считала ее подругой и наставницей (та была старше на 12 лет) и всегда выражала благоговейное восхищение, почти молитвенное преклонение перед ее памятью. Покойная Натали называла Тучкову-Огареву «своей Консуэлой», по имени героини романа Жорж Санд.
Однако дети боготворимой старшей подруги отнюдь не почувствовали в Наталье Алексеевне вторую мать. Тайный разлад в семье начался очень рано и становился все ощутимее. В сентябре 1858 года у Герцена и Натальи Алексеевны родилась дочь Лиза. Властная, неровная в своих требованиях, мать стала постоянно ссориться с отцом из-за воспитания ребенка. Разумеется, в характере девочки стали проявляться самовольство, упрямство, непослушание. Богато одаренная от природы, девочка стала расти капризным, изломанным существом, не желая заниматься ничем серьезным, что требовало усилий. Мать то потакала этим причудам, то выходила из себя и пугала Герцена крайностью педагогических (точнее — антипедагогических) мер.
Положение несколько изменилось, когда на свет появились два ребенка-близнеца. Матери было тогда 35 лет. Детей прозвали «Леля-бой» и «Леля-герл», забота о них отвлекла Наталью Алексеевну от капризов Лизы, дети росли смышлеными и хорошо развивались, но достигли лишь трехлетнего возраста, когда обоих скосила эпидемия дифтерита в 1864 году.
Это огромное горе совсем ожесточило Наталью Алексеевну, сделало ее мрачной, болезненной, мнительной. Она стала настойчиво твердить, что желает только смерти как единственного избавления от земных страданий. Такое мрачное отчаяние матери тяжело влияло на Лизу, угнетало душу девочки, настраивало против матери: умная девочка понимала, что, желая себе только смерти, мама не видит никакой ценности в своей живой дочке.
Между Натальей Алексеевной и детьми углублялась отчужденность, росла неприязнь. Великодушная и самоотверженная Тата, при всем спокойствии своего характера, не смогла остаться с мачехой под одной крышей. Старшая дочь Герцена то переезжала из города в город, то подолгу жила во Флоренции вместе с воспитательницей Ольги г-жой Мальвидой Мейзенбуг. Давно обособилась и жизнь старшего сына писателя, Саши Герцена, целиком посвятившего себя науке физиологии. Он тоже по большей части жил во Флоренции вместе с сестрами, Ольгой и Татой, опекаемыми строгой Мальвидой Мейзенбуг.
Сам же Александр Иванович, с утра до ночи занятый общественной деятельностью, политикой, публицистикой, редакторским и писательским трудом, вел жизнь почти скитальческую, причем главной базой служила ему Женева — город, им не любимый, но удобный для разъездов и поддержания международных связей.
Наталья Алексеевна с маленькой Лизой обосновались в Ницце, где на кладбищенском холме покоились Натали, погибшие близнецы и начертаны были на каменной плите имена Луизы Ивановны и Коли Герцена, чьи тела поглотило море. Герцена тянуло сюда, в этот теплый город с чудесным климатом и самыми трагичными для Александра Ивановича воспоминаниями. Но, попадая в Ниццу, он никогда не мог надолго оставаться в обществе своей второй жены, мятущейся и мнительной. Ее, как и самого Герцена, тоже мучила тоска по России, но если для него эта любовь к родине была духовной опорой и находила выход в страницах могучей художественной прозы, в острых памфлетах или глубоких философских статьях, то у Натальи Алексеевны это чувство превращалось в источник новых конфликтов с Герценом и Огаревым: она непрестанно строила планы переезда в Россию для педагогической деятельности (к которой явно не имела способностей).
Планы эти смущали не только Герцена с Огаревым, но и Лизу, грозя окончательно сломать ее характер, потому что единственными авторитетами для девочки служили Огарев и Герцен. Разлука с ними или планы такой разлуки вносили лишнюю сумятицу в душу девочки.
Огарев, вполне в духе передовых людей своего времени (описанных, например, в романе Чернышевского «Что делать?»), не отвернулся от оставившей его жены, а старался сохранить с нею дружеские, братские отношения. Он упрекал ее за то, что она осложняет и затрудняет жизнь Герцена вместо того, чтобы помогать ему в работе и воспитании детей Натали. Сам Огарев поселился в Женеве, жил уединенно, перемогал приступы болей и усиливающуюся болезнь, но при этом вел большую общественную работу — был фактически главным выпускающим газеты «Колокол», избирался на общественные посты, вроде вице-президента Женевского конгресса мира, дружил с революционной эмиграцией и поддерживал тесные связи со многими революционерами, в том числе и с Бакуниным. Он постоянно переписывался с Герценом — оба сообщали друг другу немедленно обо всем сколько-нибудь значительном или интересном, что выпадало им в жизни.
Переписывался Огарев и с Натальей Алексеевной, и с маленькой Лизой, считавшей «папу Агу» своим отцом. Но письма Николая Платоновича бывшей жене обычно состояли из мягких и дружеских упреков. Вот отрывки одного из них, написанного Огаревым после гибели близнецов.
Огарев — Наталье Алексеевне Тучковой-Огаревой, из Женевы в Ниццу, 2 ноября 65-го
…Есть женщина, которую я любил как мое дитя и думал, что она достигнет светлого человеческого развития — долею под моим влиянием; я ее любил, как мое дитя и как мою жену. Эта женщина (имеется в виду Наталья Алексеевна. — Р. Ш.) любила моего брата и мою сестру (то есть Герцена и Натали. — Р. Ш.) — как брата и сестру. Когда сестра умерла, она перенесла идеально свою любовь к ней на ее детей. Мы поехали вместе на помощь этим детям и брату.
Ты полюбила моего брата. …Я был уверен, что любовь брата тебя возвысит, — и все ставило жизнь на такую высокую ногу, как редко случай ставит ее. Ты могла любить моего брата и быть матерью детей моей сестры… и твоей сестры, то есть той женщины, которая для тебя была выше всего в мире. В самом деле — что за великое отношение становилось между всеми нами!
И что же вышло? Зачем ты убиваешь его? А чтоб кто-нибудь из нас, кроме тебя, убивал это отношение — этого ты, конечно, не можешь сказать…
Скажи мне, пожалуйста, из-за каких же личных причин я с тобой в разрыве, чтоб кто-нибудь мог сказать, что я прав, а ты виновата, или наоборот? Если ты лично передо мной виновата — ты не понимаешь в чем. А если я виноват — я никогда этого даже тебе не говорил.
Мой разрыв с тобой потому, что ты преследуешь детей моей сестры, которых я — умру — но не дам в обиду, а преследуешь ты их унизительно для себя, потому что, во-первых, ты их считала своими детьми, и, во-вторых, они против тебя ничего не сделали… В самом деле, когда, кто против тебя что сделал?
Саша, что ли? Если говорил тебе, что ты нехорошо поступаешь с его сестрами, то он был вполне вправе…
Ольга? Существо, которое еще не выросло из детства, но становится все больше и больше добродушным.
Тата… Чем больше она что-либо провидит, тем больше стремится сделаться другом тебе и старшею сестрою Лизе…
Да! Я становлюсь на колени и умоляю тебя: «Опомнись!»
Я все сказал, что мог. Умоляю тебя — не думай, чтоб во мне было какое-нибудь злое чувство. Все, что я прошу: очистись и воскресни к действительно человеческой жизни… Не поминай лихом!.. Твой папа Ага.
2
Новый, 1867-й Александр Иванович встречал с Натальей Алексеевной и Лизой в Ницце, которую называл «городом солнца и слез, страшных воспоминаний, и гробов, и моря…». Отсюда он торопился во Флоренцию к старшим детям — Саше, Тате и Ольге. Были во Флоренции и иные спешные дела. Из Женевы удалось прихватить с собою книгу, еще пахнущую свежей типографской краской: «Записки князя Петра Долгорукова», том первый, Женева, 1867, на французском языке. Пробный том этого издания увидел свет в декабре 1866-го и приехал в Ниццу в чемодане Герцена.
Он писал Огареву 1 января из Ниццы в Женеву:
«Ну, как вы встретили и этот Новый год? Я — в своей постели с „Записками“ кн. Долгорукова. Не думаю никак попасть к 6-му во Флоренцию — к тому же со вчерашнего дня и море бурно, что, вероятно, продолжится несколько дней. Жду писем. Что твоя статья в „Колокол“?»
Через несколько дней Герцен написал рецензию на книгу Долгорукова. 1 февраля 1867 года она вышла в «Колоколе» под названием «Новая бархатная книга русских дворянских родов». Герцен высоко оценил разоблачительную силу долгоруковских документов из недавнего прошлого российского дворянства. Что-то таят в себе неопубликованные бумаги долгоруковского архива? В нейтральной Швейцарии они недосягаемы для царской агентуры, но как они должны тревожить сон иных царедворцев и самого венценосца?..
Александр Иванович выехал из Ниццы во Флоренцию, как он писал Огареву, «в самый русский Новый год, 13 января». Из-за бурной и ненастной погоды он отказался от поездки морем и тащился в медлительном почтовом дилижансе-мальпосте через Онелио до Генуи. Путника преследовала непогода — тропический дождь с грозами и почти летней теплынью. «Ну, милостивый государь, — шутливо жаловался он в письме Огареву от 15 января 1867 года, — наконец-то я дотащился до Генуи — это не лучше поездки из Пензы в Москву. Дождь лил три дня — и лил во весь путь. Мы ехали 26 часов в дилижансе. Речонки поднялись в реки. Закрывшись — на банкетке (открытая верхняя часть дилижанса рядом с кучером. — Р. Ш.) была духота без пределов, открывшись — вода обливала всего. Я поневоле остаюсь до 17-го здесь — вероятно, море уляжется, пытку дилижанса не хочу еще раз.
…Простились мы в Ницце мирно: хотелось бы с Татой и Ольгой снова сблизиться Натали, но прямо ничего не сделает. Теперь рядом с планом ехать в Россию — снова план купить пансион в Ницце (чтобы заняться педагогической деятельностью. — Р. Ш.). Натали все хочет, кроме одного — заглянуть в себя и свою совесть. Увидим, что сделают эти два месяца — я вряд возвращусь ли до начала марта в Ниццу… Прощай. Лизу я оставил цветущею, как центифольный розан (вид махровой розы. — P. Ш.). Ей явным образом этот климат по нутру — она вдвое ест и толстеет. Умна удивительно, до тончайших нюансов; в школу ходит весело, — а Натали недовольна и, верно, возьмет ее недели через две!..»
18 января Герцен, усталый и расстроенный дорожными неприятностями, приехал через Болонью во Флоренцию. «Здесь все хорошо», — успокоительно сообщил он на другой день Огареву, имея в виду жизнь дочерей Таты и Ольги с их воспитательницей г-жой Мейзенбуг и работу сына Саши. Герцена очень обрадовал недавний Сашин успех — его первая публичная лекция во Флоренции. Другой радостью для Герцена был горячий интерес здешних русских читателей к свежему номеру «Колокола», только что выпущенному Огаревым в Женеве, со статьей Н. Вормса о «Белом терроре» в России. Впрочем, свое авторство Н. Вормс просил скрыть даже от сотрудников редакции.
В эти дни гостил во Флоренции известный русский художник — живописец Николай Николаевич Ге, старинный и верный почитатель Герцена. В молодости Ге зачитывался по целым ночам сочинениями Искандера «Сорока-воровка», «Кто виноват?», «Доктор Крупов», «По поводу одной драмы». Вот как сам Н. Н. Ге описал свое первое впечатление от встречи с Герценом во Флоренции в феврале 1867 года:
«Небольшого роста, плотный, с прекрасной головой, с красивыми руками; высокий лоб, волосы с проседью, закинутые назад без пробора; живые умные глаза энергично выглядывали из-за сдавленных век; нос широкий, русский, как он сам называл, с двумя резкими чертами по бокам, рот, скрытый усами и короткой бородой. Голос резкий, энергичный, речь блестящая, полная остроумия…»
9 февраля 1867 года Герцен написал Наталье Алексеевне из Флоренции в Ниццу:
«Известный живописец Ге просил дозволение снять мой портрет „для потомства“, как он говорит. Это художник первоклассный — я не должен был отказать. Вчера он начал — это задержит до 17-18-го, тогда я поеду в Венецию… потом заеду сюда и приеду к вам, потом в Женеву, но если ничего не переменится — летом возвращусь в Ниццу».
Спустя девять суток Герцен сообщает дочери Тате уже из Венеции (18 февраля 1867 г.):
«Вот я в двух шагах от святого Марка и грешного льва (скульптура крылатого льва — символ Венеции. — Р. Ш.). Нет города, который бы так поражал, — наружный вид до того оригинален, изящен и великолепен, что бедная Флоренция „куле“» (сходит на нет. — P. Ш.)
Герцен — Огареву, Венеция, 18 февраля 1867 года
«Город до того оригинально красив и великолепен, что умирать, не видевши его, не следует».
Герцен — г-же Мальвиде Мейзенбуг из Венеции во Флоренцию, 20 февраля
Будьте уверены, что Венеция — прекраснейшая из нелепостей, созданных человечеством… Ни за что на свете я не желал бы жить здесь. Но приезжать иногда на недельку было бы большим удовольствием… Лакей надул меня на 6 франков — я сделал вид, что ничего не замечаю, и мы расстались друзьями пер летернита (навеки. — Р. Ш.). Здесь все жульничают — вода не способствует моральной чистоплотности. За обедом сижу между двумя русскими, которые меня не знают… Когда они узнают, — я убежден, что один из них вонзит в меня вилку, а другой — нож. Я прикажу поставить себе горчичники, чтобы сидящий против меня англичанин мог меня съесть с горчицей (впоследствии оказалось, что один из русских — сын поэта Жуковского, а другой — племянник генерала Ермолова, Павлов. Оба отнеслись к Герцену с уважением. — Р. Ш.).
Герцен — Огареву. 20 февраля, Венеция
Теперь карнавал, и все сошло с ума. Я сейчас приехал, то есть приплыл с пассегиаты (прогулки). Удивительно хорошо. Помнишь внутренность Палаццо Дукале (Дворца дожей) — Куда же постройкам XIX века тянуться! Жду писем от тебя и Тхоржевского. Здесь нашел «Колокол» у Мюнстера (венецианский книготорговец. — Р. Ш.). Я ему предложил книги с раббатом (скидкой) 45 процентов, но с заплатой провоза. Говорит, что подумает… Иду на карнавал, который колоссален и глуп. Корректуру отослал сегодня утром. «Корреспонденция из Петербурга» превосходна (Герцен имеет в виду статью князя П. В. Долгорукова в «Колоколе» 1 марта 1867 года. — Р. Ш.).
Герцен — Огареву. Венеция. 26 февраля 67-го
Сегодня в 4 приедет Гарибальди, и я остался единственно для него до завтра. Карнавал во всем разгаре. Он дошел до таких колоссальных размеров, что в самом деле сделалось хорошо и оригинально. Меня фетируют (чествуют. — Р. Ш.) как гостя, знакомого понаслышке. И за одним обедом в ресторане масок двести потребовали меня налицо и прокричали мне три раза «еввива!» с шампанским в руках и до того уж зарапортовались, что кричали «аллилустре поета руссо». Я боялся попасть в питторе и скульторе (художника и скульптора. — Р. Ш.) и поэтому ушел. Вообще у итальянцев ко мне слабость: я нигде никогда не бывал больше обласкан, как ими…
Ему же, 27–28 февраля 67-го
Вечером еду во Флоренцию. Сегодня в шестом утра был у Гарибальди. Он обрадовался мне и одного меня расцеловал. Он здоров, но не весел. Вчера его чуть не утопили (при всенародном чествовании. — Р. Ш.). Канал был а ла леттр (буквально) мост гондолей. Утро сегодня было великолепное. Из окон его (Гарибальди) я смотрел и на месяц, и на восход солнца, и все это на площади Марка. Цу шен (Прекрасно).
Приписка: 28 февраля, Флоренция. Ну вот, и опять здесь. Кончу портрет и буду собираться… Петру Владимировичу буду писать завтра.
Герцен — жене Тучковой-Огаревой из Флоренции, 7 марта
Завтра иду окончить портрет (это шедевр)…
Герцен — Огареву, 7 марта 1867 года, из Флоренции
В статье Долгорукова мои вымарки следует исполнить. Ответственный редактор — я и на себя не беру писать, что Соллогуб — вор и пр. Я готов Долгорукову писать об этом. (Владимир Александрович Соллогуб — дипломат, писатель, автор «Тарантаса», хороший знакомый Пушкина. — Р. Ш.).
Ему же, 2 апреля 1867 года, из Ниццы
Записка твоя к Петру Владимировичу несколько сентиментальна и, по мне, очень коротка… А я, грешный человек, предвидел, что интрижка с Долгоруковым недолго останется в любвях (имеется в виду полоса активного сотрудничества Долгорукова в «Колоколе». — Р. Ш.).
Герцен — дочерям Тате и Ольге и сыну Саше из Женевы, 21 апреля
Насчет истории философии я тебе (Тате) говорил, что серьезной книги ты не одолеешь. А поверхностное знание дает фальшивую уверенность и идет больше для внутренней головной прически, чем для дела. Есть у вас мои «Письма об изучении природы» и «Дилетантизм в науке»? Могу прислать. Попробуй. Разумеется, я во многом тогда ошибался. Перечитай у Гёте в Фаусте, что Мефистофель говорит студенту о метафизике… Ищи Гамлета, ищи Макбета, ищи Лира… а если ты хочешь читать исторические драмы Шиллера, то их две и обе шедевры — «Вильгельм Телль» и «Валленштейн», все три части. Принимайся за них сейчас, если прежде уже читала, то тем паче. У нас тишина — ко мне почти не ходит никто. Сегодня иду к Долгорукову обедать первый раз. Огарев с ним не в ладах…
Герцен — жене Тучковой-Огаревой из Женевы, 6 мая 67-го
Сын Долгорукова приехал — он умен, в этом нет сомнения. Но что он? Каков, если в 19 лет отгадать нельзя! (Сын, Владимир Петрович Долгоруков, рожд. 1848, живя в России, получил право на приезд к отцу, в Швейцарию. — P. Ш.)
Егор Герцен — брату Александру Герцену, из Москвы
Любезнейший Сашенька! Понимаю твое незавидное положение быть заблудшей овцой и не пристать ни к одному стаду! Неужели на шестом десятке лет ты еще находишь удовольствие быть в такой, обстановке? В эти двадцать два года много изменилось, и никто не скажет, что к худшему. 19 февраля кончится навсегда названием временнообязанного (крестьянские обязательства по отношению к помещикам. — Р. Ш.); судопроизводство и судоустройство на манер всей Западной Европы, открытое, публичное. Лица, к которым у тебя почему-то не лежала душа, сошли со сцены в могилу, новое поколение заменяет их места с более современными взглядами, какого же тебе еще рожна?.. Быть может, ты отвык от подобного тона, вероятно, тебе ни Гарибальди, ни Маццини таких нравоучений не читали, согласись сам, не могу же я теми же глазами смотреть и быть всем доволен. Нравится тебе это или нет, но я бы желал иного положения для твоей пользы. Довольно сказать, что букет твой побледнел, что мы видим и в печати. Неужели ты до сих пор считаешь еще себя Мессией и реформатором? Кто тебя посылал, кто тебе давал доверенность?.. Во время оно я получил секретно от полиции, что ты Государственным советом объявлен государственным преступником, с изгнанием навсегда из отечества, с лишением всех прав и с передачей всего твоего оставшегося состояния твоим законным наследникам, о которых меня спрашивали, кто такие… Я показал твоих жену и детей. Если бы нашел способ ответить не по почте, было бы лучше, остаюсь твой друг и брат.
Е. Герцен.
Герцен — Марии Каспаровне Рейхель (друг и доверенное лицо Герцена в Германии) из Женевы, 13 мая 67-го
Пробыл четыре месяца во Флоренции и Венеции. Детьми очень доволен… Тата развилась превосходно. Саша читал публичные лекции. Да, чтоб и вы были довольны, посылаю Ольгу (фотоснимок. — Р. Ш.). И из Егора Ивановича письма словно из подвала так и хватило мразью…
Герцен — Огареву из Ниццы, 8 августа 67-го
Когда ты начнешь (читать. — Р. Ш.) роман Чернышевского? Это очень замечательная вещь — в нем бездна отгадок и хорошей, и дурной стороны ультранигилистов. Их жаргон, их аляповатость, грубость, презрение форм, натянутость, комедия простоты, — и с другой стороны — много хорошего, здорового, воспитательного. Он оканчивает фаланстером… смело. Но, боже мой, что за слог, что за проза в поэзии (сны Веры Павловны).
Дома — ни то, ни се. Я с ужасом предвижу для Лизы отъезд Таты (в конце сентября). Лиза положительно лучше себя ведет. Но что за край! Что за мягкость, за нега воздуха. Теперь яростных жаров не будет — везде цветы, запах… Какой грех ехать отсюда к зиме!
Ему же, 14 августа 67-го
Со стороны Долгорукова я считаю неприсылку «Голоса» за разрыв. Если он что имел против меня, он мог бы сказать мне, а не звать на прощальные обеды — хорошо было бы внушить ему это.
Огарев — Герцену, из Женевы — в Ниццу, 28 августа 67-го
Долгоруков, узнав, что Бакунин едет на писсовую конгрессовку (так иронически, от слова «пис» — peace — мир, Огарев называет Женевский конгресс Лиги Мира и Свободы в сентябре 67-го года с участием пацифистов, анархистов, либеральных республиканцев, левых буржуазных националистов. Огарев участвовал в работе конгресса как его вице-президент. Герцен же, разочарованный в буржуазной демократии, не ждал успеха и воздержался от участия из-за резко антирусской позиции, занятой большинством делегатов. Кроме того, Герцена тревожила позиция на конгрессе вождя анархистов Бакунина и «ультранигилизм» так называемой «молодой эмиграции» в Женеве. — Р. Ш.), вскочил со стула и начал бегать по комнате в припадке бешенства и решил, что сам уедет из Женевы до сентября.
Герцен — Огареву, из Ниццы 3 сентября 67-го
Твое положение в «писовке» не из приятнейших. Если Бакунин с тобой согласен — ничего, если же вы будете не одного мнения — что ты сделаешь публично? Если Долгоруков будет от имени русских говорить вздор? (Как я знал, что Бакунин испугает его, напусти его хорошенько.) Не занемочь ли тебе? Молчать нельзя, а публично собачиться ты не привык… Ты спрашиваешь, когда в Женеву? Ну, писовкой, Баковкой, Грузиновкой и Князевкой — не заманишь! На «писовку» приеду только в случае, если ты потребуешь (Герцен остро иронизирует над участниками Женевского конгресса мира — Бакуниным, Николадзе и кн. П. В. Долгоруковым. — P. Ш.).
Герцен — И. С. Тургеневу из Милана 20 декабря 67-го
За письмо спасибо. На этот раз и «Дым» получил в Женеве… Ты видишь, что я на старости лет все двигаюсь, а ты все оседаешь, да еще выбрал Бад-Бад с твоей собственной ванной, о которой рассказывал Бакст (революционер, организатор русской типографии в Берне. — Р. Ш.) еще до построения, что нехорошо, выйдет три бад (каламбур — название города Баден-Баден и слово «бад» — ванна, купание. — Р. Ш.).
Еще слово… Смотрю на эту мраморную беловежскую чащу здешнего собора (Миланского. — Р. Ш.). Такого великого, изящного вздору больше не построят люди…
Герцен — дочери Тате и Мальвиде Мейзенбуг из Ниццы, 28 декабря 67-го
Проспавши целую ночь на пароходе без малейшей качки, я прибыл в Ниццу. Светло, ярко и нехолодно. Я возвращаюсь к прошлому письму, что итальянские города — памятники, их надобно изучать, уважать, а жить в таких трактирах, как Ницца.
«Колокол» французский идет (хорошо распродается. — Р. Ш.), и Георг взял уже сверх обыкновенного числа 400 экземпляров. Висконти все продал — да по дороге и русский за целый год.
Засим поздравляю с Новым Годом…
Герцен — дочери Тате, 2 июля 68-го из Базеля
Видя положение Долгорукова (тяжело заболевшего. — Р. Ш.), я, разумеется, не хочу продолжать с ним ссоры.
Герцен — Огареву, 7 июля из Люцерна
Получил письмо от сына Долгорукова с просьбой от отца — приехать проститься. Тхоржевский пишет, что Петр Владимирович хотел телеграфировать — и опять хотел меня назначить душеприказчиком или распорядителем. Он все боится за бумаги и думает, что у сына инструкция (от русской полиции). Фогт полагает, что он не переживет 8 дней. Я написал ответ сыну, что, считая себя правым в нашей размолвке, я готов забыть ее перед торжественной минутой смерти и готов приехать, если и после его приезда Долгоруков считает это нужным.
Письмо Тхоржевского сконфуженно — он как-то неясно выражается насчет юного прынца. С одной стороны — жестоко отказать умирающему — я готов ехать, но видеться с сыном мне бы не хотелось. Как твое мнение? Люцерн несравненно изящнее Женевы — но, вероятно, холодно с начала октября. Мне кажется, что и Натали устала от вагабондажа (бродяжничества. — Р. Ш.)… Но где осесть?.. Посоветуюсь с Татой. Моего ума не хватает. Ты не поверишь, как я устал. Дом бы — дом бы поудобнее, с полем — и на отдых. Что нового? Твои письма стерильны.
Ему же, 8 июля 68-го из Люцерна
Тата пишет, что Долгоруков беспрестанно требует меня. Жду телеграмму и, может, поеду завтра… Отказать умирающему гадко.
Герцен — Огареву, 11 июля 68-го. Берн
Я вчера прожил длинный день, который долго не забуду…
Долгоруков очень плох, но сильный организм не сдается, как крепость. У него из ног пущена вода и льется постоянно. Лицо его совершенно осунулось и стало как-то важнее. Говорит несвязно, глаза потухли — он не знает близости конца, но боится. А главное, внутри его идет страшная передряга. Мне он был рад без меры, но и без шума — он постоянно жмет мне руки и благодарит. Верит он во всем мире мне одному и моему наместнику Тхоржевскому.
Утром призывает он Тхоржевского и Фогта и объявляет, что его ночью отравил его сын, что он подливал из склянки что-то желтое (я полагаю, что рассказывать этого не следует) — затем, после разных страшных вещей, он послал Фогта сказать, чтоб сын сейчас ехал назад и что он, щадя его, скроет. Фогт, сам испуганный, исполнил поручение. Сын, разумеется, вспылил. Но Долгоруков его тотчас позвал и стал просить прощения. Когда я взошел, он всех выслал и, взяв меня за обе руки, уставил на меня, приподнявшись, мутный взгляд. «Герцен, Герцен, бога ради скажите, я вам одному верю, одного вас уважаю… ведь это сумасшествие, ведь это вздор?»
«Вы сами видите, что сумасшествие, где же последствия?»
«Да… да… очевидно, бред… так вы думаете, бред?» (и это 10 раз.)
И вдруг, опускаясь, он тихо повторил раза два: «Нет, уж вы, уж бога ради… вы уж понаблюдайте над тем, что со мной делают…» — и доказал вид, чтоб я молчал, — после чего он задремал и, проснувшись, попросил откушать с сыном, что мы и сделали. Сын был раздражен сначала, но за обедом, после двух-трех бутылочек и абсинту, оправился, странный он человек. Все это вместе так нервно подействовало на меня, что я всю ночь не спал и голова тяжела.
Герцен — Огареву. 14 июля 68-го. Люцерн
Ну, наконец я освободился от долгоруковского кошмара… Что за страшная агония — и к тому же ему положительно лучше, он и ест беспрерывно, и этим себя поддерживает. Адольф Фогт (профессор гигиены Бернского университета. — Р. Ш.) выбился из сил. Третьего дня еще дикая сцена с сыном при мне — потом я их мирил… И когда я его немного урезонил, он все-таки сказал сыну при первом свидании на другой день, чтоб он уехал и дал бы ему спокойно умереть или лечиться. Один Тхоржевский невозмущаемо идет в этом болоте и хотя сильно скучает, но держит себя хорошо… Бакунин совершенно принадлежит партии Элпидина и с ним в кошонной дружбе. Каро мио — нам пора в отставку и приняться за что-нибудь другое — за большие сочинения или за длинную старость… Сейчас приехал Тхоржевский для отдыха и привез весть, что Долгорукову несравненно лучше. Вот вам и медицина.
Герцен — Огареву, Люцерн, 15–18 июля 68-го
Долгоруков выздоравливает. Фогт его сажает на молочное лечение. Сына он прогнал. Тхоржевский в понедельник едет в Женеву.
Отчего Чернецкий не присылает отпечатанных листов «Полярной звезды»? Отчего на «Колоколе» бумага скверная?
Герцен — министру иностранных дел Австрии г-ну Гискра из Ниона, 25 августа 68-го
Г-н министр,
врачи требуют, чтобы я отправился на воды в Карлсбад, — я совсем готов туда ехать, однако есть одно соображение, которое заставляет меня колебаться. Я — русский эмигрант, натурализовавшийся в Швейцарии с 1851 года, но так как я являюсь редактором газеты, имеющей несчастье не нравиться с.-петербургскому правительству, оно может предпринять некоторые шаги, чтобы потребовать моей выдачи. Я считаю ее невозможной. Тем не менее я решил, прежде чем пуститься в путь, взять на себя смелость обратиться непосредственно к вам, г-н министр, и попросить вас сказать мне, могу ли я рассчитывать на покровительство австрийских законов. Примите, г-н министр, и пр.
А. Герцен, главный редактор «Колокола».
Герцен — сыну Саше, 18 сентября, 68-го, из Парижа
Только вчера мы окончательно перетолковали обо всем с Боткиным, и я очень жалею, что ты не был при этом. Да, каро мио, такого доктора я, по крайней мере, не видел. Что за основательность, догадка и внимание. Он меня осмотрел всего. Вот результаты.
В диабете сомненья нет.
Запускать болезнь нельзя. Карлсбад слишком силен. Виши лучше. Пиши мне в Виши до востребования. Я еду в воскресенье или понедельник. Прощай. Обними Терезину (жена Саши Герцена. — P. Ш.). Желаю, сильно желаю вам счастья и покоя. Начал ты нелепо — может, поправишь жизнь впоследствии. Когда я поехал из Нефшателя и посмотрел еще на вас, остающихся, у меня сжалось сердце и навернулись слезы… Как-то ты выплывешь из пучины, в которую бросился очертя голову (Герцен считал женитьбу сына необдуманной. — Р. Ш.).
Герцен — Марии Каспаровне Рейхель, 9 октября 69-го, из Парижа
…Я бранил Швейцарию за гнусные поступки с Оболенской, за подкупленных адвокатов и жандармов. Я в Париже это дело поднял, но наши революционные утяты и бараны ничего не умеют делать и пропустили все сквозь рук (Герцен имеет в виду «молодую эмиграцию», в том числе и друзей Зои Сергеевны Оболенской — Утина и Баранова. — Р. Ш.).
Некто Н. Н. — Александру Герцену, редактору газеты «Колокол», из Рима в Женеву, 28 ноября 68-го
Милостивый государь!
Если Вы и Ваши сообщники не перестанете писать дурного против России и добрых людей, клеветать только за деньги, точно так же, как вы пишете хорошее тоже только за деньги, то даем Вам слово через год Вас не станет, и тогда ваш дохлый труп поганой скотины, как Вы, зароют где-нибудь как бешеную собаку.
Заметьте число — только четыре месяца остается.
Н. Н.
Заметка в «Приложениях» к «Колоколу» 15 февраля 69-го года
Я нашел это письмо, возвратившись из Цюриха в Женеву 2 декабря 68-го года. Это не прекрасно, но сильно. Нам нечего добавить к этим строкам (письмо Н. Н. процитировано Герценом полностью, с соблюдением орфографии оригинала. — Р. Ш.). …Убийца, находящийся на службе у консервативной России, в своем письме предоставляет нам годичный срок, а в постскриптуме сводит его к 4 месяцам, от 28 ноября. Это таинственно! Так когда же, милейшие убийцы, — 28 марта или 28 ноября?
Александр Герцен
Князь Владимир Петрович Долгоруков — Герцену. Сентябрь 68-го
Озеров (русский дипломат в Швейцарии. — Р. Ш.) хочет, чтоб я ехал в Дармштадт и объяснил Адлербергу или Шувалову, что сталось с бумагами покойного батюшки. Мне кажется, самое простое будет, если я им объявлю, что в силу завещания батюшки, я не пользуюсь его бумагами, и хотя знаю Тхоржевского и вас, но, не будучи бандитом, не чувствую себя способным явиться к вам с ножом и под страхом смерти требовать от вас отдачи вашей собственности…
Еще одна заметка в «Колоколе»
Князь П. Долгоруков оставил после себя довольно большое количество материалов, собранных им в результате больших усилий и труда нескольких лет. Материалы эти и его переписка были завещаны им Станиславу Тхоржевскому. С. Тхоржевский имеет намерение опубликовать часть материалов… Любители подробностей найдут в этом сборнике интересные разоблачения, касающиеся различных эпизодов истории России… («Приложение» к «Колоколу», 15 февраля 69-го года.)
Глава шестая. Поручение
1
Широкая излучина Рейна у Висбадена, между устьями Майна и Лана — край веселый, курортный, где приезжую публику ждут прежде всего напитки! На любой вкус — от сельтерской воды до сухого рейнвейна, от горячих горько-щелочных целебных вод, излечивающих нажитые за зиму желудочные катары, до золотистого Иоганнисбергера и шампанского. Рядом с хорошо налаженными ванными заведениями для богатых приезжих изобильно настроено и заведений развлекательных. В бывшем герцогстве Гессен-Нассау (с 1866 года оно стало провинцией Пруссии), среди буковых лесов на отрогах Таунусского горного кряжа, прославились курортные города Висбаден и Эмс с их живописными пригородами и дачными поселками — Шлангенбад, Зельтерс (оттуда и столовая вода), Швальбах, Гомбург…
На другом, правом, берегу Рейна, соответственно — по майнскому левобережью — соседнее великое герцогство Гессен-Дармштадт старается не отстать от Висбадена ни в курортном деле, ни в виноградарстве, ни в искусстве извлекать доходы из карманов богатых гостей, в частности, российских. Ведь здешнее герцогство — родина благополучно царствующей императрицы всея Руси, супруги государя Александра Второго, нареченного Освободителем. Будучи еще юной принцессой, здешняя уроженка носила имя Максимилианы-Вильгельмины-Августы-Софии-Марии Гессен-Дармштадтской. В православном крещении ее назвали Марией Александровной. От немецкого акцента в русском языке она не смогла отделаться до конца дней. Впрочем, обиходным для нее языком был французский.
Здоровье Марии Александровны сильно пошатнулось от семейных бедствий. В 1849 году скончалась от детской болезни ее семилетняя старшая дочь Александра. В 1865-м смерть унесла любимца государыни цесаревича Николая: 22 лет он скоропостижно умер в Ницце от менингита. Через год, в апреле, грянул каракозовский выстрел, нацеленный в августейшего супруга. Террориста толкнул тогда под руку случайный прохожий, верноподданный купец… А в прошлом, 1867 году весть о похожем покушении на супруга принес императрице в Царское Село телеграф из Парижа: стрелял в Александра студент-поляк Березовский. И хотя 6 мая этого, 1868 года у второго сына императрицы, Александра, теперь уже престолонаследника, родился продолжатель царствующего дома Романовых, будущий цесаревич Николай, императрица, по народному выражению, захирела. Она делалась все более набожной, строго соблюдала посты, наставления духовников и православную обрядность, однако таяла на глазах. Врачи потребовали лечения водами висбаденского и дармштадтского курортов. Царское семейство с подобающей свитой отправилось летом к родным пенатам императрицы, в Дармштадт.
Она нашла, что ванны и водолечение помогли. В один из воскресных осенних дней решено было, по ее желанию, совершить поездку в окрестности Висбадена. Там, на лесистом горном склоне, в красивой долине, герцог Адольф Нассауский воздвиг в 1855 году пятиглавый православный храм византийского стиля. Императрица пожелала отстоять там молебствие. Эта церковь была построена из светло-желтого камня — песчаника в память русской великой княгини Елизаветы Михайловны, двоюродной сестры царя Александра Второго. В 18-летнем возрасте ее выдали замуж в Германию, за Гессен-Нассауского великого герцога, а в 19 лет она умерла. Золотые кресты на пяти синих куполах далеко сияли окрест, и местные жители посмеивались, что в их долине солнечный свет не гаснет даже в пасмурную погоду.
В церкви шла праздничная литургия в присутствии императорской четы и свиты. Из русских курортных гостей допущены были избранные лица высшей знати, петербургские знакомые министра двора графа Адлерберга и шефа жандармов графа Шувалова. Молящиеся могли видеть впереди, ближе к царской чете, затылки этих двух опор трона. Вездесущие представители прессы, разумеется только благонамеренной, становились на цыпочки, стараясь по затылкам угадать и переписать громкие имена присутствующих для газетных отчетов и репортажей. Заметили, что император задумчив и сосредоточен.
Александр Второй стоял чуть поодаль от царских врат и прислушивался к праздничным антифонам[8] с двух клиросов. Он вспоминал предотъездный молебен о плавающих и путешествующих в голубом растреллиевском храме царскосельского Екатерининского дворца. Под здешними сводами певчие столь же старательно выводили сейчас: «Заповеди блаженства: Во царствии Твоем». Как дома!.. Личные покои императора в боковом крыле царскосельского дворца начинаются как раз рядом с голубым храмом. Певчие и регент прибыли оттуда в свите императрицы… Он подумал, что следует ему построить себе особый, новый дворец, подальше от покоев императрицы. Лучше всего в Петергофе.
Сейчас он мог видеть свое отражение в стекле, прикрывающем большой образ справа. Благодаря наследственному хорошему росту (хотя и не достигшему отцовского) он в свои 50 лет строен. Мундир лейб-гвардии гусарского полка, чьим шефом он был с детских лет, сидит по-молодому ловко. На вчерашнем балу в двухсветном зале герцогского дворца он пожинал рукоплескания во время сложных фигур в танцах и чувствовал, что эти восторги не были одной лишь голой лестью… Во время бала огласили привезенную курьером весть о полном успехе царских войск под Самаркандом, против кокандского хана и бухарского эмира. Отряд царского генерала Кауфмана, назначенного генерал-губернатором Туркестана, летом занял город Самарканд, знаменитую Тамерланову столицу, и двинулся дальше, на Катта-Курган, что едва не привело к потере Самарканда. Гарнизон, оставленный в Самарканде, вынес хитроумную осаду восставших узбекских племен, вынудивших генерала Кауфмана вернуть отряд под стены Самарканда. Подавив восстание, Кауфман учинил жестокую расправу. В те жаркие военные дни находился в кольце самаркандской осады и художник Верещагин. По донесениям Кауфмана и многим рассказам очевидцев, Верещагин проявлял чудеса распорядительности и личного мужества. По представлению генерала Кауфмана, близко известного Александру лично, художник-воин был награжден Георгиевским крестом. Кауфман послал царю прямо с поля военных действий несколько рисунков Верещагина, полных драматизма.
Министр государственных имуществ Александр Зеленой спрашивал соизволения государя устроить в Петербурге в залах министерства выставку произведений художника Верещагина о туркестанской войне и некоторых военных трофеев художественного значения… Соизволение было дано… Пока в Петербурге разбирали будущие экспонаты, сам художник укатил на Запад.
Александр вслушался в привычные слова сугубой ектиньи: «Еще молимся о Благочестивейшем, Самодержавнейшем, Великом Государе нашем императоре Александре Николаевиче всея России, о державе, победе, пребывании, мире, здравии и спасении Его и Господу нашему наипаче поспешити и пособити Ему во всех (во всем) и покорити под нози Его всякого врага и супостата. Еще молимся о супруге Его Марии Александровне, о наследнике Его…»
Вдруг пришло на память одно неожиданное письмо… Царю доложил о нем в том печальном 1865-м тогдашний начальник III отделения князь Василий Долгоруков. Не кто иной, как редактор заграничной, запрещенной в России газеты «Колокол», изгнанник Искандер-Герцен дерзнул обратиться к императору всея Руси с политическим посланием по поводу трагически ранней гибели цесаревича Николая.
Государь потребовал тогда полный текст этого письма, и несколько выражений невольно запомнились. Тон письма был высоким, исполненным чувства достоинства. Вот что открыто писал монарху изгнанник 2 мая 1865 года:
«Судьба неумолимо, страшно коснулась Вас. Грозно напомнила она Вам, что, несмотря на помазание, ни Вы, ни Ваша семья не освобождены от общего закона, — Вы под ним… К бесчисленному числу польских семей, повергнутых в глубокое горе, потерявших сыновей своих, прибавилась еще семья в трауре — это Ваша семья, государь. Она счастливее их, ее горе не будет оскорблено. Между нами, противниками Вашей власти, не найдется ни одного бездушного негодяя, который проводил бы гроб Вашего сына обидой, который хотел бы сорвать траур с матери или сестры, отнять тело у родителей и могилу у слез… всего того, что делали и делают Ваши Муравьевы в Польше. В жизни людской есть минуты грозно-торжественные, в них человек пробуждается от ежедневной суеты, становится во весь рост, стряхает пыль — и обновляется. Верующий — молитвой, неверующий — мыслью. Минуты эти редки и невозвратимы. Горе, кто их пропускает рассеянно и бесследно! Вы в такой минуте, государь, — ловите ее. Остановитесь под всею тяжестью удара, с Вашей свежей раной на груди и подумайте, только без сената и синода, без министров и штаба, — подумайте о пройденном — о том, где вы и куда идете…
Первое письмо мое не прошло даром. Невольный крик радости, вырвавшийся из дали добровольной ссылки, подействовал на Вас… Язык свободного человека был для Вас нов, Вы в его резких словах поняли искренность и любовь к России — вы тогда еще не ссылали утопии на каторгу, не привязывали к позорному столбу человеческой мысли. Это был медовый месяц Вашего воцарения, он заключился величайшим актом всей династии Вашей — освобождением крестьян. Победивший Галилеянин, вы не умели воспользоваться вашей победой… Вы сошли с Вашего пьедестала, опираясь на тайную полицию и явно подкупленную журналистику… и вы начали бой с молодым поколением, — бой грубой власти, штыков, тюрем, — против восторженных идей и вдохновенных слов. Ваш предшественник воевал в Польше с детьми, Вы воюете в России с юношами и отроками, поверившими Вам и Вашим органам, что для России настала новая эпоха…
Прошедшее немо… убитых вы не воротите. Искупите вину Вашу перед живыми и, стоя у гроба Вашего сына, отрекитесь от кровавой расправы… Вы видите ясно и едва можете скрыть, что старая машина, ржавая и скрыпучая, устроенная Петром на немецкий лад и прилаженная немцами на русский, негодна больше. Вы видите, что нельзя больше управлять народом в 70 миллионов, как дивизией. Фрунт не стоит больше „смирно“… Вы не знаете, ни о чем страдает Россия, ни чего она хочет. И как же Вам знать? Печать не свободна, да и Вы мало читаете. Видите Вы одних слуг, зависящих от Вас, лгущих перед Вами! Свободных людей, поднимающих голос, вы казните… Вы с беспримерной свирепостью осудили единственного замечательного публициста, явившегося в Ваше время. А знаете ли, что писал Чернышевский? В чем состояло его воззрение?.. Для чего же Вы отдаляете истину, для чего Вы обманываете себя, что Вы, помимо народного совета и вольной речи — вывезете садящуюся на мель петровскую барку в широкое русло?.. Взгляните ясно и просто с Монблана, на который Вас поставила судьба, разгоняя стаи галок и ворон, имеющих право приезда ко двору, и Вы увидите, что лавированием между казенным прогрессом и полицейской реакцией Вы далеко не уедете и сведете себя на один бесплодный отпор…
Не лучше ли, не доблестнее ли порешить общие дела общими силами и созвать со всех концов России, со всех слоев ее — выборных людей. Среди их Вы услышите строгие суждения и свободные речи, но будете безопаснее, чем был Ваш дед, окруженный рвами, стенами и лейб-гвардейскими эспонтонами в подобострастной немоте Михайловского дворца… Вы собирались идти дальше тем страшным путем, которым Вы идете с половины 1862 года. Возвратитесь с похорон Вашего сына на прежнюю дорогу… Но прежде всего остановите руку палача, возвратите сосланных и прогоните внезаконных судей, которым поручалась царская месть и неправое гонение…
Искандер».
В задумчивости Александр отвлекся от церковного ритуала и вернулся к действительности уже под пение «Отче наш». Он первым подошел к золотому кресту и с привычным тайным удовлетворением ощутил, как дрогнула рука священнослужителя, державшая крест.
Тем временем снаружи, под колокольный благовест, пришла в движение огромная вереница роскошных экипажей — открытых колясок, карет, фаэтонов. Протяжно прозвучала кавалерийская команда, и казачий эскорт на светло-серых донцах в готовности застыл на выезде. Колокола смешались с голосами кора, когда двери распахнулись и от них до самой подножки царского экипажа мгновенно раскатили длинный текинский ковер золотисто-алого оттенка.
Когда колокола на миг смолкли, в неожиданной тишине стал слышен будто легкий серебряный звоночек… Звяканье царских шпор. Государь твердо прошел к экипажу и сам помог императрице Марии стать на ступеньку, затем, прежде чем занять свое место на сиденье, выпрямился и слегка кивнул рукоплещущей толпе верноподданных, осаживаемой полицейскими от ограды. Восторженные возгласы по-русски и по-немецки еще не успели смолкнуть, как длинный кортеж взял хороший аллюр и быстро помчался по красивой лесистой дороге к мосту через Рейн у города Майнца.
Во время короткой задержки перед мостом государь знаком пригласил в свой экипаж графа Шувалова, ехавшего впереди…
Настоящим придворным свойственно некое особое безошибочное чувство — угадывание невысказанных мыслей и предупреждение невысказанных пожеланий властителя. Петр Андреевич, начальник III отделения канцелярии Его Величества и шеф жандармов, угадал, что государю неприятны обстоятельства, о которых надо поговорить. Значит, указания должны последовать как бы вскользь и вовсе невзначай, и как будто бы ради надобностей подчиненного, а никак не царственного лица. Лишь бы не ошибиться в догадке и не попасть впросак.
Однако Шувалов даже не успел измыслить предлог, чтобы затем соскользнуть на нужное, как государь сам, глянув на катящиеся внизу рейнские волны и внушительные форты старой крепости Кастель, навещаемой теперь лишь туристами, нашел сходство между здешним рейнским мостом и каменным бернским, через реку Ааре…
Шувалов смекнул: неприятное обстоятельство — оставшиеся там, в Швейцарии, опасные бумаги.
— При звуке этого названия, — повел он беседу в нужное русло, — вспоминается недавняя кончина, случившаяся в Берне… Родился князем, помер пасквилянтом.
Александр, будто удивленный напоминанием о столь неугодном лице, осведомился, просто как христианин, каковы были обстоятельства смерти? Неужто русский князь так и отошел, как язычник?
Граф стал докладывать некоторые подробности. Мол, незадолго перед концом Петр Владимирович Долгоруков прогнал от себя прибывшего из России родного сына Владимира, а для изъявления последней воли и составления духовного завещания вызвал к себе эмигранта Герцена-Искандера, который действовал совместно с эмигрантом Николаем Платоновым Огаревым и поляком Станиславом Тхоржевским, старинным агентом Герцена — Огарева, а в прошлом — лондонским книготорговцем. Однако в самый час кончины при умирающем оставались врач — профессор Фогт, упомянутый Тхоржевский и поспевшая в последние дни перед концом супруга умирающего, княгиня Ольга Дмитриевна Долгорукова. Она отслужила по скончавшемуся мужу христианскую панихиду. Преставился князь в день Преображения Господня, 6 августа по русскому календарю, или 18-го по западному… Однако в своем завещании князь Петр ни жене, ни сыну не дал полномочий управлять своими бумагами и заграничным имуществом. Сказал, хватит, мол, и того, что осталось им в России… Тульское имение и прочая недвижимость.
Александр покачал головой укоризненно.
— Да был ли он в здравом уме? Кому же отказано все это… тамошнее добро… И… бумаги?
— Поначалу они хитрили и скрывали от общественности волю умершего. Потом выяснилось… как бы сказать, посмертное неразумие. Все завещано Тхоржевскому вместе с установленной ему князем пенсией, однако с тем, чтобы судьбою бумаг Тхоржевский мог распоряжаться лишь по воле Герцена и Огарева как душеприказчиков. Таким образом, материальная стоимость бумаг — в пользу Тхоржевского, а их, что ли, политическое использование — на усмотрение тех, двоих.
— Почему же вы, Шувалов, не помогли княгине опротестовать и уничтожить такую духовную? Это же просто ни в какие рамки не укладывается!
— Именно так, ваше величество! Мы приложили все усилия к тому, чтобы поддержать ходатайство княгини Ольги Долгоруковой перед федеральными властями в Берне. Но подлинность духовной заверена в столь строгом нотариальном порядке и скреплена такими свидетельствами, что… швейцарское правительство отказало в иске княгине.
— А… сын? Ведь он был как будто несправедливо обижен отцом?
— Молодой князь… отказался спорить против отцовской воли. Сообщение об этом получено только что. В соответственном духе он писал также Герцену и Тхоржевскому. А эти… по-видимому, намерены… публиковать бумаги.
Заметная тень пала на государев лоб. Царственные, рыжеватого оттенка брови чуть нахмурились.
— Я склонен буду оценить способности моей полиции и моей канцелярии по тому, удастся ли вам предотвратить эту дерзость изгнанников-пасквилянтов… Ступай теперь к себе, Шувалов. Мы сделаем маленькую партию в этот парк — я обещал великому герцогу… Те бумаги… необходимо… выкупить у господ Искандеров и Тхоржевских. Документы должны вернуться неоглашенными в наши государственные архивы, туда, откуда они в свое время по недосмотру исчезли… Вернуть их — и под замок!..
2
В закоулках, коридорах и двориках знаменитого серо-синего, некогда Кочубеева дома у Цепного моста в Петербурге было легко заблудиться. Там помещалась и секретнейшая 3-я экспедиция. С некоторых пор ее руководителем стал старший чиновник полицейской службы, коллежский асессор Константин Федорович Филиппеус. Ведал он тайнами тайн — службой всех секретных агентов, штатных и завербованных внутри страны и за ее рубежами, в том числе в Германии, Франции, Швейцарии. При Константине Федоровиче деятельность 3-й экспедиции необыкновенно оживилась, ибо был он сыщиком по природе, по страсти и по крови. Пришел он в 3-ю экспедицию недавно, с весны 1869 года, в сорокалетием возрасте и сразу вник в самые важные дела. Как все лица его деликатной профессии, он о себе говорить не любил, а если говорил, то всегда «по соображению обстоятельств» и с учетом вкусов собеседника, причем рассказывал о своей жизни все, кроме правды. Будто, например, предок его получил право прибавить к фамилии Филипп окончание «еус» якобы за блестящие успехи в Болонском университете.
Начальству же г-на Филиппеуса были ведомы более прозаические подробности его карьеры. Бросил в ранней молодости Горыгорецкий (старейший в России) земледельческий институт, полагая, что его талантам нужны нивы иные, не хлеборобные. Поступил на службу в канцелярию петербургского генерал-губернатора и окончил курс в Петербургском университете по филологическому факультету. Продолжал службу то в министерстве иностранных дел, то в канцелярии финляндского генерал-губернатора, но не чуждался и педагогического поприща: преподавал немецкий язык в Гельсингфорсском Александровском университете, а затем даже открыл собственный частный пансион для воспитания мальчиков из русских семей в прирейнском городе Бибрихе, в четырех километрах от Висбадена. Начинание это заслужило живейшее одобрение русской полиции… Правда, от благородной педагогической деятельности Константину Федоровичу пришлось оторваться на несколько лет для приведения в разум польских повстанцев. Заслуги его при усмирении этого непокорного народа начальство тоже заметило и высоко зачло: ревностного служаку еще пристальнее проверили и в конце концов ему поручили… 3-ю экспедицию III отделения собственной его величества канцелярии…
…В последних числах июля 1869 года Филиппеус пригласил для беседы одного из лучших секретных агентов, известных самому Шувалову. Ради предосторожности начальник беседовал с подчиненным не в служебном помещении, а в отдельном кабинете второсортного ресторана за Сытным рынком на Петербургской стороне.
Начальник обрисовал агенту задание, людей, с которыми придется иметь дело, и значение, придаваемое начальством успеху в этом предприятии. Закончил он свою речь оптимистически:
— Убежден, господин Бартель, что именно вы, как человек с образованием, светскими манерами, опытом сыска, а главное, как верноподданный нашего обожаемого монарха, наилучшим образом подходите для решения задачи — изъять у эмигрантов архив документов покойного князя Долгорукова.
Этот бодрый тон Филиппеус поддержал несколько искусственно, ибо уже в ходе беседы, пока агент молча слушал и задумчиво вздыхал, начальник понял, что Бартель трусит.
— Вы молчите, господин Бартель? Недовольны заданием? Что вас смущает?
При этом начальник допил рюмку ликеру, поданную к кофе, и предложил подчиненному сигару. Взгляд его, однако, стал жестче.
— Константин Федорович, мою исполнительность вы знаете. У меня в послужном списке отказов от поручений не числится. В Швейцарию я, конечно, поеду и попытаюсь заполучить долгоруковские бумаги. Но, скажу правду, в успех такого дела я не верю. Ведь мне в общих чертах уже объяснил обстоятельства господин начальник штаба, его превосходительство Николай Владимирович Мезенцов. Он намекнул, что придется иметь дело с господином Герценом и его окружением. Кое-какой опыт у меня есть, хотя прямых столкновений не случалось, но я вполне уверен, что меня они разгадают сразу. Мы все у них наперечет известны! Ведь я читал в газетах, что у Герцена есть вся картотека фотографических снимков нашей агентуры. К нему являлись секретнейшие агенты под видом спасшихся революционеров, а он… выносил им их фотокарточку и послужной список по III отделению. Это я сам в газетах читал!
Филиппеус поморщился.
— Басни, пускаемые самими эмигрантами! Забыли вы, что ли, агента Перетца, который раскрыл и помог взять на пароходе вольнодумца Павла Ветошникова? Плыл из Лондона с письмами Герцена… Удалось тогда привлечь к суду Чернышевского и Николая Серно-Соловьевича. «Дело 32-х» заварилось за сношение с лондонскими пропагандистами. Многим тогда наш Перетц… наперчил!
Агент Бартель только вздохнул.
— Эх, Константин Федорович, дело-то до нас с вами было. В шестьдесят втором, давненько. С тех пор те хитрей стали!
— Что ж, я трудностей не преуменьшаю. Однако, Бартель, если вы так колеблетесь, я доложу Мезенцову. Пусть сам решит…
…Начальник штаба корпуса жандармов, генерал-адъютант свиты его величества Николай Владимирович Мезенцов задумчиво покачал красивой головой, когда выслушал доклад руководителя 3-й экспедиции Филиппеуса.
— Бартеля наметил граф Шувалов, — произнес он как бы в нерешительности. — А кем бы его заменить, коли трусоват?
— Смею рекомендовать господина Романна, ваше превосходительство. Не угодно ли вам бросить взгляд на его послужной список?
— Ах, Романн! Списка не надо, я его помню. Где он сейчас?
— Вернулся из Нижнего Новгорода. Ожидает у меня в экспедиции.
— Пригласите его сюда…
…К вечеру того же дня Филиппеус сухо сообщил агенту Бартелю, что задание, о котором они беседовали, отменено и вся беседа подлежит забвению и вечной тайне. А в первых числах августа неожиданно подал в отставку один из самых деятельных чиновников секретной службы, шесть лет состоявший в штате III отделения, коллежский асессор Карл Арвид Романн, родом поляк из Прибалтики, выпускник Ришельевского лицея в Одессе, участник Крымской кампании, соредактор известного «Военного вестника», заслуженный сыщик и филер, великолепно «работающий под либерала» и уже отличившийся при выслеживании революционеров, особенно студентов. О его прошении оставить службу для лечения минеральными водами за границей шеф жандармов и начальник III отделения граф Шувалов лично докладывал государю. За верную службу престолу и отечеству увольняемый получил награду в размере годового оклада содержания. Одновременно для него спешно готовили документы, новую биографию, командировочные деньги, притом немалые! По прошествии нескольких напряженных августовских дней 1869 года, получив и документы, и строгие инструкции, и деньги, и напутствия Филиппеуса, агент уже сидел в вагоне поезда Петербург — Остров, торопясь в Варшаву. А генерал Н. В. Мезенцов почтительно доносил графу Шувалову 13 августа 69-го года:
«Г. Бартель… показался мне совместно со старшим чиновником 3-й экспедиции столь боязливо-нерешительным, что он возбудил в нас весьма серьезные опасения… а потому я решился взамен г-на Бартеля командировать г-на Романна, который по характеру бывшей деятельности и по своей развитости представляет некоторые ручательства счастливого предвидения к окончанию порученного ему предприятия. Кроме сказанного поручения, Романну предписано проследить в Женеве и Швейцарии все то, что нас интересует, и в этом отношении он нам будет небесполезен».
3
Редкого приезжего не восхитит с первого взгляда город Женева. Кажется, сама мать-природа выбрала для зодчих этот уголок побережья большого озера Леман (иначе — Женевского), где вытекает из озера река Рона.
Солнечным утром заманчива здесь игра красочных оттенков водной глади — озерной, сине-голубой, вобравшей небо с далекими горными снегами по горизонту, и речной, прозрачно-зеленоватой.
Будто беглянка из плена, уходит Рона из озера в просторную зеленую долину, а городские улицы далеко провожают реку по обоим берегам. Возник город в далеком прошлом на возвышенностях крутого левого берега. Напротив, на отлогой террасе ронского правобережья некогда ютилась беднота предместья Сен-Жерве. Поодаль, в предгорьях, сторожили покой горожан крепостные форты, сумрачно насупленные. Этот район и впоследствии сохранил название «Траншеи», когда на месте срытых за ненадобностью укреплений женевская знать и богатые банкиры настроили в 50-60-х годах XIX века целые кварталы роскошных особняков и вилл.
Новые набережные и мосты стали местом прогулок приезжих гостей. Куда ни бросишь отсюда взгляд, кругом красиво! На севере — отроги и гребни Юрской цепи. На юге — крутая гора Салев, а за нею как фон — сверкающие белизною фирновые поля и ледники высокогорной группы Монблана, «потолка» Западной Европы…
В старину город был строг и аскетически суров, как его каменные форты. Женеву считали столицею кальвинизма, самого непреклонного из течений реформации. Одна из улиц поныне носит имя этого фанатика протестантизма — там сохранился дом, где Кальвин, уроженец Пикардии, жил, работал и умер. Его дух господствовал в атмосфере старой Женевы, пока не вышла на политическую сцену партия радикалов во главе с Джемсом Фази, сумевшая воспользоваться в своих интересах рабочими волнениями в Сен-Жерве. С победой радикалов над женевскими консерваторами началась в середине XIX века новая история города. Ставши президентом республики, Фази продолжал руководить архитектурным обновлением Женевы, превращением ее в блестящий современный город. Уже тогда она начинала приобретать репутацию удобного нейтрального и благоустроенного международного центра для всевозможных политических и научных конгрессов и совещаний. С тех пор и вошли в облик Женевы дорогие отели, новые улицы, набережные с аллеями, яркие витрины, роскошные общественные здания… Любым вкусам и требованиям отвечают здесь все виды городских удобств и транспорта, развлечений и мест отдыха…
…Выдался теплый августовский вечер, когда вновь прибывший в Женеву гость из России, отставной ротмистр Николай Васильевич Постников подъехал на извозчике к отелю де Берг на правом берегу Роны.
Он попросил номер с видом на реку и долго любовался вечерней Женевой. Два больших моста, старый и недавно возведенный, названный Монблановским, искусно соединенные с целой системой эстакад и малых мостовых переходов, связывали не только оба берега, но приобщали к ним и небольшой островной участок среди Роны. Он был хорошо виден из окна. От своего возницы Постников уже знал, что квартал зданий на острове называется л’Иль. За ним Постников угадал среди силуэтов левобережья внушительный собор святого Петра, здание ратуши, а прямо на берегу — роскошный отель де ля Метрополь. Его окна уже отбрасывали на реку световые блики.
Еще один, четко очерченный, островок на Роне виднелся сразу за первым городским мостом, повыше квартала л’Иль, с которым островок связывала эстакада. Было заметно даже издали, что островок весьма заботливо ухожен. Ему придали форму вытянутого по течению пятиугольника, с волнорезом впереди. Берега тщательно облицованы каменными плитами. На ровной площадке островка выращена группа тенистых платанов. Островок носит имя другого знаменитого женевца — Жан-Жака Руссо. Среди деревьев, уже чуть блеклых, слабо белеет мраморное изображение великого философа, изваянное скульптором Прадье…
Г-н Постников решил было, любопытства ради, дойти мостовыми эстакадами до этого романтического островка со статуей. Однако с озера, будто с моря, резко повеяло прохладой. В вечерней тишине стало слышнее неуютное журчание речной воды, обтекающей опоры мостов и волнорезы эстакад. Нарядные экипажи с фонарями мягко и заманчиво катили разряженных дам и иностранных гостей, манили вывески ресторанов… Да и нужно было еще поспеть на почтамт, послать депешу в Петербург и опустить письмецо.
Словом, паломничество к памятнику Руссо на остров его имени российский путешественник решил отложить до утра. И коли позволительно забежать в этом повествовании вперед, можно сознаться, что Николай Васильевич так и не собрался на остров Руссо, не посетил знаменитый Женевский музей, Ботанический сад, здание для выставок картин — атенеум. Не успел он побывать ни в доме Руссо, ни в доме Кальвина. Притом мешали не лень и отсутствие любопытства, а скорее особо серьезные интересы и природная деловитость русского гостя.
Ибо уже на другой день после прибытия обитатель отеля де Берг рано поднялся на ноги, хотя и морщился, дотрагиваясь до левой стороны груди. Там будто сидело что-то постороннее, мешавшее дышать, свободно и безболезненно делать быстрые движения. Он сверился с записями в своем карманном кожаном журнальчике и нашел там рядом с адресом «Кафе де мюзее» еще и адресок книготорговой фирмы, сообщенный Вольдемаром, соседом по купе. Напрягая память, Постников восстановил нужные подробности: г-н Георг, рыжеватый немец, связан с эмигрантами, распространяет нелегальные, в частности герценовские, издания по разным странам.
Позавтракав с газетой в руках, Постников ради первого знакомства с городом выбрал не самый прямой путь к магазину г-на Георга, а зашагал по таким улицам, какие хотелось узнать чуть ближе. Вскоре он оказался перед хмурым старинным зданием Женевской академии — высшего учебного заведения, превращаемого, как Постников знал из разговоров, в университет с четырьмя факультетами.
Шагая мимо, Постников угадывал студентов, спешивших на занятия. Какой это здесь солидный народ! Очки, шляпы, деловитая походка, задумчивое молчание. Изредка — кивок головы, поклон — и туда, к массивным дверям! Невольно вспомнились свои годы учения — Ришельевский лицей в Одессе, тоже уже ставший университетом.
А в прошлом, 1868 году бунтовали студенты Москвы и Петербурга. Еще больше хлопот наделали они полиции тревожной весной нынешнего, 1869-го… Все это прошумело, как всегда, полуправдой на газетных полосах. Немало этой пылкой, неразумной молодежи взято, брошено в казематы крепостей и камеры тюрем, осуждено или пойдет под суд. За то, что требовали самоуправления, перемен в учебных порядках и уставах, устройства студенческих касс, разрешения сходок, освобождения ранее взятых зачинщиков. Внешне многие требования звучали будто невинно, а на деле за всем этим крылась чистая политика…
Обнаружились в столице печатные прокламации с изображением топора и факела, подписанные «Комитетом народной расправы». Установили, что печатаны листки за границей. «Хотим народной мужицкой революции!» — кричали листки. И сулили кару чинам полиции, охраняющим от революционеров существующий порядок. Даже имена печатали, кому смерть в первую очередь: Петру Шувалову и его заместителю Александру Львовичу Потапову; министру внутренних дел Тимашеву; Федору Федоровичу Трепову — обер-полицмейстеру Петербурга; Н. В. Мезенцову, начальнику штаба жандармов.
И еще были тучи печатных воззваний, разосланных через почту по сотням адресов — и студентам, и учителям, и чиновникам, и полицейским даже. Воззвания к революции подписаны были словами «ваш Нечаев». Установили, что 22-летний Сергей Геннадьевич Нечаев числился вольнослушателем Петербургского университета. Это он вел среди студенчества «беспримерную разрушительную работу», отбросив «всякую застенчивость, всякую скромность и проповедуя яркий революционизм и бесстыдное богохульство с невообразимым цинизмом» — так охарактеризован был Нечаев в докладе, представленном III отделением самому императору Александру Второму.
В Петербурге удалось схватить и водворить в Литовский замок 19-летнюю девушку Веру Засулич, уличенную в том, что весной 1869 года она получила от Нечаева письмо из-за рубежа. Возможно, из Швейцарии. Арестовали в числе прочих еще двух молодых особ — сестру Нечаева и ее подругу — Томилову, активных участниц тайной нечаевской организации. Обе девушки, так же как и нечаевская корреспондентка Засулич, вели себя на допросах дерзко и совсем не тревожились о своем вожаке, видимо, полагая его в полной безопасности. Поступили уже и агентурные данные, что Нечаев скрылся в Германию или Швейцарию, но сведения были ненадежные… Выследить его, установить его точное местонахождение было важной задачей всей заграничной агентуры III отделения. И напротив: революционеры-эмигранты, прежде всего, конечно, русские, от старших до самых молодых, с кем Нечаев устанавливал конспиративные связи, всеми силами путали его следы, отводили бдительность ищеек, помогали ему скрываться, снабжали всем необходимым и берегли от встреч с любыми лицами, внушавшими не только подозрения, но даже малейшие сомнения насчет их связей с российской и чужой полицией… Словом, судьба его, можно сказать, одинаково горячо волновала и революционеров, и сыщиков. Занимала она, хотя покамест еще более или менее попутно, и мысли Николая Васильевича Постникова.
Он, конечно, и не подозревал, что на одной из станций по пути сюда судьба почти вплотную свела его с этим молодым революционным вожаком. Где-то в Базеле или Бадене два встречных поезда разминулись… В одном ехал Постников, мечтая о женевских встречах с теми, кто мог помочь его издательским и иным планам. А во встречном составе сидел пассажир с фальшивым паспортом и плотно стиснутыми кипами свежеотпечатанных листовок, умело упакованных между двойными стенками невзрачных чемоданов. Составлять их текст помогали Огарев и Бакунин. Напечатаны они были в Женеве. Пассажир же был не кто иной, как Сергей Геннадьевич Нечаев, дерзко спешивший в Россию, пока полиция искала его на Западе. Он, быть может, уже приближался к Петербургу как раз в тот утренний час, когда Николай Васильевич Постников завернул мимоходом на женевский почтамт…
Безо всякого труда получил он здесь адрес пана Станислава Тхоржевского, нынешнего владельца бумаг, завещанных пану князем Долгоруковым с ведома своих душеприказчиков, Герцена и Огарева, давнишних покровителей Тхоржевского.
«Только не надобно спешки, — говорил внутренний голос отставному ротмистру. — Идти по этому адресу без рекомендаций бесполезно. Сперва — к немцу-книготорговцу, осмотреться и войти в здешние издательские дела. А уж потом на Рут де Каруж, № 20, к пану…»
Ожидания не обманули г-на Постникова. Уже в витрине книжного магазина г-на Георга Постников, к своей радости, узнал знакомые обложки «Полярной звезды» с силуэтами пяти казненных декабристов, листы «Колокола», «Народного дела», переплет «Былого и дум».
Он вошел в магазин. У прилавка стоял плотный немец с рыжеватой шевелюрой и мясистым лицом.
— Здесь говорят по-немецки или по-французски? — весело осведомился покупатель.
Хозяин любезно предложил выбор на усмотрение г-на клиента. Почувствовав любителя книг, владелец магазина посоветовал покупателю снять пальто и порыться сколько душе угодно в той литературе, какая ему интереснее.
— Я хотел бы издания… радикальные, левого направления! — доверительно произнес покупатель.
— Тогда вот эта полка…
Искандер… Чернышевский… Бакунин… П. Лавров… Огарев… Боже мой, какое множество и разнообразие! И видимо, неплохо раскупается. Ага, вот и мемуары князя Долгорукова, женевское издание 1867 года.
— Это последнее? — осведомился покупатель заинтересованно.
— Да, но только пока. Новейшее издание последует в скором времени. Оно будет содержать крайне интересные секретные бумаги относительно русского правительства. Над подготовкой документов к печати работает ныне пан Тхоржевский, и дело теперь за малым — найти средства для того, чтобы осуществить публикацию бумаг, подготовляемых к печати.
— Помилуйте! Да разве у «Вольной русской типографии» г-на Герцена и г-на Огарева мало средств? Для столь интересного издания, которое обещает быть и доходным? Оно же, несомненно, себя окупит, не правда ли?
Г-н Георг в ответ развел руками и задвигал плечами. Дескать, как взяться за дело! Тон посетителя стал почти интимным:
— Я толкую об этом как лицо заинтересованное. Ибо, уважаемый г-н Георг, я тоже в некотором роде издатель, хоть и скромный и ищу заработка, вернее, надежного помещения моих средств, а вместе, конечно, ищу путей идейно служить передовым силам моей родины — России, страдающей от несвободы слова! Для меня очень ценно мнение столь опытного книготорговца, как вы.
Похвала польстила хозяину, но, будучи человеком коммерческого склада, он не очень ценил пустые словоизлияния, даже самые лестные, равно как и тех покупателей, какие ограничиваются разглядыванием, перекладыванием и комплиментами. Но Постников понимал толк и в делах, и в характерах. Не торгуясь, он выложил франки за Долгорукова, прихватил «Народное дело» и последние «Приложения к „Колоколу“».
— Почему г-н Герцен прекратил это славное издание? Я ведь помню, как в Петербурге кое-кто платил по золотому за номер!
— О, язык «Колокола» только подвязан, я убежден, — уверенно произнес хозяин. — Издатели просто хотят настроить его на иной лад. Ведь времена меняются, программы журналов и газет тоже. Я бы посоветовал вам взять новейшие работы г-на Герцена, его статьи — вам станут вполне ясны его взгляды на новые задачи нашего времени.
— Спасибо! Знаете, после дороги я намерен посвятить несколько дней полному отдыху и… высокогорным красотам Швейцарии. А вечерами с охотой почитаю то, что вы посоветуете. Хотелось бы мне, можно сказать, на пороге трудной издательской стези позаимствовать кое-что из опыта титанов практики, таких, как Герцен или Огарев. Велика моя охота вникнуть в их писания, но еще важнее было бы расспросить лично. Разумеется, в книгах больше идей и теории, но меня интересует и сторона чисто практическая.
Книготорговец слушал сочувственно, а про себя размышлял: следует ли сообщить этому господину адреса «титанов практики» или, помня предостережение Герцена, дать ему время проверить, желательно ли такое новое знакомство? Пожалуй, не стоит слишком торопить события. Однако клиент ему понравился своей деловитостью, тактом и некоторой живостью, сулящей занимательные и полезные беседы. Кроме всего прочего, г-н Герцен покинул Швейцарию. По его словам, она опротивела ему после дела княгини Оболенской. Где сейчас этот вечный странник — в Брюсселе или в Париже, в точности неизвестно. Но Огарев и Тхоржевский, можно сказать, под рукой…
— Когда вернетесь в Женеву после ваших горных прогулок с назидательным чтением на ночь, — заговорил книготорговец приветливо, — буду весьма рад снова увидеть вас в этих стенах. Вы еще мало изучали мой каталог!
— Всегда предпочитал порыться не в каталогах, а прямо в книгах — это любимое мое развлечение! Весьма благодарен за приглашение! А я, в свою очередь, позволю себе пригласить вас отобедать со мною в какой-нибудь из здешних уютных рестораций. Ну хотя бы в «Кафе де мюзее…».
— О, смотрите, пожалуйста, как вы быстро сориентировались в нашем городе! Удачное совпадение — ведь я люблю пообедать именно там. Случается, что и вместе с друзьями, и даже… с бутылочкой!
Глава седьмая. Издатели вольного русского слова
С детских лет я бесконечно любил наши села и деревни, я готов был целые часы, лежа где-нибудь под березой или липой, смотреть на почернелый ряд скромных бревенчатых изб, тесно прислоненных друг к другу… В нашей бедной северной долинной природе есть трогательная прелесть… И какой славный народ живет в этих селах!
А. И. Герцен
1
Покойной рысцой трусили верховые лошади молодых господ-туристов, кто все еще предпочитал экипажу путешествие в седле. Николай Васильевич тоже решил тряхнуть стариной и ехать верхом, но уже посреди дороги тайком раскаивался. Он ехал полюбоваться красотами Монте-Розы и думал о том, что ныне, пожалуй, автор «Былого и дум» не узнал бы маршрута, так ярко описанного им в этом биографическом романе: дорогу к селению Церматт, столь утомительную двадцать лет назад, теперь же вполне доступную для колясок и фаэтонов. Да и в самом Церматте, где Герцен видел тогда, в 1849-м, только несколько маленьких крестьянских хижин, ныне ожидают постояльцев удобные отели, и строятся новые, совсем современные гостиницы и приюты для любителей лыж, горных красот и живительного воздуха. Скоро выстроят высокогорную железную дорогу, и тогда кавалькады, экипажи, пешие походы к Церматту, вероятно, вовсе отойдут в прошлое…
Но то странное чувство в горах, чутко уловленное и переданное Герценом в главе о Монте-Розе, охватывало путников и теперь. Во власть этому чувству отдался и Николай Васильевич Постников. И чудилось ему, что дышит-то он свободнее и словно прикасается, подобно Герцену, к чему-то светлому и строгому, а вместе с тем росло в нем ощущение своей ненужности здесь, своей непричастности к холодным и чистым высотам Альп: слишком въелась в него накипь цивилизации, слишком занимала его суета сует низкой жизни… Вскоре он отдал лошадь проводнику и занял место в одном из экипажей. До самого отеля он то озирался на голые скалистые выси, то прислушивался к немолчному реву бешеной реки Весп на дне долины, то раскрывал книгу, втайне дивясь, с какой великолепной точностью переданы Герценом ощущения путника.
На другой день, уже после верховой прогулки к ледникам Монте-Розы, он снова читал старые герценовские строки:
«Мы остановились перед ледяным снежным морем, расстилавшимся между нами и Мон-Сервином; окаймленное грядою гор, облитых солнцем, оно само, белое до ослепительности, представляло замерзшую арену какого-то гигантского Колизея. Местами изрытое ветрами, волнистое, оно будто застыло в самую минуту движения; изгибы валов замерзли, не успев выправиться… Странно чувствует себя человек в этой раме… становится бел и чист внутри… серьезен и полон какого-то благочестия!»
Постников уже шел к экипажам, готовым в обратный путь. До назначенного часа отъезда оставалось немного. Тут пришло ему в голову спросить, в какой из уцелевших хижин останавливались путники двадцать лет назад. Оказалось, что в любой, где у хозяев находилось свободное местечко. Постников живо представил себе, как сходила тогда с коня англичанка, повстречавшая здесь знакомого шотландца и смело пустившаяся дальше ночной тропой. В одну из хижин он успел даже заглянуть — его приветливо встретила старая женщина из того же «чистого и доброго племени горцев, живущего с малыми потребностями, привычного к жизни самобытной и независимой», не тронутой ржавчиной цивилизации… И точно так же, как двадцать лет назад Герцену, пришли и нынешнему русскому гостю на память крестьянские лица и речи там, на родине.
«В Перми и Вятке мне удавалось встречать людей такого же закала, как на Альпах», — припомнилась здесь Постникову герценовская фраза… Вскоре после альпийской поездки Герцен пережил свою семейную драму.
Потеря жены с новорожденным младенцем, трагическая гибель матери и сына Коли глубоко потрясли, но не сломили Герцена. Впоследствии он сам признавался друзьям, что с трудом одолел соблазн — запить с горя. Даже верная дружба Огарева поддерживала тут слабо — слишком велико было тогда расстояние между друзьями. В 1852 году их еще разделяли государственные границы: Огарев хлопотал о выезде из России.
Герцен решил уехать в Англию — страну для него новую, подальше от ранящих воспоминаний. Жизнь поистине оставила ему единственное утешение — общественную деятельность, не считая заботы о детях. Здесь и возник у него замысел о русском вольном слове.
«…Когда на рассвете 25 августа 1852 я переходил по мокрой доске на английский берег и смотрел на его замаранно-белые выступы, я был очень далек от мысли, что пройдут годы, прежде чем я покину меловые утесы его. Весь под влиянием мыслей, с которыми я оставил Италию, болезненно ошеломленный, сбитый с толку рядом ударов, так скоро и так грубо следовавших друг за другом, я не мог ясно взглянуть на то, что делал… Я не думал прожить в Лондоне дольше месяца, но мало-помалу я стал разглядывать, что мне решительно некуда ехать и незачем… Решившись остаться, я начал с того, что нашел себе дом… за Реджент-парком, близ Примроз-Гилля. Дети оставались в Париже (Герцен говорит о дочерях Тате и Ольге. — Р. Ш.), один Саша был со мною… По целым утрам сиживал я теперь один-одинехонек, часто ничего не делая, даже не читая; иногда прибегал Саша, но не мешал одиночеству… Я увидел, что серьезно-глубоких связей у меня нет. Я был чужой между посторонними… Нет города в мире, который бы больше отучал от людей и больше приучал бы к одиночеству, как Лондон…
Свои у меня были когда-то в России… Надобно было во что б ни стало снова завести речь с своими… Писем не пропускают… Писать нельзя — буду печатать; и я принялся мало-помалу за „Былое и думы“ и за устройство русской типографии…»
2
А теперь эта Вольная русская типография находится здесь, в Женеве, куда Николай Васильевич Постников воротился из своей трехдневной поездки по Швейцарии… Типография и ее деятели живо интересуют Николая Васильевича.
В один из последних дней августа 1869 года этот любознательный турист в повышенно-веселом настроении ждал заказанные блюда за столиком «Кафе де мюзее», в приятном обществе нового здешнего знакомого г-на Георга и его супруги. Расторопный кельнер от усердия почти порхал по воздуху вокруг этого столика. Он расставил обильные закуски, откупорил бутылки, от количества которых у мадам Георг округлились глаза; протирал бокалы, тарелки, ножи заботливее, чем на придворном рауте: обильный заказ сулил пропорциональные чаевые!
Гость уже убедил сотрапезников последовать русским обычаям и предпослать закускам хорошую рюмку шнапса, как в дверях появился невысокий плотный господин с облысевшим от самого лба теменем и изрядно поседелой бородой. Он был в строгом черном сюртуке и крахмальной рубашке с черным бантом, как бы намекавшим на недавний траур. Книготорговец Георг дружески раскланялся с вошедшим и шепнул соседу:
— Этот господин может быть вам, месье Постников, весьма полезен советами и опытом. Это издатель Станислав Тхоржевский. Не пригласить ли его к нашему столику — он, как видите, один…
От неожиданного исполнения столь заветного желания — личного знакомства с паном Тхоржевским Постников чуть было не поперхнулся сардинкой. В знак согласия он смог лишь сделать выразительный жест руками — дескать, счастлив случаю!
Пан Тхоржевский не заставил себя долго упрашивать и занял место рядом с г-жой Георг. Он оказался не чужд российским обычаям и позволил наполнить себе рюмку. Завязался было профессиональный разговор, однако Николай Васильевич вовремя приметил, как вытянулось лицо у г-жи Георг. Чтобы не наскучить ей серьезными темами, экс-ротмистр вперегонки с паном пустился ухаживать за дамой, пухленькой и молодящейся сентиментальной немочкой. Господа привели ее в наилучшее настроение, чем немало порадовали супруга. В результате оба получили приглашение к воскресному домашнему обеду. Однако, лишь только до сидящих донесло с улицы отзвук колокола соборных часов, пунктуальные супруги сразу откланялись — их ждали дела: мужа — магазин, жену — домашние заботы. Постников и Тхоржевский, к радости первого, остались за столиком одни. Однако и пан вынул из жилетного кармашка свой золотой «Лонжин» на тонкой цепочке того же металла.
Тем не менее Постников все же заговорил о своем намерении приобрести и издать бумаги князя Долгорукова, если у самого пана Станислава нет желания сделать это самостоятельно.
Веселое выражение лица у пана исчезло. Он задумался.
— По некоторым материальным причинам мои друзья и сам я не в силах осуществить такое сложное издание с нужной тщательностью. Но сам решать столь важный вопрос, как судьба такого архива, я не властен. Надо спросить мнение г-на Огарева. Он живет здесь, на улице Малых Философов. Однако и он не даст окончательного заключения. Право сделать это… имеет… другое лицо, уполномоченное покойным.
— Вероятно, я догадываюсь, кого вы имеете в виду. Разумеется, тут нужна всяческая осторожность, но… цель-то у нас с вами одна! Я говорю не о коммерческой стороне дела.
Взгляд Тхоржевского снова потеплел, и лицо стало улыбчивым.
— Хорошо! Коли так, а я в этом, знаете ли, не хочу и сомневаться, имея дело с другом г-на Георга, сочту долгом помочь вам познакомиться с Огаревым, Раз вы ненадолго в Женеве, то… приходите ко мне допой нынче, к шести вечера, на Рут де Каруж, № 20. А я прямо отсюда зайду сейчас к Огареву, чтобы предупредить его… Позвольте мне вашу визитную карточку. — И, пряча карточку в карман, добавил: — Надеюсь, что он согласится!
Еще перед входом в кабинет Тхоржевского с открытыми книжными полками, фарфорово-белым ламповым абажуром и большим кожаным диваном Николай Васильевич различил два мужских голоса. Утишая невольное сердцебиение, он переступил порог. На диване, глубоко вдавливая сиденье, расположился крупный тучный человек с болезненно-отечным лицом, затрудненным дыханием, но спокойно-испытующим взглядом серо-голубых, внимательных и добрых глаз. Его бороду, густые брови, усы и чуть всклокоченную шевелюру сильно тронула седина, но, видимо, их довольно редко касался парикмахер.
— Николай Платонович! — почтительно-дружески заговорил Тхоржевский, вставая навстречу гостю. — Вот, позвольте представить вам господина Постникова.
Визитная карточка Постникова лежала тут же, на столе. Пожилая особа, верно хозяйка пансиона, сервировала чай.
— Огарев, — коротко проговорил гость, приподнимаясь с дивана. Для этого он тяжело оперся на трость — Постников уже знал, что недавно этот соратник Герцена сломал ступню.
— Давно из России?
— С октября прошлого года.
— А сейчас откуда и куда?
— Из Баден-Бадена в Париж. Через Швейцарию.
— Скажите, вы случайно не знаете ли, где сейчас Погодин?
— Михаил Петрович? Профессор истории? Издатель «Московитянина»?.. Слышал, что занят исследованиями домонгольской Руси и Петром, а где обретается ныне — не могу сказать.
— А про Кельсиева ничего нового нам не расскажете?
Постников внутренне насторожился. Кельсиева, бывшего сотрудника «Колокола», считали ренегатом эмиграции, воротившимся в Россию с покаянием. Вопрос, видимо, для проверки. Он решил отвечать в плане чистой коммерции.
— Знаю лишь, что издание его сочинений купил М. И. Семевский и надеется как издатель неплохо на этом заработать.
— Так, так. Ну а вы сами, господин Постников, скоро ли намерены возвращаться в Россию?
— Не думаю, да и незачем пока мне домой возвращаться.
— Стало быть, имеете намерение ступить здесь на стезю издательскую? Могу по личному опыту заметить, что, кроме удовлетворения нравственного, и то далеко не всегда и не скоро, стезя эта нашему брату ничего не сулит… Вот для примера судите сами, что на эту тему пишут люди посторонние, плоховато нас знающие и все же кое-что постигшие правильно… Покажите, Станислав, немецкий журнал «Времена года» за январь 1859-го. Слушайте, я переведу.
И он начал читать немецкий текст вслух, переводя его на русский и водя пальцем по строчкам журнала:
— «Личность Александра Герцена, благородство его побуждений до сих пор не могли быть опорочены даже злейшими его врагами… Остаток своего имущества он употребил на либеральную литературную пропаганду в своем отечестве, для чего устроил в Лондоне русскую типографию и печатал книги, брошюры и журналы с требованием реформ. Эта деятельность, находившаяся под строжайшим наблюдением русской полиции, могла довести его до полной нищеты, но патриотизм Герцена был этим столь же мало поколеблен, как и клеветой, распространявшейся на его счет русской аристократией и бюрократическими кругами и нашедшей столь благоприятную почву в немецких газетах…»
Огарев протянул журнал Постникову.
— Видите? «До полной нищеты… в своей войне с миром произвола, кнута и подкупа…», почитайте тут дальше, это все довольно точно…
— А чья это статья? — осведомился Постников.
— Автор подписался псевдонимом «Н». Судя по иным преувеличениям и неточностям, он не принадлежит к нашим личным знакомым, но, по-видимому, близок к некоторым кругам мыслящих русских людей. Для нас псевдоним остался нераскрытым.
Тем временем пожилая экономка принесла чай, бисквиты и кекс. Заметно прихрамывая, Огарев перешел к столу и более ласковым тоном, чем до сих пор, пригласил русского гостя.
— Чайку не попьешь — не поработаешь! — усмехнулся он добродушно. Постникову на миг показалось, будто сидят они где-то под Белоомутом или в Пензе, — таким истым русаком глядел маститый поэт, уже свыше десятка лет оторванный от родины. И чувствовалось, что все его мысли, и горькие, и светлые, принадлежат одной России… Сейчас он пил чай «вприкуску», искоса поглядывая на гостя чуть насмешливо и все более благожелательно. Дескать, мол, эх вы, кто помоложе и поздоровее нас, сколько мы перелопатили, передумали о вас, кое-чему научились, сумеете ли вы теперь избежать наших промахов, просчетов, чтобы сил зря не тратить!
— Скажите, пожалуйста, Николай Платонович, верно ли поговаривают, будто вы совсем закрываете вольное герценовское издательство? Чем вызвана приостановка газеты «Колокол»? Неужто только соображениями финансовыми? Это я потому спрашиваю, что рад видеть перед собою великого издателя, не сочтите за грубую лесть! Вот в этом журнале, что вы мне дали проглядеть, я вижу справедливую оценку вашей деятельности. Немецким я владею свободно. Позвольте, вслух прочту:
«Либерализм в России стал в известной мере модой. Двор прислушивается к Герцену; в результате его обвинений смещались министры и губернаторы; лихоимцы трепещут перед ним; ему предана вся молодежь, и если в России, — Постников поднял палец и прочел в торжественном тоне, — и если в России вырастает лучшее, патриотическое, в хорошем смысле слова, поколение, то этим оно должно быть обязано Герцену. Каждый номер его газеты нетерпеливо ожидается и ценится на вес золота; появление каждой его брошюры становится событием. Издания Герцена можно найти на столе и в спальной царя, царицы, великих князей, министров, так же как у степных помещиков и в кавказской армии. Никогда публицист не оказывал такого глубокого и такого обширного воздействия на свою нацию, как Александр Герцен…» Да, действительно хорошо сказано! Только тут, в этой статье, никак не подчеркнуто, что Герцен ведет свою деятельность не один, а рука об руку с Огаревым…
— Это всегда как бы подразумевается, — сказал Тхоржевский. — Тем более что Герцен сам писал: мысль издавать «Колокол» принадлежит Огареву. Ведь так, Николай Платонович?
— Безразлично, чья была первая мысль. Да, идею такой газеты предложил Герцену я, но это было бы невыполнимо без его энергии, руководства, ума, таланта, связей. Я же всегда считал счастьем для себя его дружбу и доверие и могу лишь гордиться своей долей в его начинаниях… Нет, типографию мы не закрыли, готовим выпуск «Полярной звезды», несмотря на материальные трудности, с которыми бьется наш старый соратник Чернецкий, как вам, наверное, известно… И уж тем более мы не вовсе прекратили, а лишь как бы временно приостановили «Колокол». У него будет новая программа. До сих пор мы больше обличали режим, содействовали переменам, а нынче этого мало. Надо помочь созыву Всероссийского земского собора, рождению новой бессословной России, новому русскому социализму…
— Как это понять — русский социализм? — заинтересованно переспросил гость.
— Это долгий разговор, отложим его. Герцен много писал на эту важную тему — перечитайте его статьи: «Порядок торжествует», «Россия», «Крещеная собственность»… Социализм в будущей России будет создан на основе общинного крестьянского землевладения, к которому народ наш привычен исстари. Конечно, община социалистическая будет иной, чем нынешняя. Европа не знает общины, здесь и крестьянин обуржуазился, а фабричные люди тоже становятся маленькими буржуа. Этого можно избежать у нас на родине. Как ни странно, она ближе к социализму, чем гнилая, сытая аморфная Европа, несмотря на весь ее достаток… У нас революция будет не чисто политической, но и экономической. Изменятся порядки и для фабричных работников — хотя это те же крестьяне у нас, как показано в тургеневском «Бежином луге». Социализм улучшит условия их труда и саму форму собственности на те фабрики, где люди надрываются сегодня… Возникнут какие-то новые виды общественной собственности на фабрики и на железные дороги, как и общинная собственность на землю… Но все это надо еще теоретически продумать, обосновать, выработать программу — тогда снова зазвучит «Колокол», можете не сомневаться!..
Постников внимал затаив дыхание.
— Что ж, — продолжал Огарев, вставая, — остается пожелать успеха и вам! Действуйте без торопливости, осмотрительно, с финансовым расчетом… Но… и не зевайте в предвидении событий, в этом все искусство издателя. Вовремя зачуять ветер событий…
— Постараемся поучиться этому у вас, Николай Платонович, хотя я и сравнивать не могу ваш размах с моими скромными планами. Если позволите спросить, редакция будущего «Колокола» останется в прежнем составе: Герцен — Огарев?
— Ну об этом сейчас еще рано толковать. Возможно, состав и расширится, пополнится силами помоложе, этого хочет сам Герцен. Вести вдвоем такой корабль в чаянии будущих штормов — а они недалеки! — двум старикам непосильно. Тут есть еще время подумать, поговорить с друзьями.
— Мне вот кажется, что г-н Бакунин — личность исключительная и тоже энергичная. Будь я Огаревым, непременно его уговорил бы участвовать. Ведь уговорили бы, а?
Все засмеялись.
— Бакунин наш старый друг, и, зная его, невозможно его не любить. Даже старые англичанки, квартирные хозяйки, в него по уши влюбляются и ухаживают за этим грозным революционером, как за малым дитятею. Но его анархическая программа отпугивает Герцена. Только мне давно уже пора, ждет корректура статьи. Вашу руку, коллега!
Огарев пожал Постникову руку, почтительно протянутую, и, прихрамывая, вышел на улицу. Тхоржевский, провожая старика, несколько задержался в передней, видимо, для обмена впечатлениями.
— Вы не удивляйтесь подробным расспросам и скупым ответам, — сказал он, воротясь к Постникову, — встреча со всяким русским поначалу ведет к некоторому… зондированию, как выражаются хирурги. Но вы ему понравились, Николай Васильевич, чему я искренне рад. Можете не сомневаться, что он напишет Александру Ивановичу про вас в благожелательном духе. Ведь часть долгоруковских бумаг находится у Герцена. Он их, как вы знаете, напечатал в «Приложениях к „Колоколу“». Я решил подарить вам весь комплект за прошлый год и «Приложения», выпущенные в этом, 1869-м… Перед отъездом вручу вам полную перепись всего архива. Очень интересные, по-моему, бумаги. Герцен сам лучше всех мог бы приготовить их для издания, но это отвлекает его от более важных и нужных дел.
— Как вы думаете, пан Станислав, а на каких условиях возможна покупка долгоруковских бумаг? Как владелец, цену определите, наверное, только вы сами? Это вопрос для меня… самый решительный.
— Понимаю! Уж сторгуемся, Николай Васильевич, если вы убедите Герцена в искреннем намерении скорее издать бумаги. Он считает их важными для разоблачения гнусного царского режима в России. Хранить их в секрете — значит служить царским властям, не так ли?
— Надо полагать, что именно так. Можно служить и умолчанием, и ложью, и лестью… Если не секрет эмигрантский, где сейчас г-н Герцен? Уж, верно, не в Женеве, к моему невезению?
— Он сейчас в Брюсселе… Впрочем, тамошний адрес мне неизвестен, — спохватился Тхоржевский. — Его, в крайнем случае, можно установить у книготорговой фирмы, Лакруа в Брюсселе. Может, лучше всего вам самому к нему съездить? С моим письмом. Хотя нет, это, пожалуй, было бы навязчиво!.. Я поговорю с Огаревым. Может быть, он даст Герцену телеграмму… Вы надолго у нас в Женеве?
— Думаю, что до среды, — неуверенно отвечал гость. — Я немного простудился в горах, и врач не советует ехать раньше.
— Какой врач вас здесь пользует? — заинтересовался заботливый Тхоржевский.
«А черт бы побрал этого проклятого ляха, вот бы угодил впросак!» — со злобой подумал русский гость пана. Он напряг всю свою зрительную память, стараясь воскресить в уме уличные вывески на пути к отелю де Берг… Справившись с этой задачей, он небрежно бросил:
— Да, помнится, некий господин Пишо. Неплохой доктор, очень внимателен… Впрочем, милейший пан, почему мы с вами, собственно, беседуем по-русски, когда оба в жилах имеем польскую кровь (у меня она с материнской стороны!) и носим в сердце любовь к языку Костюшки… Прошу пана говорить по-польски… Итак, пан, на какую цену я мог бы рассчитывать реально в случае, если Александр Герцен признает меня достойным покупателем?
— Сам он оценивает этот архив на русские деньги тысяч в десять… По степени интереса бумаг, столь опасных русскому правительству… Возможно, придется пригласить специалиста-оценщика, но едва ли разница в оценке будет сильно отличаться от названной суммы. Столкуемся, Николай Васильевич!
— Хорошо бы, пан! Вы говорите так уверенно, будто я уже окончательно проверенный покупатель! Но сейчас поздно, пора мне в отель, а до среды буду ждать вас к себе, чтобы уточнить: ожидать ли мне в Париже какого-то знака от Герцена или от вас, либо поступать иначе, имея ваше рекомендательное письмо. Или уж… поискать другое применение своим средствам и планам… Доброй ночи!
— О доброй, доброй ночи! …Хочу вам довериться: если вы сможете задержаться в Париже до конца сентября или начала октября, то, вероятно, там и будет ваша встреча с Александром Ивановичем. Потому что Герцен намеревался с семьей быть в Париже к октябрю.
3
Новые женевские знакомые Постникова, проводившие его на поезд 2 сентября, верно, весьма удивились бы, узнав, что пассажир этот не только не остановился в Париже, но даже вообще объехал французскую столицу стороной, а в Берлине взял билет до Варшавы.
Теперь, в конце сентября, месье Н. В. Постников очень спешил к Парижу, только не с юга, как предполагали в Женеве, а с севера. Это было тем более странно, что пану Тхоржевскому шли постниковские открытки из Парижа несколько раз на протяжении сентября месяца…
В Петербурге сам Александр Второй 17 сентября листал подробный доклад Мезенцова о ходе переговоров. Там говорилось, что поручение возложено на агента, «чья опытность на уровне задачи»…
Императора же одолевали сомнения. На полях доклада он собственноручно начертал:
«Признаюсь, что я далеко не убежден, чтобы покупка эта могла состояться…»
…Утренний берлинский прибыл в Париж на Северную станцию строго по расписанию. Николай Васильевич Постников покинул купе первого класса и жестом указал носильщику побережнее отнестись к паре тяжелых чемоданов. В фиакр он усаживался с достоинством, назвал адрес добропорядочного отеля на Севастопольском бульваре и всеми замашками подчеркивал, что не принадлежит к праздным провинциалам, радующимся даже самому факту прибытия в столицу шика и моды. Опытный возница было приостановил лошадей на пересечении Рю де Лафайет с бульваром Мадженты — самые восторженные седоки обычно уже отсюда начинают превозносить вслух гармонию парижских уличных перспектив, однако седок не проявил никакого интереса к достопримечательностям столицы и нахмурился по поводу задержки. Лишь мелькнувший слева мрачный силуэт тюрьмы святого Лазаря почему-то привлек на миг внимание деловитого гостя.
Фиакр неторопливо катил вдоль Страсбургского бульвара, перекрещивающегося с тенистым бульваром Сен-Дени — еще королевским, одним из старейших на исконном поясе чудесных каштановых аллей столицы… За перекрестком, как продолжение Страсбургского, начинался прямой как стрела Севастопольский бульвар, застроенный большими, самодовольными зданиями — жилыми, торговыми, общественными. В красивом сквере против классического ансамбля Центральной школы искусств и ремесел листва старых лип и каштанов засыпала скамьи и дорожки, где пара влюбленных при свете дня никак не могла прервать прощального поцелуя, уже рискуя привлечь внимание постового… За пересечением с просторной Рю де Тюрбиго фиакр остановился перед гостиницей, заранее избранной седоком. Место было оживленное, в нескольких кварталах от «Чрева Парижа» — знаменитого центрального рынка. Недалеко отсюда и до главной почты, и до Французского банка, и до Моста менял через Сену к острову Соте с Дворцом юстиции и главной полицейской префектурой Парижа. Близость такого учреждения успокоительна для чужестранца со средствами…
Когда в просторном комфортабельном номере горничная распаковала оба чемодана, развесила в шкафу и разложила по полкам всю дорожную амуницию приезжего, он запер свой номер и отправился в город на почту и в ресторан. При всем безразличии к архитектурным и природным красотам, он все-таки дошел по аристократической улице Риволи до здания Лувра. Обойдя его сбоку, он остановился на площади Карусели.
В садах Тюильри, расцвеченных желтыми и алыми тонами увядания, было столько грации, грусти и стройности, что Николай Васильевич забыл о еде и пошел вдоль аллей, оглядываясь на статуи. Миновав дворец[9] и оранжерею, очутился он посреди площади Согласия с луксорским обелиском, испещренным загадочными иероглифами. И в эту минуту, будто по режиссерской воле, проглянуло сквозь городскую дымку и осенние облака парижское сентябрьское солнышко. И струи обоих фонтанов, до того мига казавшиеся белесоватыми, бесцветными, сделались волшебно-радужными, будто хотели помочь людям раскрыть тайну древнеегипетских письмен, может быть таящих ключ к величайшим загадкам жизни… А в следующий миг, забывая о просторной перспективе Елисейских полей с далекой площадью Звезды, он внезапно представил себе, что именно здесь, почти на месте обелиска и фонтанов, грозная революция воздвигла на черно-красном помосте уродливое чудовище гильотины, и под ножом этого чудовища скатились в корзину головы Людовика, Марии-Антуанетты, а потом и Робеспьера…
Он спустился на великолепную луврскую набережную, бросил взгляд на ритмические арки гранитного моста Понт де Неф и бульваром вернулся в свою гостиницу. Портье тут же вручил ему письмо, только что полученное: этот служащий напрасно дивился, сколь быстро постоялец успел известить корреспондента о своем прибытии: адрес этого отеля Постников оставил своим женевским друзьям заблаговременно! Более того: некое доверенное лицо в Париже, имевшее отношение к посольству Российской империи, через каждые трое-четверо суток опускало в почтовый ящик парижские открытки, адресованные пану Тхоржевскому, с обратным адресом отеля на Севастопольском бульваре и неизменной подписью: искренне ваш Николай Постников…
Вот что написал ему теперь в ответ пан Станислав со знакомой женевской улочки Рут де Каруж 28 сентября 69-го года:
«Милостивый государь, пользуясь вашим адресом, имею приятность сообщить вам, что Александр Иванович Герцен в Париже, — живет в Гранд отель дю Лувр, шамбр № 328. Если вам угодно поговорить о деле — адресуйтесь от моего имени во время, какое может он назначить для свидания».
Позабыв и про усталость, и про обед, Николай Васильевич чуть не бегом пустился к телеграфу.
Снова воротившись в свое временное парижское жилье, он стал нетерпеливо расхаживать по номеру, хватая мимоходом то книжку с полки, то экземпляр газеты, то номер журнала. Усилием воли заставил себя успокоиться и раскрыл переплетенный комплект газеты «Колокол» за 1868-й, подарок Тхоржевского и Огарева. Николай Платонович еще дважды виделся с Постниковым перед тем, как тот покинул Женеву три недели назад, и выказывал будущему издателю свое полное расположение. Возможно, и он, и Тхоржевский предупредили Герцена о предстоящей деловой встрече…
Постников тревожно спал эту ночь, а весь следующий день он посвятил подробнейшему чтению записей в красной тетради с плотной обложкой. На этой красной обложке тщательно оттиснуты золотом слова: «СПИСОК БУМАГАМ КНЯЗЯ П. В. ДОЛГОРУКОВА». Одно перечисление документов занимало лист за листом всю тетрадь. О, этот список произвел кое-где немалое впечатление! Возможно, был недавно скопирован в наисекретнейшем порядке… До самого вечера Николай Васильевич что-то подсчитывал и о чем-то размышлял, перелистывая страницы списка. Пан Тхоржевский не без колебаний доверил тогда этот список возможному будущему покупателю… Сам же покупатель так нервничал в своем номере, что вынужден был принять на ночь снотворный порошок. И лишь в субботу, 2 октября, после стольких часов треволнений получил под вечер телеграмму, всего из двух слов, наполнивших его радостью. На бланке стояло:
«Свидание разрешается».
Оставив Брюссель, семья Александра Ивановича Герцена, или, вернее, часть семьи, несколько дней жила в Париже.
По привычке Александр Иванович остановился в хорошо знакомом ему Отель дю Лувр вблизи Пале-Рояля. Он ненавидел тесные помещения и мог работать только на просторе, расхаживая по нескольким комнатам, лучше даже в разных этажах, как было в его лондонском доме, среди обстановки красивой, удобной и без претензий на новейшую мещанскую моду. Убогие комнатки-клетушки с унылой казенной мебелью наводили на него тоску, ввергали в состояние меланхолии. Не любил он библиотек и читальных залов — всегда старался получать книги на руки и работать в кабинете, наедине с самим собою.
Как никто другой, умел он работать с газетами и научной литературой. Выхватывал из газетной полосы самую суть, пропуская без внимания лишнее, как кит-полосатик удерживает во рту пищу, отцеживая и выбрасывая тонны морской воды! Использованные кипы газет он либо отсылал туда, откуда получал, либо переотправлял дальше, другому читателю, другу или единомышленнику. Не делай он этого — груды прочитанного быстро заполонили бы все рабочее место или весь номер в отеле.
И еще умел запечатлевать мгновенно рождающуюся мысль, случайную ассоциацию, проблеск идеи… Так запечатлевать, чтобы не дать им рассеяться, подобно облачку в небе, чтобы не уронить, не утратить. Всегда под рукой что-то начатое — либо статья задуманная, либо дневниковая страница, зародыш очерка, а то просто начатое письмо. Особенно к собственному альтер эго — второму «я» — Огареву. Их и письмами не назовешь — это лаконичные наброски, сделанные разом, в краткие минуты, с предельной откровенностью, обнаженностью чувств и мыслей. Как они проносятся в уме — так и застывают на листе бумаги, часто в обрывках слов, сокращениях, намеках, иносказаниях. Получается как бы живая запись сердечного пульса, кардиограмма ума и души… Но и в них, в этих письмах, все-таки приходится блюсти осторожность и не столько писать, сколько намекать! Письма тайно вскрывает и французская, и швейцарская, и бельгийская полиция. Ведь однажды, в 1850 году, его, Александра Герцена, уже высылали из Франции, как нежелательного иностранца и опасного деятеля…
Да и теперь, в прошлом месяце, в соседней Бельгии пригласили его в министерство юстиции, и некий чин из управления общественной безопасности, любезный до приторности и явно обеспокоенный присутствием в Бельгии г-на Герцена, въедливо расспрашивал, надолго ли он сюда, каковы его политические планы, будут ли в Бельгии издаваться «Колокол» и «Полярная звезда»… А он-то намеревался купить здесь новый дом и сплотить в этом доме всю семью, возможно и вместе с Огаревым… Очень скоро он почувствовал, что за ним установлен строгий полицейский надзор. Нет, не стоило оседать в такой стране! «Была разлука без печали» — и вот Париж…
Нынче воскресенье, 3 октября года 1869-го… Ясно и еще не холодно на дворе… Гм, на дворе! Вот в подмосковном Васильевском — там дворы, и собачий лай, и почернелые избы, и старые аллеи почти над берегом Москвы-реки, неглубокой, но довольно быстрой здесь, благодаря легкой запруде, где всегда увидишь рыбаков.
Ах, Россия, Россия, не наглядеться бы на тебя, не нарадоваться бы твоим просторам, березам, твоим суздальским постройкам и сладкой «володимирской», ни с чем не сравнимой речи… Вот в бельгийской газете «Ла пресс», в номере от 1 октября, что-то о России…
«Нам пишут из Петербурга, что русские эмигранты — Бакунин, Герцен и другие, которые начали издавать в Швейцарии брошюры и революционные прокламации, будто бы смогли переслать их в Россию».
Гм, это что-то новое… Тотчас спросить у Огарева — что тут правда, а что вздор… Старый друг Бакунин в прошлом месяце развивал бурную деятельность в связи с Базельским конгрессом I Интернационала. Заседания конгресса шли с 6 по 11 сентября. Бакунин надеялся стать «диктатором» европейского рабочего движения и возглавить Интернационал. Эх, как жаль, что почти готовые к печати «Письма к старому товарищу» не опубликованы — и похоже, что на конгрессе критика позиции Бакунина во многом совпадает с герценовской оценкой бакунинских анархических взглядов и его стратегии… Собственно, из-за отношения к старому другу Бакунину и происходят главные недоразумения Герцена с ортодоксальными марксистами. Их конгресс — большой шаг вперед в революционном движении. Жаль, что «Письма к старому товарищу» остались вне поля зрения участников конгресса! Там резко осудили бакунинско-нечаевский терроризм, их авторитарный образ действия, их призыв к голому всеуничтожающему разрушительству во имя некоего будущего созидания, совершенно неопределенного. Конгресс осудил бунтарство и анархизм, не пошел за Бакуниным и его сторонниками… В России же новые репрессии против печати и резкий нажим правительства и полиции на студентов. По поводу этих беспорядков составлены Бакуниным и Нечаевым листовки — возможно, это именно они переброшены в Россию? Уехал туда и сам Нечаев — с грузом прокламаций… Огарев посвятил ему стихотворение, правда, не новое — оно года два назад печаталось в герценовских изданиях с посвящением другому юноше — С. Астракову. Сейчас это стихотворение тоже отпечатано в виде листовки. Огарев послал ее Герцену в Париж — вот она:
Перечитав эту листовку, Герцен только плечами пожал: чего ж, мол, Огарев раньше времени похоронил «молодого друга Нечаева» в снежных каторгах Сибири? Поживем — увидим, как у того дела в России пойдут…
От дел общих мысленно перешел к собственным, семейным.
Его все больше тревожили душевные переживания старшей дочери, Таты, любимицы, умницы и, как находили многие, настоящей красавицы. Вся в мать! А в судьбу ее врывалась некая опасная, даже роковая струя… Все началось так: еще года два назад, в 67-м, познакомилась Тата во Флоренции со слепым музыкантом, молодым графом Пенизи. Он сперва понравился Герцену: композитор, прекрасный пианист, певец, поэт, владеет всеми европейскими языками, знает естественные науки, историю, литературу. Такого чуда Герцен в жизни не видывал! Вдобавок он со вкусом одевался и вел себя в обществе свободно и с достоинством. Он начал давать Тате уроки музыки, но теперь, осенью 1869 года, к большой тревоге Александра Ивановича, признался Тате в любви. Сначала воспитательница Мальвида Мейзенбуг, сын Александр и сама Тата скрыли было от отца начало этой истории, а врач, лечивший Пенизи, стал умолять Тату не отталкивать вовсе молодого человека и не прекращать встреч с ним после того, как она ответила отказом на его предложение брака. Узнав, что дело уже дошло до угроз с его стороны, отец потребовал от Таты решительного разрыва с Пенизи, но дочь колебалась, жалея больного и без того обиженного судьбою слепца. Отцу она, впрочем, ответила успокоительной телеграммой.
Однако Герцен слишком хорошо знал свою дочь, чтобы сразу поверить утешительным известиям. У него в голове мутилось от мысли, что именно Тате, светлому и гармоническому созданию, грозит опасность идти замуж за слепого, а главное — эгоистического и злого человека, каким он показал себя позже. От такой семейной беды и без диабета потеряешь последние силы…
Много осложнений и с маленькой капризной Лизой. Ведь до самого недавнего времени девочка думала, как, впрочем, и все друзья и знакомые, что она дочь Огарева. Только в июле этого года мать сообщила дочери правду, притом неумело и неделикатно. У девочки это сообщение вызвало немалое потрясение. Теперь можно бы соединить семью под одним именем Герцен, можно бы всем съехаться в одном городе, причем Париж по многим причинам удобен… Однако члены семьи плохо совместимы друг с другом, к тому же страшная дороговизна парижских квартир затрудняет эти планы. Надо шесть спальных комнат, удобное помещение для работы, для приема посетителей и друзей, то есть по меньшей мере целый этаж, а за такой этаж хозяин вчера спросил шесть с половиной тысяч без мебели… Да еще у второй дочери, Ольги, появился энергичный поклонник, некто г-н Моно, весьма представительный, но, кажется, изрядный консерватор…
В этот миг раздумий в номер постучал гарсон с чьей-то визитной карточкой.
Александр Иванович оторвался от письма Огареву, но, чтобы не потерять мысль, крикнул гарсону: «Проси!», — а сам дописал еще торопливо то, что лежало на сердце:
«Язык Бакунина точно накануне катастрофы — его тешит быть пугалом одних, подавлять других смелостью беспардонности, а в сущности, кроме силы мысли и исторической попутности, еще ничего нет… Сангвинических (здесь — в смысле оптимистических. — Р. Ш.) упований я не делю. Ни единства, ни соглашения в началах, ни денег, ни материальных сил. Против — не одна громадная сила…»
Запечатав пакет с этим письмом Огареву, он теперь только как следует разглядел карточку раннего посетителя. А, наконец-то! Явился тот самый покупатель долгоруковских бумаг, о котором уже несколько раз писали и Огарев, и Тхоржевский. Ну-ка, посмотрим на этого смельчака!
И следом за гарсоном Герцен сам вышел на лестницу приветствовать русского гостя.
Глава восьмая. Кто кого!
Я не знаю, родился ли я под счастливой звездой в отношении эмиграции, но начинаю верить в особое мое счастье с этими господами. Признаюсь, я почти трусил за успех, но, очутившись лицом к лицу с Герценом, все мое колебание исчезло… Я был принят Герценом чрезвычайно хорошо и вежливо, и этот старик оставил на меня гораздо лучшее впечатление, чем Огарев. Хотя он, когда вы говорите с ним, и морщит лоб, стараясь как будто просмотреть вас насквозь, но этот взгляд не есть диктаторский, судейский, а скорее есть дело привычки и имеет в себе что-то примирительное, прямое. К тому же он часто улыбается, а еще чаще смеется…
Карл Арвид Романн. Из донесения К. Ф. Филиппеусу от 3 октября 69-го
Мне кажется, жертву любят.
Ф. М. Достоевский
1
— Покорнейше прошу, г-н Постников, — приветливо говорил гостю Александр Иванович. — Я, признаться, не первый день поджидаю вас и уж начал было, как нетерпеливая невеста, сомневаться в стойкости ваших намерений.
— Тому причина — осторожность пана Тхоржевского, вполне, впрочем, извинительная. Лишь после его решительного письма я отважился пойти к вам. Не угодно ли вам взглянуть на это письмо?
— Извольте, хотя поверил бы и собственному впечатлению. Батюшки, пан, видать, торопился, ибо по этому посланию нельзя заключить, что оно писано бывшим студентом русского университета!.. Итак, что же привело вас к идее стать издателем? Если позволите осведомиться, где вы воспитывались? В России или на Западе?
…Биография отставного штаб-ротмистра оказалась не слишком запоминающейся. Больше располагал к себе его живейший интерес к издательскому делу и приметы жадного, лестного любопытства к деловому и жизненному опыту собеседника. Да, этот Николай Васильевич Постников обладает несомненным талантом слушать, располагать собеседника к откровенности и так внимательно ловить каждое слово, что беседующий с ним невольно вдохновляется и сам увлекается своим повествованием.
— И как скоро надеетесь вы издать неопубликованную часть долгоруковского архива? Первый том имел бризантное[10] действие, а второй может быть еще оглушительней. Надо выпустить быстро!
— Разумеется, тянуть тут особенно не придется. Именно первый том и натолкнул меня на мысль купить архив. Решил так: раз со смертью князя второй том последовать не может — значит, не дождаться мне продолжения разоблачений. А прочитать это все — смерть охота! Вот и решил — коли нельзя иначе, куплю документы и напечатаю сам!
— Похвальная решимость! — засмеялся Герцен. — Грехи предков только тогда не падают на потомков, когда потомки… не склонны гордиться своим происхождением! Генеалогия нашего высшего дворянства — сплошной позор! Ведется от палашей, пытавших друзей и родных, от ябедников, доносчиков, воров в княжеских мантиях, от извергов, от разбойников гвардейской опричнины… Да что там! Словом, покупайте, издавайте — и дело с концом!
— Дело большое, — вздохнул Постников, — ведь от условий многое зависит, равно и от цены. Понимаете, Александр Иванович, чем дороже станут мне бумаги, тем меньше средств останется на издание, значит, тем дольше все дело затянется.
— Что ж, — подумавши, сказал Герцен, — примерный контракт, или, так сказать, проект условий, я составлю. Насчет цены придется пригласить одного надежного эксперта. Словом, я полагаю дело решенным, остается только техническая сторона… А теперь извольте-ка с нами откушать!..
Александр Иванович вышел в смежную комнату, вполголоса переговорил там с женой, а затем повел гостя, который особенно и не пытался отнекиваться, в третью комнату, служившую столовой.
Вошла дама — Наталья Алексеевна, с нервным острым лицом, коротко остриженными волосами, заметно тронутыми сединой, в темном шерстяном платье с кружевной отделкой. Ей пришлось задержаться в дверях, чтобы поторопить дочь Лизу, живую одиннадцатилетнюю девочку, одетую с подчеркнутой тщательностью, с гладко зачесанными, заплетенными в две косички русыми волосами. Герцен представил супруге гостя, и тот поцеловал Наталье Алексеевне руку, а здороваясь с Лизой, улыбнулся ей дружески и ободряюще. Все уселись за стол, сервированный весьма заботливо, со множеством ножей, особых вилок, рюмок и целым набором тарелок, салфеток крахмальных и мягких, особенных пробок для початых бутылок; подан был трех сортов сыр, холодные рыбные закуски, грибной жюльен и русская икра. Было видно, что и Лиза, и ее мать давно привыкли к обществу посторонних людей, к ресторанной прислуге, подающей блюда, и умеют вести застольные беседы на любые темы, в зависимости от интересов гостя.
Постников сознавал, что случай свел его лицом к лицу с одним из самых замечательных людей мира. И он старался добросовестно запечатлевать в уме каждый жест, каждое слово этого почти совсем седого собеседника в светло-коричневом английском шевиоте и шелковом галстуке.
Наблюдательный гость подметил, что, помимо дела с долгоруковским архивом, хозяина втайне тревожит еще какая-то забота, своя, собственная.
Осторожными наводящими вопросами, с хорошо сыгранным участием г-н Постников выведал тут же, за столом, что издатель Франк отверг предложенные Герценом условия на переиздание по-французски его сочинений. Франк, видимо, надеялся выторговать себе побольше, догадываясь, что у писателя сейчас полоса материальных трудностей.
Гость изо всех сил стал убеждать хозяина не сдаваться. Лучше уж уступить право переиздания другому, хотя бы г-ну Лакруа.
— Вы и его знаете? — несколько удивился Герцен.
— Слышал от пана Станислава. А вот русских издателей на Западе знаю всех наперечет, от Брокгауза до… Элпидина!
Этот человек умел нравиться! Своим юмором, хваткой, бесспорным личным обаянием. Герцен отвлекся от издательской грызни, оживился, принялся с охотой за кушанья. Стал рассказывать невыдуманные истории о выходках князя Долгорукова — эти анекдоты некогда нравились читателям «Колокола» и вызывали массу одобрительных писем от русских.
Наталья Алексеевна, как бы не желая уступить мужу пальму первенства в застольной беседе, старалась перевести ее в иную область — педагогическую. Она сетовала на положение женщины в России вообще, а особенно на дело женского образования. Скоро ли у нас будет российский женский университет? Упомянула о собственном проекте открыть учебный пансион для безрелигиозного воспитания молодых девиц, в том числе Лизы… Мимоходом бросила замечание, что присматривала и во Франции, и в Швейцарии подходящее место, чтобы открыть такое заведение, но охотнее всего поехала бы с этой целью в Россию, куда ни ей, ни Лизе путь не закрыт…
От гостя не укрылось, как помрачнел от этих слез глава семьи. Он постарался отвлечь супругу от этих проектов, чем вызвал ее неудовольствие. Очень скоро мать и дочь, поковыряв вилками блюда и оставив их почти нетронутыми, к огорчению хозяина, встали из-за стола и откланялись, причем Наталья Алексеевна при уходе повторила свои педагогические планы. У отца же семейства, как показалось гостю, вырвался тайный вздох.
По уходе дам гость стал усерднее подливать в бокалы те вина, какие, по его наблюдению, нравились хозяину, — игристый «рейнвейн-муссо» и еще сухое красное с сельтерской, на французский манер. Над рассказами о Долгорукове Постников хохотал так заразительно, что хозяин не поскупился на новые анекдоты о князе.
— Благодаря своему богатству, — говорил Герцен, — князь Петр и в ссылке повел себя независимо. Ведь сослан он был служить в Вятке, где, кстати, ранее служил и я. И вот опальный князь шлет Бенкендорфу такое прошение: мол, перемену местожительства смиренно принимаю, но служить меня никто заставить не может согласно указу о вольности дворянской! Николай был так поражен этой наглостью, что велел проверить его умственные способности. Но от службы уволил!
Постников только головой качал: отважился бы на такое кто другой!
— Остер был князь на злые эпитеты и изречения. Третье отделение он называл не иначе как «всероссийская шпионница», или «шуваловка», или «заведение милого кузена», то есть князя Василия Долгорукова.
О временах Екатерины в сравнении с нашими сказал: «В то время еще не требовалось одного удара паралича для поступления в Сенат, и двух для поступления в Государственный совет».
— Да, их сиятельства дерзки были, и остроумны, и злы…
— Да еще как злы!.. Брату двоюродному, князю Василию Долгорукову, такой ответ из Парижа прислал: «Начальнику Третьего отделения. Почтеннейший князь, вы требуете меня в Россию, но, зная меня с детства, могли бы догадаться, что я не так глуп. Впрочем, желая доставить вам удовольствие видеть меня, посылаю при сем мою фотографию. Можете фотографию сослать в Вятку или в Нерчинск, по вашему выбору, а сам я, уж извините, в руки вашей полиции не попадусь, и ей меня не поймать!»
Собеседник Герцена слушал с явным удовольствием, попивал хозяйское вино, заразительно смеялся и молил продолжать.
— Писал он и государю, а я в «Колоколе» это послание, полное яду, напечатал для всей России. В те годы «Колокол» достигал из Лондона не только до Петербурга, но и до Архангельска, Иркутска, даже до самой Камчатки!.. Писал князь Петр царю: мол, желаю, «чтобы дом принцев Гольштейн-Готторпских» (так он именовал романовскую династию, от которой после Петра Второго действительно в ныне царствующих жилах ни кровиночки романовской не осталось по мужской линии), итак, «чтобы дом принцев Гольштейн-Готторпских, ныне восседающий на Всероссийском престоле, понял, наконец, где находятся его истинные выгоды: чтобы он снял с себя, наконец, опеку царедворцев, жадных и неспособных, мнимая преданность которых не переживет его могущества; чтобы он учредил в России порядок правления дельный и прочный, даровал бы конституцию и через то отклонил бы от себя в будущем неприятную, но весьма возможную случайность промена Всероссийского престола на вечное изгнание…»
Постникову такое обращение, по-видимому, показалось излишней бравадой и крайностью. Он, как бы приглашая сменить тему, спросил, с какого времени издается «Колокол» и приложения к нему.
— Считайте, что около одиннадцати лет, с небольшим перерывом, а если зачесть в наше сальдо еще и все приложения, «Голоса из России», брошюры, уже не говоря о выпусках «Полярной звезды», то можно, пожалуй, согласиться, что поработали немало, пропаганду свою выпускали недурно, только… пожертвовать пришлось многим!
Шутливость беседы, как это часто бывает, вдруг исчезла, будто тучка налетела.
— Вы, Александр Иванович, намекаете на… разлуку с Россией?
— Разумеется. Да и вся личная, семейная жизнь криво пошла. Вы, верно, о всех моих потерях несколько осведомлены?
— Если вы подразумеваете… родную вам могилу в городе Ницце, то про нее знаю!
— Да, там спит самый близкий мне и самый любимый человек. Могу сказать, что счастье свое там схоронил. Да еще моих близнецов, мальчика и девочку, Алешу и Лену, — «Лелю-боя» и «Лелю-герл», пять лет назад, в шестьдесят четвертом… Вам случалось ли терять таких трехлетних, хорошеньких, умных, уже ставших маленькими индивидуальностями, личностями… Случалось ли?
— Нет, Александр Иванович, от такого горя уберег господь, но понять вас могу! Я вашу жизнь по «Былому и думам» как читатель постиг. Многие страницы перечитывал с помутненным слезою взором. Памятны мне страницы любви вашей! Как невесту свою почти тайком из Москвы умыкнули, когда ее к другому браку принуждали, как обвенчали вас тайно в городе Владимире против родственной воли, как простил вас батюшка, особливо когда первенец ваш Александр во Владимире свет божий увидел…
У Постникова даже голос дрогнул. Герцен был несколько растроган — ведь от издателя не часто услышишь столь взволнованные слова о твоих писаниях. Гость продолжал с жаром:
— Поверьте, я не льстить вам пытаюсь, но скажу: никогда у вас не будет биографа сильнее и умнее, чем вы сами! Как вы сумели рассказать о вашей семейной драме! Ведь я недавно побывал в Италии и в Швейцарии, так в глазах вставали нарисованные вами картины, а в ушах звучали ваши слова. Никто вас тут не победит в силе слова, хотя бы даже сам граф Толстой взялся вашу жизнь описать… Кстати, позвольте осведомиться ради любознательности, доводилось ли вам с графом Толстым беседовать? Или хоть видеть его?
— Доводилось! — снова оживился Герцен. — Лев Николаевич у меня в гостях побывал в моей лондонской квартире, в шестьдесят первом году, весной. Несколько раз мы виделись и очень хорошо поговорили… Я ставлю его как писателя на первое место после Пушкина…
В ту минуту вернулась в комнату за позабытым ридикюлем Наталья Алексеевна. Уловив содержание беседы, она напомнила мужу, как тот взволновался, услышав, что в гости к ним приехал из России Лев Толстой.
— Герцен скатился с лестницы чуть не вприпрыжку, как резиновый мячик! — засмеялась Наталья Алексеевна. — Когда я вошла в зал, Толстой о чем-то горячо спорил с гостившим у нас Иваном Сергеевичем Тургеневым…
— Полно, Натали, — перебил Герцен жену, — ты, должно быть, ошибаешься: Тургенева, насколько мне помнится, тогда в Лондоне не было…
Чтобы между супругами снова не возник спор или размолвка, тактичный Постников стал тут же умиротворять разногласия.
— Помилуйте, государь вы мой, Александр Иванович, долго ли Наталье Алексеевне заблудиться в том букете мировых светил, какой окружает всю ее жизнь с вами! Я думаю, у кого угодно голова закружится и память притупится от одного перечисления ваших друзей и знакомых во всех странах. Ведь дружили с вами Чаадаев и Гарибальди, Щепкин и Грановский, Белинский и, как помнится, даже знаменитый Роберт Оуен, которого вы так хорошо описали! Слушали вы Франца Листа и беседовали с ним, сотрудничали с Прудоном, Луи Бланом, Кошутом… Как же тут не спутаться!
— Полно вам, — засмеялся Герцен. — Хотя и воистину подчас жена уставала от встреч и наездов. Зато какие неожиданные сюрпризы выпадают при такой жизни! Вот совсем недавно, в Брюсселе во время театрального спектакля, приглашают нас втроем в ложу дирекции. К кому же вы думали? К самому Виктору Гюго, великому французу! Больше всех обрадовалась Лиза. Виктор Гюго галантно целовал ей руку, и она страшно задирала нос, когда все окуляры зрителей нацелились на нее рядом с Гюго. Потом, уже у него в доме, за обедом, он был так прост и мил, так умен и обаятелен, что завоевал детское сердце полностью, без остатка. А ведь это, как знаете, самые неподкупные сердца. Детей, как воробьев на российских гумнах, не проведешь на мякине притворства!
— А помнишь, как у нас в Лондоне совсем крошечная Лиза прямо-таки потянулась к Николаю Гавриловичу, когда он ее по головке погладил…
Гость в этот миг рассматривал путеводитель по Парижу и успел искоса, в зеркале, приметить молниеносный предостерегающий жест хозяина. Это было не более как движение бровей, но супруга запнулась и, спохватившись, решила поправить свою оплошность, назвала какую-то пришедшую на ум фамилию упомянутого Николая Гавриловича… Постников все это безмятежно пропустил мимо ушей, сразу поняв, что речь идет, видимо, о какой-то лондонской встрече Герцена с Чернышевским, о которой судьи Чернышевского определенно не знали, ибо на процессе в 62-м году такая лондонская встреча не фигурировала. Постников это прекрасно помнил… Однако Чернышевский и без того отбывает каторгу в Нерчинске, это страница вчерашняя, пройденная. Высказывать тут лишнюю любознательность не следует, коли хозяева, исправив неосторожность, намерены и теперь соблюдать конспирацию…
Наталья Алексеевна стала прощаться. Откланялся и гость.
— Боюсь, милостивый государь мой, Александр Иванович, что слишком злоупотребил вашим драгоценным временем. Поверьте мне, часы беседы с вами незабвенны, обогащают жизнь. Счастлив, что довелось видеть и слышать автора «Былого и дум», редактора «Колокола». Позвольте теперь ожидать от вас обещанного проекта условия продажи бумаг и… точного обозначения цены. Засим, извольте, сударь, оставаться в добрейшем здравии на благо нашей России-матушки!
2
Ровно в полдень понедельника 4 октября в дверь постниковского номера постучали. По некой интуиции хозяин номера ждал либо посыльного из Отель дю Лувр, либо даже САМОГО… Он не ошибся: в дверях стоял Александр Герцен.
— С ответным визитом, — сказал он полусерьезно. — Уж извольте принять незваного гостя!.. О, я вижу, вы моим детищем заняты… Комплект «Колокола»! Это какие же годы тут у вас собраны?
— Комплект последнего, 68-го года, с приложениями, подарили мне в Женеве пан Тхоржевский и Огарев, остальное приобрел у Георга в Женеве. Тут вот годы 64-й, 65-й… и еще несколько разрозненных номеров.
— Душеспасительное чтение! — засмеялся Герцен. — Позвольте спросить, какой материал в нашем прежнем «Колоколе» интересовал вас больше, а какой меньше? Вы для меня читатель немаловажный: в прошлом — офицер (у меня много читателей-военных, это я очень ценю), в будущем — издатель, немного путешественник, немного полиглот, немного либерал, насколько берусь судить… Но думаю, что ваша будущая издательская деятельность сама зарядит вас, что ли, известной общественной энергией. Я это тоже испытал. Порой кажется, остановился бы на полдороге, но внутреннее маховое колесо само влечет вас сойти с мертвой точки. Ибо уже сказавши «а», не по-мужски остановиться перед «б».
— Понимаю вас и полагаю, что вы правы. В «Колоколе» же меня более всего привлекает как раз его… качало! Может, тут чисто профессиональная надежда почерпнуть нечто у высоких учителей: может, именно первые шаги, самые трудные, по нехоженой нови, кажутся мне наиважнейшими. Вы ведь начали, если можно так выразиться, с раскрытия тайн самой близкой истории. Вы с самого начала напомнили России о ее героях-декабристах. Сейчас даже странно думать, что до вас и самое это слово было будто под запретом. Вы эту плотину молчания прорвали, первым заговорив о людях 14 декабря. Можно сказать, знамя их окровавленное подняли и дальше понесли, как это в настоящем бою мне самому видеть приходилось. И этим знаменем сумели ободрить русских людей!
— Да уж коли вы начали вчера толковать о самых лестных для меня дружеских встречах, то выше всего я дорожу встречами именно с ними, мучениками великой шеренги декабристов. Полагаю за счастье, что смог по-сыновнему поклониться иным из тех, кого с детства считал примером и образцом мужества.
— Это… кому же, позвольте спросить?
— Прежде всего, конечно, патриарху декабризма, Сергею Григорьевичу Волконскому. Как вы знаете, после десятилетней каторги и двадцатилетней ссылки он жил под надзором в деревне своей дочери, а затем, в 59-м и 60-м годах, он, уже при новом царствовании, получил позволение выехать лечиться за границу. Кстати, тогда он в Италии виделся со Львом Толстым — и такое произвел на писателя впечатление, что Лев Николаевич задумал большой роман о декабристах и даже читал отрывки Тургеневу, да и мне написал из Парижа очень радостное письмо о том, с каким восторгом Тургенев встретил главу о старом декабристе… И вот летом 61-го года произошла в Париже моя первая встреча с Сергеем Григорьевичем. Вы понимаете мое волнение? Старец величавый, лет восьмидесяти, весь серебряный, с длинной белой бородой и всепроникающими очами, ближайший друг Пестеля, тихим голосом говорил мне о тех временах, о заговоре, о Союзе благоденствия, о Южном обществе, о чертах характера Пестеля, о казематах, допросах, каторжных норах, о жене-героине Марии Николаевне. Удивительный кряж людей! Откуда брал российский XVIII век творческую силу для создания таких гигантов? Что за благородство, что за характеры!
— «И нет его, и Русь оставил он…» — процитировал Постников.
— Да, сходят в могилу великие страдальцы… Кстати, его близко знал князь Петр Долгоруков… Я напечатал в «Колоколе» его рассказ «Некролог», посвященный памяти Волконского, и считаю этот долгоруковский некролог одним из лучших произведений князя.
— Я помню этот некролог. Он ходил в списках по всей России. Помню рассказ, как связанного Волконского вели для допроса в царский кабинет в Зимнем дворце и как государь осыпал пленника площадной бранью.
— Бенкендорф впоследствии, уже после приговора, изо всех сил старался удержать совсем молоденькую красавицу, Марию Николаевну, от поездки в Сибирь на поселение поблизости от мужа. Иркутское начальство пугало ее, что имеет право заставлять жену ссыльного каторжанина делать самую черную работу, например, мыть полы и грязную посуду. Княгиня ответила, что готова и на это, и больше с мужем до самой смерти своей так и не разлучалась. Он ее пережил: в августе 63-го года она скончалась, и потери этой он с прежней твердостью вынести не смог, ослабел, утратил способность ходить и угас на руках дочери в селе Воронках, в Козелецком уезде Черниговщины… Какой русский не помянет с умилением это имя!.. Значит, самым интересным в «Колоколе» вы полагаете подобные материалы о декабристах?
— Пожалуй, да. Я, например, еще сравнительно молодым человеком, двенадцать лет назад, будучи на военной службе, прочитав книгу барона Корфа «Восшествие на престол императора Николая Первого», просто не поверил столь низкой клевете на восставших. А ведь на эту книгу нас заставляли подписываться, удерживали ее стоимость из нашего жалованья. Мне это досадно показалось и недостойно как-то… Стал ее читать, а кое-что ведь держал в памяти из рассказов стариков про того же генерала Сергея Волконского, да и про других… Вот, спустя некоторое время один из товарищей по Севастополю показывает исписанные листы, говорит, что из «Колокола»… Тут только и открылась мне правда, кто такие были декабристы, какие были у них цели и как оклеветал их барон Корф… С тех пор стал почитывать и вашу «Полярную звезду» и ваш «Колокол». Немножко за это пострадал, хоть и легко отделался, можно сказать. И решил такому режиму больше саблей своей не служить… Ну а об остальном догадывайтесь. Когда бумаги долгоруковские издам, с вашего благословения, буду считать, что первый гражданский долг свой совершил.
— Что же, «Бог в помощь вам, мои друзья», как Пушкин писал друзьям своим, декабристам… Так ежели вам нужны и полезны сообщения о них, то тут, в Париже, сможете собрать всю нашу антикорфику — так мы прозвали между собой публикации в защиту декабристов от грязной книжки Корфа. Мы ведь подлинные их рассказы в «Полярной звезде» печатали, воспоминания о дне 14 декабря и годах каторги, все материалы следствия и суда над героями… Кое-что я, пожалуй, сам для вас подберу.
— Премного благодарен, хотя и не смею утруждать…
— Кстати, Николай Васильевич, ведь и в долгоруковском архиве есть еще материалы о декабристах, в печати не оглашенные.
— Это обстоятельство я уже из описи усмотрел! — Постников кивнул в сторону красной тетради с золотым тиснением. — Но у меня давно уж созрел некий откровенный вопрос к вам, Александр Иванович, хотя пока еще и преждевременный. Однако, чем дальше, тем глубже он меня тревожит. Я, извините, вас не утомляю?
— Нет, нет, продолжайте.
— Знаете, дозвольте и мне свое гостеприимство вам предложить! Не угодно ли пройтись в ресторацию?..
За рюмочкой коньяку в ресторане Постников, как бы несколько осмелев, продолжал:
— Предположим, дело слажено, опись мы сличили с наличными бумагами и нашли все в лучшем порядке, уплатил я Тхоржевскому полную цену, когда он наконец соблаговолит ее назначить… Словом, стал я хозяином бумаг. И очень я опасаюсь, что тут-то и пойдут настоящие трудности.
— Почему же?
— Где издавать? Пока не решил. Но меры принимал, запрашивал предварительно и Дрезден, и Лейпциг, и Берлин, и Брюссель. Похоже, самые выгодные условия предоставляет мне Брокгауз.
— Почему вы не хотите издать в Женеве у нашего Чернецкого?
— Скажу по правде, я хочу издать хорошо, побогаче. Но и не дорого. В крупной типографии выходит и лучше, и дешевле.
— Ну, допустим. А в каком смысле вы опасаетесь «настоящих трудностей»?
— Да ведь как бы не помешали всему делу!.. Неужто российская полиция про архив такой не вспоминает?
— Архив находится на Западе больше десятка лет. И пока неприкосновенен.
— Знаете, Александр Иванович, и дупель, и бекас, и тетерев неприкосновенны, пока в траве спрятаны, и собака их на крыло не подняла. А уж подняла — тут и жди охотничьего выстрела.
— И вы, Николай Васильевич, страшитесь сыграть для этих охотников роль легавой подружейной собаки? За сохранность бумаг боитесь?
— Тонко изволили подметить, Александр Иванович! Ведь мне их куда-то надобно будет везти? Скажем, в Германию, к Брокгаузу или в Бельгию. Тут возможны любые вмешательства. Тем более я встревожен последним письмом от Станислава Тхоржевского. Нынче приспело. Пишет, что у него покупателей и без меня достаточно… Вот насчет этих покупателей… мне что-то и не ясно.
— Мне он ничего не писал про других покупателей и Огареву ничего не говорил. Пока молчит и о цене. А условия я еще не имел времени составить. Но все это мы уладим с вами по-доброму. Значит, вас эти неизвестные покупатели взволновали?
— Отчасти они, а отчасти… вот этот комплект «Колокола». Стыдно про это спрашивать, но понял я, какую вы тайную войну без конца ведете. Какие против вас козни плелись! Вот даже при беглом чтении нашел я ваши разоблачения тайных агентов, каких полиция против вас посылала: Матвей Хотинский, поляк, астроном, оказывается, тайный агент III отделения, а с ним и еще какой-то второй шпион; вот тут про Адольфа Стемпковского, корреспондента «Варшавской газеты», эмигранта и… шпиона русской полиции. Вот, изволите ли, г-н Михайловский Генрик. Сей эмигрант много времени у вас или у г-на Трюбнера в Лондоне приказчиком в издательстве подвизался, а потом и его разоблачили как обер-шпиона главы III отделения князя Василия Долгорукова. Кто-то из бывших у вас в лондонском доме на беднягу Ветошникова донес — его схватили по доносу и из этого в Петербурге целый процесс возник судебный, знаменитое дело 32-х… Вместе с князем Долгоруковым Петром вы еще одного такого гуся с начинкой распознали — Блюммера, я даже отчеркнул заметку в «Колоколе». А сколько грязных книжек против вас напечатали, вроде Елагинского пасквиля «Искандер-Герцен» или какого-то графа Шедо-Ферроти, который тоже о вас книгу фальшивую написал… Это я все к тому, что при высоком авторитете г-на Герцена или же князя Долгорукова вся эта публика была против вас бессильна и соваться к вам близко все же опасалась, чтобы не получить по лапам. А мне-то чем от них прикрыться прикажете? Как мне таких опасностей избежать? Вы, сударь мой, к примеру, о деле княгини Оболенской наслышаны?
— Разумеется. Возмутительная, грязная история!
— Тут двух мнений быть не может, что возмутительная и грязная, но я не про самую суть дела. Тревожит меня другое — тесная связь русской полиции с швейцарской. Вот я и побаиваюсь: перейдут бумаги ко мне — а я еще издатель никому не ведомый, без имени, — вот тут-то на мои бумажки, особливо при переезде, лапу и не наложили бы!.. Тогда и моим средствам, и самому делу — шабаш!
— У меня тоже сложилось прочное мнение, что III отделение имеет тайную связь и со здешней полицией Наполеона Третьего в прекрасной Франции, и с бельгийским, и с прусским, и, конечно, с швейцарским сыском. Но смущаться вам не следует. Осторожность, конечно, будет нужна — я, например, не советовал бы везти сразу все бумаги через Францию одной большой партией. Да и издавать их лучше было бы небольшими выпусками, типа журнальных публикаций… Сомнения ваши я понимаю, но, как говорится, волков бояться — в лес не ходить! А вы уже в лесу, не так ли?
— Когда вы рекомендуете мне ехать в Женеву? По правде сказать, неприятный городок, хотя и благоустроенный!
Герцен радостно закивал:
— Именно так! До чего благоустроенный, вроде бы удобный, чистый, красивый, а поживешь там три дня, и уже тянет прочь, подальше от этой женевской скуки и чинности! Тем не менее ехать вам надо скорей, особенно учитывая некоторые ваши… опасения. Вы мне пишите, как пойдут там дела и не возникнет ли что-нибудь непредвиденное. Мы вас всегда поддержим ради хорошего начинания!
3
На этот раз Постников ехал на юг не торопясь, с пересадками в Лионе и Кюло. Все было ему здесь уже знакомо и мало интересовало. Перед отъездом из Парижа он еще дважды встречался с Герценом, подробно с ним беседовал на Севастопольском бульваре и в день отбытия, 16 октября — в отеле. Составленный Герценом примерный контракт на продажу архива оказался вполне приемлем для Постникова, и лишь цена все еще не определилась. На телеграфный запрос, какую сумму можно предложить, ответ из Петербурга гласил: «не свыше четырех тысяч рублей». Герцен же говорил о десяти… Предстоял неприятный спор с Петербургом.
А через русское посольство в Париже под сургучными печатями уже шло с фельдъегерем донесение Карла Арвида Романна Константину Федоровичу Филиппеусу от 16 октября 69-го.
«Сегодня я видел в последний раз Герцена и у него завтракал снова. Беседовал, не выражая ни малейшего сомнения. Проект условий мне вручил… Условия очень строги… Дай бог успеть, а главное, уйти ловчее с бумагами. Не забудьте при этом расходы нотариальные и мелочи, о которых потом было бы поздно думать. До какой цены я успею дойти, я вам сообщу по телеграфу и вас буду просить в случае согласия выслать деньги тоже по телеграфу. Я очень рад, что благополучно ухожу из Парижа; у Герцена часто бывают разные лица, но до сих пор такие, которых я никогда не встречал. Сегодня в 10 вечера выезжаю, помолясь богу».
Герцен же в письме Огареву писал: «Постников меня мучил как кошмар. Брал бы Тхоржевский деньги, благо дают — и баста», У него с каждым днем росли дурные предчувствия о делах во Флоренции, хотя дочь Тата пыталась его успокаивать. По ее почерку, по недомолвкам он чувствовал, видел — ее душевное состояние подорвано, влюбленный граф-музыкант Пенизи, видимо, действует почти шантажом, а может быть, даже угрозами… Предчувствия не обманули его — очень скоро, уже в конце октября пришли жуткие письма от сына Саши: милая Тата доведена до сильнейшего нервного расстройства, можно сказать, до помешательства. Сын немедленно вызывал отца во Флоренцию. И Герцен, отложив все дела, бросился туда спасать дочь от страшной беды… Обо всем этом Огарев и Тхоржевский впоследствии рассказали «издателю Постникову», и он послал Александру Герцену столь сочувственное послание, что получил от него сердечное ответное письмо. Это теплое письмо «издатель Постников» не преминул приобщить к делу об архиве, и до самой Октябрьской революции в России пролежали герценовские строки среди пронумерованных и прошнурованных донесений агента Карла Арвида Романна. Он гордился этими строками как дипломом высшей шпионской категории! Ибо остался единственным агентом, разоблачить которого даже проницательный Герцен не успел!
…В оживленном Лионе в ожидании поезда до Кюло секретный агент Карл Арвид Романн — он же издатель Н. В. Постников — делал в своем кожаном журнальчике кое-какие заметки в рассуждение дальнейших планов. Ведь ему надлежало еще разнюхать и о Нечаеве, и тут могли сыграть немаловажную роль новые эмигрантские связи — Герцен, Огарев, типографии, а возможно, и Бакунин, если удастся подобраться и к тому… Есть намеки, что он — руководитель Нечаева. Однако тут нужна безошибочная точность действий и разговоров — не переиграть, не переборщить, не повторить ошибок предшественников, особенно Блюммера, которого разоблачил покойный князь Петр Долгоруков, предупредивший Герцена.
В чем была ошибка агентов Блюммера и Хотинского?
Арвид Романн записывал одному ему понятными знаками, чтобы потом, при случае, поделиться этими соображениями с начальником Филиппеусом:
«Приемы, которым следовали Блюммер и Хотинский, были преждевременно крайние; они в то время, когда эмиграция их еще изучала, вздумали идти наряду с нею — один (Блюммер), имея перед собою человека честных правил — Долгорукова, вздумал рассказать ему, как он откроет подписку на свой журнал и надует подписчиков, а другой, Хотинский, обратился к самому скрытному и осторожному человеку — Герцену с нескромными вопросами. Конечно, оба потерпели фиаско!»
Проанализировав ошибочные ходы других, он теперь постарается довести дело с архивом до благополучного конца, перехитрив «самого скрытного и осторожного человека» — Герцена!
В Женеве Романну пришлось пережить немало неприятностей и осложнений. У него кончились деньги, а Петербург не слал финансовых подкреплений. Кое-как он всучил Тхоржевскому аванс, лишь только тот назначил за архив окончательно 26 тысяч франков, или 7 тысяч рублей. Эту сумму он и запросил телеграфно, изворачиваясь пока перед Тхоржевским и Огаревым. Владелец архива нервничал насчет задержки и уже готов был, казалось, вообще отказаться от продажи.
Не говоря об интересах высших, государственных, это было бы гибельно для всей дальнейшей карьеры агента Романна! И он делал пока что мог…
В понедельник 25 октября ему сообщили, что на его имя пришел денежный перевод (в этот день он обедал с Огаревым и опасался, как бы такую телеграмму не вручили ему прямо за столом!). Увы, оказалось, что послана лишь малая часть суммы. Тем не менее Романн, не теряя времени, заказал огромный ящик, формой напоминающий сундук (в наши дни мы назвали бы это сооружение контейнером).
Под каким-то ловким предлогом он решил даже дня на три улизнуть из Женевы — у него было все время опасение встретить кого-нибудь из тех, кто его мог узнать по Петербургу. Теперь тут так много эмигрантов из Польши, а кое-кого он на следствии убеждал, сколь спасительно чистосердечное признание! И прозрачно намекал, как поступают с непокорными…
«Больше того, что я вытерпел в этом деле, требовать от человеческих сил нельзя», — жалуется Романн в донесении от 23 октября. А прибыли петербургские 7 тысяч лишь вечером 2 ноября.
Наконец-то 3 ноября он смог доложить Филиппеусу:
«Вчера вечером я покончил дело, вручил деньги и получил продажную запись и самые документы, едва уложившиеся в большой сундук. Я везу сундук до Франкфурта-на-Майне, имея поручение от вас принять там ваше письмо. Тхоржевский и Огарев просто замучили меня своим вниманием… Я изучил этих господ очень хорошо — быть может, в будущем пригодится. Хорошо бы издать мемуары (разумеется, процеженные и обезвреженные. — Р. Ш.) и завязать с ними непосредственные, так хорошо начатые сношения… Для Тхоржевского я везу бумаги в Брюссель через Германию — он вполне в этом убежден. Дай бог только здоровья, и тогда скоро доберусь до Петербурга. Родное детище мое — документы — я хоть полумертвый, а привезу».
Разумеется, постниковский сундук проследовал на север под надежной негласной охраной русской полиции, при тайном содействии швейцарских, французских и германских органов безопасности. В ноябре этот громадный ящик с сюрпризами прибыл в Петербург и очутился под семью замками в подвалах III отделения…
Глава девятая. «Оплакиваю мертвых. Укрощаю молнии…»
Я хочу тебе, друг Саша, написать для памяти… Во всем мире у вас нет ближе лица, как Огарев, — вы должны в нем видеть связь, семью, второго отца. Это моя первая заповедь…
Тата так велика умом и так развита сердцем, что ее легко вести. Развитие Ольги сложнее, она была больше всех сиротой; любви матери, которая вас воспитала, она не знала… Она пробьется, ее натура чрезвычайно талантлива, но горько мне было бы думать, что она пробьется посторонней вам — без чувства семейного единства и любви… Если возможно воротиться в Россию — возвратитесь — там ваше место.
И еще одно — никогда, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ чтоб не было денежных споров — все поровну. Денежные споры выражают большую грубость души и мелкость чувств. Вот на первый случай. Буду иногда продолжать.
Из нравственного завещания А. И. Герцена своим детям — Саше, Тате, Ольге и Лизе.
1
Большое семейное горе отвлекло на несколько долгих недель Александра Герцена от всех общественных и литературных забот. Сын Александр потребовал немедленного приезда отца во Флоренцию спасать Тату от припадка безумия.
Отец застал Тату в тяжелом состоянии. Запуганная насмерть жестоким претендентом на ее любовь, она бредила, везде видела спрятанных убийц, грозивших ножами отцу и брату, сама пыталась покончить с собою — броситься с балкона на камни мостовой. Отцу она безмерно обрадовалась, но встретила его градом вопросов, ужаснувших его: живы ли в Ницце «Леля-бой» и «Леля-герл», правда ли, что жена книготорговца Георга — мать Герцена Луиза Ивановна, не убит ли брат Саша… Оказалось, что граф Пенизи держал девушку в непрестанном страхе, а врач Левье тайком уговаривал ее обвенчаться с Пенизи.
Доведенная и без того почти до психического расстройства и готовая вот-вот уступить, потому что Пенизи и слышать не хотел об отсрочке (о чем она его молила), Тата вдруг стала свидетельницей страшного происшествия перед ее окнами: какой-то ревнивец ударом ножа убил девушку-итальянку. К тому же чей-то нечаянный выстрел близ дома ухудшил беду.
Герцен с необыкновенным терпением, мужеством и педагогическим искусством взялся за спасение дочери. Ни она сама, ни близкие не ведали, какою ценой досталась отцу эта победа над мраком, окутавшим душу девушки. Между тем бюджет семьи был и без того перенапряжен, в издательских делах наступила заминка, а тут болезнь Таты отняла всякую возможность заниматься литературным трудом. Хорошо, что старый друг Тхоржевский сам предложил помощь из новых денег, полученных от издателя Постникова, — такое дружеское участие всегда согревало сердце Искандера. А деньги нужны были немалые!
Он повез Тату и остальных членов семьи на Ривьеру, сначала в итальянский городок Специю. Так посоветовал доктор Шифф, психиатр, взявшийся за лечение девушки.
В те годы залив Специи еще не успел сделаться одним из главных военных портов Италии (где создателю этой военно-морской твердыни, генералу Чиадо, поставят впоследствии памятник перед фасадом построенного им арсенала). В 1869 году Специя была одним из зимних курортов с субтропической растительностью, живописными горами и богатыми дворцами. Здесь и началось, хотя и с рецидивами, медленное возвращение потрясенной девичьей души к жизни, ясности и здоровью.
Герцен 18 ноября писал Тургеневу:
«Я слишком здоров и зазнался. Вот иногда судьба и бьет меня со всего размаха. Что я вынес в эти дни, когда со своим кротким и прекрасным лицом Тата в слезах не выпускала меня за дверь, боясь убийц и совершенно сбиваясь в словах и вопросах — представь сам.
Устал… очень устал. Прощай. Пиши ко мне на адрес моего сына».
Но и в Специи задержались недолго, до 22 ноября. До конца месяца пожили в Генуе, а 1 декабря приехали в Ниццу. Состояние дочери медленно улучшалось. А дела звали Герцена в Париж, и 7 декабря семья тронулась туда из теплой и уютной Ниццы.
Не знал Герцен, что едет по знакомым городам в последний раз!
9 декабря мелькнул перед ним шумный Марсельский порт, с 11 до 17 декабря останавливались в Лионе (где и догнало Герцена сочувственное письмо Постникова, на которое он ответил так сердечно). 19 декабря два фиакра везли Герцена, Тату и остальных членов семьи к временному парижскому пристанищу… Немного пожили на Рю Ровиго, а к Новому году въехали в «Павильон Роган» — большой дом с меблированными квартирами на ул. Риволи, 172, против Пале-Рояля. Этой квартире суждено было стать последним жильем изгнанника и скитальца Искандера…
Тата поправилась, Герцена окружало много сочувствующих ему новых и старых друзей, он снова возвращался к трудам. Огарев настаивал на возобновлении «Колокола». В Петербурге и Москве нарастали события — волновалось студенчество. Полиция сбивалась с ног в поисках неуловимого Нечаева и членов его организации «Народная расправа». Стал распространяться грозный и фанатический текст «Катехизиса революционера». Его составление полиция и даже сами участники «Народной расправы» приписывали перу Нечаева, еще не зная подлинного автора (им был Бакунин).
Пошли разноречивые вести о страшной трагедии, только что разыгравшейся в Москве, среди студентов Петровской земледельческой академии. Один из ее слушателей, И. Иванов, вступив в «Народную расправу», отказал в повиновении Нечаеву. Иванов не согласился с Нечаевым, будто революционная цель оправдывает любые средства. Нечаев призывал к повсеместному и беспощадному разрушению, полагая, что вопрос о будущем общественном устройстве пока чисто отвлеченный. Близкая же цель — любыми средствами уничтожить нынешний строй со всеми его приспешниками. Когда же студент Иванов назвал нечаевские методы бесчеловечными, а самого Нечаева авантюристом, главарь «Народной расправы», действуя запугиванием и принуждением, заставил свою боевую «пятерку» убить непокорного Иванова как отступника, а следовательно, и возможного (в будущем) предателя. Ни в чем не повинный юноша был зверски задушен членами нечаевской пятерки. Труп его, брошенный убийцами в Петровский пруд, полиция вскоре нашла. Участники убийства (Успенский, Кузнецов, Прыжов, Николаев) были арестованы, а самому Нечаеву вновь удалось скрыться за границу по подложным документам. Он вернулся в Швейцарию и установил связь с Огаревым и Бакуниным. Стремился также сблизиться и с Герценом, чтобы использовать Вольную типографию и приостановленный «Колокол» для пропаганды своих анархистских идей. Огарев спрашивал Герцена, желает ли он лично повидать Нечаева.
Автор «Былого и дум» ответил Огареву письмом 12 января нового, 70-го года, что он отдает дань мужеству Нечаева как революционера и видеть его готов, но всю его деятельность, равно как и поддержку нечаевщины со стороны «двух старцев» — Огарева и Бакунина, считает вредной и несвоевременной.
Вернулся Герцен и к своим антибакунинским «Письмам к старому товарищу» — прочитал их текст вслух русскому журналисту Пятковскому, сотруднику петербургского журнала «Неделя», гостившему в Париже, и тот взялся было опубликовать эти «Письма» в Петербурге под псевдонимом «Нионский». Недавно подобный опыт Пятковскому благополучно удался: большой очерк Герцена «Скуки ради» был открыто напечатан в «Неделе» под тем же псевдонимом «Нионский», вызвал множество откликов и писем. Читатели узнали своеобразный герценовский стиль (как по когтям узнают льва) и спрашивали редакцию, каким образом ей удалось привлечь к сотрудничеству опального Искандера. Правда, попытка повторить опыт и напечатать «Письма» так и не удалась — цензура их запретила как слишком острые, а возможно, разгадала «по когтям» и автора!
Насчет же настояний Огарева возобновить «Колокол» Герцен писал своему другу так:
«Насчет „Колокола“ еще не знаю. Когда все устроится и притихнет в домашней жизни, то есть когда Мейзенбуг и Ольга займутся делом, Тата окрепнет и дом будет нанят, я приеду недели на две. Для возобновления „Колокола“ нужна программа, даже для нас. На таком двойстве воззрений, которое мы имеем в главном вопросе, нельзя создать журнала…[11] Сделаем опыт издать „Полярную звезду“ — что у тебя есть готового? Я, впрочем, предпочел бы участвовать в каком-нибудь петербургском издании. А пропо (кстати), Боборыкин собирается издавать газету — ежедневную, оппозиционно-литературную и политическую, вроде „Фигаро“. Он за этим едет через несколько месяцев в Петербург. Засим кланяюсь!»
Через несколько дней, совершенно не умея поберечь себя, пренебрегая опасной болезнью — диабетом и нервным переутомлением, Герцен со страстью вникал вновь в общественную жизнь. Французская столица волновалась в преддверии войны и близкого конца империи. Внешним поводом для волнений послужило политическое событие: принц Пьер Бонапарт застрелил журналиста Виктора Нуаре. Герцен сам находился в толпе демонстрантов 12 января, в день похорон убитого. Друзья рассказывали, как близко к сердцу принимал он народное возмущение. В эти дни Герцен воспрянул духом, виделся с единомышленниками, принимал посетителей, увлекал собеседников-литераторов огненными блестками остроумия, жаром критической мысли, неистощимым юмором.
Об этих январских днях 70-го года вспоминал впоследствии писатель Боборыкин, подчеркивая, что Герцен именно тогда «поставил в великую заслугу Марксу создание Международного союза рабочих», то есть I Интернационала. Боборыкин пишет о своем глубоком восхищении силой герценовской мысли в беседах с товарищами, за несколько дней до последнего заболевания. «Тогда я испытал самый сильный припадок обиды и горечи за то, что такой полный жизни и умственного блеска, такой великий возбудитель политического и социального сознания нашего отечества принужден был все-таки довольствоваться жизнью иностранца, не имеющего возможности жить и действовать у себя дома, принять непосредственное участие в том, что у нас творится».
14 января Герцен пошел на публичную лекцию французского политического деятеля, радикал-социалиста Огюста Вермореля. Собралось множество народу, душный зал был переполнен, и по выходе на улицу Герцена охватило холодом.
«Сегодня я расклеился — болит бок и грудь, — пишет он Огареву 15 января. — Тургенев был, весел и здоров… рассказывал анекдоты, сед, как лунь…»
Во вторник, 18 января, он своей рукой приписывает строку для Огарева в письме, которое пишет Николаю Платоновичу Тата: «Умора, да и только — кажется, дни в два пройдет главное. Прощай!» Это последние строки, написанные его собственной рукой.
Вечерние выпуски газет 21 января сообщили, что в нынешнюю ночь великий русский писатель навеки закрыл глаза. Ему было всего 58 лет. Буря сочувственных, потрясенных, взволнованных, горестных откликов, статей, писем крупнейших умов Европы не стихала в газетах несколько дней…
…Рабочие Парижа проводили гроб Герцена до кладбища Пер-Лашез (которое через несколько месяцев стало местом казни парижских коммунаров). Вскоре, во исполнение предсмертного желания писателя, тело его перевезли в Ниццу и погребли в могиле Натальи Александровны Герцен. Еще через несколько лет, к 1875 году, русский скульптор Забелло высек красивую мраморную статую с поразительно верной передачей позы, внешности и характера Искандера… Статуя возвышается над герценовской могилой в Ницце.
…Старый кладбищенский сторож показывает посетителям великую могилу и поясняет для тех, кто не умеет прочесть русскую надпись в венке:
— Экче ун гранде хомо, ун гранде поэто руссо — Сандро Херцен!
Но это лишь привычная дань любви и почтения к бренным останкам Герцена-человека. Это следы физической кончины, горькой разлуки остающихся с ушедшим — отцом, супругом, товарищем молодости, близким родственником и наставником. Ибо Герцен — мыслитель, писатель, революционный деятель — бессмертен. Кончина физическая не грозит ему ни забвением, ни духовной смертью. Герцен-творец не умер, не расстался с людьми — это почувствует каждый, кто откроет любую страницу его сочинений, а их много, более 30 томов!
Он по-прежнему дорог друзьям и все так же страшен врагам: духовным мещанам, идеологам реакции, нравственным крепостникам и душителям свободы!
После двух похоронных церемоний — в Париже и в Ницце — война темных сил против Герцена не стихла. Она стала даже острее, но вместе с тем и еще безнадежнее для всего стана ненавидящих Герцена. Искандер-Герцен жил и сражался!
2
В год смерти Герцена в Женеве совершилась попытка возобновить при участии Огарева издание газеты «Колокол» с подзаголовком «Основан А. И. Герценом».
Первый номер вышел 2 апреля, шестой — 9 мая 1870 года. На этом издание прекратилось. По какой причине это произошло?
Прежде всего, конечно, без участия самого инициатора — Герцена звук его «Колокола» стал глуше, потерял былую звонкость. Больной и сильно постаревший Огарев оказался ограниченным в его редакторских правах двумя новыми членами редакции — Бакуниным и Нечаевым. Практически главную роль, хотя и негласную, потаенную, в новом «Колоколе» стал играть Сергей Геннадьевич Нечаев. Впоследствии эти номера, вышедшие в 70-м году, так и стали называть нечаевскими.
Однако Огарев слишком дорожил герценовскими традициями, чтобы допустить их полное нарушение. Тактика Нечаева, осужденная Герценом, оказалась неприемлемой и для Огарева.
Нечаев объявил главной задачей газеты и всего революционного движения — освобождение России от императорского ига и во имя этой цели готов был подать руку «всякому, кто вместе с нами захочет способствовать разрушению монархической власти в России не словами только, а делом». Эта нечаевская тактика стала принимать авантюристический характер. Отказался сотрудничать с новым членом редакции и владелец типографии Чернецкий, старый друг Герцена и Огарева. Наконец, и сам Бакунин убедился в беспринципности нечаевских приемов и тоже порвал с «молодым другом». Редакция распалась. «Колокол» смолк.
Но тем временем в Женеву — центр тогдашней революционной эмиграции — вернулся не кто иной, как… издатель Николай Васильевич Постников, будто бы для издания благоприобретенных бумаг князя Долгорукова. Однако это издание было лишь маскирующим маневром петербургской тайной полиции. Главная же цель командировки столь опытного агента была поимка Нечаева. Русская полиция уже объявила его простым уголовным преступником, обвиняя в убийстве студента Иванова, и требовала выдачи Нечаева у тех государств, где он может вынырнуть.
Поэтому в Швейцарии Нечаев перешел на нелегальное положение и скрывался в маленькой глухой деревне. Даже в группе сотрудников «Колокола» настоящее имя Нечаева не было известно — он выступал под фамилией Барсов и для всех непосвященных числился главным агентом возобновленного «Колокола». Только члены семьи покойного Герцена, Огарев и Бакунин знали, кто такой Барсов, и свято оберегали его тайну.
Тем временем все лето издатель Постников готовил к изданию второй том тщательно отобранных и профильтрованных бумаг из долгоруковского архива. В декабре 70-го года увидел свет сигнальный номер этого второго тома «Мемуаров князя Петра Долгорукова» на французском языке. Весь том посвящен исключительно временам императрицы Екатерины Второй. Право же, не в интересах ее правнука Александра Второго было обогащать глубокими историческими разоблачениями царствование собственной прабабушки, однако репутацию дома Романовых книга не улучшала. Самые же ценные и важные документы, освещавшие темные места и «белые пятна» в подоплеке некоторых исторических событий, навсегда исчезли из поля зрения будущих ученых и писателей. Возможно, они были просто преданы огню напуганными царедворцами.
Однако, осуществив выпуск не очень желательной правительству книги, агент Романн решил лишь часть главной задачи — втерся в доверие к женевским эмигрантам Огареву, Бакунину, Тхоржевскому ради поимки Нечаева. Для этого он был вынужден даже помогать материально их революционной деятельности.
Можно только руками развести, каких жертв потребовала от полицейского шпика его миссия!
Знакомство с революционером Герценом, покупка старых бумаг, казавшихся теперь и не столь уж интересными, помощь деньгами государственным преступникам, бесконечные разъезды по Европе вместе с анархистом Бакуниным… Ведь в Лионе «издатель Постников» был изрядно помят полицейскими как бакунинский прихвостень и еле-еле избежал ареста. Все это ради одной главной цели — обнаружить и изловить Нечаева!
3
Эту главную цель жизни, сулившую награды и карьеру, агент Романн преследовал упорно, никак не подозревая, что ходит буквально рядом со своей жертвой, что табачный дым, которым он дышит в надоевшем ему кабинете Огарева, остался с ночи от нечаевской сигары. Ибо тут-то и сказалась подлинная, не авантюристическая и непонятная полицейскому умишку революционная дисциплина таких людей, как Герцен и Огарев. Не нарушил законов конспирации и Бакунин, несмотря на свой пылкий темперамент, доверчивость и склонность к революционной фразе.
Все эти люди, тесно общаясь с Постниковым и лично ему доверяя, уступив ему долгоруковские документы ради их более быстрого опубликования, не могли нарушить революционную дисциплину молчания и тайны, когда дело шло о судьбе товарища. Они не питали, особенно Герцен, симпатии к «юноше Нечаеву», но никакой хитростью нельзя было заставить их проговориться о чужой конспиративной тайне, хотя Постников-Романн без конца подъезжал к каждому из них с наиважнейшим для него вопросом: где Нечаев? Агентурные сведения противоречили друг другу: Петербург снова гнал Постникова в Лион, женевские филеры намекали, что Нечаев где-то поблизости.
В эти самые дни осиротевшая Тата Герцен по просьбе Бакунина не раз тайно виделась с Нечаевым, возила ему в деревню печатные материалы, делала рисунки для его прокламаций и однажды опасной ночной порой помогла Нечаеву тайно добраться до швейцарской границы. Вдова Герцена собирала Тату в эту рискованную дорогу. И никто из этих людей ни намеком не выдал доброму Николаю Васильевичу, где же прячется таинственный Нечаев. Поняв бесполезность сыска, Романн из-за подорванного здоровья попросился в Петербург похоронить умершую в горьком одиночестве жену.
Холодно встретило петербургское начальство разбитого, больного Романна из его нелегкого иностранного вояжа. Ни наград, ни карьеры он не заработал. Сердечный порок, обостренный невзгодами, быстро вел и его к последнему расчету.
Иудина честь предательской выдачи Нечаева швейцарской полиции выпала на долю другого царского шпиона — Адольфа Стемпковского. По его наводке полиция схватила Нечаева в Цюрихе 14 августа 1872 года. В карманах Нечаева, кроме фальшивого паспорта и заряженного шестиствольного револьвера, нашли записку на имя Таты Герцен…
Агент Романн не дожил до этого дня и не корчился от бессильной зависти. В конце 71-го года он и сам последовал за женой в безвестную глухую могилу, быстро заросшую крапивой и волчцами. Неглупого, живого, сравнительно образованного человека, посвятившего себя темному ремеслу полицейского агента, природа не удостоила лучшей памяти. А жители невской столицы быстро позабыли о его существовании.
…Посреди нарядной Ниццы хорошо виден издали невысокий каменистый холм, поросший южными кедрами, соснами и пиниями. Там находится старинное кладбище. Беломраморный Герцен глядит оттуда на синеющее море. Изредка приходят сюда люди сажать цветы и заботливо выпалывать у подножия монумента сорняки, занесенные сюда недобрым ветром от дурных семян.