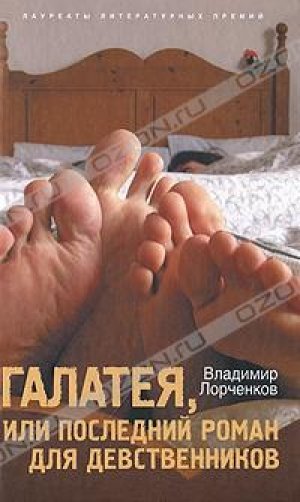
«…do not worry about what to say or how to say it.
At that time you will be given what to say…»
…не заботьтесь как или что сказать,
ибо в тот час будет дано вам, что сказать…
Евангелие от Матфея, 19, Международная версия.
С этой книгой, правда, была одна большая проблема -
ее надо было еще написать.
Д. Хеллер, «Портрет художника в старости»
Часть первая
Посвящаю своему брату, Александру
Глядя на улицу под его окнами: на женщин, идущих кто в дом с любимым мужем, детьми и ужином, а кто — на съемную квартиру для скомканного среди простыней свидания; на встречу с подругой или в парикмахерскую, — и пытаясь понять, какая и куда именно стремится, писатель Владимир Лоринков понял, что следующий роман напишет осенью. Последний роман. При этом последнему роману писателя Лоринкова предстояло также стать первым, потому что собственно романов до того писатель Лоринков не писал, предпочитая рассказы или повести, раздутые иногда до неимоверных размеров лягушки, которую мальчишки посредством соломинки, прилаженной сзади, превращают в подобие первого изделия братьев Монгольфьер. Последний в мире. Разве не твердят с утра до вечера все известные писатели мира о кончине романа, а за ними и критики о том же галдят, трещат просто, как стайка волнистых попугайчиков в клетке зоомагазина, встревоженная звонком от двери, при появлении случайного посетителя… Если все получится, подумал Лоринков, то это произойдет в полном соответствии с библейским пророчеством о последних, которые станут первыми, правда, особой уверенности, что Иисус имел в виду именно это, не было. О чем писать?! Лоринков воскликнул это и, задумчиво глядя в окно, приоткрыл его: теплый воздух хлынул в квартиру волной летнего цунами, тяжелой волной, совсем как та, что прокатилась по его горлу, после чего он сглотнул, глядя на женщин, идущих мимо его дома, а вот эта-то наверняка к любовнику… Порнография — старо. Нынче об этом не написал только ленивый, все только и делают, что тешат этого бога из машины 20 века, ласкают его, курят благовония, и служат, словно Золотому тельцу древних евреев, которого нам нынче, безо всяких сомнений, заменил секс. Секс им подавай! А может, рассмотрел другой вариант Лоринков, в течение целого года, а то и больше, — если терпения хватит, — записывать умные мысли, о том, о сем, как, например, делал любимый французский философ Монтень, а потом попытаться выдать это за современные опыты мудреца, вот было бы неплохо, изящно, чуть старомодно, но и в то же время свежо, подумал Лоринков, чуть убавляя громкость музыки на ноут-буке, купленном за две тысячи долларов в Лондоне, и это еще дешево, в Кишиневе пришлось бы выложить три с половиной. Снова не то! С развитием интернета и социальных сетей нынче каждый офисный работник сам себе Монтень и писатель, с досадой подумал Лоринков, нащупывая что угодно, только не форму своего будущего романа, долженствующего стать последним, да-да, последним, потому что Лоринков собирался уходить из литературы отнюдь не по-английски, и потрясти основательно перед уходом кое-кого в кое каких литературных кругах. Вот зануды. К тому же, прекрасно осознавал свои слабые стороны Лоринков, он никакой не философ, и не только ко всестороннему к анализу бытия, но даже и к его простейшему осмыслению, вряд ли подойдет с приличествующим моменту серьезностью и вниманием, а раз так, то нечего и плантацию высаживать, сказал он вслух, потому что ужасно боялся допустить какой-нибудь штамп, ну, например…. Огород городить.
А если, прикинул Лоринков, — притворяясь перед собой бессребреником, — рассмотреть еще один вариант будущего романа, и заняться поиском Вехи и создать Великий Русский Роман, каково, а, в волнении воскликнул он, потому что эта идея ему ужасно понравилась, правда, с грустью признался он самому себе, не в последнюю очередь потому, что теперь за Великий Русский Роман в России стали платить премию аж три миллиона рублей. Миллион долларов! На эти деньги, с волнением подумал он, можно было бы купить новую квартиру в недавно отстроенном доме на том конце парка, высоком, красивом, с белой еще и не осыпавшейся штукатуркой, изящно изогнутыми балконами, и огороженной территорией. Территория избранных. Правда, с грустью подумал писатель, нет никакой гарантии, что эту премию дадут ему, а великие русские романы дело муторное, тяжелое, и совершенно безрадостное, чего только один пример Достоевского стоит, не говоря уж про Толстого. Высоколобые мудрецы. Или нет, подумал Лоринков, пытаясь вспомнить портреты классиков, висевших на стенах классов литературы во всех школах времен его детства (вариант «взирали на маленького Лоринкова со стен его советской альма-матери» писатель отложил, как грешащий двумя штампами), или не высоколобые? Какая разница. В конце концов, он сейчас не вычислением величины лбов классиков русской литературы занимается, хотя это дело приятное, с учетом того, что и у Лоринкова лоб высокий, и тут можно было бы провести некоторые, не лишенные приятности, аналогии. Роман придумывает!
Правда, пока в своих изысканиях, которые правильнее было бы назвать мечтаниями, он не продвинулся, подумал Лоринков на следующий день, всё сидит себе, полуголый, на кухне, сине-желтой, из-за модного в этом сезоне сочетания цветов, успокаивая разгоряченное летней ночью тело прикосновением ко всегда холодной плитке. Домашние спят. Значит, есть время подняться рывком с огромного, на десятерых таких как он и миниатюрная жена, дивана, проскочить в ванную комнату, выйти, мотая головой и разбрызгивая с лица воду по квартире, на что всегда сердится жена, но сейчас та еще спит, встать на напольные весы, покачать головой, а потом идти на кухню ставить чайник на огонь. Опять набрал. Значит, на завтрак у сына будут бутерброды, овсяное печенье и чай, у жены — омлет, бутерброды и чай, у дочери — молоко, а как подрастет, бутерброды и чай, а у него, писателя Лоринкова, просто чай. Как красиво. Лоринков думает об этом, встав с пола, и ощущая телом, как уже нагрелся воздух в квартире, — а кондиционер они с женой не устанавливают из принципа, боятся «болезни легионеров», — и глядит в окно на зеленый массив парка, в котором, разбирайся он в деревьях, писатель увидал бы каштан, ольху, иву, дуб, яблоню, ель, кедровое дерево, которое, правда, здесь не вырастает до конца и не плодоносит, ну, как бананы в Абхазии, еще бы увидел дикую сливу, платан или, как его называют здесь, в Молдавии, бесстыдницу. Почему, кстати? Этот вопрос интересовал его с детства, когда он подбегал к дедушке, и спрашивал того, отчего платан зовут бесстыдницей, а, дедушка, на что тот отвечал: внучок, время от времени дерево это сбрасывает с себя всю кору, и остается голым, вроде как человек без одежды, на что внук спрашивал недоуменно, ну и что, что здесь такого? Отец смеялся. Впрочем, Лоринкову недолго было ждать ответа на этот всегда волновавший его вопрос, ведь с тех пор, как ему исполнилось четырнадцать и он увидел обнаженную женщину, ему все стало понятно, и он смущенно опускал взгляд, проходя мимо бесстыдницы, а недавно с облегчением услышал неизбежный, будто ожидаемая смерть, вопрос сына, папа, а, папа, почему бесстыдница? Ну, сынок, вздохнув, сказал Лоринков, и начал вспоминать, что там говорил дедушка…
Еще до того, как родилась Глаша, имя которой все переспрашивали из-за того, что Лоринков, не произносивший твердую «л», говорил его нечетко- как-как, Гуаша? а ну-ка, еще разок — он уходил из дома очень рано, чтобы успеть в спортивный зал поплавать и побегать. Взялся за ум. А старшего, Матвея, — и тут уж никто не переспрашивал, потому что твердого «л» в имени Матвей нет, с облегчением думал Лоринков, — в детский садик отводила жена, Ирина. Было время. Правда, ранние подъемы никогда не давались ему легко, и почти половину дня после этих тренировок Лоринков клевал носом, — дома ли, на службе ли, — так что он даже обрадовался сместившемуся из-за рождению дочери графику, из-за которого занятия спортом перенеслись теперь на обеденный перерыв, ведь сына в садик по утрам отводил теперь он, так что стало легче. Еще как. К тому же, можно посидеть на кухне и поглядеть в парк и на то, как из него вылетают, выстраиваясь к клинья или что там у них принято в качестве боевого порядка, вороны, оккупировавшие все городские мусорки в последние годы. Вытеснили крыс! Лоринков покачал головой, и, уперевшись в подоконник обеими руками, прижал лоб к стеклу, еще прохладному, и подумал, что мог бы написать поп-арт-роман.
Заняться модерном? Ну, а почему нет, в конце концов, слепить такой роман для профессионала, — а уж он-то руку набил, — так же просто, как нарисовать картину или сделать скульптуру в 21 веке, ухмыльнулся он, чего уж проще, громоздишь себе утюг на табуретку, называя это «Гладить твердое», а первом случае, или плещешь банку краски на холст, «Эмоции», 200 на 400, Лоринков, «Метрополитен» музей, во втором; в общем, можно было бы такое проделать, но, но, но… что? Дело-то не в том. А в чем, подумал Лоринков, после чего честно признался себе в том, что хотел бы сделать вещь, которая бы доставила наслаждение — как процесс изготовления, так и результат, уточнил не лишенный склонности к педантизму писатель, — ему самому прежде всего, творцу, извинил он себя за пафос. Себя не обманешь. Так что вариант с утюгами, банками красок отметался, как негодный, и следовало подумать над другими путями, что Лоринков и сделал, заварив черный чай с корицей и мятой для жены, черный чай с корицей без мяты для сына, и зеленый чай, просто зеленый чай для себя. Усмехнулся. Вспомнил, как в годы его юности, — тут уж без штампа не обойтись, да, — зеленый чай считался напитком-помоем, и все только знали, что нос ворочать, а последние лет десять посетители заведений галдят, — словно критики о конце романа — «чашку зеленого чая», «зеленый чай с жасмином», «зеленый чай с лотосом». Он не таков! Если уж прикипел к чему душой и телом, а с чаем, как и в случае с женщиной, привязанность как физиологическая, так и психологическая, то будет верен до конца. Кстати, о жене. Будьте верными, сказано в Библии, и Лоринков старается следовать этому принципу, в глобальном смысле, конечно, в том смысле, что не оставит жену свою ни в печали, ни в радости — а особенно в радости, — и будет с нею всегда, глядеть на ее лицо, ловить перемены настроения в выражении, угадывать на три хода вперед мысли.
Писатель Лоринков, размышляя о том, каков будет его новый, следующий, и последний роман — все три определения точные, случай для этого неконкретного, в общем, человека, редкий, — ставит все три чайничка на стол, после чего снова замирает у окна. Скворец прилетел. Прямо напротив окна кухни, в ветвях ивы, громадной, до пятого этажа, — на котором обитает семейство Лоринковых, — прыгает скворец, черный, упитанный, гладкий, и все три определения тоже верные, думает Лоринков, после чего глядит на часы. Еще полчаса. После этого подумать о чем-либо будет довольно трудно, и Лоринков будет вживаться в роль надсмотрщика, — давай-давай, просыпайся, ешь, ешь, я кому сказал, одевайся, а ну, быстро, одевайся, нет, брось, возьми, поставь, дай, возьми, — чтобы не без труда выйти из нее по пути на работу, куда отправится, поцеловав сына на прощание перед тем, как поручить того заботам воспитателей. Время летит. Этот невероятный штамп оказался невероятной же правдой, понимает с некоторых пор Лоринков, который, например, уверен сегодня, в июле 2007 года, что январь был вчера, а четыре года, что у него дети, пронеслись, как миг, и это опять же правда, так что он прощает себе и этот штамп. Изменилось летосчисление. В детстве он мерил время часами, и день был внушительным отрезком времени, в пятнадцать, когда он узнал, что переезжает в другой город, и будет разлучен со своей подружкой на три месяца, этот срок показался ему вечностью — да и оказался ей, ведь когда он вернулся, постаревший, словно Одиссей, всё изменилось, всё, и его встретила другая, не узнавшая его, женщина, — в двадцать лет сроком была неделя, а сейчас, в тридцать, время пошло на месяцы и полугодия, и о чем это говорит? Смерть близка.
Лоринков думает об этом, пожимает плечами, и возвращается мыслями к роману. Стало быть, перечисляет он про себя, поп-арт и модерн идут к черту, катится под откос тема, связанная с порнографией, политический роман тоже не будет написан, потому что нечто в этом роде он, Лоринков, уже писал, и критика встретила это благосклонно, но на критику ему в этот раз плевать, но что же тогда делать… Не писать же роман! Ну, роман в самом прямом его смысле, роман, каким он был, — вернее, каким он должен быть, — роман, похожий на демонстрацию на светящемся экране, где герои, возникающие на разных концах огромной карты, как светящиеся точки, начинают путанное и хаотичное, на первый взгляд, движение, чтобы рано или поздно двинуться друг к другу, и в конце концов состоялась свадьба, или они убили друг друга, ну или каким-то другим образом состоялась их встреча и закольцевались их судьбы. Не станешь же такой традиционный роман писать, такой, пожалуй, и в самом деле умер, и здесь в рассуждениях критиков и писателей, хотя верить нельзя ни тем, ни другим, здравое зерно есть, да, традиционный роман это как-то уж… Каменный век! Над такими романами еще Фаулз посмеялся, — болезненно морщась, думает Лоринков, — их хоронит Лимонов, получивший, правда, от этих романов все что можно, чего же ему не хоронить их, как и подлецу, получившему все от девушки, не порассуждать о «нам пора расстаться, ведь мы живем в эпоху конца обычных отношений», хотя кончилась не эпоха отношений, а твои персональные отношения, и довольно гнусно проецировать частные случаи на… О чем он?
Нет, всё не то, подумал Лоринков, взглянул на часы, увидел, что до начала обычного утра осталось пять минут, а обычное утро в его доме, знал Лоринков, это смесь рыночного дня в Вавилоне, волнений в Иерусалиме и штурма Карфагена, и поэтому решил провести оставшиеся несколько минут с толком, вздохнул, и сел к окну. Уставился в небо.
Лежа в большущей луже возле железнодорожного вокзала Кишинева, Мама Первая умирала, глядя в небо, и не чувствуя ничего, кроме необычайной слабости в ногах. Силы оставили. То время, когда девочка сопротивлялась голоду, давно прошло, и девочка умирала, а Мама Первая ведь и была девочкой в самом что ни есть прямом смысле, годков ей было шесть, если считать с недостающими двумя месяцами, которые девочке дожить явно не улыбалось. Доходяга. То ли дело еще какую-то неделю назад, когда сил у нее было еще ого-го, по-взрослому подумала девочка, даже не пробуя вылезти из лужи, куда ее, упав, уронил отец. О, неделю назад! Тогда сил Маме Первой хватило на то, чтобы совершить целый ряд действий: поймать в амбаре, где даже мыши давно уже издохли от голода, несколько воробьев, съесть двух, и принести одного домой, где его поделили между младшим братом и старшей сестрой, ослабевшей, к счастью, настолько, что ей не хватило бы сил отобрать добычу у сестры средней. Мамы Первой. Но то было аж неделю назад, и за те семь дней, что они с отцом, Дедушкой Первым, — крестьянином Игорем Борлодяну, — добрались до Кишинева, произошло много чего в масштабах одной, отдельно взятой семьи, например то, что она прекратила свое существование. Не совсем, конечно! Осталась она, Мама Первая, а младший братик изошел чем-то зеленым, текшим по его штанине все время, что они шли к железнодорожному полотну с отцом, и тот даже не плакал, а даже вздохнул с облегчением, когда братик умер, а мама, Бабушка Первая, та умерла еще дома, вместе со старшей сестрой, которая вцепилась в руку женщины зубами, стремясь оторвать от нее кусок мяса. Бывает. Вот так, существует семья, целый выводок, род, — три человека маленьких, два больших, итого пять, и это даже немного еще по меркам Бессарабии сороковых годов, — а потом бах-трах-бабах, и ангелы метут крыльями землю, и вместе с зерном, мякиной, и мусором, сметают в огромные поддоны плоть человеческую. Нашу в смысле. И целые семьи прекращают свое существование, и мрачный черный человек в черной рубашке в черных сапогах с черными глазами бредет по дорогам Молдавии, чтобы взмахом руки умертвить еще и еще кого-то, и звать этого человека ангел, Ангел Смерти, но только не так старомодно, конечно, а на новый лад. План Хлебосдачи. Но человека этого, то есть ангела, что для них никакого значения не имело, в своих родных Шолданештах ни Дедушка Первый, ни его почти шестилетняя дочь Мама Первая не увидели, в отличие от остальных членов их большой и вымершей семьи.
Шел 1949 год и Бессарабия умирала от голода, так что Мама Первая не выглядела как-то особенно, даже лежа в большой луже возле железнодорожного вокзала Кишинева. Одна из сотен.
Каким образом девчонка попала в лужу, объяснить будет несложно, ее туда, как уже говорилось, уронил отец, у которого не было сил идти с ребенком на руках. Почему в Кишинев? Дедушкой Первым двигало желание спасти потомство, хотя бы одну из, и он предпринял единственно верный, как ему казалось, шаг — привезти девчонку в город, куда стремились голодающие из всей республики, ставшей советской республикой совсем недавно, а до того…. Королевство Румыния. Исчезнувшее навсегда в отхожей яме истории, которую историки частенько красиво зовут водоворотом, королевство Румыния оставило селу Шолданешты на память о себе рубцы от палки румынского жандарма, и частную собственность, так что кому плюсы перевешивали минусы, а кому наоборот. Деду Первому — плюсы. Ведь частная собственность значила для него возможность прокормить семью из пяти человек и расширить ее до пятнадцати-двадцати, и где тут детолюбие, а где стремление обзавестись еще дюжиной рабочих рук, не поймешь их, этих крестьян. Бездумно жестоки. Как небо, что льет воду и на благочестивых и на грешников, как Солнце, что светит и блудницам, и богобоязненным девам, так и крестьяне: не видят добра, не видят зла, и мысли у них одни лишь, посеять урожай, собрать, и дожить до следующего года. Это непорядок. Поэтому, когда в Бессарабию пришла Советская Власть, первым делом в селе ввели план сдачи хлеба для страны, которая стонала, и натужно приподнимала с земли рекордные объемы промышленности для того, чтобы жизнь стала лучше, и гробила людей для того, чтобы людям стало легче жить, вот так, жестоко и бездумно. Похлеще крестьян.
В 1949 году, когда Бессарабия умирала от голода, один человек, если называть вещи своими именами, губернатор провинции, а если торжественно — глава ЦК республики, — товарищ Коваль повысил нормы хлебосдачи, и это-то в то время, когда люди мерли как мухи. Кара Господня. Вот что это значило для страны, где люди валялись на подъездах к столице, умоляя впустить их в город, чтобы купить там хоть немного еды, но дальше железнодорожного вокзала их не пускали. Ладно уж. Вокзал так вокзал, решил Дедушка Первый, когда вывалился из вагона, прибывшего в Кишинев откуда-то из России, и к которому, словно тучи мух, липли сотни оголодавших крестьян со всей Бессарабии, чтобы бежать, бежать, бежать от голода. Здесь не съедят. Речь шла о том, что Маму Первую, как и многих детей той поры, вполне могли употребить в пищу, и вовсе не потому, что детское мясо нежнее и слаще, а потому лишь, что ребенок за себя не постоит, и убить его куда легче, чем взрослого. Хлоп и все. Дедушка Первый знал, что как только он вздохнет последний раз — выражение «испустит последний вздох» не подходило, потому что он бы уж держал его как мог, до последнего, — его дочь добьют над его телом, и сделают это уцелевшие односельчане. Приличные люди. Винить их не стоило бы, потому что Дедушка Первый не был уверен в том, что не добил бы кого-то из тех, кто добил бы его дочь, сложись обстоятельства чуть иначе, конечно, не ради себя, а чтобы детей прокормить. Нет плохих. Нет плохих, пробормотал он, и, спотыкаясь, пошел от станции в город, но тут дорогу ему преградил милиционер, и сказал стоять, потому что у него нет кишиневской прописки и ему следует вернуться к себе в село, а вопросы пропитания и карточки это проблемы сельских властей. Нет плохих. Упорно думая об этом, Дедушка Первый с Первой Мамой на руках пытался протолкнуться сквозь милиционера, будто тот был наваждение какое-то, но, конечно, упитанное и крепкое, так что ничего не вышло. Власть сильнее. Дедушка Первый вдруг отчетливо понял, что время его изошло, вытекло, как вода, в эту самую огромную лужу под его ногами, большую октябрьскую лужу у кишиневского вокзала, поэтому он инстинктивно — не следует мешать живое с мертвым, — оттолкнул от себя дочь и та упала в воду. Что за народ. Милиционер, сказавший это, покачал головой, но наклоняться за малышкой не стал, потому что, во-первых, тоже был слаб, и только доходяге Дедушке первому мог показаться крепким мужчиной, а, во-вторых, девочка не жилец, это видно. Сейчас помрет. Милиционер горько вздохнул, отвернулся и пошел навстречу группе призраков — жена, муж и двое детей, — бочком, по крабьи, пробиравшихся в город, крикнул им, эй, стоять, вы что же, думаете, в Кишиневе еды завались, да здесь народ так же от голода пухнет. Что за народ!
Мама Первая была так слаба, что не испугалась вовсе своему падению в лужу, а даже обрадовалась, потому что была покрыта где язвами, где коростой и все это зудело и чесалось, и, будь силы, она бы и почесалась. Вода холодила. Знай девочка хоть что-то о прохладных ваннах на курортах Кисловодска — те как раз рекламировали в разрушенной войной, но упорно хотевшей жить стране, — решила бы, что в один из таких и попала. Блаженство! Знай, лежи себе в прохладной водичке, плескайся, да гляди в небо, да не забывай держать руки над водой, как над одеялом, как учили папа с ма… Кстати, папа. Где он там, подумала Мама Первая, и проформы ради подняла голову из лужи, и тут увидела необыкновенное зрелище, позже ставшее видением всей ее последующей жизни. Голову Горгоны.
Прямо на Маму Первую глядела голова Горгоны, о чем Мама догадалась уже много позже, получив образование, а тогда это просто выглядело как страшная рождественская маска, которую парни в молдавских деревнях напяливают на голову, чтобы попугать девчат. Всклокоченные волосы, торчащие, словно змеи перед броском, открытый и скошенный набок рот, черная кожа, неестественно большие глаза, стекающая по маске вода. Мама Первая. Себя она увидела, подняв голову из лужи, и зрелище это так напугало ее, что девочка нашла в себе силы даже закричать, что ей послышалось мощным воплем, а для сторонних наблюдателей — еле слышным, жалким хныканием. Стороннего наблюдателя. Так точнее, потому что девочку, с ужасом уставившуюся на свое отражение в его лакированном по моде тех лет ботинке, видел всего лишь один человек. Мужчина в черном костюме, черной рубашке, и с черным портфелем, и, кажется, это все, что мы могли бы видеть на нем. А, нет! Еще черная шляпа, не сдвинутая щегольски чуть набок, а нахлобученная как следует, что выдавало в мужчине, — скорее пожилом, чем зрелом, — представителя какой-нибудь администрации, и он стоял над девочкой, едва не захлебнувшейся в луже. Спаситель. Много позже Мама Первая поняла, что происходило с ней, и осознала, что минутное блаженство, охватившее ее в луже, было ничем иным, как сладким удушьем, которое обычно случается с утопленниками, моментом экстаза перед смертью. Ее спасли. Сделал это человек в черной одежде, который, увидь его кто из крестьян в провинции, был бы принят ими за ангела смерти, ну, или Плана Хлебосдачи. Кто он был? Мама Первая много раз пыталась узнать это, но ничего у нее не получалось, потому что того мужчину, отражение себя в ботинке которого она увидала в то осеннее утро 1949 года, она никогда больше не видела. Нет, конечно. Он вовсе не подобрал девочку, чтобы ее выходить, — рождественские сказки не происходят осенью, тем более, в стране с марксизмом как единственно верным учением. Просто вынул из лужи. Посадил на ее краешек и пошел дальше, не оборачиваясь, и, если бы мы попробовали попрекнуть его жестокостью и равнодушием, ответил бы нам сухо и бесцветно — не за тем я прибыл сюда, чтобы ковыряться в мелочах, а затем, чтобы спасти всех.
Дедушка Первый тоже увидел мужчину в черном, который вытащил из огромной лужи его почти захлебнувшуюся дочь, но для чего мужчина спас его дочь — взять к себе и выходить в большой и дружной семье; взять к себе и растлить, чтобы сделать презренной шлюхой; взять к себе и сварить в котле, чтобы съесть — он так и не узнал, потому что время его, как мы уже упомянули, истекло. Начал умирать. Икнул несколько раз, протянул руку дочери, безучастно смотревшей куда-то наверх, пустил слюни, судорожно вздохнул несколько раз, последним усилием с отвращением повернулся к серому небу затылком. Презирал Бога.
Умирая на вокзале, как и тысячи беженцев, Дедушка Первый представлял Кишинев сказочной скатертью-самобранкой, где на улицах валяются куски окорока и молоко для его девочки, куски хлеба для его жены, тарелки ароматной густой круто посоленной каши для его сына, ну, и немножко черствого хлеба для него самого. Город изобилия! На самом же деле за живой цепью милиционеров, сквозь которую бесцеремонно толкаясь, прошел мужчина в черном костюме, тоже лежали мертвые. Город умирал. Голод косил и здесь, — и даже хуже еще, чем в деревне, — потому что там перед смертью можно было хотя бы кусок глины в припадке бешенства проглотить и на минуту отяжелить желудок. Асфальт не проглотишь. Поворачивая голову то влево, то вправо, запечатлевая сцены Апокалипсиса на Земле, мужчина в черном костюме шел по главной улице Кишинева от железнодорожного вокзала до самого центра города, и хоть был он человек, а не ангел, но шел все же как посланник. Звали его Косыгин.
Город был необычным, потому что, — с удивлением покачал головой мужчина, словно не веря не то, что своим глазам, а официальному рапорту, который, конечно, поважнее в качестве источника будет, — все в нем, городе, было перевернуто с ног на голову, причем в самом буквальном смысле. Взято и перевернуто! Железнодорожный вокзал стоял не на массивном, как полагается, фундаменте, а торчал в земле острыми шпилями башенок явно готического стиля. С чего бы?! Потом мужчина вспомнил, что вокзал этот, разрушенный во время боев за город, построили потом целиком немецкие военнопленные, а раз уж немецкие… Куда без готики! Но перевернуты был не только вокзал, голуби, например, те тоже бродили вверх лапками, и оставляли цепочку следов на асфальте, который, почему-то, завис в небе, из которого шпилями рос тот самый вокзал. Перевернутый город. Поразительно подумал Косыгин, глядя на перевернутые дома, дороги, деревья, мостовую, и милиционеров, а потом девочка, в глазах которой он видел отражение перевернутого города, прикрыла веки. Вдруг утонет. Опасаясь за это, Косыгин осторожно выволок девчонку из воды, и это усилий от него не потребовало, — весил ребенок как двухлетка, — и посадил на кромку лужи. Рядом с отцом. Тот уже отошел, это видно было, ну и что он, Косыгин, мог сейчас поделать, да и с девчонкой ему возиться было недосуг, раз уж избежала смерти на этот раз, значит, протянет долго, подумал представитель Москвы, поправил шляпу, и ушел, не оборачиваясь. Маячили милиционеры. Косыгин толкнул плечом двоих, и едва те замахнулись, предъявил удостоверение, после чего цепь расступилась, как воды Красного моря, и Косыгин прошел между ними, словно иудейский древний беженец. Теперь куда. Представитель Совнаркома нахмурился и подозвал к себе взглядом одного из милицейских, велел показывать дорогу к республиканскому Совету Министров, и вкратце рассказать по пути, что здесь на самом деле происходит. Неужели не видно. Голод, сказал милиционер, и слегка пошатнулся, на что Косыгин поморщился, хоть и замедлил слегка шаг, после чего выслушал краткий отчет о ситуации. Пока шли, вертел головой. Видел людей, спавших под домами по центральной улице, видел мертвых детей, видел обезумевших от голода детей женщин, был спокоен внешне. Приехал по доносу. Вернее, по письму от встревоженного человека из администрации республики, второго заместителя Коваля, русского, по фамилии Фролов: тот писал, что республика исходит го голода, пока товарищ Коваль пишет отчеаы об успехах и требует повысить процент сдачи хлеба, обрекая и без того голодных на ужасающий голод. Возможны бунты. Ну уж это-то вряд ли, вспомнил предостережение Фролова товарищ Косыгин, вышагивая по центральной улице Кишинев, молдаване не из породы бойцов, это он сразу понял, а впрочем, кто из них оказался из породы бойцов, сколько голодных регионов Косыгин не видел, все и везде умирали покорно и обреченно, глядя на вздувшиеся животы своих детей. Вода, а не кровь. С другой стороны, кровь, она только от хорошего питания бывает, подумал товарищ Косыгин с ледяной усмешкой и увидел перед собой здание, в котором заседали республиканские власти. Можете идти. Отдав приказание милиционеру, Косыгин достал платок из нагрудного кармана, почистил пиджак, и вошел в здание, чтобы поразить до глубины души все молдавское руководство. Приехал тайком! Без предупреждения, словно ревизор какой из старорежимной комедии украинского товарища Гоголя, разве так поступают с товарищами. Оказалось, поступают. Когда по угрозой — Советская власть в одном, отдельно взятом регионе страны, поступают и не так еще, дорогие товарищи, думал Косыгин, наблюдая за суетой местных чиновников. Зря мельтешат. Косыгин прекрасно знал, что всех их расстреляют, потому что нельзя ставить под угрозу советскую власть, причем расстреляют не сейчас, а дадут возможность исправить ошибки, помогут накормить республику, посоветуют не рвать жилы, а шлепнут потом, когда все облегченно вздохнут, и решат, что угроза миновала. Шлепнут не из жалости. Умерших от голода не возвратить, так что это не месть никакая, думал Косыгин, а печальная и жестокая необходимость. Урок на будущее. Чтобы в 1970 году, когда наша власть распространится на весь мир, где-нибудь в Советской Республике Франция или Гватемала, какой-нибудь не в меру исполнительный местный князек не поставил власть под угрозу, организовав голод не тогда, когда его велено организовать, а от неуместного рвения. Вспомнит, передумает. Судьба князьков Бессарабии, своим неуместным рвением организовавших голод, послужит тем, — будущим, — печальным уроком, думает Косыгин. Благосклонно улыбается. Ну что же, начнем исправлять ваши перегибы, товарищ Коваль, мягко журит он главу республики, представляя, как на бледное лицо того сыпется земля мелкими комьями. Напортачили по-молодости. Шестидесятилетний Коваль радостно поддакивает, думая, что повезло, что все обойдется, и в кабинет заносят чай с булочками, которые товарищи министры с удовольствием и уминают, и только Косыгин пьет пустой чай. Выдержку показывает. Я уже связался с товарищем Сталиным, говорит он, зашел на телеграф и отправил ему сообщение о том, что республика голодает и ей нужна помощь, так что уже завтра пойдут грузы. Мужчины встают. Косыгин глядит на них с недоумением, потом понимает, в чем дело, и встает тоже, несколько минут молчит, глядя на портрет Сталина. Прошу садиться. Все садятся, и Косыгин начинает говорить, негромко, но слышно его великолепно, потому что молчат все, молчат министры, молчит Коваль, молчат мертвые, молчит октябрьское небо, молчит Кишинев, молчит милиционер, свалившийся от голода в переулке, и не вернувшийся в цепь, молчит покойный уже Дедушка Первый, молчит Мама Первая, покачиваясь и слегка подвывая, молчит портрет товарища Сталина, молчит Бог, молчит ангел смерти План Хлебосдачи, рот которому заткнул товарищ Косыгин. Тот диктует.
С сегодняшнего дня организовать выдачи пятисот граммов пшеницы на каждый рот в республике, говорит он, и всем детям дополнительно по двадцать граммов рыбьего жира. Записали, дальше.
С сегодняшнего дня отменить план хлебосдачи, как заведомо невыполнимый, и привести его в соответствие с возможностями сельского хозяйства республики. Записали, дальше.
Товарищу Фролову, поставившему в известность руководство СССР о бедственном положении, вынести благодарность… диктует Косыгин, глядя с затаенной усмешкой, как вздрагивает Фролов, и напрягаются плечи Коваля, теперь его, Фролова этого несчастного, сожрут, это без сомнений, ну так, даже если вылез с благими намерениями, все равно вылез, так что получай. Записали, дальше.
С сегодняшнего дня запретить реквизиции… ввести положение об обязанности за искусственное… дать… выделить… организовать… обеспечить…
Косыгин диктует, и плоть мертвецов наполняется надеждой, Косыгин диктует, и лица людей веселеют, Косыгин диктует, и дождь прекращается, Косыгин диктует, и мир оживает, Косыгин диктует. Флаги распрямляются. Мама Первая, все еще сидящая у лужи с мертвым отцом, видит похоронную команду, уволакивающую крючьями трупы в повозку, и соображает, что или она начнет хоть что-то делать, или в общую яму ее сбросят вместе с покойником, и, стало быть, надо привлечь к себе внимание, надо дать знать миру, что она, Мама Первая, которая пока еще лишь Елена Борлодяну, почти шести лет от роду жива, надо дать знать, надо… Начинает плакать.
Дедушка Второй, не зная о том, что в Молдавию уже едет паровоз с вагонами, в одном из которых оглядывает республику человек в черном, — только не План Хлебосдачи, а сам Косыгин, — пробирается тайком на телеграфную станцию, что на севере Бессарабии, в пяти верстах от его села. Спешит. Василий Грозав, — так зовут Дедушку Второго, — знает азбуку Морзе, которой его научил сам легендарный комдив, Григорий Котовский. Не время. Сейчас не до воспоминаний о самом знаменитом уроженце Бессарабии, думает Василий, спеша попасть на станцию до захода солнца. Везде пусто. Почти все умерли, на полях нет ничего, — все забрали для Плана Хлебосдачи, — а тех, кто пытался хоть колосок с земли подобрать, сажали в тюрьмы, или, того хуже, на месте стреляли. Вот беда. При румынах стреляли, при царе стреляли, при Советах стреляют, причитает Дедушка Второй, и спешит, спешит поскорее на телеграфную станцию. Повторить подвиг Иисуса. Нет, никаких соображений насчет религии у Василия нет в голове, и никаких вариантов Нагорной Проповеди или чего-то типа нее — все это Василий, учившийся при румынах Закон Божьему, знает хорошо, — у него тоже не имеется. Не до того. И распять себя, словно сектант какой, Василий тоже не хочет, потому что поступок Иисуса повторять нужно не формально, а по сути, это он точно знает. Вот и собрался. Дедушка Второй просто-напросто собирается принести себя в жертву ради выживания семьи — он знает, что после того, что сделает на телеграфной станции, лично ему не несдобровать. Телеграмма Сталину! Да-да, Дедушка Второй задумал именно это: он собирается войти на станцию, пригрозить телеграфисту револьвером, купленным у румынского жандарма, связать служащего, и написать телеграмму в Кремль, товарищу Сталину. Поставить в известность. Объяснить, какие ужасные вещи происходят сейчас в Бессарабии, и что люди подыхают с голоду, и им даже хуже, чем мухам, потому что мухи хотя бы дерьмо могут жрать. Страсти Господни. Василий прибавляет шаг, и тревожно озирается, сжимая револьвер в правой руке под рубашкой, где он прячет оружие. Выглядит безруким. Отчасти это правда, ведь левой руки у Василия нет, потому что месяц назад он отрубил ее сам, чтобы накормить троих своих детей. Он такой. У Василия много недостатков и грехов, он сам это знает, и особенно ему удаются два — страсть к выпивке и женщинам, оставшиеся, впрочем, в жизни до голода, — но есть и достоинство, перевешивающее в глазах его жены все эти мелочи. Детолюбив. Именно поэтому Василий, не задумываясь, перевязывает руку туго, и говорит жене рубить, что та и делает, после чего Василий падает, мечется три дня в бреду, но выживает, а рана рубцуется. Не иначе Бог спас. А супа, который сварила жена, детям хватило на несколько дней, так что Василий мог спокойно вздохнуть, и обдумать, что делать дальше. Известить Сталина!
Василий берет револьвер, целует жену и детей, велит им запереться в доме, и обещает вернуться до заката и знает, что если опоздает, то и возвращаться не стоит. Ребятишки живые. Об этом все окрест верстах в двадцати знают, и если в доме не будет мужчины, семью перебьют оголодавшие и обезумевшие мародеры. Я вернусь. Василий говорит это, целует всех, и спешит к станции. Пять верст туда, пять обратно, ерунда, но он страшно голоден, это раз, и он после ампутации, это два, дороги нет, это три, так что поход предстоит значительный. Кругосветное путешествие. Василий идет, невзирая на мучительную боль в боку, идет, озираясь, чтобы не стать жертвой банды людоедов, идет, пошатываясь, и к двум часам дня, — а вышел он на рассвете, добирается до телеграфной станции, — и видит, что убивать телеграфиста ему не придется. Бог миловал его. И не миловал телеграфиста. Тот лежит мертвый, желтый, и Василий безошибочно ставит диагноз — голод, — после чего проходит к столу служащего и садится, разминая пальцы, скрюченные после нескольких часов сжатия револьвера. Наигрывает. Пальцами стучит по столу, словно пианист по клавишам, и музыка звучит в его ушах, музыка освобождения, дошел, думает он, дошел, а потом он вспоминает семью, и начинает торопиться. Выстукивает.
Москва Кремль Товарищу Сталину лично рукиТоварищ Сталин что же это творится в Бессарабии страшный голод как есть такого не было даже при проклятом царизме я сам сын бедных родителей так мы даже в старорежимные времена когда народ задыхался под игом проклятых романовых даже в то время мы и помыслить не могли о таком голоде тчк я к Вам обращаюсь, вы — вождь и заря нашей республики, как же происходит так что мы умираем от голода я вчера отрубил руку чтобы накормить своих троих детей жена моя сварила руку и они съели ее зпт ну пусть не вчера я ради красного словца иначе как бы я дошел до станции с телеграфом за полдня-то нет не протянул бы тчк извините я путаюсь я русский еще не так хорошо знаю я румынский мы при румынах страдали страдали зпт думали при Советской власти вздохнем с облегчением а тут вот как тчк еще когда мы стонали под игом румынской оккупации мы мечтали что придут наши советские войска и освободят тчк вы думаете мы простые крестьяне не понимаем нужды страны конечно понимаем вы не думайте но ведь и нам на жизнь надо что-то оставить иначе что же это получается товарищ Сталин это не Советская власть получается а какая-то диверсия воскл товарищ Сталин вас умоляю что тут было когда были румыны воскл триста тысяч евреев было здесь в Бессарабии некоторые говорят мол евреям лишь бы нажаловаться и не так мол их унижали здесь и не уничтожали но я вам скажу я видел что здесь было зпт товарищ Сталин я видел вагоны с людьми которых живыми еще засыпали хлоркой воскл спасибо Вам и всему русскому народу зпт избавили нас от этого ада зпт я спорю разве я что ж зпт но зачем же устраивать другой ад вы извините я путаюсь уже говорил да вопр докладываю Вам по порядку как есть вы человек военный и серьезный и вы маршал который выиграл великую войну освобождения всех наших народов от фашистко-германского ига а еще румынского хотя за что вы дали орден этому королю Румынии этому подонку Михаю зпт Вам впрочем виднее тчк мы погибаем воскл товарищ Сталин хлебозаготовительный план сделал нас покойниками мы отдаем в десять раз больше того что у нас есть мы умираем наши дети опухшие люди едят друг друга вам врут наверное наши начальники Коваль говорят пирует пока мы едим землю Вы наверняка ничего не знаете и Вас обманывают зпт пользуются тем что у Вас много дел государственной важности тчк я прошу вас обратите внимание на бедственное наше положение дайте хоть немножко хлеба деток же жалко зпт ладно уж мы но деток хотя бы воскл товарищ Сталин я Вам пишу все как есть и даже подписываюсь собой чтобы вы не подумали будто анонимка какая или враги клевещут фамилия моя Грозаву имя Василий зпт крестьяне север Бессарабии то есть простите как есть Молдавской Советской Социалистической Республики зпт при румынах был взят в учение три класса школы и закон божий даже учили вбивали в голову нам рабские заповеди попов не могу сказать что не уважаю Христа но религия опиум для народа это конечно так что же товарищ Сталин над ничего кроме опиума нынче не осталось зпт потому что как есть говорю вам как есть жрем землю и кормим детей человечиной и хорошо хоть сами а бывает что и смертоубийства и насилия и деток крадут разве это по Божьему то есть я хочу сказать по коммунистически разве так можно прошу вас сжальтесь имейте снисхождение защитите нас от сатрапов мы ведь понимаем как есть что страна советов это страна народа который вы ведете к счастью и мы обязательно придем туда верим тчк простите товарищ Сталин должен идти если не вернусь засветло семью могут убить за человечину а сил быстро идти нет и исправлять ошибки и путаность какая-то тоже так вы простите рука-то у меня одна не успею все исправить тчк семья погублена будет а ведь люблю их боюсь за них на детей без слез не глянешь ну слава богу я имею в виду родине и партии хоть живы еще я вас умоляю я вас на коленях как родитель умоляю спасите хоть бы их
Тчк
Те, кто говорят о Грише, говорят о нем по-разному, но говорят о Грише все, и если бы в Бессарабии знали о понятии «звезда», Гриша считался бы самой яркой. Но Голливуд сюда еще не пришел, — он никуда еще не пришел, лежит себе на холмах в безызвестности — так что Гриша довольствуется малым. Всенародная слава. Гриша — легенда Бессарабии, и о нем сложены легенды и мифы. Наверное, не меньше, чем их рассказывали о Зевсе и прочих небожителях Олимпа. Гриша местный. Сам из Бессарабии, сын своей земли, он, как и многие здесь, сын нескольких народов, и порой это взрывает его сознание. Проклятая мультикультурность. Гриша — бессарабский русский. Удалой, как новгородский укушуйник, упрямый, словно рязанец, откровенный по-казачьи, — пусть и смуглый, как молдаванин, — в четырнадцать лет уходит из дома и слава фамилии Котовский летит по холмистому краю тополиным пухом. Метафора. Тополей-то ведь в Бессарабии тогда не было. Да и парков многих, край был безводный, угрюмый, и постылый. Гриша знал. Уж кто, как не он, чует, как здесь уныло, плохо и скучно, и Котовский частенько вспоминал строки Пушкина о Кишиневе. Ха-ха. Проклятый город Кишинев, тебя, постылый, ненавижу, и как там дальше, читал на память Гриша под хохот приятелей по разбою, сплевывавших в костер слюну напополам с вином. Ай да Пушкин. Ай да сукин сын, добавляет четырнадцатилетний Котовский, после чего в глазах темнеет и искры костра вспыхивают в глазах, — это кто-то из собутыльников врезал чересчур резвому парнишке за то, что обозвал поэта, это же Бессарабия. Пушкина уважают. Как блатные будут — Есенина. Даже любят. Несмотря на то, что Кишинев не понравился, невзирая на ссылку, все равно, даже вот памятник в центре города поставили, говорят. Гриша встает. Пошатываясь, садится к костру в лесу, — куда прибился с час назад, когда шел из поместья родителей, — ведь Гриша, вопреки легендам, вовсе не из бедняцкой семьи, и терпеливо объясняет. Это сам Пушкин. Сам себя назвал так, в шутку, а еще восторженно, потому что написал чудесные стихи, и, стало быть… — бродяги слушают его с раскрытыми ртами, им приятно, что человек большой учености прибился к ним, а Григорий звереет. поглядывая на того, кто его ударил. Ночью зарезал. Тихонько, чтобы не разбудить остальных, — уж тогда бы в лесу закопали и его, — а когда все кончено, уходит, и бредет по дорогам Бессарабии, чтобы стать суперзвездой. Спустя каких-то два-три года после побега из дома он — известен. Григорий в зените. Провинциальна, скучающая Бессарабия лишь рада его появлению. Есть о чем посплетничать.
Слыхали ли вы, мадемуазель, как Григорий Котовский, переодевшись полицейским чином, побывал в гостях у одного помещика, отужинал там, прекрасно провел время, — говорят даже, шельма, танцевал, пока дочь на рояле играла, — а под утро усадьбу ограбил. Украл и дочку. Та, говорят, позже уплыла пароходом в Америку, и выступает сейчас на сцене, а перед тем два месяца жила в лесу, — в хижине в лагере разбойников, — и никто до нее даже пальцем не притронулся. Благородный разбойник! Уверяю вас… Продлится это недолго, потому что власти Москвы, раздраженные неуемной энергией этого нашего Робин Гуда, ха-ха, уже озаботились тем, и выслали в Бессарабию лучшего следователя Департамента внутренних дел господина Н-ского… Фамилия изменена. А имя-то у вас, господин следователь, настоящее, и как долго вы пробудете в нашем унылом краю, о котором еще Пушкин писал… Проклятый город Кишинев. Ах, вы уже изучили кое-что о нашем провинциальном городишке, и, кстати, если позволите, в воскресенье в Благородном собрании состоится торжественный ужин, а перед тем скромный бал. Непременно приду. И Гриша Котовский, — пристреливший на тракте Одесса-Кишинев следователя Н-ского, и втеревшийся в высший свет Кишинева под его именем, — приходит на бал в Благородном собрании, и пока он пьет шампань и шепчет дамам комплименты, его молодцы выносят из фойе шубы, выпрягают из экипажей коней, отбирают у припозднившихся драгоценности. Главное впереди. Когда в зале гаснет свет, — а сделано это по дьявольскому приказу неуловимого Григория, — половина собравшихся лишается часов и орденов, но не все. Некоторых щадят. Городского голову Карла Шмидта, человека большого ума, сделавшего немало для того, чтобы Кишинев из презренного еврейского местечка стал городом, жалеют, и все его вещи остаются в сохранности. Благородный разбойник… Это не все! Гриша посылает записку в усадьбу богатого армянина — а они тут с двенадцатого века, еще когда турки выгнали армян из их страны, — в которой просит того предоставить крестьянам близлежащего села материальную помощь в размере…. Помещик отказывает. Ночью на усадьбу совершено нападение, строения горят, помещик выскакивает из дома в исподнем и с вилами наперевес бросается на тени, пляшущие на горящих стенах. Сбрендил. Котовский, — среди крестьян пришедших полюбоваться, как горит мироед, — хохочет, все ему рады, хотя все знают, что Гриша на расправу скор, и это у него с молодости, когда он прирезал лихого человека, ударившего подростка в ночном лесу. Кипящая кровь. Котовский даже видом своим этому соответствует, потому что он широк в плечах, любит спорт и даже написал письмо знаменитому русскому борцу Заикину, предлагая тому приехать в Бессарабию дать уроки французской борьбы ему, Григорию Котовскому; Григорий пишет, поручившись честным словом джентльмена, что с борца даже волос не упадет. Каков нахал. Но это время вежливых мужчин и романтичных женщин, которые фотографируются в профиль с папироской в длинном мундштуке, — время рыцарства, — поэтому Заикин отвечает. Бессарабская сенсация. Сам Заикин, которому рукоплещет Париж, от которого без ума Вена, русский богатырь, две лошади на правом плече и наковальня на левом, снисходит до ответа Котовскому. И какого! Письмо, составленное в безупречно вежливых выражениях, цитируют на светских вечерах Кишинева, им зачитываются незамужние девицы, совершенно растерянные. Кого любить? Прекрасный, атлетически сложенный и добропорядочный силач Заикин, или прекрасный, атлетически сложенный разбойник Котовский? Девичья дилемма. И ведь далеко не все из них, мучаясь этим вопросом, позволяли себе нечто большее, чем просто слегка картинные метания по скомканной девичьей постели. Времена суровые. О вреде онанизма издаются книги, и одну из них пропагандирует сам борец Заикин, который снимается на карточку, которую вставляют в издание, и это редкий по тем временам случай, фотоиллюстрация в книге. Каков силач! Таким ты никогда не станешь, малыш, если предашься блуду, о вредных последствиях которого более подробно сможешь узнать, прочитав под руководством родителей эту замечательный книгу, получить же ее ты сможешь, переведя почтовым платежом… Вернемся к письму.
Многоуважаемый Григорий Котовский, пишет борец Заикин, признаюсь честно, мне было невероятно лестно получить письмо из столь далекого уголка нашей прекрасной Империи, тем более, письмо, из коего я с волнением узнал о распространении популярности французской борьбы даже там. Каков шельма! Многоуважаемый, прекрасной, уголка, невероятно лестно, — и ведь все это пишет сын бурлака и сам бурлак, ведь всему Петербургу известно низкое происхождение силача. И как поднялся! Публике невдомек, что Заикин — выходец из вполне состоятельной семьи мещанки и служащего, и, кажется, это всеобщее проклятие Российской империи, здесь люди из приличной семьи со способностями воспринимаются как нечто обыденное и должное; чтобы прославиться, здесь нужна легенда бедного человека. Что поделать. Соответствовать. Сын купцов Есенин рассказывает в салонах о том, что приехал в Петербург всего на месячишко, подождать, пока лед с реки не сойдет, и можно будет бочки по воде к морю гнать. На дворе май. Публика в восторге, а Есенин довольно хохочет, и петля с батареи отопления «Англетера» еще не маячит у него перед глазами, как вечное напоминание о том, что, может, стоило бы пойти тогда по реке. Так и Заикин. Чтобы создалось нужное, — как говорит его агент-еврей, — «паблисити», борец рассказывает о том, что родился в семье бурлака. Так и пишет. Я родился в семье бурлака, уважаемый поклонник моего таланта Григорий Котовский, — это он лихо ввернул, получается, не только Гриша использовал его имя, но и он Гришу, это все уроки импресарио, — и потому мне хорошо известно, сколько суровы могут быть условия жизни людей… Выражает сочувствие. Ах, если бы он только знал, думает Григорий Котовский, сын обедневшего русского помещика и молдаванки из дворянской семьи, если бы ты, бурлак, знал, к кому обращаешься, как к босяку… Переписка лжецов. Заикин, выражая благодарность и радость, тем не менее, не удерживается от того, чтобы прочитать Григорию целую лекцию на тему морали, призывает бросить разбой и грабеж. Напоминает о вечном. Рано или поздно вы попадетесь, благородный разбойник, пишет борец Заикин последнему разбойнику Котовскому, и тогда вспомните мои предостережения, но не будет ли поздно? Вы умны. Благородны, воспитаны, и все сии благостные свойства своего характера могли бы направить на благо общества края вашего, Бессарабии, а не во вред и вящий позор его. Так одумайтесь. Я предлагаю вам, — в вашему спасению и моему вящему удовольствию, — бросить разбой, покаяться и сдаться властям, сам же буду порукою в том, что суд над вами будет честным и не предвзятым, обязуюсь также собрать по подписке средства на защитника для вас. Лучшего защитника Империи. Понесите наказание. А после того, будучи претерпевшим за свои грехи, приезжайте ко мне в Санкт-Петербург, и я выкрою из своего плотного гастрольного графика год с тем, чтобы посвятить его обучению вас секретным приемам французской борьбы и прививке вам настоящего спортивного характера. Подача принята. Котовский читает письмо Заикина, переданное ему своим человеком из города, а мог бы просто купить газету, которая продублировала это письмо целиком и без купюр. Бессарабская сенсация. Котовский не может сдержать улыбки, читая письмо, и чувствует расположенность к этому усатому русскому великану, чей портрет газета поместила в верхнем левом углу. Статный парень. Широкоплечий Григорий складывает письмо, сует его себе в карман, и смотрит вдаль, на усадьбу очередного помещика. Строения горят. Гриша объявил бессарабским поместьям настоящую войну, потому что бессарабские поместья отказались платить ему дань. Рубикон перейден. Газетное дело в начале 20 века в Бессарабии не столь развито, поэтому слава доброго разбойника будет преследовать Котовского еще год-два, но потом она иссякнет. Репутация погибнет. Постепенно, как и всякий Робин Гуд, заигравшийся в Робин Гуда, Григорий станет пугалом для детей, и общепринятым душегубом. Ему все равно. Но случится это чуть позже, а пока он — благородный разбойник Котовский, которому пишет сам борец Заикин, и переписка между ними продолжатся несколько лет, и все это время Заикин будет увещевать бандита прекратить свои похождения и сдаться властям. Может, и стоило. Знал бы прикуп.
Григорий садится в повозку, поправляет на голове кушму — молдавскую шапку из овечьей шерсти, — и трогает, направляясь в Кишинев. Там его ждет сама Ника Анестиди, дочь богатейшего греческого купца Анестиди, чьи богатства превосходят запасы самого Креза. Так говорят. Сам Анестиди оценивает свое состояние гораздо скромнее, уверяя с хитрой усмешкой, что до сокровищ Креза ему не хватает каких-то ста — ста-двадцати рублей. Шутник. Но не из-за денег жадного старого грека въезжает в Кишинев в 1910 году на подводе Григорий Котовский, — угрюмый и туповатый, словно молдавский крестьянин, привезший в город брынзу на продажу. Прекрасная дочка. Никак Анестиди, скучающая богатая девушка, сама нашла Григория, передала письмо с посыльным, и предложила встретиться, наверняка, чтобы пощекотать свои нервы, утомленные горячим бессарабским ветром. Он здесь сводит с ума. Сводил он с ума и сто лет назад и будет сводить и пятьдесят лет спустя, ровно до тех пор, пока Советская власть не засадит Молдавию лесами и парками, и деревья не поймают сводящий с ума ветер в пожухшие листья, и времена те не так далеко, как может казаться отсюда, из начала 20 века. Уж Григорий застанет.
Котовский картинно чмокает, понукает и проезжает заставу, и часа полтора трясется по боковой — центральную улицу для гужевого транспорта перекрыл мэр Шмидт — улочке, подъезжая к дому Анестиди. Ждет красавица. Оставив повозку напротив дома, как и договорились, Котовский дожидается вечера, лежа под повозкой, — будто переночевать примостился, — а потом лихо перепрыгивает забор. Лезет наверх. Окно, как и договаривались, открыто, и Котовский в нелепом, — как он теперь понимает, — наряде, вваливается прямо в девичью спальню. Григорий Котовский. Он произносит это, сняв шапку и слегка поклонившись, иронично улыбаясь, он так здороваться придумал еще за много лет до Бонда. Джеймса Бонда. Девица трепещет. Но не от страха и не от возбуждения в том смысле, в каком возбуждение было бы приятно для него, ее просто трясет от избытка эмоций, понимает Григорий. Итак, говорит он, милая Анестиди, о чем хотели вы поговорить со мной в эту прекрасную ночь, когда ласковые бессарабские звезды, крупные и теплые, словно капли молока, разбрызганного… Вот фраер. Звезд ведь никаких не видно, набежали тучи, — да и далеки звезды тут, в Бессарабии, от земли, — но Григорий, который, если честно, больше хулиган, чем джентльмен, хочет выглядеть красиво. Как в книжке. Ну той, про Пинкертона и благородных разбойников, которых толкнуло на эту стезю… а дальше можете прочитать письмо борца Заикина. Милое дитя. Не дрожите, не бойтесь, просит он, я не причиню вам никакого вреда, я вижу, вы хотели встретиться со мною, движимая лишь… Григорий забалтывает. Анестиди дрожит. Обычная полоумная девчонка, помешавшаяся на социальной справедливости, — как ее себе представляют полоумные девчонки из богатых еврейских семей Бессарабии, — а греки ведь почти то же самое, что и евреи, думает Григорий. Папенькина дочка. Думает, что достаточно лишь отменить царя и разрешить крестьянам обращаться друг к другу «товарищ», — а еще отменить черту оседлости, — чтобы в мире воцарились равенство, братство и все такое. А миллионы папаши? Григорий, продолжая болтать всякую чепуху в стиле бандитских романов конца девятнадцатого века, садится на краешек постели и оглядывается в поисках графина с водой, потому что у него пересохло в горле. Оборачивается и замирает. В руках девицы пистолет, и она яростно моргает, глядя на него, и говорит, что сейчас убьет его, Григория Котовского, за то, что он постоянно пишет ее отцу письма с требованием денег, и довел старика почти до паранойи. Вы подонок!
Сочная девушка, думает Котовский с неожиданно вдруг напавшим на него оцепенением глядя на грудь Анестиди, прекрасно видную под ночной рубахой. Девушка краснеет.
Да вы крайняя реакционерка и махровая монархистка, с осуждением, — готовясь к долгой теоретической дискуссии, — говорит Григорий фразу, после которой 99 из 100 девиц из богатых бессарабских семей в 1910 году утопились бы от позора. Ну, ушли бы с ним в лес. Я просто любящая дочь своего отца, отвечает стерва, и Григорий ждет, что она разразится длинным монологом, в ходе которого ее оружие можно будет вырвать. Но нет. Девица Анестиди просто стреляет и Григорий, — не долетев до нее в прыжке, — падает, а на грохот прибегают слуги, и опозоренного Котовского обвиняют не только в попытке грабежа, что было бы еще полбеды, но еще и изнасилования, что губит его репутацию. Напрочь губит.
Судебный процесс над Григорием Котовским становится развлечением всей губернии на время зимы 1911–1912 годов, билеты на заседания раскупаются у спекулянтов по 20–30 рублей за места на галерке и по сто-двести за право быть в передних рядах. Суммы огромные! Григорий в кишиневской тюрьме, не без гордости вспоминает представления итальянского цирка, состоявшиеся в Бессарабии в 1907 году, — циркачи собирали неполные залы при цене билетов от 5 до 20 рублей, — и, стало быть, он куда популярнее марширующих слонов, дрессированных мартышек, удава-престидижитатора и бородатой женщины. Немалая слава. Молва о Котовском, как мы уже говорили, исходит от людей двух сортов. Первые уверены, что Григорий это святой, — социалист в лучшем смысле этого слова, — человек, который отбирал у богатых чтобы дать бедным. Отец бедняков. Вторые указывают на то, что редко когда десятая часть отобранного у помещиков шла крестьянам и нуждающимся, остальное же Григорий тратил в увеселительных заведениях Одессы и Кишинева, где проводил время под чужими именем и фамилией. Сын зла! Никому и в голову не приходит, что Григорий — просто святой и социалист в лучшем смысле этого слова, который тратит одну десятую отобранного на бедных, а остальное на свое времяпровождение. Сын зла и добра. Все смешалось во мне, думает Григорий, забавляясь гимнастическими упражнениями на решетках камеры под внимательным взглядом конвоира при оружии с боевыми патронами. Убьют без предупреждения. Персоналу тюрьмы даны строгие инструкции насчет легендарного разбойника, они контролируют каждую минуту, каждый вдох его и выдох, они даже в задницу ему, — о чем он с возмущением поведал адвокату, — заглядывают. Ничего святого! Адвокат краснеет и с возмущением позже требует от администрации тюрьмы прекратить издевательства над Котовским, что администрация со стыдом и выполняет. 1911 год. Конвоир, с тревогой заглядывающий в толчок, на котором сидит арестант, еще считается в Бессарабии признаком особой, утонченной жестокости. Наивный век.
Здравствуйте, несчастный разбойник Котовский, здравствуйте, — с грустью, что явно видно по стилю корреспонденции, — пишет Григорию сам легендарный борец Заикин; как радостно мне приветствовать вас в очередном своем послании, и как горько. В неволе! Насколько знаю я, наказание, грозящее вам, будет весьма суровым, ведь вы взяли на свою душу грех погибели людей, и среди них — мой давний знакомый, следователь Н-ский, при чутким и дружественным сопровождении которого не раз мы с известным московским журналистом Гиляровским знакомились с жизнью городского дна. Смертная казнь. Могу лишь сожалеть, что не вняли вы моему страстному призыву оставить разбойничьи занятия и посвятить свою жизнь спорту и раскаянию, понеся заслуженное наказание, бывшее бы не столь суровым при вашей добровольной явке в полицию. Покайся, скидка будет. Как бы не так, думает Котовский, вышагивая в камере взад и вперед, — три вдоха, пять выдохов, — как бы не так, думает он, ведь после убийства полицейского чиновника, для полиции он стал человеком вне закона. Полиция такова. Везде они одинаковы, будь то стражник в древнегреческом полисе, вспомнил уроки греческого Котовский, или туповатый городовой, что торчит посреди главной улицы Кишинева, Александровского проспекта. Кстати, о греках. Что там поделывает наша девица Анестиди, думает Котовский, потирая плечо, рана в котором еще побаливает, потому что выписали из больницы Григория совсем недавно, впрочем, и в больнице на окнах были решетки, а у двери часовой, но сил сбежать Григорию не хватило. Рана обессилила. Но что теперь сожалеть об этом, машет рукой Григорий, и, подтянувшись на решетках, глядит на монастырь аккурат напротив городской тюрьмы. Колокола звенят. Видно, какой-то праздник, думает Котовский, никогда не бывший религиозным, и спрыгивает на пол, после чего снова возобновляет свою прогулку, целью которой стоит произвести три тысячи пятьсот шагов, но не пройдя и полутора тысяч, он слышит приказ. Ни с места.
Дела Котовского плохи, он это знает, ему светит виселица, и, похоже, никаких способов уйти от нее на сей раз у него, — три раза бежавшего из-под ареста, — нет, и придется таки поболтаться в петле. Умирать страшно. Признавшись себе в этом, Котовский распрямляет плечи, — это его постоянная привычка, — и, отчеканив по камере последние три шага, чтоб не подумали, будто ему приказы какого-то надзирателя указ, останавливается. За спиной шорох.
Котовский оборачивается, и видит, как в камеру входит дама с вуалью, и, судя по угодливому лицу надзирателя, визит этот явно неофициальный, проще говоря, за деньги. Продажная Бессарабия. Здесь всегда и все можно купить, думает Котовский и вспоминает многочисленные доказательства этого как из собственной практики, так и из истории, кажется, еще Назон за взятку избавил себя здесь от кандалов, или то был кто-то из жертв Диоклетиана?
Надзиратель, понимающе кивнув, скрывается за дверью, и Котовский, подойдя поближе, откидывает вуаль с лица, ожидая увидеть там, — да-да, — девицу Анестиди. Как бы не так. Это всего лишь один из его сообщников, который принес ему напильник, револьвер и папиросы, причем зачем папиросы — не очень понятно. Григорий ведь, в полном соответствии с рекомендациями своего корреспондента, — борца Заикина, — не курит. Для форсу. Ну, что же, говорит Котовский, и глядит пристально в глаза сообщнику… Видит, что этот налетчик, «шестерка» и мужеложец Ванька Скрипка, — известный всем биндюжникам Бессарабии поистине цыганской страстью к воровству лошадей, и бабской — к сплетням, а еще тем, что обожает одеваться в женское платье не только по таким вот торжественным поводам, но и без особой на то надобности, — уже предал. Запах измены. Никаких доказательств этого у Григория нет, но он явно чувствует, и подозрения его становятся уверенностью, когда Ванька настойчиво, раза три, повторяет, что ему, Котовскому, необходимо бежать этой ночью, именно этой ночью. Пристрелят при бегстве. Котовский улыбается, кивает, и пережимает несчастному гомосексуалисту артерии на шее и рот, чтоб не кричал, и думает, — пока бьющийся в его руках фраер затихает, — что потеря невелика. Мусор в печь. Придет Иисус и вилы у него будут в руке, и веялка в другой руке, и соберет он зерно и отделит его от плевел, и бросит мякину с пламень неугасимый, вспоминает Григорий торжественные слова Евангелия, которое вбивал в него знакомый священник родителей. Мякина и сгорел. Обмякла, и даже пустила струйку, — хорошо хоть, не видную под женским платьем, — так что Котовский аккуратно кладет под тело скатанное одеяло, прикрывает лицо мертвого жулика вуалью, и как раз минуту спустя стучит надзиратель. Дама прикорнула. Уславливаются с надзирателем, что тот поведет его на допрос, а дамочка останется в камере вроде как заложником того, что все будет хорошо и он, Котовский, по дороге не сбежит. Гриша джентльмен. Может, и был бы им, будь дама дамой, да еще и живой, думает Котовский, вышедший из камеры с не зажженной папироской в зубах, и сложивший руки кандалах за спиной. Двигаемся. Вышли по узкому коридору тюрьмы на лестницу, оттуда на первый этаж, оттуда — во двор, где ждал экипаж, и уже в нем Котовский, сидя меж двух конвоиров, разминает затекшие руки, но кандалы все равно не сняты, и не будут. Высочайший приказ.
Экипаж останавливается у городского суда, Котовскому помогают сойти, и он видит толпу зевак у суда, — кивает им коротко под восхищенный шепот, — и идет между конвоирами. Не спешит. Сразу за порогом останавливается, чтобы вытереть лицо, взмокшее от напряжения, и под колючими взглядами конвоиров, поднимается наверх. В пролете останавливаются. Этой ночью сможешь выйти из камеры с часу до двух, свяжешь надзирателя, и по лестнице, которая будет у стены, спустишься вниз, а там будут ждать, — шепчет, не размыкая почти губ, полицейский. Точно ловушка. Котовский кивает слегка, конвоиры успокаиваются, и тут Григорий проделывает весьма ловкое упражнение, которому бы и сам борец Заикин позавидовал. Чудеса гимнастики! Оперевшись локтями на перила лестницы, — весьма массивной, так как кованого чугуна, — заключенный сильным толчком ног перебрасывает себя вниз, и падает. С третьего этажа. Но умудряется упасть на ноги, и перекатиться вбок, — что поспособствовало промаху конвоя, немедля приступившего к выполнению инструкции, осуществляемой при бегстве заключенного из-под стражи. Стрелять начали. Но Гриша упал на ноги, сразу их подогнул, — доживи он до эпохи парашютов, такое умение приземляться непременно пригодилось бы, — перекатился вбок, тем самым счастливо миновав пулю-другую, и бросился к дверям. Возникла давка. Но Котовского там уже не было, потому что он, — с размаху ударив по голове возницу кандалами, — хватает в руки вожжи и дает полный ход, оставив позади себя растерянный, в полном составе, кишиневский городской суд и следственный отдел. Улицы мелькают. Котовский смеется от души, ловко управляя экипажем и у попадающиеся ему навстречу прохожие не сомневаются, кого они видят. Легенда творит легенду. Слухи о побеге Котовского из кишиневской тюрьмы начинают расползаться по городу с первого же момента побега Котовского из кишиневской тюрьмы. Люди перешептываются.
Само собой, в городе немедленно поднята тревога, и заставы перекрывают, но это не имеет никакого смысла, абсолютно никакого… Причин три. Григория очень любят низы, это раз, тревога поднята позже, чем экипаж и возница могли бы покинуть пределы города, — весьма небольшого по размерам, это два, — Котовский никуда из города не уезжал, это три. Наглецам везет. В кузне у молчаливого еврея Григорий снял кандалы — это был их бизнес, ковать железо и расковывать его, налагать путы и снимать их, — надел на голову кушму, сменял лошадей на других, и с новой повозкой отправился к дому миллионера Анестиди. Лег спать под повозку.
Ночью, едва фонари потушили, Котовский встал, перелез тихонько через забор, прилип к стене, и по ней, — демонстрируя низкому бессарабскому небу отличную гимнастическую выправку- полез вверх. Знает, что делает. И речь вовсе не о том, что Григорий знает, что делать, вползая на стену дома благодаря ловкости и крепости мышц. Он о девице. Григорий немногому научился за время своих странствий по Бессарабии с тех пор, как сбежал из родительского поместья, но тому, чему научился, уж научился, так научился. Вбил накрепко. Узнал, что если все в жизни доводить до конца, то будет легко и правильно. Не недоделывал. Все до конца нужно договаривать, доделывать, додумывать, ну и так далее, знал Григорий, взобравшийся к окну в спальню девицы Анестиди. Девица спала. Ничего, придется мне вас потревожить, сказал Григорий, — ввалившись из окна в комнату, и в броске зажавший девице подушкой рот, — случайно обнажив девице плечо. Глянул в вырез. Покраснел смущенно, что, впрочем, не было особенно заметно благодаря прирожденной — наследственной от матери-молдаванки — смуглости, и насильно уложил девушку в кровать. Прижал плечи. Вы ужасно некрасиво со мной поступили, прошептал он, это было подло и бесчестно с вашей стороны, и ужасает меня даже не столь коварство, коим заманили вы в ловушку свою жертву. А что же? Коварство, с которым вы разрушили мою репутацию, создав у всех впечатление, будто бы я, Григорий Котовский, покусился на вас, презрев все законы благородства… Обвинила в насилии! Девица смотрит на него с ненавистью, и двадцатидвухлетний Котовский понимает, что это редкий экземпляр. Умная восемнадцатилетняя. Но ему с ней не детей крестить, и в Котовском просыпается злость, потому что еще утром он был в положении смертника, и, не окажи ему услугу его невероятное чутье, ночевал бы он в камере до самого висельного утра. Подлая дрянь. Сказав это, Котовский глядит на Анестиди-младшую, и его снова — второй раз за день, получается, — озаряет, он понимает, что ей не страшно. Думает, обойдется. Попугает, почитает нотации о том, как плохо и недопустимо поступила, а потом вылезет обратно в окно, потому что роль благородного разбойника обязывает. Так что ли? В этот момент Котовский неожиданно ясно понимает природу настоящего богатства, которое получаешь не по наследству, а сам, — и девица Анестиди, как и ее папаша, предстают перед ним в истинном свете. Безжалостные хищники.
Для Котовского, привыкшего к изнеженным богачам Российской империи за час до ее катастрофы, всегда рефлексирующим и слезливым, — прошу вас, оставьте свои капиталы под большим дубом посреди поля, да, конечно, вот они, в конверте, надушенные и с розовой лентой, не хотите ли кстати поужинать в усадьбе, а, да, — это неприятная неожиданность. Сделка с Дьяволом. Вот что такое богатство, — если оно настоящее, конечно, — понимает Котовский, пока девица глядит на него спокойно, в ожидании ухода. Ну уж нет. Зло срывает с нее рубашку, — затыкает рот понадежнее да покрепче, — и впервые в жизни насилует женщину, ведь что они его очень любят, и спят с ним всегда в охотку, но эта не хочет, нет, и он ее насилует. С первой минуты и до последней, — потому что все время, что длится акт, Анестиди глядит на него с ненавистью. Но не только. Котовский думает довольно, покидая город, что было в ее взгляде и нечто вроде удивления, — оказалось, он человек иной, нежели она ожидала, породы, — наверное, так удивленно глядел на нее Котовский, когда она в него стреляла. Теперь квиты. Оставив девицу рыдающей, все таки насилие это всегда боль и унижение, Котовский уходит, сказав напоследок: вы сами не оставили мне выбора, запятнав мою репутацию пятном подозрения в насилии, так почему бы мне было и не осуществить его? Проклятый фраер. И это самое мягкое, что он услышал, потому что девица разражается площадной бранью, но подуставшему Котовскому, изрядно с утра потрудившемуся, уже наплевать. Прыгает в окно. Девица начинает визжать, рыдает еще громче, и дом, наконец, просыпается, и шумит в суматохе, пока Котовский покидает город, чтобы попасть в провинциальную Бессарабию, где он царь и Бог. Милая родина. В Бессарабии ему знаком каждый камень, — знаком в буквальном смысле, — о двенадцатилетний Гриша несколько месяцев помогал дальнему родственнику-картографу, изъездил с ним край, а уж когда подрос, так изъездил еще много раз. Полюбил в чем-то.
С этого дня Котовский исключен из пантеона героем гимназистов и учащихся реальных училищ, а также незамужних девиц. Репутация погибла. Он остается лишь героем голытьбы, для которой залезть на девчонку погорячее без особого на то с ее стороны соизволения вовсе не предосудительный поступок, а деяние, достойное пусть не «Илиады», но уж точно одобрения. Соки бродят. С тех пор как из лозы закапало, ее можно пускать в дело — как из девчонки потекло, так и залазь на нее, спасибо скажет. Котовский ухарь. Акции его в низах ползут вверх, он защитник обездоленных и угнетенных, а для средних и высших слоев общества он перестает существовать, ну, и прибивается туда, куда его влечет сама жизнь. От романтизма к марксизму. Правда, необратимость любого действия и страсть идти до конца во всем приводят его к логическому, казалось бы, концу, и он становится обычным мельчающим душегубом, каких на дорогах Империи все больше. Обычная деградация. Так десятилетия спустя блестящие атаманы Белого Дона, начинавшие с развернутых хоругвей и многотысячных армий, закончат схронами в плавнях, бандами в два-три человека, и грабежом сельских магазинов. Будущее Котовского. Ватаги его редеют, всенародная поддержка — иссякала, в общем, все идет к тому, что Котовского или убьют, или поймают, ну, то есть все равно убьют. Григорий знает об общественных настроениях, и, как настоящая «звезда», ужасно переживает по этому поводу, и думает уйти куда-нибудь в Турцию, где, по слухам, нет твердой власти. Переждать позор.
Все знают, что некогда благородный разбойник, чье имя было достойным упоминания в романтических романах, вычеркнул себя из истории чем-то страшным. Взрослые знают. Юношество догадывается и перешептывается, а девицу Анестиди никто после происшествия не видел более полутора лет, пока она не вернулась из какого-то имения отца посвежевшей и расцветшей. Время лечит.
Некоторое время спустя она вышла замуж, родила сына, которого не увидел муж, покинувший семью сразу же после брачной ночи — пошли было слухи, но тут произошла Революция, и появился повод посудачить куда более интересный, — и погибший в последний год Первой мировой войны. Сын ненадолго пережил отца, и погиб в первый год Второй мировой войны, когда ему исполнилось всего четырнадцать, ударило осколком в затылок. Не повезло. Бывшая купчиха Анестиди после этого тронулась головой и ходила по Кишиневу с фотографией мальчишки, расспрашивая горожан, не видали ли они того. Как же не видали. В гробу видали. Но в глаза матери, потерявшей рассудок, об этом не говорили, вежливо отнекивались, а за спиной посмеивались, молдаване народ жестокосердный.
Мальчик, где же мой мальчик, пела старуха Анестиди, разгуливая по Кишиневу, совершенно разбомбленному отходящими Советскими войсками в 1941 году, пока мертвое лицо ее мертвого мальчика, вытряхнутого из неглубокой могилы, присыпало землей после каждого взрыва. Кладбище перепахало. Анестиди, как и все, кому в жизни не очень везет, задержалась на Земле достаточно долго, и еще в 1949 году работала в похоронной команде, собиравшей трупы умерших от голода на железнодорожном вокзале Кишинева. Работала на славу. Мертвых не боялась, голодных детей не жалела и может поэтому, они относились к ней без опаски, и позволяли усадить себя на тележку, которую, — когда та наполнялась, — Анестиди везла в детский дом. Там выживших мыли, и кормили зерном и рыбьим жиром, который, — слава Богу и товарищу Косыгину, — завезли в Молдавию в больших количествах, чтобы остановить голод, и действительно за несколько месяцев смогли это сделать. Голод ушел. Одной из тех, кого подобрала старуха Анестиди, была Мама Первая.
Отчаянно заревевшая — это было слышно от силы на метр-полтора — девчонка, сидевшая на краю большой лужи рядом с мертвым отцом, привлекла внимание старухи, и та подтолкнула малышку к тележку. Девочка не шла. Видимо, сил не осталась, поняла Анестиди, которая и сама-то была второй день не евши, поэтому собиралась пройти мимо девочки, но что-то ее остановило. Что? Старуха Анестиди так и не ответила себе на этот вопрос, да и не задавала его себе ни разу никогда позже. Случайно остановилась. Выбиваясь из сил, затолкала девчонку на тележку, где лежали и сидели еще пять таких же — в общей сложности, килограммов пятнадцать, — целый грузовой вагон для ослабшей от голода женщины. Анестиди тронулась.
Мальчик лет пяти, который смотрел на тетеньку с надеждой, но которому не повезло, потому что тележку с ним она бы не утолкала, — и потому он оставался умирать, под пустыми взглядами милиционеров из оцепления, — смотрел на уходящих счастливчиков без злобы, смирения, или зависти. Пустой взгляд. Покачался немного, потом хлопнулся лицом в лужу, подергал ногами, и умер, отчего у одного из милиционеров сердце будто надорвалось, так что он отошел в сторону, держась за грудь. Заплакал. Остальные внимания не обращали, обычная голодная истерика, а милиционер потянулся к оружию, и решил, что сейчас скажет — люди, товарищи, что же это делается, за это ли погибали наши отцы, когда устанавливали власть Советов, за это ли погибали наши герои?! Григорий Котовский?! Товарищ Лазо?! Но загудел паровоз и это значило, что прибыли еще голодающие, и что нужно будет не пустить и их, иначе вымрет и Кишинев, и милиционер, думая о еще одном мальчике, который остался дома, вытер слезы. Вернулся в цепь.
Глядя на бессарабского дворянина Кантакузина, что в бешенстве мечется на пустыре за мельницей, которую дуэлянты присмотрели как прекрасный ориентир, Пушкин смеется. Эка невидаль. Припозднился, с кем не бывает, тем более, он, Пушкин, здесь не баклуши бьет и не просто нервы поправляет, пошатнувшиеся в результате невероятных сантк-петербургских сплетен о том, что его, дескать, выпороли по тайному приказу царя. Чертов поклеп. Из-за него у Пушкина случается что-то вроде нервного приступа, поэт кружится по своему дому, словно бешеная собака, укусившая сама себя, или вот этот самый дворянин Кантакузин, приревновавший любовницу к нему, Александру Пушкину. Поэт улыбается. Признаться честно, ревновать было к чему, — дама вполне благосклонно отнеслась к его ухаживаниям, — и улыбки ее были полны не вполне пристойного смысла, о котором бедолага Кантакузин мог лишь догадываться. Могла ли она устоять?! Слава Пушкина уже неслась впереди него, когда он только собирался в эту свою поездку в Бессарабию, — вроде бы, сосланный, а на самом деле отправленный сюда специальным поручительством, — как глаза и уши государя императора. Заодно отдохнуть. Пушкин склоняет голову чуть влево, что означает у него здесь глубочайшую задумчивость, — а на самом деле предоставляет возможность восторженным бессарабцам полюбоваться лишний раз задумчивым профилем поэта. Сплевывает косточку. Это вишни, их у Пушкина целая фуражка, и об этой самой фуражке биографы напишут потом не одну главу в своих исследованиях. Вынюхают все. Размер вишен, насколько они были сладки, чем пахли, мыл ли их поэт перед тем, как набрать и откуда набрал, и сам ли он это сделал, а может, поручил слуге набрать фуражку и, говорят, это была даже не фуражка, а картуз. Знаменитая фуражка! Да и вишни знаменитые, а Пушкин знай себе, берет одну за другой, да сплевывает косточки прямо на землю, — на пустырь за мельницей, к которой прибыл экипаж Кантакузина, — и спустя час лишь его, Пушкина, экипаж, что привело бессарабского дворянина в бешенство. Ничего, подождет. Пушкин съедает еще парочку вишен, и сплевывает несколько косточек разом, а потом, оглядевшись, направляется в сторону противника, который берет себя в руки, завидев санкт-петербургского гостя. Секунданты обмениваются. Пушкин и Кантакузин глядят друг на друга, — один с бешенством и ненавистью, другой с легкой, чересчур легкомысленной улыбкой. Когда становишься устами Бога, так трудно поверить в то, что они когда-либо умолкнут. Я бессмертен. Пушкин даже не думает, а ощущает эти слова, и теплая волна благодарности накрывает его с головой, — и он остро ощущает свое бытие, чувствует, как кровь струится по венам, как бьется сердце, как теплый и совсем не раздражающий к вечеру бессарабский ветер поглаживает лицо. Я есть. Улыбаясь, Пушкин выслушивает секундантов, кивает, и, — попросив вдруг соперника обождать секунду, — возвращается к экипажу, и потом лишь идет к барьеру, и все видят, что у него в руках что-то, кроме пистолета, есть. Фуражка вишен.
В этот момент молодому дворянину Кантакузину, представителю боковй ветви захудалого по меркам Империи, — и невероятно могущественного по меркам Бессарабии, — княжеского рода, становится смешно. Улыбается. Это не останавливает его в момент подачи сигнала секундантами, они вскинули вверх руки, и это значит, что дуэль началась. Оружие поднято. Пушкин ведет руку с пистолетом вверх и чуть в сторону, все еще держа в левой руке вишни, потом вдруг, на что-то решившись, опускает пистолет, и берет еще пару вишен. Сок капает. Выглядит это очень эффектно, признает Кантакузин, и думает вдруг о том, что богатая и красивая дама Анестиди, хоть она и богатая и красивая дама, но все же никогда не будет его женой, а раз так, то стоило ли все это сегодняшнего вечера? Пушкин ждет. Почему он предоставляет мне право первого выстрела, думает Кантакузин, целясь тщательнее, уж не сомневается ли в моих способностях стрелка, что можно считать еще одним оскорблением? Ноздри дернулись. Палец лег на курок, и Кантакузин приготовился стрелять, хотя у Пушкина и в мыслях не было оскорбить соперника повторно, — да и в первый раз он его не оскорблял, подумаешь, дама оказалась к нему благосклонней, — он просто решил убедиться в том, что судьба его выбрала. Хранят ангелы. Поэт спокойно ест поэтому вишни, сплевывая их на землю, под восхищенными взглядами секундантов, и подозрительным — Кантакузина, который, наконец, решается. Выстрел гремит. Головы присутствующих словно дергаются, за доли секунды обернувшись от пистолета бессарабского дворянина к русскому поэту, который, ко всеобщему облегчению, не падает, а продолжает меланхолично есть вишни. Живой. Облегчение от промаха испытывает даже сам Кантакузин, он в глубине души страшится получить печальную славу убийцы первого поэта России, которым Пушкин уже стал. Ваш ход.
Пушкин глядит на происходящее словно с недоумением, хотя он просто думает о чем-то далеком-далеком, — и это вовсе не обиды дворянина Кантакузина, — вынимает из картуза последнюю вишню, сдавливает ее слегка и отправляет в рот, капнув соком на рубашку, потому что верхнюю одежду дуэлянты сняли. Бессарабское лето. Потом, отряхнув символически ладони, берет пистолет, брошенный оземь, рассматривает его тщательно, направляет в сторону соперника, но значительно выше его, и стреляет, не глядя. Секунданты аплодируют. Все обошлось как нельзя кстати и очень красиво, решают они, — поэтому жмут друг другу руки, а не продолжают дуэль уже между собой, — их примеру следуют Пушкин и Кантакузин, и все, смешавшись в одну компанию, отправляются к цыганам. Кутят напропалую. Кантакузин уже через какой-то час забывает о той самой вдове Анестиди, из-за которой и произошла глупая размолвка, едка не окончившаяся трагедией, а Пушкин оставляет веселье, и под утро отправляется к гречанке, и овладевает ей по доброй воле. С Божьей помощью. И ее, и Анну Керн, и еще несколько весьма соблазнительных, но чересчур смуглых на взгляд эфиопа, молдаванских красавиц, и жену, и всех своих любимых женщин, и саму смерть, когда та пришла к нему у Черной реки, вышла из-за левого плеча, и, наконец, отдала себя всю, и как. Ай да смерть.
Полдня провалявшись в кровати богатой вдовы Анестиди, — которая, между прочим, не из простых торговцев, а из тех греков, которые за деньги покупали у турецких султанов право воеводствовать в Бессарабии, — Пушкин глядит на ее смуглое полное тело. Потомственная фанариотка. Вас снова овеял зефир поэтических странствий, мой друг, спрашивает идиотка его, когда он, — наспех ополоснувшись, — накидывает на себя рубаху и требует экипаж, чтобы ехать в Одессу. Мне скучно. Мне просто скучно после того, как я натешу беса с тобой, глупая торговочка, хочется сказать Пушкину, но он галантен, да и история о вишнях, которые сплевывал поэт, глядя в дуло, из которого к нему летела смерть, уже гуляет по Кишиневу. Жаль уезжать. Не будь здесь вдовы Анестиди, Пушкин бы непременно остался, ведь этот глинобитный домик для отдыха, — стилизованный под крестьянское шале, которого никогда в мире не было. Потому что нет в мире крестьянских шале, где весьма уютно. Прохладно в жару. В Бессарабии, изнывающей от зноя вот уже несколько столетий, и будущей изнывать от него еще полтораста лет после Пушкина, до появления сумасшедших Советов, вырывших в каждом районе города по огромному озеру, это весьма важно. Молока холодного! Пушкин кричит это, и слуга вносит кувшин, глядя в сторону, а не на кровать, и Пушкин пьет, и молоко течет по уголку его рта прямо на рубаху, отчего вдова хочет велеть подать ему новую рубаху, но поэт просит ее не беспокоиться, и с тревогой думает о том, что ему уже снова хочется женского тела. Пора уезжать. Бросив в рот горсть вишен, хоть Анестиди постоянно напоминает ему о том, что мешать молоко с вишнями в этом краю вечной холеры не след, Пушкин целует ее, прощается, и покидает Кишинев. Он посланник. Разъезжает по краю, то в Одессу, то в Кишинев, то в Измаил, а то и в Херсон, и на все это глядят глаза не его, но глаза императора. Личный посланник. Позже Пушкин расскажет об этой поездке Гоголю, распишет в подробностях нравы провинциального общества Бессарабии, не указав конкретного места, и хохол сочинит свой «Ревизор», который произведет при первой читке в посольстве России в Италии удручающее впечатление на публику. Станут расходиться. Уж он бы, сам Пушкин, написал бы эту историю как следует, но ему недосуг, да и жизнерадостность покинула его, потому что именно в Бессарабии умирает Пушкин-романтик, тот Пушкин, которого знал в начале его жизнерадостного творчества блестящий Петербург. Пушкин романтизма. Вот кто пропал в Бессарабии, чтобы вернуться оттуда Пушкиным-реалистом, Пушкиным задумавшимся о вещах важных и вечных, и Пушкиным, написавшим «Капитанскую дочку», произведение скучное, и одобрения у публики не встретившее. Бессарабия отрезвила. Может, это ухабы на ее дорогах, или сами дороги, ползущие то вверх, то вниз, из-за этих проклятых холмов, может, это ее лихорадка и зной, может… Кто знает. Даже сам Пушкин не знает. Пока ему еще кажется, что мир удивительно легок, удивительно ярок, — и, как и всякий великий творец, не осознавший свое величие, — Пушкин еще поет, словно птица, а день, когда он все поймет и прохрипит: «Тяжкую ношу взвалил ты на меня, Отец», далек. Не виден.
Пушкин едет в Одессу, где проводит несколько прекрасных дней с дамой не менее пышной, чем кишиневская гречанка Анестиди, а оттуда возвращается в Кишинев, сопровождаемый в дороге невероятными слухами и легендами. Всё вишни! Говорят, что Пушкин, — по пути на дуэль, — остановился, привлеченный деревом, осыпанном плодами, и велел слуге нарвать их в фуражку, сам же написал балладу о благородных разбойниках. Опоздал. В знак оправдания предъявил сопернику вишни, и зачитал несколько строф баллады, после чего сердце вспыльчивого Кантакузина смягчилось, и мир был заключен. Такая история. Говорят, Кантакузин промахнулся, потому что у него дрогнула рука, не смевшая стрелять в великого поэта земли русской, и что для Пушкина, стрелка великолепного, убить бессарабца было делом минутным. Говорят, плюнул. Прямо таки плюнул косточку на землю, бросил пистолет, и угостил вишнями своего соперника, а стрелять в того не стал, раскрыв объятия и попросив о примирении. Слухи забавляют. В это же время приходить письмо с посыльным из Санкт-Петербурга, где император благодарит за службу, и просит возвращаться в столицу по истечении полугода, но обязательно с заездом в Киев для осуществления там деликатного поручения. Пушкин оживляется. Как школьник в ожидании неминуемых каникул, оказавшихся в непосредственной близости — еще вот-вот, еще чуть-чуть, — начинает шалить, и куролесить, в упоении собственной неуязвимостью, которая сейчас кажется ему вечной. Дерзит напропалую. Начинает вести себя вызывающе и в течение двух месяцев, — по сообщению городского жандармского управления Кишинева, — получает тринадцать вызовов на дуэль, а сам отправляет восемнадцать, и общее число поединков превышает тридцать. Состоялась половина. На каждую дуэль Пушкин, вздернув нос, приезжает с фуражкой, полной фруктов по сезону: вишен, черешен, абрикосов, персиков, винограда. Небрежно ест. Чавкает прямо под прицелом и сплевывает косточки, улыбаясь, и, — почему-то, — у всех пятнадцати соперников что-то происходит с нервами, руками, глазомером, прицелом. Промахиваются все. Пушкин стреляет всегда высоко вверх, — демонстративно мимо, — после чего следует примирение и кутеж у цыган, к которым поэт уже присматривается, в надежде понять, к чему подталкивает его муза. Анестиди забыта. Вдова обрюхачена, о чем Пушкин не знает, но догадывается, а так как дама тактично не сообщает ему об этом и отношения охладевают, да и ничем особенным закончиться не должны были, поэт чувствует признательность за необременительную интригу. Благодарит, прощаясь. Анестиди, решившая оставить ребенка, да и вообще весьма благодарная за то, что зачала, — с покойным мужем сделать ну никак не могла, — тоже прощается с улыбкой, признательностью, и без обиды. Не ешьте сырых вишен. Что, спрашивает Пушкин, — уже выходящий из дома в день своего последнего визита, — что вы сказали, моя дорогая? Сырые вишни. Не ешьте их, многозначительно говорит Анестиди, улыбаясь, и повернувшись к нему декольте, которое сейчас, на первых месяцах беременности, чудо как хорошо, и Пушин передумывает уходить прямо сейчас, чему вдова, конечно, рада, — ей нравится, что в нее разбрызгивает семя знаменитый поэт и горячий мужчина. Косточки и дети.
Пушкин оставил в Бессарабии более двадцати садов, — это только те, которые установлены документально, потому что связь происхождения остальных тридцати фруктовых рощ под Кишиневом с поэтом не очевидна. Двадцать доказаны. Места дуэлей, на которых Пушкин ел фрукты из фуражки (картуза? споры идут до сих пор, доходит до дуэлей, правда, без вишен, которые бы сочли еще большим вызовом, чем неверная оценка головного убора поэта в тот день) отмечены на республиканских картах и в туристических маршрутах. Ел и сплевывал. Из этих косточек, попавших в изобильную жирную землю, — которую один украинец Гоголь по ошибке спутал с украинской, и которую другой украинец Хрущев прирезал к Украине, лишив Бессарабию Буковины, — и выросли эти двадцать фруктовых садов. Три — подделка. Ну или реконструкция, если правильно говорить, потому что деревья были вырублены во время румынской оккупации, но Советская власть, очень уважавшая Пушкина, их потом восстановила. Сады Пушкина.
Еще Пушкин оставил в Бессарабии около пятнадцати детей, и это то, что подтвердить документально со стопроцентной точностью ну никак не возможно. Мы предполагаем. В ситуации, когда нам известно, что поэт Икс ночевал у дамы Игрек несколько раз, и они были близки, а по истечении девяти месяцев Дама Игрек родила малыша Зет, вероятность отцовства Икса в отношении Зета более чем велика. Огромна просто. Стало быть, огромная вероятность отцовства Пушкина в отношении пятнадцати детей в нас сомнений не вызывает, но выжил из них мало кто. Дикая смертность. Каменный век, Бессарабия, чего вы хотите, до совершеннолетия дожили только трое, один из которых был в преклонном возрасте убит во время кишиневского погрома 1903 года. Приняли за жида. Волосы отчаянно кучерявились, и для внебрачного потомка поэта это всегда было поводом для гордости, хотя в самый 1903 год он об этой своей кучерявости ужасно жалел. Пристрелили жидка. Еще один мальчик жил с цыганами, родился у цыганки, был цыганом, и для нас никакого интереса не представляет, потому что конокрадов, кузнецов и немытых в мире великое множество, тем более, табор его ушел в Австро-Венгрию в 1867 году. Следы теряются.
Третьим выжившим потомком Пушкина становится сын вдовы Анестиди, купец Анестиди, родивший дочку Анестиди, едва не пристрелившую Григория Котовского, который позже за это изнасиловал ее, отчего девушка родила спустя девять месяцев маленького, — как положено младенцам, и горластого, как им, опять же, положено, — сына. Дедушку Второго.
Оставив жену у костра, держать над пламенем младшего, Дедушка Второй отходит в лес, — оглядываясь на три фигурки, застывшие у огня, — и сердце его стискивает, но он велит себе взять в руки себя же. Глупый приказ. Рука у Василия Грозаву всего одна, слава Богу, правая, ведь левую он с год назад отрубил, чтобы сварить детям суп, и продлить их жизнь на пару дней, и пусть никто не говорит, что он поступил глупо. Сработало же! Пару дней они и правда протянули, а там нашелся кусок мерзлой картошки, а после Василий, оправившись от раны, добрался до телеграфа, и дал телеграмму самому Сталину, чтобы Маршал спас его детей и детей всей Советской Молдавии от голодной смерти. Маршал спас. Правда, подвиг Дедушки Второго оказался лишен смысла, потому что в тот день, когда он выстукивал в Кремль оскорбления в адрес советского государства и самого справедливого в мире строя, — как позже говорил судья, — в Бессарабию уже ехал Косыгин. Спас республику. Ровно спустя день после того, как Дедушка Второй с выдохом ввалился в дом с тремя испуганными ребятишками и измученной женой, стали завозить рыбий жир и пшено. Кормили всех. Дедушка Второй еще подумал про себя с затаенным восторгом, — вот он какой, Маршал, едва получил сигнал тревоги, как бросил в нас взмахом трубки вагоны с едой, спас нас, благодетель, и ведь ни слова не написал обратно. Делом ответил! Накормив детей и жены, Василий истово — по привычке, вбитой намертво в румынской школе, — перекрестился, после чего вышел в поле, глянуть, как там земля, но долго смотреть ему не дали. Василий Грозаву? Двое мужчин в гимнастерках стояли у дороги, от которой начиналось поле под ржу, а рядом с ними и председатель, и еще один мужчина в черной кожаной куртке, и Дедушка Второй сразу все понял. Это за мной. Дедушка Второй, тридцати двух лет от роду, приосанился и вышел из поля, ступая торжественно, — все гадал, награду тут получит, или все-таки соберут оставшихся односельчан в клубе и предоставят слово ему, Василию, чтобы он рассказал им, как придумал спасти Молдавскую ССР благодаря обращению к мудрому товарищу Сталину. Василий Грозаву? Он самый, сказал Василий, и председатель колхоза кивнул, подтверждая, что вот он, Василий Грозаву, после чего его проводили в самом деле до клуба, а уж там Дедушку Второго заперли, и сообщили ему, что он арестован. Особо опасен!
Когда до Дедушки Второго дошло, наконец, что его собираются судить, а не благодарить или награждать, он стал просить, чтобы ему дали возможность попрощаться с семьей. А зачем? Как зачем, удивился Дедушка Второй, это же семья моя, семья, детки, ближе которых у меня, това… гражданин следователь, нету и не будет, кто знает, когда свидимся. Зачем прощаться. Они с тобой поедут, потому как, зная о твоих преступных намерениях, не сообщили куда следует, а продолжили вялое бездействие на лавках, тем самым поощрив тебя на совершение антисоветского поступка. Не понял… Проще говоря, Вася, вся твоя антисоветская семья поедет вместе с тобой в Сибирь, сказал следователь и посмеялся и так и этак. Ту-ту. Он не обманул и спустя каких-то полчаса в клуб бросили и семью Дедушки Второго, жену и троих детей, младшему из которых было три года, отчего Василию стало и страшно и сладко, потому все же здесь, со мной, подумал он. Спите, вражины. Света им не зажигали, дети были слабые, как и жена, но все они были вместе, да и скучать им не дали, потому что в полночь клуб стали заполнять людьми, чего Василий сначала не понял. Что происходит? Молчи, жидовская морда, крикнул следователь Блюменталь, очень нервничавший, и боявшийся, как бы его не заподозрили в поблажках своим, ведь в Ленинграде уже начиналось «дело врачей», и евреям и так приходилось несладко, он вот фактически сослан сюда, в эту дыру… Какая морда? Да нет, я вовсе не еврей, сказал наивный Дедушка Второй, я же в румынской армии служил и даже доводилось евреев расстреливать, ну так это не преступление, нас же всех потом реабилитировали за службу в Советской Армии, а волосы у меня кучерявятся потому как, по слухам, настоящая моя мать, она из греков. Молчи идиот. Заткнись, прошипел следователь Блюменталь, потерявший жену и двухлетнюю дочь в львовском гетто, ты себе на «вышку» наболтал уже, и только потому, что ты такой идиот, я все это забуду, тебя и всех этих сволочей и так ждут выселки. Что ждет? Скоро узнаете, кулаки, крикнул громко кто-то из охраны, и собравшиеся узнали, что они кулаки и они организовали голод в Молдавской ССР и будут за это наказаны, и уже этим утром, которое наступало утренним светом в щели сельского клуба, будут отправлены в Сибирь. Раскулачивание началось.
Всего Бессарабия выслала пятнадцать тысяч человек, — это были кулаки и члены их семей, — причем первоначальная цифра плана предусматривала семь тысяч, но постарался глава республики Коваль. Перевыполним план! К тому же, чем больше людей ссылали, тем больше становилось виновных в голоде, который наблюдал Косыгин и от которого спас Косыгин, уехавший из Кишинева через неделю, причем на вокзал он шел опять же пешком, глядя на оживающий постепенно город, и сопровождало его все руководство республики. Тепло простились. Обняв по очереди двадцать мужчин, половину из которых расстреляли полгода спустя по его представлению, Косыгин уселся в вагон и паровоз тронулся, и ехал ровно и быстро, потому что состав был не простой, а спецсостав. Помедлили единожды. На подъезде к Тирасполю пришлось минут десять ждать, пока охрана не разберется с глупым машинистом паровоза, волокшего за собой длинную цепь теплушек, которые Косыгин начал считать. Пятнадцать вагонов. Невероятное количество скота, подумал Косыгин, но тут его поезд, — которому бестолковый машинист грузового состава все же дал дорогу, — пополз вперед, и министр увидел в одном вагоне сорванный кусок обшивки, а за ним людей и все понял. Отвернулся. Но перед этим Косыгин взглянул на человека с курчавыми волосами, стоявшего в теплушке ровно, и показался он Косыгину почему-то одноруким, и несколько секунд мужчины глядели друг другу в глаза, после чего министр, как мы уже сказали, отвлекся, и то была единственная встреча Дедушки Второго с Косыгиным. Поглядели, отвернулись.
В теплушке Дедушка Второй подбадривает семью, и с нетерпением ждет, когда они прибудут на новое место жительства, хотя и знает, что ехать будут долго, ведь в войну он почти до Сталинграда дошел. Дезертировал. Пока добрался домой, в Бессарабию, туда же и советские войска пришли, так что Василия схватили, одели гимнастерки и велели искупать вину, и дойти пришлось до самой Вены, где Дедушка Второй был ранен, и пробыл в госпитале до конца войны. Да уж, поездил. Вернее, походил, так что свое нынешнее путешествие в теплушке Дедушка Второй, — едва отошедший от голода, — воспринимает как подарок судьбы. Ведь могли бы пешком всех отправить, как при царе.
К концу поездки, правда, Дедушка Второй стал очень сомневаться в том, что правительство СССР оказало ему услугу, отправив в полуторамесячное путешествие в вагоне для скота с семьей. Старший умер. Это поразило Василия в самое сердце, он не хотел верить, и несколько дней прятал тельце в углу, пока не убедился, что ребенок действительно мертв, а когда понял, то все равно еще день не выдавал труп. Ждешь чуда? Сектантов везем, спросил один охранник другого, на что тот глубокомысленно заметил про самолеты и бога, и ткнул штыком мертвого сына Дедушки Второго, — проверить, правда ли мертвый, — и велел выбрасывать дохлятину. Бросай! Даже проститься не дали, секунда, и вот его нету, старшего обожаемого пацана, которого Василий втайне от самого себя любил больше всех, и засыпать рядом с которым любил, поглаживая мальчишкину голову, и которого спас от голода ценой своей собственной руки. Пропал как сон. Василий завыл было, но потом под внимательным взглядом конвоира спохватился, и сжал зубы, сволочь только и ждет, чтобы ты дал слабину, так что Василий переполз — к середине поездки стоять уже сил не было — к жене с уцелевшими детьми, и стал ждать Сибири. Та показалась.
Огромная, все в белом, словно Бессарабия на Рождество, — только в сотни тысяч раз больше, — она поразила сосланных молдаван, разразившихся горестными воплями. Василий успокаивал. Правда, и его мужество оставило, когда поезд остановился в лесу, всем велели вылезать из вагонов, построили у насыпи и объяснили, что здесь им и жить, первые два года разрешается обустраиваться, а потом будете трудиться на благо страны. Развели огонь. И оставили полторы тысячи человек без инструментов, укрытия и еды, прямо под открытым небом, за два часа до сумерек. Василий зашевелился. Большое пламя разнесли на несколько сотен костров, и у одного из них Дедушка Второй оставил семью, а сам пошел в лес ломать ветви потоньше. Стояли ночь. Детей грели над огнем и у огня, пока мужчины делали что могли, чтобы хоть какое-то пристанище обустроить, и где появились зачатки землянок, а где подобия снежных шалашей, и постепенно люди вросли в Сибирь, как наступающие под шквальным огнем пехотинцы — в землю. За год! Если прокрутить это время как на кинопленке, то усыпанный черными точками снег превратится в еле дышащий, но все же поселок, правда, людей в нем будет значительно меньше, чем по прибытии, потому что половина вымерла, и среди них еще один член семьи Дедушки Второго. Это жена. Иду присмотреть за старшим. Василий Грозаву остается вдовцом с двумя детьми на руках, и средняя, — шепчутся люди, — не похожа на человека, способного пережить еще одну зиму, хоть отец и поит ее еловым отваром. Не уберег. Умирает и дочь. К осени 1950 года Василий Грозаву остается отцом единственного сына, младшего, и Василию часто кажется что Папа Второй — а это он — делает все, чтобы забыть вкус отцовской руки, всё, но чаще всего, просто ест снег. Еще и от голода. Если бы точно знать, что Сталин, кровопийца поганый, в отношении которого у Дедушки Второго не осталось никаких иллюзий, скоро помрет, можно было бы еще потерпеть, но Усатый кажется всем вечным, да он вечный и есть, что и доказывает нам до сих пор, глядя отовсюду, где только можно наклеить его портрет. Сталин вечен. Плюнув на все, Василий решает совершить еще одну попытку и написать письмо, — надавить на отцовские чувства Маршала, ведь потерял же он сына, — попробовать разжалобить, и пусть хотя бы младшего, уцелевшего, можно будет отправить куда-то в город, где есть больше еды и не так холодно. Делает последнюю ставку. Пишет Сталину.
Москва Кремль Товарищу Сталину лично в руки снова
«Товарищ Сталин Маршал как же так вы могли поступить с моей семьей неужели вам никогда не страшно думать о том что на том свете ждет. А между прочим черти и дым и скрежет духовный и зубовный нас учили, да и вас тоже, я же знаю что Вы Сталин семинарист стало быть тоже закон Божий изучали хоть и велите нам теперь писать слово Бог с маленькой буквы словно он какой-то зампердпотылу. Сталин я обращаюсь к вам как к отцу, я хочу сказать пожалейте моего маленького сына Николая Грозаву ему шесть лет он еле выжил в Сибири первые полтора года и он не выживет еще здесь я это вижу, я боюсь что он умрет, а разве это правильно, никто в живых не остался кроме нас, старший умер еще в дороге, а ведь первенец, первый сын, вы что не понимаете, так нельзя. Кольнули в ногу штыком да Боже ты мой там и мяса никого не было Сталин понимаете вы это, а потом сказали бросай и если бы я не бросил пристрелили бы меня и все семья бы погибла да она и так погибла лучше бы я не бросил лучше бы я убил кого-то из них. Сталин не будьте палачом. За что вы мне мстите я не понимаю, да я служил в румынской армии, но ведь дезертировал да и пошел туда не добровольно нас заставили я при первой же возможности сбросил эту форму не хотел воевать против страны Советов верил что власть там трудового народа я и сейчас верю но разве можно так с детьми Сталин? Послушайте Сталин это еще не все ладно старший умер а ведь первенец первенец я же вам говорил уже да, ну ладно, следующей жена умерла, все пыталась согреться перед смертью, текла кровями по-женски и как кричала из-за этого а ведь мы с вами мужья мы знаем женщина бывает терпеливее мужчины терпеливее мула терпеливее земли. И она кричала. Как кричала Сталин когда я вспоминаю как она кричала у меня кровь стынет в жилах а ведь она у меня и так там с мелким ледовым крошевом потому что мы замерзаем и нет горячего питания чтобы согреться изнутри. Я боюсь за младшего. Дочка тоже умерла слабая была зубы сгнили в ее — то возрасте! Я варил шишки, елки варил чтобы витамины поступали как-то мы же из Молдавии знаете сами фрукты много, вино, овощи, дети не могут так одни елки но она ела ела, а потом сказала папа пуф, я говорю что пуф, а она просто выдохнула значит, я понял потому что больше она ничего не сказала просто пуф и умерла. Сталин! Я долбил землю три дня и мне помогали слава Богу добрые люди слава Богу мы еще не все волки друг другу, Сталин я хочу спросить за что нам такое. Моя семья не кулацкая как врагов народа с которыми нас сослали в Сибирь ладно пусть их сослали, я понимаю, враги. Кулаки, хотя я не понимаю зачем морить их так можно же поиметь пользу с их труда, вы же разумный человек, Сталин, вы же очень умный и читаете много книжек, вы же семинарист. Послушайте Сталин я вас заклинаю всем святым что у вас есть я вас заклинаю именем сына погибшего на этой великой войне между прочим я тоже участвовал я когда вернулся домой в село меня одели в форму и дали винтовку и я пошел сражаться за Советскую родину и я кровью искупил да. Он не жилец. Я вас прошу, я вас умоляю, пусть его вывезут в город, туда где питание, туда где тепло, трое деток были, двое растаяли, как дым, старшего и костей уже наверное не осталось как же так, я вас умоляю. Простите плохой русский, я румынский учил, в школе при румынах, по-русски читать писать учился сам, без всяких. Пожалейте»
Видно, последние несколько лет жизни Дедушка Второй был классическим неудачником, по крайней мере, всё говорит в пользу этого, а прежде всего, два его злосчастных письма Сталину. Оба мимо. Второе письмо Василий карябает поспешно, тайком от всех, даже от сына, чтобы бросить привязанным к камню в вагон, проносящийся мимо их поселка, но делает это ровно за половину года до смерти Сталина. Лучше бы перетерпел. Но нет, вожжа под хвост, и он привлекает своим идиотским, нелепым, взбесившим секретариат Вождя письмом, внимание власти, а ведь известно, что лучше никакого от нее внимания, чем даже хорошего. Высунувшихся бьют. Поэтому уже через две недели после того, как письмо, случайно попавшее на стол Сталина и разозлившее его, сожжено, Дедушку Второго и его пащенка вытаскивают за шиворот из их полуземлянки, где отец греет руки мальчишки, горячо на них дыша, и садят у рельс. Поедешь дальше. Василий Грозаву все понимает, но жажда справедливости при этом в нем меньше не становится, — он все так же алчет ее, глядя на сереющий в утре снег, на ядовито-зеленые до черноты ели, — но понимает также, что жажда его будет утолена лишь на том свете. Прикончат. К счастью, делать это решили не прямым способом, видно, чтоб помучился, поэтому из места выселения его доставят еще на полтысячи километров вглубь Сибири, до какого-то нового поселка, который будут только обустраивать, когда прибудет следующая партия ссыльных кулаков. Это приговор. Дедушка Второй соображает не очень быстро, но хватко, поэтому, когда у поселка останавливается паровоз, чтобы подобрать конвоира и ссыльного с мальчишкой, план уже есть. Ты мертвый. Тебя нет, шепчет он мальчишке, и объясняет вкратце, что и как делать, и малец, к счастью, ведет себя послушно и исполняет все в точности. Смышленый малый. Когда в теплушке, прицепленной к составу, начинает темнеть, Дедушка Второй завывает и бьется о стены, чем привлекает внимание конвоиров, недовольных суетой. Что случилось? Сын умер, говорит Василий Грозаву, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не обнять мальчишку напоследок, и спрашивает, что делать с телом. Везем тебя. В документах мальчишка не указан, поэтому выбрасывай свою падаль, вражина, и скажи спасибо, что не заставили тебя могилу копать. Ха-ха. Конвоиры тычут штыком в пацана, на которого Василий напялил все, что только мог, штык распарывает щеку, но ослабший ребенок и так еле жив, поэтому не выдает себя ни звуком, ни обилием крови. Правда помер. После чего, нехотя вынимают доску, которая здесь вместо люка для воздуха, и говорят, чего ждешь, бросай давай падаль свою. Ну, Василий и бросает свою падаль. Аккурат в сугроб, аккурат в нескольких метрах от домика смотрителя и это все, что он смог дать сыну.
Что случилось дальше: смотритель оказался подонком и сдал мальчишку в органы, сообщив что это сбежавший малолетний заключенный; смотритель был доброй душой, и обогрел и накормил мальчика, и придержал у себя до лучших времен; а может, нет никакого смотрителя и прибыл он два дня спустя, когда тело сына не сгибалось от мороза? Василий не узнал. На этом его знакомство с сыном кончилось, и больше они друг друга не видели, потому что Дедушка Второй, — которого велели кончать, а как, сами разберетесь, — погиб несколько недель спустя, облитый водой и выставленный голым на мороз, потому что он воевал за румын. Отомстили за Карбышева.
Папа Первый вылетает из теплушки, и, чувствуя распоротой щекой невероятный холод, — что само по себе удивительно, так как вагон в котором их везли, не отапливали и он и так замерз, — падает в огромный сугроб. Случается. Много лет позже, интервьюируя знаменитого советского летчика Посребкина, сбившего в небе над СССР более 190 самолетов люфтваффе, — и это только то, что документально заверено, — Папа Первый с удивлением узнал от асса, что тому тоже случалось упасть в сугроб. Уникальный случай. Об этом написали английские газеты и история вошла во все справочники, посвященные авиации времен Второй Мировой Войны, отчего имя летчика Поскребкина стало нарицательным, как позже водка андроповская или колбаса ливерная. Упал с неба. Прямо с неба, прямо с высоты более пяти километров, где отказал один из двигателей его самолета, старенького истребителя, получившего перед тем несколько дырок в корпусе, только не пиши «дырок», попросил летчик. Почему еще? Засмеют, ответил Поскребкин, поскольку у нас, летчиков, существует свой профессиональный жаргон, и такие штуки на корпусе самолета называются пробоины, это ведь воздушное, но все-таки судно. Хорошо, не буду. Итак, двигатели отказывают, вспоминал летчик Поскребкин, а перед глазами Папы Первого вставала точь в точь картина его падения, не такого героического, конечно, но тоже судьбоносного. Все дымит! Выхожу я на крыло, вспоминает летчик, поправляю ранец с парашютом и прыгаю, не забыв крикнуть «да здравствует наша Советская Социалистическая страна Советов!», и Папа Первый кивает, все-таки 1970 год на дворе, и не кричать «да здравствует» за две минуты до смерти еще дурной тон. Ну, в воспоминаниях. Летчик Поскребкин глядит мимо Папы Первого, — старательно записывающего все, что скажет легендарный ветеран, — и взгляд его становится отсутствующим. Наконец, проникся. С ними со всеми так бывает, думает Папа Первый, навидавшийся за время журналистской практики ветеранов, начинавших с бодрых здравиц, воспоминаний о песнях и плясках на борту, но потом ломавшихся. Все равно догонит. Рано или поздно они вспоминали всё и взгляд их становился отсутствующим, и тогда, — Папа Первый знал, потому что случалось такое и с ним, о чем он никому не говорил, — смерть появлялась перед ними, смерть, глядевшая с заботой и грустью. Он знает. Папа Первый, — хранивший в тайне ото всех историю своего счастливого спасения, да и вообще историю, — знает, как это бывает, потому что довелось вылететь в сугроб с пятикилометровой высоты и ему. Пусть не так. Пусть высота эта была пятиметровая, но полет его был смертельным и летел он погибать, понимал повзрослевший Папа Первый, в тот момент не ощутивший ничего, кроме страха подвести отца и крикнуть, выпадая из теплушки в вечереющие русские снега. Прощай папа. Ну, то есть Дедушка Второй, правдолюбец Василий Грозаву, лицо которого Папа Первый все время силился вспомнить, но которое постоянно забывал, потому что никаких фотокарточек отца у него, конечно, не было. Отца не было. Папа Первый официально проходил по ведомству детских домов сиротой, невесть откуда появившимся ребенком, потерявшим речь, и память, и имя и фамилия поэтому у него были вовсе не такие, как у отца и матери. Никита Бояшов. Русский парень, — ну, раз нашли в Сибири, стало быть, русский парень, пусть и кучерявятся у него чуть-чуть волосы, повергая в смущение преподавателей детского дома города Сретинск, куда попал мальчик, потому что сослали их вовсе не в Сибирь, а в Забайкалье. Глупые молдаване. Им все, что снег, то Сибирь, дикий народ, качал про себя головой Никита, выучившийся на журналиста, получивший направление в Молдавскую ССР и ехавший туда, как в незнакомую страну, потому что постарался забыть все. Вычеркнуть, уничтожить, стереть, сжечь. И получилось. Когда Никита, все забывший по просьбе отца, попал на свою родину, в Молдавию, то первым делом постарался найти село, откуда он родом, и даже съездил туда, чтобы сделать в местную «Комсомольскую правду» репортаж о надоях, урожае винограда и прочих успехах сельского хозяйства цветущей молодой республики. Девушки хохотали. Солнце улыбалось, табак на окрестных полях благоухал, и Никита, сжимая в руке папироску, не понимал, как все могло так измениться за каких-то двадцать лет, — как поля Апокалипсиса превратились в скатерти-изобилия, — и неужели коммунисты были правы, приходила ему в голову крамольная в отношении памяти родителей мысль. Жертвы оправданны? Никита старался об этом не думать, и даже прошел мимо того дома, — откуда их с родителями увезли в ссылку, — с сердцем, не сбившимся с ритма ни на мгновение. Ледяное спокойствие. Какой хладнокровный парень, сразу видно, что русский, у нас тут ребята горячие, сказал председатель — новый, потому что почти никого из старожилов не осталось. Голод добил. Голод, разразившийся здесь в 1952 году, спустя три года после голода 1949, и на второй раз товарищ Косыгин не приехал в республику, потому что голод номер 2 был запланирован, и за два года половину населения республики вымерла, а среди нее и почти все жители села Василия Грозава. Спасибо, папа. В результате твоих нелепых телодвижений, думал Никита Бояшов, — ведших нас казалось бы, к гибели, — был спасен, по крайней мере, один член твоей семьи. Один из так обожаемых тобой детей. Это я. Голод-1952. Он был страшен, и его бы я точно не пережил, думал стажер-журналист, посланный в республику по распределению, и получивший комнату в общежитии государственного университета Молдавии. Русские строили. Университеты, поликлиники, больницы, магазины, театры, бульвары, районы, дома, музеи, в общем, они строили здесь все, и, доживи Пушкин до 1970 года, ему бы и в голову не пришло воскликнуть про «проклятый город» с вечно грязными кривыми улочками. Пушкин классный. Никита Бояшов боится признаться себе в этом, — ведь среди сверстников популярны Вознесенский и Ахмадуллина. Особенно среди интеллектуалов, к которым причисляет себя и Никита, горы свернувший, чтобы стать журналистом. Получилось ведь.
К сожалению, один из минусов профессии был в том, что Никите приходилось частенько встречаться с людьми, общение с которыми не доставляло ему ни малейшего удовольствия. Не будь снобом! Так говорил он себе, всячески пытаясь вытравить пренебрежение к этим кряжистым председателям колхозов, — грязным, как их поля, — к ветеранам, в одиночку разбивавшим танковые армии Гитлера, к ударникам, неправильно склонявшим и спрягавшим… Я мизантроп? Нервно пытаясь понять, Никита, давно уже наловчившийся думать о чем-то своем во время интервью — дай человеку повод начать и делай внимательный вид, он сам не остановится — улыбнулся сочувственно летчику Поскребкину. Тот приободрился. Прыгаю я после этого с крыла, и, раскинув руки, на мгновение забываю о том, что война, а внизу все такое маленькое, и думаю я… бубнит старик, а Никита уже отключается, потому что монолог князя Андрея на поле Бородинской битвы он хорошо знает, сейчас вот про облака будет. И облака красивые! Ага, кивает Никита, а старик продолжает: лечу я вниз, любуюсь на красоту эту, а потом дергаю за кольцо, а парашют, собака, отказал, и запаска отказала, и я прощаюсь с жизнью, а потом думаю, ну раз уж смерть, так хоть гляну на мир этот по-человечески. Красотой проникнусь. Интервьюер отключается, и, продолжая ласково кивать, вспоминает и свой полет, и сейчас они, старый летчик Поскребкин, и молодой журналист Бояшов, летят одновременно, а сидят друг напротив друга оболочки, потертые камни. Мы падаем. Тогда еще не старый Поскребкин, отчаянно рвущий кольцо на груди, а потом успокоившийся, плюнувший на это дело, и сложивший руки на груди, чтобы успеть спокойно и кинуть взгляд на снежные просторы под собой. Вот моя могила. Маленький сын Василия Грозаву тоже летит, но не так величаво, как летчик Поскребкин — мальчика переворачивает несколько раз в воздухе, ведь бросил его отец, крутанув, и малец успевает удивиться тому, как холодно на улице, аж щеку обожгло распоротую. Шрам откуда? А, встрепенулся Никита, и потирая щеку, привычно врет ветерану про велосипеды, пацанов, рыбалку, и все такое прочее, — вызывает у старика поощрительную улыбку, мужественным всегда быть модно. Сорванцом был. Ну так слушай, сорванец, бубнит старик дальше, и Никита снова вспоминает: видит, как летит в лицо снежная пыль, как вертится бешено мир, и иногда лишь в поле зрения возникает убывающая в неизвестном направлении теплушка, а в ней отец, которого мальчик никогда больше не увидит. Прощай папа. Потом наступает тьма, — ледяная, — и мальчишка понимает, что упал лицом прямо в сугроб, огромный, и что именно туда пытался добросить его отец, потому и крутанул сильно, сталкивая в дыру в вагоне, и мальчику становится впервые по-настоящему грустно. Вспоминай наказы. Дедушка Второй велел, во-первых, ничего не бояться и, после того, как упадешь, подняться из снега, и по полотну пойти к домику смотрителя, а во-вторых, забыть, как меня зовут, и как моя фамилия. Безымянный человек. А еще, строго-настрого наказал ему отец, забудь и меня, забудь мое лицо, забудь, как я говорил, что я говорил, забудь мать и голод, и сестру и брата, и Бессарабию, забудь все, кроме одного. Надо жить! Вот что набормотал сыну Дедушка Второй перед тем, как обманул конвоиров и выбросил живого еще мальчишку на снег у домика смотрителя, где никого не было. И хорошо. Тот еще стукач. Но Никита Бояшов, тогда еще безымянный мальчик, об этом не знает, и ползет — потому что если лежа, снег не проваливается, весит мальчик немного, — к домику, и стучит в дверь. Открыто, конечно. Так что Никита заползает в домик, где тепло, где есть еда, и куда может зайти каждый, так у них, на Севере, принято, и северное гостеприимство спасает мальчишке жизнь. Ест и спит.
В это же время — они все еще сидят друг напротив друга, — падает вниз, в сугроб, и летчик Поскребкин, и остается при этом жив, хотя и ломает себе при этом руку. Родился в рубашке. К нему бегут с другой стороны поля пехотинцы, ведь упал летчик на нашей половине фронта, что уже само по себе чудо, и вынимают оглушенного парня со снегом, набитым в рот, уши, за ворот, и несут его на руках в медицинскую часть. Медики поражены. Всего один перелом при падении с такой высоты, это действительно чудо, так что Поскребкина потом еще полгода таскают по всяким консилиумам, а он только улыбается и разводит руками, и все приходят к выводу — сильный порыв ветра, поднявшегося при падении, сыграл роль подушки. Поскребкин помалкивал. Уж он то знал то, что открылось ему при падении, когда он внезапно успокоился, глядя на приближающуюся к нему землю, снег, людей. Земля мягкая.
Такие вот дела, говорит ветеран, и жмет руку парню, молодому, но вроде толковому, — сейчас они все такие, реки вспять поворачивают, — главное, за ними присматривать, чтоб делов без мудрости старших не натворили. Спасибо, Поскребкин. Спасибо, папа. Никита Бояшов, который станет Никитой Бояшовым только через несколько месяцев, просыпается утром в домике смотрителя и вдруг понимает — ему нужно оттуда уходить, и это так же ясно, как и то, что папа уехал. Мальчик ест. Потом, полежав еще немного, выходит из домика и бредет по затвердевшему за ночь снегу, благо, что погода хорошая, — идет долго, почти до самого вечера, сам не зная куда, вдоль полотна, а потом сворачивает в сопки и бредет еще час. Доходит до хутора, на котором живет всего одна семья. Жена военного. Полная женщина с жестким неприятным взглядом, и двумя детьми, — один из которых, младший сын, все время заикается из-за паровоза, который его здорово напугал. Это пройдет. Когда к семье вернется отец, — офицер артиллерии, который сейчас сражается в Северной Корее с американскими оккупантами, по документам китайского добровольца, — первое, что он сделает, отнесет мальчишку к полотну. Дождутся поезда. А-а-а-а, заревет паровоз, а-а-а, заревет мальчишка, а-ха-ха, рассмеется отец, и мальчик снова заговорит легко, будто во рту у него моторчик, и заикаться никогда в жизни больше не будет. Это потом. Сейчас еле живой и еще не Никита Бояшов стоит, покачиваясь, перед дверью дома на хуторе, и с головы у него падает треух, одно ухо которого пропиталось кровью, вытекшей из щеки. Ребенок-призрак. Женщина охает, качает головой, открывает дверь, и втаскивает мальчишку в дом, где купает его несколько раз под внимательным взглядом старшей дочери восьми лет, и накормит еще раз. Тщательно расспросит. Вопросов будет много, большей частью неприятных — кто такой, что делаешь, из ссыльных, ворёнок, чего надо? — но мальчику будет уже все равно, ведь никаких сил идти дальше у него нет. Спокойно отвечает. Как зовут, не помню, папа погиб на фронте, с мамой ехали в поезде, уснул, проснулся, лежу в снегу, наверное, выпал, фамилии своей не помню, тетенька, можно я у вас тут останусь? Еще чего. Женщина жестко усмехается, и сын Василия Грозаву со вздохом понимает, что это не конечная цель его путешествия, и покорно пытается встать, взять одежду и уйти. Еще чего. Лежи давай, говорит устыдившаяся своей жестокости женщина, в которой злое вечно борется с добрым, и доброе потерпит сокрушительное поражение, но случится это через много лет, а пока борьба с разгаре. Поживешь у нас.
Мальчик несколько недель и правда живет на хуторе, затерянном среди сопок, километрах в десяти от железнодорожного полотна, помогает по хозяйству, ест просто, но сытно. Куры квохчут. Еще есть коза, которая дает молоко, свечи, — их зажигают, как стемнеет, чтобы почитать три письма от мужа, место командировки которого неизвестно, и ночи. Забайкальские ночи. Глубокие, темные, беспросветные, когда весь мир стихает, и кажется, что это большая смерть пришла, та самая, которая спит в обнимку с забайкальской принцессой каменного века в срубе, затопленном ледяной водой, смерть вечная и молчаливая, как Яблоневый хребет. Ночи мрака. Очень страшно ночами мальчику и он повторяет про себя, лежа на лавке под шинелью военного: меня зовут никак, моя фамилия никто, я никак и никто, я Никто Никакович, я Никак Никтотович, я Никто Никак, я Никак Никто, и постепенно становится смешно. И он хихикает. Спи давай! Мальчик затихает, обняв свое худое тело, свои не закостеневшие еще и гибкие ребрышки, которые так любил с жалостью гладить Дедушка Второй, Василий Грозаву. Дом засыпает.
С хозяйкой хутора у будущего Никиты Бояшова — отношения ровные, она его терпит за помощь, — посоветоваться с мужем, как быть с мальчишкой, она не может, письма военная цензура лишь принимает с тем, чтобы передать их мужу по возвращении. Армейский идиотизм. Женщина решает: три рта это чересчур, и, кстати, она кривит душой, потому что еды бы хватило, но она решила, и все тут, поэтому, по прошествии двух недель, — мальчишка чуть отъелся и подлечил щеку, — она отправляет его в Сретинск на поезде, который притормаживает при виде двух фигур у полотна. Едут в город. Там будущий Никита Бояшов еще раз рассказывает свою легенду, — вернее, отсутствие этой легенды, — и его приводят в детский дом, где он получает койку, где он получает шкафчик, где он получает список своих обязанностей, где он получает по лицу от одного из старших мальчиков. Чтоб не зарывался. Мальчик, поужинав — масло отобрали старшие, становится понятно, что тяжело придется и здесь, — ложится в постель и с пугающей его самого взрослостью, понимает, что и это не конечная точка его путешествия. Иначе пропаду.
В отличие от лица отца, свою первую ночь в детском доме Никита Бояшов запомнил навсегда, — так крепко, что лишь тридцать лет совместной жизни с любящей, терпеливой и ласковой Мамой Первой выбили из него горечь воспоминаний. Женщины смягчают. Но тогда не было женщины у Никиты Бояшова, — получившего имя и фамилию какого-то человека из прошлого директора детского дома, — никакой женщины, а ведь мужчине женщина нужна всегда. В детстве — мать. А как подрастешь, то и женщина, с которой можно спать и которой можно рассказать, что ты чувствовал, держа руки над тощим одеялом, слушая сопение жестоких, несчастных детей, вынужденных драться за еду. Нырнул под одеяло. Достал кусочек бумаги, который сунул в постель еще днем, и стал на ощупь писать письмо, — ведь он грамотный благодаря отцу, обучавшему с первых дней ссылки, — которое намеревался бросить тайком в почтовый ящик; письмо, которое, — был уверен Никита, дойдет до самого товарища Сталина, — вот кому замахнулся отправить письмо пострел. Сын отца.
«Сталин ты убийца праклятый ты что сделал са мной ты знаешь что я уже три дня как мертвый я с таво света тебе пишу и буду грызть тебя грысть твои кости скрежетать станут хрустеть как снег хрустит ха-ха. Я умер три дня как меня в поезд забрали везли везли на снег спустили басиком враги с винтовками тваи слуги и сказали становись на снег на калени я встал а маи дети умерли от голода старший братик умер средняя сестричка умерла папа умерла сын младший умер точно умер так что не ищи его ха-ха один я астался я даже имени сваего не помню я мертвый я буду хадить к тебе ночью есть твое мясо потому что я голодный мне кушать нечего было тут знаешь в детдоме масло отбирают я это сверху вижу я все вижу я вижу как буду кушать твое мясо по ночам приходить буду к тебе ты забрал меня от сына ты забрал сына от меня ты всех разлучаешь ты зверь не пытайся меня найти ничего не получится я мертвый я стал басиком на снег и меня выстрелили в спину я упал я умер кровь на снегу была красная и я умер и меня не закопали просто кинули снег сверху весной снег сойдет и я встану пойду по рельсам к тебе пойду в Москву приду в Кремль поднимусь по ступенькам зайду в твой кабинет ты уже будешь прятаться потому что радио будет говорить что идет в Москву большой человек с острыми зубами грызть будет сейчас тебя Сталин ха-ха, и я вытащу тебя из шкафа и буду грызть твои кости а потом заберу сюда где снег где нет масла где бьют старшие пусть ты будешь мучаться за моего папку то есть за моего сына я приду за тобой». Подписывается.
Этот раз становится последним, когда Никита Бояшов произносит — пусть на бумаге, — полное имя своего отца, после чего забывает его лет на сорок, безуспешно иногда пытаясь вспомнить. Вылетает из головы.
Ночью Никита засовывает записку себе в трусы, — текст написан строго в ряд, учился мальчик в землянке, где света тоже почти не было, и он умеет писать в темноте, — и спустя два дня, когда дети выходят в город чистить снег, бросает конверт в письменный ящик. Система сбаивает. И это письмо становится уже третьим, которое получает сам товарищ Сталин от семьи Грозаву, что в некотором роде становится шуткой и гвоздем сезона, думает с улыбкой Иосиф Виссарионович, разворачивая конверт, — секретариату велено часть писем, адресованных товарищу Сталину, передавать Вождю не читанными. Любит это дело. Что там, думает Маршал, развернув конверт, чтобы прочитать письмо на диване дачи, пока телохранители мельтешат за дверьми, устанавливая правильный режим светомаскировки. Опять жалобы? Но письмо выводит его из себя, и он в бешенстве дает себе слово завтра — сегодня уже раздет, не пристало Вождю такой империи суетиться из-за дебильной шутки кулацкого недобитка, а это явно ребенок писал, — велеть разыскать мальца, отправившего письмо. И шлепнуть. Ничего страшного в этом нет, расстреляли же внучек Лёвы Троцкого, козла с козлиной бородкой, а пацанкам было семь лет и девять, и ничего, каждая получила по свинцовой сливе за ухо, а жидочкам, которые льют свои крокодиловы слезы по этому поводу, товарищ Сталин хочет сказать — а разве не по приказу Лёвчика шлепнули девчонок Николашки и его пацана, тоже, между прочим, совсем еще детей. Да и Романовы хороши! Товарищ Сталин мудр и товарищ Сталин читал множество книг по истории царственного дома России, и знает, с чего началось правление Романовых — удавили четырехлетнего щенка, сына Мнишек, повесили прилюдно, а мальчишка ревел и визжал, что произвело на присутствующих гнетущее впечатление. Посланники плакали. Да, думает товарищ Сталин, засыпая, вся мировая история это поедание чужих детей с тем, чтобы сломать волю их родителей, и, чего уж там, этой участи не избежать и ему, маршалу, — может поэтому он и предпочел сам разобраться со своими, нежели дать кому-то возможность сожрать его печень, убив его детей, ах, Яша, Яша. Сталин засыпает.
Ночью товарищ Сталин просыпается от того, что включается радио и механический голос оттуда говорит: из далекого далекого города идет по длинным — длинным рельсам в Москву кровавый босой Дедушка Второй, и зубы у него длинные, как сабли, а ногти твердые, как двуручная пила на зоне. Сталин холодеет. Радио не врет, ночью к товарищу Сталину приходит босой и окровавленный Дедушка Второй с длинными зубами и ногтями до пола, и зубы его остры и ногти его скрежещут, и спрашивает он: где мои дети, где дети мои. Сталин плачет. Маршал хочет встать с кровати, чтобы подлезать под нее и спрятаться там, пережить это, как переживали клерки набеги на банк, которыми руководил молодой Сталин, но не в этот раз, нет… Мертвяк улыбается. Товарищ Сталин хочет сказать ему — забери мою шинель, забери мои портки, видишь, я ничего для себя не взял, я вас, кулацкое семя, извел не ради себя, а чтобы страна сохранилась, я старался для вас, я и своих детей не пожалел, на что мертвяк улыбается и детским, почему-то, голосом, говорит — отдай свое сердце. Ночь, охраны нет, Сталин не может подняться с дивана, над ним оскаленные зубы, и это не сон, не наваждение, и маршал с ужасом понимает, что мертвяк сейчас будет грызть его кости, и они будут похрупывать, словно свежий снег под ногами. Сталин хрипит.
Утром охранники, забеспокоившись молчанием и тем, что Сам не выходит, по обыкновению, пить чай, набираются смелости, заходят в комнату, где видят Маршала, лежащего без чувств. Вызывают Берию. Тот буквально прилетает, благодаря Бога, — до процесса Берии оставалось года полтора, не больше, это все понимали, — и запрещает вызывать врачей, и обыскивает тело Сталина и вынимает из руки того скомканное письмецо. Поднимает брови.
Остальные события, случившееся на даче Сталина, хорошо известны историкам, публицистам и журналистам, и не писал о них, со времен «перестройки», только ленивый. Вождя хоронят. Берия срочно отправляет в Сретинск курьеров, которые находят в детском доме Папу Первого, — тот и не подозревает, какие последствия оказало его письмо на ход мировой истории, — и мальчишку переводят в Москву, в детский дом с приличными условиями, насколько приличными они могут быть в таком заведении. Это подарок Берии мальчишке, благодаря дурацкой выходке которого Усатого хватил удар и он, Берия, оказался спасен. Обязательное условие. Когда мальчишка получит образование, вышвырнуть его куда-нибудь подальше, в какую-нибудь глухомань, чтобы он там себе пустил корни, и история эта оказалась навсегда похоронена. Пожалели убивать. Ну, или если точнее, Берия решил, что этот мальчишка будет для него вроде как талисманом, нежданным подарком судьбы, правда, всемогущий Лаврентий забыл, что удача, она как снаряд, и два раза от одного и того же человека не приходит. Берию убили. А указания его ведомства, по инерции, продолжали исполнять, — тем более, никто в суматохе хрущевского переворота не стал разбираться, что за мальчишка и почему, а лучше сделать так, как предписано, — так что подросшего Никиту Бояшова, забывшего лицо и имя отца, отправили учиться на факультет журналистики МГУ. После стали выбирать, в какую глухомань послать по распределению. Подошла Молдавия.
Дороги практически нет, и пыль от земли набивается в экипаж так плотно, что время от времени движение приходится останавливать, чтобы проветриться, и тогда пассажир отходит чуть в степь, чтобы полюбоваться небом. Равнинный край. Посланник императора, — еще не Пушкин, который прибудет в Бессарабию на несколько лет позже, — а граф Муравьев, любуется степями и с интересом поглядывает на цыганские таборы, попадающиеся здесь весьма часто. Цыган много. Населения в Бессарабии очень мало, и все ее крестьяне — валахи, отписывает посланник императору о недавно присоединенном крае, — а помещики встречаются армянские и русские, а среди населения местечек, которыми край изобилует, преобладают жиды и греки. Кто хуже? Муравьев успевший вкусить прелестей — как не без кокетства пишет жене — общения и с теми и с другими, склоняется к мнению, что все же здешние греки даже жидов переплюнули, а уж армяне… Дьявольский край. Даже при том, что у нас в России-матушке страсти к деньгам просителей подвержены все слои чиновничества, даже в сравнении с ней Бессарабия смотрится страшным пятном порока и язвы, чем этот несчастный край обязан, безусловно, правлению Оттоманскому, — делает вывод Муравьев. Турки развратили местное население, и приучили его к купле и продаже любого правительственного распоряжения, они невероятно продажны, жалуется Муравьев императору, на что получает письмо с благосклонным советом держаться твердо, и судить строго. Как повелите.
С остановками в пути, — дабы избавиться от пыли, делающей любое существование в экипаже совершенно невозможным — и Муравьев делает пометку касательно озеленения края, который без растительности весь изойдет на пыль и грязь, — за несколько суток посланник добирается в Кишинев. Еще не город. Местечко на берегу грязной и узкой речи Бык, бывшей четыреста лет назад, как уверяют старожилы, судоходной, но в это Муравьеву не верится, Кишинев неприятно поражает его маленькими размерами. Меньше деревни! Клочок земли у реки с отвратительного качества водой, окруженный поместьями, владеют коими люди один хуже другого. Сумасшедший помещик Костюжен, давший приют монастырской лечебнице для душевнобольных, взбалмошные девицы Рышканские, именем которой и называют их усадьбу, ставшую впоследствии районом города… Это — столица?! Муравьев качает головой, пораженный наглостью местных купчишек, осмелившихся выслать в его адрес петицию с просьбой назначить столицей недавно приобретенного Короной края именно это местечко, Кишинев убогий. Наглость невероятная. Муравьев, попивая кофе, спокойно отчитывает местные власти, которые за четыре года вхождения края в Империю так и не поняли, что долженствует исполнять под властью христианнейшего государя, а не какого-то там турецкого султана. Священный долг. А какой, скажите, на милость, долг исполнит он, Муравьев, если представит к званию столицы это местечко, лишенное доступа к воде, ясной перспективы, скособоченное из-за обилия кривых холмов, и изобилующее лишь блохами, жидами и продажными местечковыми чиновниками? Кишинев недостоин! Это совершенно ясно, объясняет посланник Муравьев местному купеческому обществу, — поскольку для расширения города необходимо согласие окрестных помещиков на то, чтобы земли их перешли Кишиневу, в противном случае размеры столицы будут смехотворны. А расположение? Бендеры, славный старинный город, — из которого турки, понимавшие кое-что в управлении балканскими туземными племенами, управляли Бессарабией, — расположены на реке, снабжены прекрасной крепостью. А Оргеев? Не подходит ли более на роль столицы Оргеев, расположенный у реки Днестр, — на возвышении, с прекрасными дорогами, ведущими в город и из него, — окруженный рощами и обладающий простором для дальнейшего роста. Чем хорош Кишинев? Ничем, заканчивает сурово Муравьев, — ничем, кроме того, что его облюбовали вы, и не желаете из-за своей лености покидать это гиблое местечко, к которому вы попросту привыкли, — но я вас силой отсюда вырву. Как Петр. И уж если император, слава которого бессмертна и нас переживет, сподобился поднять ленивую Русь и перенес ее на место новой столицы, то что мне, слуге потомков его, стоит столицей края объявить город на то подходящий? Несоразмерны деяния. Подумайте об этом хорошенько, господа, подумайте и начинайте собираться — никакой столицы в местечке Кишиневе не будет, а будет она на Днестре, как то нам диктует здравый смысл. Кстати, о деньгах. Муравьев говорит это и встает, отчего все присутствующие в городской управе, — под которую приспособили дом немецкого помещика Эфельнгауэра, отца молдавского промышленного виноделия, — затихают. Даю шанс. Не стану предпринимать расследование с целью выяснить, кто стал инициатором сбора средств этих, которые были обнаружены мной у себя дома, — а уж тем более, искать сдавших деньги деньги, так как по разумению моему, скинулись все. Зал кивает. На эти деньги, говорит Муравьев, будет открыт сиротский приют и и обеспечена деятельность его; приют, деятельность коего поддерживать я обязую вас всех, а попытку дать взятку посланнику императора прощаю вам. Но говорю. Снисхождения более не будет, Бессарабия не пашалык отныне Оттоманской империи, а вы — подданные Императора, а не лживые пленники Порты, потому оставьте свои дурные наклонности и пороки в прошлом. Забудьте о взятках! В Российской империи, господа, не все можно купить и не все можно продать, в Российской империи, господа, есть такое понятия как Долг, честь и Совесть, есть мысли класса правящего при благословении самих Небес о таком понятии, как Благо народа, простертого под скипетром самодержавным. Зал аплодирует. Муравьев смягчается и думает, что туземцы, как и все туземцы, они как дети, — прямодушны и не искушены, — стоит их вразумить и направить мысли их в верную сторону, как добрые плоды воспитания сего не заставят сего ждать. Туземцы исправились. Со стыдом поглядывая друг на друга, аплодируют они проникновенной речи посланника Муравьева, в волнении ораторствующего о Чести. Задумчиво кивают.
На следующий день Муравьев выезжает из Кишинева, еще раз убедившись в правильности своего решения касательно места будущей столицы края, и это будет Оргеев. Купчишкам неймется! Посланник с раздражением дергает губой, и думает, ну, Господи, ну где здесь столицы обустраивать, место подперто оврагами, место гиблое, место дохлое, воду привозят из Мазаракиевского поместья, что же это за город такой будет? Дай, гляну. Муравьев оглядывается на широкий путь, пролегающий над городом, и, будь ему дано заглянуть в прошлое, он увидел бы в 1949 года на этом месте широкую заасфальтированную улицу, — главный проспект города Кишинева, столицы Бессарабии, а потом и МССР, — по сторонам которой валяются умирающие от голода люди. В 1970 станет красивее. Умирающих сменят огромные тополя с серебристой, звенящей на вид листвой, и город будет украшен девицами в нарядах, которые Муравьеву в самых смелых фантазиях привидеться не могли — а всего-то одежды, что короткие как у Софи Лорен, платьица. Город изобиловал. Кофейни были полны сдобы, винные — закусок, а магазины — еды, а за вещами в Кишинев, столицу Молдавии, этой южной Прибалтики, приезжали на машинах даже из приморской Одессы, и какому-то одесситу Папа Первый продал джинсы, чтобы на вырученные деньги сводить Маму Первую в ресторан гостиницы «Кишинеу», после чего они впервые поцеловались. Отлично поужинали.
Но посланнику Муравьеву все это привиделось бы миражом, потому что сейчас за его спиной — местечко без перспектив и будущего, — которое едва было, по наглости купеческого сословия, не стало городом края; и местечко пылится, и почти не виден уже широкий тракт, по которому шли войска в Болгарию во время русско-турецкой войны, спасать славян, и Муравьев едет вперед, в будущее, на площадь с мятежным каре и генералом Милорадовичем, спадающим с коня, генерал на коне, а на кону Россия, ах до бессарабских ли теперь мелочей… Прощай, дыра.
Осенью 1917 года Григорий Котовский понимает, что полиция и общественное мнение края, — которого почти не коснулась великая война, — ставят ему что-то очень похожее на мат. Заперт в углу. Он не может сделать шагу без того, чтобы в него не выстрелил какой-нибудь несчастный урядник или городовой. Кстати, о них. Только за два месяца Григорий убивает более четырнадцати рядовых сотрудников полиции, что, понятное дело, не добавляет ему популярности среди простых жителей Бессарабии, до того составлявших огромную армию фанатов. Бедных не трожь. Как-то так получилось, что Григорий нарушил эту священную заповедь Робин Гуда, что, впрочем, его не удивляет — рано ведь или поздно нервы сдают у всех, а уж после того всё словно огромный снежный ком катится с горы, и от тебя уже ничего не зависит. Судьба-злодейка. Поэтому Григорий, пристреливший городового дрогнувшей рукой, когда тот пытался схватит злодея на окраине Кишинева, все понимает. Начинается большой закат его карьеры. Анестиди — цветочки. Сейчас его начнут презирать и бояться низы, а это верная гибель для абрека, которым Григорий — слыхом не слыхивавший об институте абречества на Кавказе, — безусловно, является. Спрятаться негде. После того, как в результате трагических совпадений Григорий убивает, кроме городового, еще и дворника в Сороках, — но тот уже было начал свистеть, опознав в торговце дровами самого вора Григорий Котовского, — начинается травля. Преследуют везде. Григорий понимает, наконец, что такое облава, — когда тебе не дают к земле припасть ни на минуту, когда ты, после дня бегства, собираешься прилечь, но возле тайника твоего загораются огни и слышны голоса преследователей, и когда тебя готов выдать властям любой, — и нет тебе спасения нигде. Обложили волчару. Местные власти ликуют. Все изрядно поднадоел этот разбойник, Котовский, начинавший, словно благородный персонаж Шиллера, заканчивает «мокрухой», и какой низкой. Убивал без разбору. А он всего-то и хотел, чтобы его оставили в покое и дали уйти от преследования, вот и перестал хитрить, просто вынимал пистолет и стрелял, и дворник падал, городовой падал, обыватель падал, все падали. Шло к концу. Полицейские власти твердо решили извести Гришку Котовского, чтобы никому после войны, — которую Россия вот-вот выиграет, — неповадно было плевать на закон и играть в гайдуков. Кончились гайдуки. Приставы смеются, сидя на конях, и глядя, как Котовский переплывает Днестр, — едва не тонет, измученный, а сами даже не бросаются в погоню, — на том берегу Гришу уже ждут, его выдадут свои же. Нет спасения.
Григорий с трудом отбивается от погони и на левом берегу Днестра и уходит в лес, преследуемый взглядами вооруженных врагов, которые идут след в след. Ждут, когда усну. Котовский понимает, что они не рискуют подойти к нему, но как только он закроет глаза и уснет — а он уснет, глаз не смыкал почти трое суток, — его возьмут в кандалы. Виселица впереди. Он знает, что повесят. Они знают, что повесят. Даже дерево, кажется, знает, что его приспособят под виселицу для самого Григорий Котовского, и горделиво наклоняется, очень приятно, мол. Гриша сплевывает. Рвануть сил нет. Остается сделать красивый жест и сдаться, что он и делает, подняв руки, и остановившись, чтобы преследующие его тридцать человек подошли и взяли самого Григорий Котовского. Те медлят. Им кажется, что гайдук припас для них последний сюрприз, — выхватит из-за пазухи пистолет и начнет стрелять, после чего последнюю пулю пустит в лоб себе, — но Котовский все не стреляет, и мужчины, столпившиеся на узкой и мокрой из-за недавнего дождя лесной тропинке, решаются. Повернись спиной! Григорий послушно отворачивается и уже минуты три спустя чувствует на запястьях и ногах чужие руки, его кладут лицом в мокрую и грязную листву, и Григорий, изогнувшись, видит, как на травинке, нависшей над его лицом, ползет огромный жук, который вот-вот заслонит для него вечереющее небо, и покой осенят уставшего разбойника. Котовский засыпает.
Утром уходящего лета, — не менее прекрасным чем то, когда он задумал написать роман, и с которого прошло месяца два, то и три, он не считал, — писатель Лоринков отправляется с сыном на карусели, спрятавшиеся в листве парка возле их дома, и Лоринков впервые за полтора года уступает сыну. Покупают сладкую вату. Это, наряду с предательством партии национал-патриотов, разваливших правящую коалицию в местном парламенте, и обрекшую страну на досрочные выборы, становится для писателя одним из сильнейших разочарований года. Просто сахар! А где же загадочный вкус сладкого облака, вроде бы оставшийся в памяти рецепторов с самого детства, когда он последний раз ел эту самую сахарную вату? Сын радуется. Пока Матвей садится на слона, и хватает того за уши, готовясь к кругосветному путешествию, Лоринков становится у основания карусели. Ему тридцать. Кто я, и зачем, и чего мне ждать дальше от того, что можно было бы представить моей жизнью, не понимай я отчетливо, что это сплетение сотен других жизней, точкой соприкосновения которых я и становлюсь, лишь тогда выныривая из большого Нечто, — кто я и зачем, думает он. Карусель трогается. Лоринков расставляет ноги пошире. Дощатый круг, — к которому прикреплены слоны, к которому прилеплены мотоциклы, к которому прилеплен «джип», из-за которого постоянно ссорятся дети, к которому прикреплены верблюд и золотая рыбка, — вертится вокруг большого столба. Прислонившись к нему спиной, и стоит, раскрыв глаза, писатель Лоринков. Напротив качели. Огромные лодки взмывают в небо, а в лодках визжат, сжав от волнения коленки, девочки, и стоят напротив них упорно не глядящие между этих коленок мальчики. Лоринкову грустно. Сын весело что-то кричит, и дергает слона за уши, рассчитывая на чипсы и сладкую газировку, еду, вообще-то запрещенную в обычные дни, ну так ведь сегодня выходные, так что мальчишка правильно все рассчитал. Своего не упустит.
Вечером Лоринков, еле ноги волоча после дня, — насыщенного в том числе и походом в «Макдональдс», где не курят, что в Молдавии уже само по себе делает заведение привлекательным для посещения, — садится на диван. Глядит в стену. Будешь читать, спрашивает сонным голосом жена, и встрепенувшись, Лоринков отвечает, что да, только не почитает, а немного поработает, после чего в квартире гаснет все, кроме светящегося прямоугольника ноут-бука. Садится к экрану. Ученые установили, читает Лоринков, что по ДНК мышей можно установить откуда и как прибыли эти грызуны в ту или иную точку земного шара. Невероятное дерьмо. Зачем и для чего нужны такие исследования — думает Лоринков, после чего, устыдившись, предполагает, что, видимо, примерно таким же образом можно установить и кто из нас откуда прибыл. Читает дальше. Ну и сколько ты там написал, бормочет полусонная жена, на что Лоринков отвечает тихонечко — т-с-с, т-ссс, и она снова засыпает. Поворачивается набок. Он продолжает читать.
Лоринкову приходит в голову остроумная догадка, а что, если и у людей так, и стоит может быть написать об этом забавный фантастический роман с уклоном в пост-модернизм? Он спешит записать эту мысль, сопроводив ее язвительным «ха-ха». Как было бы смешно, думает Лоринков, покачиваясь на табуретке: вот, предположим, мой прадед сбил американского летчика, который ухаживал за бабушкой мужа моей одной из моих герл-френд, уехавшей с родителями в Америку, а ее муж — партнер отца работодателя одного из приятелей моей жены. Ну и сплетения, думает Лоринков. Такое только в книгах бывает, думает Лоринков, потирая глаза, которые почему-то печет третий день, хотя почему «почему-то», тут, как раз, все вполне понятно. Глаша плохо спит.
Котовского, пойманного в лесу за Вадул-луй-Водами, везут в Кишинев, чтобы там предать честному суду, Григорий лежит в повозке, и над нею поднимается клубами жирная, горячая пыль, потому что дождь в крае последний раз был только в вечер его поимки. Толпы безмолвствуют. Когда полиция с пленником проезжает через населенный пункт, на дорогу выходят крестьяне, — поглазеть на Котовского, — но ни радости, ни печали он в их глазах не видит. Хорошо, родителей нет. Отец Григория, не вынесший судьбы сына, умирает от удара в благословенном 1915 году, а мать ушла за отцом спустя каких-то два месяца, вот пример голубиной любви, думает Григорий, так и не обзаведшийся женщиной. И никогда не обзаведусь. Котовский думает об этом без горечи, прилаживая свое исхудавшее тело к твердому дну телеги, на которое господа полицейские даже шинель худую не удосужились бросить. Злятся, понятно. Иногда Григорий умудряется закинуть связанные за запястьях руки за голову, и тогда ему кажется, что постель его — вся Земля, и он долго глядит в небо, пока не прибывают на место очередной ночевки. А ведь рядом. Но едут долго, почти с неделю, поскольку власти распорядились продемонстрировать как можно большему количеству бессарабских обывателей и крестьянству, что наказание и поимка смутьянов неотвратимы. Они и неотвратимы. Это понятно даже Григорию Котовскому, который иногда все же начинает мечтать: ну, а вдруг случится какая-нибудь грандиозная катастрофа, скажем, землетрясение страшное или потоп невиданной силы, ну, или революция какая-то? Стыдит себя. Прямо мальчишка. Как было мне четырнадцать лет в день ухода из дома, так и осталось, честно признается себе Григорий — врать не перед кем, и сегодня ему не хочется обманывать даже себя. Песня твоя спета, Григорий, хоть она и была долга, как молдавская протяжная «Миорица», в которой пастух-молдаванин жалуется своей овечке на то, что жестоко убили его двое других пастухов. Повесят скоро. Об этом думает Григорий, когда, приподнявшись на локтях, видит впереди большой тракт, к которому сворачивала их узкая сельская дорога, большой и широкий — если бы Григорий дожил до ста лет, он бы увидел еще, как по этому тракту, покрытому асфальтом, едут троллейбусы и автомобили, потому что повозка с Котовским въезжает на начало главной улицы Кишинева.
Григорий ложится в телегу, принуждаемый к тому окриками полицейских сопровождения, и закрывает глаза. Тень бежит по лицу. Это облако, спешащее совсем в другую сторону, ласково мимоходом прикрывает его от Солнца, но длится это секунды, и у Григорий возникает иллюзия, будто кто-то погладил его глаза. Вспоминает путь. Зеленые и жирные заросли у Днестра, крутые холмы под Бендерами, и безрадостная степь за ними, а после подъем и дорога через холмы по пыльной, — как испокон веку в Бессарабии было, — дороге, зато по обеим сторонам ее уже растут леса, высаженные по приказу царского сатрапа Муравьева сто лет назад. Родина, понимает Котовский, это моя родина, других мест я не знал, а если когда и бывал — а бывал он в Турции и Румынии, под Одессой и в России, — никогда не любил их и никогда и нигде ему не было так удобно, как тут, но дальше мысли Котовского перебивают восторженные и испуганные крики публики. Кишинев начался.
Мышь высовывает нос, — окруженный прямыми, будто антенны, усиками, — из-под камня в подвале недостроенного кишиневского кинотеатра «Искра». Мышь принюхивается. Пейзаж после ядерной войны. Вот что представляет сейчас кинотеатра «Искра», который местные жители называют кинотеатром «Искра» скорее по привычке, потому что никакого кинотеатра «Искра» здесь нет. Есть руины. Они окружены забором, — его время от времени подправляет очередной хозяин кинотеатра, которого нет, — если намеревается возобновить стройку или реконструкцию, как вам угодно. Хозяева меняются. Вот уже пятнадцать молдавских бизнесменов покупают друг у друга руины кинотеатра «Искра» с тем, чтобы выстроить здесь настоящий кинотеатр, но им постоянно что-то мешает, от финансового кризиса до происков конкурентов и налогового давления власти. Мышь высовывается. Камень, под которым она пряталась всю ночь от бродячих кошек и собак, облюбовавших руины кинотеатра «Искра», валяется на месте, бывшем когда-то сидением. Здесь в 1996 году целовались писатель Лоринков и его будущая жена, которым хватило денег только на этот паршивенький кинотеатр, уже приходивший в негодность и разрушенный спустя год бульдозерами. Пылищи было.
В 1986 году на этом сидении отдыхал, — слегка похмельный, — командир полка десантников, дислоцированных в Кишиневе, полковник Лебедь, брат человека, который станет генералом Лебедем, и в 1992 году помирит оба берега Днестра, столкнувшихся в гражданской войне. Помирит кровью.
В 1965 году здесь сидел, волнуясь, студент местного музыкального училища, который станет композитором Догой, знаменитостью, и активистом национал-освободительного движения, и й многое сделает для того, чтобы оба берега Днестра столкнулись в гражданской войне. Дога волновался. Девушка, которую он пригласил в кино, не пришла, хоть Евгений явно дал ей понять, что это может быть больше, чем просто свидание, и даже готов был руку и сердце ей предложить. Русская сучка.
В 1970 году на это сидение опустился, — и с радостью, потому что еле свободное место нашел, — Папа Второй, который смылся с лекции в университете, чтобы посмотреть любимый фильм про индейцев с отважным югославским краснокожим в главной роли. Зацепил ногой соседку. Извинился. Та, с очень независимым видом, кивнула, прощая. Тоже прогуливаешь, спросил Папа Второй, опознав свыкшимися с темнотой глазами сверстницу с соседнего факультета.
В 1955 году здесь сидел сам Косыгин, которого пригласили в Молдавию, чтобы продемонстрировать, каких небывалых успехов достигла республика, еще пару лет назад загибавшаяся от голода. Кинотеатры строим!
Сейчас сидения нет, есть только маленький камень, и из-под него выбегает, смешно семеня, мышь и принюхивается, уставившись носом в сторону несуществующей уже стены. Виден город. На переднем плане — дом, в котором вот уже пятый год живет с семьей писатель Лоринков, которому посчастливилось приобрести жилье в чудесном месте у парка в период низких цен. Мышь — прямой потомок той самой мыши, которая совершила путешествие с Колумбом и даже погрызла кусок карты, купленную Адмиралом у пьяного кормчего за три года до Путешествия. ДНК. Если бы эта мышь попала в программу изучения ДНК мышей, о которой читал, и над которой посмеялся писатель Лоринков, то ученые бы установили, что она прибыла сюда из Латинской Америки, а туда — из Испании, а в Испанию, в свою очередь, из Стамбула, куда ее предки попали с португальскими евреями, покинувшими страну по велению христианнейших государей.
Мышь — молдаванка с невероятной богатой родословной — но разве не одна она на всех мышей мира, как одна на всех людей мира родословная от Адама и Евы, перестает принюхиваться и опускает мордочку, что-то подхватывает с пола, грызет. Стремительный бросок. Это кот с неизвестной нам родословной, — но, безусловно, единой на всех кошек мира, — бросается из-под другого камня, на грызуна, и моментально приканчивает укусом под шею. Не до игр. Животное слишком голодно, чтобы мучить мышь, то притягивая к себе за хвост, то подбрасывая в воздух ударом лапы. Кот, мерзко и утробно урча, оттаскивает мышь в подвал, чтобы сожрать тайком от десятка других кошек, только и ждущих момента, чтобы отобрать еду. Небо темнеет. Начинает накрапывать.
Котовского привозят в кишиневскую тюрьму, которую разрушат спустя каких-то два года, и она останется только на фотографии, — черно-белом снимке, честь откопать который среди городских архивов выпадет тогда еще не писателю, а просто журналисту Лоринкову. Белое здание. Простейшая побелка, два башни по краям, а между ними большая стена, скорее прямоугольная, чем квадратная, и на фото перед тюрьмой — поле. Оно станет республиканским стадионом, и на нем в 1993 году сборная Молдавии дебютирует в мировом футболе, обыграв со счетом 3:2 команду Уэльса, и юный Лоринков, сидящий в пятом ряду сектора «Б», на радостях выпьет бутылку шампанского прямо на трибунах, полностью забитых, и на следующее утро встретит первое из ста тысяч своих похмелий. А в 1917 году — два жандарма. Стоят, вытянув руки по швам, и очевидно, зачем фотограф велел им встать на поле рядом с тюрьмой, — чтобы было понятно, что же это за здание, — ведь впечатления тюрьмы кишиневская тюрьма вовсе не производит. Просто здание. Котовский глядит на него, когда повозка подъезжает к тюрьме, и уже внутри, во дворе, с улыбкой приветствует надзирателей, хорошо ему знакомых. Снова Гриша. На этот раз, понимают и он и надзиратели, путь из тюрьмы ему один — в могилу, бежать не дадут, он уже всех в этом крае достал, он пария, никто, поэтому Котовский в душе признает бесполезность всяких попыток бежать, его история кончилась. Заселяют в камеру.
Григорий находится в одиночке, конечно же, и вход в камеру охраняют два вооруженных часовых, которые сменяются каждые пять часов, чтобы глаз был свежий. Котовский выдохся. Он это прекрасно понимает, так что даже не пытается примериться глазом к окнам, дверям, решеткам, и вообще, хотя бы в воображении, сбежать из заключения. Полный проигрыш. Что самое обидное, Котовский узнает от надзирателей, что особого интереса к нему общество не выказывает, — теперь новые герои, поговаривают что-то о политике. Посещений нет. И не потому, что они запрещены, а они запрещены, — просто к Григорию никто не приходит, не стучат в двери его камеры восторженные девицы, подкупившие надзирателей, не приходят ученые, исследовать наклонности Знаменитого Преступника. Не увещевают попы, не, не, не… Остался один.
Григорий узнает, что дело его рассматривается в суде по законам военного времени, и присутствия обвиняемого не требует — особенно с учетом наклонностей рецидивиста — и юристы справляются с делом всего за неделю. Повесить в два дня. Григорий встречает приговор спокойно, отворачивается к окну, — в которое видны красные листья клена, завезенного по указу городского головы Шмидта, преобразившего Кишинев в достойный город, — и думает ночами, ожидая исполнения приговора, лишь об одном. Я давно уже умер и так, думает он, меня нет, меня нет, меня нет. Я никто, меня зовут никак, Никто Никакович, Никак Никтотович, никто, никак, никто, никак. Котовский прыскает.
Лоринков садится к окну читать «Волхва». Начинается дождь, поэтому Лоринков отодвигает пеструю плотную занавеску, которая позволяет дому хранить прохладу. Читает. Спрашивает в потолок, как он, черт побери, это делает? Вот-вот пойму, говорит он и хватает книгу, чтобы вырвать из нее, словно потроха, все самое важное и самое вкусное. Ага. Вот-вот это случится, думает довольно Лоринков. Как они это делают, думает Лоринков, — когда чувство того, что «вот-вот», отступает, — как они это делают? Полки молчат. Книги выстроены в ряд. Хеллер, Мейлер, Монтень, Апдайк, Барнс, внимание Лоринкова сосредоточено сейчас на Фаулзе и Стейнбеке. Лоринков точно знает, что дело не в таланте. Талантлив-то он так же. А в чем же дело? Времени понять нет. Дети и спать хочется. А вот и Матвей просыпается, и это значит, что пора собираться в сад. Лоринков кивает. Захлопывает книгу. Глядит в окно. За забором когда-то бывшего, а потом разрушенного, а потом начавшегося было строиться, но недостроенного кинотеатра, какая-то возня… Кот, какой-то, что ли. Мышь поймал?
На следующие выходные жена писателя Лоринкова отправляется к сестре, чтобы спокойно обсудить все возможные и невозможные в этом году хитросплетения сюжета сериала про лжецов с Тимом Ротом в главной роли, фасоны юбок и особенности характеров всех членов большой, и, как водится, недружной семьи. Дети по бабушкам. Лоринков вытаскивает из полки книгу, и читает ее, сев на пол на кухне. Понял, наконец, говорит он. Писатель Лоринков и вправду понимает, — понимает, что ожидание и было секретом. Ничего не чувствуя, — торжество, как всегда, — придет позже, он встает с пола, чтобы выпить еще чая, которого он в последнее время пьет слишком много, пальцы пухнут, даже кольцо обручальное еле налазит. Потягивается. Безо всякой связи думает, что жизнь, она такая же — смысл ее это ожидание того, что вот-вот случится. А что? Бог знает. Ничего нового, думает Лоринков, а сколько времени потратил на то, чтобы прийти к этим ошеломляющим своей банальностью истинам. Ведь ему уже за тридцать, а первые мысли на этот счет стали посещать его в двадцать пять, если не раньше.
Но и стараться понять, понимает он, это тоже ожидание, так что… Дальнейшие мысли спугивает телефонный звонок. Ошиблись номером.
Ночью в коридоре тюрьмы Григорий слышит шум, и понимает, что это за ним — камера расположена в «аппендиксе», и ее дверь — единственная, куда ведет этот коридор — его. Котовский садится. Григорий глядит на себя, желая удостовериться, как тело ведет себя перед естественной гибелью от удушья. Могло быть лучше. Пальцы дрожат, хотя, утешает себя Котовский, может быть, это он просто спросонья, да и прохладно по утрам, чай, не лето, кстати, а что там у нас за день. Октябрь, восьмое, отвечает на его вопрос надзиратель, распахнувший перед посетителями двери, и Григорий с изумлением видит перед собой трех шоферов. Деловитые. На автомобиле, что ли, повезете, спрашивает он пораженно, и это так удивляет Григория, что он на минуту забывает о слабости и волнении, и если, если откровенно, о страхе. Куда повезем? Почему на автомобиле? Посетители недоуменно переглядываются, и Котовский и трое мужчин некоторое время испытывают затруднение, пытаясь понять, что имеют в виду собеседник. Вы о каком автомобиле? Потом мужчины глядят на себя и до них доходит, наконец, смысл вопроса Григория, отчего они улыбаются. Объясняют. Товарищ Котовский — от непривычного обращения Григорий слегка морщится, — мы принесли вам свободу, мы из Одессы, мы представители первого чрезвычайного революционного… Еще раз. Григорий просит повторить, тяжело садясь на кушетку, и только сейчас чувствует, как отяжелели его ноги, крепкие ноги гимнаста, на которых он перескакивает перила окружного Кишиневского суда. Революция! Ура, ревут во дворе тюрьмы, и Котовский припоминает, что в городе слышны были какие-то крики, но он списал их на проявления радости или горести из-за очередной победы русского оружия, ну или поражения. Митингуют. Да, заросли вы в лесах да чащах, товарищ Котовский, говорит один из шоферов, и ставит Григория в «курс текущей политической ситуации», и хотя тот был в курсе событий Февраля, — все как при царе, но только без царя, — но октябрьский переворот… Что же это будет? А будет, товарищ Котовский, власть Советов, крестьян и рабочих, восторженно говорит один из этих чудаков в кожаной одежде, и Котовский с улыбкой думает, что очков ему не хватает, но молчит. Посетители говорят. Они объясняют Григорию, что им нужна поддержка, им нужны люди, и, стало быть, им нужны связи Котовского и его революционная армия, которую следует поставить под ружье и красный флаг Свободы. Трепачи и провокаторы. Это Григорий понимает уже на десятой минуте разговора, но если судьба послала тебе перстень в тухлой рыбе, то не стоит воротить нос. Котовский освобожден. Вчерашний смертник, он прощается с надзирателями, просит не держать на него зла, — чем, кажется, вновь начинает завоевывать расположение масс, — и покидает тюрьму на автомобиле. Арестанты выпущены. Двое здоровых жандармов, которых несколько дней назад владелец первой кишиневской фотомастерской, господин Филипп Руже, снял на фоне тюрьмы, остаются наедине с массой бывших заключенных. Толпа ревет. Жандармов убивают. Толпа заключенных бросается прочь из тюрьмы, и несется через поле, разделяющее тюрьму и монастырь, за которым начинается город. Толпа хочет погрома и убийств, но не евреев, а богатых и властей, через которых столько перетерпели. Среди заключенных много рабочих, — их в 1905 году расстреливали боевыми патронами во время мирной забастовки, а оставшихся в живых держали в тюрьме, словно вино на выдержку. Памятная доска этим рабочим висит, — картинно покосившись, — на воротах стадиона «Динамо», под зеленой травой которого покоятся кости двухсот человек, убитых войсками, прибывшими из Одессы в 1905 году. Рты покойных разинуты. В челюстях набита земля. В черепах — земля. Скрюченные кисти хватают землю. Земля везде. Так под землей же. Больше всего скелетов лежат на глубине десяти метров — там была яма, — под воротами с правой стороны стадиона. Теми самыми, в которых в 1966 году стоял сам Яшин, во время дружественного матча между кишиневским «Нистру» и московским «Динамо». Москвичи выиграли.
Григорий Котовский уезжает на автомобиле в будущее, где его ждет военная форма, ладный конь, эскадроны сорви-голов, и гражданская война, а еще повозки французских чулок, которые, по словам злопыхателей, Котовский будет контрабандой переправлять в Румынию из Одессы, чулки тогда были самой твердой валютой, и Григорий подумывает о них, подпрыгивая на заднем сидении вместе с машиной. Не оглядывается. Тюрьма разгромлена и горит, на что обыватели глядят со страхом. Заключенные, пережившие 1905 год и двенадцать лет тюрьмы, бегут через поле от тюрьмы. Бегут к монастырю. К монашкам. Морщинки от гримас на черных лицах — белые. Черные от грязи руки протянуты вверх, кое-кто подбирает камни. Бегут быстро. Ад следует за ними.
Роман, который он вроде бы пишет, но не написал даже еще ни одной фразы, ни одного слова, ни одной буквы, становится персональным адом писателя Лоринкова. Он покупает лист. Огромный, белый лист размером полтора метра на два, даже свернутый, задевает крышу в общественном транспорте, так что Лоринков тащит идет с ним пешком мимо недостроенного кинотеатра «Искра». Вешает дома. Собирается нарисовать на этом большом плакате план книги, и даже берет у сына взаймы несколько цветных фломастеров, чтобы отмечать ими разные сюжетные линии. Ночью жена встает, чтобы выпить воды, и видит Лоринкова сидящим на кухне с калькулятором. Что ты, черт побери, делаешь, спрашивает она. А, ерунда, отмахивается он.
Значит так, думает он, — на следующий день по пути на работу продолжая свои ночные подсчеты, — если в день делать по пять листов текста, то через три месяца работы у него будет триста листов, из которых… Выходные не в счет. Лоринков подсчитывает, что, если он будет прилежно трудиться в течение полугода, то книга будет готова к следующей весне. Недурно. Конечно, его порядком смущает чрезмерное, что ли, обилие приготовлений к этой книге, но, с другой стороны, разве не тот лучший полководец, кто позаботится о снабжении и обмундировании армии еще до начала похода, думает Лоринков. Читает биографию Гитлера. Австрийский сумасброд даже зимней одежды не запас для своих войск перед тем, как бросил их на Восток, ну, и проиграл. Лоринков это вам не Гитлер, думает Лоринков. Лоринков хитер. Поэтому он решает тщательнейшим образом продумать всю сюжетную конструкцию романа, чтобы, когда придет Время Писать, не возникало пауз, способных убить любую книгу. Великолепно. Правда, совершенно неясно, о чем будет этот роман, а если вам неизвестна тема книги, которую вы собираетесь писать, то как же вы сможете разработать мельчайшие сюжетные ходы? Вот дерьмо, ругается Лоринков. Разбивает зеркало с утра, и крови так много, что приходится даже ехать в больницу на перевязку. Жена спокойна. Если жесты чересчур киношны — а в каком только кино разозленный агент ФБР не разбивал зеркало кулаком поутру, — значит все идет как надо. После зеркала математика заканчивается и Лоринков перестает подсчитывать, сколько страниц в день ему нужно писать, чтобы через какое-то количество месяцев…. Угробил на такую чушь почти месяц, смеется он, оглядываясь на себя месячной давности с недоумением. Жена привыкла, что он отказывается от себя вчерашнего, сам себе Петр и Иисус, ну, что же, завтра он посмеется над собой сегодняшним, а пока… Математике конец. Лоринков начинает делать записи. Оставляет по 100 записей в день, покупает себе четыре блокнота, один из которых оставляет на работе, один кладет на кухне рядом с ночником — чтобы писать когда в доме тихо, надо ли говорить, что ни одной строки ночью он так и не написал — один оставляет на даче, а один носит с собой всегда на случай, если приспичит. Приспичило. Лоринков останавливается в центре города, и пишет, притиснув блокнот к какому-то дому левой рукой, а правой — черкая в нем, и не обращая внимания на взгляды прохожих. Пишет час. Похож на грабителя-хулигана, который притиснул к стене дома прохожего, и расписывает того финкой. Сумасшедший.
Зданием оказывается кафе «Пани-Пит», которое открыто здесь с 1998 года, а до тех пор здесь находился дворец пионеров, а еще раньше, в 1918 году, здесь заседало национальное собрание Бессарабии, и Дедушка Первый, бывший депутатом первого созыва, — который присоединил Бессарабию к Румынии вопреки воле меньшинства в виде Котовского и еще пары еврейских отщепенцев, — глядел на небо именно из окна второго этажа. Писатель Лоринков пишет как раз под этим под окном. Пока это не то, чтобы книга, понимает он, — просто кое какие мысли. Вечерами он переносит их на большой белый лист, которым заклеил стену в спальне. Спим втроем, иронизирует жена. Постепенно на бумаге появляются черточки и линии — желтые, красные, зеленые. Большой импрессионистский роман, по замыслу писателя Лоринкова, будет произведением, написанным законченными произведениями, — фразами, каждая из которых сама по себе самоценный текст. Книга, состоящая из ста тысяч маленьких книг. Невероятно, думает он, когда эта мысль приходит ему в голову — а происходит это ночью — и он просыпается, чтобы включить ночник и записать это. С ним ночует страх. Лоринкову кажется, что ни одна мысль не продержится в его голове дольше часа, поэтому никогда не закрывает блокнот. Глаз дергается. Ни одна мысль не задерживается в голове дольше часа. Записанные же, они становятся вовсе не так хороши, как в голове. Глаз дергается еще сильнее.
Как-то днем он возвращается с работы в обед, чтобы передохнуть, и обнаруживает, что лист, прикрепленный к стене скотчем, наполовину отклеился и волочится по полу. Ноябрь, замечает Лоринков на окне слякотные пятна и идея написать импрессионистский роман кажется ему серой, как здешнее небо поздней осенью. Сдирает лист со стены. Чувствуя себя солдатом разбитой армии, никогда не воевавший Лоринков садится на диван. Жена показывает новое платье. Вертится. Наклоняется. Становятся видно декольте и Лоринков улыбается. Решает не торопиться.
Великое Национальное Собрание становится для Бессарабии чем-то вроде первого бала для красотки из высшего света, — события, которое вводит ее во взрослую жизнь, запоминается на эту самую жизнь. Тратится куча денег. Первый парламент! 1918 год в самом разгаре, отмечен Новый год, и Рождество справили, наступает весна и по дорогам Кишинева несутся потоки жидкой грязи, чего бы никогда при прежнем городском голове господине Карле Шмитде не было. Увы, Шмидта нет. До крайности огорченный событиями 1903 года, когда в Кишиневе состоялись еврейские погромы — причем еврейские погромы можно считать игрой слов, потому что громили то ли евреи, то ли евреев, — градоначальник подает прошение об отставке и настаивает на его принятии. Город ужасается. Человек, руководивший столицей края в течение двадцати пяти лет, человек, сделавший из Кишинева самый настоящий город, оставляет нас. Это казалось невероятным: город, привыкший к своему укладу, тихой, провинциальной жизни в холмах, оказался выбит из колеи, отставка градоначальника была так же неожиданна, как если бы вдруг дамы поменяли модный на протяжении неизменных десяти лет синий цвет своих платьев, надеваемых на ежегодный благотворительный бал в Благородном Собрании. Ах, это собрание. Ах, этот бал. Каждый год, в сентябре, когда крестьяне сидят на своих каруцах — бессарабских телегах, единственное отличие которых от остальных телег всей Российской империи заключается лишь в названии, — как-то особенно ухарски, что, без сомнения, связано с новым урожаем винограда. Край веселится. Дамы в синих платьях кружатся посреди небольшого зала — кто же в 1820 году знал, что город так разрастется, — стараясь не коснуться друг друга, а кавалеры шепчут им страстные комплименты. Девушки романтичны. В городе проводят первый конкурс красоты, и заметка об этом выходит в местной газете, на второй полосе, под сообщением о выходе новых облигаций, призванных помочь нашему Отечеству выиграть тяжкую войну против гуннов. Победила Ольга Статная. Дочь русского доктора, — прибывшего в Кишинев для управления городской больницей из Самары, — восемнадцатилетняя Ольга весьма мила и поражает общество знанием литературы в интервью, которое дает газете, и его читает в 2007 году в национальной библиотеке Кишинева, покатываясь от хохота, писатель Лоринков. Какова чертовка! Романы Зинаиды Миранды — псевдоним Фаддея Затопыркина, московского весьма модного в то время писателя — наполненные, обычно, невероятными приключениями скромных но знающих себе цену девиц, которые, пройдя сквозь горнило испытаний, находят свое счастье. Знаменитая «Душечка». Также наша красавица знакома с романами об индейцах Карла Мея, каковыми сейчас зачитывается с превеликим удовольствием и один австрийский ефрейтор, выпросивший себе место в армии кайзера для участия в Великой войне. Герр Гитлер. Ольга Статная замирает перед объективом допотопного фотоаппарата и навсегда остается в истории края миленькой девушкой в платье под греческое — оно бело, что уже само по себе слегка вызов — на специальном кубе, и в руках у нее длинный мундштук с папироской, хотя Оленька, конечно, не курит, это для снимка. Пара вопросов. Первая Мисс-Бессарабия с удовольствием отвечает на них, слегка краснея, но в целом держится с превеликим — какое может быть только в восемнадцать лет у незамужней девицы — достоинством. Город? О, в Кишиневе ей не нравится многое, но более всего человека, близкого к идеалам цивилизации и культуры, раздражает в этом городе присутствие на центральных даже улицах огромных луж, через которые и перескочить-то невозможно. Он так провинциален… Она, конечно же, рождена для большего, делится с корреспондентом Ольга Статная, ее будущее, вероятно, в Америке или какой-то такой же далекой или романтичной стране… Америка! Вот то страна, а не эта убогая провинция! Евреи кивают. 1912 год. В это время из Бессарабии начинается первая иммиграция, евреи уезжают в Латинскую Америку, потому что там тихо, спокойно, и нет войны, так что они собираются, оставляя жен и детей, и едут — только мужчины, чтобы разведать, как там оно и что. Все спокойно! Известия об этом приходят в Бессарабию спустя год после первой волны иммиграции, и жены с детьми усаживаются в каруцы, которыми правят молдаване — себе на уме и навеселе — и уезжают из края, ведь слишком уж здесь стало неспокойно. Пятьдесят тысяч человек — это по самым скромным оценкам, а евреи же, склонные преувеличивать, говорят о ста семидесяти — уезжают из Бессарабии в те несколько лет, чтобы поселиться на границе между Эквадором и Перу. Райское местечко! Уехавшим завидует вся Бессарабия, особенно романтичные девушки, которые не находят себе места среди огромных кишиневских луж, провинциальной затхлости и всеобщей скуки, густой не менее знаменитой бессарабской пыли. В то же время в Соединенных Штатах господин Монро провозглашает принцип «Америки для американцев», так что Оленьке Статной приходится подумать о каких-нибудь других местах, куда бы ей следовало умчаться на аэростате. Отец улыбается. Батенька Ольги, доктор Статный, глава кишиневской городской больницы, полагает, что с замужеством все это пройдет. Лоринков согласен. Евреи кивают.
В 1912 же году в Латинской Америке впервые произошло то, что в документах бюрократы кличут «всеобщим воинским призывом». В 1912 же году вспыхнула первая война между Перу и Эквадором, жесточайшее столкновение, в ходе которого пленных не брали. Из пятидесяти тысяч бессарабских мигрантов погибли и пропали без вести сорок девять тысяч, а оставшиеся собрали манатки, и поехали, под проливными дождями, к берегу моря, чтобы сесть на пароход и вернуться в Бессарабию. Среди пропавших был прадед писателя Лоринкова, житель села в Буковине, сапожник Крейцер. Огромный мужчина, — чей рост становился тем выше, чем дальше был последний миг прощания, и чем больше выпивали во время семейных торжеств его потомки, — Крейцер был призван в армию Эквадора, сражался храбро, и погиб как герой. В 1982 году дальние потомки Крейцера, которым все хотелось разыскать прапра… дедушку, отправили запрос в «Красный крест», и тот нашел для них эту справку из национального архива Эквадора. Так что я потомок героя Эквадора, усмехается Лоринков, откупоривая бутылку чилийского — эквадорского не нашлось — белого вина, которое находит в московском супермаркете. Он на книжной выставке. Его пригласили туда презентовать новую книгу, написанную года два назад, а для Лоринкова два года без работы срок достаточный, чтобы чувствовать себя слегка самозванцем, ну, будто и не он писал эту книгу. Ну, да что же с этим поделать, думает он равнодушно, — проталкивая пальцем пробку в бутылку, — и ему не удается, так что приходится идти за штопором в бар гостиницы, где обслуга глядит понимающе. Как же, молдаване, вино. А, плевать, думает Лоринков, и пьет, глядя с девятого этажа на какое-то грандиозное московское строение времен Сталина, которое вполне может оказаться жилым домом, в Москве все возможно. Плевать. Все проходит, вспоминает писатель утешительные слова одного древнего царя, и думает, правда ли, что одежды того были менее роскошны, чем лилии, цветущие в полях. Ладно. Прозит, Эквадор. Евреи кивают.
В 1913 году тысяча беженцев из Эквадора и Перу прибыла в Бессарабию, и ради того, чтобы помочь беднягам устроиться на старом-новом месте, в Благородном Собрании Кишинева был дан благотворительный бал с билетами по пятьдесят рублей за штуку. Как всегда, когда за портьерами возникают призраки голода и смерти, дамы возбуждаются, и щеки у них краснеют. Дамы блистают. Более всего поражала воображение собравшихся кавалеров, — конечно же, — победительница первого конкурса красоты, Оленька Статная, на которой было не синее, как было приятно уже лет десять, а белое платье. Переворот в моде! Кавалеры, подходившие к дамам с церемонным наклоном головы, чувствовали, как что-то неуловимо меняется, что-то тревожное появляется в атмосфере затхлого до сих пор, края. Окраина мира. Бессарабия переставала быть такой, по крайней мере, в глазах своих обитателей. Так оно и случилось. В 1918 году, когда Бессарабия, — нежданно-негаданно для себя, становится независимой, что повергает в шок всех жителей края, — на эти земли предъявляют претензии сразу несколько держав. Нас хотят, думают бессарабцы. Ого, говорят бессарабцы. Носы приподнимаются, и с этого момента все они начинают чувствовать себя жителями центра мира, хотя никаких к тому оснований у них нет. Если бы румыны и русские тогда знали, к чему приведет их эта иррациональная борьба за этот никому не нужный клочок земли, они бы туда и носу не сунули, говорит по секрету писателю Лоринкову в 1998 году румынский историк Георгий Пештерян — прочитавший эту фразу в дневниках маршала Антонеску, расстрелявшего триста тысяч евреев Бессарабии, а среди них и тысячу тех дураков, что вернулись сюда из Латинской Америки. Из огня да в полымя.
Карточный домик осыпается через каких-то несколько лет, а сейчас дамы в Благородном Собрании, — его в 1965 году перестроят в кинотеатр, — кружатся и краснеют. Деньги собирают. Как смешно. Скоро колесо начнет вращаться так быстро… Руководители города станут меняться не реже, чем любовницы сластолюбца, все будет рушиться, вертеться, не будет ничего постоянного, и Бессарабия с удивлением обнаружит, что тихое болото, в котором она мирно дремала последние триста лет, находится в жерле не остывшего вулкана. Ее хотят все! Соседская Румыния предъявляет претензии на Бессарабию, как часть большого Румынского королевства; украинские власти недвусмысленно заявляют о своих притязаниях на Измаил, Хотин и Буковину. Бессарабия просыпается. Созывают первое Великое Национальное Собрание, — именно такое название придумывают для своего первого парламента бессарабцы, в которых просыпается вкус ко всему громкому и пафосному, — и набирают сто одного депутата. Все они, как один, во фраках, воротничках, и цилиндрах, глядят на посетителей молдавского парламента с большой черно-белой фотографии, — отцы-основатели независимой Бессарабии. Глядят строго. Словно черные вороны, сидящие на пружинящей от хвои земле в парке напротив его дома, — думает писатель Лоринков, заглянувший сюда в 2009 году, в апреле, — после того, как парламент и президентский дворец разгромлены митингующими, протестующими против результатов парламентских выборов. Выборы подтасованы! Утверждая это, несколько тысяч молодых людей, которых все будут считать провокаторами — от оппозиции, по мнению властей, и от властей, по мнению оппозиции, — разгромят несколько зданий в центре города и двое суток в Кишиневе не будет никакой власти. Ему не привыкать.
Писателю Лоринкову звонят из московского либерального издания, и, задыхаясь от срочности, — что не производит на него, ветерана СМИ, никакого впечатления, — просят написать что-то о происходящих событиях. Ядовито описывает. Материал не хотят брать, потому что недобрый Лоринков не находит ни для кого доброго слова. Ну, что же. Он выкладывает материал в глобальную помойку интернета, и забывает о нем, чтобы через два дня с удивлением найти на верху самых цитируемых текстов. Город дымится. Писатель Лоринков с выражением величайшего презрения на лице выходит в центр Кишинева, чтобы попасть в здание парламента вместе с мародерами и вынести из здания раритетную фотографию членов первого Великого Национального Собрания. Зачем, неясно. В любом случае нужно чем-нибудь заниматься, пока не пишешь, виновато говорит он жене, которая не могла дозвониться до него весь день, и сидела к вечеру на кухне, источая аромат ядовитой иронии и валерьянки, и сначала бранилась, а потом расплакалась. Любит, значит. Лоринков небрежно утешает ее, и показывает фотографию со старомодно одетыми мужчинами, и большущая карточка отправляется на стену, — туда, где был план его ненаписанной книги, — а зачем отправляется, Лоринков и сам не знает. Луна зовет. В таких случаях он всегда ссылается на Луну, хотя можно говорить и так — дурь в голову ударила. Дурь или луна, а с этих пор со стены на Лоринкова глядят торжественно сто и один человек, которые приняли декларацию о независимости Бессарабии, смотрят испытующе и чуть надменно. Среди них и Дедушка Первый.
Выходя от проститутки Александры Копанской, девицы кишиневского публичного дома среднего разряда — смена белья каждый день, пять рублей просто так и десять рублей с напитками и закуской, — и удовлетворенно покряхтывая, Дедушка Первый не представляет, чем закончится день. 1919 год, и в Бессарабии, — крае с поздним зажиганием как ехидно говорит о нем Лоринков, — все еще что-то вроде царской власти, только без царя. Целый год спустя переворота Кишинев понимает, что пора бы и какие-то выборы произвести, и вообще определиться, что да как, поэтому решают провести великое Национальное Собрание. Что сие означает? Это, господа, будет наш первый парламент, по типу Думы, и представлены в нем должны будут все слои общества, достойные того. Выборы проводят, и в парламент попадают сто один человек, среди которых: крестьяне, рабочие, интеллигенция, и также землевладельцы, которые и являются истинными владельцами Бессарабии, потому что о военном коммунизме в крае речи не идет. Бессарабия независима! Великое Национальное Собрание собирается в
здании в центре Кишинева — много позже здесь будет ресторан, и тошнотворный аромат жареной картошки перебьет в ноздрях мертвецов всякие ароматы цветущих в ту пору каштанов — и господа депутаты ожесточенно спорят, размахивают руками, и говорят, говорят, говорят. Настоящие демократы. В это же время Румыния вводит в Бессарабию войска, потому что нестабильное положение в соседнем крае — информирует министерство иностранных дел Румынии все страны Антанты — может стать причиной волнений и на румынской территории. Кстати, о территориях. Как Антанта смотрит на то, чтобы два румынских государства воссоединились, спрашивает Бухарест осторожно Антанту, на что представители той, узнавшие о существовании Бессарабии едва-едва, лишь пожали плечами. Сказали, да. Бухарест благодарит, обещает помощь и поддержку Антанте, — в 1918 году чего не пообещать-то, — и вводит войска в Бессарабию, и цепь солдат окружает здание с Великим Национальным Собранием бессарабцев. Говорильне конец. Дедушка Первый приезжает в Кишинев, чтобы сбыть масло, которого в этом году был урожай невероятный, и завершив успешно сделку, вкладывает вырученные деньги в пояс, часть отложив на развлечения. Развлекается. Отдохнув, расплачивается с проституткой, — ничего так, только много о себе думает, все о каких-то книжках поговорить хотела, про папу, учителя истории рассказывала, — ох уж эти истории о бывших гимназистках, соблазненных и брошенных, — и выходит из борделя. Навстречу солдаты. Стой, жидовское семя. Простите, господа, но какой же я жид, смеется Дедушка Первый, на что лейтенант, сопровождающий солдат, говорит, внимательно глядя на посетителя борделя — имя, социальное положение? Дедушка Первый представляется. Чудесно, говорит подобревший румынский лейтенант, — представитель славного земледельческого сословия, как раз то, что нам нужно, прошу вас пройти с нами. Позвольте! Не позволю, качает головой румын, и солдаты подталкивают Дедушку Первого всю дорогу до Великого Национального Собрания, где ему велят переодеться во фрак, сорванный с какого-то депутата предыдущего, — недействительного, как объявили румыны, — созыва. Молдаване морщатся. Как же так, сердито спрашивает Дедушка Первый румын, это же представители народа, их же выбрали, да как вы смеете. Солдаты смеются. Товарищи, гремит Котовский. Дедушка Первый, прибывший из глуши, с изумлением видит среди депутатов окруженного парламента и самого Гришку Котовского, душегуба, каких днем с огнем не сыщешь, вот и в их селе он, уходя от погни, пристрелил жандарма, а у того семеро детей мал мала меньше остались. Его же повесили! Товарищи, гремят шоферы. Ну, не шоферы, а люди, которые одеты в кожу, будто шоферы какие, и Дедушка Первый с неприязнью думает, что не видит среди них ни одного местного. Откуда взялись? Вы, идиоты, скажете нам спасибо, говорит румынский лейтенант, устало прикурив у входа в зал заседаний, где новых депутатов выстраивают друг за другом в затылок — мы освобождаем вас от коммунистов и жидов, которые вас без хлеба сожрут, а вы еще ломаетесь. Дедушка Первый молчит. Слушает еще немного тех, кто в зале протестует, призывает, принимает, апеллирует, провозглашает, потом решительно поправляет фрак. Заходит в зал.
Румыния штыками сгоняет депутатов первого Великого Национального собрания, объявляет его недействительным, и прежних депутатов — особенно коммунистов и жидов — вытаскивают из здания, а тех, кто упрямится, стреляют прямо у стены. Бойня у парламента. Времена еще вегетарианские, так что пристрелили всего восьмерых, — среди них и папеньку Оленьки Статной, — а оставшихся разогнали по домам, бедняги даже сфотографироваться не успели. Снимают других. Сто один депутат, — набранные по городу из случайных людей, — принимают решение о присоединении Бессарабии к Румынии. Позируют с достоинством. Дедушке Первому понравилось. Позже он не раз жалел о том, что сделал, особенно когда пришли Советы и многих из тех, кто помогал румынской администрации, искали и расстреливали, и ему приходится прятаться. Избегает пули. От голода, правда, не убедишь, так что депутат Великого Национального Собрания, вынутый из постели шлюхи, Дедушка Первый умирает от голода на железнодорожном вокзале Кишинева много лет спустя. Другой депутат Собрания, Григорий Котовский, бежит с красными смутьянами из румынской тюрьмы — это очень просто, румын легко подкупить — и останавливается в Тирасполе, где создана Автономная Молдавская ССР в составе Украинской. Грише дают коня, и он сколачивает отряды, и вновь становится необычайно популярен, потому что у него красивая шашка, у него красивая портупея, у него новая легенда. Готовит походы. Ни Котовский, ни Румыния, ни Москва, ни Бессарабия, ни минуты не сомневаются в истинном назначении этой АССР. Площадка захвата.
Дедушка президента Молдавии Воронина, — равнодушно глядящего на погром правительства, парламента и президентского дворца в апреле 2009 года, — тоже жалеет. Ненавидит Советы. Говорит об этом в интервью румынскому корреспонденту, который в 1942 году опрашивает жителей Бессарабии, вновь занятой румынскими войсками, как им жилось при Советах. Хреново, режет дед. Плачет, поет «Миорицу», обниматься лезет, кажется, он просто пьяный, думает румын с неприязнью, но записывает все дословно и статья выходит в оккупационной газете. Шестьдесят лет спустя эту статью перепечатывают оппозиционные издания Молдавии с заголовком «Дед коммуниста номер один ненавидел коммунистов». Коммунист Молдавии номер один, президент Воронин, глядит на дымящиеся здания в центре города. Варвары бесчинствуют. Ему все равно, он уже заключил контракт на реконструкцию зданий с самим собой и выделил себе 10 миллионов долларов. Пусть их. Воронин глядит на Кишинев с десятого этажа здания президентского дворца, и ни о чем не беспокоится: ходы наверх перекрыты, а в толпе и правда много провокаторов от властей. Как и от оппозиции. Молдавия. Здесь все всегда и во всём замешаны. Сорока метрами ниже, в фундаменте президентского дворца, замурованы кости расстрелянных противников разгона Великого национального Дворца. В 1918 году здесь была протестантская кирха и в ее подвале румынские войска, в ночь после присоединения Бессарабии, прикончили всех противников этого «шага в будущее». Набралось с сотню. Что за ерунда? Внизу какой-то парень волочит за собой не монитор, не стул, не клавиатуру или сейф, в надежде распилить попозже, а большой кусок… картона… бумаги…? Президент Воронин, заключивший контракт с самим собой, и укравший, в стране, по версии оппозиции, все, что только можно, а по версии своих сторонников, почти все, что можно — перегибается через карниз под напряженными взглядами охраны, и говорит, вот черти, ну что за воровской народ, даже фотографии воруют. Охрана хохочет.
Григорий не дурак, — понимает, что время его уходит, и революционных романтиков сменят те, кто умеют подшивать дела в папочки, а он, Котовский, не из их числа. Подумывает смыться. Вполне возможно уйти с отрядом в Турцию, вспоминает он свою давнюю идею, но и в Турции сейчас неспокойно, тем более, что товарищи большевики помогли этому их Кемалю-паше прийти к власти, и даже, говорят, сам Фрунзе поехал в туретщину военным советником. Чудны дела твои. Приходит пакет из Москвы. Котовскому, разбои которого большевики упорно считают борьбой с царским, а после белогвардейским, режимами, следует организовать несколько отрядов, способных в течение длительного времени к автономным походам вглубь вражеской территории. Велено Троцким. Котовский много слышал об этом удивительном человеке, превосходном ораторе, и поэтому его огорчает суконный стиль письма, все эти «следует организовать», «войти в расположение». Как-то… сухо! Было бы куда лучше, мечтательно думает Григорий, выйдя во двор дома на берегу Днестра — видна оккупированная Бессарабия, — если бы приказ был написан языком пламенным, революционным. Приказываю перейти Днестр! И в атаку, и без всяких там… Вот было бы здорово, вздыхает Григорий и ласково улыбается черноногой белозубой молдаванке, вынесшей ему таз с водой для утреннего умывания. Грудастая. Григорий даже и не вспоминает девицу Анестиди, и вообще, эти несколько лет после революции, так изменившие уклад жизни края, отодвинули события дореволюционной жизни как будто в далекое-предалекое прошлое. При царе значит при царе Горохе. Руки Котовского плещутся в тазу словно два переполненных жизнью карпа, рядом с тазом падает спелый абрикос, разбрызгав от удара о землю сочную мякоть и сладкий запах, и Григорий вдруг с удивлением думает: а ведь жив до сих пор, полон жизни, полон сока, значит, судьба моя жить долго и счастливо. Молдаванка улыбается. Идет в дом. Ну, и Григорий за ней. Денщик Котовского глядит им вслед пустыми глазами, и отворачивается, чтобы вечером отписать в очередном докладе, что товарищ Котовский пренебрегает поручениями из центра, и проводит время в буржуазных удовольствиях, в то время как… Стучит машинка. Стучит телеграф. Стучат провода. Стучит боек по бумажной ленте, и человек с козлиной бородкой в Москве, слушая расшифровку сообщений, хмурится недовольно и мнет подбородок. Гражданская война вот-вот кончится, и все, что нужно сейчас там делать, так это не провоцировать румын, а сколачивать отряды и готовить, готовить, готовить, а еще один Махно нам не нужен. Прекратить вольницу.
На следующий день Котовский решается уходить, потому что понимает: его пытаются опутать организационными проблемами по рукам и ногам, лишить опоры среди его вольницы, заодно и вольницу присмирить. Уйдем в Персию. Поняв это, Григорий радуется, и думает, что вот она, жизнь-то настоящая — только начинается, и будет это вольная скачка по персиянским просторам во главе верного отряда с белозубой девчонкой за спиной. Велит собираться. Отряд думает, что их поведут на столкновение с какой-нибудь белогвардейской бандой из-за Днестра, которые время от времени приходят, чтобы пограбить Левобережье, как они — Бессарабию. Котовский не объясняет. Дойдем до границы, там все растолкую, думает он, и пишет в ответ Москве бодрую телеграмму, что, мол, все отлично, выхожу на плановую зачистку территории юга от банд… столкновения… вооружения… Чекисты смеются. Наивный как дитя, Котовский — дитя наивной Бессарабии, — собирается, когда ему приносят записку от какой-то дамы, встреча с которой изменит в дальнейшем всю его жизнь. Так, по крайней мере, говорится в записке. Провинциальная романтика. Конверт пахнет духами, это невероятно модный в том, 1922-ом, году, аромат из Франции, разработанный некоей мадам «Шанель». Подделка, конечно. Но запах волнует. Мог ли он устоять? Бессарабский Робин Гуд ведет свой отряд мимо Одессы, и, оставив их под городом, на день покидает расположение отряда, чтобы встретиться на пляже с таинственной незнакомкой.
На пляж Котовский заезжает прямо на коне, — красивый, статный всадник с наголо бритой головой — и запахом спелых абрикосов и французских духов в ноздрях, и видит у самой кромки воды женщину. Глядит в море. Котовский спешивается, оглядывается, поправляет пистолет на кобуре, и идет к даме, оставляя смазанные по краю следы. Ветер в лицо. Котовский глотает соленый воздух и восторг переполняет его, и он внезапно понимает, в чем состоит его предназначение, и что есть та цель, которая манит его сильнее женщины. Рожденный свободным. Рожденный бежать. Мадам, начинает он галантно, — переполняемый жизнью, переполняемый соком, переполняемый осознанием того, что он Есть, — я, как мы и уславлива… Чайки взлетают. Их спугнул выстрел, от которого Котовский падает ничком, лицом в песок, не успев даже обернуться, чтобы увидеть, кто его убил, и не успев ничего подумать толком. Бессарабия теряется в догадках. Была ли девушка? Может, это манекен в женском наряде поставили на пляже? Где прятался убийца? Убийство было из-за женщины или все-таки успели чекисты? Этого так никто никогда и не узнает. Мы тоже.
Помоги мне, Боже, поднимает Лоринков глаза к потолку офиса, и напялив на голову кожаные наушники. Вспоминает Крестителя. Тот питался акридами, и носил одежды из верблюжьей шерсти, а на поясе его был кожаный ремень, говорит Интернациональная Библия. Та самая, которую легко может прочитать любой начинающий изучать английский язык, а к ним относится и Лоринков, давно подумывающий сменить место жительства. Манит Новая Зеландия. Прекрасные пейзажи, круглогодичная температура 25 градусов выше нуля и ни градусом меньше, и ни градусом больше, а чем старше становится писатель Лоринков, тем больше ему начинает нравиться набившая оскомину «золотая середина», а еще океан, по которому прекрасный пловец Лоринков скучает. Стало быть, он скучает почти всю свою жизнь, потому что дни, проведенные им у океана, не составляют и года. Особенно запомнилось Баренцево море. Больше всего Лоринкову хотелось бы войти в его воды и поплыть вперед, расталкивая руками ледяную крошку и отфыркиваясь, словно морж какой. Увы. На дворе жаркая в этом году кишиневская осень, и в небо взмывают столбы пыли, которой здесь за пятьсот лет, — еще со времен упоминания кошмарной бессарабской пыли в хрониках путешественника Дионисия Фелиодора — и моря здесь нет. Было сто миллионов лет, но потом отступило, и Молдавия — это дно древнего мезозойского моря, — вся усыпана ракушками, останками древних морских животных, и иногда Лоринкову хочется, чтобы вода снова поднялась и погребла эту странную страну под собой. Вместе с ним заодно. Словно Атлантида какая, шепчет о родине Лоринков, и поднимая глаза к потолку, призывает Бога. Боже, помоги мне, укрепи руку мою и дай праведного гнева, да побольше. Еще Лоринков вспоминает белую девчонку из колледжа для богатеньких, которую поймали трое черных на стадионе, когда она возвращалась со свидания с рафинированным белым парнем — вечный сюжет порнорассказа, бегло просмотренного за утренним кофе. Та тоже кричала Боже, помоги мне. Спокойно. Возьми себя в руки, велит Лоринков, и прибавляет громкости музыке, пытаясь сосредоточиться и найти в мыслях ту опору, отталкиваясь от которой, начнет бросать пальцы на клавиатуру: сначала медленно, потом быстрее, затем, наконец, будет стучать так быстро, что текст потом придется вычитывать не один раз, так много опечаток в нем будет. Мысль не догнать. Было бы что догонять. Лоринков поправляет наушники, и вспоминает. Бога, белую девчонку из порнорассказа, Иоанна Крестителя, вчерашний разговор с братом, предстоящую встречу с приятелем у книжного магазина, прошлогодний заплыв с турецкого берега до одного из одиннадцати греческих островков, расположенных всего в трех километрах от побережья. Сын растет так быстро, поет нервно солист ленинградской группы «Сплин». Лоринков с ним совершенно согласен. Вздыхает. Отодвигает от себя клавиатуру с мыслью, что сегодня явно не его день, как и вчера, как и позавчера, как и все предыдущие несколько месяцев, да и вообще. Будет ли он когда-нибудь еще писать? Неужели это ушло? Лоринкову интересно, но горечи, страха или сожалений он не испытывает, в конце концов, писателей судят по наивысшим их достижениям, и Аксенова, — которого оплакали этим неудачным для него, Лоринкова, летом, — запомнят по «Острову Крым», а не неудачным последним книгам. Бояться нечего. Но что, в таком случае, ждет его впереди. В юности писатель Лоринков часто думал о том, в чем же состоит его предназначение, для чего он? Как сейчас о смерти. Сейчас, о, да, тридцатидвухлетний Лоринков ныряет в сон с мыслями о смерти, оплывая потом на огромном диване, и просыпается с мыслями о ней же, когда сын тихонько ноет ему в ухо «вставай, вставай, да вставай же». Обычно в шесть утра. Ранняя птаха. В двадцать лет он часто думал о том, что у него есть лазейка: брошу все и поеду в Мексику, буду бродяжничать, а то подамся на Галапагосы, спасать гигантских черепах, а может заплутаю в джунглях и стану вождем какого-нибудь слаборазвитого племени, кокетливо думал писатель Лоринков. Много думал. До тех пор, пока жилистая рука судьбы не взяла его за шкирку и не ткнула лицом в то, для чего он и был рожден. Писательство. Зрелище завораживало. Перед лицом его проплывали мириады видений, он нырял в цветные фантазии, и выныривал из них — как расшалившийся дельфин; он видел огромные несуществующие города, он просыпался посреди ненастоящих полей сновидений. Книги писал. Сейчас он, повторимся, думает о смерти не реже, чем когда-то о предназначении. Улыбается. Сдается мне, думает часто писатель Лоринков, смерть и есть мое предназначение, и костлявая ласково улыбается ему из-за левого — где, как известно и хоронятся темные силы, — плеча. Отцу все равно. С тех пор, как у Лоринкова появились дети, он боится смерти исключительно в утилитарном смысле, его беспокоят лишь технические моменты. Будущее детей. Экзистенциальная сторона происшествия, которое случится с ним неизбежно, — о, куда неизбежнее теоретической возможности спасать черепах на Галапагосах, ухмыляется Лоринков, — его не волнует. Я умру. Этого достаточно, считает писатель Лоринков, напоминая себе об этом утром и вечером, днем, в ванной, на улице, и дома, и даже ночью, когда он просыпается из-за чересчур громкой музыки диско-бара по соседству. Воды захотелось. Он идет на кухню, и, прислонив лицо к стеклу, глядит на чернеющую улицу, ожидая рассвет — он знает, что уже не уснет, и утра лучше дожидаться стоя. Он и стоит часа два, пока небо не посерело, и над парком не начинают кружиться вороны, выбирающиеся с ночевки в город. Город просыпается. Писатель Лоринков ставит чайник на плиту, идет в ванную, и глядит на себя в зеркало. Крупное лицо с большими глазами, усы и бородка, которые каждую неделю ровняет ему машинкой жена, и тени под глазами, а дальше он себя рассмотреть не успевает, потому что в дверь стучат. Дом проснулся.
После разгона Великого Национального Собрания дела у одного из депутатов, — Дедушки Первого, — идут в гору, и начинается все с того, что на выходе из здания его окликают, и просят подписать какой-то лист. Подмахивает, не глядя. Солдаты, окружившие парламент, — который и не парламент, а так, смех один, простое четырехэтажное здание с просторным залом, в котором стулья поставлены кое как, — косятся на депутатов. Гребанные бессарабцы. Но приказ есть приказ, так что, после подписи, каждому депутату, ошалевшему от столь быстрой смены событий, вручают некоторую сумму денег, и не находится ни одного, кто бы отказался. Дураков нет. Взятки гладки, они всего лишь случайные горожане, которых румыны набрали сюда для того, чтобы придать вид законности случившемуся фарсу, который… Сосед шепчет. Дедушка Первый поворачивается и громко спрашивает, чего это он разводит тут агитацию, и сосед бледнеет, отчего всем становится совершенно очевидно, что волосы у него чересчур кучерявые и подозрительно черные. Жид затесался. Первый расстрел депутата Великого Национального Собрания проходит быстро — солдаты просто вытаскивают упирающегося мужчину из толпы вспотевших, уставших, и мечтающих о том, чтобы разойтись по домам депутатов, и приканчивают того у стены. Закалывают штыками. Это и расстрелом-то называть нельзя, думает Дедушка Первый, на которого эта смерть, — уже десятая по счету, и произошедшая у него на глазах в этот день, — никакого впечатления не производит. Поделом вору мука. Кто знает, не крикни громко Дедушка Первый про агитацию, может, прикончили бы у стены его, а не этого несчастного жида, который, кажется, вовсе и не жид никакой, а самый что ни на есть грек, Анестиди, кажется, его фамилия, и Дедушка припоминает историю, вроде бы случившуюся давненько с дочкой грека и Котовским. А может, слухи. Дедушка Первый ошалело покачивается, стоя в очереди депутатов, подписавших Декларацию о присоединении к Румынии, — получает, после получасового ожидания, деньги, — и выходит на улицу, с облегчением чувствуя, ветерок, задувающий за воротник. Фрак забыл вернуть. Дедушка Первый поворачивается к зданию Собрания, но, постояв несколько минут, и глядя, как из дверей выскакивают, один за одним, измученные люди, машет рукой. От греха подальше. Спешит к знакомому торговцу, у которого оставил деньги и повозку, спешит поделиться новостями, после чего выбирается потихоньку из города. Заставы перекрыты. Господин лейтенант, обращается Дедушка униженно к молодому пареньку, который скучает на выезде из города, глядя, как подчиненные разыгрывают в кости лохмотья какого-то забитого до смерти еврея, погромы вот-вот начнутся. Говори. Нельзя ли мне покинуть город, я, видите ли, начинает бормотать дедушка, но тут лейтенант — почему все они лейтенанты, Румыния словно бы сослала всех своих лейтенантов в Бессарабию, думает Дедушка Первый, — поворачивается. Вид у лейтенанта отсутствующий. Возвращайся в город. Господин лейтенант, пытается зайти с другого боку Дедушка Первый, с вами говорит депутат Великого Национального Собрания, принявшего решение о присоединении нашего края к вашей благословенной стра… Экий прыткий. Офицер пожимает плечами, и возвращается к наблюдению за солдатами, бросив на ходу странную фразу о том, что Бессарабия это странный край, завораживающий свой меланхолией, настоящая черная дыра метафизики, и много лет спустя бессарабский писатель Лоринков возьмет эту фразу эпиграфом к одной из своих книг, так ему понравится эта фраза. Изречение Чорана. Лейтенанту Чорану фраза тоже нравится и он спешит записать ее в небольшой блокнотик, который всюду таскает с собой, вызывая насмешки жизнерадостных сослуживцев, те говорят, что лучше бы он по девкам шлялся и вино с сослуживцами пил. Наш писака. После лейтенант Чоран, оперевшись на стек, глядит на игру в кости, демонстративно не обращая внимания на молдаванина, и Дедушка Первый понимает, что из города ему не выбраться, по крайней мере, по дорогам. Что делать. Оставить повозку в городе и брести в село пешком чересчур хлопотно, да и жалко добра, так что Дедушка Первый поневоле решает стать городским жителем, и перебирается в Кишинев, или, если точнее, Кишинев не выпускает его, и в городе становится на одного жителя больше. Добро пожаловать.
Ночь 12 октября 2007 года в Кишиневе выдается невероятно жаркой, что, в общем в Молдавии, теплая погода которой скорее преувеличение, нежели правда, дело странное. Природная аномалия. Жители города выбираются в парки с разбитыми асфальтовыми дорожками, и редкими кусками тротуаров, белеющих над выбоинами дорожек, словно редкие зубы алкоголика. Городская разруха. Голоса звучат над городом до полуночи, пока температура не опускается до тридцати градусов и можно хотя бы на какой-то срок уснуть. Лоринков храпит. Все дело в нервах и избыточном весе, который, как ни сгоняй, появится снова, — особенно если в магазине рядом с домом появился отдел свежей выпечки, — думает жена писателя, и толкает того ногой. Слону дробина. Приходится тормошить Лоринкова, и он, приподнявшись над кроватью, несколько минут не может понять, в чем же, собственно, дело, а когда понимает, перебирается на пол, чтобы никому не мешать. Снова засыпает. Писателю Лоринкову снятся триста лет Кишинева. Ему видится сон о городе, в котором он спит, ворочаясь на кровати, — весь мокрый, как большая, обессиленная рыба, и на тело мужчины на полу глядят сверху души всех жителей этого города. Всех, когда-либо бывших здесь за те триста лет, что Кишинев — город. Снятся поля. Бескрайние поля, которые отлипал от горизонта первый государь Бессарабии, которой тогда еще и не было, — невысокий злобный человек, звали его Штефан Великий. Нервный молдаванин. Ох, чего только не вытворяли банды сброда, который Штефан набирал со всех окрестных земель и делал их армией, осужденной на погибель в очередном сражении с турками. Сорок сражений. Сорок армий, и после каждой выигранной битвы, после каждой пирровой победы, — а иными они быть и не могли, слишком велик был противник, — коротышка Штефан набирает новую армию, а призраки старой отправляются на небо, на низкое бессарабское небо, цеплять крючьями ноги небесных коней и охотиться на Большую и Малую Медведиц, да прекратите же вы так бить и колоть их, ворочается во сне беспокойно Лоринков. Штефан смеется. Маленький ублюдок, предавший двоюродного брата, о котором позже писатель Стокер написал полную нелепиц книгу, Влада Цепеша — для интеллигентного Лоринкова это источник вечного комплекса вины перед румынами, — Штефан был женат на сестре Ивана Грозного, и она проезжала через Кишинев. Еще поселок. Маленькое селение, затерянное в полях, потому что холмы здесь появились много позже, они стали результатом деятельности человека, отлично знает Лоринков, ведший краеведческую рубрику в местной газете несколько лет. Вонючий поселок. Загаженное мухами местечко, в котором было несколько стад, пару крестьянских домов, два-три спившихся армянина, один грек, пару молдаван и, вероятно, еврей-другой. Проклятая дыра. Она снится Лоринкову собой пятисотлетней давности и писатель не в силах оторвать тело от пола, жалобно стонет во сне. Видит холмы. Вот они, наконец, появились из-за того, что землю передвигали — то дом построят, то церковь возведут, и каким-то странным для людей образом на месте этой дыры появилось нечто, что уже вполне можно назвать деревней. Рядом река. Судоходный Бык, это верно, — правда, летописцы забывают добавить, что корабли, шедшие по этой реке, были обычными лодками, какой флот, о чем вы. Лоринков всхлипывает. Воды реки Бык, вышедшие из берегов, — а случалось такое нередко, потому что четко очерченных берегов у неглубокого Быка не было, — подкрадываются к его телу и поднимают его над полом. Край меняется. Пыльные поля, по которым еще татары скакали, когда в Оргееве столицу Золотой Орды основали, меняются пыльными холмами, и от одного холма к другому несется всадник с головой на копье. Посланник султана. Печальный плач несется ему вслед из дворца в Яссах, через Прут, через Кишинев, это воют женщины, за триста лет научившиеся в Бессарабии лучше всех в мире оплакивать своих покойников, потому что смертей было много. Турки старались. В очередной раз бессарабская знать предала следующего своего государя, воткнули кинжал в спину, а голову отрубили и послали в Стамбул. Нация предателей. Лоринков выныривает под мостом через Бык и оглядывается: внизу суетятся люди, а сверху по Измайловской горке, которая еще просто горка, идут вереницей какие-то люди, много людей. Русская армия. 1810 год, это Кутузов ведет своих солдат, чтобы победить Порту, и Румянцев ведет, чтобы разгромить турок под Ларгой и у Кагула, и Лоринков глядит им вслед, пытаясь перекрестить онемевшими пальцами, но те не слушаются, потому что во сне он отлежал руку. Тьма спускается. Заря встает. Лоринков глядит на город сверху и уже не узнает его: грязное местечко — и это еще до появления каких бы то не было евреев, так что зря часто сваливают на них эту местечковость, думает он — превращается в провинциальный город Российской империи. Город разросся. Кучка грязных домишек у вонючей реки становится небольшим населенным пунктом с мощенными булыжником улицами, главным проспектом, несколькими особняками, и учреждениями, появляется главная площадь, и, самое главное, парк. Первая зелень. Позже она разрастается: с каждым годом зеленое пятно увеличивается и увеличивается, а в пятидесятых годах двадцатого века пятно буквально взрывается. Город озеленяют. Пока Дедушка Первый умирает от голода у кишиневского железнодорожного вокзала, молдавские комсомольцы, — пошатываясь от голода, — разбивают парки во всех районах столицы. Дедушка Первый закрывает глаза, а писатель Лоринков открывает глаза, и видит, как огромную яму посреди город заполняют водой, обсаживают со всех сторон деревьями и называют это «Комсомольским озером». Вода плещется. Лоринков взлетает во сне над городом поворачивает голову, и видит, как город переживает второй — после прихода русских — бум. Советский период. В Кишиневе растут жилые кварталы, здания балета, оперы, цирка, школы и поликлиники, в Кишиневе появляется планетарий, который открывают в старой церкви, Кишинев растет и процветает. Лоринков стонет. Во сне все происходит чересчур быстро: еще минуту назад перед ним бегали зубры, которых в Бессарабии водилось в изобилии, а сегодня в Краеведческом музее Кишинева открывается для гостей столицы экспозиция — чучело последнего зубра, застреленного советскими охотниками в 1949 году, проходите спокойно, товарищи, не толкайтесь. Музей белеет. Небольшое здание в мавританском стиле с зубцами наверху, он работает сто лет без перерыва, за исключением тех десяти лет, что при румынской оккупации — или воссоединении, как вам будет угодно, в Бессарабии все двояко, нет ничего определенного, — там располагалась контрразведка. Одно слово. Пили, буянили, да водили шлюх, и особенно популярна была с 1922 по 1924 годы, невероятно развращенная проститутка, фамилию которой произносили на румынский манер по-мужски, — Александра Копанский, — и от которой вышел, расстегиваясь, навстречу своей судьбе будущий депутат Великого национального Собрания Дедушка Первый. Затейницей была. В 1924 году, накопив денег, решила порвать с распутным прошлым, справила документы, открыла шляпный салон, да только мужчины нашли ее и там: шлюха что ни откроет, получится все равно публичный дом. Пришлось уехать в Бухарест. Контрразведка свирепствовала. Что только с молдаванами не творили, пальцы ломали, пытали, а иногда и расстреливали, — да только, когда пришли немцы, все это показалось цветочками, потому что от румын можно было откупиться. Грехи тяжкие. Ветер проносится и исчезает контрразведка, в городе раздается салют, это пришли русские освободители нас от самих себя, и на столе с огромной картой края — музейный экспонат, датировано 1642 годом, — уже не скачут голые пьяные проститутки, не дымятся на нем пепельницы с горами не потушенных папирос, не крутятся бутылки, полные вина. Ветер всё унесет. Уносит он от музея и Лоринкова, которому снится, что прошло еще несколько десятков лет. По источникам и ручьям Лоринков попадает в другие парки города, переплывает из одного озера Долины Роз в другое, проносится над небольшими прудами между районами Рышкановка и Чеканы, а потом поднимается высоко, на самую телевизионную вышку города. Огни гаснут. Ночь все еще сильна, но огни гаснут, и Лоринков догадывается, что это новые времена наступили, при которых Кишинев, да и вся Бессарабия, с неба выглядят черной дырой, на что жалуются все летчики всех авиакомпаний, обслуживающих рейсы над данной территорией. Черное пятно. И это лишь одно из сотен ухудшений, произошедших с Кишиневом с тех пор, как отсюда снова уходит твердая власть — русская ли, румынская ли, турецкая ли. Лоринкову снится, как осыпаются деревья в общественных парках, как без ухода вянут цветы, и камни с клумб разлетятся, и за ними и скульптуры и скамьи разлетаются, будто пена под ветром; снится, как высыхают озера, как на месте прудов, украшенных кувшинками, появляются ссохшиеся черные рты оврагов. Город осыпается. Крошатся камни, исчезают канализационные люки, лопается краска на чугунных решетках, пропадают чугунные решетки, застывают навсегда лифты, истончаются стекла в домах, выходят на улицы миллионы крыс, привлеченных, — как когда-то в Гамильтоне, — музыкой, но не флейт, а музыкой из колонок, установленных на центральной площади. Колонки ревут. Толпы ревут, посреди площади трибуна, с которой люди кричат что-то в небо. Это очередное Великое Национальное Собрание, по традиции, превращенное в Бессарабии в фарс, это очередная независимость, которую — по традиции, — Бессарабия не знает куда девать и не знает, что с ней делать. Лоринкову снятся 1989 год. Снятся каменные блоки на выездах в город, вооруженные патрули, и это уже 1992 год: генерал Лебедь, брат полковника Лебедя, глядевшего с похмелья какой-то фильм про ударников производства в кинотеатре «Искра» напротив дома Лоринкова, спасает Бессарабию от позорного поражения. Снится 1995 год — в городе происходит первое наводнение, потому что канализационные стоки не чистили шесть лет, и в Кишиневе на дороге тонет первый прохожий, случай невероятный и дикий, а потом к таким происшествиям город привыкнет.
Кишинев, разбросавшийся на семи холмах, как человек, изнывающий во сне от жары, становится похож на каменный город, брошенный людьми в джунглях. Трава побеждает. Лианы мягко обнимают колонны, ползут по стенам зданий, чтобы задушить их, по улицам скачут мартышки, а в подвалах находят приют смертоносные кобры. Мартышки хохочут. Они садятся на скамьи, надевают на головы брошенные людьми короны, с раздражением отмечает Лоринков, они могут даже накласть в унитаз, потому что видели нечто подобное когда-то, но разве в состоянии они поддерживать систему водопровода? Нет. Несколько десятилетний город еще держится, поражая воображение случайных путешественников, а после зелень побеждает. Прошлое развеивается. Есть два города, которые были и перестали быть, и один из них звали Макондо, а со вторым сейчас доживаю его век я, думает Лоринков во сне.
Вода смывает город. Ветер сдувает город. Исчезают улицы, слетает плитка с мостовых, закрываются больницы и заводы, пропадают светофоры, зато появляются стаи бродячих собак, поражающих воображение даже бывалых туристов, крыши становятся дырявыми, подъезды пугают, тьма, тьма сгущается над Кишиневом. Наступает последняя стража, и перед рассветом над городом становится особенно темно, Лоринкову приходится старательно вглядываться, чтобы хоть что-то разглядеть во сне. Видит цикл. Город, появившийся из ничего, в ничего и превращается: вновь становится пыльным, заброшенным среди полей местом, исчезает, разрушается, и камни порастают травой. Рожденный из тлена тленом и становится. Лоринков ворочается на полу, оставляя после себя мокрые следы, и прикрывает лицо руками. Страдает от жары. Кишинев тяжело стонет под грузом жаркого воздуха, Кишинев истекает влагой, и ему невдомек, что на него глядит кто-то сверху. Писатель Лоринков глядит во сне на свои владения, свой удел, данный ему Богом в безраздельное прижизненное пользование до конца времен, писатель Лоринков глядит на свою вечную ссылку и свой вечный дар. Писатель Лоринков глядит на Кишинев. Город просыпается.
Пока мужчины занимаются своими невероятно важными делами — войной, работой и посещениями борделей, — Бабушка Первая поет колыбельные младшей сестре и мечтает о муже. Седьмая дочь. Ничего особенного, потому что после нее в семье рождаются еще три девочки- итого, ровным счетом, десять невесть, и отец Бабушки Первой глубоко задумывается. Из этого состояния меланхолии его не выводит даже призыв в армию и отправка на фронт, куда-то очень далеко, на Дальний Восток. Бить япошек. Зачем ему нужно бить япошек, здоровущий мужик ростом в два с лишним метра, уроженец Буковины, знает отлично. Злые косоглазые. Если мы япошку не поколотим, объясняет он Бабушке Первой, которая тревожно глядит на сборы папеньки, он придет сюда и всех нас заставит на себя работать, куклу твою отберет, а тятю и маму скушает! Бабушка плачет. Не реви, смеется отец и уходит на войну, чтобы вернуться спустя полтора года живым и невредимым, в полной уверенности, что если бы япошку по носу не щелкнули, тот бы у дочери куклу отобрал и мамку с папкой скушал. С возвращением. Ветеран японской войны, отец Бабушки Первой славится на все село Машкауцы тем, что может взвалить себе на плечи четыре мешка зерна и подняться, не держась за лестницу, на второй этаж дома. Всегда спокойный. Как и все, кто обладает недюжинной силой, добродушный мужчина, — за все благодарный судьбе, просто слегка озадаченный наличием десяти дочерей, — отец Бабушки Первой женат на истеричке. Нервная баба. Жену он любит, а та, вечно дерганная и чем-то напуганная, притягивает к себе неприятности, словно магнит и, кажется, Бабушка Первая наследует эту неприятную черту от матери. Будто сама кличет! Когда отец уезжает в поле, чтобы там поражать односельчан количеством мешков, поднятых и на телегу брошенных, — в село приходят цыгане. Времена вегетарианские. Так что цыгане пришли без дурман-травы, цыгане никого не украли, они просто зашли во двор Бабушки Первой, и, на глазах у испуганного ребенка, оставили мать в дураках. Наплели с три короба. Если порчу, что на твоем ребенке, не свести, — говорит качая головой, седой цыган, — то плохо вам всем будет: через три года дети начнут умирать. Мать охает. Всегда напуганная, с глазами на пол-лица, вечно подавленная, в депрессии, кудахчет по любому поводу, и от малейшего шороха грохается оземь. Ударяется в слезы. Не плачь, милочка, говорят цыгане, есть способ. Уходят, нагруженные добром, — его они обещают сжечь в полнолуние на могиле утопленника, и после того все чары с Бабушки Первой будут сняты. Кстати, где она? Мать взмахивает руками, заливается слезами, и бегает по двору с раскрытым ртом, потому что еще и ребенка прошляпила, да и дом обокрали, только сейчас начинает понимать она. Бабушка Первая бежит. Папа-папа, кричит она и машет рукой с дороги, и с радостью видит, как в поле распрямляется огромный столб. Отец. Папа-папа, кричит Бабушка Первая и теплая волна подхватывает ее, несет над полем, и бросает прямо в руки отца, чье задумчивое лицо, всегда спокойное, успокаивает и саму девочку. Цыгане маму воруют! Оставив девчонку на поле с соседями, отец спешит к дому, рывком отбрасывает ворота, глядит на заполошную дурную жену, что хныкает на пороге — слезы в три ручья, и знает же, дура, что не бью и не стану никогда, — и бросается в погоню. Нагоняет в версте. Огромные кулаки падают с неба на цыган, — словно молнии пророка Илии, — и седой старик, рассказавший матери Бабушки Первой про порчу, остается лежать на дороге с пробитой головой. Сдохни, тварь. Не злобливый отец, на войне старавшийся стреляться куда-то очень сильно поверх голов япошек — косоглазый он дурак, ну так ведь и него дети есть, — и дававший волю лишь в рукопашных, на этот раз звереет. Бьет до смерти. Уцелевшие остатки табора уносятся с криками и воплями, в лес. Берегись цыган. Никогда, слышишь, никогда, говорит вечером отец Бабушке Первой, порядок в доме восстановлен и все имущество на месте, НИКОГДА не верь цыганам, понятно? Девочка кивает. Уроки отца не идут впрок, и любой психолог, — например Эрик Берн, книгу которого как раз изучает, в надежде приступить к психологическому роману во всеоружии анализа, писатель Лоринков, — объяснил бы отцу, что он совершил акт анти-программирования. Запутал ребенка. Не верь цыганам, но верь всем остальным, слепо полагайся на любого другого обманщика, — вот что сказало, злобно хихикнув, подсознание отца Бабушки Первой, а девчонка покорно это проглотила. С точки зрения Берна, конечно. Хотя возможно, что сам Берн, — еврей Берстайн с бессарабскими корнями, взявший псевдоним в этом жестоком протестантском мире, — с этим бы поспорил. Девочка кивает. Никогда больше она не поверит цыгану, но всегда ее будут обманывать остальные, так что отрицательное программирование можно считать, безусловно, состоявшимся. Бабушка Первая растет. Выходит замуж седьмой по счету — как и родилась — за Дедушку Первого, положительного парня из бессарабского села, который забирает жену к себе, и так водится спокон веку, слегка колотит. Для Бабушки Первой, чей отец никогда — хотя не раз и заслуживала — не трогал свою жену иначе, кроме как в постели, делая одну из своих десяти дочерей, это становится шоком. Бежит домой. Несколько дней добирается по плохим дорогам Бессарабии в Буковину, и в доме отца, поразив своим появлением его, и страшно напугав — она боится даже собственной тени, с раздражением думает уже женщина Бабушка Первая, — мать. Горько жалуется. И впервые в жизни сталкивается с предательством своего нежно любимого и любящего отца, — тот отправляет ее к мужу, объяснив, что это доля такая у нее, женская. Привозит дочь. Дедушка Первый недоумевает. Никакой злобы против жены у него нет, недоуменно объясняет он отцу супруги, просто побил слегка за провинность небольшую, ну так ведь и положено, разве нет? Отец кивает. Бабушка Первая замыкается. С тех пор Дедушка Первый старается не распускать руки, потому что и правда поколотил жену без злого умысла. Живут достойно. Бабушка Первая рожает четырех детей, и двое из них мальчики, чему Дедушка Первый — зная об отсутствии наследников у тестя, — очень радуется. Сыновья гарантируют продолжение рода. Так думает Дедушка Первый, всячески балуя мальчиков, которые будут страдать от голода всю Вторую мировую войну; будут недоедать те несколько лет, что пройдут после Второй Мировой войны; и умрут от голода в 1949 году, и младший в бессильной попытке съесть хоть что-то, замрет с обмусоленным кулаком во рту. Дедушка Первый улыбается. Двое мальчиков, — обещание продолжения рода, — растут в его доме. Дедушка Первый знаменитость. В своем селе он известен, как депутат Великого Национального Собрания, которое и присоединило Бессарабию к Румынию, и старики каждый раз просят Дедушку Первого рассказать, как оно все было. Румыны зверствуют. По молдавским селам носят на палке фуражку румынского офицера, и если прохожий не поклонится, его ждет десяток ударов палкой по пяткам. Турецкое наследие. К Дедушке Первому претензий нет — все знают, что он стал депутатом Собрания совершенно случайно, да и слишком мудры люди на земле, чтобы кого-то за что-то осуждать. Случилось, потому что случилось. И Бессарабия и Буковина сейчас находятся в составе Румынии — потому Дедушка Первый и смог вывезти себе из Буковины жену, — и Бухарест подумывает о том, чтобы прихватить себе еще немного территорий. Восточная Европа бурлит так же, как и в конце 20 века. Здесь каждый второй — Наполеон, венгры мечтают о Великой Венгрии, румыны — о Великой Румынии, словаки — Великой Словакии, ну и так далее, но на самом деле всем этим аборигенам следует хорошенько вымыть шею, почистить сапоги, и научиться вести себя в приличном обществе, с раздражением восклицает русский монархист, бессарабец Крушеван. Лоринков кивает. Дедушка Первый, — счастливый отец пока еще одного сына, — рассказывает на сельской попойке о том, как Бессарабия стала частью Румынии, и староста благосклонно кивает, потому что история с десятком расстрелянных на этот раз оглашена не была. Живой очевидец! А расскажи, просят Дедушку Первого, как ты стал кишиневским жителем на несколько месяцев, и в зале хохочут, и свечи в большой комнате — каса маре («большой дом», рум.) — мерцают, потому что уже ночь. Все стихают. Все свои, выпивают только мужчины, так что Дедушка Первый может начать издалека, с достоинств той самой девчонки, — буквально с которой его сняли, чтобы вершить историю, два солдата и лейтенант, ими командовавший. Выхожу, застегиваясь… Мужчины хохочут, мотыльки беспокойно кружат над свечами, сверху подмигивают бессарабские звезды, одну из которых воевода Штефан снял, чтобы приколотить к своему щиту перед тридцать шестым победным сражением, а село спит. Бабушка Первая знает. Но никаких претензий к супругу у нее нет, поскольку все это приключилось с ним задолго до их свадьбы, взятки гладки. Кто же из мужчин не шлялся по доступным женщинам по молодости, хотя кое кто не шлялся, твердо знает Бабушка Первая. Ее отец. К сожалению, этот достойный усатый мужчина давно женат на маленькой, вечно напуганной, с нездоровым цветом лица, женщине. Ее матери. Бабушка Первая поджимает губы — похоже она становится моралисткой — глядя, как в соседний дом, где живет вдова, пробирается кто-то из сельчан. Отправляется в город. В 1938 году в Кишиневе очень весело, и хотя молдаван и и собак не пускают в парк и не разрешают ходить по тротуарам, зато даже стоя на проезжей части дороги можно увидать столько интересного. Памятник королю Михаю. Знаменитого борца Заикина, который, — хотя он и русский, — приехал в Бессарабию, чтобы переждать нашествие красных дьяволов на Москву, и вернуться, когда все успокоится. Экипажи. Нарядных дам. Щеголеватых румынских офицеров. Но Бабушке Первой нельзя долго стоять на дороге, еще экипаж заденет, да и домой надо будет вернуться сегодня же, так что она спешит на базар. Центральный рынок. Единственное место Кишинева, которое не изменилось за триста лет. Кишиневский рынок это место, где прекращаются все войны. Преступник, укрывшийся на кишиневском рынке, не подлежит выдаче. Новости кишиневского рынка самые интересные. На кишиневский рынок выходят, как в свет. Кишиневский рынок священен. Бабушка Первая, пораженная шумом и гамом рынка, — евреи носят бублики на связках в рост человека, молдаване торгуют с повозок, армяне прищуриваются, греки прицениваются, поляки бранятся, татары цыкают, Вавилон реинкарнировался и ожил в кишиневском рынке, — становится в углу. Робко торгует. Художник-великан уронил на кишиневский рынок свою палитру, и по земле разбрызганы все возможные краски; гигантский парфюмер уронил на кишиневский рынок пояс со скляночками, и здесь ожили все возможные аромат;, здесь все галдит и шевелится, как живой ковер джунглей между Эквадором и Перу, где зарастают лианами брошенные поселения мигрантов из Бессарабии. Голова кружится. Что это у тебя, дочка, спрашивает старушка-божий одуванчик, подошедшая к Бабушке Первой и та пристально всматривается в покупательницу. Не цыганка ли? Кажется нет, и успокоенная Бабушка Первая объясняет старушке, что пришла торговать козу, замечательную молочную козу, которая в хозяйстве попросту не нужна, — дела идут хорошо, и хоть молоко у нее и прекрасное, но им с мужем и детишками просто не нужно, понимаете, кстати, детей у них уже трое и, сдается ей, с мужем они на этом не остановятся, пусть госпожа покупательница не поймет ее превратно, с мужчиной, понятное дело, она бы в жизни о таком не заговорила! Бабушку Первую несет. Знает ли уважаемая госпожа покупательница, спрашивает она, семейство Лянку из Рышкан, которые приходятся кумовьями ее родне с Буковины, да, разве она не говорила госпоже, что сама она родом с Буковины, соседями их были евреи Крейцеры, один из которых пытался найти свое счастье в Латинской Америке, вы только себе представьте, но, конечно, ничего у нее не вышло, пропал, как в воду канул, а здесь, между прочим, остались дети и семья, нет, у нее, Бабушки Первой, муж вовсе не такой, хоть и поколотил ее однажды, ну, в самом начале семейной жизни, знаете, как оно быва… Что, простите? Ах, коза. Всего тридцать леев, госпожа, конечно, тридцать румынских леев, это справедливая цена, говорит Бабушка Первая, на что старушка кивает головой, потому что цена и правда справедливая. Тридцать леев. Одиннадцать лет спустя, глядя как умирают от голода ее дети, умирающая от голода Бабушка Первая не раз вспомнит ту козу и то молоко, что могла бы дать эта коза, и глаза Бабушки Первой будут преисполнены слезами, уж что-что, а плакать она по-любому поводу умела отлично. В мать. Ох, восклицает старушка. Забыла деньги, говорит она, — вот беда, доченька, придется мне возвращаться к себе домой, даже не знаю, смогу ли вернуться к сегодняшнему дню на рынок, жаль мне тебя, а вдруг никто не купит? И правда. Давай, говорит старушка — слава Богу, не цыганка, верить можно, — я возьму у тебя козу, пойду домой, а сама племянника отошлю к тебе с деньгами, а чтоб ты спокойна была, вот тебе мой платок, только не уходи, пока денег не принесут. Как же я без платка?! Бабушка Первая, преисполненная радости из-за того, что кто-то выслушал ее историю об истории соседей ее соседей и крестников ее кумовей, отдает козу, берет дешевенький платок и честно стоит до самого закрытия центрального рынка города, который скоро расцветет, чтобы потом обратиться в пыль, в ничто, и ветер дует в одинокую упрямую дуру все сильнее. Облака бегут.
Бабушку Первую не раз после этого будут обманывать, и она с удивлением обнаружит среди тех, кто это делает, самых близких людей. Сестер, например. Все они считают Бабушку Первую первостатейной дурой, — безмозглой, обмануть которую не стоит ничего, достаточно лишь всплакнуть у нее на плече, да вытянуть потом обманом что угодно. Так это же правда. Сестры хитрые, сестрам нужно то денег, то платье, то еще чего, не всем им повезло с мужьями так, как Бабушке Первой, и они начинают ненавидеть ее за это. Удивительно, думает Дедушка Первый, исключительно стараниями которого они не раздали все, что имели — и он все чаще вспоминает историю про тещу и цыган, рассказанную ему по секрету тестем, — как все-таки люди становятся похожи на своих родителей. Борись, не борись. Бабушка Первая часто замирает, стоя с полуоткрытым ртом, еще чаще плачет, и выносит нищим, стоящим за оградой, чуть ли не весь семейный обед, это еще до войны, конечно. Бог вознаградит! Она верит в это так истово, что Дедушка Первый иногда думает, а не права ли она, эта чернявая молдаванка с Буковины, не вознаградит ли их Господь за доброту и милость к бедным? За мягкое сердце жены, за ту болезненность, с которой воспринимает та плохие известия, пусть они и не касаются их семьи? Словно канарейка. Дедушка Первый читал про таки — их берут с собой в забой шахтеры, и когда воздуха становится мало, канарейка начинает биться. Нет, это про писателей, возразил бы писатель Лоринков. Глаза на мокром месте. Но Господь не возблагодарил и не пощадил. Бог расшвыривает семью Дедушки Первого, как домики в песочнице, и топчет их, как злой ребенок. Ломает, крушит. Бабушка Первая умрет до того, как ее дети вырастут, и начнут обманывать ее так же, как обманывали сестры. Дети Бабушки Первой умирают до того, как вырасти. Сестры Бабушки Первой умирают все, кроме одной, а та умирает во время повторного голода, в 1951 году. Семья, бывшая сама для себя центром мира, семья, преисполненная жизни и сока, семья бурчащая, живущая, переваривающая, семья изрыгающая, извергающая, принимающая, и поглощающая, — становится лишь слабым воспоминанием в сознании всего одного человека, который почти не застал эту семью в пору ее изобилия и расцвета, в памяти девочки, увидевшей свое отражение в лакированном ботинке человека в черном костюме. Мама Первая.
Дедушка Первый выходит в поле подсолнечника, и на мгновение путает небо и землю, так невероятно жёлто слепят цветы, Дедушка стоит немного и моргает. Улыбается. На Дедушке Первом самый его нарядный костюм, на Дедушке Первом жилетка, на Дедушке Первом часы с цепочкой, которая свисает из жилетки, а еще на Дедушке Первом — роскошная шляпа, обошедшаяся ему в пять леев, сумму немалую, но мужчина без шляпы в селе это, знаете, как подсолнечник без цветка. Дедушка улыбается. Зубы его так белы и так ослепительно сверкают, что Солнце и подсолнечники на минуту сами теряют ориентацию, и мир бешено вертится вокруг Дедушки Первого, а тому не привыкать. Местная звезда! С утра в село приехал — о чем загодя предупредили старосту по телеграфу, — корреспондент румынской газеты «Вестник железной гвардии», чтобы взять у Дедушки Первого интервью, потому как очередная же годовщина Великого Национального Собрания. Ветеран воссоединения. Дедушка Первый скромно называет себя так, говорит, что он был просто солдат своей страны, — пусть и в костюме, — и скромно умалчивает о том, откуда начался его путь к свободе и независимости Бессарабии от этой ужасной русской Империи, и к воссоединению с матерью-Румынией. Постель шлюхи. Дедушка Первый некстати вспоминает Бабушку Первую, совсем остывшую в постели, и цыкает зубом. Другая стала. Если поначалу она была горячая, как свежая мамалыга со шкварками, думает Дед, любивший поесть, то сейчас прохладная и скучная, как ломоть этой же мамалыги, который подают к завтраку в молдавских селах со стаканом холодного молока. Зато дети. Дети для мужчины в селе это что-то вроде шляпы, а с этим у Бабушки Первой все в порядке, стоит прикоснуться к этой маленькой, вечно хныкающей — в мать, в мать-покойницу — женщине, как у нее начинает расти живот. Три из семи. Часть беременностей заканчиваются безуспешно, бесплатная и доступная медицина в то время еще только лозунг советских, которые забрели в Бессарабию всего на годик, да были вышвырнуты с нашей земли войсками славной Румынии. 1941 год. Говорят, Москву бомбили и сам господин Гитлер велел срыть этот город, на его месте сделать озеро, и запустить по нему катера и шхуны с господами офицерами, чтобы развлекались и отдыхали. Дедушка Первый вздыхает. Когда в 1940 году в Бессарабию, совершенно неожиданно для всех, а более всего — для бессарабцев, решающих, по привычке, судьбы мира в местных кофейнях за стаканчиком вина, — вошли войска, Дедушка очень сильно напрягся. Боялся мести. Боялся не зря, ведь первое, что сделали советские войска, когда вошли в Кишинев, — оцепили районы с остатками русских же, которые бежали от Советов еще в 17-м году, и приступили к расстрелам. Дедушка Первый хмурится. В тот день он снова был в городе — это видимо, невероятное стечение обстоятельств и судьба, оказываться в Кишиневе в момент главных событий в истории нашей славной родины, — и многое видел своими глазами. А лучше бы не видел. И именно в тот же день в село прибыли несколько человек из, — как у них принято говорить, — органов, с тем, чтобы расспросить Дедушку первого о кое каких событиях 1919 года, произошедших в Бессарабии, и участником которых он, по имеющейся от осведомителей информации, был. Дедушка вздыхает. К счастью, его нашли в Кишиневе добрые друзья, пославшие гонца в село — добирался всю ночь, — и Дедушке вновь пришлось стать на некоторое время городским жителем. Было где. О том знало все село Калфа, — кроме Бабушки Первой, конечно, — что у Дедушки Первого была в Кишиневе шлюха, да не какая-нибудь из борделя, а шлюха на содержании, хотя содержание, думал дедушка, отправляясь «по делам» в город, это слишком громко сказано. Продуктовые наборы. Дела в несколько лет перед войной шли хорошо, и семья даже козу продала, — вернее, должна была, но идиотка Бабушка Первая нашла, как всегда, неприятностей на свою задницу, — и Дедушка приобрел мельницу. Конечно, реквизировали. Но реквизировали в 1940 году, а сослать в Сибирь Дедушку не успели, потому что меньше, чем через год, в Бессарабию вошли войска Румынии, и владельцам вернули все их имущество. Дедушке тоже. Так что пришлось ему возвращаться из Кишинева в село, оставить свою русскую шлюху, и делать вид перед Бабушкой Первой, что он прятался по чердакам, да подвалам. В постели прыгал. Дедушка Первый еще раз ослепляет небо, подсолнечники, и Солнце белозубой улыбкой цыгана. Интервью взяли! Румыны тоже искали тех депутатов великого Национального Собрания, которые приняли декларацию о присоединении края к Румынии, но с другими, нежели советские, целями. Поощрить и поддержать. Маршал Антонеску, диктатор Румынии, велит своим войскам — румыны, переходите Прут! Те переходят, и занимают Бессарабию без всяких столкновений, потому что советским войскам, ошеломленным нападением Германии, недосуг заниматься румынами. Всего два боя. Зато советские саперы минируют Кишинев, — в котором за год русские успевают построить больше, чем Румыния за восемнадцать лет воссоединения, — и взрывают все. Город горит. Прилетает небольшая эскадрилья немецких самолетов, — приданных немцами в помощь румынам, — и успевает немножечко побомбить то, что осталось после русских, и осколки трещат. Мама, смотри! Не успевает крикнуть сын постаревшей девицы Анестиди маме, чтобы она глянула на осколок, зажатый у него в руке, как другой осколок пробивает ему затылок, и мальчик, обливаясь кровью, падает. Умер в момент. Сыночек. У нее был и другой ребенок, от насильничания. Но того Анестиди оставила в селе, на воспитании. Знать не хочет. Этот же — кровинка. Анестиди трогается умом. Ее схождение в ад начинается именно в этот момент, а последним пунктом путешествия будет стена кишиневского детского дома, — куда она отвезет на тачке пятерых подобранных ею детей, свалит их в кучу в прихожей, — и умрет от слабости прямо на улице, и последнее, что она услышит, будет голос сына. Мама, смотри. Дедушка Второй вспоминает своих детей и все мысли о разводе, что роятся в его голове с утра до вечера, покидают его немедленно, он страшно детолюбив. Черт с ней, лишь бы рожала. Румынский корреспондент фотографирует Дедушку Первого в окружении семьи, и этот снимок опубликовуют в газете оккупационных войск три недели спустя, как раз к годовщине воссоединения. Ее увидит Ольга Статная. Первая Мисс-Бессарабии, рослая большегрудая Ольга, — потерявшая отца, мужа, и иллюзии, проживающая одиноко в своем домике по улице Болгарской, — будет поражена тем, каким примерным семьянином выглядит ее содержатель, этот богатый молдаван. Мужчины — лицемеры. Подумав об этом, Ольга подавит зевоту и улыбнется Дедушке Первому, который приедет из города с пакетом масла, хлеба и мяса к своей большой русской шлюхе с большими грудями, не то, что маленькая грудь Бабушки Первой, откуда только молоко идет? Ворота открываются. Дедушка Первый, опрокинувший стаканчик винца, довольно улыбается, вспоминая отдых в Кишиневе, и ему хочется пройтись сейчас по этому полю, выкупленному им у артели по честной цене, — так что никто в накладе не остался, — он хочет почувствовать землю, и поэтому ступает в поле подсолнечника, и цветки поворачивают за ним головки, словно за Солнцем, такой он красивый, нарядный и сияющий. Земля рыхлая.
Упрямый белорус Демьян Ларченко все утро таскает мешки с песком к забору от брошенного барака для семей офицерского состава. Копает, минирует. Пограничная застава на берегу Днестра брошена, но раз в ней остался он, уроженец Могилевской губернии, лейтенант Демьян Ларченко, значит, на эту территорию распространяется советская юрисдикция, вспоминает уроки политграмоты в училище пограничник. Руки дрожат. Лейтенанту страшно, но он уже вступил в свое первое боестолкновение с противником, успешно его провел, выиграл бой, поэтому лейтенант храбрится. Он один. На заставе было четырнадцать человек, которых послали сюда обустроить место, и они успели даже возвести барак для семей офицеров, — они прибудут сюда с основными силами, — как случился 1941 год, и на Союз напала Германия. Румыны туда же. Наши войска получили приказ отступать и по молчаливому уговору с румынами это было сделано почти без боев, но, конечно, произошли накладки. Одна — здесь. Кагульский погранотряд, — вернее, лишь название, потому что и отряда еще никакого толком нет, — не получает по какой-то причине известия о начале войны и отступлении, поэтому для Демьяна становится большой неожиданностью десяток румын на телеге, которые едут по дороге с криками. Иван, сдавайся, твои ушли. Удивленный Ларченко командует в ружье. Все четырнадцать солдат, которых лейтенант от скуки дрессировал почти два месяца, занимают позиции по первому приказу. Румыны поражены. Они пытаются объясниться с этими удивительными русскими, но уже поздно, потому что погранзастава дает бой. Десять трупов. К вечеру их число увеличивается до сорока, потому что еще три подводы, — с интервалами в два часа, — подъезжают к заставе, где никто не ожидает встретить русских, они же ушли. Лейтенант ликует. К ночи румыны понимают, что на кагульском направлении есть какой-то там очажок сопротивления, и направляют туда большой отряд в сто человек. Приходят к утру. Лейтенант глядит на них в бинокль, и сплевывает на землю, — чувствуя себя невероятно старым и опытным солдатом, — велит бойцам подпустить врага поближе. Румыны идут не таясь. Глядя на опустевшую заставу, они переговариваются вполголоса, обсуждая сошедшее с ума командование, которому померещились где-то русские, но те ведь ушли. Лейтенант улыбается. Трупы тех, кого уничтожили раньше, перенесены в барак, так что новый отряд не ожидает нападения. Открывают огонь. Румыны ложатся на землю, и отходят назад, потеряв свыше тридцати человек убитыми. Они разъярены. Подсчитав приблизительно количество защитников заставы, решают взять их в плен и живьем сжечь, даже не сообщают командованию о случившемся и пытаются окружить заставу. Натыкаются на мины. Натыкаются на огонь. Спустя сутки от румын остаются пятнадцать человек, уйти которым пограничники не дают. Лейтенант задумывается. Все это похоже на удачное посещение тира, но что он будет делать, когда за его маленький отряд возьмутся всерьез? Приказ об отходе. Но его нет и рация молчит. Демьян Ларченко задумывается о смерти. Носит мешки, минирует, и постепенно молодость — лейтенанту всего двадцать один, — берет свое и мысли о смерти отступают. Лейтенант считает. Сорок румын, да еще сто румын, итого сто сорок, и если разделить на три дня, и так в течение месяца, да еще по двадцать, да… плюс… вычетом… Шестьдесят лет спустя дальний родственник лейтенанта — они там из Могилева все родственники — писатель Лоринков будет так же мучительно и восторженно подсчитывать количество листов своего ненаписанного романа. Они незнакомы. Лейтенанту Ларченко не до будущего, — оно не наступит для него никогда, он знает, и лейтенант занят обороной. Заставу берут в дело. Ее штурмуют по-настоящему, как положено, — и от этой обстоятельности у лейтенанта песок в зубах и кровь в волосах, — и из четырнадцати защитников Кагульской заставы на восемнадцатый день осады остаются в живых всего трое. Потом он один. Румыны поражены. Чертовы русские, говорят они, — не зная, сколько их там осталось, — и вызывают немецкое подкрепление, и когда немцы подходят, осаде исполняется уже полтора месяца. Лейтенанту предлагают теплую шинель и горячее питание. Он бы с удовольствием, но, к сожалению, у него есть приказ, и он его исполнит, даже если вся эта долбанная Бессарабия, в которой он пробыл меньше года, встанет на него дыбом. Так что нет. Немцы пожимают плечами, и осторожно — все еще не знают, что он остался один, — начинают окружать заставу. Лейтенант стреляется. Похоронить с почестями, велит немецкий капитан, и залп карабинов звучит над заставой, когда тела чертовых русских предают земле. Капитан думает, что война, судя по всему, будет тяжелой. Потом передумывает. Солдаты немецкого батальона, вызванного сражаться с неприступной крепостью, — с удивлением и презрением глядя на румын, — уходят по дороге на Кишинев. Идут пешком, потому что танки и машины — это для кинохроники Геббельса, неприязненно думает капитан, а большая часть армии передвигается на лошадях и пешком. Солдаты потеют. Каски позвякивают. Спустя какой-то час колонна исчезает за одним из холмов, которых так много в этом краю. Остается тяжелый запах сапог.
Позже об этой истории прознают киношники и снимут фильм про заставу, которая вся поляжет на границе, и последний из оставшихся в живых, командир заставы, выйдет из леса, чтобы врыть на место пограничный столбик. Назло всему. Лейтенант Ларченко, узнав об этом, очень бы посмеялся. До столбика ли тут, ребята, сказал бы он. Но его уже лет двадцать как не было, когда это кино стали снимать, и посмеяться над сценаристами было некому и фильм запустили в производство именно с таким сюжетным ходом. Камера, мотор.
Ночью лейтенант Ларченко, застрелившийся не совсем удачно, — но его оправдывает отсутствие опыта в этом деле, — все еще в бессознательном состоянии начинает ползти наверх. Он не задохнулся. Тела не утрамбованы, и земли набросана свободно, так что воздух в могиле есть. Могила шевелится. Почти час земля ходит, потому что лейтенант, которому в бреду кажется, что он ползет по какому-то тоннелю, где не видно света, — и это, в общем, недалеко от истины, — все шевелится да шевелится и почти выползает на поверхность. Потом земля перестает шевелиться. Лейтенант умирает. Его лицо, присыпанное землей, белеет всю ночь и середину дня, а потом на него садится степной сокол, сапсан. Топчется. Бесшумно плачет падающими звездами ночное небо. Шелестит Прут. Стрекочут сверчки. Пасутся овцы. Звенят колокольчики. Благодатный край.
Дедушка Первый, опьяненный парой стаканов вина и славой, идет, слегка виляя из-за рыхлой почвы, по полю подсолнечника. Цветки поворачивают шляпки вслед за ним, потому что Дедушка Первый идет за Солнцем. Они не торопятся. Дедушка раскидывает руки и кружится, чувствуя себя счастливым, — ему кажется, что в мире все устаканилось, наконец, и больше ему не придется прятаться. Он хозяин. В мире воцарилось равновесие, его дети будут жить долго и счастливо, думает он, и уже в следующем году можно будет поинтересоваться наделом земли где-нибудь в России, побольше. Коммунистов перебьют. А землю останется, так что. Кто знает, может он, Дедушка первый, прикупит поместье где-нибудь под Орлом, и будет там… рысаков растить! Почему нет?! Дедушка Второй на радостях решает хлопнуть еще стаканчик вина, — фляга, конечно, с собой, и пьет, задрав голову к небу, и оно салютует ему некоторое время, прежде чем он понимает, что салют и вправду есть. Стреляют. Что за черт, бормочет Дедушка Первый, машинально вытирая рот рукавом костюма, то-то недовольна будет Бабушка Первая, но сейчас не до того. Что за черт, говорит Дедушка Второй, и, придерживая шляпу одной рукой, а флягу второй, возвращается к краю поля, и осторожно выглядывает из него. Картина Гойи. Дедушка Второй в искусстве не силен, — иногда его этим попрекает любовница, Ольга, бывшая гимназисточка из города, — и о Гойе не слыхал. Но перед ним картина Гойи, метрах в ста от поля, над обрывом, стоят, — вскинув руки, словно оборванцы на картине Гойи, — люди с черными лицами и грязными одеждами. Глаза горят. Напротив них, вскинув винтовки, и держа тяжесть тела на левой ноге, — один, видимо, левша, на правой, — целится расстрельная команда. В небе горят проклятия. Матери в белых когда-то рубахах прижимают к груди детей, потому что матерей сейчас расстреляют с детьми. Дедушка Второй смотрит. Из его раскрытого от удивления рта вытекает вино, которое он забыл сглотнуть, и уголок его рта становится красным, будто это Дедушку Второго сейчас расстреляли. Подсолнухи плещутся желтым. Дедушка Второй моргает. Раздается залп и люди с криками падают, и только тогда Дедушка Второй признает в них тех евреев, что жили в соседнем селе, а среди них и немного цыган, само собой, русских, да еще и парочка красных молдаван, прихваченных, видимо, за компанию. Идут в распыл. Дедушка сглатывает, но поздно, потому что вино все вытекло, так что он, стоя в подсолнухах на краю поля и не отрывая взгляда от интерпретации картины Гойи — 20 век, масло, Бессарабия, — прикусывает зубами горлышко фляги и обожженная глина хрустит. Крошится на губах. Дедушка Второй пьет вино, закусывая глиняной крошкой кувшина, и в это время гремит второй залп, еще одна партия расстрелянных исчезает с обрыва. Стоит очередь. У некоторых, кто ожидает смерти в следующих партиях, начинается истерика, заходятся в крике дети, и детолюбивый Дедушка Первый кривится, словно от боли. Он не любит жидов. Дедушка Первый говорит об этом спокойно, и ничего такого в том, чтобы не любить жидов в Бессарабии в 1941 году, нет. Их слишком много везде, а когда приходят советские, их становится больше, чем слишком много, говорит Дедушка Первый под сочувственные кивки интервьюера румынской газеты, и они поднимают стаканчик вина в сельской корчме, где идет интервью. То же самое тому же самому интерьеру будет говорить дедушка человека, который станет президентом независимой Молдавии в 2001 году. Кто же их любит? Дедушка Первый все понимает. Но — дети? Люди у белого каменного обрыва суетятся. Дети орут до рвоты. Сверху за всеми равнодушно наблюдает сапсан, — склевавший вчера лицо лейтенанта на кагульской заставе, аккурат в трех метрах от того места, где в 1976 году откроют памятник героям-пограничникам. Сокол парит. Сверху все это выглядит для него, как скопление черных точек на белом возле большого желтого пятна, и сокол спокоен, потому что спускаться можно будет, когда все точки замрут. Точки мечутся. Дедушка Первый, сдерживая слезы, глядит, на троицу жиденят — мальчишку лет девяти и его мать с девочкой двух лет. Мать — молдаванка, а муж ее жид, который перед началом войны пронюхал — все-то они вынюхивают — и смылся куда-то в Россию, бросив жену и детей. Вот что знает Дедушка Первый, и знает, что ему надо бы выйти из поля, но ноги у него словно корни подсолнечника. Мальчишка глядит то в поле, то на мать, и лицо у него бледное, напуганное, и Дедушка Первый понимает — мальчишка сейчас, как и он, хочет сделать шаг, да не может. Мать плачет. Мальчишка говорит ей что-то, лицо его искривляется, слезы текут, мать пытается обнять, чтобы смерть взяла сразу троих, но мальчишка хватает сестру, и бросается в поле. Суета и ор. Мать прикрывает животом спину сына, которому вслед для проформы тычет штыком румынский солдат, и замирает, пронзенная. Дала фору. Когда каратели понимают, что произошло, к полю бегут уже пятеро детей. Мальчишка, несущий сестренку, и за ним припустили еще трое маленьких — лет четырех или пяти. Маленькие, а соображают. Дедушка Второй, сглатывая слюни, слезы вино и глиняную крошку, крестится, и делает пару шагов назад, сдергивает с себя шляпу. Всхлипывает и бросается вглубь поля.
Румыны, матерясь и сплевывая, добивают оставшихся, и не торопясь, потому что ребенок от взрослого никуда не уйдет, становятся цепью, чтобы начать прочесывать поле и достать жиденят. Переговариваются, смеясь. Никакого снисхождения, никакой жалости, никакой рефлексии. Румыния едва не погибла, когда жиды взяли власть, и если бы не «Железная гвардия», страну бы ждало разорение. Разве кто-то жалел их детей, умирающих от голода на руках родителей без работы? Разве не жидовские промышленники ездили в дорогих автомобилях по изнуренному от голода Берлину, трахали за кусок ветчины и сыра немецких девушек, и разве не то же самое было в Бухаресте в конце двадцатых годов? Жиды это плесень, как верно сказал маршал Антонеску, и всю ответственность за изведение этой плесени он берет на себя. Стало быть, вперед.
Сапсан закладывает еще один вираж, чтобы обозреть происходящее под ним с самого удобного ракурса. Черные точки у белого камня замерли. Пора спускаться.
Дедушка Первый бежит по полю, пригнувшись и тяжело дыша, и он спешит: сейчас ему сложно будет объяснить солдатам, если они его поймают, что он просто случайно шел мимо. Слышит крики. Цепь медленно продвигается вперед, и Дедушка благодарит Бога за то, что солдаты никуда не спешат. Знает, что дальше. Дети и правда далеко не уйдут, а я смогу убежать быстро, и цепь останется далеко за мной, думает Дедушка Первый. Иосиф, не предупредивший Вифлеем. Ноги его путаются в толстых стеблях подсолнечника, и Дедушка Первый, споткнувшись, падает на небольшой пятачок, свободный от подсолнечника — бывают такие оазисы, — и утыкается носом в землю. Встает, отряхиваясь. Видит перед собой огромное прозрачное небо, почему-то перевернутое, видит перевернутое поле и видит перевернутого вверх ногами человека с шляпой в руке. Видит себя. Отшатывается и видит то, в чем он только что все это видел — большие глаза мальчишки, сжавшего в руке сухой ком земли, словно камень. Другие тут же. Прижались к ногам старшего, лица сведены испугом, глядят молча. Дедушка Первый застывает. Страх почему-то уходит и он чувствует лишь вялость, это, видимо, вино и солнце, думает лениво Дедушка Первый, безо всякого почему-то испуга слыша обрывки фраз надвигающейся солдатской цепи. Дети стоят и смотрят. Пора бежать дальше. Это жизнь. Но Дедушка Первый, все еще глядя детям в глаза, удивляет самого себя.
Надев на голову вызывающе черную в море желтого подсолнечника шляпу, Дедушка Первый, и так и не сказав детям ни слова, испускает дичайший вопль, и бежит в сторону. Размахивает руками и подпрыгивает. А-а-а!!! А-а-а, ревет Дедушка Первый так, что ему позавидовал бы даже зубр, которого увидел воевода Драгош Марамуреш, открывший Бессарабию во время охоты. А-а-а, орет Дедушка Первый, и встревоженные солдаты, сбившись в кучу, несутся вслед за ним. А-а-а, орет Дедушка Первый и сам не понимая почему и зачем, уводит солдат от детей. А-а-а, кричит Дедушка Первый и ведет солдат к своей погибели, после чего останутся сиротами трое детей, так что поступок его, в общем-то, с точки зрения высшей справедливости совершенно нелогичный. Орет и кричит. Кричит от ненависти сам не знает, к чему, и кричит яростно, и солдаты несутся за ним по рыхлой земле, спотыкаясь и стреляя, а дети молча стоят в своем оазисе, спасенные, но навсегда ли? Дедушка Первый несется по полю и кричит от обиды на Бога. Ноги опять, ноги снова путаются в корнях, вылезших кое где на поверхность, и Дедушка первый материт эти корни, а ведь пройдет всего несколько лет и он молиться на них станет. Спасут семью. Эти корни они с Бабушкой Первой сварят и скормят детям в первую очередь, когда будет голод, и случится это очень скоро. Бежит и кричит. Подсолнечники глядят ему вслед. Дети глядят ему вслед. Солдаты глядят ему вслед. Дедушка бежит и кричит, плача. Сапсан планирует. Сапсан спускается.
Старший мальчишка садится на землю, прижимая к себе за плечи младших, и самая маленькая, — сестренка, утомленная солнцем и беготней, — молчит. Тепловой удар. Умрет она часа три спустя, но брат поймет это только дня через четыре, — но все равно продержит тело рядом с собой, пока оно не начнет пахнуть. И только тогда, уверенный в смерти сестры, он закопает тело. Трех младших, — которым и правда по четыре года, они все ровесники, — мальчишка выведет с собой к Кишиневу, где им посчастливиться попасть в детский дом для детей коммунистов, что-то вроде небольшой тюрьмы, но вполне себе показательной, туда даже корреспондентов станут пускать. Много позже их — они всегда будут держаться вместе, — снимет для национального архива Конгресса США корреспондент Джоанна Тейлор, и это снимок станет пользоваться большой популярностью в молдавском сегменте интернета. Четверо в кушмах. Маленьких худенькие пацаны в молдавских национальных головных уборах, подпоясанные веревками, сидят за деревянным столом с ложками и глядят в объектив очень серьезно. Все мрачные. Аналогичное фото — только там дети были русские, но костюмы на них финские, а так все то же, и угрюмы они одинаково, — сделано в финском детском доме имени Маннергейма и тоже для архива Конгресса США. Русские. Даже дети у них недовольны.
Дедушка Первый кричит и прощается с жизнью, он уверен, что солдаты его нагонят. Сам дурак. Но ему посчастливилось — хотя с учетом последующих обстоятельств не факт, что посчастливилось, — умереть позже. Солдаты путаются в подсолнечнике, как в зарослях. В конце концов черт с ним, этим придурком, невесть откуда взявшимся, рассуждают они, а жиденят кто-то из местных выдаст — сами к людям выйдут, куда им деваться. Возвращаются в село. Дети сидят в поле до темноты, и идут всю ночь. Днем прячутся. Так до Кишинева. Дедушка Первый приходит на поле ночью, но уже никого не находит. Ночью плачет, чем раздражает жену. Уймись, Бога ради.
Один из младших мальчишек, совершенно забывший всю эту сцену, но которому о ней много раз рассказывал девятилетний спаситель, вырастает и становится оператором «Молдовафильм». Уезжает в Москву. Становится успешным профессионалом, и, дожив до глубокой старости, дарит эту сцену самопожертвования в поле подсолнечника, — заменив молдаванина на русского, а евреев на семью болгар, — режиссеру фильма «Турецкий гамбит», снятому по произведению модного русского беллетриста Акунина. Акунин хвалит. Но спустя несколько лет грузин Акунин, чья настоящее фамилия Чхартвишвили, жалеет, что эта сцена попала в фильм, потому что испытывает чувство невероятного национального унижения: Россия в очередной раз оскорбляет Грузию, напоминая, что силой осетинский конфликт не решить. Ох уж эта Москва! Везде враги, всюду сует свой нос, лезет куда не просят, говорит москвич в пятом поколении, Акунин. Желчно комментирует происходящее в интервью газете «Коммерсант». Он как раз заканчивает это блиц-интервью по телефону, сидя в кафе, когда в поле у Цхинвали, на который напали ночью, — об этом почти никто не знает, — выходит еще одно грузинское подразделение. Город вот-вот падет. Генерал Лебедь, который мог бы помирить грузин с осетинами, — как помирил когда-то молдаван, — уже мертв. Грузинский офицер видит в поле напуганного пацаненка лет семи и идет к нему. Ноги вязнут в земле. Пацаненок не решается бежать, и замирает. Офицер подходит. Стоят друг напротив друга. В глазах мальчишки военный видит перевернутый силуэт мужчины в камуфляже. Видит себя.
Вдова и сирота Оленька Статная, — ставшая вполне себе Ольгой, потому что лет ей уже далеко за тридцать, — перепрыгивает через большущую лужу, поджав в прыжке недовольно губы. Вечный город. Вернее, лужи на его дорогах, разбитых с самого момента своего положения, а еще грязь во дворах, а еще… Сама виновата. Ольга Статная с горечью думает о том, что лучше бы ей в самом деле уехать в Соединенные Штаты до революции, да разве папенька пустил бы, а потом как завертелось: в 1917 года Бессарабия стала чем-то вроде водоворота, сунь палец, затянет, закрутит. Отец убили в начале двадцатых. Потом было замужество, и первая Мисс-Бессарабии несколько лет жила как у Бога за пазухой, пока муж, бывший царский офицер, не ушел в Левобережье с небольшим отрядом — румыны это приветствовали, пускай русские перебьют друг друга все, — и не пал там в стычке. Пенсии не положено. Наследства нет, вернее, давно уже отобран особняк отца, и Ольга Статная живет в маленьком домике по улице Болгарской, который купил муж. Фамилия прежняя. Мужнину Ольга брать не стала, словно боялась предать память отца, у которого никого, кроме дочери, не было. Мы есть. Кстати, о еде. Ольга Статная — заявляющая миру своей гордой фамилией о том, что все еще существует, — держится несколько лет на грани, после чего вынимает из пакета, который прячет за шкафом, чулки. Времен Гражданской. Тонкие, изящные, чуть старомодные, и она печально любуется ими, потому что одевать их не для кого было после того, как муж, Васенька, пропал за Тирасполем. Вспоминая, улыбается. Медленно откручивает крышечку с флакончика духов, — на донышке осталось немножечко, — уже устаревших, но все еще престижных. Шанель номер-5. Госпожа Ольга Статная даже помнит год, когда известие об этих духах, аромат которых разработала госпожа Шанель, парижанка, появились в газетах. 1922. Хотела их очень, и будущий муж, который еще лишь ухаживал за недавней гимназисткой, горы своротил ради того, чтобы достать пахучую жидкость. Говорит, с Котовским встречался. Оля не верит. Васенька порой преувеличивал, но, по слухам этот ужасный Котовский и правда занимался контрабандой духов и чулков, так что кто знает. Ольга душится. Правда, с тех пор прошло десять лет, и все изменилось: нет Васеньки, нет Котовского, которого сами же эти большевики и убили, нет отца, нет дома, нет еды, и последний раз он держала в руках хлеб два дня назад. Голодно. В румынской управе Кишиневе с ней — как и со всеми представителями русской эмиграции, — вели себя безупречно вежливо, но холодно. Русских не любят. Мартышки, думает Ольга Статная, выходя из управы и кусая губы, и садится в кафе, — демонстративно ничего не заказав, — выкурить папиросу. Помогает с голодухи. Табак бьет в голову, и Ольга громко смеется чему-то, за что какой-то румынский офицер делает ей замечание на непонятном своем румынском языке — что, спрашивает его, хихикая, Ольга, и румын, побледнев, встает. Бросает слова. Среди них интернациональная на Балканах «курва». До Статной с опозданием доходит, что ее только что оскорбили, причем матерно, и она почти готова удариться в слезы, как мысль о том, что она все же вдова русского офицера, выпрямляет женщину. Скорее бы наши, говорит она спокойно. Наши кто, переходит на русский язык офицер? Ольга молчит.
Уходя с террасы под частью презрительное, частью сочувственное молчание публики, Ольга с удивлением понимает, что впервые сказала «наши» про советских. Голод мучает. Ольга находит кафе попроще и садится, чуть приподняв край платья, и источая аромат духов, — она пришла сюда, чтобы продать себя. Напротив молдаванин. Белозубый, улыбчивый, приятный, и воспитанный, насколько может быть воспитанным пусть богатый, но крестьянин. А ведь я еврей. Слышал, как вы сказали «наши», что, тоже ждете? Нет, да, наверное, не знаю, лепечет запутавшаяся Ольга, и окончательно теряется под благожелательным взглядом «молдаванина», который подзывает официанта и заказывает кучу еды. Становится подпольщицей. Это даже затягивает. Оля играет в конспирацию, рискует жизнью — а разве есть у нее выбор, разве что умереть с голоду, — и готовит приход в 1940 году русских войск в Бессарабию. Они и приходят.
В середине 1940 года бывшую дворянку, белогвардейскую шпионку и врага Советской власти, уроженку Бессарабии Ольгу Статную, расстреливают как «бывшую» на том месте, где комсомольцы выроют в 50-хх годах озеро, и где 3 миллиона лет назад была стоянка ископаемых тюленей, чьи кости найдут, когда снова осушат озеро в 2008 году. Среди костей будет и берцовая кость Ольги. Попадет в экспозицию. В очереди на расстрел Ольгу запишут двести тридцать восьмой и ждать ей придется до самого утра. В ту ночь на месте бывшего итальянского консульства расстреляют всех «бывших» бессарабских русских, и русских первой волны эмиграции. Оленьке будет холодно, она станет кутаться в шаль. Ту сорвут. Товарищ Кац, крикнет она во время ареста «молдаванину», который и приведет военных, а как же?.. Товарищ Кац, будущий автор труда «Еврейское подполье Молдавской СССР и моя роль в его создании», и расстрелянный по делу космополитов в 1950 году, но реабилитированный в 60-хх, отвернется. Умирая, Ольга с облегчением подумает о том, что у нее нет детей, и, значит, нет мучительного страха за их будущее. Вспомнит почему-то смешного настоящего молдаванина, который пару месяцев приезжал к ней в город, и оставался в ее домике на Болгарской за продуктовые наборы. Все на жену жаловался. Выдумщик. От холода била дрожь. Становись, ладная да статная, скажет ей парнишка в форме НКВД с приятным русским лицом, и укажет на место на край оврага. Откуда вы знаете мою фамилию, спросит она. Парнишка выстрелит.
Дедушка Второй идет по полю подсолнечника за сбежавшими от расстрела жиденятами, и ноги его в больших сапогах вязнут в чересчур рыхлой почве, и штык на винтовке покачивается, и Дедушка Второй мечтает найти детей первым. Пристрелит по-быстрому. Тем самым Дедушка Второй собирается спасти их от издевательств капрала, алкоголика Романа Кройтора, чье пристрастие к измывательствам над Иудиным семенем стало притчей во языцах не только их воинской части, но даже, кажется, уже всей румынской армии. Дедушка Второй за гуманную жестокость. Так что он выискивает взглядом щенков, — пожалеть их ему не позволяет мысль о своих детях, с которыми лучше и не думать, что случится, если он откажется выполнять приказы и станет плохо служить Маршалу и Королю. Его призвали в армию буквально на второй день после того, как румынские войска по приказу Маршала пересекли Прут, и первое, что им объяснил в казарме офицер: Маршал не собирается допускать ошибки, которая привела к 1940 году, когда сюда на целый год приперлись русские со своими набившими оскомину всему миру Советами. Евреев и коммунистов вырежут. Русских тоже вырежут, но ими займутся немцы, потому что, — понизив голос, доверительно делится офицер, — русских слишком много для нас, румын. Вот так вот. Раздается крик. Невероятный вопль, от которого в стеблях подсолнечника стынут соки и ярко-желтые цветы бледнеют, а уж про солдат румынской королевской армии и говорить нечего, и они сбиваются в кучу, опасаясь. Вдруг выстрелят? Но крик все еще несется над полем, и солдаты видят, что это какой-то недобитый, — видимо, жид — в черной шляпе, бросается от них через поле, несется зигзагами, видно, нервы не выдержали, и солдаты, посмеиваясь, бегут за жидом, постреливая на ходу. Дедушка Второй целится. Он вот-вот пристрелит Дедушку Первого, который, конечно, вовсе никакой не жид, а просто так получилось, но собрат по оружию задевает большой подсолнух и цветок качается, заслоняя временами мушку, а когда Дедушка Второй меняет позицию, Дедушка Первый уже где-то сбоку. Пали! Снова залп, но крик над полем не умолкает, — видать, дурачок совсем тронулся, посмеиваясь, говорят солдаты, — и они бегут по полю за мужчиной, пока не становится ясно, что недобиток смылся таки. Ничего, встретимся. Смеясь, переговариваясь, делясь впечатлениями, солдаты вновь собираются у края поля, и выходят на дорогу, а оттуда видно, что на тела расстрелянных, — кто не упал с оврага, конечно, — уже уселась хищная птица. Дедушка Второй тайком крестится. Они уходят по направлению к селу, принимать поздравления от местного администратора, и Дедушке Первому, принятому на постой в семью местного зажиточного владельца мельницы, кажется смутно знакомой фигура хозяина. Машет рукой. Поужинав, солдаты ложатся спать, и во сне Дедушка Второй все бежит по полю за маленькими фигурками с жалкими спинками — почему у детей так жалко выглядят именно спины, недоумевает истекающий потом во сне Дедушка Второй, — и убегающие от него во сне дети оглядываются так же беспомощно и испуганно, как и дети, убегавшие от него наяву. Дедушка Второй стонет. Разорались на мою голову оба, шепчет недовольная хозяйка, маленькая баба со всегда поджатыми губами, но этого не слышит ни Дедушка Первый, плачущий во сне, ни Дедушка Второй, который во сне мечется, стонет и кряхтит. Мужчины. С ранних лет они начинают вертеться во сне, ложиться поперек кровати, стучать себя по груди кулаком, храпеть и разговаривать, они хозяева мира, даже когда они на кровати. Бабушка Первая встает, потому что не может спать, и выходит во двор. Сердце тревожно сжимается. Дедушка Второй бежит по полю подсолнечника. Дедушка Второй бежит по огромному полю в Одесской области, куда они вышли, окружив несколько советских частей благодаря блистательному стратегическому замыслу Маршала. Кричит, надрываясь. Русские дерутся как сумасшедшие, и румыны стараются не вступать с ними в прямое столкновение, — лучше обойти и предоставить это немцам, говорит офицер части, где служит Дедушка Второй. Спесь сбита. Лоск сбит, и уже спустя два месяца войны форма на них малость потрепалась — господин Гитлер, понятное дело, почти разбил русских, но если они разбиты, почему они так жестоко и отчаянно бьются с нами здесь, в нескольких тысячах километрах от Москвы? Это жидовская пропаганда! А-а-а! Дедушка Второй бежит за пленными красноармейцами, бросившимися врассыпную с дороги, — по которой их ведут на расстрел под Одессой, — и протыкает штыком одному из них спину, прости меня, Господи. Это был комиссар. Офицер похлопывает Дедушку по плечу и хлопками в ладони собирает солдат, добивающих пленных, пытавшихся сбежать, чего у них не получилось. Маршал шлет телеграммы. Мои воины, сегодня вы совершили невероятное деяние, которое войдет в летопись славных побед Великой Румынии, вы сломали хребет большевизму, диктует Маршал, — как и все румыны охочий до цветастых фраз, это еще от турок, а — Дедушка Второй бежит. Поднимает сапоги. Обувка, кстати, дерьмо, и стоило бы Маршалу подумать о том, чтобы одеть своих солдат получше, бурчит кто-то в окопах, на что Дедушка Второй предлагает ворчуну заткнуться, и сапоги и правда прибывают на следующий день, целый эшелон. Но все забирают немцы. Дедушка Второй бежит от вагона к своему офицеру, но тот сухо и сдержанно велит возвращаться в окоп, и объясняет, что снабжение немецких частей, взявших на себя всю тяжесть, и тому подобное, приоритетны. Вас понял. Дедушка Второй бежит по степи, и ноги его то и дело попадают в дыры от нор — сусликов здесь невероятно много — атакуя окопавшихся на полуострове Крым русских. Здесь ад. Одесса и бои под ней просто Божья благодать в сравнении с тем, что устраивают им здесь эти безумные русские, — они уже проиграли войну, и как настоящие скоты, не в состоянии понять, что если дело твое проиграно, надо сложить оружие и спокойно жить дальше. Ну, кому позволят. Есть категории людей, которым точно не позволят, и Дедушка Второй уже знает, кто это. Спасибо, растолковали. Дедушка Второй бежит посреди колонны, среди которой есть и красноармейцы, — которых шатает, но упасть которым не дают, — и дети, и женщины в смешных платках, и мужчины в гражданском, — все жидовня и партизаны, которых им выдали местные татары, вот кто здорово помогал. Колонна трусит. Кто-то хватается за сердце, кому-то уже дурно, но это не имеет никакого значения, потому что за камнем, куда выбегает колонна во главе с Дедушкой Вторым и замыкаемая еще несколькими солдатами, видно соленое озеро, замерзшее озеро, и крик вырывается из обреченной и все понявшей толпы, увидавшей прорубь. Восточный Крым. Райские места, думает Дедушка Второй, отступая в сторону, справа море Черное, слева море Азовское, а посреди них тонкий перешеек с грязевыми и солеными озерами. Обоснуюсь здесь. Выиграем войну, думает Дедушка Второй, — вернее, добьем тех, кто сопротивляется, потому что война и так выиграна, — это ясно, и куплю землю здесь, наверняка же тут будет Великая Румыния. Людей заталкивают в прорубь. Орут, визжат, жмурятся, кто-то смирился, Дедушка Второй отворачивается, смахивая с глаз слезы, и видит, что какая-то женщина сопротивляется особенно упорно. Спасает. Вытаскивает из толпы. Дает страшного пинка, и та отлетает, ударившись головой о камень, и приходит в себя лишь ночью, когда все уже кончено, и трое ее детей подо льдом. Выживает. После войны становится чем-то вроде местной достопримечательности, ходит каждую ночь зимой к озеру, и воет, и все спрашивает, не замерзли ли их косточки, и это описывает писатель Эфраим Севела, который отдыхал в здешних местах две недели. Стандартный отпуск. Правда, Севела описывает женщину русской женой еврея, которую пощадили, а детей прикончили, и это неправда, потому что она была русская жена русского бойца Советской Армии. Ох уж эти евреи, качают головой подо льдом мертвые дети, мало им, что ли, своих мучеников? Ох уж эти русские, качают головами евреи, да разве кто-нибудь страдал так, как мы? Дедушка Второй ни о чем не думает. Он выполняет приказы. Бежит, высоко поднимая ноги, по побережью грязевых озер Восточного Крыма. Ползет, стараясь пониже держать зад, потому что ранение туда может быть весьма болезненным, он сам видел, как один парень из гвардии, получивший пулю в седалище, стал инвалидом — постепенно, потихонечку, словно гангрена, отказали ноги. Толку с его наград. Так что Дедушка Второй ползет, старательно прижав бедра к земле, будто бы к женщине, а потом рывком поднимается и бежит с криком. Дедушка Второй бежит и Земля крутится под его ногами. Это он, солдат румынской армии, ее крутит. Так, по крайней мере, уверяет его в очередной своей поздравительной телеграмме румынской армии сам Маршал (диктатор Румынии Антонеску — прим. авт.), но солдаты уже посмеиваются. Тушенка вместо телеграммы. Вот чего бы им хотелось, чтобы подкрепиться перед очередным наступлением на этих проигрывающих войну русских, которые все никак не успокоятся. Ладно, побежим голодными. Дедушка Второй бежит прочь от вагона-теплушки на тупике железнодорожной станции в Оргееве, и его рвет, наизнанку просто выворачивает, потому что он, — в надежде поживиться продовольствием, — сбил пару досок и увидел, что было в вагоне. А оттуда сладко пахнуло залежавшейся мертвечиной и известью, это живых военнопленных набили в вагон и засыпали не гашенной известкой и оставили на солнцепеке на три дня, и Дедушка Второй убегает от этого вагона каждую ночь до самой своей смерти. Он бежит. Дедушка Второй бежит по неровному полю где-то под Ростовом, Дедушка Второй бежит под Керчью, где в него швыряет гранату морской пехотинец, и солдат теряет сознание из-за удара по голове, а взрывной механизм, к частью, не срабатывает. Жить мне долго. Перед тем, как отключиться, Дедушка Второй запоминает фигуру парня, так приложившего его гранатой, парня с волевым лицом и вскинутыми к верху руками, в этой белой русской форме, — позже он увидит такого на картине «Оборона Севастополя». Помолчит. Никому, конечно, не расскажет о том, что видел такого же и где видел такого же, а потеребит в руках шапку и выйдет из сельского клуба, открытого в 1946 году, за пару лет до голода. Он ведь возчик. Дедушка Второй всем рассказывает, что в румынской армии он был возчиком и сидел в обозе до самого Сталинграда, откуда смылся и вернулся домой, где его и взяли в Советскую армию. Старается забыть. Но это позже, а пока Дедушка Второй бежит по полю, которое вдруг резко заканчивается и перед видом открывшейся ему сверху реки у Дедушки Второго духа захватывает. Дон. Дедушка, завороженно глядя на невероятно широкую — разве такие бывают — реку, даже не стреляет в русских, попрыгавших в реку, а просто смотрит на течение. Он бежит в атаку и он бежит после неудачной атаки в тыл, чтобы сообщить господину офицеру последние новости с передовой, потому что телефонный шнур, как всегда, перебило. Дедушка Второй бежит в деревню, и выбивает ногой дверь, но находит в доме лишь старика со старухой, в белом, нарядных, прижимающих к себе ребенка, тоже в белом. Это казаки. Они радостно приветствуют своих освободителей от большевицкого ига, и, услышав их историю, неплохо говорящий по-русски Дедушка Второй думает, что, возможно, вся эта война имела смысл. Сын репрессированных родителей, мальчишка прижимается к бабке с дедом, и Дедушка Второй дает пацану половину шоколадки, которую он стащил у погибшего немца. Бежит от дома. Бежит к дому. Снова бежит в поле, бежит под огромным русским небом, и как-то время атаки его пронзает тоска, невероятная тоска, потому что дедушка Второй вдруг понимает, что Россия сейчас везде. Тысяча километров вперед — Россия, тысяча километров сзади — Россия, тысяча справа и тысяча слева — Россия. Тысяча?! Приятель хохочет, когда дедушка Второй делится с ним этим переживанием, и объясняет этому славному, но недалекому, в общем, бессарабцу, что он неправ. Пять тысяч не хочешь? Пять тысяч справа — Россия, пять тысяч слева, пять тысяч впереди и пять тысяч… Дедушка Второй впадает в депрессию. Но бежит, стараясь не зацепить сапогом камень, которых здесь, — на берегу следующей русской реки, — очень много, потому что бои ведутся в разрушенном городе. Сталинград. Немцы и русские дерутся в нем, ухватившись за город каждый, словно две собаки, сцепившиеся зубами на одной палке, и Дедушка Второй узнает, что и Крым был не ад, а чистилище, и в аду, оказывается, можно побывать и при жизни. Думает бежать. Русские стоят насмерть, немцы стоят насмерть, небо переворачивается, и Дедушка Второй глядит в открытые глаза своего офицера, пристреленного снайпером в развалинах Сталинграда, и видит в них перевернутого себя. Еще видит, как снежинка лежит на зрачке и не тает. Это-то его и добило. Дедушка бредет от города в сторону тыла, который оказывается передовой, потому что окружение в самом разгаре, и румыны просто исчезают, что повергает немецкого командующего Паулюса в шок. Чертовы румыны. Две дивизии исчезают, как будто их и не было. Отчего же, господин Паулюс, мог бы возразить Дедушка Второй, который бежит сейчас в сторону, противоположную Сталинграду, мы были, и мы есть. Иначе стал бы слать Маршал Румынии телеграммы с призывом держаться, быть, готовиться, стоять, выстаивать, и еще тысячью глаголов? Кстати, вы теперь тоже Маршал. Примите мои искренние поздравления и всего доброго, мы, румыны, — потому и не бесчувственные скоты, как эти русские, — м можем понять, когда смысл в сопротивлении исчезает. Спаси себя, спаси Румынию! Дедушка Второй бежит, и Земля под его ногами крутится в обратную сторону, и ноги эти оставляют следы не сапог, но ступней. Сапог давно нет. Дедушка Второй и еще несколько тысяч румын, разбежавшихся под Сталинградом, и ускользнувших от плена, возвращаются на родину тайком, и наивысшие шансы у тех, кто знает русский язык. Дедушка Второй знает. Даром, что ли, он родился в Русской империи, которой была тогда и Бессарабия. Идет ночами. Бежит, рассчитывая увидеть своих детей в здравии, и ужасно по ним соскучившись, а за ним бежит фронт. Медленнее Дедушки Второго. Так что почти год Дедушка Второй, добравшийся до родного села, может пожить спокойно — местный полицейский, за ежемесячные пять леев с семьи в упор не замечает сотню дезертиров, обосновавшихся в лесочке по соседству. Румын — человек! У него есть слабости, с ним всегда можно договориться, не то, что эти свихнувшиеся на своем «ни шагу назад» русские или немцы с их «жизненным пространством», румыны даже позволяют заключенным концентрационного лагеря под Одессой встречаться с проститутками из женского лагеря. За деньги. Немцы в бешенстве. Персонал лагеря меняют на немецкий, и он становится старым добрым концентрационным лагерем, со средней продолжительностью жизни заключенного три месяца. Немецкий порядок. Русский журналист Илья Эренбург пишет наброски статьи, призывающей беспощадно уничтожать врага на его территории, с надеждой опубликовать текст в течение какого-то полугода. Он оптимист. Дедушка Второй, слегка полежав в лесу, на сене, которое натаскал туда средь бела дня — еще два лея полицейскому, — снова бежит. Русские близко. Совершенно очевидно, что немцы проиграли войну, но, — как и русские несколькими годами раньше, — эти сумасшедшие продолжают воевать, хотя и продули. Безумные нации. С дезертирами расправляются. Рассвирепевшие из-за вечных предательств вчерашних союзников немцы отправляют несколько команд, и те выволакивают дезертиров, за родину которых сражается Германия, и приканчивают их без суда. Добираются и до леса. Русские войска подкатываются к Бессарабии и Дедушка Второй бежит по лесу, спотыкаясь в корнях, лес темный, — это легендарные Кодры, где схватили самого гайдука Григория Котовского! — но Дедушке Второму чудятся среди темных пятен ярко-желтые подсолнухи, и в криках дезертиров, которых приканчивает немецкая карательная команда, он слышит детскую одышку. Гоняют как зайцев. Мужчины орут, кричат, просят, но разъяренные немцы не думают оставлять в живых никого. Хорошо, если сразу. Дедушка Второй чувствует себя ребенком, напуганным и маленьким, и падает, закрыв лицо руками, прощаясь с жизнью. Нос разбит и голова его в крови. Так нельзя. Нужно в последний миг подумать о самом важном, думает он, и, набравшись храбрости, успокаивается и представляет лица своих обожаемых, дорогих детей. Сверху глядит немец. Мертвое дерьмо, говорит он и протыкает, на всякий случай, штыком руку дезертиру сраному, но тот никак не реагирует, и немец бросается на крик в лес, а Дедушка Второй лежит, и если бы сейчас пошел снег, то снежинка на его глазу не растаяла бы. Ему так страшно, что он перестал бояться. Дедушка Второй лежит. Он глядит в небо, видя лица своих детей, пока не становятся слышны голоса, снова идет цепь людей в форме и с оружием, но это уже русские, и Дедушка Второй медленно поднимает кровоточащую руку. Та колеблется посреди горы трупов, среди которых лежит Дедушка Первый, и кто-то из солдат замечает. Один жив! Русские ребята бросаются к нему, обнимают, тормошат, хлопают по плечу, обнимают, хохочут, суют в рот фляжку, и Дедушка Второй думает, что спасен, и плачет навзрыд. Наши пришли.
Слегка подлечив руку, Дедушка Второй продолжает бежать. Трусцой к центру села, где на грузовике стоит русский офицер и объясняет, что всем, кто служил в армии Румынии, придется теперь встать в строй советских солдат. Искупать вину. К тому же, братский румынский народ вот-вот свергнет тиранию ублюдка и зверя Антонеску — это точно, думает Дедушка Второй, сколько народу-то мирного этот Антонеску перебил, — и надо бы помочь. Собирайтесь. Дедушка Второй трусит домой и обнимает дорогих его сердцу детей, жадно глядит в лицо каждого, и целует жену. Вещи давно собраны. Дедушка Второй идет теперь на Запад, и ему вслед глядят восемь глаз детских и два — женских. Семья проводила. На ногах у Дедушки Второго хорошие сапоги, на плече скатано одеяло, есть винтовка — автоматы им не выдали, — жизнь налаживается, Германия вот-вот капитулирует, и можно будет вернуться домой. Раздается взрыв. Дедушка Второй бездумно бежит в сторону от него и видит Днестр, который нужно форсировать, что он и делает, уцепившись за плот, и под водой дрыгающиеся ноги его выглядят нелепо, как будто он все еще бежит, да он и бежит — теперь уже от Днестра, с криком «ура». Кишиневско-Ясская операция в разгаре. В котел попадают большие силы немцев и румын, и румыны, как и полагается, куда-то исчезают, и бьется только немецкая армия, безуспешно и обреченно. Чертовы немцы. Дедушка Второй хорошо знаком с местностью, и проводит группу русских разведчиков к Кишиневу, который пока еще в руках врага. Ложатся на холме. Наблюдают сверху за передвижениями немцев, которые минируют город, чтобы взорвать его, как взорвали Советы в 1941 году, и командир разведки говорит: слушай, молдаван… Дедушка Второй бежит. Он ужасно спешит, чтобы, по поручению командира разведки, сообщить генералу Бельскому, который планирует освобождение Кишинева днем спустя, о замысле немцев. Группа разведчиков спускается с холма и завязывает бой. Все они покойники. Капитан разведки это знает, но он знает еще что обязан начать бой и зацепиться, иначе город будет уничтожен. Отстреливаются до последнего. Столкновения еще далеко от города. Вряд ли подкрепление будет. Все разведчики — двадцать четыре человека, — занимают круговую оборону, и немецкому ефрейтору Максу Штрейхеру приходит в голову, что с этого начиналась его война в Бессарабии. Погранзстава в Кагуле. Там русские тоже уперлись рогами в землю, и выкурили их только спустя почти месяц. Упрямый народ. Разведчики держатся почти день, — лежа в районе нынешнего дендрария, — его в 2007 году отреставрируют и высадят несколько цветочных клумб на месте разрушенных теплиц. Гибнут по очереди. Перед тем, как закрыть глаза, последний оставшийся в живых разведчик, боец Сергей Иванов, видит наши танки. Дедушка Второй бежит. Генерал Бельский, — красивый и в плаще, — склонился над картой, и запыхавшийся молдаванин объясняет ему, что было велено передать. Генерал кивает. Войска входят в город на день раньше, чем планировалось, так что разрушить Кишинев немцам не удается, и Дедушка Второй получает медаль по представлению самого Бельского. Генерала славят. После войны, уже в пятидесятых годах, умершего генерала привозят в Кишинев и хоронят с почестями на Армянском кладбище. Устанавливают статую. Красивый, в плаще, генерал Бельский с усмешкой глядит в сторону Телецентра, а справа от него чернеет огромная плита — это семья второго президента Молдавии, Лучинского, разрыла несколько старинных могил, чтобы обустроить здесь свой склеп. Разведчики гибнут. Дедушка Второй не увидит ни того, ни другого, ни третьего. Дедушка Второй бежит. На груди у него медаль, на ногах у него сапоги, а в руках винтовка, а на той штык, и Дедушка Второй ловко поддевает им спину румына, пытающегося скрыться в окопе за Яссами. Стойте, братья. Румынский народ свергнул тирана и ублюдка Антонеску, и король Михай, — которого за это Сталин наградит Орденом Победы, — присоединяет Румынию к странам-союзницам, воюющим с Гитлером. Ай да Михай! Румыны поворачивают оружие против немцев, и уцелевшие германские части, стоявшие под Бухарестом и у нефтяных скважин Плоешт, прорываются на родину с боем. Румыны ликуют. Вся Восточная Европа ликует. Ай да молодцы. Дедушка Второй бежит. Он выбегает из 1944 года и вбегает в год 1945. Словаки рвут с Германией и объявляют ей войну. Вслед за словаками так поступают почти все страны Восточной Европы, и этим ребятам удается что-то невероятное. Они — единственные, кто выиграл ВСЮ мировую войну. Англичане проигрывали ее с самого начала, русские стали проигрывать ее чуть позже англичан, американцы тоже проигрывали, немцы проигрывали в ее конце… И только словаки-венгры-румыны-хорваты и прочая прочая выигрывали Вторую Мировую до 1944 года с немцами, и продолжили выигрывать ее после 1944 года с русскими и союзниками. Генерал Бельский усмехается. Лоринков смеется. Разведчики гибнут. Дедушка Второй бежит по Венгрии, и подворачивает ногу в огромных пещерах под озером Балатоном, и лежит, глядя на удивительные сталактиты, пока его не подбирают санитары. Возвращается в строй. Бежит по Венгрии, бежит по Австрии, где под Веной вытаскивает с поля боя двух земляков, получивших страшные ранения в живот, один из которых — бессарабский еврей, чудом выживший в резне, устроенной Антонеску, и которой восторгался даже сам Гитлер, — и оба умирают у него на руках. Возвращается в строй. Бежит по полю, бежит по дороге, и добегает до Германии. Кстати, об Антонеску. Маршала расстреляли, и Дедушка Второй ночью плачет, когда узнает об этом, уж очень нравилась ему выправка Антонеску, хотя, конечно, это все грызня тех, кто наверху, и нас, маленьких людей, не касается. Румыны, переходите Прут! Маршал Антонеску кричит это перед смертью, после чего палач открывает люк, и старый маршал уходит в вечность камнем, с петлей на шее. Достойная смерть. Отпустите рукав моего пальто, кричит коммунистический диктатор Чаушеску, которого расстреливают в Румынии в 1989 году без суда и следствия, и расправу транслируют в прямом эфире румынского телевидения. Уберите детей, говорит перед смертью генералиссимус Сталин, и этого не слышит никто. Дедушка Второй бежит. Часть, в которой он служит, доходит до самого города Равенсбрюка, где натыкается на колонну заключенных женщин, спрятанных в лесу немцами. Не успели расстрелять. Женщины голодны, слабы, и дрожат, они костлявы и у многих нет зубов, ни на одну из них не польстится даже самый изголодавшийся солдат, и хотя бы за это Дедушка Второй спокоен. Ему велено принять командование над бывшими заключенными и сопровождать несчастных до города, где передать в руки медиков. Составляет список. Среди заключенных есть даже женщина по фамилии Тельман, и она говорит Дедушке Второму, что Тельман был немецким коммунистом, антифашистом, и она рада приветствовать товарищей, которые, наконец, пришли. Наши! В концлагерь ее отправили с детьми, и те не выжили. Дедушка Второй сочувствует. С помощью госпожи Тельман составляет списки, и читает, выискивая после каждой фамилии в сидящем строю женщину, которая слабо кивнет, потому что сил громко отзываться у них нет. Рядом бомбежка. Женщины сидят, потому что сил убежать у них тоже нет. Изредка с деревьев в лесу падает ветвь, срезанная случайным осколком. Никто не шевелится. Дедушка Второй читает. Водит пальцем по бумаге, говорит неуверенно, Марина По… Постойка. Постойка Марина. Марина Постойка! Молчание. Она со мной на одних нарах жила, говорит Тельман, наверное, в суматохе пристрелил кто из охранников, или убило при бомбежке, мы тут такого натерпелись… Дедушка Второй кивает и зачеркивает фамилию. Продолжает читать. Марина Постойка бежит.
Утром лагерь строится на развод. Заключенных выстраивают в шеренгу, перед ней прохаживаются надзиратели с овчарками, и собаки бросаются на людей, но не часто. Ничего, жить можно. Марина Постойка, пережившая на Украине голод тридцатых, с недоумением глядит на заключенных евреек из Бельгии, которые от голода плачут и едят земляных червей. Бывает и хуже. Работы много. Под станком на заводе, куда заключенных водят каждый день без выходных, Марина Постойка находит каждый раз кусочек хлеба. Бездумно ест. Это, видимо, кто-то из немцев, сочувствующих заключенным. В Равенсбрюке очень чисто и во всем порядок. К примеру, если у кого-то с самого утра температура, то приходит врач, делает укол, и женщина засыпает. Ее увозят. По утру все становятся на развод и стоят по полтора-два часа. Днем спешить некуда. Женщины ходят в город на работу по ночам, ведь днем на станках трудятся свободные немецкие граждане. Завод работает как исправный механизм до самого последнего дня войны. Толковый народ немцы. Марина Постойка в Равенсбрюке по глупости. Ну, или случайно. Все оказались на своих местах во время Второй Мировой войны случайно. Так и она. Ее место был на сельскохозяйственных работах, куда девчонку угнали из деревни в Черниговской области, но Марина решила расклеивать листовки. Товарищи. Власть рабочих. Красная армия. Вернутся. Мщение. Все это было так глупо и смешно, что следователь — а схватили остарбайтера Марину Постойко на второй день ее подпольной деятельности — даже не велел ее расстрелять. Отправил в Берлин. Марина Постойка, девушка из глуши, видит Александер-плацце в Берлина, и ее восхищает эта великолепная площадь, ей вообще в Германии очень все нравится, кроме одного — она заключенная. Гремит цепями. Девчонку ведут по пустому ночному берлинскому метро, где всего спустя четыре года будут тонуть люди. Метро затопят. Это последнее жертвоприношение, сказал, подергивая головой, Адольф Гитлер, — нация, которая не сумела выиграть, должна умереть. Утонут тысячи. Их станут спасать русские солдаты, которых в 2008 году газеты Британии назовут насильниками и скотами, потому что русских нужно снова пнуть за нежелание строить газопровод там, где следует. Ох уж эти русские. Упрямые русские. Особенно их упрямство раздражает восточноевропейцев, которые выиграли войну в 1941 году и которые выиграли войну в 1945 году. Словаков, например. Двое из них, — журналист, специализирующийся на штампованных репортажах из горячих точек, и сопровождающий его филолог, — приезжают в 2008 году в Молдавию, хотят написать репортаж о «замороженном» приднестровском конфликте. Генерал Лебедь щурится. Полковник Лебедь ерзает на неудобном сидении кинотеатра «Искра». Коты отдыхают на камнях разрушенного кинотеатра и земельный участок, огороженный забором с надписью «Бессарабия это румынская земля», покупает сын президента Воронина. Словаки забавные. Они встречаются с писателем Лоринковым, потому что таков стандартный набор любого материала о «замороженном конфликте»: политик, простой житель, писатель или режиссер, снимок с колючей проволокой, снимок на реку с моста, если есть река и мост. Пьют вино, оно здесь неплохое совсем. Словаки ужасно негодуют из-за этих русских, и тактично напоминают, что в 1944 году Словакия внесла свой вклад в разгром гитлеровской Германии. Вовремя. Филолог выражает сдержанное сомнение в том, что вклад русских в мировую культуру так велик, как им это самим представляется. Лоринков вздыхает. Филолог говорит, что проходил практику в русской семье, и его неприятно поразило их мессианство. Зимой и в Волгограде. Лоринков улыбается. Словаки говорят. Лоринков думает, не было ли словаков в той части, что пришла в его родовое село село в 1941 году, чтобы разбить головы его двоюродным дядям — пяти, трех, и одного лет от роду, — за то, что их папочкой был красноармеец. Ничего не умерло, понимает вдруг Лоринков. Успокаивает сам себя. К тому же, напоминает Лоринков, такое случается только в книжках. Никто никогда ни с кем не встречается. Палачи умирают в старости, в довольстве и почете. Жертвы не отомщены. Люди приближаются друг к другу всего раз, чтобы оттолкнуться и разлететься навсегда. Частицы не сцепляются. Круги не замыкаются. Все это выдумки романистов. Надо смириться. В конце концов, он сидит перед представителями народа-победителя, ухмыляется Лоринков. Успокаивается. Просит счет. Словаки вовсе не хотели его обидеть, он просто втемяшил себе это в голову, а русскому если что втемяшится… Мнительные раздражительные упрямцы. Евреи такие же, если не хуже. Один из них, редактор московского журнала «Русская жизнь», вызывающего у Лоринкова отвращение и скуку, — Ольшанский, — пишет, что в 1945 году всю Германию следовало бы вырезать, а земли заселить евреями. Кстати, почему евреями, Дмитрий, ехидно спрашивает Лоринков в комментарии к статье, ведь войну, кажется, выиграли русские, англичане и американцы? Потом добавляет — и словаки. Хохочет.
Мария Постойка русская, она же с Украины, — и она упрямая, — так что она бежит, когда после двух месяцев тюрьмы ее отправляют на работы похуже. Снова Берлин. Ночь, метро, конвоиры, Александр-плаце, цепь звенит, и ее здорово избивают в тюрьме. Шлют на строительные работы. Снова бежит, и снова метро, и конвоиры, кажется, уже узнают, — но это только кажется, ведь их меняют, — и ее шлют в Равенсбрюк. Это конец. Но Марина Постойка проводит в лагере почти три года, что само по себе невероятно, из долгожителей здесь еще — жена коммуниста Тельмана, потерявшая за время заключения двоих детей. Делят нары. Смотрят с удивлением на бельгиек, которые дерутся из-за земляных червей, но потом это у них проходит, потому что запасы червей истощаются. Надзиратели, крупные, холеные мужчины в отличных шинелях — все как в кино, все верно, отметит Марина Постойка, побывав на сеансе фильма про войну в 1962 году, — прохаживаются мимо шеренги. Хочется спать. Спать нельзя, если упадешь, придет доктор, сделает укол, и заснешь навсегда. Собаки рвутся вперед, на женщин. Марина Постойка честно работает и вносит свой посильный вклад в разгром большевистско-жидовской Москвы, вытачивая какие-то там детали на станке, работающем почти 24 часа в сутки. Жить можно. Хлеб даже подкидывают, так что Марина Постойка не падает духом, а работает, и ждет. Когда к городу подходят части Красной армии, немцы понимают, что следов замести не успеют, и выводят женщин колоннами в лес, и начинается бомбежка. Охранники прощаются с подопечными, расстреляв десятка три заключенных, отчего арестанткам кажется, что их Судный День пришел. Прощаются с жизнью. Марина Постойка не для того глядела с презрением на драки возле мусорных баков, и не для того съедала кусочек хлеба каждый день из года в год, чтобы умереть в лесу заключенной, думает Марина Постойка. Бросается за дерево, бежит, плутая, — что, в общем, нетрудно, так как от слабости заносит, — и немцы даже не преследуют, до того ли? Патроны кончаются и они, сплюнув, уходят: заключенные сидят на земле, недоуменно глядя друг на друга и моргая. Что, всё? Марина Постойка бежит по лесу, осыпаемая листьями с деревьев — листву сбивают взрывные волны, — толкаясь с деревьями, и видит впереди просвет. На поле танки. Слышен бег. Листья густого кустарника, у которого сидят заключенные, раздвигаются, и женщины видят смуглое лицо Дедушки Второго, который по инерции продолжает бежать, и буквально падает к ногам арестанток. Товарищ капитан! Тут такое… Листва падает. Земля дрожит. Дедушка Второй останавливается. Марина Постойка бежит.
Ярко-желтый автомобиль полковника в отставке Лоринкова медленно — еще середина восьмидесятых годов и лихачить не принято, — едет из пункта Кишинев в пункт Одесса, и по бокам от автомобиля разворачиваются огромные поля Молдавии, поразившие маленького внука полковника своей… лоскутностью, что ли. Словно одеяла. Много позже он так и начнет первую свою удачную книгу — «облака масляно таяли за холмами, а те, из-за расчертивших их полей и наделов, похожи были на лоскутные одеяла». Такой образ. Сейчас внук полковника Лоринкова глядит на поля в боковое окно, и чувствуя себя вполне комфортно, — это новая и довольно престижная машина, «Жигули», — любуется природой. Какой-то час. Между Молдавией и Украиной нет таможен, границ и постов, поэтому дорога от столицы МССР до столицы Одесской области занимает всего четыре часа, ровно в два раза меньше, чем двадцать лет спустя. Вот вам и прогресс… В машине, кроме полковника Лоринкова и его внука, никого нет — вся семья уже в Одессе. Можно было поехать и поездом, но полковнику хотелось порадовать внука. В прошлом году он всего за двенадцать часов отвез мальчишек из Кишинева в Белоруссию, и в пути они ели икру минтая из стеклянной баночки, — одна крошка прилипла к губе старшего, дед, забавы ради, ничего не сказал, и малец так и ехал через две республики СССР с икринкой на губе, чем несказанно веселил деда и брата. Жарко, открывают окна. Им остался час, это уже Украина. Ну, или Одесский уезд Великой Румынии, который был здесь в сороковых годах. Здесь все кровью пропитано, говорит дедушка, нахмурившись, и внук глядит на землю, ожидая увидеть, как из нее сочится кровь, которая его еще не пугает: она значит лишь, что упал с велосипеда или гвоздем себя по руке саданул, когда табуретку пытался сделать. Пять лет это возраст. Желтые «Жигули» едут между двух полей подсолнечника, и сверху все это сливается в огромное солнечное пятно, — вроде как, земля смешалась с небом, — думает полковник Лоринков и прибавляет газу. Дед, что это? Подсолнечник, терпеливо объясняет полковник Лоринков, и отвечает, почему подсолнечник желтый, для чего он нужен, как из этих штучек делают масло, для чего нужно масло, как оно попадает в бутылки, и все такое. Не ерзай. Ладно, сдается полковник Лоринков, думая, что, очевидно, таких словесных дуэлей у детей до шести лет не выигрывал еще никто и никогда, — со времен сотворения земли со всеми ее полями и подсолнечником, — ладно. Не мешай мне вести машину. Внук насупился и глядит в сторону чуть обиженно. Через минуту пройдет: мелькающий пейзаж — повод вполне достаточный для того, чтобы начать новую серию расспросов. А что. А как. Почему. А почему не… Остановимся, все расскажу, сдается, приподняв кисти над рулем полковник Лоринков, и в изобилии желтого в том пейзаже добавляется еще капелька желтого — обручальное кольцо, сверкнувшее на солнце. Пора перекусить. Внук умолкает, довольный. Заезжают в лес. Справа у обочины автобус. Ничего удивительного, в общем, только если бы автобус стоял, а он, почему-то, лежит. Развороченный. Несколько человек суетятся над рядами мешков, выложенных вдоль дороги, и ветерану корейской войны полковнику Лоринкову, — терявшему за день до десяти человек во время бомбежки ГЭС, а бомбили ее каждый день полтора года, — не нужно гадать, что это за мешки. Значит, так. Дед медленно съезжает к обочине, и велит внуку сидеть в машине, а сам выходит с аптечкой, и помогает перевязать кого-то из выживших. Автобус со студентами. Ехали на море, из Белоруссии, пятьдесят человек, — и теперь тридцать лежат вдоль дороги, потому что водитель уснул, и врезался на полной скорости в грузовую машину, которую дед и не заметил, потому что ее вынесло еще дальше. Страсти Господни. Помогают раненным. Полковник Лоринков и его внук — первые, кто оказываются на месте аварии. Мобильных телефонов еще нет, и полковник говорит, что сейчас же едет за помощью, и повернувшись лицом к Солнцу, видит темную маленькую фигуру, стоящую у обочины. Я же просил оставаться в машине, думает он, потому что говорить уже поздно. Подходит к внуку. Дедушка, почему валяются сосиски, спрашивает мальчик. Что, спрашивает дед. Наклоняется. На одном из оторванных пальцев, валяющихся у обочины, краснеет покрытое засохшей кровью обручальное кольцо. Дед невольно потирает правую руку. Дедушка, спрашивает внук, почему…. Мы едем, резко говорит полковник Лоринков, и они усаживаются в машину, и едут за помощью. Мальчик, пристегнутый на заднем сидении, глядит в окно и не видит полей. Перед ним окровавленные пальцы. Почему сосиски лежали у дороги, думает он. Пожимает плечами. Взрослых трудно понять. Машина тормозит, и дед, вполголоса ругнувшись, тормозит. Отара овец, не спеша, переходит дорогу. Колокольчики звенят. Овцы блеют. Ягнята молчат.
«Брайт елоу» это, если говорить по английски, энергично желтый, думает Лоринков, и потирает глаза, в которых плывет Армянское кладбище, куда он заходит проведать могилу деда. Повторяет английские слова. Глаза устают, он много читает, еще больше пишет — правда, вовсе не того, чего следовало бы, — и под вечер глаза отказываются смотреть, как руки какого-нибудь грузчика — держать. Руки от резких ударов по клавиатуре дрожат, и болят, особенно правая, и в зале Лоринков спасается от боли в ней, вращая гриф от штанги, и к нему подходит кто-то из посетителей, чтобы радушно, — как принято, — потрепаться о том да о сем, слушай, начинает он, но осекается, когда Лоринков глядит на него снизу с перекошенным и отсутствующим лицом. Жалко, не пьет. Писателю Лоринкову кажется, что его сжатые с утра челюсти и напряженные мышцы можно расслабить, как раньше, алкоголем, — он, уложив домашних, вытаскивает из чулана бутылку турецкой водки, и выпивает ее, как воду. Всего-то литр. Всю ночь от него пахнет анисом и мечетями, но утром он просыпается в шесть часов, чтобы час лежать на кровати, вытянувшись и сжав зубы. Не помогает. Писатель Лоринков бросает эту глупую затею, и прячет обратно в чулан предусмотрительно вынутые оттуда шесть бутылок вина, четыре шампанского, и две — коньяка. Повторяет английскую грамматику. Мысли о том, чтобы куда-нибудь уехать, все еще посещают его, но Новая Зеландия, о которой он мечтал вечерами много лет, становится утерянным раем. Всё газеты. Лоринков подтягивает свой английский до вполне приличного уровня, и может читать англоязычную прессу без словаря. Прочитанное ужасает. Зеленый рай у Океана, Новая Зеландия, где пасутся овцы и молчат ягнята, где самые красивые в мире пейзажи, где есть горы и море, где всегда зелено и нет ядовитых змей, где, где… — перечислял Лоринков под скептическим взглядом жены, — оказывается таким же дерьмом, как и все остальные страны мира. В Новой Зеландии судят банджоиста-убийцу, который пошел с приятелем-голубым в его дом и вбил несчастному педику гриф от банджо в глотку. Парень раскаивается. Когда за ним приезжает полиция, привлеченная шумом в доме педика, парень — это турист из Венгрии — кричит и ругается «на громком венгерском языке». Лоринков смеется. В Окленде мужчина падает с платформы на пути, и его тащит за собой поезд, и все случилось из-за обычной безалаберности, потому что платформа временная, и что-то в ней не так. Лоринков сплевывает. В лесу заблудилась группа туристов. Парня, который развозил пиццу, — ребенка еще, семнадцати лет, — пристрелил новозеландский полицейский, который преследовал другого парня. Тому предъявили сорок обвинений, Господи, что нужно сделать, чтобы получить сорок обвинений? Лоринков теряется в догадках. Жадно читает. Узнавать чужой язык, понимает он, так же удивительно, как начать ходить, — ты просто читаешь текст и с удивлением понимаешь, что тебе не нужны костыли, не нужна рука, не нужно ни за что держаться, — ты просто идешь, и все тут. Новая Зеландия меркнет. Родители бедняги-посыльного требуют полицейского расследования, его проводят, но о результатах его не сообщают, виноватых нет — в общем, все как везде. Качает головой. И это только за неделю. Лоринков читает «Нью Зиланд Трибьюн», слушает БиБиСи, пролистывает «Гуардиан». Невероятно. В Англии можно служить с семнадцати лет, а восемнадцатилетних парней они отправляют в Афганистан, говорит он жене, невероятно. Она молчит. Не нужно меня ни в чем упрекать, резко говорит Лоринков, все равно есть на свете место, где спокойно и тихо, место, где нет ничего, что бы напоминало мне об этой Молдавии, об этой дыре сраной, которую я ненавижу. Жена молчит. Я здесь как в вакууме, говорит он, мне нечем дышать в буквальном смысле, и ты прекрасно понимаешь, что дело тут не в мании величия, которой я не испытываю хотя бы потому, что не считаю себя ве… Жена молчит. Если смешать пять соловых ложек валерьянки с четырьмя столовыми ложками настойки пустырника, засыпаешь всего за час, а не за три, узнает Лоринков опытным путем. Смешивает коктейли. Снятся сны на английском. Подумывает о том, чтобы податься из Молдавии в Чили, но ему страшно учить испанский язык и читать, что там у них, в Чили, происходит. Очарование развеется. Вечером писатель Лоринков садится в ванной около стиральной машинки, и довольно неожиданно для себя начинает что-то там писать, и пишет почти до утра, и ему даже не очень противно то, что он пишет. Это признак. Машинка белая. Ярко-белая. Значит, «брайт уайт». Слово «брайт» и значит «ярко», если поставить его рядом с цветом. Учит сына. В обед выходит из офиса, где служит, на кладбище — Армянское, в центре старого Кишинева, — и прогуливается к могиле деда. Та вся в цветах. Цветы желтые. Дед на памятнике совсем не похож на себя при жизни, потому что он был человек худощавый, чего художник передать не сумел. Лают собаки. Лоринков оборачивается, и видит, как на человека, пришедшего навестить могилу, налетает стая из нескольких десятков собак, человек отбивается, но падает, обливаясь кровью. Кишинев стагнирует. За те два года, что у власти в городе находился представитель оппозиции, — либерал Дорин Киртаки, — разрушено почти все, говорит президент страны, Воронин. Неудачно шутит. В городе развелось так много крыс, говорит Воронин, что нужно взять одну из них, расстегнуть Киртаке ширинку и посадить ему туда эту крысу. А чего. Он все равно холостой, смеется Воронин, и его спичрайтеры с ужасом думают о том, каким образом придется дезавуировать этот невероятный бред. Киртака в долгу не остается. Говорит что-то о пристрастии Воронина к алкоголю. Пока они так славно переругиваются, за полгода поголовье бродячих собак в Кишиневе увеличивается с тридцати до сорока тысяч, и местные газеты пишут о трех случаях гибели людей от нападения бродячих псов. Бьют тревогу. Если есть в мире сумасшедший, которому бы хотелось переехать в Молдавию, — думает Лоринков, прогуливаясь по кладбищу, — читая местные газеты, он передумает это сделать. Писатель Лоринков напоминает себе котел, крышка которого припаяна, и который вот-вот взорвется. Избитая метафора. Новизны ей придает лишь то, думает он, что я котел без воды, та давно уже вся выкипела, так что я не взорвусь, а просто тресну. Читает жизнеописание мастера меча, Нагамицу из провинции Будзен: волосы и борода его, — описывает отшельника современник, — вечно всклокочены, взгляд безумный и отсутствующий, с людьми не говорит, разговаривает с собой в полный голос, общества бежит, поединки проводит безо всяких приличий, правил не соблюдает никаких, а однажды вместо меча взял с собой кусок весла, который обстругал, и проломил им голову благородному сопернику. Что-то это напоминает. Ну да, конечно же Пушкин. Пушкин, который Бессарабии выходил на дуэль с фуражкой — ну, или картузом, как вам будет угодно, — полной вишен, что показывало полное пренебрежение им дуэльным кодексом. Но и смертью. А пренебрежение смертью вполне вписывается в дуэльный кодекс, которым всегда пренебрегали эти двое. Так думает Лоринков. Волосы и борода его вечно всклокочены, взгляд безумный и отсутствующий, с людьми не говорит, разговаривает с собой в полный голос, общества бежит, приличий и правил не соблюдает. Молдавия стагнирует. Президент и мэр переругиваются, напоминая Лоринкову двух мартышек, ссорящихся на крепостной стене брошенного города. Бессарабцы, сплевывает Лоринков. Конечно, на асфальт. Собаки его боятся, обходят, такой сам загрызть может, думают опасливо собачьи стаи — трусливые, как и все стаи Бассарабии, — и ищут человека попроще. Днем писатель Лоринков приходит к могиле деда и долго глядит на памятник. Уходя, поднимает руку в прощании. От Солнца что-то сверкает на пальце. Кольцо, что ли. Желтое кольцо. «Брайт-елоу»
Здравствуйте, Иван Михайлович, говорят издалека прохожие, и приподнимают над головой шляпы. Уважают его. Заикин, прибывший в Бессарабию по контракту, — для выступления в местном цирке, да оставшийся здесь на долгие пятнадцать лет, — неторопливо кивает. Уважает себя. Крепкий мужчина в годах, с прекрасного цвета лицом, всегда аккуратно одетый, слегка даже щегольской, Заикин любит прогуливаться по улице от своего дома к проспекту Короля Михая, бывшему до румын проспектом императора Александра, и ставшему в независимой Молдавии проспектом Штефана Великого. Страсть к названиям. Заикин снисходительно относится к этой черте молдаван, ну, или бессарабских румын — как их не назови, люди-то одни, — он вообще к аборигенам ласков, в отличие от многих русских. Иван Михайлович! Право, не будете же вы утверждать… Не буду, говорит он, но неужели вы, сударыня, станете отрицать, что молдаване добры, кротки и трудолюбивы, а те черты характера их, кои принято осуждать, не что иное как признаки инфантильности этой детской, в сущности, нации. Молдаване и впрямь дети. Восхищенно глядят они на то, как Иван Заикин, подняв над головой штангу с десятью взрослыми мужчинами, легко вертит эту конструкцию над головой. Жонглирует гирями. Сваливает быка ударом кулака по лбу. Румыны аплодируют. Администрация, вся сплошь из Бухареста, состоит из образованных господ офицеров, — относятся к русским с прохладцей, но сочувственно, — в конце концов, это неплохие русские, которые пострадали от большевиков, и которые спасут нас от большевиков. Может быть. В 1930 году, конечно, в это верится уже не так, как в 1927. Иван Михайлович Заикин заходит в свой дом, — он глядит в окна квартиры писателя Лоринкова, которую тот снимал четыре года, когда еще не был женат, квартиру по улице Албишоара. Дом Заикина — на улице Заикина. Хорошо хоть эту не переименовали, думает писатель Лоринков, — что удивительно, учитывая страсть моих земляков к переименованиям. Названия порхают. Одна улица может за два года сменить до десяти названий. Молдаване, — словно дети, — искренне верят, что, если сменить вывеску, что-то изменится. Но улицу делает не название, а подметенный тротуар и отсутствие заплат на проезжей части, брезгливо думает Лоринков, излишне нетерпимый к своей инфантильной нации. Заикин улыбается. Человек гигантских размеров, Иван Михайлович с трудом умещается в аэроплане, на котором облетает окрестности Кишинева, — ведь он, помимо атлетики и борьбы, увлекается этим спортом будущего, авиаторством. В шлеме он великолепен. Дамы собираются посмотреть, как русский Геркулес, коротающий в Кишиневе дни в большевистском изгнании, усаживается в самолет. Какие ляжки! Иван Михайлович посмеивается. Он человек западных взглядов, либерал в том смысле, в каком либералом был Пушкин, поплевывающий вишневые косточки на жирную землю Бессарабии. Все пройдет. Все образуется, уверен Иван Михайлович, все будет хорошо, главное поменьше думать и говорить о политике, побольше заниматься физическими упражнениями, и интересоваться всем новым и прогрессивным. Авиацией, например. Геринг кивает. Лоринков жмет штангу. Иван Заикин садится в кафе под открытым небом, за зданием Благородного Собрания, которое нынче кинотеатр, а парк, в котором это кафе было, теперь парк Пушкина. Бюст поэта уже стоит. Заикин садится как раз так, чтобы видеть этот памятник — точную копию московского — и фонтан. Приносят чай. А ведь я здесь уже десять лет, думает Заикин. 1937 год. За дальним столиком истерично смеется какая-то госпожа, и Заикину неприятно видеть, как она держит папиросу, как она накрашена, как она бросает взгляды на румынских офицеров и как те бросают взгляды на нее, Заикин даже чувствует запах ее духов, чересчур сильный, сомнений нет, в кафе сидит шлюха. Говорит по-русски. Иван Михайлович морщится, он уверен, что русская эмиграция должна нести здесь бремя белого человека. Хмурится, отворачивается. Бронзовый Пушкин, напротив, глядит на Ольгу Статную с интересом — женщина хочет подцепить какого-нибудь офицера рангом повыше, чтобы узнать побольше, и передать информацию своим коллегам по подполью, — классик всегда был терпим к девушкам, слабым на передок. Чего уж, любил это дело. Заикин и Пушкин не знают, что Оленька разведчица. Оленька шпионка. Так говорит о себе стареющая — уже под сорок — Ольга Афанасьевна, когда остается одна, и раздевается перед зеркалом размером в стену ее дома по улице Болгарской. Не зеркало большое, стена маленькая. Домик крохотный. Голова под потолок. Одной оставаться страшно. Одной оставаться глупо, нелепо, и опасно. Ольга не любит оставаться одна, — сразу же в голову приходят мысли о тщетности всего (знать бы, чего), и хочется мужа, детей, и уехать куда-нибудь, и чтобы дом был просторный, а не эта клетка, в которой пахнет известкой. Белили недавно. Поэтому Оленьке — как она себя называет — на самом деле нравится то, что с ней спят румынские офицеры, и вовсе даже не из-за Этого, а потому, что в это время рядом с ней кто-то. Хотя, конечно, можно обойтись по-другому. Завести кошку? Но тогда товарищи — Статная все еще произносит это слово, спотыкаясь языком, — посмотрят с презрением. Будут отворачиваться в толпе. Они и сейчас отворачиваются. Но делают это специально, чтоб никто не узнал, что они связаны, и что Ольга Статная не шлюха, а разведчик. Хотя для многих шлюха. Пушкин вот пялится. Заикин хмурится. Ольга выпивает рюмку коньяку, что уже само по себе довольно смело, и встает, чтобы подойти к знаменитому русскому. Здрасте. Борец молча ждет, чего скажет ему эта расхрабрившаяся шлюшка, смотрит снизу, но так, будто сверху. Офицеры поглядывают. А у нас, говорит вдруг Статная, ваша фотография была, вы там в трико стоите, и держите над головой повозку, а в той сидит целое семейство крестьян малороссийских, папенька всегда вашей силой восхищался, он даже говорил, что сам Котовский вам письма писал, про приемы спрашивал, правда? Весьма обязан, бурчит пятидесятилетний Заикин. Что-то еще? Я разведчица, хочется сказать ему Ольге, и выполняю задание, я вроде Котовского, рискую собой во имя благородной цели, вот кто я, а не то, что вы думаете. Но коньяку не хватает. Ольга, глупо улыбнувшись, возвращается к своему столику, и из-за смеха каких-то посетителей краснеет, хотя, может, это и не над ней смеялись. Играет оркестр. Военный, играет марши, и мелодии всякие наигрывает, это- то немногое и то многое, что в Бессарабии не меняется, не переименовывается и не разрушается. Оркестр играл при царе. При короле. При Советах. При маршале. Снова при Советах. После Советов. Военный оркестр в парке Пушкина играл всегда, и всегда бегали вокруг него дети, и сидели на лавочках зеваки, и мундиры на оркестрантах были разными, но всегда новенькими и выглаженными, и репертуар разным, но всегда инструменты были яркими и начищенными, и трубы блестели на солнце, как обручальные кольца. Заикин встает и уходит. Гуляющие почтительно расступаются. Здороваются. Оркестр, музыка!
Писатель Лоринков выходит за город, и садятся на холме, с которого открывается вид на широкую дорогу, соединившую город с аэропортом. Несется кортеж. В Кишиневе открыт какой-то там саммит каких-то там стран, и президент Воронин дарит уже премьер-министру Путину хрустального крокодила. Русский вежливо благодарит, чуть подняв брови. Этот зверь, это вот рептилия, в смысле я хочу сказать пресмыкающееся, говорит президент Воронин, оно никогда не идет в зад, в смысле не пятится, вот… Спичрайтеры стонут. Путин кивает. Кортежи несутся из аэропорта в город весь день и часть ночи. Все утро и часть следующего дня кортежи несутся из города в аэропорт. Собираются зеваки. Улицы оцеплены и снайперы лежат на крышах домов, готовые пресечь любой акт террора, а жителям домов у дорог велено не подходить к окнам. Стреляем без предупреждения. Лоринков открывает бутылку шампанского и пьет ее из горлышка, глядя на то, как по дороге несутся огоньки. На нем белый свитер. Снайпер на крыше берет человека в белом свитере и с шампанским в руке в прицел, и разглядывает несколько минут. Вроде нет. Как сюда попал этот идиот, спрашивает он в приемник на плече, глядя в прицел, и спустя полчаса на холме показываются запыхавшиеся полицейские. Пожалуйста, уходите. Лоринкову все равно, шампанское он уже допил. Подобные недоразумения для него не впервой, думает он, глядя как стрекочет над Босфором полицейский вертолет, а улицу перекрывает турецкий спецназ в смешных пластиковых щитках, из-за которых парни похожи на роботов его сына Матвея. В Стамбуле сам Папа Римский. Приятель, спрашивает ошарашенный полицейский Лоринкова, — бредущего вдоль абсолютно пустой набережной, — как ты здесь оказался? Пришел, говорит Лоринков. Пораженный полицейский глядит на человека, вовсе не удивленного тем, что он в центре Стамбула, возле Босфора, на совершенно пустой улице. Сумасшедший русский. Угадал, кивает Лоринков, и только тогда интересуется, в чем собственно дело. Папа Римский сейчас будет идти по этой дороге, говорит полицейский, и писатель Лоринков кивает. Знаешь, говорит он. Как-то в Кишиневе, откуда я родом, меня чуть было не пристрелил снайпер, потому что холм, на котором я выпивал вино, оказывается, был самым удобным местом для нападения на кортеж, который как раз, совершенно случайно… Полицейский смеется. Невероятно, как всякая правда. Да кто ты такой, спрашивает, все еще смеясь, полицейский, и Лоринков, стоя под стрекочущим полицейским вертолетом, на улице, по которой вот-вот проедет Папа, отвечает. Я писатель, говорит он. Уже уходя, провожаемый почтительным эскортом полицейских — мусульмане тоже бережно относятся к юродивым, — он думает о том, что впервые признал это, как факт. Я писатель, думает он. Я писатель, говорит он. Что, вежливо спрашивает его другой полицейский, и дает визитку гостиницы брата, где отлично кормят, всего в шаге от Святой Софии, друг. Папа Бенедикт проезжает. Улицы и набережные вновь наполняются сотнями тысяч людей, и толпы, эта кровь Стамбула, вновь циркулируют, и Лоринков уходит от себя растерянного, уходит от Босфора, и поднимается от Золотого Рога, — который переходит по мосту, — мимо футбольного стадиона, на площадь Независимости, чтобы прогуляться по проспекту Истикляль. Пахнет сдобой. Гремит трамвай.
Писатель Лоринков давно уже ничего не пишет. То ли дело, когда он был не писателем, а человеком, который просто много писал. Зато он запускает воздушного змея, — на том самом холме, на котором сидел, глядя президентские на кортежи, склонив голову в прицеле снайпера внутренних войск. Змей трепещет. Под ним, раскинув руки, суетливо бегает сын писателя Лоринкова, которому очень хочется запустить змея самому, но он еще чересчур мал, придется просто посмотреть и потерпеть. Теперь держи. Змей поднимается, медленно, — как человек, который после падения становится на ноги, — и взмывает. Сын держит леску. Писатель Лоринков страхует, и глядит на сына. Думает, что люди не становятся со временем лучше или хуже, слабее или сильнее, умнее или глупее. Единственное, что меняется, то всего лишь размеры тела. Мы становится больше, а потом, к старости, снова уменьшаемся. Это всё. Возраст играет с нами, как мальчишки с лягушкой и соломинкой. В остальном мы не меняемся, думает Лоринков, которого не узнают однокурсники по университету, настолько он изменился и так повзрослел за каких-то десять лет. Откуда-то снизу карабкаются человек пятнадцать, которые тащат парашют с мотором. Модная в этом году забава. Лоринков морщится, потому что любит бывать с сыном наедине: испытывая чувство необъяснимой для него самого жалости при виде детской спины, он позволяет мальчишке побыть собой и тот, оторви-и-выбрось, странным образом, затихает. Глядит внимательно. На холме обычная история. Общечеловеческая. Младший держит змея. Старший страхует. Писатель Лоринков думает еще, что история — слепая. Что она не ведет к какой-то точке, к кульминации какой-то, и что мы сами эту кульминацию себе позже выдумываем; для времени же, решает писатель Лоринков, остановок нет. История не вела Александра к Гавгамелам. Для нее Гавгамелы такой же миг, как день до них, или сто дней спустя. Для времени любой значимый для нас день — песчинка из миллионов на пляже. Значит, время не следит за нами, думает писатель Лоринков, следя за змеем. Как река не следит за поднятым течением песком. Лоринков глубоко вздыхает и чувствует, что с этого момента наблюдение снято. За ним никто не следит. Мы свободны. Как герой книги Фаулза, которого оставили наедине с собой и его любовью. Опека с нас снята. Мы свободны. Я свободен, говорит вслух писатель Лоринков. Чего это я, думает он. Змей вырывается, и, покрутившись над ними, уносится вверх. Синий проказник. Ветер усиливается. Сын радуется.
Из-за того, что подул ветер, в октябре 1997 года в Кишиневе становится холодно, хотя и солнце, так что двое бродяг, пришедших на Армянское кладбище со стороны Телецентра, то есть, сверху, где нет ворот — они просто перемахнули через забор, — стараются копать быстрее. Машут лопатами. Вопросов они не вызывают. Потому что на кладбище постоянно кто-то копает: хоть оно и закрыто, но честолюбивые молдаване все, как один, хотят, чтобы их зарыли в центре города. Потому что они оборваны и пьяны, как обычные сотрудники кладбища. Потому что выходной день, и на кладбище нет никого, кроме сторожа, да и тот дремлет у ворот. Копай быстрее. Бродяга подзуживает товарища, а тот машет часто, да неглубоко. Хватит отдыхать, поработай и ты, бормочет копающий, и второй присоединяется к работе. Ты уверен? Богом тебе клянусь, я знаю, что в этой могиле есть дыра, под которой и есть склеп этого самого Бернардацци сраного. Ну гляди. Бродяги копают. Они собираются пробить дыру в кирпичном склепе самого знаменитого архитектора Бернардацци, который построил здесь почти все. Церковь в центре, церковь в Унгенах, городскую управу, больницу, планировка центра… Все он. Бернардации придумал Кишинев. Еще до того, как его преобразили Советы, конечно, но те отнеслись к наследию архитектора бережно, и в Молдавии царит культ Бернардацци. Здесь есть улица Бернардацци, был кинотеатр имени Бернардацци, работает школа Бернардацци. Нет только могилы. Как-то в суете революции, последовавшего за ней воссоединения с Румынией, прихода Советов, ухода Советов, прихода-ухода румын, возвращения Советов, о могиле Бернардацци забыли. Знают, что на Армянском. Где именно на этом кладбище, знает один Бог, да и тот изрядно запутался в чехарде переименований, которыми так увлекаются молдаване. Где-то тут. А вот двое бродяг — алкоголик Миша Полянский и наркоман Павел Григорчук — знают, потому что один из них, в бытностью свою приличным человеком, жил рядом с княгиней Кантакузиной. Ну, из бывших. И та ему, в очереди за морковкой — они появились в МСССР при первом секретаре Петре Лучинском — рассказывала, что присутствовала на похоронах самого Бернардацци, и упомянула, что архитектора предали земле со всеми его любимыми перстнями. Куча золота! А еще камни, так что копай быстрее, говорит обезображенный водкой Полянский своему напарнику, потому что именно это место она мне указывала, дура старая, когда я ей лапшу на уши повесил, что интересуюсь историей города и все такое… Лопата звенит. Друзья выкапывают старую могилу середины двадцатого века, а под ней натыкаются на кирпичную кладку. Так и есть. Могила Бернардацци перед ними и ничего не стоит разбить старый кирпич, изрядно отсыревший под землей, — что они и делают, но потом прячутся. Слышат шаги. Из-за ряда могил царских офицеров, похороненных здесь в 1914 году, после неудачной атаки на позиции немцев, — тридцать одна могилка — показывается человек. Выглядит странно. Молодой парень с большой серьгой в левом ухе, клетчатом пальто, с длинным белым шарфом, и тремя бутылками вина в руках. Искатель приключений. Но парень удивляет бродяг: посидев на лавочке и поговорив сам с собой в полный голос — сука, отвянь от меня, проклятая дрянь, Господи, вернуться бы, а чтоб дома никого не было, куча золота, человек или тварь дрожащая, давай, ну, сколько же можно пить, много, о, много, — он выпивает два литра вина, и очевидно, что это даже не пятый и шестой литры в этих его сегодняшних сутках. Дрожит с отвращением, прикрыв глаза. Потом встает, и покачиваясь, подходит к яме, разрытой бродягами, — спускается вниз, в склеп, как будто так и надо! Бросаются вперед. Парень уже лежит внизу, без чувств, — видно, подвернул ногу и упал, — и бродяги решают оставить его как есть, судьба. Раскрывают гроб. Там лежат кости, немножко ткани, но никаких перстней, никакого золота, ничего. Бродяги ссорятся и орут друг на друга, — видимо, подозрительная старуха-сука, не на ту могилу навела, — и, разозлившись, один бьет другого лопатой по лицу. Тот падает, и ударивший убегает. Княжну Кантакузину выселяют из квартиры обманом, и она перебирается в дом престарелых, где пишет воспоминания о царской Бессарабии. Успевает закончить. Ветер все сильнее, и двери и окна домов закрываются. Мэр Кишинева Дорин Киртака расстегивает ширинку, и сует туда куклу Микки-Мауса. Президент Воронин пьет коньяк, захлебываясь, и проливая его себе за воротник. От ветра Бессарабия сходит с ума. Уже мертвецки пьяный, — но еще не писатель — Лоринков лежит в склепе, не видя и не слыша происходящего, а над ним в дыре, пробитой бродягами, свищет ветер. Лоринков ворочается. Приходит в себя несколько часов спустя, и, — не замечая кровоточащего тела бродяги, — копается в гробу условного Бернардацци. Жалкое тряпье. Лоринков сплевывает и выбирается на поверхность. Идея прийти на кладбище, чтобы совершить безрассудный поступок, — и заодно разжиться драгоценностями из какого-нибудь старинного склепа — уже не кажется ему остроумной. Экзистенциальный блядь опыт, с иронией думает он, и, пошатываясь, идет на другой конец кладбища, где есть одно укромное, — известное лишь ему, — место. Пятачок в кустарниках. Падает на землю. Отсыпается. Ему снится почему-то сражение персов с римлянами, и во сне он командует когортой, что запоминает на всю жизнь. Писатель Лоринков идет сбоку от когорты, плачет, кричит, просит держать строй — его солдат атакует конница — и убивает троих всадников. Он не успевает увернуться от копья четвертого и чувствует сильный удар ледяного металла в грудь. Просыпается и видит, что Солнце садится и земля остыла. Он боится оставаться один, временами ему кажется, что безумие все же одолело его. Он трет виски и допивает вино, и уходит с кладбища, почистив, по возможности, пальто и джинсы. Дома не находит никого, кроме записки, — ее он рвет, не читая, и выбрасывает в ведро. Сердце писателя Лоринкова бьется в груди прерывисто, и он кладет руку на грудь, чтобы оно успокоилось. Чувствует себя. С висков капает пот. Писатель Лоринков раздевается и драит квартиру. Включает радио и ложится в ванную. Наливает туда колпачок пены. Закрывает глаза. Минут через десять вода набирается, так что он выключает кран. Становится слышно радио. Передают Баха. Лоринков просыпается, когда вода уже остыла и по радио передают уже какой-то джаз. Чувствует легкую головную боль, которая, как он знает, усилится к полуночи, а к утру свалит его в постель. Спускает воду. Сворачивается на бок. Спит дальше. В доме престарелых пенсионерка Кантакузина вспоминает, что ошиблась. Барнардацци же похоронили на Польском. Девичья память.
Автомашины подъезжают к Равенсбрюку, и трофейная команда ликует, потому что по пути им удалось наткнуться на обоз высокопоставленного немецкого офицера. Те все одинаковы. Германия превыше всего, дорогие мальчики, вы должны взять эти винтовки и пойти умирать в лес, как настоящие вервольфы, пример вам дорогой и незабвенный фюрер, устроим этим изнеженным американцам битву в Вальгалле, умоем кровью русских узкоглазых варваров, все как один встанем и люди Германии образуют самый неприступный вал ее обороны, Германия, вставай… В обозе — золотишко. А еще немножечко, — всего-то тридцать-сорок сервизов, — фарфора, ковры с вышитыми на них золотыми нитями оленями и охотящимися на них всадниками с серебряными рогами, столовые приборы из старинного же серебра, картины, монеты, ассигнации, шубы, в общем, добра ровно столько, сколько хватило бы, например, ему, Джонни Крейцу, лет на сто безбедного существования. Киоск хот-догов. Это мечта Джонни и он к ней стремится, вот что цель его жизни, а Вторая Мировая Война в Европе и драка с япошками это досадное недоразумение по пути к счастью, которое будет издавать аромат жаренных сосисок, горчицы — настоящей, русской, — и это будет ноу-хау Джонни, он ставит на эту горчицу все. Секрет фирмы. Крейц не идиот, он прекрасно знает, что в Нью-Йорке, где он обитает, есть тысячи, нет, десятки тысяч, палаток и тележек, с которых продают еду, и в каждой такой палатки, у каждой такой тележки стоят тысячи, нет, десятки тысяч джонни крейцев, монь шмулевичей, рогацци мазацци, иванов петровых, ли сунь янов, маджабы беджепутов и несть им имен. Конкуренция высока. Но Джонни уже решил для себя, чем именно его хот-доги отличаются от тех, которые готовят в Нью-Йорке, и секрет, как всегда, прячется не в основном блюде, а в дополнении, или приправе, если хотите, хотя называть горчицу приправой так же глупо, как сиськи — дополнительным предметом туалета. Джонни сплевывает. Машины, тяжело груженные, еле тащатся по дороге, забитой гражданскими, которых безжалостно сталкивают с обочины, пусть эти немцы сраные почувствуют, наконец, что такое война, и скажут спасибо, что никто их не расстреливает, как этот их Геббельс. Бегут. Воинская часть, за которой команда Джонни идет следом, оказалась в тылу немцев, и немцы, уходящие от наступающих американских войск, глядят на противника с изумлением и страхом. Конец пришел. Бойтесь, бойтесь, гансы сраные, думает Джонни, без особой, впрочем, неприязни, и сплевывает из окна. Вспоминает отца. Сынок, говорил ему папа, здоровущий амбал, склонность которого к авантюрам, но не габариты, унаследовал Джонни, — а хотелось бы наоборот, — сынок, не плюйся ты, Бога ради, как сраный гойский верблюд. Ха-ха. Папашка верблюда если где и видел, так в страшном сне. Вечный фантазер. Сам из России, ну, откуда-то с юга, — название «Бессарабия» Джонни просто не выговорить, — но попал в Штаты из Латинской Америки, а зачем его туда черт занес, непонятно, ну, хотя бы из России сбежал. Спасибо и на том. В России ужасно холодно и постоянные еврейские погромы, знает Джонни, впрочем, они кончились, когда к власти пришли Советы, но тогда громить стали не только евреев, но и всех остальных. Папаша чудом выжил в банановой мясорубке, и попал в Нью-Йорк, а здесь женился, и произвел на свет его, Джонни Крейца. Это сокращенно. Полностью их фамилия звучит как Крейцеры и значит название монетки в какой-то Гамбургерской империи, в которой папашка тоже успел пожить, и Джонни эта чехарда невероятно поражает. Гамбургерская империя. Джонни весело смеется и высовывается в окно, чтобы полюбоваться пейзажем и оглянуться, не упало ли что- то с грузовика, то и дело что-то срывается. Очень сыро. Дождь идет с утра, и шел весь вчерашний вечер, и до этого шел несколько дней, а до того дождь шел почти месяц, и поэтому здесь всегда очень зелено, — такое буйство зелени увидит только младший брат Джонни, когда попадет во Вьетнам, да там и останется, — кучкой говна и костей под большим и зеленым листом какого-то диковинного восточного лопуха, — и зелень сочная, наливная. Ой вей. Джонни смеется, вспоминая вечные присказки папаши, который по субботам пил, дрался и шлялся по бабам, свинину жрал так, что за ушами пыль клубилась, но искренне считал себя евреем, ой вей. Ну, что же. Наверное им он и был, только плохим евреем. К тому же, у папаши был грешок — семья, оставленная где-то там, в России, и которую он пытался разыскать, но ни черта у него не получилось, их, наверное, всех уже в Сибирь сослали, а Сибирь, она вроде штата Аляска. Суровая и холодная. Это все, что Джонни знает о штате Аляска. Другие штаты также не поразили его настолько, чтобы он стал интересоваться их историей, географией или еще чем. Джонни любит Нью-Йорк. За пределы города он выбрался только однажды, и надо же, чтобы эта поездка совпала с высадкой союзных войск в Нормандии, хохочет Джонни. Служба не пыльная. Трофейные команды делятся на две категории: первая ездит по полям сражений и собирает оружие, которое там остается, а вторая занимается материальными ценностями более высокого порядка, да еще и жратвой. Вторая лучше. Служить в ней и посчастливиться Джонни Крейцу, за что он не забывает благодарить Бога, про себя называя его «Ты, который все создал». Просит и о горчице. Папаша, очень горевавший по семье в России, что не помешало ему забацать Джонни и братишку — видимо он делал это скорбя, думает солдат, — не менее, чем о брошенных жене и детишках, болтал и о русской еде. Горчице, например. Так что, когда Джонни исполнилось шестнадцать, и невысокий, но крепкий парень смог давать папаше сдачи, — он пошел к старшему Крейцеру и спросил, что же это за горчица такая, которую он до сих пор не может ее забыть, хотя с успехом осуществил это в отношении своей первой жены. Старик насупился. Но показал сыну, как делают настоящую русскую горчицу: совсем не такую, как у нас, с удивлением подумал Джонни, наша сладковатая и чуть острая, а русская же… Страсти Господни. Понятно, почему старик уехал. Но Джонни опытным путем определил, что если добавить этой горчицы совсем чуть-чуть в майонез, — и добавить еще пару-тройку ингредиентов, о которых необязательно знать даже нам, — то получается невероятно вкусный соус. Империя Джонни К! В мыслях парень ее уже построил, осталось дело за малым — победить Гитлера, вернуться домой, и заняться делом. Открыть киоск, потом два, потом сто, потом… Дирижабли, небоскреб, сеть закусочных по всей стране, это Америка, ребята, а не Россия, где евреев во время погромов кормят этой вашей страшной горчицей, и не Германия, где с ребятами, у которых кое где кое что обрезано, творят что-то похуже. Чертовы немцы. Машина тормозит. Джонни с веселым недоумением глядит на шофера, он не беспокоится, потому что немцы, деморализованные появлением американцев в тылу — а до разгрома осталось совсем немного, герр Гитлер уже сыграл в ящик на днях, — а тот кивает в сторону левой обочины. Ребята в форме. На немецкую не похожа. Джонни и его команда уже знают, что американцы и русские встретились, но это где-то далеко, а вот чтобы здесь, неужели?! Крейц возбужден. Он думает о том, что, возможно, кто-то из русских парней сможет, в качестве союзнического одолжения, поделиться с ним секретом знаменитого русского хрена — старый хрен папаша утверждает, что у него это вылетело из головы, — и тогда империя Джонни К будет еще богаче, люди ведь любят что-то пикантное, острое и экзотическое, ну, не совсем так чтоб уж. Китаезы перебор. Но русские-то, они ведь как мы почти, думает Джонни, и выходит из машины, чтобы поприветствовать союзников, но те, посовещавшись издали, скрываются в лесу. Ох, Джонни, говорит шофер. Тс-с-с, говорит храбрый солдат Джонни, который, хоть и занят тем, что собирает гобелены, которые не удалось спереть нацистским бонзам, но в бою не трусит, проверено. Троих пристрелил. Т-с-с-с. Еще два грузовика, следующим за ними, останавливаются, и несколько солдат выходят на дорогу, помахав рукой истребителю союзников, что улетает куда-то на Берлин. Кажется, в лесу русские, говорит Крейцер, и, поручив оставшимся присматривать за имуществом, берет двух человек, и идет с ними к лесу. Беженцы сторонятся. Джонни не обращает на них ни малейшего внимания, он не злой и не добрый, просто он хочет узнать, кто в лесу, и потом, он уже знает, что происходит с евреями в Германии, так что с чего бы ему кого-то тут жалеть. Сплевывает. Плохая привычка, верно, соглашается мысленно парень с папашей, и, дойдя до первых деревьев — удивительно, до чего леса у них здесь напоминают парки, только заброшенные и сильно заросшие, — наклоняется. Доходит до кустов. Отодвигает ветку. Перед ним возникает удивительное зрелище, не забыть его до самой смерти. Несколько сотен женщин в полосатых костюмах сидят на Земле, и вид у них, прямо скажем, такой, что не мешало бы сразу каждой выдать по хот-догу и миске супа, и подкованный Джонни сразу понимает, что это заключенные. Вокруг военные. Человек двадцать, и самый смуглый среди них, интересно, есть у них свои негры, думает Джонни, наверняка да, негры же везде есть, — что-то читает по бумажке, поглядывая на него. «Маринапостока». Маринапостока, значит. Джонни широко улыбается, лезет через кусты, и говорит громко вслух, чтобы, значит, уважить — маринапостока! Женщины глядят на него с недоумением, и военный, нахмурившись, еще раз говорит «маринапостока», и тут до Джонни доходит, что он присутствует при перекличке. Черт побери. Еще до него доходит, что это не русские, а немцы, просто форма у них особая, концлагерная, и они выволокли несчастных арестанток в лес, а сейчас пересчитывают, вот незадача. Джонни поднимает оружие. Фашисты тоже. Не стреляйте, говорит на приличном английском языке женщина с волосами, которые торчат из нее, как обивка из порванного кресла, — неухоженные, редкие, ужасные на вид, — это русские, они пришли освободить нас. Недоразумение улаживается. Маринапостойка, хохочет Джонни, хлопает по плечу русского военного, и фотографируется на память аппаратом, который вытащил из обоза того немца, не насовсем, конечно, а просто чтобы поснимать для себя тайком. Стоят выпрямившись. Улыбаются. Джонни Крейцер. Дедушка Второй. Ну, ребята, говорит Джонни, нам здесь делать нечего, мы едем обратно, командование разберется, кому где стоять. Немка-переводчица прощается. Тельман. Ничего не говорит ее фамилия Джонни. Хотя, вспоминает он. Поворачивается. Скажите, есть какой-то особенный рецепт немецкой горчицы, спрашивает он женщину? Та теряется. Джонни терпеливо ждет несколько минут, а жена коммуниста Тельмана, судя по лицу, честно пытается вспомнить. Нет, извините, говорит она. Искренне расстроена. Ладно, ничего, говорит Джонни, и пока солдаты по его распоряжению несут от грузовиков к лесу немного еды — все, что у них есть, — дарит женщине часы, снятые с какого-то ганса. Сам надевает. Считайте подарком американского командования, мэм, за то, что выжили. Как неожиданно. Мы отвыкли от часов, говорит она, глядя на свою руку как на что-то чужое, у нас там вся жизнь была по гудку. Больше не будет, мэм. Дай-то Бог. Джонни возвращается к грузовикам и глаза его щиплет. Он всегда будет вспоминать этот день, и его дети — Майкл и Сюзи — станут с отвращением фыркать, заслышав «…и вот выезжаем мы на дорогу между полем и лесом». Запомнят всё. Ведь историю эту — как папа наткнулся на заключенных концлагеря, и они едва не начали стрелять друг в друга с русскими, как немецкая арестантка с фамилией Тульман, кажется, стала им переводить — они выслушают ровно двенадцать тысяч сто пятьдесят три раза. Опротивеет. Сюзи станет политиком, подастся в городские советники, а вот замуж не выйдет, отчего отец будет переживать. Лучше бы ты была падка на передок, как дедушка. Майкл станет военным. Начнет ездить по каким-то своим делам по всему миру, даже в Ирак попадет, после чего Джонни уж поймет, что никакой парень не военный, а самый настоящий разведчик, и возгордится. К концу службы Майкл займется поиском останков погибших американских солдат. Даже попадет в Бессарабию, откуда родом его предки, о чем он, впрочем знать уже не будет. Там будет искать адрес какого-то русского, воевавшего в Корее и сбившего несколько американских самолетов. Конечно, нашел. А вот русского уже, к несчастью, не будет в живых вот уже несколько лет, так что разговаривать придется с его женой и внуками. Внук, — парень с глубоко посаженными глазами, — заберет Майкла из посольства, и после отвезет в гостиницу. Заплатит за такси. Выпить откажется. Какой у вас город, скажет. Майкл неожиданно для себя, весь серый… Нужны инвестиции! А то, скажет парень и ухмыльнется. Вдова русского угостит печеньем. Чай травяной и очень горячий, они в Америке такой пить не привыкли, хоть Майклу и не нравится эта долбанная цивилизация фаст-фуда, он даже жену себе взял из Киева, где тоже занимался кое-каким шпионажем. Потихоньку-помаленьку. Хотя какой там шпионаж. После 1991 года это больше напоминает стрельбу по недвижимым мишеням вплотную. Майкл листает дневники русского. «Вчера бомбили, сталинские соколы, плотина, налет, Б-52, бомбили, отстрелялись, троих сбили, один ушел, два прилетели, не ушли, ушел, не ушли, бомбили, да здравствует товарищ Сталин…». Выписывает дни, место и время, когда русский сбивал самолеты США, и думает, — а ведь ему нельзя было вести дневник, его за это вполне могли в ГУЛАГ какой-нибудь сослать, так что нарушение дисциплины не всегда во вред. Благодарит. Я хочу подарить вам кое-что. Правительство Соединенных Штатов Америки дарит это всем, кто помогает в поиске его граждан, а также служит символом примирения. Мы ведь давно уже не враги. Майл порылся в чемодане и достал медальку из какого-то легкого сплава. Торжественно вручил. Медалька, разочарованно говорит вдова. Внук глядит на нее недовольно.
Марина Постойка идет пешком на Восток, и земля крутится под ее босыми ногами. Она видит агонию немецкого сопротивления. Все куда-то бегут, зачем-то стреляют, что-то кричат, машут флагами. Никому до нее дела нет. Она слишком измождена чтобы на нее прельстились по-мужски, и слишком плохо одета, чтобы ее вздумали ограбить. Рванье сняла с трупа. Немецкая фрау с глазами синими, как у куклы отменного фарфора — Марина купит себе такой спустя несколько лет, когда снова попадет в Германию, — лежит возле дороги на свертке. Это ребенок. Он тоже мертвый, так что Марине нет нужды задумываться, как поступить, и она разворачивает фрау, как капусту. Снимает все. Одевается, и продолжает идти, прикрыв голую мертвую женщину с мертвым ребенком ветвями деревьев, и постепенно те скрываются за горизонтом, потому что земля, — по которой идет Марина Постойка, — вертится. Ночует на хуторе. Богатый немецкий хутор, с двумя десятками рабочих из Восточной Европы, и Марина думает, что здесь вполне даже прилично, и в который раз с уважением подмечает немецкую страсть к порядку. Хутор вылизан. Трудно сказать, глядя на него, что идет предпоследний день войны. Марина ночует с рабочими. Ночью приходят советские войска, и дочку хозяев насилуют до утра, — ее крики Марина не забудет до самой своей смерти. Ее и еще двух девушек ее возраста держит возле себя усатый сгорбленный серб, который велит им говорить всем, что они — его дочери. Хорошо, папа. Утром Марина снова отправляется в путь, и оставляет позади себя хутор, где измученная девчонка глядит в стену, лежа на постели, а рядом сидит ее отец, почтенный немец, и горько плачет. Рабочих-то он не обижал. Солдаты уже ушли. И приходит следующая часть, и хозяин хутора жалуется офицеру на произвол, показывает дочь, плача, и офицер обещает разобраться. Солдатам, которые снасильничали девчонку, не светит ничего хорошего, волну насилий, — поднявшуюся было над Германией, — погасили в зародыше. Сталин пожалел немецкий народ, и предложил отделять фашистов от немцев, и велел расстреливать за бесчинства на немецкой территории. Сталин Предложил. Это значит намного больше, чем если бы кто-то другой приказал. Журналист Эренбург, — призывавший вырезать немцев по принципу «око за око», — после этого не спал всю ночь, и даже подумывал застрелиться. Решил отложить. На следующий день с ним перестали здороваться в редакции, и он понял, что это конец, и твердо решил застрелиться ночью. Вечером звонит Сталин. Марина Постойка идет на Восток. Офицер части, остановившейся на хуторе, вызывает особистов, и те допрашивают девочку пятнадцати лет, над которой совершено бесчинство. Удается установить, что это были танкисты, которые останавливались здесь прошлой ночью, а дальше проще простого — найти танкистов, и выявить среди них виновных. Особист улыбается. Марина Постойка идет. Раздаются выстрелы. Что за черт. Мужчины хватаются за оружие, и выбегают на улицу, и выстрелы трещат все чаще, прямо как фейерверк в Китае, которому поразится Дедушка Третий, которого вывезут в Китай подлечиться после одной особенно жестокой американской бомбежки в Корее. Но это не война вспыхнула перед тем, как погаснуть окончательно. Это Победа!!! Мужчины заскакивают в дом, обнимаются, целуются, вечером празднуют. Победа, друзья. Особист уезжает куда-то, — вроде бы, за танкистами, — но переворачивается в мотоцикле и гибнет, потому что все были выпившие. Да и вообще, Победа же. Дело замяли. Ночью один из солдат лезет на чердак, где ночует девчонка. Он говорит по-русски, а она думает по-немецки, но это не имеет никакого значения, — она знает, что он говорит, а он знает, что она думает. Чего ты, говорит он, я же по доброму, с подарком, а тебе же уже все равно. И правда, чего это я, думает девчонка, мне же уже все равно. Берет колечко. Приподнимает подол, раскидывает ноги пошире, и безучастно глядит в небо. Мерцают звезды. Полумесяц — желтый. Мужчина сверху пыхтит и в сердце женщины, — которой она так неожиданно и нехорошо стала, — впервые просыпается жалость к мужчинам, этим странным существа, которые бьются сверху с мокрым затылком и так беззащитно содрогаются. Так что она кладет руки ему на голову и обнимает. Прижимается. Входит во вкус. Лазит на чердак все время, пока солдаты стоят на хуторе, и сама к ним ластится, так что отец перестает с ней разговаривать, ведь девчонка совсем с ума сошла. Шлюхой стала. Стрельба оглушает. Марина Постойка падает на землю, обученная самой войной, и лежит, закрыв голову руками. Вставай, глупый ты человек, кричит ей радостно кто-то сверху, и она, подняв голову, видит плачущих от радости людей, салютующих победе. День Победы! Марина Постойка встает, поджав губы, и поправляет платье. Шум, гам, и непорядок, думает она, то ли дело, как у немцев. Стремится домой. Ждет поезда. Усеянный людьми, он прибывает и Марина несколько дней спит в тамбуре, поджав ноги, отчего через пятьдесят пять лет они покроются, — как старая стена плющом, — узловатыми венами. Кровь застаивается. Марина знает, что если она встанет, то уже не сядет и не ляжет до конца пути, так что лучше ей не менять положения. Ноги ноют. На одной из станций Марина узнает, что это Украина, так что решает сойти, и дальше идти пешком, только ей говорят, что сойти можно будет только в городе. Там расспросят и домой отправят. Марина упрямая девушка, так что, когда поезд притормаживает где-то, спрыгивает на землю. Таких много. Люди как осыпали поезд, так с него и ссыпаются. Ну, словно блохи. Поезд оглушительно гудит и снова набирает скорость. Домик у путей трезвонит. Это станционный звонок. В доме журналист Эренбурга тоже звонок. Илья берет пистолет, ставит к виску, и снимает трубку. Звонили бы в дверь, сразу застрелился. Я вас слушаю, говорит он высоким от волнения голосом. Здравствуйте, товарищ Илья, говорит Сталин. Здравствуйте, товарищ Сталин, говорит товарищ Илья. Они говорят немного, и пистолет Эренбурга медленно ползет от виска вниз, к столу. Журналист ликует. Ах, как умеет говорить с людьми товарищ Сталин! Позже Илья делится этой историей с начинающим писателем Гроссманом, и тот пересказывает ее в своей книге, — только вместо журналиста у него фигурирует ученый, а вот товарищ Сталин как был, так и остался товарищем Сталиным. Как-то ее звали… Век и судьба? Зов и плоть? Что-то в этом роде, точного названия не упомнишь, книга получилась так себе, и очень сырая, и явно требовала редактора, который ее вытянул хотя бы до среднего уровня, и вроде бы как насчет редактора договорились, да только он к тексту не поспел. Зарубила цензура.
Марина Постойка идет по полям родины и глядит на сожженные леса, на пепелища вместо деревень, на ворон, кружащих у рвов и ям, и думает о том, что, — когда обзаведется семьей и детьми, — в ее доме такого непорядка не будет. Все в фарфоре. Много сервизов, много хороших вещей, совсем как в Германии, как она видела, и чтобы обязательно чайник был не простой, а в виде большого фарфорового гуся, и чтоб его надо было накрывать большим ватным одеялом. Вроде как облаком. Чтоб как у людей. В руках ее пусто. Она мещанка, но мещанка честная, ей чужого не надо, и, познакомься она с Кальвином, они бы нашли общий язык. Кальвин давно умер. И Лютер умер, и Аввакум, и вообще Бога нет, с этим Марине Постойка давно уже все ясно, и коммунисты тут не при чем, и немцы тут не причем. Бога нет, потому что это неправда, знает она, поэтому не боится идти одна ночью через кладбище, которым Украина в лето 45-го и является. Некого бояться. Так что Бабушка Третья продолжает идти по бездорожью Украины в одиночестве, и ее вовсе не тянет в дом родной, но она должна прийти туда, чтобы оглядеться и начать свой путь. Она и приходит. В семье из девяти детей ее встречают просто, но ласково, и Бабушка Третья решает, что ее путь лежит на север, — она собирает чемодан, в который кладет несколько пар чулок, которые в это село попали еще во времена чуть ли не Гришки Котовского, и прощается. Едет в Забайкалье. Там она живут вместе со своим братом, офицером Красной Армии, устроившим ее в гарнизон в библиотеку. Листает книги. Сама читать не любит, это глупое времяпровождение, — и глядит с любопытством на мужчин в форме, заходящих попросить подшивку «Советского война» или «Красной звезды». «Воин» интереснее. Но Дедушка Третий, — приехавший сюда лишь несколько недель назад, — предпочитает «Красную звезду», из которой выписывает самые интересные заметки о зарубежной политике, которой очень интересуется. Американцы, черти. Забрались чуть-ли не в к нам в подбрюшье, и творят черт-те что в этой своей Корее. Бабушка Третья решает выйти замуж за Дедушку Третьего. Ставит того в известность. Дело молодое, и офицеру следует быть женатым, так что Бабушка Третья переезжает к Дедушке Третьему, да он и правда в нее влюблен. Ходит гоголем. Молодая семья получает домик на хуторе, в нескольких километрах от гарнизона, и заводит хозяйство. Несколько кур. Появляются дети. Первой рождается дочка, назвали Ольгой, волосы у нее цвета соломы, глаза бесцветные, и она глядит пусто в фотографию, которую сделал сам Дедушка Третий, мастер на все руки, обожавший прогрессивное занятие, фотодело. Черно-белая. На девчонке — мешковатые штаны, и потертая кофточка, ну так ведь и жили тогда бедно, и более-менее прилично дети оденутся лишь, когда семья переберется в Германию. Такова практика. Несколько лет в каком-нибудь дальнем краю, у черта на куличках, а потом, если заслужишь, поедешь в Германию или Венгрию, или Польшу, или… Пока все. Сначала, правда, Дедушка Третий отправляется в Корею, за событиями в которой — а еще волновало то, что происходит в Египте, — так пристально наблюдал по публикациям в «Красной звезде». Призывают внезапно. По телеграмме отправляется в город, и уже оттуда, — не получив разрешения попрощаться с семьей, — пришлет письмо. Получает прививки. Садится в вагон со ста двадцатью китайскими добровольцами — теперь они все китайцы, и им выдают кожаные тужурки как у китайцев, зачем это при их славянском разрезе глаз, уму непостижимо, видимо, чтобы хотя бы с воздуха были похожи, — и долго едет. В пути страдают. Прививок всем поставили много, от самых разных болезней, так что на ногах к концу пути оказываются всего трое человек. Среди них какой-то парень из Ленинграда. Это все ленинградская закалка, впервые позволяет тот себе похвастаться военным училищем в Ленинграде, где пережил войну. Держится бодрячком. Дедушка Третий тоже устоял. Пишет домой письма. Те накапливаются в специальном узле связи, и раз в полгода отсылаются домой, где никто не знает, откуда корреспонденция. Жена в неизвестности. Дедушка Третий, покинувший супругу в положении, становится отцом еще раз. На этот раз мальчик, пишет жена. Папа Второй. На радостях Дедушка Третий угощает самогоном корейских товарищей, и те чинно пьют, подняв первый тост за товарища Ким Ир Сена, второй за товарища Мао Цзэдуна, третий — за товарища Сталина, и лишь четвертый — за отца новорожденного. Так принято. И лишь уже потом можно выпить за самого мальчишку. Ребенок последний. Восток дело тонкое, думает Дедушка Третий за двадцать лет до появления фильма «Белое солнце пустыни», подарившее еще одну крылатую фразу любителям цитировать кино. Ночью бомбят. Капитан артиллерии начинает вести короткие записи в краном блокнотике с золотистыми, — совершенно непонятными ему — иероглифами, выданном китайскому добровольцу, Дедушке Третьему. Китайские канцпринадлежности. Предосторожности эти довольно смешны, делает запись в дневнике Дедушка Третий, с учетом того, что американцы прекрасно знают, против кого воюют и даже рассыпают над электростанцией листовки на русском языке. Подбирает листовку. «Русские солдаты! Американское командование обращается к вам с призывом…». Тьфу ты. Дедушка Третий поправляет воротник куртки и бежит к орудиям своей кочующей батареи, потому что, вдалеке появляются силуэта американских самолетов. Поналетело сволочей. Начинается бомбежка, и Дедушку Третьего сильно бросает об землю, отчего в глазах темнеет. Суждено ли погибнуть? Не может быть, думает Дедушка Третий, ведь у меня двое детей, одного из которых я даже не видел, разве это будет справедливо? Встает, пошатываясь. Продолжает командовать батареей и день заканчивается удачно для них, и неудачно для американцев. Семеро сбитых. К одному Дедушка, — выдернув пистолет из-за ремня, — бежит через поле, мечтая успеть раньше, чем корейцы с мотыгами. Забьют ведь. Спортсмен, лыжник, участник всех соревнования в части, и победитель почти всех, Дедушка Третий успевает первым. Американец сидит в стропах. Эх ты, дурила, думает Дедушка Третий, дурила, эксплуатируемый капиталом, лучше бы ты за свои права в США боролся, и ведет радостного летчика — те всегда радуются, когда попадают к русским, это значит, что ты сорвал куш и остался в живых, — к своей батарее. Позже заберут. Дедушка Третий берет четвертьцентовик у американца и дарит тому полтинник. Объясняется на пальцах. Показывает два пальца. В смысле, двое детей. Американец кивает и вбрасывает три пальца. Ого. Похоже на «камень, ножницы, бумагу», и враги смеются. Вдалеке маячат корейцы с мотыгами, и Дедушка Третий на них не сердится, ведь американцы превратили страну в Луну. Выбомбили все. Ничего, черти, мы вам прикурить дадим, думает он, и отдает летчика особистам, уж те американца допросят и отправят в корейский лагерь, а дальше как повезет. Американец мешает рукой. Следующим утром гидроэлектростанцию бомбят так сильно и так долго, что у Дедушки Третьего отказывает слух, и вернется только через несколько месяцев. Прекращает вести дневник. Осмеливается возобновить записи, только когда может слышать, есть кто-то за спиной или нет. Хотя записи простенькие. Прилетел, улетел. Бомбили, сбили. Дадим жару, нам дали жару. Обычные фронтовые записи. Тысячей с лишним километров за спиной Дедушки Третьего бьет киркой землю другой артиллерийский офицер, его арестовали за дневник, и фамилия бывшего офицера Солженицын. Бессарабия корячится в голоде. Сталину все хуже и вот вот к нему в двери поскребется длинными и острыми ногтями мертвый Дедушка Второй. Американцы вот-вот проиграют. Свобода близка.
Американцы сбрасывали на наших зенитчиков в Корее бомбы с бактериологической и агитационной начинкой, пишет писатель Лоринков в газетной статье, которую готовит к печати для цикла материалов в местной прессе. «Неизвестные войны». Статья «Корейская война» в энциклопедии «Википедия» опровергает эти данные со ссылкой на авторитетные источники в советском правительстве. «Двадцать уколов на дорожку», пишет Лоринков заголовок. Чтоб покороче. Он брезгливо печатает двумя пальцами — так у него получается всегда, когда он пишет не книги, а статьи, — в это время он еще не бросает газетную работу, чтобы молчаливо согласиться тем самым с судьбой, и признать, что он есть тот, кто он есть. Писатель Лоринков. Но получается, — хоть и двумя пальцами — всегда быстро. То ли дело книги… Советских военных в Корее в начале 50-хх годов не было, были «китайские добровольцы», правда, они были светлокожие, с нехарактерным для китайцев разрезом глаз, и говорили по-русски, пишет Лоринков. Но все равно они были добровольцы из Китая, и в Корее их официально не существовало.
02.1952 год, пишет в своем дневнике капитан Лоринков аккуратным почерком, которому, — помимо всего прочего, — он обучен в артиллерийском училище Ленинграда, куда родители поспешили определить его в 1940 году, чтоб место получше да поспокойнее. Куда уж спокойнее.
Ночью сбит Б-2, пишет капитан Лоринков.
Налет четырех «тандержетов» — ушли, пишет он.
Налет четырех «тандержетов» — уехали на розыски двух (2) подбитых летчиков, пишет капитан, и уезжает на розыски двух подбитых, так что запись прерывается. Дублирует цифры. Знает, что будут неопрятности, если блокнот найдут, старается писать ночью, если, конечно, не бомбят. А они бомбят. Налет четырех «тандержетов» — ушли, пишет капитан. Налет 3-х «тандержетов» — один (1) сбили, добавляет он. Б-26 сбросил магний, пишет капитан, глядя на Б-26, сбрасывающий магний. 22.02. 1952 — пишет капитан, вспомнив, наконец, какой сегодня день, — налет трех (3) «тандержетов» — ушли. 23.02.1952, пишет капитан, потому что это на следующий день и, значит, дату определить легко. Налет четырех (4) «тандержетов» — ушли, пишет он. 24.02.1952 — Б-52 — магний, копирует запись от 21.02.52 года капитан, потому что Б-52 дублирует действия своего предшественника от этого числа. 29.02.1952 — Налет «шутов» — отбиты, ушли, пишет капитан, не слыша ничего вокруг. 3.03.1952 — Налет Б-26, отбиты, ушли, пишет капитан.
В 1951 году о том, что мы едем в Корею, я, тогда старший лейтенант, не знал, — говорит полковник в отставке Лоринков, и пишет журналист Лоринков. Двадцать младших офицеров, отобрали из части, дислоцированной в Спасске (Дальний Восток) и отправили в город Ворошилов. Сказали, что отправляют на выполнение какого-то ответственного задания. Но толком ничего не объяснили, пишет, — вспоминая неразборчивую из-за болезни Паркинсона речь деда, — Лоринков. Из Ворошилова на поезде советских воинов повезли через Маньчжурию, пишет Лоринков. Стирает «воинов». Меняет на «военнослужащих». Лучше сухо, чем избито. Потом — Мукден, цитирует полковника Лоринкова писатель Лоринков. Но даже и там ничего не сказали и постепенно военных собралось 112 человек, и уже только когда они прибыли в корейский город Аньдун, расположенный рядом с китайской границей, то им объяснили, что они будут защищать стратегически важные объекты от американской авиации, пишет Лоринков.
К концу первой трети февраля записи возобновляются. 9.03.1952 происходит налет четырех (4) «тандержетов» — ушли. 11.03.1952 — батарея под командованием капитана ведет огонь по четырем (4) «сейбрам», удиравшим от «МИГ»-ов. Янки лобовой атаки не принимают, и все стараются зайти в хвост, на батарею пикируют, но с открытого огня сразу сворачивают, отмечает в дневнике капитан Лоринков. Слабые у них нервы, добавляет он.
13.03.1952 — Ночной Б-26 — ушел. 16.03.1952 — Б-26 — ушел. 17. 03.1952 — Б-26 сбросил десант, ушел. Десант принимают корейцы, и капитан Лоринков спасает двух американцев, которых местное ополчение собирается прикончить сразу же на месте. Так нельзя, товарищи, — кричит капитан — и машет пистолетом, вращая глазами, вырывает из толпы двух окровавленных янки, и тащит тех к батарее, главное, знает он, не показывать, что боишься, а у самого в груди все пляшет от страха. Про страх капитан Лоринков ничего не пишет. Выводит просто — «десант сброшен, уничтожен корейским ополчением, двоих взяли в плен». 19.03. 1952 — огонь по «тандержетам», добавляет капитан.
22. 03. 1952 капитан Лоринков в своем дневнике заканчивает с цифрами. Счет потерял, писать бросил, пишет он.
Военной формы офицерам не выдали, все были одеты по «гражданке», пишет, — стараясь не забыть ни одного слова деда, — писатель Лоринков. В Корею их отправляли так спешно, что перед отъездом сразу поставили по двадцать уколов — прививки, вакцины, — которые, по уму, надо ставить постепенно, добавляет он с обидой на советскую власть. Поэтому в дороге из 112 человек на ногах были лишь старший лейтенант Лорченков и сержант-зенитчик. Остальные лежали с высокой температурой, и пришли в себя под конец пути, добавляет Лоринков с гордостью и думает, что это семейное. Высокая живучесть. Теперь нужен какой-нибудь подзаголовок, думает писатель Лоринков, и придумывает его. «Война за плотину».
20 апреля 1952 я был в Тайско у Борисова, Иватомирского и вдвоем за два (2) дня они сбили тринадцать (13) самолетов, с легкой завистью пишет капитан Лоринков, которому через несколько дней доведется сбить на два самолета, но лучше бы этой возможности ему не предоставилось, думает он позже, потому что в тот налет выбита почти вся батарея. Рядовых хоронят в Корее. От лейтенанта до майора в Китае. Только те, кто старше майора, имеют право быть похороненными на родине, в России. Терпение. Я буду жить. Еще сына не видел, думает капитан Лоринков. Пишет, что впервые сидел штурмовку «сейбров». Низко сволочи ходят, нахально, добавляет он с бравадой, потому что бравировать выпускнику артиллерийского ленинградского училища, профессиональному военному — прилично. Неприлично бояться. 25 апреля 1952 года капитан Лоринков пишет, что живет в Аньсю и ведет занятия с китайскими командирами на сборах. Капитан отмечает, что китайцы очень интересуются техникой. Много вопросов. Знают очень мало, от старших до младших, снисходительно добавляет капитан. Батареи стреляют неважно, через нас на такой высоте, на какой ходят над китайцами, американские сволочи не ходят, боятся, добавляет ожесточенно капитан, потому что попал под бомбежку на китайской батарее. Адская ночь. 26 апреля 1952 года капитан Лоринков обедал у китайского комбата. Все блюда — не соленные, отмечает он в своем дневнике, чтобы не забыть потом рассказать жене, та ведь кухарь от Бога. Вместо хлеба кушают пампушки, тоже не соленые, удивляется капитан Лоринков. Упоминает бомбежки — бомбят ежедневно Б-26, «тандержет». Утром китайцы стреляли хорошо, радуется капитан. С открытием огня американцы уходят. Но ходят все еще низко, добавляет капитан.
Первым объектом, который защищали два полка «китайских добровольцев» из СССР, стала гидроэлектростанция и плотина при ней в городе Сунхун, набирает текст писатель Лоринков. Наши называли ее «Сунхунской ГЭС», добавляет следующую фразу, и думает, что только что употребил слово «наши» в отношении несуществующих граждан несуществующего государства. Сик транзит. Американская авиация в течение долгого времени пыталась разбомбить плотину, но так и не уничтожила ее, перечисляет Лоринков общеизвестные факты. За все время командировки в Корее два полка советских зенитчиков сбили над небом страны свыше 140 американских самолетов, добавляет он статистику, полученную в филиале Министерства обороны Молдавии. Те получили данные из Москвы. Дальше писатель Лоринков продолжает писать то, что знает только он и полковник в отставке Лоринков. Тогда капитан.
Доставалось и нашим, и американцам. У защитников ГЭС были так называемые «кочующие батареи», пишет Лоринков, внук командира одной из таких батарей. У них не было четко закрепленной позиции, и они могли располагаться на том месте, которое выбирал командир. Где расположиться, когда начать огонь — все решал он. Полная свобода действий, лишь бы результат был., объясняет Лоринков вкратце принцип батареи, объясненный ему вкратце дедом-зенитчиком. Результат был. В один из налетов, когда американцы отбомбились на мост и начали уходить, советских артиллеристы их подловили, расположив батарею, в которой находился капитан Лоринков, как раз на пути ухода. За один вечер батарея сбила десять самолетов, пишет Лоринков. Были и потери, с огорчением добавляет он. За время одного из мощнейших налетов на ГЭС наши войска потеряли около 90 человек Подполковников и выше по званию везли на родину, в закрытых гробах, пишет Лоринков, вспоминая деда в открытом гробу и залп над ним, как и полагается при похоронах военного. Последние почести.
27 апреля 1952 года чуть наивный — сын своего времени — капитан Лоринков был в китайском клубе на танцах, устроенных для советских офицеров китайцами. Клуб был за городом в пещере. Собрались китайские, корейские товарищи, и наши славяне, вспоминал сын польской еврейки и белоруса, капитан Лоринков. Встретили хорошо, гости сели на скамейки, и для них притащили чая с конфетами, пишет капитан Лоринков в дневнике. Любит словечки. Притащили, хряпать, хрумкать. Задорный жаргон пятидесятых. Резиновые макинтоши, широченные брюки и шляпы. Это кому повезет. Капитану Лоринкову повезет, и он сфотографируется десять лет спустя в Германии, — куда попадет на службу, — с плащом на согнутой в локте руке, в сдвинутой чуть набок шляпе, и широких штанах. Щеголь. Карточку пошлет маме. Уже майор. У них обычай, пишет об обычаях китайцев капитан Лоринков, — бодрствуя на батарее, потому что ждут ночного налета, — угощать гостей чаем в любое время суток. Запомнит способ. Всю жизнь будет пить еле окрашенный заваркой чай, главное, чтобы был очень горячий и, желательно, зеленый. С травами. Хор девушек исполнил несколько китайских песен, переходит на язык отчета в стенгазете полковник. Кореянки исполнили национальные корейские танцы, добавляет он. Очень радовались, когда мы им хлопали, и я пришел к выводу, что у китайцев есть понятие: раз советский, значит, все умеешь, с гордостью отмечает капитан Лоринков. Объясняет. На батарею придешь, сделаешь пушку, — тащат к прибору, просят сделать. На танцах приглашают любой танец. Говоришь — «вобохуй», — в смысле, не умею, — не хотят верить. Русский все умеет. Нас, как гостей, приглашали танцевать девушки и любая музыка у них какая-то особенная, с корейским стилем. Говоришь больше знаками, чем языком. Некоторые понимают и по-русски. Китаянка пела песню, я спросил переводчика, о чем она поет, он думал, думал, и говорит: «В общем, будем воевать 15–20 лет, а все равно победим», улыбается капитан Лоринков. Очевидно, так: китайские офицеры долго аплодировали. Уехали домой в 22.00. Китайцы остались довольны. Ночью налет. Б-52. «Танджеры». Двенадцать погибших.
О том, что мосты и плотины в Корее охраняют советские зенитчики, командование войск США прекрасно знало, — пишет Лоринков, — поэтому время от времени пыталось проводить с противником агитационную работу. Обычное дело. В один из дней на позиции артиллеристов посыпались бомбы, которые, взрываясь, никого не убивали. Из них сыпались листовки. На русском языке. Как обычно в таких случаях, на них были написаны призывы прекратить воевать, говорилось, что Америка воюет не с ними, а с Кореей. Дезертиров после этого, само собой, не появилось, добавляет Лоринков и ухмыляется. Еще бы.
28 апреля 1952 года в Корее на сунгуньском водохранилище всю ночь и день шел дождь. Промокли до нитки, пишет капитан Лоринков урывками. В голове шумит. Правая рыка дрожит. И будет дрожать до смерти, вспоминает такую странную руку деда писатель Лоринков. Сволочи бомбили опять. Выпил сули, подобие самогона, только рисовый, не согрелся и все равно знобит, жалуется капитан дневнику. Плохо, что нет писем, и нельзя писать, — как там мои доехали, — соскучился сильно. Это единственный раз, когда капитан Лоринков позволяет себе в дневнике вспомнить свою семью, оставленную в автономной еврейской республике Биробиджан. Хутор, сопки. Раскисать нельзя. Капитан выползает из-под промокшего уже одеяла — промокло все, дожди здесь невероятные, влагой пропитывается все, — и идет, согнувшись, к орудиям. Снова налет. Первого (1) мая 1952 года капитан попадает в корейский город Анджу. Были на торжественном собрании в полиции. Встретили радушно. Говорили через двух (2) переводчиков. После собрания пригласили выпить. Пили сули. Закусывали национальными блюдами, научился кушать палочками, пишет капитан Лоринков. Набор палочек будет в доме всегда, на самом почетном месте, среди сервиза производства ГДР. Баловства ради. Несколько лет после Кореи капитан еще будет есть палочками, но потом перестанет, потому что жена ворчит. Удобно ведь. Корейцы пьют сильно, удивлен капитан, употреблявший мало и редко, не только для артиллерийского офицера, но и вообще мало и редко. Первым с праздником «поздравил» Б-26, начинает уставать от налетов капитан. С 28-го (28.04.1952) тихо, в тот день сбили четвертого (4) мустанга, отчитывается он. В этот день попасть бы на Родину, пишет капитан. К семье, думает он.
Американцы очень радовались, если попадали в плен к русским, с гордостью за соотечественников пишет Лоринков. Корея к 1952 году представляла собой просто лунный пейзаж, все разбомблено, вспоминает он фотографии из архива Конгресса США. Если летчик сбитого самолета падал неподалеку от какой-то деревни, то его ждал самосуд — женщины, дети просто забивали бедолагу камнями и мотыгами: и его жалко, и население, ведь от бомб-то страдали преимущественно мирные люди, вспоминает Лоринков воспоминания полковника Лоринкова. Правда, звучало все это немного не так, думает он, и от рта ложатся две злые складки. Еэли леочик сбиово саолеа паал неоалеу от ааойо ерееини о еоо жаал сааосуу — жеенины и еети поотоо зааиваали бееаау аамняяами и мооыыами: ии еоо жаоо и ааееие ееть оо оом сааали пееиууно ииые ууди. Да, Паркинсон это вам не налёт. От него не спасешься. Под конец жизни дед плохо владел речью, и писателю Лоринкову, пришедшему навестить полковника, иногда кажется, что тот настоящий спрятался куда-то вглубь трясущегося чужого тела, и лишь иногда дает о себе знать. Глаза блеснут. Улыбка мелькнет. Господи, молится каждую ночь писатель Лоринков, да минет меня чаша сия. Предупреждает жену. Если что, лучше дай чего-нибудь выпить. Та смеется. Ох уж эти русские женщины, никакой чувствительности. Говорит с братом. Единственный, кто выполнит его просьбу, о чем бы она не была. Просто вырви провод, ладно? Брат кивает, он запоминает с первого раза и навсегда, он надежен и честен, он в деда. Полковник Лоринков улыбается. К счастью, у писателя Лоринкова побаливает горло и он начинает подозревать в себе метастазы, так что до возраста, когда на «танджере» или Б-52 к отставным артиллерийским офицерам, разбрасывая магний и ужас, прилетает его величество Паркинсон, он просто не доживет. Улизнет.
Один эпизод. Помню, мы сбили бомбардировщик, летчик которого успел катапультироваться, и ветром его вынесло на наши позиции. Один эпизод. Когда он увидел, что навстречу бегут не корейцы, то понял, что он у русских, заулыбался, отбросил пистолет, цитирует Лоринков недавно умершего деда. С пленными советские обращались хорошо и ненависти к американцам никто не испытывал. Мы понимали, что их туда просто погнали. Так же, как и нас, добавляет тихонечко несгибаемый коммунист, капитан Лоринков.
2 мая 1952 года, пишет спустя несколько дней после 2 мая 1952 года капитан Лоринков. Ночью разгрузился на переправу Б-29. Как всегда, промазал, улыбается капитан. С утра сволочи бомбили сильно и потом весь день и еще один потом. На завтрак в ответ пригласили корейцев. Говорили без переводчика, но понимать друг друга удавалось. Они знают историю партии, удивляется капитан Лоринков, истории партии предпочитавший втихомолку устройства артиллерийских орудий. Болеет войной. Отец, мирный директор могилевской гимназии, а потом и советской школы, диву дается. Сын-вояка. Зато мать гордиться, это у них, поляков, у всех так. Помешаны на бряцании. Шпоры, медальки, сабельки, улыбается снисходительно отец капитана, усаты, словно Буденный, Тимофей Лоринков. Мать подгибает губы. Несгибаемая коммунистка. Ушла рано, и капитану ее очень не хватало. Отец женился еще раз, дожил до девяноста лет, но капитан, а позже полковник, его за измену — пусть и посмертную — матери так и не простил. Это потом. Сейчас капитан Лоринков пишет письма и родителям, пусть письма и сортируют и держат по полгода где-то. Потом получат. Целую охапку, то-то обрадуются. Днем ходили осматривать город, — возвращается к дневнику капитан Лоринков, и констатирует- от него осталось мало что. При виде русских большинство не скрывают радости. Когда объясняемся, что мы — китайские добровольцы, смеются, берут за китель, брюки, и говорят — «Пекин, Мао Цзе Дун», а показывая на лицо и голову, говорят — «Москва, Сталин». Весельчаки. Народ трудолюбивый, суровый, честный, пишет капитан, человек честный, суровый, трудолюбивый. Опять бомбят «тандержеты», мустанги, сокрушается он. Сюда бы русских зенитчиков, отучили бы их, сволочей, ходить по головам. У нас они так не ходят, безнаказанно. Был дома 30-го, приехал с ночевки Борисов с батареей, сменила его пятая (5) батарея. Опять бомбят.
Американцев «пробивало» на агитационные бомбы не всегда, очень часто они использовали бактериологическое оружие, которое сейчас так ищут в Ираке, пишет Лоринков с использованием актуальных сравнений. Журфак учит. У всех советских военных были карты с указанием районов, где вспыхнула вдруг эпидемия чумы или сибирской язвы и туда нельзя было заезжать. Однажды бактериологическое оружие применили над позициями полка, где воевал капитан Лоринков, у переправы Яуцзань. После этого лейтенант с высокой температурой, без сознания, с признаками эпидемиологического заболевания попал в военный госпиталь на территории Китая, выписывает Лоринков данные из медицинской карты деда. После курса лечения вернулся на войну, где служил уже при летном полку, но в 1953 году полк отправили домой, в Союз, заканчивает он эту часть текста.
5 мая 1952 год. Кончили учебу первой партии, едем домой. Будет у своих веселее, радуется встрече с земляками уставший от пампушек, китайского самогона и танцев корейских товарищей капитан Лоринков. Снова бомбы. Сегодня сволочь не давала спать, привычно и беззлобно обзывает он противника. Бомбили переправу всю ночь, думал, наша «гостиница» развалится, глядит капитан на тростниковую крышу сочащейся влагой хижины. Хотя бы дали несколько залпов, ходят и ходят прямо по прыщам, или не умеют, или боятся, черт их поймет, пишет капитан Лоринков не очень понятную фразу, которую внук, разбирая дневники, никогда уже не сможет разобрать в точности. Что имелось в виду? Командующий сказал сегодня что бомбили Б-26, а их освещать нельзя, потому что разобьют прожектора, вот же вояки. Вообще наши все рады, что будем у своих, получим письма, пишет Лоринков. Как добрались мои родные, не знаю, думает он.
Писатель Лоринков заканчивает текст. Очередной подзаголовок. «Ничего не помню, ничего не знаю». В Союзе о том, что наши военные были в Корее, не знал никто, за исключением их самих и высшего руководства, пишет он. Когда лейтенант Лорченков вернулся в свою часть в Спасск, о том, где же он был, спрашивали многие, но ответ был один: служебная командировка, и так в то время было принято. Крутые парни были эти люди, говорит ему какой-то американец, приехавший в Молдавию искать ветеранов корейской и вьетнамской войн. Но дедушка умер. Американец довольствуется дневниками и снимает копии с разрешения вдовы, бабушки. Я нашел здесь всего три семьи такие, говорит он. Польщены. Но ведь скажите, смеется Лоринков, ведь травили же вы их этим своим сраным бактериологическим оружием, а? Американец серьезнеет. Это было великое поколение, говорит он, что у вас, что у нас, и сейчас я понимаю, что мы в сравнении с ними просто пигмеи. Парень под два метра. Того гляди, руку к сердцу приложит. Глядит, обернувшись с переднего сидения такси. Лоринков пожимает плечами. А про бактериологическое оружие так ничего и не сказал, зато наговорил кучу комплиментов. Звякание медалек и шпор.
Никаких льгот, конечно, советским ветеранам Кореи положено не было, заканчивает текст Лоринков. Выделять их стали значительно позже, к концу шестидесятых годов. Вспоминать о Корее не рекомендовалось: была подписка о неразглашении государственной тайны. Остались еще корейские награды, палочки для еды, двадцатипятицентовик, подаренный лейтенанту пленным американским летчиком, которого увозили на обмен, и сны. Сны о бомбежках, и это не просто красивая фраза, хотя красивыми фразами журфак рекомендует заканчивать все тексты, кроме информационных. Да и информационные. Капитану Лоринкову часто снится американский самолет, который гоняет его по полю, он видит лицо летчика, убегает от очередей стрелка. Майору Лоринкову снится этот сон. Подполковнику Лоринкову. Полковнику Лоринкову. Полковнику Лоринкову в отставке. Полковнику Лоринкову перед смертью. Самолет и очереди. И большое зеленое поле. Корея. Писатель Лоринков вспоминает рассказ деда о Корее, когда читает «Здесь и сейчас», — в этой книге парень, наглотавшийся во Вьетнаме «оранджа», вспоминает цапель, рисовые поля и зелень, и только тогда его отпускает. Мирится с Америкой.
… го года — пишет неразборчиво дату капитан Лоринков, прочитал книгу «Семья Рубанюк». Очень хороший роман. Особенно понравились мне женские образы романа. Оксаны, Машеньки. Хорошие женщины. Книга написана реально и правдив, рассуждает капитан. После нее легко и светло на сердце, и в то же время думаешь, что такого не должно больше повториться, с нашими людьми, что они пережили в 41–44 годах. Думаю написать отклик свой в редакцию, добавляет он, и писатель Лоринков хихикает. Дед любил соцреализм, но разве у них было что-то другое? На полке рядом с «Историей артиллерии», где маленький внук впервые увидел изображение Сталина — генералиссимус позировал для картины про события в Царицыно, — стояло несколько тяжелых томов. Дед читал. Например, «Порт-Артур», «Цусима» или, вот, «Семья Звонаревых». Писатель Лоринков долго думал, что дед ни черта не понимает в книгах и читает всякое говно, — до тех пор, пока старик не умыл его тонкими рассуждениями о «Донских рассказах». Позже понял. Деду было наплевать на то, о чем и как написана книга, потому что он собирал все, лишь бы там было хоть пару слов о Востоке. Мокрой зелени, влажных хижинах, рисовых полях с взлетающими над ними цаплями, палочках, остром соевом соусе, незадачливых китайцах, простых, суровых, трудолюбивых корейцах. Любил Корею.
14.05. 1953 года капитан Лоринков прощается с Кореей. Пишет — прощай, Корея! В 9.50 я пересек границу Ялуцзян, пишет он в поезде, пока уцелевшие соратники отмечают победу чаем — спиртного нет, так что чокаются заваркой, — и осточертевшим всем рисом. А есть надо. Не увижу больше ни долины смерти, ни долины огня, так оправдавшие свои названия, пишет Лоринков глядя в окно поезда. После отъезда был в госпитале, добавляет он. В купе по соседству шумно и капитан Лоринков стучит в стену с раздражением, ему так хочется тишины после полутора лет беспрерывного шума. Стихают. Устыдившись, капитан присоединяется к коллективу, правда, не извиняется — если признаешься, что сдают нервы, не поймут, сочтут слабаком, — и через несколько станций они добывают немного алкоголя. Цистерна спирта. Пока поезд стоит, ребята простреливают ее со всех сторон и набирают кто во что, и до самой ночи потом выпивают и поют, почему-то, не комсомольское и не коммунистическое. Капитан Лоринков подпевает. Крутится, вертится, шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть. Потом из Утесова. Знаешь, что Утесов возвращается в Советский Союз, спрашивают Лоринкова. Молодец, коротко говорит капитан. Он приехал в Бессарабию, а туда пришла Советская Власть, и певец решил остаться, русский это, все-таки, навсегда, говорят в купе. Верно, кивает капитан. Бессарабия… А где это?
В прошлом году в Кишиневе числились всего трое ветеранов войны в Корее, один из которых уже умер, пишет Лоринков постскриптум к статье, вызвавшей сорок пять откликов на странице газеты в интернете, двенадцать звонков от читателей и один звонок из посольства США, это беспокоил человек, который занимается поисками пропавших в Корее и Вьетнаме летчиков. Почему бы и нет. Мой дед участвовал в «черном вторнике» американской авиации, пишет он. Это американцы его сами так называют — 30 октября 52-го советские летчики и зенитчики сбили 8 бомбардировщиков из восьми шедших на водохранилищем и около десяти истребителей, описывает он одной фразой «черный вторник» посланных в Корею американских парней.
На следующее утром вагон спит, и только капитан Лоринков встает рано, будто от этого быстрее прибудешь, ехать — то еще пять дней, высыпался бы. Но он как будто скучает, с удивлением понимает капитан. По Корее, что ли? Дурные мысли. Такие надо гнать прочь, знает лучший выпускник артиллерийского училища, отличник боевой подготовки и перворазрядник по лыжам офицер Лоринков. Отгонять, как «танжеры». Открывает дневник. Берет ручку. Пишет он в самом низу заполненной страницы дневника. «Привык к уколам, а главное — к переливанию крови». Это последняя фраза.
Роман «Семья Рубанюк» из тысяча восьми (1008) страниц, из которых первая часть написана на четырех сорока четырех (444) страницах, был издан в 1952 году и написан в 1945–1951 годах. Но это неправда. Шесть лет лет автор романа, некий Поповкин, указал для того, чтобы его труд выглядел значимее, а на самом деле написал он эту книгу за два месяца. Работал ночами. Спешил. Успел вовремя, и как раз к очередной годовщине Победы, которую еще не начали толком отмечать, но тренд все уловили — думает pr-менеджер писатель Лоринков, — книга была издана. Оглушительный успех. Соцреализм. Это, конечно, не «Тихий Дон», ну так ведь и «Тихий Дон» был уже издан, не так ли, товарищ Шолохов. Так ли, товарищи. В романе «Семья Рубанюк» несколько книг. Как и книга писателя Гроссмана, это попытка создать эпос, предпринятая человеком, понятия не имеющим, что такое эпос. Им кажется что эпос, это когда много персонажей, думает писатель Шолохов, но ничего не пишет в своем дневнике, а лишь отправляет поздравительную телеграмму товарищу Поповкину. Так держать. Поздравляю, дружески обнимаю, с волнением, узнаваемость, в общем, телеграмма ничем не отличается от любой другой, которые спивающийся классик русской литературы — последний из великих — прыгнувший вверх головы «Тихим Доном», посылает в колхозы, выполнившие и перевыполнившие план по добыче, производству и перепроизводству. Ну и ладно, машет рукой Шолохов. Уходит на рыбалку.
Роман «Семья Рубанюк» получает Государственную премия СССР в 1952. Книга, — пишется в аннотации, — рассказывает о борьбе украинского народа с фашистскими оккупантами. В центре повествования, предваряет сюжет аннотация, находится семья старого колхозного садовода Остапа Григорьевича Рубанюка, крепкого, как могучий ветвистый дуб, ушедший корнями в родную землю. В 1952 году книга была свежей, словно корейская зелень. Хит сезона. Десять экземпляров даже отправили в Корею, нашим ребятам, которые проливают кровь как китайские добровольцы. Запоминаются образы сыновей Остапа Рубанюка, которых зовут Ивана, Петра и Сашко. Капитан Лоринков кивает. Правда, запоминаются. С волнением следишь за чистой и светлой любовью Петра и Оксаны, за всеми переживаниями, выпавшими на их долю, пишет аннотацию к книге желчный человек по фамилии Мариенгоф. Строчи, очкарик. Время ваше прошло, и в историю войдет крепкий, словно дуб или соцреализм, труд настоящего Поповкина, а не ваша пьяная с Есениным кабацкая рыготина во времена, о которых все уже забыли. Мариенгоф подрабатывает. Дела его шатки и валки. Живет в Москве, но всеми забытый. Не расстреливают, но и печататься не дают. Подрабатывает переводами да тем, что пишет аннотации к книгам авторов, которые входят в силу. Кормится объедками. Сын повесился, свет в окнах погас навсегда. Звезды померкли. Ходячий вампир, вот вы кто, Мариенгоф. И даже титан Маяковский, которого вы оплевали и оболгали в своем претенциозном романе «Роман без вранья», каково, назвать роман «Романом», — самовлюбленность этих сраных гумилевых да гиппиусов пределов не знает, — остался в памяти народной и его все любят. А вы ничтожество. Мариенгоф кивает. Он смирился. Сын рос быстро, да умер. Все гипертрофированная гордость, отсутствие принципов настоящего советского поведения в воспитании парня. Папочка в воспоминаниях врет. Пишет, что мальчик повесился от несчастной любви. Нет. Все литературоведы Санкт-Петербурга и спустя 50 лет помнят, как оно было на самом деле, а пока об этом просто шепчутся в «Детизе», где Мариенгофу из жалости дают перевести иногда сказки. Семейная ссора. Папаша дал пощечину, а мальчишка, — которого с детства дрессировали блефовать никому не нужной ложно понятой честью, — взял да повесился. Записку оставил. «Я не подлец». Осиротил родителей, горем убил мать. Каков подлец. Несоветская семья, несоветская смерть. А ведь подавал надежды. Мариенгоф горбится. Он давно уже умер, левая половинка повесилась с Есениным, правая с сыном, с мальчиком. Держится. Ночами пишет роман. Какое-то, прости Господи, говно. В пересказе выглядит сущей нелепицей. Какая-то парочка, она из бывших, он тоже, живут в брошенной квартире в Петрограде во время революции, но все внимание сосредоточено не на событиях Времени, а на эгоистичных переживаниях этих двоих. Не без грязи. В самом начале девчонка просит юнца, явно с себя списанного, — нет, если грязь в душе, это навсегда, ее даже такой пропащий как Сережа Есенин почуял, — поставить ей клизму. Каково? Клизменная литература. Да уж, это не «Семья Рубанюк» или не, к примеру, «Поднятая целина». Как типично для Мариенгофа. Роман бредовый. Но дурачок все равно пишет, говорит, это его от сумасшествия спасает. И название какое-то дурацкое, вполне в его духе. Говорит, «Циники».
Марина Постойка, занявшись хозяйством, слышит, как в дверь что-то постукивает, и опускает шитье на скамью. Олька и Пашка стихают. Пашка в смешных штанишках, — как у голодранца с карикатур про американских безработных, — на одной пуговице. Ольга в шароварах. Марина Постойка открывает дверь и видит, что за ней стоит пацаненок лет шести. Бодает головой. Это он просто пройти пытается, и Марина Постойка, удивившись, пропускает мимо себя этого молчаливого нахала, который, зайдя в тепло, садится у стены. Щека в крови. Бабушка Третья выглядывает в дверь, и глядит в ночь, но ничего не слышит. Потом разберемся. Раздевает мальчишку, расспрашивает того, — но он молчит, и не промолвит почти ни слова до тех пор, пока они окончательно не расстанутся, — моет, и кладет спать. Сама думает. Времена все еще лихие, может, из деревенских каких, может, из беженцев, которые едут то на запад, то на восток, мечутся, бедняги, а может, из «кулаков». Взять в семью? Марина Постойка несколько дней пытается решить для себя, что ей следует сделать, и Дедушки Третьего, которой мог бы повлиять на ее выбор, рядом нет. Взять или не взять? Мальчишка глядит понимающе, по-взрослому, и от этого взгляда Марине не по себе. Надо брать. Но характер у нее уже начинает портиться, и песчинки уже поднимаются со дна ее души, чтобы спустя десятилетия превратиться в ураганы, сделавшие эту женщину фурией и исчадием ада для всех близких. Кроме Дедушки Третьего. Еще чего, лишний рот, трое это ужасно много, думает эта сестра восьмерых мальчиков и девочек, выкормленных простыми сельчанами. Еще чего! Мальчик беспристрастно глядит на нее, выполняя работы по дому, и Бабушка Третья думает, что он за ней наблюдает, и от этого злится еще больше. Дети к пацану привязались. Пашка бегает за ним, — как раньше за козой, которую держат из-за молока, — а Олька все норовить поделиться с ним одной из двух игрушек. Самим мало! Спустя несколько недель Бабушка Третья собирается сама, собирает мальчишку, — шипит ему «не лыбься, гаденыш», хоть он и не лыбится вовсе — и ведет того на станцию. Паровоз тормозит. Бабушка все объясняет машинисту, и провожает взглядом испускающую дым машину, и Пашка, которого она взяла с собой, испуганно молчит. Начинает заикаться. Перестанет, когда вернется Дедушка Третий и снова поведет сына к паровозу, чтобы вышибить клин клином. Бабушка Третья возвращается в дом. Со временем удивительный гость забывается. Самим мало. Иногда, правда, Бабушка Третья и рассказывает всем, что родила двойню, но один из детей был мертвым. Поэтому-то Пашка и Олька говорили что-то об «братике». Много позже все решают, что никакого второго мальчика не было, и все-то она выдумала. Ох уж эти бабы, думает Дедушка Третий. Жалеет.
После первого года войны Дедушка Третий попадает под бомбежку холерой, — это американцы сбрасывали бомбы с особой начинкой, потому что им здорово надоели эти упрямые русские, не позволяющие разбомбить плотину. Получите вошек. Впрочем, с самого начала американское командование решительно отрицало применение бактериологического оружия, — пишет интернет-экциклопедия «Википедия», составленная при самом активном содействии американского командования. Дедушка Третий чувствует жар. Ставшие достоянием гласности в последние годы советские документы позволяют, — при соответствующей трактовке, — предполагать, что обвинения эти были полностью или частично фальсифицированы, утверждают эксперты. Дедушка Третий падает в обморок. Приходит в себя от воды, которую ему льют на лицо испуганные солдаты. Что за черт, бормочет он, и чувствует сильный жар. Кампания по борьбе с бактериологическим оружием с самого начала носила провокационный характер, продолжает «Википедия». Дедушка Третий снова теряет сознание, и медики констатируют, температура тела у капитана сорок один и половина по Цельсию, это что-то очень похожее на холеру, только отягченное… Нет, мы не уверены. Некоторыми историками предполагается, что авторами плана этой пропагандистской операции выступили северокорейские спецслужбы, заканчивает энциклопедия «Википедия», внести изменения в которую может любой желающий. Все, что для этого нужно — просто зайти на страницу «Википедии» в интернете, щелкнуть на кнопку «Модерировать», и начать модерировать, то есть, писать то, что вам хочется. Ужасно смешно. Писатель Лоринков, с целью продемонстрировать это своему приятелю, в 2002 году зашел на страницу «Кишинев» в энциклопедии «Википедия», и внес изменения в дату появления города. Был 1456 год, а стал 1430-й. Дедушка Третий, — попавший под бомбежку инфицированными бомбами, существование которых отвергает энциклопедия «Википедия», поправить которую позволено любому желающему, — приходит в себя в вагоне и его переправляют в Китай, где будут несколько месяцев лечить, и из окна госпиталя он увидит настоящий восточный фейерверк. Писатель Лоринков хохочет. В том же, 2002 году, кишиневская мэрия объявит, что, по новым историческим данным — видимо, какие-то архивные документы обнаружились, — возраст Кишинева на 30 лет больше, чем мы предполагали. Это вносят во все документы. Мальчик, пришедший к хутору зимним вечером, постепенно забывается Бабушкой Третьей, которая несколько лет еще с тревогой вглядывалась вдаль, где бы она не была. На любое обвинение ответила бы просто: мне своих кормить надо было. И ведь права. Дедушка Третий с трудом, но выздоравливает. Возвращается к плотине, но дело идет к перемирию. Их отправляют домой. На хуторе ждут Бабушка Третья и двое детей и те растут так быстро. На глазах меняются.
Сын растет так быстро, думает писатель Лоринков, и ничего с этим не поделаешь. Солист подпевает. Группа называется «Сплин», и солист поет — сын растет так быстро. И песня писателю Лоринкову нравится, ему вообще все нравится в своем времени, какое бы оно не было. И в своем поколении, хоть оно и состоит большей частью, — думает мизантроп Лоринков, — из идиотов и тупиц. Предыдущие были хуже. Лоринков не может улыбки сдержать, когда слышит дрожащий слабый голос несчастного Цоя, выводящего — на убогой сцене, в джинсовой безрукавке и вареных же джинсах, о эта омерзительная мода восьмидесятых, как он, Лоринков, ее ненавидит, — песенку про то, что «дальше действовать будем мы». Кто и как? Лоринков презирает молодежь перестройки, сам он, к счастью, в то время был еще слишком мал для того, чтобы плясать вокруг какого-нибудь Белого дома или трясти кулачонками на концерте какого-нибудь Цоя. Мы ждем перемен. Действовать будем мы. Поколение дворников. Лоринков сплевывает. Никого он так не презирает, как это поколение конформистов. Его поколение, переполненное идиотами и придурками, намного лучше, чище и честнее. Его поколение это поколение варваров, думает Лоринков. Но они честны, прямы душой и говорят то, что думают. И он такой же. Вот, например, женщины. Отчего-то Лоринкову в последнее время хочется все больше и больше каждую из них, хочется мучительно, до сжатых зубов, и это при том, что успехам в постели — причем с законной женой — могло бы позавидовать три поколения сторожей и дворников, горделиво думает он. Как молодые. Странное дело, думает он, как это бывает, если любишь жену, но оглядываешься на всякую женщину моложе пятидесяти, которая проходит мимо. Дорогой, нельзя же проявлять интерес к этому так чрезмерно и часто, говорит жена, польщено поправляя одежду. Помимо этого я гляжу в твой внутренний мир, говорит Лоринков. И что ты там видишь? Бездны.
К тому же, эта кишиневская мода. Вернее, ее отсутствие. В Кишиневе принято одеваться очень откровенно, причем безо всякого умысла, — здесь не редкость мужчина в пляжных шортах и без майки, идущий по центральной улице города, ну, или девушка в шортах, подчеркивающих ее нижнее двоение. С ума сойти. Иностранцы приходят сначала в неистовство, потом понимают, что это не приглашение, затем все-таки принимают приглашение, потом пресыщаются. Лоринков переводит дух. Не слишком ли много я думаю об этом, — думает он об этом снова и снова, — после чего утешает себя: должно быть, все дело в гормонах, явном их переизбытке. Даже лысею. Растут дети. Глядя на них, писатель Лоринков не очень понимает, что происходит. С ним тоже. Фотографирует жену сразу же после родов дочери, и та на снимке удивительно похожа на Скарлетт Йохансон. Жене не говорит. Та не любит Скарлетт Йохансон. Лоринкову нравится фильм «Трудности перевода», в котором эта губастая красавица сидит на подоконнике небоскреба в Токио, и глядит вниз на незнакомый ей город, очень близок этот фильм Лоринкову, путешествующему по Турции, и частенько глядящему из окна на незнакомый ему город. Дорогая, как дети? Женщины улыбаются и проходят мимо, потряхивая головой, как в замедленной съемке. Многие нравятся ему. Многим нравится он. Обилие секса у мужчины без постоянной партнерши — миф. Чаще всего это происходит, если вы живете с одной женщиной. В противном случае это случается максимум раз в три-четыре дня. Лоринкову мало. Он прерывисто вздыхает и прикладывает руку к голове, не горяча ли. Йохансон улыбается. Думая о ней, Лоринков поглаживает свои грудные мышцы, которые накачал в зале, и льет на голову холодную воду, а потом снова горячую, и так до тех пор, пока не подумается о чем-то другом. Жидкое мыло. Лоринков относит все это к проклятущему кризису среднего возраста, который совсем недавно обнаружил у себя без помощи всяких там психоаналитиков. К черту психов. Почти в каждой его книге сидит, — покачиваясь на стульчике, — психотерапевт, душу вынимающий из главного героя, и доктор этот то псих, то убийца, ха-ха. Лоринкову удается практически невозможное в наши дни, пишет далекий московский рецензент. История ради истории. Он не вкладывает свои мысли насчет глобальных вещей в уста своих героев — Лоринков морщится, вспоминая слово «уста», — он не строит избитые конструкции, он не, он да, он не, он да и не… Да, но я больше не пишу. Лоринкову странно воспринимать комплименты книгам, которые он написал давно, это как будто получить наследство от московской тети, которую он не видел уже пятнадцать лет. Быльем поросло. Лоринков читает лестные отзывы, относящиеся к тем его книгам, которые для него — такая же история, как для земли — нефть, превращенная из останков динозавров. Лоринков смазывает руки жидким мылом, и гладит себя всего, потому что терпеть не может мочалки, они ранят кожу. Лоринков больше не пишет. Лоринков — мужчина в кризисе среднего возраста, и боится себе признаться в том, что кризис этот начался примерно в самый разгар его молодости, и, кажется, продлится до самой смерти. Постоянный кризис. Лоринков со стыдом вспоминает деда, — простого, сурового и трудолюбивого офицера, — который бы наверняка не понял всех этих умствований. Он и книги читал такие же. Простые, суровые, справедливые и трудолюбивые. Конечно же, трудолюбивые книги бывают, разве можно иначе назвать том в тысячу с небольшим страниц, из которых пятьсот — только первая часть? Лоринков вздыхает. «Семья Рубанюк», бинокль со сколько-то кратным увеличнием. Планшет, кортик с иероглифами — вроде бы благодарностью самого Великого Кормчего — вот и все, что осталось от деда. Не считая могилы. Лоринков приходит на кладбище, но даже там, — все-таки лето, — ему попадаются навстречу женщины в легких платьях, прилипающих к коленям. Спокойствие. Если остановиться и сделать вид, что поправляешь часы, которых, впрочем, Лоринков никогда не носит, — ну, или лямку на рюкзаке, а это другое дело, тот почти всегда за спиной, — то можно украдкой кинуть взгляд-другой. Женщины улыбаются. Лоринков пользуется успехом, и это не проходит мимо его жены, у которой он также пользуется успехом. Время летит. В юности единицей измерения писатель Лоринков считал сутки, сейчас он буквально просыпается в понедельник утром, и ложится спать в воскресенье вечером. Сын ноет. День рождения послезавтра, говорит он обиженно, это уже ужасно долго, это же целая вечность. Ничего, доживешь. День рождения, удивленно спрашивает Лоринков спустя пару минут, и вспоминает, что да. Четыре года. Сын растет так быстро. Лоринков заходит в тренировочный зал стадиона «Динамо», и с радостью не видит там никого, кроме тренажеров и покосившихся зеркал — «доброе утро», все равно говорит он им, как добрый язычник, — и раздевается по пояс. Хорошо, нет женщин. В последнее время некоторые посетители взяли за моду приводить подружек и жен, и глядеть на них просто невыносимо. Лоринков жмет штангу. Очень многое начинаешь воспринимать по-другому, думает он, когда можешь поднять над собой сто семьдесят килограммов. Ну, а раз так, то подниму — ка я двести, думает Лоринков, и добавляет еще веса. Глубоко дышит, — последние три-четыре раза просто судорожно вздыхает, — и снимает штангу, уже зная, что ничего не получится. Не может. Вчера чересчур много работал с бицепсом и сейчас чувствует, что левая рука немела, и штангу перекосило. Пытается снять. Ничего не получается, и Лоринков, грустно вздохнув, поддается массе, и опускает двести килограммов себе на грудь, после чего рывком правой руки приподнимает гриф, сталкивает его себе на живот, и садится, стараясь не отключиться. В глазах зелень. Это вечная лотерея писателя Лоринкова: жим максимального веса лежа без страховки в пустом зале. Сильно шатает. Не упасть в обморок, думает Лоринков, не упасть в обморок, не упасть в обморок. Думает, падая в обморок. А как же книга, думает он. Если я сейчас упаду, то что будет с книгой, думает он, но не падает, и вовсе не поэтому. Спасает закалка. Зелень в глазах сменила чернота, еле удается выползти, и штанга гремит, упав на пол, но Лоринков этого не слышит, потому что падает со скамьи. К счастью, набок. Лежит немножко. Становится на корточки, выглядит очень смешно, если бы мог себя увидеть, непременно посмеялся бы. Но в глазах темень. Но вот полегчало. Снова становится зелено, а потом он видит зал, просто зал, и себя, и, конечно же, смеется. Садится. Какая книга, спрашивает он себя. Я же писать не начал.
Писатель Лоринков думает о своей книге днем и ночью, он думает о ней во сне, и, просыпаясь из-за лая собак на улицах, не может уснуть до утра, ворочаясь, и думая, конечно же, о книге. Так нельзя. Он понимает, что книга становится им, а он — своей книгой. Он не думает, а придумывает фразы для книги, он не говорит, а оформляет на словах предложения для нее. Словно акты. Все бы ничего, но писатель Лоринков не пишет ни строчки. Зато в Москве выходят сразу три его книги, и рецензент пишет о редкостной свободе писателя Лоринкова, который в это время думает, что дар его оставил. Никогда не угадаешь. Бог дал, Бог взял, успокаивает себя Лоринков, который, конечно же, верит. Лицо дергается. Когда он читает Библию на английском — и делает успехи, обращаясь к словарю все реже, — лицо его становится вдохновенным, словно у пророка. Жена видит. К черту потсмодерн, думает писатель Лоринков, три интервью с которым были напечатаны под заголовками «Я, как и Шекспир, постмодернист», «Я постмодернист в хорошем смысле этого слова» и «Постмодернизм это узкий, но единственный путь». Узкие врата через которые спасемся. Влияние Библии. Я верю в Бога, того Бога, которого мы знали по старинке, думает писатель Лоринков, и для меня это и правда старик с белой бородой, который милует и карает, собирает и отделяет, бьет и кладет в амбар, веет и жнет, сеет и печет, а то, что не годно для муки Господней и хлебов его, бросает в печь неугасимую и в пасти гиен неутолимых и они, грешники несчастные, издают стоны душераздирающие и скрежет зубовный, интересно еще, — думает писатель Лоринков, — что полагается за прелюбодеяние в мыслях. О, Господи.
Бабушка Третья выходит из комнаты на цыпочках, чтобы успеть первой дойти до туалета, где, конечно же, уже закрылся этот кретин из девятой комнаты. Срет, скотина. Бабушка Третья покашливает у дверей, но реакции никакой, только дым из щели вьется, это сосед, как обычно, курит в ожидании, когда его отпустит утренний запор. Пей меньше. Бабушка Третья негодует и отправляется на кухню, чтобы встать у плиты, и приготовить завтрак Дедушке Третьему и детям. По бокам узкого коридора просвечивают щелями двери комнаток, — сопящих, рыгающих, испускающих газы, — и Бабушка Третья слушает эту утреннюю симфонию с ненавистью. Кое где подглядывает. Жилец из третьей комнаты снова елозит по своей Машке, уже два года женаты, а все не натрахаются, с ненавистью думает Бабушка Третья, которую, в общем-то, секс не очень прельщает. Эвон, двоих сделали. Теперь бы хорошо обзавестись разными кроватями, чтобы, как культурные люди — Бабушка Третья слышала, что так делают в Германии, — ложиться спать каждый на своей половине. Половина в коммуналке? Это смешно. Бабушка Третья усмехается и с радостью видит, что кто-то забыл кастрюлю с борщом на плите. Подымает крышку. Собирает слюну и сплевывает, поглядывая на дверь кухни. Сморкается. Оставляет крышку сдвинутой, чтобы было понятно, что с борщом что-то сделали. Злобно шипит в спину соседке, которая шипит в спину ей. Коммуналка просыпается. Хлопают двери, образуется очередь у туалета, и, поскольку проснулись мужчины, запершемуся — во всех смыслах — жильцу девятой комнаты приходится освобождать место. Так и не облегчился. Очередь продвигается медленно. Пашка и Олька ближе к середине, и Бабушка Третья недовольно глядит в жалкую спину пацана, который растет каким-то рохлей. Как заикаться начал, так всего боится. Слава Богу, сейчас болтает без умолку, чем иногда надоедает отцу, а про мать уж не говори. Бабушка Третья варит манку. Губы поджаты. На ней красивый халат, чудесные тапочки, она еще молода, ей нет и тридцати пяти, и говорит о себе «мы, майоры». Дедушку Третьего повысили. Недалек тот день, думает Бабушка Третья, когда я смогу сказать «мы полковники». Она прекрасная жена. Верная, хозяйственная, копейки мимо дома не пронесет, блюдет чистоту, правда, характер у нее очень испортился. Может, все обстановка. Дедушка Третий бреется, чистит зубы, и ласково треплет худенького сына. В меня. Бабушка Третья начинает полнеть, крепкая хохлушка не отказывает себе в удовольствии поесть, но Дедушка Третий относится к этому с пониманием. Из узников лагерей. Правда, они об этом никому в коммуналке воинской части в Сибири не говорят, потому что никаких узников концентрационных лагерей не было, и никаких ветеранов корейской войны тоже. Нас нет. Дедушка Третий иногда думает об этом со смешком перед тем, как заснуть на пружинистой кровати, под сопение сына и тонкое бормотание дочери. Жена недовольна. Она всегда недовольна, ругается со всеми соседями, постоянно в центре коммунальных интриг, и, сдается Дедушке Третьему, иногда даже поплевывает кому-то в борщ. Непорядок. Поцеловав жену на прощание, Дедушка Третий уходит на службу. Уходят все. Остаются женщины с детьми. Потом уходят дети. Остаются женщины. Коммуналка замирает. Словно жены американских первопроходцев из фургонов, глядят они из окон на враждебную природу Сибири, — вернее, на ее снега, — и у них нет виски, и онанизма протестанток, который бы скрасил их вечера. Остаются склоки. Дневные интриги Бабушки Третьей вошли бы в учебник козней византийской знати, если бы такой был когда-нибудь издан. Тончайшая интриганка. Любит приблизить к себе какую-нибудь несчастную жену капитана, — о лейтенантских речи не идет, те должны знать свое место, — и несколько месяцев с ней дружить. Прилипнуть накрепко. Может сделать неожиданный подарок, а как-то даже отдали свою старую мебель семье, с которой дружили, но то было много позже, когда мебель стало уже много. Крепко дружит. Спустя несколько месяцев начинает жрать поедом, о чем судачит весь гарнизон, развлекается она так, что ли? Нарядная, в модном пальто и шляпке, может пройти мимо, даже не поздоровавшись, мы ведь уже подполковники. Но то позже. Пока Дедушка Третий майор, и живет в коммуналке, но в коммуналке живет весь Советский Союз, так что стыдиться тут нечего. Бабушка Третья жаждет угла. После трех лет в Сибири, последовавших за корейской командировкой дедушки Третьего — он рассказывает это Бабушке Третьей шепотом во время прогулки, в коммуналке и рта раскрывать нечего, все подслушивают, — их отправляют в Германию. Уже победителями. Бабушка Третья рада и вовсе не боится столкнуться с печальными воспоминаниями, как опасается Дедушка Третий. Она вообще не такая, как он предполагает. Вернее, она не такая, какой он ее предполагает по мнению окружающих. Бог его знает, что он думает на самом деле. Любит, наверное. Мы, полковники. Это очень важно. Когда Дедушка Третий умрет и внуки будут хоронить его, в доме найдется лишь фотография, на которой он с погонами подполковника и со всеми наградами на мундире. Есть и с полковничьими, но без наград. Значит так, скажет Оленька, — которой стукнет к тому времени уже пятьдесят с лишним, — чтоб непременно пририсовали на памятнике еще звезду, ведь мы полковники. Внуки переглянутся. Хмыкнут. Но звезду на памятнике пририсуют, и Дедушка Третий будет глядеть с памятника в том звании, в котором и ушел от нас. Полковник в отставке. Выслуга пятьдесят восемь лет. Невероятно. Но со всеми северными, военными, ленинградскими и прочими добавками получалось почти шестьдесят лет, и в Кишинев даже приезжал командующий Одесским военным округом, чтобы увидеть этого уникального ветерана. Гвозди. Не люди. Вот то было поколение, думает писатель Лоринков, глядя на могилу сослуживца деда, не то, что это говно в джинсовых безрукавках. «Дальше действовать будем мы». Лоринков кривится. Конечно, этому еще повезло, куда хуже тем, кто дожил до нынешних времен. Ублюдочные рокеры, спившиеся писатели, сумасшедшие музыканты, конформисты, проститутки и лжецы. Нет ничего хуже. Лоринкову кажется, что даже поколение «шестидесятников», которое он ненавидит, потому что так у русских положено — ненавидеть предыдущие поколения, — было лучше этого. То ли дело деды… Бабушка Третья интригует. Ее патологическая лживость и разрастающийся эгоизм невероятным образом меняют ее, а может, она всегда такой и была, просто не могла никому это показать. Когда? Деревня, детство, лагерь, концлагерь, бегство. Жить-то начала в тридцать с небольшим. И как! Ее опасаются самые стервозные гарнизонные жены, потому что самая стервозная гарнизонная жена это она. Ее уважают. Ее расположения ищут. Величественная, оглядывает она офицерскую столовую с места у кассы, на которую устраивается работать, и проработает двадцать с небольшим лет. Образования нет. Когда она могла его получить? Это втайне мучает Бабушку Третью, но приспосабливаемая психика дает подсказку, и она начинает врать, — сначала робко, потом все смелее, — и частая смена мест жительства лишь подбадривает ее. Сегодня там, завтра здесь. Легенды меняются, меняются вузы, в которых она якобы училась, и к концу жизни Бабушка Третья всерьез поверит в то, что она заочно училась в Институте иностранных языков. Будет рассказывать. Дети станут втихомолку смеяться, внуки вообще внимания не обратят, потому что лживость и эгоизм Бабушки Третьей — в отличие от зубов — никуда не денутся, и оттолкнут почти всех. Не беда. Бабушка Третья знает, что всегда можно найти новых людей, и некоторое время быть для них тем, кем ты хочешь быть. Высасывает энергию. В Германии Бабушка Третья становится, наконец, обладательницей своего угла. Двухкомнатная квартира. Семья счастлива. Дедушка Третий, солидный, щегольской, одевается в гражданское в выходные, и выгуливает семью по дорожкам парка, а иногда выходят и в город. Глядит строго. Сын, конечно, должен стать артиллеристом, тут никаких вопросов нет. Бегает с автоматом. Тот, конечно, из дерева, это ППШ, и диск можно засунуть, а можно и вынуть. Сын Пашка — Папа Второй, — фотографируется с приятелями, и у каждого в руках такой автомат. Отряд партизан. Все в черном, потому что цветной одежды для мальчиков легкая промышленность не выпускала, и на голове Папы Второго беретик. На груди медали. Награды настоящие, их Дедушка Третий очень уважает, драит специальной пастой, и внимательно глядит за тем, чтобы мальчишки, — взявшие награды для того, чтобы сфотографироваться, — вернули потом все на место. Дорожит наградами. Папа Второй не такой. Когда вернется из Чернобыля, где несколько месяцев будет глядеть на удивительного цвета пламя — нигде в мире такого цвета нет, и лучше к нему не подходить близко, — отдаст медальку детям. Разрисуют, потеряют. Плевать, махнет рукой Папа Второй. Это всего лишь кружочек металла. Непорядок, товарищ капитан, нахмурится Дедушка Третий. Так точно, товарищ полковник, иронично козырнет Папа Второй. Посмеется. Сестра напишет, что горда братом, который исполняет свой долг на рубежах… Откуда в них это, подумает о двух самых любимых своих людях Папа Второй. Говорят так, словно газету транслируют. Сестра — романтик. Выписывает журналы про путешествия на Крайний Север, ужасно уважает геологов, хочет, чтобы он записался добровольцем на БАМ — и Папа Второй записывается, — любит смотреть передачи с Сенкевичем, а сама из Кишинева не вылазит, и боится предпринять путешествие не то, чтобы в другую республику, а просто замуж. Живет с родителями до старости. Дедушка Третий переживает. Ну, что же поделать. В Германии он за будущее детей еще спокоен, и дает сыну медаль для фотографии, а потом бережно принимает награду обратно, прячет в ящик. Бабушка Третья выбивает чеки. В семье всегда много еды, потому что когда работаешь в столовой, глупо тратить деньги на продукты. Колбасы, масло, рыба, крупы, хлеб. Дедушка Третий ворчит. Но привыкает, потому что это удобно. Свободные деньги кладут на книжку. Много денег. Книжки пухнут, разбухают, семья богатеет: когда наступит 1989 год и рухнет вся система, на книжке Дедушки Третьего будет пятьсот тысяч рублей. Сбережения жизни. Бабушка Третья кивает. Она в соку, она жадна, и за копейку удавит, но жизнь любит и на семью не жалеет. Каждое лето едут на море отдыхать, но путевки получают почти даром, так что деньги все равно кладут на книжку. Дедушка Третий смеется. Он за рулем своего автомобиля, сначала это «Запорожец», потом «Жигули», и трудолюбивый, суровый Дедушка Третий так хорошо ухаживает за машиной, что когда ее продают в 1997 году, она, — после двадцати лет эксплуатации, — выглядит как новенькая. Внутри такая же. За машину семья выручает две тысячи долларов, сумма по тем временам немалая, и Бабушка Третья, рассорившаяся в сто первый раз с семьей, и внуки которой ночуют на вокзале, — потому что им негде жить, — кладет деньги под матрац, к другим деньгам. Да, под матрац. А что еще прикажете с ними делать? Книжки-то отменили.
Бабушка Третья покупает платья. Достает сервизы. Мечтает, чтобы дети умели играть на музыкальных инструментах, и жена майора — для сына подполковника сойдет, милостиво решает Бабушка Третья, не доучившаяся и десяти классов, — приходит к ним три раза в неделю. Вежливая, сойдет. У нее огромная грудь, которую она кладет на голову Папы Второго, пока тот, тоскуя, выбивает что-то на клавишах пианино. Мальчик потеет и задыхается. Грудь тяжелая, мокрая, и пахнет чем-то цветочным, отдыхает она так, что ли? Папа Второй играет. А теперь немножко из Моцарта. Дедушка Третий задумчиво глядит на сиськи майорши, которая стоит за мальчиком, и приходит в себя только, когда жена толкает его локтем. Пианино к черту. Папу Второго учат играть на баяне, и у него получается, так даже лучше, слишком уж это как-то утонченно, пианино, фортепиано, думает Дедушка Третий. Перечитывает Шолохова. Неплохо, но и «Семья Рубанюк» очень даже мощная книга. Бабушка Третья пробивает чеки и несет домой колбасу, она выглядит как хорошая советская буфетчица. Поджимает губы. Очень строга к несунам, всегда строго порицает аморальных людей, судит как самый строгий судья. Ханжа. Губы красит ярко-красной помадой, другой тогда нет, но ей идет, потому что волосы у нее светлые, и когда ее лицо теряет злое выражение, выглядит она очень даже привлекательно. Экономит на всем. Мальчишку отправляют заниматься спортом, и он добивается выдающихся успехов, становится мастером спорта по бегу, пока не получает травму и не уходит из спорта. Много лет спустя. В Германии все только начинается, и Бабушка Третья готовит детям сытный ужин. Берет огромную миску, и льет туда кефир, бросает остатки сметаны, крошит черствую белую булку, льет варенье — она его варит, конечно, и овощи закручивает, так делают все, — и еще чего-то добавляет. Сын ест. Ольга, поджав губы, и что-то это Бабушке Третьей напоминает, есть бурду, — как ты сказала? — отказывается. Не буду есть, кричит. Ах ты сучка, кричит Бабушка Третья. Шипит. Но девчонка достойна матери, так что бурду ест Папа Второй, который недоумевает, чего это женщины ссорятся. Кросс в двадцать километров. После него и не такое съешь. Налопавшись от пуза — по выражению Дедушки Третьего — Папа Второй делает уроки и отправляется играть. Куда, спрашивает его Бабушка Первая со скамейки у подъезда. Ну, играть. Покажи тетрадки. Бабушка Третья берет тетрадь сына, в которой сделано домашнее задание по русскому языку и с очень важным видом — только что она на лавочке рассказывала соседкам, что училась на филологическом факультете в Киеве, когда началась война — черкает. Соседки уважают. Приличная семья, еще и на уроки время остается. Папа Второй в отчаянии. Каждый раз, когда русский язык проверяет мама, он получает «двойку». Ошибки дикие. Недоучившаяся Бабушка Третья до конца жизни так и не научиться правильно говорить и писать по-русски. Внуки убедятся. Спустятся в подвал гаража — который в отличие от «Жигулей», продан не будет, — и увидят банки с вареньями и солениями. «Яблука, 1989 год». «Смародинна, 1996». «Кислае вино, 1988 год». Младший выругается. Вынесут на свет Божий бутыли с прокисшими уже вареньями и закрутками, будут выливать все за мусорными баками, и в воздухе запахнет брагой. Яблука. Дедушка Третий смеется. Бабушка Третья поджимает губы и с каменным лицом отсчитывает сдачу. Как только окружающие начинают понимать, что она не тот, кем хочет казаться, и не тот, кто она есть, приходит пора переезжать. К счастью, это норма. Каждые три-четыре года семья советского офицера переезжает вслед за ним, — как говорится, по кочкам, по кочкам, по маленьким бугрочкам. Сын привык. А вот дочка переживает и каждый раз устраивает истерики, потому что уже привыкла к одноклассникам. Детской психологии еще нет. О стрессе, который переживает ребенок, меняющий школу раз в два года, никто не знает. Дать по заднице. Но дочери уже больше десяти лет, тут простым по заднице не ограничишься. Дедушка Третий внушает. Бабушка Третья щиплется. С дочкой они начинают друг друга ненавидеть, и Папа Второй много десятилетий позже думает, а не было ли здесь ревности, не делили ли они между собой таким незамысловатым образом своего обожаемого мужчину? В смысле, Дедушку Третьего.
Семья копит деньги, семья собирает фарфор, семья одевается просто, и новая вещь это праздник, и ее берегут, как зеницу ока. Даже дочь. В Германии хорошо, и дети постепенно отъедятся, забывается Забайкалье, забывается Сибирь, забывается оборванный мальчишка с окровавленной щекой, вышедший невесть откуда к хутору, и пропавший невесть куда. Самой мало. Бабушка Третья ссорится со всеми женами офицерского гарнизона в Германии. Ей приятно. Она в центре внимания, и за год ей удается совершить невозможное, все соперницы повержены, она авторитет, она блюститель нравов и морали, она скала незыблемая. Дедушка Третий служит. Хорошо стреляет, командует, как следует, и не пьет, а по выходным водит детей гулять в город, с женой под ручку. Так и Лебедь. Тот, когда командует войсками в Тирасполе, каждую субботу выводит жену гулять в парке, и бродит с ней по дорожкам, и женщина, уцепившись за руку мужа, покорна и смирна. Лебедь разобьется. Дедушка Третий упадет на кровать, скошенный очередью американского летчика, который привидится ему в смертной агонии, и дочь крикнет. Папа, дыши! Но он не вздохнет, и все поймут, что это все. Бабушка Третья всплакнет. Любила очень. С другой стороны, Дедушка Третий был последний, кто помнил ее с самого начала, так что теперь руки у нее развязаны. Можно сочинять что угодно. Бабушка Третья, — маленькая, лживая, приятная полная старушка, — заканчивает еще несколько институтов, совершает несколько подвигов на войне, добавляет себе лет двадцать трудового стажа, сочиняет невероятные истории. Семья диву дается. Бабушке Третьей плевать, она с ними со всеми рассорилась, и даже не звонит внукам, чтобы поздравить с днем рождения правнуков. Всегда экономила на подарках. Папа Второй, выросший из худенького пацана в беретике и шортиках и отцовской награде на маечке в большого мужчину с носом Дедушки Третьего и глазами Бабушки Третьей, и двумя рядами своих наград, только диву дается. Старая болтунья. Бабушке Третьей плевать, она увлеченно и самозабвенно врет, и ей самой уже невдомек, что было, а чего не было. Например, близнецы. Бабушка Третья, сидя у праздничного стола, куда ее из приличия все же позвали, утверждает, что у нее были близнецы. Врет, небось. Но дочь, шестидесятилетняя Оленька, говорит, что и правда помнит какого-то ребенка, помнит смутно, что за ребенок, почему? Выдумывает, упрямо говорит Бабушка Третья. Близнец-то нашего Папы Второй родился мертвым, мне его не показали даже, просто сказали, что, мол, двойня и второй умер. Давно это было. Ровно за двадцать лет до того, как я поехала в Ленинград и сдала документы в институт, говорит бабушка Третья, и внуки вздыхает. ИнстИтут. Так она и говорит, а еще утверждает, что училась на факУльтете иностранных язЫков. Взбешенный старший внук пытается поговорить с ней на английском, благо в Штаты едет жить. Да и работает в английской компании, но старушка улыбается и отводит глаза, кто-то бросает что-то по немецки, старушка встает и прощается, кивнув на прощение всем, кроме одной. Невестку ненавидит. Это взаимно.
В Германии семья становится на ноги, и тут приходит известие о том, что приезжает мать Дедушки Третьего, и тот очень рад. Отец в Туркменистане. Сколачивает крепкий и дружный коллектив учителей, которые будут учить дехкан, ошалевших от двадцатилетней войны — революция, Гражданская, раскулачивание, забор призыва на немца, снова гражданская, — всяким премудростям. Писать свое имя. Читать книжки. Повесть о семье Рубанюк, например. Так что мама приедет сама, говорит Дедушка Третий, и Бабушка Третья замирает. Это сильный враг. Если есть кто, перед кем фурия Бабушка Третья склоняет голову, так это мать мужа. Своенравная полячка. Сухонькая, из породы старых большевиков, порывистая. Бросает окурки и слово «товарищ». Сражалась с басмачами. Верит в победу коммунизма, но то разве достижение. Кто в нее не верит… Приезжает поздно вечером, заходит в квартиру, и кивком приветствует внуков. Строит невестку. Та, почуявшая власть, и вкус власти — пусть и такой извращенной, как негласная власть среди офицерских жен, — замыкается. Сноха свирепствует. Она прекрасно видит, что ее сын, блестящий офицер, намного превосходит уровнем эту глупую украинскую клушу, все достоинство которой — большая жопа и необъятные сиськи. Глупая, необразованная. Твой отец — директор школы, твоя мать — учитель и большевик, говорит она присмиревшему Дедушке Третьему, ты сам ленинградский курсант, советский офицер, а эта идиотка не в состоянии имя написать без ошибки. Что же, разводиться? Конечно, нет! Это немыслимо ни для кого, об этом даже речь не идет. Просто мама остается с сыном, чтобы руководить семьей. Раз уж этой клуше повезло захомутать мальчика, пока тот был без присмотра в гарнизоне, то клуше придется жить по принятым в нашей семьей законам. А мы интеллигенция. Бабушка Третья чувствует справедливость некоторых обвинений — она в самом деле не умна, — и трубит отбой. Отступает при оружии. Молча слушает разглагольствования матери Дедушки Третьего, опускает голову, когда сноха швыряет в нее чашки — а сноха швыряет в нее чашки, — терпит презрительное отношение. Плачет ночами. Ей очень жалко себя. Сыну тоже ее жалко, и он — единственное звено, которое как-то мирит двух женщин. Славный мальчишка. Так проходят два года, и подполковник Дедушка Третий получает назначение в Кишинев, где, судя по всему, и закончится его военная карьера. А что же. Спокойное место, и многие офицеры мечтают под конец службы попасть в Молдавскую ССР, чтобы есть дешевые фрукты, растить на участках яблони и пить душистое вино. Лучше, конечно, Тирасполь. Там место еще тише и спокойнее, как раз для пенсионера, и ничто не помешает Дедушке Третьему там глядеть в небо и искать на нем силуэты цапель, а вместо фруктовых садов представлять заболоченные поля Кореи. Не повезло. Распределение происходит в Кишинев, а приказы не обсуждаются, так что семья собирается. Бабушка Третья пакуется. Трясется над каждой чашкой, бережно укутывает все безделушки, фарфоровых телят, слоников, фрау с оголенными коленками, пересчитывает мелочь в копилках. Свекровь брезгливо смотрит. Глупая толстая мещанка, бросает она на польском. Ты толстая воровка, тащишь колбасу из столовой, с неприязнью говорит глазами свекровь, завтракая бутербродом с толстым ломтем колбасы. Чай без сахара. Бабушка Третья глядит в ответ с ненавистью. В опустевшей квартире никого нет, так что можно не притворяться. Толстая курва, говорит глазами пожилая полячка. Ужо я тебе отомщу, говорит глазами Бабушка Третья. Дверь открывается, это Пашка и Оля вернулись. Взгляды потуплены. Свекровь закуривает папиросу — все провоняла своим табачищем — и обнимает детей за плечи. Но родила-то их я, они мои, это моя собственность, говорит согнутая спина Бабушки Третьей, ползающей по полу в поисках какой-то грошовой безделушки. Это собственность моего сына, презрительно отвечает ей скрюченные руки на плечах детей. Ты ничего не понимаешь в воспитании детей, говорит она, облачаясь в плащ, который так похож на платья-туники 20-хх годов. Добавляет — милочка. Много вы понимаете в этом, говорит Бабушка Третья, отправили сына в тринадцать лет в какое-то училище, а сами по Азиям на лошадках скакали. Сын, говорит вопросительно свекровь, подняв брови, и руки ее дрожат. Папироса дымится. Дедушка Третий дает жене по уху. Бабушка Третья плачет. Сын спрашивает: папа, почему мама плачет. Вагон качается, и несется в Союз. Германия остается. Красивая, ухоженная, степенная Германия. Каких-то десять лет и раны зажили. Ну, еще бы. Мы их жалели, они-то нас нет, думала Бабушка Третья, глядя на Дрезден во время экскурсии. Город-то как новенький! И это после такой-то войны.
К счастью, в Кишинев, где семья селится снова в бараке, приезжает муж свекрови, усатый благодушный белорус. Посмеивается. К снохе особой жалости не испытывает, — видит, какова та, — но жену забирает, и они селятся в районе Баюканы, где еще сто лет назад было поле с вишневым садом посреди. Говорят, Пушкин вишни ел, на дуэли. Это, конечно, глупости и бабьи сказки, смеется суровые реалист Дедушка Третий. Родители селятся неподалеку. Сразу за барком начинается большое кукурузное поле. Бабушка Третья переводит дух и оглядывается. Поле шелестит. Сады пестрые. Иногда поднимается жаркий ветер и все будто с ума сходят, а в целом терпимо. Много зелени. Молдавия, шестидесятые.
В солнечном и сытом городе Кишиневе, куда съезжаются все евреи и отставники Советского Союза — и это буквально спустя десятилетие после страшного голода, кто бы мог подумать, — распускаются цветы на клумбах, и на месте бывших оврагов и пыльных свалок появляются зеленые парки. Город цветет. Два предприимчивых одесситов, Моня Кацкий и Сёма Шницкий, приезжают в Кишинев, чтобы немножко попить вина и поговорить с толковыми людьми за банки. Двое налетчиков. 1962 год, и налетчики в Советском Союзе уже редкость, но все-таки случаются, хотя о них не пишет пресса. Сема и Моня. Приятели пьют чудесное вино, по пять копеек за стакан, такого в Одессе, конечно, нет, и закусывают пирожками по три копейки за штуки, пирожки огромные просто. Большие, желтые. Лежат на столах продавщицы от ресторана «Дойна», возведенного буквально за пару месяцев, греют на солнышке масляные бочка. Ай да объедение. Ну, что, поели, попили, Сема? Пора за дело, Моня. Ночью приятели взламывают отделение Сбербанка на Ботанике — это новый и невероятно зеленый район, — и похищают все наличные средства. Есть проблемы. Им пытается помешать сторож, и его приходится стукнуть по голове отмычкой, получатся не очень ровно, и сторож погибает. Убийство это ЧП. В республике, всего несколько лет назад не считавшей умерших на дорогах от голода кулаков, особо тяжким преступлением считается грабеж или изнасилование, а чтобы убийство… Милиция рыщет. Само собой, Моню и Сему, которые решили переждать облаву у одного знакомого в частном доме у железнодорожного вокзала, находят. Отстреливаются. Уходят на несколько кварталов наверх, в новострои, возведенные улице Минской, и забегают в подъезд. Врываются в дом. Ключи тогда в Кишиневе оставляли под мокрыми тряпками, лежавшими у каждой двери, эта штука называлась дверным ковриком. Под ним ключи. Саша, Маша, Сема, деточки, я ухожу на работу во вторую смену, ключи под дверными ковриком, смотрите, никому не открывайте, ужин на столе. Двери не закрывают. Если хозяин в квартире, то зачем закрывать дверь, и кишиневские многоэтажные — в пять, а то и в девять, но то будет позже, — дома приветливо покачивают открытыми дверьми. Сема и Моня. Туда и бегут. Запирают двери и берут в заложников всех, кто находится в квартире, — случай невероятный для тех лет, — захвачена целая семья, отец, мать, и двое маленьких детей. Ну, жиды. Подполковник милиции Иван Сергеев зло сплевывает, но спохватывается — рядом чуть напряженно глядит в сторону старшина милиции Ефраим Копецкий. Тоже еврей. Прошел всю войну как и он, подполковник, тоже с наградами, семью потерял где-то под Оргеевым, поговаривали про не гашенную известь и вагоны и другую чушь. Сергеев извиняется. Громко и твердо. Старшина машет рукой и они, посовещавшись, решают, как освободить семью. Дом эвакуируют. Спецназа нет. Группы «Альфа» нет. Антитеррористических операций нет. Террора нет. Дом номер один по улице Минской — первый многоэтажный дом Ботаники, — стоит пустой, и только в одной квартире звуки. Дети плачут. Старшина, потерявший семью, снимает с пояса пистолет и идет в квартиру, за ним, немного подумав, идет подполковник, тоже без оружия. Два героя. Много лет спустя участники интернет-дискуссии, посвященной переименованию кишиневских улиц, зададутся вопросом, есть ли сейчас в МВД республики подполковники, готовые пойти на освобождение заложников. Чтобы лично? Подполковник Сергеев кивает. Старшина Ефраим улыбается. Мужчины подходят к дверям, и выбивают их, переполох и суматоха. Заложники спасены. Моня и Сема, пытавшиеся скрыться через окно, задержаны и доставлены в кишиневскую тюрьму, ту самую, из которой еще этот фраер Котовский сбежал. Гордиться нечем. Дело рассматривают в самых высших инстанциях, налетчиков и террористов приговаривают к высшей мере наказания. Расстреливают. Что же мы такое натворили, Моня, а, кричит перед смертью Сема, пытаясь разорвать на себе рубашку, но, конечно, у него ничего не получается, потому что руки сзади. Кричит. Я бы рубашку на груди порвал, если бы мог, что же мы такое натворили с тобой, а. Стреляют вместе. Убивали вместе, грабили вместе, значит, в расход пойдут вместе. Казнь происходит ночью, во дворе кишиневской тюрьмы, и перед тем, как погибнуть, блатарь Сема разыгрывает целую комедию. Или трагедию. Это как посмотреть, думает исполняющий обязанности палача, имя которого нам, конечно же, неизвестно. Стреляет в затылок. Сема, качнувшись, чуть взад, плавно уходит носом в землю. Моня икает. Это нервное, говорит кто-то из сопровождающих, и велит налетчику, — отворачивайся, Котовский гребанный. Не может. Приходится его держать двоим, а палачу заходить сзади, но и тут возникает проблема, потому что налетчик Моня отчаянно вертит головой. Это непорядок. Наконец, все это надоедает расстрельной команде, и Моня, — если уж не может отвернуться, — получает пулю в глаз, и еще несколько раз моргает уцелевшим. Тьфу, напасть. Тюрьма напряженно молчит, и хотя казненных осуждают все, в этот момент в камерах крестятся даже те, кто не верят. Собачья смерть. Погибших при освобождении заложников подполковника Сергеева и старшину Ефраима Копецкого хоронят рядышком на Армянском кладбище. Кого хоронят? Дедушка Третий спрашивает это, стоя у оградки могилы матери, которая ушла всего год назад, и вот, настала пора ставить памятник. Ему объясняют. Дедушка Третий, — он в форме, — отдает честь процессии. Бабушка Третья охает и причитает. Папа Второй с сестренкой играют, ловят ящериц в высокой траве Армянского кладбища. Старшину и подполковника хоронят у высокого забора со стороны кинотеатра, на могиле ставят камень с фотографиями мужчин в форме, над камнем две руки, рукопожатие. Красивая могила. Писатель Лоринков любит сидеть рядом с ней, пить белое вино летом, ну, а зимой, конечно, «Кагор» и думать, будто сейчас 1970 год, и за оградой кладбища он увидит старые троллейбусы, увидит трамвай, который не спеша тащится по центру Кишинева, увидит холодильники с пломбиром за пятнадцать копеек, увидит женщин в коротеньких платьицах, которые вошли в Кишиневе в моду после какого-то фильма с Бриджит Бардо, увидит мужчин в широких штанах, шляпах, сдвинутых набок… Много чего представляет. Допивает вино, и всегда оставляет на донышке, и оставшимся плещет на могилу. Промочите горло. Могилу давно уже никто не посещает, и, если бы не Лоринков, она бы уже заросла. Подполковник и старшина. Именами погибших героев называют улицу в Кишиневе. Улица Сергеева-Копецкого. Ничего улица, только стоки часто забиваются. А так — чистенькая.
Полицейский Яблочкин осторожно выглядывает из-за угла дома, он видит, что улица, вроде бы, чистая, но кто их, мятежников, знает. Яблочкин медлит. Русский, он поступает на службу в милицию МССР в 1985 году, он отслужил в армии, у него положительные характеристики, он спортсмен и умница. В 1989 году участвует в охране здания МВД, которое хотят разгромить толпы националистов, и милиции велено сдать оружие. Подчиняется. Трусоватый министр, — будущий президент Воронин, — приказывает не поддаваться на провокации, и почти сотня милиционеров попадает в больницу с переломами, ушибами и сотрясениями мозга. Яблочкину везет. Он отделывается парой синяков. Воронин уходит из МВД по черному ходу, толпа врывается в здание, и провокаторы жгут архивы. Добрые люди, не жгите архивы! Яблочкин, оттесненный с коллегами в сторону, слышит, как кричит это смуглый молдаванин, но его моментально избивают, потому что архивы жгут все. Стучали-то все. Милицейский Яблочкин уходит домой, и спустя два месяца возвращается на службу, смена власти сменой власти, а порядок на улицах нужен. 1991 год. Милицейский Яблочкин становится полицейским Яблочкиным, и получает новую форму, очень похожую на ту, которую носят французские ашаны. Молдавия в обносках. Военным выдают старую форму израильтян, — полиции, вот, досталась французская. Яблочкин служит. В 1992 году начинается гражданская война правого берега Днестра с левым, и Яблочкин получает приказ «в составе вверенного ему подразделения выдвигаться в сторону» мятежного региона, где русские мутят воду. Ну, он выдвигается. В смысле едет на автобусе, глядя на холмы правобережья. И вспоминая разговор с матерью. Сынок, мы же сами русские. Да, мама, но я служу и получил приказ. Бедный парень, вот дерьмо все это, скажет писатель Лоринков много лет позже, — это каким же идиотом нужно быть, чтобы, будучи русским, идти воевать против русских за молдаван. Замолчи, жестко скажет жена. Если армия не исполняет приказ, то какая это армия. Если приказано уничтожить самого себя, парирует Лоринков. Армия это приказы, упрямо говорит жена. Лоринков хмурится. Книга мучает. Полицейский Яблочкин говорит матери — это мой долг, я получил приказ, — и много лет спустя мать повторит это в очередном репортаже, сделанном на молдавским телевидении к очередной годовщине войны 1992 года. Молодой репортер Лоринков. Мать героя. Заплаканная, в черном. Время для тех, кто теряет детей, останавливается, думает Лоринков, он еще ни разу не видел мать или отца, потерявших ребенка, которые бы утешились, пусть и много лет спустя. Вечная рана. Писатель Лоринков тревожно ищет взглядом сына, и, найдя, успокаивается — тот бежит вприпрыжку, гонит перед собой воздушный шар. Пешеходная улица. Имени Яблочкина. Ну, а полицейский Яблочкин едет в Бендеры, и автобус выгружает его. И еще восемь человек, на окраине города. Бардак страшный. Нет карт, нет топлива, очень мало патронов, население озлоблено, потому что захватчики, у которых глаза велики, стреляют раньше, чем думают. Много мародеров. Непорядок, думает полицейский Яблочкин, который непременно пошел бы освобождать заложников голыми руками, а сейчас просто получил приказ. Ловит грабителей. Пять человек, пытавшиеся вынести диван из мебельного магазина под презрительными взглядами местных, остановлены и поставлены к стенке. Выясняют, кто. Оказывается, узнает обескураженный Яблочкин, это наши волонтеры, ну, в смысле, добровольцы. Пришлось отпустить. Наконец, встречают какого-то офицера, и тот объясняет, где штаб. Около тюрьмы, в которой волнуются заключенные, — если тех выпустят, сладко не покажется никому, — так что по зарешеченному зданию не стреляет ни одна сторона. Яблочкину приказывают. Снова выдвигайтесь за тюрьму, и вам следует взять под контроль улицу такую-то, и спустя несколько часов по ней пройдут наши БТРы. Ожесточенная стрельба. Это молдавские волонтеры расстреливают здание бендерского горисполкома, где сидят городские депутаты и представители международных организаций. Это же иностранцы! Насрать на ваших иностранцев, орут, — радостные, — волонтеры, и выпив еще вина, снова стреляют по зданию. Скоро победа! Полицейский Яблочкин хмурится и качает головой, уж больно пустынная она, эта улица. Но приказ есть приказ, так что полицейский Яблочкин выходит из-за угла дома на тротуар, чуть пригнувшись, и начинает медленно идти. За ним выходят его подчиненные, но полицейский Яблочкин еще не знает, что это временно, ведь неправильно, когда русский командует молдаванами. Понизят в звании. Но потом, зачем сейчас расстраивать человека? Подчиненные переглядываются. Полицейский Яблочкин решается. Пошел вперед.
Писатель Лоринков сквернословит. Он в Молдавии, кажется, единственный, кто начал собирать документы и свидетельства гражданской войны 1992 года. Невероятно. Каких-то десять лет назад здесь была война, а сейчас ее как будто бы и не было, и, — с кем не заговоришь об этом, — все отводят глаза и мямлят какую-то херню. Должно быть, думает Лоринков, так же странно все было в середине века, когда в Кишиневе, умиравшем от голода, всего спустя каких-то пять лет, наступило продовольственное изобилие. Дешевая жратва. Вино за несколько копеек, чистенькие улочки, гуляй до утра, никакой уличной преступности, дешевые плацинды, фрукты, солнце, ослепительно белые бордюры тротуаров. Писатель Лоринков помнит, как околачивала пороги всех молдавских газет вдова героя войны 1992 года, какого-то артиллерийского полковника, погибшего в Бендерах. Семья бедствует. Нет денег ни на что, и мы просим хотя бы устроить девочку на бесплатное место в вузе, лепетала несчастная женщина, ошеломленная тем, как быстро Бог смял ее судьбу и ее семью. Словно пьяница пивную банку. Был 1994 год. Наверное, думает, Лоринков, потерять мужа в некотором смысле — потерять ребенка. Конечно, не помогли. Много разговоров о самопожертвовании и никакой помощи. А полковник Карасев, вспоминает писатель Лоринков, и сквернословит еще громче, — тот самый, который тоже получил приказ и остался наедине с русскими танками, и сотня молдаван, которыми он командовал, побежала, остались пару человек. Русский полковник Карасев получает приказ и отстреливается от русских танков, преданный молдавскими солдатами, пока не получает страшнейшую контузию. Умирает. Чистейший идиотизм. Где улица Карасева? А еще десятки и сотни других? Идите на хер со своими приказами, говорит писатель Лоринков, утритесь своим сраным патриотизмом, придурки. Ради чего все эти смерти? Чтобы какой-нибудь кишиневский придурок смог поехать в Тирасполь и размахивать там румынским флагом в кафе? Нация посетителей баров. Лоринков в бешенстве. Сквернословит. Ненавижу Молдавию сраную.
Полицейский Яблочкин терпимо относится к Молдавии. Ну, раз уж здесь, так здесь. Он тяжело дышит, хотя идет прогулочным шагом, и на нем нет бронежилета. Страх давит. Подчиненные его тоже вспотели, пройдена половина улицы, и пока все в порядке, но стрельба в центре города все громче, и кто-то предполагает. Взяли горисполком. Яблочкин тоже так полагает, и ему становится немного легче. Чуть опускает оружие. В этот момент раздается свист и отряд не успевает даже лечь, что не имело бы абсолютно никакого смысла. Расстреляны со всех сторон. Бойцы сопротивления были в домах по обеим сторонам улицы. Полицейский Яблочкин умирает сразу. Не понял, что случилось. Даже выстрелить не успел. Побил все рекорды присутствия на войне. Он и его подчиненные. Лежат в смешной форме ашанов, у одного рука еще дергается. Стреляют в голову. Тела потом отвезут за город, чтобы скинуть в общую яму, где хоронят и тех и других, некогда разбираться, лето, и трупы за день вздуваются. Герой Яблочкин. Его именем назовут улицу в Кишиневе. Пешеходную.
У горисполкома появляется несколько танков. Это русские офицеры из 14-й армии нарушают приказ о нейтралитете и покидают часть. Многие гибнут. Приказом министра обороны Российской Федерации все они уволены из армии за два дня до случившегося. Задним числом. Хоронят, как героев. Называют их именами улицы. Ставят танк, и перед ним всегда горит лампадка. Ну, эти хоть умирали за себя, говорит Лоринков, но глаза все равно щиплет. Горисполком ликует, и иностранные наблюдатели, наконец, вылезают из подвала, где лежали почти сутки, сжав голову и в ужасе ожидая, когда здание возьмут штурмом и их всех вырежут. Улетают в тот же день. Пишут сдержанные отчеты, и пораженное Приднестровье читает многостраничные отчеты, где ничего не говорится о мирных жертвах и о том, кто напал. Лоринков улыбается и сквернословит. Полицейский Яблочкин кивает. Президент Молдавии Снегур спрашивает у советника, есть ли у них русские герои, а то общественное мнение его задолбало уже обвинениями в русофобии и шовинизме. Неудивительно. Ведь он русофоб и шовинист. Советник исчезает на пару часов, а потом появляется с досье полицейского Яблочкина, и президент Снегур думает, как наградить героя. Ордена жалко. Давай назовем его именем улицу, предлагает он советнику Мокану. Тот говорит, а чего. Поплоше, да поменьше. Подписывают бумаги. Улица Яблочкина это пешеходный переулок длиной пятьдесят метров, и шириной три. Вот она, награда благодарной страны. Смех и грех, думает Лоринков. Патриотизм траханный, сплевывает Лоринков. Он, в отличие от своих соотечественников, короткой памятью не страдает. Да, злопамятный. Хотя 1992 год вспоминать не любит. Был патриотом. К счастью, поумнел. Зовет сына, тот берет за руку. Ну что, в «Макдональдс»? Уходят с улицы. С улицы имени Яблочкина.
Долина Роз пустует и в ней живут собаки. В Долине Роз нет ни одной розы. Единственное, чему соответствует Долина Роз в своем названии — это долина, а которой находится Долина Роз. Собаки лают. Их здесь невероятно много и ответственный за район Ботанику, подполковник милиции Сергеев, — за два года до своей геройской гибели, — дает приказ подчиненным перестрелять собак, которые обнаглели и бросаются на людей, а ведь здесь будет центр района. Собак изводят. Выстрелы гремят несколько дней, заодно уже избавились и от парочки притонов, расположенных по краям долины. Комсомольцы стекаются в Долину. Молодой комсомольский деятель, Петр Лучинский, говорит речь. На месте этой грязной и пыльной долины, товарищи, говорит он, потрясая кулаком, возникнет сад, как знак, как символ, и толпа аплодирует. Начинают работать. За несколько дней на дне долины вырыты три озера, между ними насыпаны перешейки, и каждый из них обложен бетонными плитами. Растут деревья. Появляются клумбы, цветы, много цветов, возникает розовая плантация на конце парка, и в озерах появляется вода. Плывут лодки. Дети радостно шумят, прыгая в воде с кругами, спортсмены бегут кроссы между тремя озерами долины Роз — среди лидеров несется, тяжело дыша, Папа Второй, — и постепенно Долина зеленеет. Становится настоящей Долиной Роз. Аромат с ума сводит. Парочки целуются до утра, и в парке устанавливают множество фонарей, чтоб не было озорства и насилия. Милиция на лошадях. Все без оружия, одного вида милиционера достаточно для восстановления порядка. На третьем озере, что ближе к центру, строят ресторан. Там работает Бабушка Третья. Иногда Папа Второй прибегает к ней, когда занятия проходят в Долине Роз, и обедает. Творог, сметана, варенье, куски хлеба, и все прочее. Зато сытно. Бабушка Третья и тут работает на кассе. По вечерам сын ждет ее, а она пересчитывает дневную выручку, запирает в сейфе, гасит в ресторане свет, и они уходят, абсолютно спокойные. Полная безопасность. Кишинев — город, где происходит меньше всего преступлений. Годы, когда в Долине Роз станут срывать до пятидесяти золотых цепочек, и грабить до десяти человек в день, еще впереди. Значит, их нет. Папа Второй провожает Бабушку Третью до дома каждый вечер, Папа Второй покупает со своего первого заработка — ему шестнадцать лет и он работал в строительной бригаде — подарок Бабушке Третьей и отдает ей оставшиеся деньги. Умница, сын. Бабушка Третья несет домой колбасу, сметану, сыр, и мясо. Покупают только хлеб. Дедушка Третий дослуживает и получает назначение на военную кафедру Политехнического университета. Возглавляет ее. В ту пору завидное место. Дедушка Третий щегольски одет, Дедушка Третий водит желтые «Жигули», и лишь иногда с тревогой спрашивает себя, не слишком ли жестоко относится к детям Бабушка Третья. Та доминирует. Может устроить истерику по любому поводу. Мы полковники, говорит она. Дедушка Третий посмеивается, и пользуется успехом у дам. Отвечает ли он им взаимностью? Если и да, то делает это настолько тактично и незаметно, что данных об этом не содержит и национальный архив Конгресса США, где, как известно, есть все. Дедушка Третий — полковник. К местным относится дружелюбно, чуть свысока, каждый пусть будет на своем месте, а его место, — полковника Дедушки Третьего, главы военной кафедры самого престижного вуза МССР, — довольно высоко. Небрежно кивает. Каждое лето возит семью на море, и под Одессой они покупают большой мягкий хлеб, который, если его сжать, сам распрямляется в считанные секунды. Ай да одесситы. Дедушка Третий восхищенно присвистывает и везет семью к морю. Путевки, лагеря, отдых, снимок на фоне разрисованной фанерки, где можно сунуть голову в дыру на месте лица дельфина или морского царя Посейдона, и улыбнуться. Сын улыбается. Папа Второй ужасно тощий, это страшно беспокоит Бабушку Третью, которая стремительно набирает килограммы, и, в полном соответствии с особенностями своего склочного характера, решает, что это не она толстая, а все вокруг худые. Третирует дочь. Олька не хочет объедаться, девчонка как раз зреет, с тревогой думает Дедушка Третий, тут бы не переборщить. Бабушке Третьей плевать. Может посмотреть письмо, залезть в трусы, не оставляет детей в покое ни на минуту, всегда рядом, всегда лезет с расспросами, никогда не оставит дома одних, тотальный контроль. Разожралась и хочет, чтобы все вокруг были такими. Пичкает Ольку. Та нервничает и орет на мать, боится потолстеть, потому что влюбилась в какого-то мальчика, хочет быстро стройной. Молодец, дочь. Дедушка Третий тайком треплет девчонку по плечу, и та чувствует, как слезы подступают в горлу. Папа, неужели ты не видишь? Мама превратила нашу жизнь в ад. Конечно, этого она не говорит, папа бы сразу врезал за такие гадости, поэтому девочка замыкается в себе. Зреет. Вырастит, отомстит, что же, я буду ждать, говорит красавица-актриса Ума Турман про маленькую негритянку, чью маму она только что забила насмерть в эпизоде фильма про какого-то Билла, и писатель Лоринков, пришедший отдохнуть от себя, мыслей, и семьи в кинотеатр, фыркает на первом ряду. Близорукий. Глаза слезятся и Лоринков трет их, после чего вновь глядит на экран. Ума стройненькая. Бабушка Третья боится вставать на весы, потому что она женщина в соку и теле. «Вишниа в сваем саку, 1965». В том-то и дело, что Дедушке Третьему такие нравятся, ведь в годы его юности тощеньких не очень-то и привечали. Все в порядке, дорогая. Дедушка Третий приносит домой подсолнухи, это его с Бабушкой Третьей пароль. Необычно. Бабушка Третья тоже очень любит подсолнухи, так что Дедушка Третий приносит их, и ставит в вазу на кухне, и это вроде как их тайный шифр. Невероятно. Цветы-то в Молдавии принято дарить в целлофановой обертке до начала 21 века, и на писателя Лоринкова, который любит купить розы, отказавшись от обертки — вам что, не заворачивать, — и принести их домой, сжимая влажные, колючие стебли, поглядывают с недоумением. В остальном Дедушка Третий консерватор. Единственная причуда, которую он себе позволяет, это статьи о Северной Корее, которые он вырезает и сует в специальную папку, и после его смерти Папа Второй найдет ее и удивленно покрутит пальцем у виска. Бабушка Третья в ударе. Семья получает квартиру в новом доме в девять этажей — небоскреб, — в новом районе Баюканы. Идеально чистый. Есть кинотеатр, магазины, поликлиника, парк, рядом троллейбусная остановка. Три комнаты. Одну немедленно оккупирует несносная Ольга, которой уже 15 лет, и которая много о себе воображает, сучка. Девчонка радуется. Глядит на свою комнатку, — настоящие хоромы, — и думает, куда поставить книги, где будет хранить дневник. Главное, не обживаться. Я здесь ненадолго, думает девочка, глядя на стадион и школу, которые видны из ее окна. До университета и замужества. Если еще раньше не уеду, на какую-нибудь социалистическую стройку. В тайгу! А то и на Кубу! Стало быть, я здесь еще на пару лет, думает Оля, которая и правда закончит университет, а потом устроится в институт планирования народного хозяйства и встретит сорокалетие, глядя из окна на стадион и школу. Никогда не угадаешь. Об этом она подумает еще раз, когда бросит все в 1992 году и подастся в Москву, — пятидесятилетней, — а ведь уже думалось, что стадион и школу я буду видеть до самой своей смерти. Дедушка Третий умрет много позже. Сейчас он в самом расцвете, и лишь сны о бомбежках иногда выбивают его из колеи. Вдохновенно преподает. Студенты его любят, на полках у него куча книг по истории артиллерии: пушки, мортиры, гаубицы, фальконеты, зенитная артиллерия, митральезы, фауст, ракеты, новые ракетные войска, — он и правда любит все это дело. Энтузиаст войны. Сын поглядывает иногда на эти полки с усмешкой, но когда настанет час, и он наденет на себя форму артиллерийского офицера, верит Дедушка Третий. Еще чего, думает Бабушка Третья. Все чтоб были рядом, под контролем. Будут счастливы, будут жить с мамочкой, станут отдавать мне зарплату, столоваться у меня, а денежки их я буду класть на книжку, станут миллионерами, отблагодарят. Низкая мещанка. Оленька не сомневается в том, кто ее мать, и та буквально душит дочь, уничтожает ее. Позорит ужасными манерами. Скверным русским языком. Нелюбовью к чтению. Манерами базарной торговки. Бесцеремонностью. Папа, папа, неужели ты не видишь, что женщина, которую ты любишь, превратила нашу жизнь в ад? Папа не видит. Дедушка Третий любит жену, он несет ее на себе как могучее дерево — лиану. Бабушка Третья это чует, поэтому свое место в отношениях с мужем знает. Не то с детьми. Лиана для них не украшение, а смерть. Она их калечит. Бабушка Третья и калечит. На всю жизнь. Ничего, лишь бы мамочку любили и зарплату на книжку клали. Со временем родительские привычки побеждают любые благие намерения, и Ольга становится прижимистой, как мать, стервозной, как мать, сволочной, как мать. Брат сокрушается. Замуж ей нужно, говорит Папа Второй, сбежавший от родительской опеки, но Бабушке Третьей женихи дочери не нравятся. Тот не так вилку держит, этот из простых, а мы полковники, этот — молдаванин, а мы — русские, сухо роняет хохлушка-Бабушка Третья, а вот этому явно нужны все наши богатства, мы же состоятельные! Прочь, все прочь. Дочка живет с родителями, отвоевывает комнату у Бабушки Третьей, в смысле, ставит защелку. В тридцать-то лет. Дедушка Третий выходит на пенсию и напевает песенки Утесова. Собирает статьи о Северной Корее. Бабушка Третья копит. Сыну Пашке рвет ногу на соревнованиях, специально наступают шиповкой на ахиллесово сухожилие, — страшная рана дает о себе знать десятилетия спустя, он чуть прихрамывает, — и мальчишка увлекается парашютный спортом. Орел, сын. Дочь глядит из окна на стадион, где по утрам бегают пенсионеры. Прямо под окном еще растет деревце. Абрикос. Кто бы мог подумать. Абрикос и прямо на улице, подумать только. Молдавия.
Бабушка Третья утирает слезы на могиле матери Дедушки Третьего. Покойся с миром. Место главной самки в стае освободилось, и, естественно, занимает его она. Бабушка Третья. В аккуратном платьице, с бусами, золотыми кольцами, очень похожая на свинку из мультфильма, она держит мужа за руку и тот пожимает ей пальцы. Дети плачут. Собралось много народу, потому что Дедушка Третий человек важный, а молдаване очень тонко чувствуют, кому стоит приносить соболезнования, а о ком можно забыть. О Дедушке Третьем не забудешь. У всех нас есть дети и многие из них будут учиться в Политехническом университете. Дедушка Третий горюет. Стоя у гроба матери, заваленного цветами, он поднимает вверх лицо без слез и в этот момент собрание фотографирует приглашенный мастер ателье. Старый еврей. Торговля и уличная фотография в Кишиневе 60-хх это еврейский бизнес. Еще они занимаются строительством, но слишком уж проворовались, был громкий процесс, 31 человек арестован. Пусть фотографируют. Дедушка Третий не позирует. Глаза его сухи, потому что он мужчина, и мать, старый большевик, его бы одобрила. Цветов много, гроб завален буквально, и Дедушка Третий — примерный сын матери, но не отца, — стоит еще немного. Играет оркестр, Бабушка Третья все чаще поджимает губы, это уже привычка. Мать Дедушки Третьего глядит из гроба очень строго, и Бабушка Третья боится повернуться к покойнице спиной, а то вдруг еще чашку бросит! Вдовец улыбается. Дедушка Третий неодобрительно хмурится, глядя на отца, а тому все нипочем. Блаженный. Усы совсем как у Буденного, и Дедушке Третьему это кажется вызывающим. Как и многое другое. Например, развод. Конечно, разошлись они неофициально, но последние два года жизни матери она не была с отцом, знает Дедушка Третий. Поколение революции. Им что сойтись, что разойтись… Собачьи свадьбы. Это все идиоты типа Троцкого, который, вместо того, чтобы заниматься делом, нес ахинею о свободном браке. Хорошо, Сталин нашелся на вас. Дедушка Третий слегка кивает, и гроб поднимают, ставят в грузовик, детям лучше на кладбище не ехать. Но разве Бабушка Третья упустит возможность выжать из этого волнующего события максимум дивидендов? Обнимает деток. Всхлипывает, бормочет про горе, про осиротение. Дочь собирает плечи, сын глядит на дедовы усы, и еле сдерживается, чтобы не улыбнуться. Папа Второй обожал деда, а дед обожал Папу Второго. Часто мальчишка сбегал из дому — ну, вроде как гулять, — и шел к деду домой, и сидел, и часами глядел, как тот плетет корзины. Дедушка Третий бесился. Папа, кричал он в ярости, почему вы меня позорите?! Почему вы, пенсионер, на восьмидесятом году жизни решили плести корзины, жить в частном доме, как какой-то крестьянин, да еще и с этой женщиной?! Отец женился снова. Приятная вдова семидесяти пяти лет, с полным задом, и дед подмигивал внуку, когда зад проносился мимо, и вдова ставила на столик во дворе фрукты для мальчишки. Папа Второй смеялся. Очень любил деда. Папа, почему вы предали память вашей супруги, моей матери, спрашивал сурово Дедушка Третий. Почему вы, как и все порядочные люди на пенсии, не сидите дома, не играете в домино на улице по вечерам, не живете у меня, наконец? С твоей-то женой, смеялся отец. Дедушка Третий бесился. Бабушка Третья поджимала губы. Она с удовольствием бы приняла отца мужа, чтобы сожрать его с потрохами, чтобы отомстить, наконец, всему миру. Почему вы предали память мамы, отец? Молчи, щенок, говорил дедушка Папы Второго, мать твоя была женщиной жесткой, суровой, непреклонной, вот мне и захотелось чего-то мягкого, ласкового и послушного. Улыбался. Плел корзины. Дедушка, дедушка, плачет иногда по сне Папа Второй, хотя он уже сам дедушка. Дедушка, покажи корзину. Дедушка показывал корзину. Каким-то невероятным образом Дедушке Третьему удается сломать сопротивление отца и перетащить его к себе, в квартиру на этаж. Вдова обижена. Дом с фруктовыми деревьями во дворе, где лежало бревно, на котором большой и крепкий старик сидел, да плел корзины, да улыбался чему-то, — остается без мужчины. Бабушка Третья счастлива. Она превращает в ад и жизнь старика, мечет ему в лицо чашки, шипит в спину, унижает, оскорбляет, строит оскорбленную невинность, в общем, Братец Кролик оказался в терновом кустарнике. Старик не выдерживает, сплевывает, и мирится с вдовой. Женится на ней в ЗАГСе. Дедушка Третий оскорбленно решает никогда больше не говорить с отцом. Папа Второй бегает к старику тайком. Дедушка, расскажи про дружбу народов, спрашивал Папа Второй, которому Дедушка Третий часто рассказывает про интернационализм и братство. Старик смеялся. Приезжаю я в Туркменистан, говорит он, открываю школу для детей басмачей, и еду на рынок. А там конники пеших хлещут. Конники это туркмены, а пешие — казахи. Такая дружба народов, внучок. Дедушка. А про войну. Старик, призванный в 1942 году, и три раза встававший в атаку, молча плетет корзину. Про войну, напоминает Папа Второй. На войне стреляют, — вот и все, что говорит старик, и приосанивается, когда выросший Папа Второй привозит на показ ему своего сына, первенца. Фотографируется. Отец, говорит ему Дедушка Третий, пришедший тайком для серьезного разговора — он обожает серьезные мужские разговоры, желательно суровые, — что вы себе позволяете? Я хочу жить, коротко отвечает старик. Сказал и живет. До девяноста семи лет, крепкий, здоровый, все зубы на месте, в обед выпивает стаканчик вина, работает в удовольствие, возится в земле, с вдовой спит ночь через три, а что, в их возрасте совсем неплохо, а? Старик умирает, и его хоронит Папа Второй, уже капитан артиллерии, — приезжает ради этого специально из Белоруссии, где в то время служит. А вдова? Оказывается, умирает и жена дедушки, та самая вдова, — спустя два дня после смерти мужа, — так что Папа Второй хоронит уже двоих. Без оркестра, митинга и пришедших. Из живых, кроме могильщиков, на кладбище он один. Крепко выпивает. Сидит на скамеечке в ногах у покойников, усталый. Ждет вечернего поезда, к родителям идти не хочет. На воздухе хорошо. Все цветет, май месяц уже. Кладбище новое. Называется «Дойна».
Лоринков просит таксиста не останавливаться по Армянской, хотя заказывал машину именно туда, и выходит из такси лишь на пересечении улиц Штефана Великого и Гоголя, становится под большим каштаном, и замирает, потому что хочет сыграть в одну игру. Штефана — главная. Самый широкий, чистый и большой проспект города. Гоголя поменьше. Одна из самых главных второстепенных улиц, она примыкает к улице Штефана цветочным рынком, где по ночам светятся в палатках с дрожащими летом от теплого воздуха огоньками лампадки. Рядом собор. Главный кафедральный собор Молдавии, с высоты птичьего полета выглядит как крест, все этим гордятся, хотя почти никто не видел Кафедральный Собор с высоты птичьего полета. Ну, кроме птиц. Строил Бернардации. Похоронен там же. Слух о том, что закопают на Армянском кладбище, пустил сам же архитектор, потому что жил в Бессарабии достаточно давно для того, чтобы все понять о местных жителях, — все они сумасшедшие. Боялся смерти. Боялся быть закопанным заживо, и, как и Гоголь, просил перерезать ему вены, перед тем, как положить в гроб. Не перерезали. Очнувшись ночью глубоко под землей, в склепе под кафедральным собором, Бернардацци от обиды аж завыл, ну неужели так трудно выполнить волю покойного, — и от огорчения получил удар, который его за два часа и прикончил. Навсегда. Над Кафедральным собором кружат голуби, здесь всегда много мамаш с детьми, кормят птиц. По утрам нищие. Лоринков стоит, прислонившись к каштану, и чувствует, как сливается с деревом, как ноги врастают в потрескавшийся асфальт — город приходит в негодность, сквозь стены прорываются лианы, плесень побеждает крыши, машины ломаются, тротуары мельчатся, крошатся, и вот-вот пойдет столетний дождь, — как дерево делится с ним своей корой, своими соками, которые вытаскивает на последнем издыхании из оскудевшей молдавской почвы. Глядит в небо. Одет щегольски. Жена постаралась, ей все больше нравится одевать мужа, который выглядит все лучше благодаря занятиям в зале, а о своей лотерее с неподъемным весом писатель Лоринков старается ей не рассказывать. А если бы и рассказал. Игра увлекательная. Лоринков читает о ней в журнале про кино, рассматривая фотографии актера Бодрова, который это интервью и давал. За полгода до. Есть такая игра, говорит актер Бодров, называется «меня нет», — нужно встать где-то на углу оживленной улицы и стоять несколько часов, представляя, что тебя нет, и постепенно ты в самом деле исчезаешь, а люди все идут и идут, кадры мелькают, картинка меняется, а тебя нет, и ты понимаешь, что тебя не будет. А всё будет. Вот так вот, говорит актер Бодров, которого очень скоро не будет, и писатель Лоринков, читая про поиски сына отцом Бодровым, чувствует, как щиплет у него в глазах. Ну, и? Ну и все. Интервьюер благодарит, актер пожимает плечами и руку, и уезжает куда-то на Кавказ, снимать очередной фильм. Погибает в лавине. Писатель Лоринков, лежа на диване в комнате своей любимой девушки Ирины, — много позже ставшей его любимой женой Ириной, — просит ее включить радио. Диктор неистовствует. С пафосом, как на молодежных радиостанциях принято, рассказывает он о том, что вчера в горах Кавказа произошел обвал, и погибла целая долина людей, а вместе с ней и лицо нашего поколения, наш Данила Богров, наш актер Бодров, давайте послушаем песню, ребята. Давайте. Звучит музыка, это певица Земфира в истерике бьется, перепевая «Кукушку» Виктора Цоя. Где же ты, кукушка? Сколько нам еще осталось? Ну и все в таком духе. Ла-ла-лай-ла-ла-ла-ла… магнитофон еще кассетный, но они уже выходят из употребления. Позже они купят ДВД-проигрыватель, но и он безнадежно устареет, пока они будут везти его из магазина — по улице Штефана Великого, — до дома. Останется ноутбук. Но это десять лет спустя, а то и пятнадцать. А сейчас «Кукушка». Ирина притихла. Лоринков гладит ее по спине, и переворачивает на спину же. Жизнь продолжается.
Писатель Лоринков стоит под каштаном, который на Рождество украшают лампочками, они мигают, и переливаются, что создает иллюзию хорошего городского освещения. Фонари темные. Писатель Лоринков стоит и глядит на то, как едут машины — туда-сюда, — как идут мимо него люди, и думает о том, что его уже нет. Меня нет, меня нет. Я никто, меня не зовут никак, я никто, я никак, никак никтотович, меня нет. Несуществующий писатель Лоринков так сливается с деревом, что его уже и не видно, и морщины на лице словно кора, и только ярко-желтая майка выдает его. Времени нет. Писатель Лоринков стоит у обочины пыльного шляха, по которому идут парни из Костромы, крепкие крестьяне, и мундиры у них странные, середина 19 века, все же. Русские войска. Идут освобождать Болгарию, думает Лоринков и ищет взглядом в колонне худого, нервного поручика, которого однополчане дразнят Тощим Тигром. Он здесь. Лев Толстой останавливается в домике, который находится на другом от Лоринкова конце этого пыльного шляха, домик простой, из глины, в нем всегда прохладно, и поручик Толстой собирает добровольцев со всей Бессарабии, пока регулярные войска идут в Болгарию. Спит мало. Домик сохранился до сих пор, это теперь параллельная Штефана улица, бывшая «Искра», и на домике висит потрескавшаяся табличка, из надписи на которой решительно ничего нельзя понять, кроме того, что «Лев Толстой…». Наверху бюст. Лев Толстой глядит на город задумчиво, и слегка отстранено, не такие глаза у него были, когда он шастал по Кишиневу за черноногими молдаванками. Ханжа! То ли дело Пушкин, тот весь, как на ладони, настоящий бессарабский характер у человека был, шепчутся меланхоличные молдаване. Хотя ругают. Ну, зачем вы, Александр Сергеевич, написали это «проклятый город Кишинев, тебя я ненавижу…». Писатели все такие. Писатель Лоринков вздыхает и согласно кивает, писатели такие, с ними не разберешь, тебе кажется, что ты угодил, а им все не то, все не так, на мир они глядят сквозь искривленные линзы, это и дает им возможность писать книги. Зато лишает объективного взгляда. Пенсионер Савостин не согласен. В местной газете он, представитель Общества русских писателей Бессарабии — и Лоринков с удивлением находит в списке фамилий общества сто сорок две фамилии, мать вашу, это же сколько коллег у меня, оказывается, а еще Лоринков с негодованием не находит там фамилии Пушкина, мать вашу, это же единственный мой здешний коллега, — пишет про то, что Пушкин был реалист. Стал в Бессарабии. Неудивительно, думает писатель Лоринков, глядя от каштана на проспект Штефана, неудивительно, Бессарабия обладает удивительной особенностью окунать в реальность, будто топить щенка. Моментально. Люди снуют. Колонна исчезает где-то там, в нескольких километрах, где есть поворот на восток. Обоз догоняет. Лоринков вздрагивает от свиста, это трамвай несется, — трамвай на конной тяге, — его привезло в Кишинев бельгийское акционерное общество, и ярко-синий вагончик поначалу привлекает внимание всего Кишинева. Весьма отрадно. Количество пассажиров вагона достигает пятидесяти, двадцать мест сидячие, стоять на нижней площадке во время движения транспортного средства воспрещается. Есть вожатый. Позже конная тяга сменяется электрической, и вагончик перемещают парой кварталов вниз, и он становится первым экспонатом музей транспорта Кишинева. Встал навеки. До конца 20 века в нем выпивает молодежь, стараясь не шуметь и не встревожить жильцов дома, во дворе которого этот музей под открытым небом. И Лоринков причастится. Ты невероятно мил, напишет ему какая-то девушка, рядом с которой он в один вечер посидит несколько часов, сжимая между колен бутылку вина. Оставьте меня. Писатель Лоринков в эти годы много пьет, ему кажется иногда, что кто-то всунул в его куклу вуду губку, и губка эта неутолима. Подчинимся судьбе. Сейчас, спортивный, и трезвый, он стоит под каштаном, и смотрит пристально в окна проезжающего мимо автобуса, нет ли там уставшего человека с потупленным взглядом — его самого десятилетней давности? Троллейбусы громыхают. Это старая модель, шестидесятых годов, и писатель Лоринков видит, как к остановке у «Детского мира» бегут, подпрыгивая, двое парней в брюках клеш. Смеются, кричат. За ними несется ватага человек в двадцать, и они вот-вот нагонят жертв. Троллейбус останавливается и двери распахиваются, парни с дипломатами прыгают на ступеньки. Двери захлопываются, когда преследователи нагоняют, и пытаются ворваться в троллейбус. Парни спихивают противника ногами на асфальт, двери все же закрываются, и троллейбус едет дальше, писатель Лоринков видит смеющиеся лица. В дипломатах портвейн. Это Папа Второй и его школьный приятель — десятый класс, можно и повеселиться, — рискнули выбраться в центр города, что для ребят с Баюкан было поступком рисковым. Дворовые разборки. Правда, в шестидесятых годах они были чреваты лишь разбитыми носами, потирает Лоринков висок со шрамом, прочерченным разбитым горлышком бутылки во время разборок девяностых годов. Машины мельтешат. Напротив Лоринкова глядит на проспект имени себя памятник Штефана Великого, и на голове Господаря заплетены косы по тогдашней моде Валахии, интересно, он тоже застыл, чтобы поиграть в «меня нет», думает Лоринков. Светофор горит зеленым. Машины трогаются и Лоринков видит сотни и тысячи голодных людей, приползших в Кишинев умирать со всей республики в конце сороковых годов, они лежат под стенами правительственных домов, и их собирают на тележки, а кто может идти, тех прогоняет милиция. Люди молчат. Обычно близорукий Лоринков видит их глаза — особенно детей — так хорошо, будто стоит напротив каждого из них, и ему становится плохо. Жмурится. Открывает глаза и в них уже брызжет солнце, по улицам идут счастливые, довольные, сытые люди. Плацинды по три копейки. Стакан вина — пять. Вино отличное, сам товарищ Брежнев позже закажет себе большую партию бутылок. Папа Второй в курсе. На студенческой практике он устроится на винный завод, и в полной мере познает, что значит «беситься с жиру». Пьют до смерти. Кто-то и правда до смерти, и одного из парней находят плавающим лицом вниз в огромной емкости вина, славная смерть. Пьют еще больше. Уборка фруктов. Сбор винограда. Томатов. Персиков. Республика ест, сочится соком, ковыряется в зубах, пьяно хохочет. Дымят трубы. Фабрика «Букурия» становится известной на весь юг СССР, потому что молдаване станут покупать диссертации мешками конфет, зефира, сладостей. Сестра Папы Второго пойдет на практику на «Букурию». Сломает вафли. Прямо через колено, дочка, чего стесняться. А теперь в шоколад. Оля, которая кое что помнит о Забайкалье, о теплом из-под курицы, яйце, о скудном пайке хлеба, замирая от восторга, опускает вафли, как лопату, в поток шоколада, и вынимает, а потом ест. От пуза. На фабрике хоть лопните, а вот выносить не надо, несунов мы не приветствуем. Говорит, улыбаясь, директор. Несунов припечатывают. Клеймят позором в газетах, например, в многотиражке «Сладкий вестиник», которую редактировал некоторое время наш подающий надежды талант, присланный из Москвы товарищ Никита Бояшов, вот у кого перо как бритва, похахатывает Дедушка Третий, развалившийся в кресле, и сын его, подросший Пашка, с тревогой думает, что отец как-то обрюзг. Ай да Бояшов. Всего-то двадцать лет парню, говорит увлеченно уже пенсионер Дедушка Третий — в этом году подарили вазу, и можно отдыхать, вздохнул спокойно, — а как пишет! Перо-бритва! Папа, ты уже говорил, тревожно переглянувшись с братом, говорит Ольга, а мать лишь цыкает на нее, нашла кому замечания делать. Да пошли вы. Ольга уходит на «Букурию», макает вафли в шоколад, волосы перевязаны косынкой, девчонка выросла красивой, лицо неприступной русской красавицы, так что мальчики на нее даже и не смотрят, с этой глухо. Пашка идет на винный. Пьет отчаянно, но в Молдавии шестидесятых все пьют отчаянно, от радости, от счастья, от наполненности жизни. Писателю Лоринкову это знакомо. Он сам так пил в юности. В рюкзаке пачка сока. Он стоит у каштана, и на плечо ему падает муравей, для которого вся его вселенная сосредоточена в кроне этого дерева, и плевать ему, что происходит у подножья или в двух метрах, для него этого нет. И меня для него нет. Писатель Лоринков уважает чужое мнение, пусть оно даже мнение муравья, поэтому осторожно подсаживает муравьишку обратно на дерево, думает, что надо позвонить в садик. Справиться о сыне. Мама вчера рассказала мне, — говорит Матвей увлеченно, — сказку про муравья, который не успел прийти к себе в муравейник, и ночевал на улице. Бродяга-муравьишка. Писатель Лоринков, два года ночевавший то на вокзале, то просто на улице, а то и в возле какой-нибудь теплой трубы, с сочувствием кивает. Себя не жалко. Это удивительно, но это так, к себе Лоринков относится странно, чуть презрительно, словно он давно уже болен какой-то душевной проказой, и чтобы не случилось, он это переживет, сколько не тычь в себя булавкой. Сына бережет. Сын совсем другое дело, думает писатель Лоринков, и бросается на машину, на притормозившую на зеленом свете, когда он переходит «зебру» с ребенком. Разбивает стекло. Автомобиль, вильнув, газует, и уносится, из окна торчит рука. Средний палец. Лоринков сплевывает. Сам бы он просто отступил, пропустив машину, и пошел дальше. На Штефана никто не нарушает. Это все-таки главная улица города, по сторонам ее высятся здания правительства, президентского дворца, министерств, театра оперы и балета — Лоринков видит остановившимися глазами как вырастают эти здания словно из земли. Видит Сталина. Гипсовый генералиссимус десятью метрами высотой, установленный в 1947 году в самом центре, пока отольют бронзового, замены не дождался. Кровопийца помер. Лоринков видит, как гаснет небо, как ночью зажигаются окна правительства — тогда еще МССР, — как подъезжают грузовики, и тайком сваливают памятник Сталину. Закапывают под правительством. Это тайна. На следующее утром пораженные кишиневцы не находят памятника Сталина на его обычном месте. Дедушка Третий ругается. При Сталине был порядок, объясняет он Папн Второму, ваш отец при Сталине бил американца практически на его же территории. Да, папа. Писатель Лоринков впадает в оцепенение. Актер Бодров не обманул. В самом деле, становится так безразлично, как будто тебя больше нет. Каштан слегка трясется. Это проехал мимо большой рейсовый автобус. По справедливости, такими нужно заменить весь общественный транспорт Кишинева, — троллейбусы 60-хх до сих пор на ходу, позор, — но у города нет такой возможности. Мы нищие. Процветание шестидесятых до сих пор питает Кишинев, он похож на обжору с избытком веса, попавшего в концентрационный лагерь. Бабушка Третья хмыкает. Она поправляет подушечки под головой Дедушки Третьего. И сует ему под ноги маленькую табуретку. В чем дело? Дедушка Третий спрашивает это очень резко, он вообще стал резкий, и дочь с сыном все чаще переглядываются с тревогой, я боюсь, как-то признается брату Ольга, что он рано уйдет от нас. Дура набитая. Дедушка Третий проживет еще тридцать лет. Да, но как. Все в порядке, говорит мужу Бабушка Третья, которая тоже выходит на пенсию, наконец-то. Будут отдыхать. Никакой ерундой, вроде плетения корзин, — сумасшедший старик, — они заниматься не станут, они заслужили свой отдых, честно отработали, отблагодарили государство и общество. Ну, разве только дача. Но это потом. Пока Дедушка Третий отдыхает. Писатель Лоринков видит его — статного, начинающего полнеть, мужчину, в военной форме с медалями и орденами, — идущим по проспекту Ленина, с семьей. Сын взрослый. Дочь постарше, поступила в университет на первый курс, будет экономистом, Профессия презренная. В начале 70-хх в Кишиневе на факультет экономики поступают только те, кому во все другие места путь заказан. Ну, что за профессия? Экономист… Торгашеская, какая-то. Больше презирают разве что ассенизаторов. Ольга и туда-то поступает благодаря помощи отца, потому что в точных науках не сильна, а русский язык — низкий поклон, Бабушка Третья, — всегда будет ее самым слабым местом. Сын — выпускник. Дедушка Третий приосанивается. Несколько лет живет дома. Утром кашка, потом зарядка, прогулка рядом с домом с женой, обед, почитать газеты в кресле, послушать по радио, серьезный разговор с сыном, серьезный разговор с дочерью, серьезный разговор с сослуживцем, ужин, снова последние известия, потом свет гасим и все спят, а ты чего электричество жжешь, Ольга, спи давай, раз в полгода рыбалка, раз в год охота, но это все реже, потому что жена бурчит, зачем шляться где-то, если ты на пенсии, алкоголь исключен, табак исключен, на сэкономленные с папирос деньги можно покупать леденцы, на встречу с друзьями нет, — не нужно тебе это. Сиди уж в кресле. Наши все дома.
После нескольких лет отдыха, превративших Дедушку Третьего в вечно раздраженного мизантропа, который отсчитывает свою жизнь по минутам, в окружении фарфоровых игрушек — фройлян с задранными в канкане ногами, слоников и собачек, — подписки на газету «Правда», подушечкой в ногах и двумя под спину и не дай Бог, чтобы на сантиметр левее, они с Бабушкой Третьей подумывают над тем, чтобы прикупить земли. Не поместье, конечно. Советский Союз процветает, хотя признаки заката, — слабые, будто утренняя дымка над плотиной суаньской ГЭС, — уже появляются. Дедушка Третий не видит. Бабушка Третья тоже, конечно, сколько бы она потом не рассказывала хихикающим внукам и детям, что уже в 1972 году поняла, что Союз развалится. Врет, не краснея. А я вам говорю, что да, упорствует она, и рассказывает в подробностях об этом случае, дело было в троллейбусе, который ехал по улице Ленина, и Бабушка Третья увидела, как какой-то наглый молодой человек не уступил место беременной девушке, и в этот момент ей все стало понятно. Страна обречена. Старушка в маразме, говорят внуки, пожимают плечами, и подхватывают на руки правнуков, потому что дети ноют, кричат, жаждут общения и ласки. Бабушка Третья поджимает губы. Она еще всех переживет, она считает себя вечной, она и в первом десятилетии 21 века занята тем, что устанавливает себе новые двери и окна, покупает холодильник, в общем, — как говорит осуждающе невестка, — пытается унести с собой в гроб все имущество. Бабушка Третья поджимает губы. Она ненавидит невестку. И ее тоже переживет, но это мы еще посмотрим, ясно только одно — она, Бабушка Третья, доживает до девяноста лет, и словно толстый гриб, в соломенной шляпке, все переваливается у подъезда своего дома. Благодаря земле! Бабушка Третья уверена, что он так долго протянула из-за земельного участка, который они с Дедушкой Третьим покупают после пяти лет ничего не делания, чтобы выращивать брюссельскую капусту, африканскую картошку топинамбур, китайскую вишню и сливу. «Бсюцельска капустка, африканскайа картошка тапинамбу, вишне кетайска, слифа». Дедушка Третий оживает. Он снова садится за руль своих «Жигулей», перестает сутулиться, и покупает набор инструментов для работы на даче. Мечтает о пчелах. Как-то раз, рассказывает он маленькому внуку, пока Папа Второй, раздевшись по пояс — кажется, он в мать, и будет полнеть, — рубит дрова… Что, дедушка? А, что? Папа Второй качает головой, и вздыхает. Оля — старая дева — встречает его взгляд, и потупляет взгляд вниз, к укропу и любимому коту Чернышу, право на которого отвоевала у матери. Это в тридцать-пять-то! Да, у папы проблема. Он начинает фразу, а потом забывает ее досказать. И мне кажется, у него что-то с головой, шепчет она брату вечером, когда дети уложены спать, и невестка, — еще раз оскорбленная хамкой Бабушкой Третьей, — судорожно сглатывает слезы от обиды. С головой? Ну да, шепчет Ольга, у него же с головой проблемы, ты что, не видишь? С головой?! Паша, его же бомбили, а бомбежки это всегда сотрясение мозга, а где оно, там и мозжечок… Ты-то откуда знаешь? Я посещала курсы фельдшеров, отвечает Ольга, и брат смотрит на нее с сожалением. Она понимает, что он чувствует. Но лучше уж так, одной, чем попасть на крючок тупой жадной самке, как ее братец, думает Ольга, примеряя пальто невестки, — прожжет сигаретой дыру, будет скандал, — а потом думает, для кого я, собственно, это делаю. Садится, поникнув. Дом не спит. Папа Второй беспокоится. Дедушка Третий отмахивается от американских истребителей. Невестка плачет в комнате с детьми. Всем плохо. Завтра поедем на огород. Бабушка Третья счастлива.
Писатель Лоринков видит, как мимо него проплывает новый чешский троллейбус, и из открытого окошка презрительно глядит в сторону Собора накрашенная женщина, с волосами, уложенными в сложную прическу, модную в советские времена. Сейчас они и есть. Это Бабушка Третья выбирается на рынок, чтобы прикупить там овощей и фруктов. Встречает знакомую. Сплетничает напропалую, рта не закрывает, страшно послушать, что она говорит про людей, с которыми любезничает в лицо. Дедушка Третий прибил бы. Но Дедушка Третий все еще заблуждается относительно степени лживости своей жены, а когда в этом вопросе наступит полная ясность, будет поздно. Дедушка Третий пасует. Проще воевать с американцами, чем с женщиной, думает он беспомощно. Да и любит. Так что к дому подъезжают «Жигули» и Дедушка Третий весело и счастливо сигналит. Начало семидесятых. Копаетесь, черти. Из подъезда выходят дочь, жена, сын, — все в соломенных шляпах, в руках корзины с бутербродами, — сейчас славно потрудимся. Участок роскошный. Бабушка Третья, конечно же, страшно интригует в управлении ветеранов, где распределяют участки, так что они получают самый лакомый кусок. Нам положено. Мы полковники, презрительно бросает Бабушка Третья. На каждом пальце по кольцу. Собирает деньги уже на других книжках, потому что прежние переполнены. Они наполовину миллионеры. Дедушка Третий поражен, когда узнает, что на книжке у него пятьсот тысяч рублей, долго не верит, качает головой восторженно. Бабушка Третья потупилась. Пусть знает, какая бережливая жена у него. Ольга мечтает об отдельной квартире, и они могут это себе позволить, Дедушка Третий — конечно же, после Серьезного Разговора По Душам, — соглашается помочь дочке с кооперативным строительством, это не так дорого. Девчонка счастливо. Глядя вслед ей, выпорхнувшей из комнаты со стенкой и сервизом, — где он отдыхает после обеда, — Дедушка Третий чувствует радость. Егоза-стрекоза. Но тут вмешивается Бабушка Третья. Садится рядом, широко расставив ноги, и свесив между ними живот — она уже толстая, — и сплетает на нем, животе, пальцы в золотых кольцах. Хочу поговорить. Голос дрожит, все, как обычно, она запутывает, обманывает, лжет, и Дедушка Третий решает, что с отдельной квартирой Ольге следует обождать. Поживет с родителями. Бабушка Третья ликует. Ольга в истерике. У нее три выхода: умереть, сломаться или расти криво. Она не умирает и не ломается. Кует характер. Познает искусство интриги и лжи, учится ранить небрежным замечанием, уничтожать приветствием, лишать сна оброненным словом. К тому же, на некоторое время возникает общий враг — Пашка решил жениться. Красивая молдаванка. Ольга ненавидит ее за то, что брат вырывается из-под власти обезумевшей от эгоизма и жадности Бабушки Третьей, у Бабушки Третьей причины для ненависти куда более прозаические. Зарплата, сынок. Ты же не станешь отдавать этой сучке свою зарплату, пока твоей мамочке не хватает е зубы, говорит она сыну. Тот краснеет, мнется. Первые четыре года жена его не будет видеть от мужа ни копейки денег, все отдает матери. Бабушка Третья ликует. Усевшись на верхушку земного шара, расставив ноги пошире, попирает она мир слоновьими ногами — это из-за побоев в немецкой тюрьме — и бездушно улыбается. Не замечает других. Ей ничего не стоит попросить вас об одолжении, а потом посмотреть сквозь, как на пустое место. Как писатель Лоринков глядит сейчас на улице Штефана Великого, и глаза его пусты, и зрачки не двигаются, и лицо его сейчас очень похоже на деревянную маску, которая хранится на третьем этаже Археологического музея Стамбула. Зал Аттики. Изрезанная кора. Потом новизна проходит, Пашка не разводится, — как желает того Бабушка Третья, — и дочь с матерью вновь обращают внимание друг на друга, словно две тигрицы, из-под носа которых утащили окровавленную тушу. Займемся враждой. Бабушка Третья легко вспоминает коммуналку, в борщ не плюет, но лишь потому, что Ольга на кухне сама побыть не может, мамаша приходит и садится на табуретке в углу. Чего ты смотришь?! Дочь взрывается, а довольная Бабушка Третья недоуменно и зло говорит: чего это ты такая хамка, дорогая, а? Приходит Дедушка Третий. При нем все стихают, лишь глазами показывают взаимное нерасположение, и дочь еще несколько раз пытается отселиться, но родители ей не помогают ничем. Мужика не приведешь, гостей не позовешь, ночью не почитаешь, в ванной не полежишь, едва закроешься, а уже стук. Не задержалась ли ты? Мама, неужели ты не понимаешь, что превращаешь нашу жизнь в ад? Чего это ты такая хамка, дорогуша, а? Выучила-выкормила вас на свою голову, бормочет бабушка Третья, от которой сын Пашка в шестнадцать лет ушел из дому, чтобы кочевать по стране со строительными бригадами. Пусть, лишь бы деньги слал. Мама, почему вы превращаете нашу жизнь в кош… Гасите свет, нечего.
Дедушка Третий покупает несколько ульев и пару лет даже снимает немножко меда, но потом насекомые гибнут из-за какой-то редкой болезни, так что с живностью покончено. Остается картошка. Семья копает картофель, собирает малину, обрывает усики клубники. Поливает огурцы и помидоры, хрустит укропом, молодым чесноком, зеленым луков. Витамины, отдых, польза. Дедушка Третий выписывает журналы про сад и огород, сын, приезжая не побывку домой, думает, что лучше уж так, чем никакого занятия. Вечерами разговоры. Ну, что, поговорим, посмотрим, довольно говорит Дедушка Третий, усаживаясь вечером в кресло возле автофургончика, привезенного на огород, чтобы ночевать летом. Остро Подискутируем. Папа Второй смотрит на отца, чуть округлив глаза, пытается понять, как всемогущее божество, подтянутое, стройное, молодцеватое, превратилось за пару лет в маразматика, который несет ахинею языком газеты «Правда». Никогда не уйду на пенсию. Молодой офицер, лейтенант, он не желает судьбы отца, и дает себе слово работать до самого конца жизни. Бездействие разрушает. Он почесывает бок, и глядит в небо. \Уже Луна, но пока светло. Дедушка Третий жаждет острого разговора. Желательно на международную политическую тему. Папа Второй говорит, что у него есть новость насчет личной жизни. Дедушка Третий морщится, потому что любые разговоры — нормальные, — на темы, не связанные с американской агрессией в Никарагуа, приводят его в смущение. Это все в ведении Бабушки Третьей. Та подсаживается поближе, ласково улыбаясь, но сына это не обманывает. Он знает, кто будет главным противником. Так что ты хочешь рассказать нам, сынок, спрашивает Бабушка Третья ласково, пока Дедушка Третий, погмыкивая, с нетерпением ждет, когда можно будет разразиться двухчасовым монологом про сравнительные характеристики капитализма и социализма. Кот Черныш играет. Я женюсь, говорит Папа Второй, и видит, что уже стемнело. Ночь уже, говорит Дедушка Третий, пора спать. И семья вползает в фургончик, где уже посапывает Ольга. Завтра, значит, по картошку, товарищ лейтенант, говорит Дедушка Третий бодрым тоном, который сын ненавидит.
С Бабушкой Третьей происходит настоящая истерика. Ее дети это ее собственность, кто смеет похитить ее имущество, кто эта сука, эта курва? Выглядит это настолько неприлично, что не выдерживает даже Дедушка Третий, и требует прекратить. Взрослый, разберется. Папа Второй работает на огороде еще пару дней перед тем, как вернуться в часть, и ловит на себе восхищенный взгляд сестры — первая реакция это восхищение смелостью, — но с отцом так и не говорит. О чем говорить? Это все ерунда, мелочи, смущается Дедушка Третий, и спрашивает всего разок душевно, как ему кажется, а на самом деле выспренне и натужно — готов ли ты содержать семью, сын? Ну вроде как, говорит Папа Второй. Конечно, не готов. Но он не знает. Он вообще многого не знает, просто потому, что его не научили. Не знает, например, что деньги нужно оставлять семье, а не слать маме, и несколько лет пройдут, прежде чем он это поймет. Да, конечно, Папа, я готов содержать семью. Это большая ответственность, сын, говорит торжественно Дедушка Третий, и начинает своими словами — а скорее всего и не своими, а наизусть — пересказывать статью «Брак в социалистическом обществе» из энциклопедии «Домашнее хозяйство: все от рецептов до советов психологов», издательства «Кишиневполиграф, 1976 год». Ага, папа. Да, конечно. Ну что ты. Само собой. После выходных семья возвращается домой с огорода. Двадцать лет спустя Бабушка Третья станет называть ее «моя фазенда», и смотреть мексиканские сериалы, а пока развлечений у нее раз и обчелся. Ненавидеть невестку. Они еще не виделись, но с этим все понятно. Тварь должна быть уничтожена, думает Бабушка Третья, ласково улыбаясь, и расставив ноги по обеим сторонам своего живота. На столе банки. Это закрутки, которые семья начинает делать, и это их маленькая гонка вооружений — за пару лет двухэтажный гараж заполняется банками, бутылями, бочками. Квашеное, соленое, маринованное, в сахаре, в спирту, фрукты, плоды, корнеплоды, овощи. Жратва, еда, запасы. Вина, наливки, водки. Бабушка Третья варит, парит, гонит, крутит. Дедушка Третий окучивает, собирает, срывает, хранит, отвозит, загружает. Ольга отвоевывает право посещать огород лишь по выходным дням. Бабушка Третья нервничает. Она не любит, когда дома кто-то остается, а у нее нет возможности все контролировать. Приклеивает волоски к дверцам. Если их откроют, волосок будет порван, это незаметный способ контроля. Как-то видит, что все волоски порваны. Устраивает истерику. Завязывает ручки шкафов. Грандиозный скандал. И без того белокожая дочь, побледнев, орет ей в лицо, что она ее ненавидит, и что Бабушка Третья испортила жизнь ей и хочет — сыну. Та рыдает взахлеб, оно обожает рыдать, умеет изображать сердечный приступ, симулировать повышенное давление, ложные обмороки. Война в разгаре, и по привычке они продолжают еще пару минут, хотя в комнату заходит удивленный Дедушка Третий. Заткнитесь, кричит он, но они не могут остановиться. Дедушка Третий начинает трястись, сначала слабо, а потом буквально ходуном ходит, и падает, угодив головой в проигрыватель, отчего пластинки сверху слетают. Модный мюзикл «Три мушкетера» с душкой Боярским. Пластинка с «Девушкой» группы «Битлз». Еще что-то. Дедушка Третий судорожно дергается, лежа лицом в пластинках, Бабушка Третья смотрит ошарашенно, ей, вечному симулянту, невдомек, как оно бывает на самом деле — приступ. Дочь не сплоховала. Резко садится на корточки, поднимает голову, не дает запасть языку, срочно вызывает «Скорую». Дедушку Третьего увозят, и несколько дней его жизнь под вопросом, приходится дать телеграмму сыну, который сейчас в Монголии, и тот звонит, сообщает — еду. Женщины, молчаливые, опухшие от слезы, опустошенные, ходят по дому, словно тени. На кухне подсолнухи. Прости меня, мама, дрожащим голосом говорит дочь, которая пока еще не научилась выдерживать паузы в боях, и мать небрежно кивает. Дедушка Третий выдерживает. Семья, собравшаяся у постели, узнает, что ему не стоит волноваться и вообще у него болезнь, что-то из нового — что-то из этих болезней, которые называют именами открывателей или заболевших. Паркинсон, что ли.
Писатель Лоринков стоит под каштаном, и в его глазах отражается центральная улица Кишинева, которая, в отличие от города, была всегда. Как направление. Вечный путь. Начинается легкий дождь. Лоринков нехотя возвращается в Молдавию 2008 года, чуть удивленно моргает, проводит рукой по лицу. Идет к арке Победы, — победы меняются, арка все та же, — чтобы задрав голову, посмотреть на часы и узнать, сильно ли он опоздает на работу. Всего-то пару часов, думает он и идет, почему-то, обратно к дереву. Поворачивается лицом к проспекту. Глядит в небо. Меня нет, думает он, нет меня. Я никто.
Писатель Лоринков приезжает в Москву и несколько минут стоит, оглушенный, возле станции метро, которая, наверняка, заканчивается на какую-нибудь «-стенку». Чертовы названия. Лоринков думает, что непременно напишет рассказ восстании гастарбайтеров в Москве, и как те, раздраженные московскими «-истенками», переименуют все станции метро. Да что там. Мне и самому доводилось на стройке работать, кокетничает он перед какой-то московской журналисткой и притворно негодует, хотя это предвидел, прочитав заголовок: «Молдавский писатель — я был гастарбайтером в Москве». Лоринков вздыхает. Он ждет машину и думает о паблисити больше, чем следовало бы: впрочем, никакого другого занятия у него сейчас, 7 сентября 2008 года, нет. А, рассказ. Непременно назначу себя там маршалом повстанцев, не без юмора думает склонный к лести Лоринков и, — глядя на подъезжающую иномарку, — забывает об идее, чтобы вспомнить через год. «Последний день войны». Так он будет называться и у Лоринкова нет особой уверенности, что это название до него никто не использовал, но что поделать, заголовки это его беда. «Я пришел плюнуть на ваши могилы». «Кровавый спорт». «Семь мертвых гомосеков». Целый сборник рассказов с названиями, которые уже были, а повесть «Война начнется вчера» звучит совсем как советское кино. Лоринков пожимает плечами. Здравствуйте, говорит он, усаживаясь в машину, присланную устроителями Московской Международной Ярмарки выставки 2008 года под Патронажем Правительства Российской Федерации и Мэрии Москвы, и всю дорогу треплется с водителем о родине. Я ведь из Кишинева. Да ну, говорит Лоринков, и они с водителем разговаривают — Москва большая, и Лоринкова поражает то, что они едут два часа, этого времени ему было бы достаточно для того, чтобы покинуть Молдавию и попасть в Румынию, например, — о Долине Роз, и проспекте Штефана, об озерах, о зелени и вине. Стандартный набор. Как и все эмигранты, водитель ностальгирует и Лоринков не без язвительности предлагает ему поменяться. Только чем? Жизнями, — думает Лоринков, — он бы не хотел, проблема только в месте, в котором он находится, в Кишиневе, который ему, пожалуй, опостылел. А вот, говорит водитель. А как-то. А помню. А еще. Как же. Ну да, кивает Лоринков, и голова его склоняется все ниже. Почти засыпает. Он любит покидать город, ему нравиться попадать в незнакомые места — незнакомое для него то, где он не может с закрытыми глазами найти дорогу, — и чувствовать себя чужим. Император чужаков. Вот он кто я, думает писатель Лоринков, которого привозят, наконец, сквозь все ужасные московские пробки — что вы, это еще ерунда, через пробки мы бы не попали вообще, говорит водитель, — довозят до гостиницы, где он остается, наконец, в любимом своем состоянии. Одиночество. Он облегченно вздыхает и потягивается. Жена писателя Лоринкова синхронно с ним вздыхает, и отправляет с кухни сына, который, после полутора часов ожесточенной возни, справляется с кусочком бифштекса и половинкой яйца. Мальчишка не ест. Будь дома муж… Впрочем, будь дома муж, мальчишка все равно бы не ел, трезво оценивает воспитательные способности писателя Лоринкова жена. В доме тихо, сын возится в детской комнате с игрушками, которые ему надарили на недавний день рождения, и телефон на стойке между кухней и комнатой вибрирует от полученного сообщения. Долетел, значит. Писатель Лоринков раздевается и ходит по номеру: к счастью, здесь есть ванная с горячей водой и штопор, и больше ему ничего не нужно, так что Лоринков с удивлением просматривает листы на столе у окна. Программа ярмарки. Лоринков пожимает плечами, и изучает расписание, хотя понятия не имеет, зачем он здесь, это, должно быть, загадка и для самих устроителей. Позвонили из посольства. Писателю Лоринкову пришлось пойти туда в обеденный перерыв — к красивому большому зданию рядом с медицинским университетом, его первый камень заложил пошатывающийся после Криковских подвалов Ельцин и спаивавший его, как молдаванину и положено, президент Лучинский, — и он получил там папку. С приглашением. Уважаемый Владимир Владимирович, было написано там, а дальше Лоринков не помнил, потому что не взял с собой бумажку, а просто переписал время и название гостиницы, а еще место, где следует получить деньги на билет. Фестиваль начинается завтра. В номере пахнет черникой. Это Лоринков, опытный холостяк, который в незнакомом помещении ищет ванную, туалет, и холодильник, а еще самое удобное место для сна, — и еще он некстати думает, что никогда больше не женится, как бы дальше не сложился его брак, — находит поблизости супермаркет с названием, сразу вылетевшим у него из головы. Долго ходит между полками, наслаждаясь. Дитя перестройки, Лоринков не застал советского изобилия семидесятых годов, он любит, когда еды вдоволь. Здесь — много. Лоринков набирает полную корзину, и успокаивается, благоразумно решив не рассказывать об этом жене, которая и так негодует из-за пятидесяти килограммов макарон в чулане, но ведь это запас, что она понимает. Карман не тянет. По магазину прогуливаются вялые женщины с «акающим» акцентом, который, впрочем, Лоринкова лишь умиляет. Не позвонить ли тете-москвичке? Но эту мысль он гонит — сразу же за мыслью прикупить пакет дорогущей свеклы в вакууме, — потому что оживлять мертвецов следует лишь пророкам. А он всего лишь писатель. А тетка для него метафизический мертвец, они не разговаривали почти двадцать лет. Ко всему еще он и бывший писатель, о чем, впрочем, не догадывается Федеральное агентство по делам печати и книгоиздания при Правительстве Российской Федерации. Кто у них там главный. Спустя год главным у них становится уважаемый Владимир Владимирович — не Лоринков — и уже он заходит в тот самый магазин, по соседству с которым жил он, Лоринков. Писатель радуется. Ира, Ира, кричит он жене, которая в ванной сушит волосы феном, ты посмотри только, Путин зашел в тот самый магазин, где я жил. Фен шумит. Лоринков говорит все это раз пять, прежде чем жена услышит, а когда она услышит и выйдет, показывать уже станут сюжет о литовце, сделавшем у себя на хуторе самодельную подводную лодку. Лоринков пересказывает. Открыть шампанское? Чего ты злишься, злится Лоринков, хотя жена злится потому, что он помешал ей сушить волосы. Ты все время не в настроении, говорит он ей. Ты все время не в настроении, говорит она ему. Они оба все время не в настроении. Любое слово оборачивается ссорой. Вспышки справа и слева, Лоринков чувствует себя пленным, которого пустили по минному полю, и боится шага сделать, и это его так утомляет, что он, — словно решившийся умереть обреченный, — иногда припускает бегом. Жена негодует. Тебе следовало бы бережнее относиться ко мне, говорит Лоринков, потому что мое занятие связано с высочайшей деятельностью нервной системы. Удивленный взгляд. Ну, я книги пишу, в конце концов, говорит он. Похоже, это становится уже легендой прикрытия, думает он позже, пытаясь припомнить, когда и что написал в последний раз. Лоринков погружается в вакуум. Почтовый ящик пуст, издатели не пишут, литературные агенты молчат, в папке «Новые книги» не появляется ни одной строки, он молчит целыми днями, развязывая язык лишь для препирательств с женой. Любой невинный разговор оканчивается разбирательствами, они могут начать со способа заварки чая и закончить позапрошлогодним проступком. Как правило, Лоринкова. Вынужденный защищаться, на замечание о пролитой воде — а так ли это важно, чтобы его делать, думает позже, — сразу же отвечает упреком в опоздании на ту вечеринку, ну, когда мы еще не были женаты, помнишь?! Достигают вершин. Постепенно доходят до трех ходов. Дорогой, не мог бы ты… С удовольствием, дорогая… Что за тон?! Но это еще не предел. Два хода. Дорогая, нельзя ли… К чему такая язвительность?! В доме наступает молчание, шумят лишь дети. У них получается. К счастью для обоих, приходит письмо от федерального агентства по книгопечатанию и чему-то там еще. Это спасение. Наконец-то они могут оставить друг друга в покое, и Лоринков летит в Москву, ежась в прохладном воздухе аэросудна, и поглядывая на облака под ногами с легким испугом. Боится высоты. В гостинице, удивляя себя самого, раскладывает все вещи в шкафу — аккуратно, по полкам и вешалкам, — и спускается вниз, ищет магазин, находит. Ира, Ира, черт побери, посмотри, сам Путин зашел в тот самый магазин, где я когда-то… Тот самый стенд с сырами. Ну и ну! Премьер-министр Владимир Владимирович Путин говорит что-то строго в экран телевизора, а писатель Владимир Владимирович Лоринков качает головой. И ведь у них дешевле. Среди покупок Лоринкова в тот вечер ни одной бутылки спиртного, чем он удивляет себя за этот вечер уже второй раз. Возвращается в номер, ест, и чувствует благоухание черники, — это джем, — даже когда выбрасывает банку, и, распахнув окно, глядит на невероятно широкую, в пять проспектов Штефана Великого, улицу. Дрожат огни. Уже стемнело, и Лоринкову не остается ничего, кроме как раздеться и пойти в душ, а потом свалиться на кровать, и, лежа на спине, дремать, пока он не слышит какой-то неприятный звук. Это храп. Он значит, что писатель Лоринков наконец-то уснул и, стало быть, ему следует сейчас повернуться набок, чтобы не храпеть всю ночь, мешая жене и детям, так что он послушно поворачивается на бок. Но в номере пусто. Значит, он может лежать, как лежал. Невероятное чувство свободы постигает писателя Лоринкова во сне. Он уходит на дно сна с достоинством, как корабль, ведший сражение до конца, чей экипаж принял решение затонуть; судно, открывшее трюмы, а не получившее пробоину, и кувыркающееся, словно паяц. В номере мелькают тени и свет, это стена напротив окна словно зеркало, ловит ночную Москву, и несколько раз Лоринков, — который просыпается, чтобы выпить воды, — шарахается от словно бы живых сцен. Ночные кошмары. Иногда дома ему снится, что начинается землетрясение, и жена, недоуменно моргая, глядит, как вскочивший во сне Лоринков стоит над ней и детьми, подняв руки кверху, — словно Атлант, совершивший фальстарт. Жена терпеливо вздыхает, и снова ложится. Потолок не удержишь. Это мы еще посмотрим, говорит Лоринков, бинтует локти и навешивает на штангу в спортивном зале все больше и больше дисков. Гриф гнется.
Слава строительства, мед зданий, великолепие султанских замыслов, величайший строитель из ходивших когда-либо на Земле, любимый архитектор повелителей Османской империи зодчий Синан прибывает в Бессарабию в 1572 году, и это еще даже не Бессарабия. Край зовется Валахией. Городок Бендеры, укрепленный на берегу Днестра, — говорят, что здесь торговали еще древние греки, во что греку Иосифу, получившему при обращении в ислам имя Синан, верится с трудом, — должно обустроить. Форпост империи. Запомни, Синан, — говорит ему Селим Третий, этот глупый мальчишка, в подметки не годящийся отцу Сулейману, и зодчий почтительно внимает, — тебе следует сделать крепость этого городка неприступной, это будет коготь льва, вонзившийся в землю неверных. Укрепимся и пойдем дальше. Ты все понял, спрашивает султан, хотя мог бы и не спрашивать, я все понял, повелитель, говорит Синан, хотя мог бы и не отвечать. Султана понимают со взгляда. Кто не понимает, тот рвется из мешка, камнем идущего на дно Босфора, ну, или получает шелковый шнурок на блюде, и сколько раз Синан был близок от подобной опасности, он сам уже сбился со счету. Малейший просчет. Не воздвигни он Сулеймание такой, какой ее хотел видеть султан — а он сам не знал, какой хотел ее видеть, так что тут скорее пришлось убеждать султана в том, что такое и хотел, и Синан проявил себя психологом не худшим, чем строителем, — и ему крышка. Не получись баня — крышка. Синан ходит по жизни, словно чистильщики крыш по боковым пристройкам Святой Софии, он в каждую минуту может полететь вниз, но сейчас, к счастью, летит в Бендеры. Плывет, задумавшись. Ссылка это или, напротив, награда? Край дикий, бесполезный, никчемный, это Синан знает. На краю всех земель, туда даже Назона сослали, с поэзией которого Синан — Микельанджело Османской империи, пишет о нем pr-менеджер туристической компании Лоринков в рекламных проспектах — конечно же, знаком. Людей мало. Живут плохо, дико, и Синану довольно странно, что самая могущественная империя мира — Османская, навалившаяся сейчас на Европу — споткнулась именно здесь. Народ дикий. Синану, прибывшему в Бендеры, рассказывают невероятную историю про князя Цепеша, отголоски которой живы в Стамбуле по сей день, и архитектор не знает, верить ли. Вырезал всех. Все поселения Османской империи, основанные для колонизации земель, уничтожены в течение одного месяца, не пожалели ни женщин, ни детей. О, варвары. О том, что сначала турки вырезали поселения самих валахов, чтобы поселить там своих подданных, не говорится. Синан вздыхает. Он давно уже не помнит, каково это — быть не турком, а греком, причем православным, да и не видит никакого смысла в попытках сопротивляться мощи Бога. Империя — лишь оружие Его. Так что Синан охотно идет в янычары, принимает ислам, становится любимым архитектором султанов, охотно строит мечети и бани — язвительный Лоринков, лежа в Сулеймание на лежанке, где парили султана, отметит, что они до ужаса похожи на римские бани, причем и мечети тоже, — и покорно едет в Бендеры. Возводит башню. Местный народ уже приведен к подчинению, это не часть империи, но вассальная земля. Молдаване сражаются за Турцию, громят поляков, поставляют отряды, платят дань, им еще кажется, что это вот-вот кончится, но эпоха трехсотлетнего владычества над ними лишь началась. Синан кивает. Строители, которые глядят на него, как на Бога, машут руками и поднимают камень за камнем наверх. Крепость строится быстро, и получается невероятно красивой и прочной. Синан изменяет себе, и строит не мечеть по образцу римской бани, и не баню по образцу римского храма, — отдает ему должное Лоринков, побывавший в Бендерах, — а сооружение по образцу западноевропейских крепостей бастионного типа. Крепость обносят высоким земляным валом и глубоким рвом, который никогда не заполнялся водой, пишет энциклопедия «Википедия», которая, конечно же, ошибается. В ров запускали карпов. Крепость разделили на верхнюю, нижнюю части и цитадель. Общая площадь строения составила около 20 га. С юго-западной стороны крепости располагается селение. Выгодное стратегическое положение на возвышенном берегу Днестра недалеко от его впадения в Чёрное море сделало город одним из опорных пунктов борьбы турок против России, добавляет «Википедия» и Лоринков озорства ради приписывает ей 20 лишних лет на странице «Изменить данные». В следующем году власти города празднуют не 470, а 490 лет со времени ее основания. Лоринков улыбается. Синану все равно.
Со времен Синана Бендерскую крепость называют «крепким замкОм на османских землях». И это правда, крепость послужит до начала 21 века. Будет в деле. В 1992 году мимо нее пойдет колонна молдавских войск, посланных усмирять Бендеры, и в кромешной темноте защитники крепости — тоже молдавские войска — не узнают своих. Пароль. Его, конечно, никто не будет знать, потому что бардак, нет карт и единого командования. Бросьте, мы свои. Свои-то свои, да только чьи. Начнется стрельба. Девяносто человек сгорят в этом в дружественном огне, а у тех, кто будет стрелять из-за стен крепости, уверенными, что они громят колонну приднестровцев, не будет ни одного раненого. Такая хорошая крепость. Стены широкие, крепкие, бойницы проложены правильно, отверстия под скосом, так что в тебя попасть трудно, а тебе — нет. В стенах ядра. Но они появились уже после Синана, во время русско-турецких-войн, когда Бендеры будут штурмовать десять-пятнадцать раз подряд. При Синане башенки ровные, стены чистенькие. Ночами архитектор глядит на Днестр, слышит, как зовут правоверных на молитву, сам собирается. Спит мало. Здешняя земля завораживает его, — несмотря на обилие пыли на дорогах, — Синан любит любоваться ей, слушая звон колокольчиков на холмах. Крестьянам все равно. Те пасут свой скот, кто бы не был наверху в крепости — турки, валахи, господари, турецкие наместники ли, а даже и сам Синан, — и так же, как и их скот, медлительны и задумчивы. В гармонии с миром. Архитектор Синан тоже в гармонии с миром, и достигает этого тем, что строит самые красивые и великолепные здания Османской империи. Калька с византийских. Греки копируют арабов, арабы — китайцев, те — римлян, и так всегда, ничего нового нет. Писатель Лоринков часто пытается понять, в гармонии ли он с миром и предполагает, что, раз такие мысли у него вообще возникают, ни о какой гармонии речи и быть не может. Гармония же естественна, и потому незаметна. Но он не уверен. Архитектор Синан возводит не только крепость, но и мечеть во внутреннем дворике, потому что времени в избытке, султан отменил поход в Венгрию, и необходимости в присутствии главного инженера Синана в войсках нет. Дикари бунтуют. В очередной раз вышедшие из подчинения валахи налетают на турецкие гарнизоны, убивают всех без разбору — иго только началось и народ еще бродит, — и Синан глядит со стены крепости, которую успел построить, на ряды противника. Красные флаги. Полумесяц и звезды, бычьи морды, о, варварский народ, разве можно рисовать на знаменах морды животных, поражается Синан, и поворачивается, чтобы уйти к себе. Вычисления ждут. Он не обеспокоен исходом осады Бендер, и совершенно правильно — она длится всего несколько дней, пока в тыл восставшим не бьют войска валахов же, руководимых претендентом на престол. Мятеж подавлен. Господарь казнен, причем своими же боярами, и его голова, перекатываясь в ящике, плывет в Стамбул. Стучит голова. Шлепают паруса. Стук-стук. Шлеп-шлеп. Что за чудесная страна, пишет султан Синану, я могу за деньги купить здесь вражду братьев или отца и сына, и я их, собственно, покупаю. Синан улыбается. Чтобы архитектор не скучал, ему приводят наложницу, которую купили на рынке, хорошенькая валашка, из села неподалеку, — муж ушел с восставшими и погиб, детей родить не успели, значит женаты меньше полугода, — значит, практически еще девственница. Синан справедлив. Девчонку он не обижает, несмотря на возраст, — ему уже шестьдесят два, — спит с ней часто и за несколько месяцев помогает ей стать, наконец, настоящей женщиной. Дрожит от прикосновения. Ноги у них, пишет Синан своему повелителю, — развлекает новостями из покоренного края, — черные от природы, а не от грязи, как мы предполагали. Мыли семь раз. Но даже и после этого на теле моей наложницы остался легкий налет темноты, хотя смуглостью они, конечно, не превосходят наших невольников из Африки. Подари ей белила. Синан смеется шутке султана и благодарит того за совет, без страха ожидая, что тот запросит девушку к себе, но этого, конечно, не происходит. Четыреста лет спустя член союза писателей МССР Никита Лупан пишет исторический роман, в котором допускает фантастическое предположение, будто бы Петр Первый, — когда был в Молдавии, — спал с местной женщиной и та понесла от него. Мальчишка и стал следующим императором России. Такая вот антинаучная фантастика, которая вызвала негодование членов-корреспондентов АН МССР, и местной националистической элиты, уже поднявшей голову, потому что 1989 год. К черту русских, к черту турок, пора нам жить своим умом. Даром, что ли, с турками бились?! Книга про Петра Первого получилась, конечно же, плохая, что неудивительно — первый писатель появится в Молдавии лишь десять лет спустя, — и плохая она, просто потому, что плохо написана, а не из-за сюжета, хотя и сюжет глупый. Альтернативной истории еще нет, как жанра. Молдаванам вечно хочется попасть на ту гору, где вершатся судьбы мира, но их там никогда не было, как бы им не хотелось обратного. Мы всегда были внизу, на окраине, на отшибе, пишет на отшибе Лоринков. Он уже появился, это 1999 год. Архитектор Синан милостиво машет рукой из 16 века и исчезает за поворотом Днестра, хотя еще некоторое время за движением роскошной лодки, — присланной в знак милости самим султаном — можно следить по солнечным зайчикам, которые пускают обшитые золотой парчой борта. Наложница глядит. Она немного напряжена, потому что боится возвращения в деревню, турецкой шлюхе лучше сразу утопиться, и женщина ищет взглядом самое лучшее место на стене для прыжкf. В гарнизоне тоже опасно, можно и вправду стать турецкой шлюхой. Спасает мурза. Начальник гарнизона, крымский татарин Колча, молчаливый и исполнительный, берет женщину Синана к себе в дом, потому что об этом попросил его архитектор. Пожалел бабу. Колче валашка нравилась, особенно он любил ее затейливые упражнения в покоях, — Синан хорошо знал технику соития, — так что она жила при нем до самой смерти. Родила четверых детей, постепенно привыкла к крепости — из которой гарнизон выходил редко, и не потому что опасно, а просто нечего делать в этом пыльном пустынном краю, — пережила несколько осад. Отуречилась. Из всех детей выжил всего один мальчик, а когда из-за чумы, поразившей края, умерли и две старшие жены Колчи, и все их дети, мальчонке сам Аллах велел быть наследником мурзы. Стал военным. Служил хорошо, местных держал в кулаке, мать и отца похоронил под стеной крепости, во дворе, во время похода Османа Второго на казаков владыку своего не предал, за что получил крепость и земли вокруг нее в имущественное владение, и потомки мурзы наследовали Бендеры до самого прихода русских. Назывались Колчаки.
Бендерская крепость считается воротами Черного моря, и молдаване много лет еще будет жить в стране, юг которой омывает соленая вода, пока карту не перекроит Хрущев. Отдадут украинцам. Молдавия замкнется в пределах внутреннего кольца Бессарабии, и единственным водным курортом края станет городок Вадул-луй-Воды, который будет работать даже в 1992 году, во время гражданской войны. Штурм Бендер. До начала восемнадцатого века крепость стоит высоко, глядит далеко и считается вполне себе — по местным меркам, — неприступной, пока сюда не приходят русские. Те шутить не любят. Бендерская крепость оказывается вполне себе приступной, что выясняется, когда сюда, в 1709 году, прибывает — еле держась в седле — украинский гетман со странным именем Мазепа. Турки недоумевают. Но раз уж это враг русских, то почему нет, и ворота крепости открываются, и Мазепа въезжает во двор, где его снимают с коня. Очень чешется. Ночами кричит, лекари говорят, что это какой-то жар под кожей, а среди крестьян ползут слухи о том, что гетмана вши заели за измену Белому Царю. Очередной Колчак-паша входит к гостю, справляется, нет ли необходимости тому двигаться дальше, в Стамбул, на что Мазепа отвечает, что как только выздоровеет… Не выздоровеет. Изменник умирает здесь, глядя в небо над Днестром, но не видя реки, огороженной от него толстыми стенами, и когда к крепости прибывают посланцы русского царя и требуют выдать тело Мазепы, турок отказывает. Русские грозятся. А, говорит небрежно Колчак-паша, скорее воды Днестра потекут вспять и небо упадет на Землю, чем вы, неверные, возьмете штурмом эту неприступную крепость. Русские уезжают. Паша скалится. Пишет письмо султану, расписывает все в подробностях, повелитель доволен. Фраза становится крылатой. Восток дело тонкое, говорит красноармеец Сухов своему помощнику, красноармейцу Петрухе, и тот кивает. Скоро коменданты всех крепостей Османской империи по ее периметру начинают отвечать противнику, предлагающему сдачу, этой фразой. Скорее Тигр потечет вспять… Скорее Кура потечет вспять… Скорее небо Египта упадет на его пески… Скорее небо Албании упадет на… Скорее Евфрат потечет… Султан доволен. Делай что хочешь, а говори красиво. Восток, раздраженно пожимает плечами русский офицер Суворов, которому под стенами Измаила доставляют ответ коменданта крепости. Скорее Дунай потечет вспять, и небо упадет на землю, чем стены этой неприступной крепости будут взяты твоими войсками, неверный. Суворов смеется. Примерно то же самое, — велит передать он в ответ, — доводилось мне слышать от коменданта крепости Бендеры, которые были взяты, и, знаешь, комендант, ни Днестр не потек вспять, ни небо не рухнуло на нас в тот день. Командует приступ. Измаил горит, это пылают вязанки хвороста, брошенные под стены, по которым солдаты лезут наверх, и наибольшее восхищение вызывает у всех валах-волонтер, который будто бы в огне не горит, и утверждает, что это у них семейное, будто бы турки во время набега на село пытались сжечь его отца, но тот играл в колыбельке, охваченной пламенем, как ни в чем не бывало. Суворов не верит. Он человек прагматичный, настоящий европеец, поэтому и бьет азиатов так, что пыль за ушами трещит, а уж чего, а пыли в Бессарабии много. Гроза турок. Спустя год после смерти Мазепы стены крепости недоуменно встречают войска короля Карла Двенадцатого, это немногочисленные остатки войска, разгромленного под Полтавой. Мы сами с Полтавщины, — говорит Лоринкову бабушка с ужасным акцентом, и он морщится, — неужели нельзя было за сорок лет жизни не в глухой украинской деревушке научиться разговаривать по-русски правильно. Яблука, черт побери. Карл Двенадцатый хорохорится. Колчак-паша прикрывает веки, и молча кивает, чтобы ворота открыли, это ведь союзник, пусть отъедятся, отоспятся, и снова идут на русских, ему же меньше забот. Шведы буянят. Пьют, задирают гарнизон, но у Колчак-паши инструкции и он им подчиняется, поэтому неизменно любезно улыбается молодому, но седому королю. Приходит письмо. Колчак-паша читает его, и той же ночью, собрав солдат, нападает на шведов, чтобы уничтожить войска, и взять Карла в заложники, ну, мало ли что. Король хорош. Отменно дерется и прекрасно соображает, так что битва за два дня проиграна, и Колчака-пашу спасет лишь то, что прибыло подкрепление, швед понимает, что его немногочисленный корпус раздавят. Заключают перемирие. Карл Двенадцатый лежит в саманном домике у крепости, и отдыхает, а вовсе не буянит, как пытается представить русский автор исторических детективов Валентин Пикуль, который описывает Бендерское сидение в какой-то своей книге. Романисты все выдумщики. Лоринков кивает. Карл отдыхает. Крепость заполняется людьми, но но не в цветастой форме солдат начала восемнадцатого века, это жители Молдавской ССР. 1972 год. Смотри, дорогая, говорит начинающий стареть, но вполне еще благообразный мужчина в брюках модного кроя, и жена в сарафане презрительно морщится, осматривая ядра, застрявшие в стене, которые вызывают у мужа такой восторг. Артиллеристы бывшими не бывают. Неподалеку скучает рослая девушка, блондинка, явно дочь. Дедушка Третий вывез семью на выходные. Со стены смотрят на Днестр Папа Первый и Мама Первая, они уже держатся за руки, потому что познакомились два месяца назад, и приехали сюда, чтобы в тишине побродить по крепости, нацеловаться здесь, а может и еще чего, да только попали на какое-то празднование какой-то годовщины, так что в Бендерах полно народу. Воркуют, голубки. На поле у крепости сходятся шеренги в роскошных мундирах, трещат ружья, дым застилает пейзаж. Это шведы дают бой русскому отряду, спешно прибывшему к Бендерам, чтобы захватить шведского короля Карлуса. Раны страшные. Это еще не милосердное оружие двадцатого века, так что пуля разворотит живот, и пиши пропало, впрочем, во времена архитектора Синана было еще хуже, любое огнестрельное ранение означало смерть. Папа Первый рассказывает. Мама Первая глядит на него с восхищением, такой умный, такой образованный, да еще и журналист, звезда республиканская, как же ей повезло, все общежитие завидует, кто бы мог подумать, что детдомовке так повезет, но вот как раз поэтому-то может, и повезло. Их тайна. Мама Первая знает, что Папа Первый тоже сирота, родителей не помнит, те от него отказались очень давно, но все это не имеет значения, потому что теперь у него есть я. Любовь жжет. Блондинистая крыса, которая приехала с папочкой и мамочкой, глядит на Никиту Бояшова со смесью пренебрежения и интереса — как умеют только представители «золотой молодежи», которой у нас, конечно, нет, наша «золотая молодежь» на БАМе и целине, — и Мама Первая заслоняет его бочком. Она-то простая. Мама Первая просто не в состоянии оценить то, насколько она хороша. Папа Первый видит. Пусть платьице простое, ромбовидное, по моде тех лет, зато фигура такая, что трудно представить себе эту девушку ломким, как спичка, ребенком, умирающим от голода на кишиневской улице. А ведь было. Сейчас Мама Первая не может смотреть в телевизор, когда там показывают эфиопских детей, таких жалких, таких голодных. Блондинистая сучка пялится. Кровь с молоком. Уж этим-то, республиканской элите, не дано знать, что такое мучения простых людей, а что элита, видно по машине. Что такое Сибирь, что такое голод, что такое… сучка отводит взгляд. Берет папашу под руку и, деля его с мамашей, убирается, наконец. Мама Первая переводит дух. Папа Первый глядит на верх крепости. Там появляется парень в старинной русской форме и водружает, под приветственные возгласы толпы, почему-то андреевский флаг. Граф Панин восторженно аплодирует, велит одарить удальца десятком червонцев, и казаки одобрительно лыбятся, значит, и им перепадет. Куш-то сорвал наш. Емелька, из Пугачевых. Статный казак, первым водрузивший знамя на стене Бендерской крепости, он держится около знамени до самого конца штурма, исключительно из корысти — чтобы никто другой не посягнул на награду. Держи, братец. Благодарствуем, кланяется Пугачев, и потрясти Россию как худую яблоньку ему еще и в голову не приходит, зачем. Все складывается так хорошо, и служба идет. Офицеры улыбаются, один даже руку пожал, это капитан Кутузов, который глядит на мир двумя глазами, ведь еще 1772 год, и Измаил не взят, и Кутузов не упадет, вздернув руки, после удара в лицо, думая что все, пропал. Нет, выходят. Кутузов, Пугачев, Панин, Пален, Колчак-Паша. Все они окажутся во дворе бендерской крепости в том сентябре, как причудливо тасуется колода. Это воскликнет писатель Булгаков совсем по-другому поводу, но ведь романисты, думает Лоринков, они ничем не уступают комендантам турецких крепостей, и готовы заимствовать друг у друга лучшие фразы. Взять в эпиграф? Лоринков несколько дней собирается написать исторический роман, и эта идея кажется ему восхитительной, ровно до тех пор, пока он не покупает на книжном развале старого Плутарха, и, как всегда, чтение классиков обесточивает его, обессиливает. Хотя что там хорошего?! Собрание анекдотов про Александра, Цезаря и иже с ними, пересыпанное недостоверными деталями, гнусное описание великих мещанином, с негодованием говорит Лоринков жене, вот что такое этот ваш Плутарх, и та понимающе молчит. Традиция анекдота. «Жизнь двенадцати Цезарей», да и «Опыты» — разве это не то же самое, спрашивает Лоринков, расправляясь с любимыми. Отшвыривает Плутарха. Книгу подбирает Суворов, который уже не безымянный офицер, а звезда русского военного дела. Прямо как Котовский в Бессарабии. Папа, спросит маленький Лоринков, а тебе Суворов нравится очень или очень-очень, на что отец, усмехнувшись, спросит сына, знает ли тот об обычае отдавать солдатам город на три дня на разграбление, и о том, что этому обычаю неукоснительно следовали и такие гении военной мысли, как, например, Суворов. Уж этот папка. Всегда энтузиазм собьет, всегда он и другую сторону видит, и даже над статьей про «краповых беретов» в журнале «Советский воин» посмеялся, мол, что толку новобранцам в этих суровых братствах, если через два года им возвращаться в мир людей. Лоринков видит берет. Это приднестровские военные, из какой-то особенной части, «Белые рыси», «Ягуары» или «Медведи», их всегда в крепости полно, потому что «есть высокая вероятность провокаций со стороны молдавских спецслужб». Годовщина крепости. Лоринков в глубине души гордиться тем, что сделал ее старше на двадцать лет, и иногда подумывает о том, чтобы начать спекулировать на бирже, меняя какое какие данные в «Википедии», которой слепо доверяет весь мир. Показывает сыну. Вот ядра, они застревали в стене крепости, и, чтобы не разрушать кладку, их оттуда не выковыривали. Мальчишка радуется. Лоринков думает об отце, о его удивительно, переходящем все границы — для советского офицера — пренебрежением наградами, и вообще все тем, что называется «офицерской косточкой». Настоящий анархист. Бандеровец, думает Лоринков с невольным восхищением, хотя выступает ярым приверженцем строгой централизации государства, до самоуправления мы еще не доросли. Отец всегда сам по себе. Лоринков поднимает голову. На стену залезает здоровенный мужик в халате, видимо, Пугачев. Держит флаг. Совершить второй раз этот подвиг ему не удалось, потому что во время следующего взятия Бендер Емельян уже уходил с войсками, шедшими в Пруссию, где повесят его брата, и где душа его вознегодует. Не играйте с огнем. Не вешайте братьев. Младший брат Лоринков кивает. По другой версии, Пугачев становится платным агентом то ли австрияков то ли немцев, и его мятеж это не что иное, как попытка иностранного вмешательства в суверенные дела Российской империи. Альтернативная история. Лоринков смеется. Емельян кивает. Пушкин, проезжая мимо Бендерской крепости, останавливается на ночлег в этой бывшей столице турецкой райе, и узнает, что мятежник Емелька был прилежный казак и служил царю не за страх, а за совесть и за награду, и даже был первым, кто… Пугачев сжимает зубы, лежа в струнку, вспоминая, как брата повесили у него на глазах, — он был в строю. Пушкин лежит, ворочаясь, думая обо всех, кто когда либо пересекался в одной точке мира, в одной точке времен, думает том, как причудливо тасует колоду судьба. Пугачев задумывает бунт. Пушкин задумывает «Бунт». Граф Панин задумывает столицу, делится с офицерами, те согласны. Если уж где и обосновывать столицу в этом безрадостном краю, набитом пылью и овцами, так в Бендерах. Крепость, вода. Вот славное место, где стоит быть столице, восклицает Панин. Офицеры кивают. Крепость подбоченится. Кишинев дремлет в пыли. А вот и ансамбль танца и пляски «Жок», прибывший в наш славный город на его очередной юбилей из столицы МССР Кишинева, говорит ведущий праздника. Шарики качаются. Дедушка Третий важно прогуливается. Бабушка Третья садится на какой-то камень, поджав губы, ей уже надоело, и хочется домой, что интересного в каких-то камушках. На стену выползает ящерица. Ярко-зеленая, словно изумруд, правда. Красиво, мама, восклицает дочь. Бабушка Третья думает. От настоящего изумруда куда больше пользы, рассудительно говорит она. Хохляцкая твоя душа, смеется Дедушка Третий. Лоринков поднимается на стену и глядит оттуда в Днестр, вода течет так медленно, река такая узкая, что хочется, не отрывая глаз от стальной ленты, ступить вниз, и, покачиваясь, потечь вниз. К морю. Хорошо, говорит на митинге в 1991 году молдавский националист Никита Бояшов, если русские хотят забрать у нас Приднестровье, пусть подавятся, но тогда возвращайте нам Буковину и Хотин, Измаил и море. Все верно! В 1972 году что кому принадлежит, особого значения не имеет, потому что принадлежит все Москве, как и комнатка дочери Бабушки Третьей принадлежит ей, как часть квартиры. Не дерзи, выпишу! Колчак-паша, утомленный, садится пить чай в прохладном покое башни Синана, думая, когда уже закончатся эти русские нашествия. Снова Кутузов. Громит татарскую конницу, и настроение от этого, конечно же, у гарнизона не улучшается, сколько бы не бодрился очередной Колчак-паша. Ладно, высидим. Скорее небо упадет и река потечет вспять, привычно отвечает комендант крепости назойливым русским… Бендеры взяты. Русскими командует теперь какой-то Потемкин, человек, судя по всему, серьезный, слово держит, отпускает, как обещал, всех мусульман, но те возвращаются, когда русские дипломаты, по обыкновению, проигрывают войну, выигранную русскими военными. Чехарда. Ружья трещат и везде полно дыма, Папа Первый авторитетно объясняет своей девушке, Маме Первой, что в те времена порох был невысокого качества, поэтому и дымил. Дедушка Третий слушает с улыбкой. Бесцеремонно подходит к форсящему молодому человеку с подружкой и читает тем настоящую лекцию об оружии восемнадцатого века, потому что не любит, когда люди зря треплют языком. Сам — настоящий болтун. Говорит часами, и дочь иногда с тревогой ищет это как симптом какого-нибудь заболевания в «Справочнике фельдшера», потому что увлекалась медициной. Кошки и лекарства. Вот что становится излюбленным занятием нашей Оленьки, пока Папа Второй, улизнувший от матери, пашет целину где-то в Казахстане. Лоринков вздыхает. Ему вдруг приходит в голову мысль, что случилось бы, сумей он улизнуть в 1992 году в Бендеры, как собирался, чтобы помогать нашим ребятам воевать против этих сраных приднестровцев. Как тебе не стыдно говорить про них так, — визжит его русская тетка, истеричная особа, так и не вышедшая замуж к своим пятидесяти годам, — как не стыдно?! Мальчики защищают дом! Да прямо, мальчики, язвительно отвечает юный Лоринков, это все совки, которые никак не смирятся с демократией, а та победила. Приднестровские сепаратисты. Днестр течет. Лоринков кусает губы. Герой войны 1992 года, молдавский ветеран и обладатель ордена Штефана Великого, полковник Карасев оглядывается и видит, что из ста восемнадцати его подчиненных убежали сто шестнадцать, а когда он перестает оглядываться, на него, со стороны бендерской крепости, несутся три русских танка. Прицеливается. Лоринков, сжав руку сына, спускается по лестнице во двор крепости, чтобы купить мальчику пирожок, пусть хотя бы так ест. Потом в автобус. Лоринков боится покупать машину, боится садиться за руль, ему все кажется, что, выверни он неудачно руль, дорогу снова перейдет отара молчащих овец, и на обочине засверкают на оторванных пальцах кольца. Просто мнительность. В ноябре 1806 года к Бендерам вновь подходят русские войска, и следующий Колчак-паша смеется, потому что не плакать же ему: вы становитесь, — пишет он русскому командиру Мейендорфу, — таким же постоянным явлением, как осень или смена дня и ночи. Сдаетесь, спрашивает Мейендорф? Ох, говорит Колчак-паша, а то ты, русский, не знаешь, что я должен ответить — скорее Днестр потечет вспять и небо упадет на землю… Смеются оба. Зачем тебе Порта, спрашивает Мейендорф, ведь твоя семья владеет райей уже почти двести лет, ведь ты в Стамбуле даже ни разу не был. Переходи к нам. Колчак-паша кивает, потому что сдачу крепости покупают за приличную сумму, и снова пьет чай, пока русские мундиры мельтешат во дворе крепости. Султан негодует. Объявляет войну России — это из-за Бендер-то, думает с невольной важностью Колчак-паша — и тогда Мейнедорфу приходится взять турок в плен. Отбывая в Россию, паша оборачивается взглянуть на крепость всего один раз, но плохая декабрьская погода и туман, прибившийся к Днестру, мешает бывшему турку. Ничего не видит.
Новым комендантом крепости становится потомок волонтера, не горевшего в огне, и сидит на стене над Днестром почти тридцать лет, пережив унизительный подкуп кишиневскими купцами царской администрации, отказ Бендерам в статусе столицы. Дрянные жидки и армяшки. Сам комендант женат дважды, первая супруга умирает во время родов, так что семья разветвляется, и один из потомков будет зваться Георгием Лазо, а другой — уже дальний родственник Григория — станет почтенным бессарабским дворянином, который в 1917 году благоразумно сожжет все свои документы и станет мещанином, а сына обязует стать служащим железной дороги. Дедушка Четвертый согласится.
Итак, в один прекрасный день очередной Колчак-паша, проснувшись, увидел под стенами крепости ряды пехотинцев в красной форме, и понял, что войска белого царя все же пришли, и, судя по их количеству, надолго. Ну, что же. Колчак-паша сдал крепость с мечетью архитектора Синана русским, и стал дворянином Российской империи, а в Стамбуле — заочно осужденным на смертную казнь. Он не боялся. В 18 веке в канцелярии султана документы не раз изымались и сжигались, перевороты начинались, еще когда предыдущий не заканчивался. Так что дело не пересмотрели, и именно по этой причине кому-то из Колчаков в конце 19 века вежливо отказали в праве быть послом Сант-Петербурга в Стамбуле. Праправнук Колчака-паши, адмирал Колчак, в 20 веке стал верховным правителем Сибири, хотя дело шло к тому, что красные все-таки победят. Они и победили. Последнего Колчак-пашу вывели на расстрел ночью, хотелось спать, была зевота, но надо было собраться и попросить передать кое-что жене. Палачи обещали и не обманули. Тело ушло под лед камнем. Так писатель Лоринков уходил в сон в номере московской гостиницы. Много позже, когда в России победили белые, об адмирале Колчаке сняли фильм, в финальных кадрах которого тело расстрелянного опускается на дно очень медленно. Кто же так снимает! Мой прадед расстреливал Колчака и, по его воспоминаниям, тело ушло в прорубь за доли секунды, с негодованием написал в местную газету новосибирский ветеран. Извините, не подписываюсь, опасаясь мести от рук буржуазной белогвардейщины, взявшей реванш и разрушившей нашу славную родину, дома народов СССР… Дружба народов… Отец Дедушки Третьего смеется и посвистывает, показывая, как туркмены хлещут казахов и наоборот. Ветеран пишет. Лоринков спит. Адмирал тонет. Москва играет театром теней на стене номера. Бендерская крепость глядит на Бессарабию сверху. Архитектор Синан возвращается в Стамбул. Босфор, о, Босфор, думает он, когда корабль входит в пролив, и слезы наворачиваются на глаза старика. Глубокий, в четыреста метров, пролив приветствует Синана похлопыванием волн о берега. Шлеп-шлеп. Кричат чайки, низкое небо, странный город, о, Стамбул. О, Константинополь. Синан рад вернуться домой. Лоринков рад покинуть свой дом. Колчак-паша уже ничего не чувствует. Его расстреляли.
Село, к которому подкрадывались турки, спас пастух, — ценой не то, чтобы жизни, потому что он был покойник в любом случае, скорее, ценой смерти, потому что замучили его страшно, — громко закричав, он разбудил людей. Турок ждали. Несколько месяцев ходили слухи, что турки вновь пойдут через них в новые земли, ио село перебралось в лес и жили там долго, пока не устали. Врага не было. Тогда люди постепенно вернулись в дома, устав бояться, ведь жить так — все равно, что землетрясения ждать каждый день. Кодры опустели. В лесу осталось лишь имущество, а ночевали в домах. И когда село уснуло крепко, турки пришли, небольшим отрядом, которому нужна не война, а грабеж и правеж, такие хуже всего. Растянулись цепью. Привел их пастух, которого они взял ночью у реки, и в последний момент бедняга понял, что все равно пропал, и ему хватило мужества закричать. Турки! Его проткнули копьем и поджарили заживо, но люди уже повыскакивали из домов и несутся на другой край села, а оттуда через поле в лес, а там ищи-свищи. Нет поживы. Турки, разозленные, жгут дома и церковь, и уходят, ругаясь. Дети дрожат. Сиди тихо, а то турок заберет, говорят молдавские матери детям, и эту поговорку Лоринков слышит еще в 2007 году, когда ночует в деревне у родни, и с неприязнью думает о молдаванах. Экие злопамятные. Детей забирают, — мальчиков можно отдать в янычары, а из девочек растут прекрасные наложницы, двенадцать лет и уже готова, залезай на нее, расставив ноги в приспущенных шароварах. Деревня горит. Женщины плачут, но выходить из леса не нужно, потому что турки нет-нет да обернутся. Марийка вскрикивает, и хватается за сердце. Молодая мамаша спросонья забыла в кроватке полугодовалого сына. Матери глядят с осуждением, мужчины отворачиваются, так что Марийка, прося прощения у себя, Бога и мужа, — тот в монастыре на работах, — несется к селу. Это самоубийство, она знает, но выхода у нее нет. Лучше матери, потерявшей ребенка, умереть. Причитает без слов. Молится, плачет, мельтешит босыми ногами с потрескавшимися пятками, задыхается. Село уже полыхает, — лето и ветер делают дело, — так что Марийка вбегает туда, сорвав в себя юбку и намотав на голову. Задыхаясь, ищет. Думает, что когда найдет изрезанного младенца, то вынесет тело, похоронит, как полагается, и утопится. Хорошо, окрестить успела. Не находит ребенка, плачет, обжигает руки, глотая пламя и дым, выходит из села, и на другом конце, — поодаль от огня, видит люльку. Ее сильно тошнит, выворачивает на дорогу. Всхлипывая и икая, подходит. Ветер шумит. Село пылает. Огонь трещит. Днестр течет. Мать плачет. Мальчишка говорит. И-га-га-го, говорит он. В руках у мальца наскоро обструганная под лошадку палка и мальчишка смеется игрушке. Мать рыдает. Мужчины, думает она, он же еще не стоит даже, ему же еще рано лошадку, ничего они не понимают в детях, будь то турки или валахи… Вынимает сына из колыбельки, и находит под ребенком золотую монету. Турки чрезвычайно детолюбивы, убеждается Лоринков, когда берет с собой сына в их первую совместную поездку в Стамбул, — синеглазого русоволосого мальчика щиплют, тормошат, целуют и угощают сладостями на каждом углу. Прогуливаются к Топкапы. Огромный парк-дворец, Лоринкову приходится взять сына на плечи и они долго ищут среди экспонатов меч великого молдавского господаря Штефана по прозвищу, конечно же, Великий. Святой и Великий. Старинное, но скромное оружие в позолоченных ножнах, — особенно на фоне огромных двуручных мечей крестоносцев, разграбивших Константинополь, — конечно же, не привлекает никакого внимания Матвея. Послушай меня. Сын мой. Никакого внимания. Мальчишка восхищенно кричит, глядя на полный набор самурайских доспехов, выставленных на самом видном месте. Наша история всегда где-то в сторонке. Да и наша ли она, думает Лоринков, который называет себя сыном четырех народов исключительно из нежелания оглашать их действительное — одиннадцать, — количество. К черту мультикультурность. У нас нет ничего нашего, сын мой, думает писатель Лоринков, выходя из Топкапы с сыном на плечах, ничего, кроме тебя и меня. Мой сын это моя история. История сына Марийки становится легендой. В 19 веке писатель Крянгэ пишет цикл рассказов «Воспоминания детства» и вставляет этот эпизод в один из текстов, кое что изменив ради пущей красивости. В подлинность события Крянгэ не верит, слишком уж красиво все получается. Он не знал про пожар. Марийка с сыном и золотой монетой возвращается в лес, и ее шатает, словно пьяную. Позже и правда напьется. Много лет спустя, чем ниже Марийка будет клониться к земле — а от работы на ней вы с ней словно сливаетесь, — тем фантастичнее будет подробности счастливого спасения. Языки пламени. Мальчишка был весь в огне, прокричит беззубым ртом прабабушка Марийка на свадьбе одного из внуков, когда я его оттуда вытащила, и чтобы вы думали. Ни одного ожога. Оставьте, бабушка. Краснеющие дети и внуки машут руками. Вечно старухам хочется что-нибудь выдумать. Да и было ли оно, это счастливое спасение? Старики говорят, что да, но стариков все меньше. Бабушка Марийка совсем сказочница, говорят, улыбаясь, женщины помоложе, а Марийка каждую ночь бежит к селу, где горит колыбелька с ее невредимым в огне сыном. Это семейство, они в огне не горят… Семейная легенда. И ничего больше, скажет потомок Марийки, помещик Георгий Лазо своему сыну Сергею, отправляя мальчика учиться в Сантк-Петербург. Будь человеком. Сергей постарается, хотя, признаться честно, ему будет с каждым годом все труднее. Петербург, Москва, Сибирь. Служба царю, борьба с царем. Крестный путь молдаванина. Красивый, импозантный, с вытянутым лицом и шапкой кучерявых волос, он будет поражать сердца русских девушек, и много лет спустя писатель Лоринков удивится, завидев лицо Сергея Лазо в экране телевизора. Неужели опять в моде? Нет, это современный молдавский политик Серебряну, с вытянутым лицом и шапкой курчавых волос, Бог ты мой, все молдаване на одно лицо, думает писатель Лоринков, которого часто путают с молдавским телеведущим Мирчей Сурду, с которым Лоринков на одно лицо. Да, Лазо красавец, но любить будет только революцию. Это для газет. А если по правда, то уставший донельзя Сергей, измотанный и грязный, будет скитаться по лесам, разбитый японцами, и ночевать в тусклых избах, вспоминая дом, Оргеев, и Днестр, уходящий в холмы, и колокольчики, и овец. Россия необъятная. Это-то и страшит нас в ней больше всего. Лазо держится молодцом, и кричит партизанам «еб вашу мать, хорош мужиков грабить» — хотя слухи об этом опровергает не подписавшийся ветеран, он прислал в омскую газету статью с разоблачением ельцинской клеветы в адрес героев революции. Не было такого. И правда не было, Лазо просто вежливо попросил партизан не грабить мужиков и пригрозил мародерам расстрелом, а матерных слов он никогда в жизни не произносил, потому что отец — дворянин и помещик, был бы ужасно огорчен. Да и маменька… Переживет Колчака. Это его подбодрит, и Лазо вспомнит семейное предание о дальнем предке, который был забыт матерью в суматохе бегства из села, — приближались турки, — и уцелел в огне, да еще и с золотой монетой в кроватке. Судьба обманет. Сергея Лазо схватят и расстреляют на каком-то российском тупичке — каких много в этой удивительной и огромной для бессарабца стране, — и он, глядя в паровоз, к которому их поставят, подумает, что вот он, хоть какой-то край этой необъятной России. Дома умереть было бы куда как легче. Там ты просто ложишься, на тебя ложится земля, на нее ложится трава, и по вам идет отара. А здесь обязательно снег, обязательно ветер, и какие-то чужие тебе люди топчутся над телом уже расстрелянного Сергей Григорьевича. Вся Бессарабия, в которую уже вошли румыны, зашепчется. Расстреляли смутьяна Лазо, а ведь из приличной семьи был мальчик. Ну, или, по другим данным, сожгли в печи живьем, но вот это, конечно, уже преувеличение и неправда. Японцы не жестокие. Лазо не горят.
Писатель Лоринков гуляет по книжной ярмарке в Москве, огромной — что ярмарка, что Москва, — и часто останавливается у стендов издательств. Делать нечего. Лоринков выходит во двор выставки и глядит на самолет, фотографии сноса которого появятся в интернете всего пару месяцев спустя. Сентябрь 2008. Красота русской осени становится для него открытием — даже разочаровавшиеся, вроде Лоринкова, в родном крае бессарабцы, признают, что уж осень-то… Оказывается, не только у нас. Лоринков возвращается в гостиницу, и принимает душ уже седьмой раз в этот день. Переодевается. Лоринков встречается с людьми, и впервые за многие месяцы разговаривает с кем-то о литературе, а не о политике. Бессарабия крайне политизирована. Здесь вполне можно получить отказ от дома, ежели вы поддерживаете политическую партию, не любезную хозяину дома, — будь он трижды ваш друг, — пишет в дневнике русский монархист, бессарабский молдаванин Крушеван. Отказывает от дома нескольким приятелям. По политическим мотивам. В кафе и ресторанах Бессарабии спорят о политике, говорят о политике, думают о политике. Балканский синдром, пожимает плечами Лоринков. В Москве он разговаривает о литературе, которая, — наряду с футболом, заменяет россиянам политику, — или вообще не разговаривает, глядя на замечательных, умных и приятных собеседников с изумлением, словно между ними стекло или вода. Конечно, слушаю. Лоринков бродит по Москве, и лежит ночами в гостинице, глядя в потолок. На торжественном концерте — идет третий день ярмарки — девушки в купальниках и почему-то кокошниках, пляшут на сцене перед пожилыми искусствоведами и литераторами. Лоринков уходит в антракте. Если коньяк разбавить водой, то его можно выпить литра три, узнает Лоринков. Домой он не звонит, иногда ему приятно представить, будто бы он остался далеко от дома навсегда и один, но уже на четвертый день одиночества это проходит. Вокруг говорят на русском, но он здесь иностранец. В Молдавии он тоже иностранец. Он даже у себя дома иностранец, думает Лоринков, признав перед самим собой, наконец, как скучает по этому самому дому. В чужих городах он любит представлять себя последним человеком, оставшимся на Земле после мора или ядерной войны. Ложится в ванную с телефоном. Я слушаю, говорит жена, и Лоринков с досадой думает, что ей всегда есть чем заняться, кроме рефлексии по поводу их то расходящегося, то сходящегося брака. Никогда не звонит первой. Дорогая, это я. Через три дня возвращаюсь, о чем ты, наверняка, помнишь. Чудесно дорогой, говорит она, и мне как раз нужен твой совет, как ты думаешь, какой цвет новой кухни нам стоит предпочесть? Или синий или… Я заказываю. Послушай, говорит он. Да, говорит она. Ладно, говорит он помолчав, давай возьмем синюю. Лоринков бродит по вечерней Москве, Лоринков бродит по утренней Москве и Лоринков бродит по дневной Москве, он спускается в подземные переходы, и он поднимается в неожиданных местах, глядя по сторонам, — случайно он попадает к Третьяковке, и решает войти, чтобы увидеть, наконец, обожаемых голландцев, но запутывается в планировке, так что довольствуется испанцами. Ездит в метро. Пьет на ночь кислое молоко, к которому пристрастился в Турции, засыпает с огромной книжкой телеведущего Парфенова на груди, и ему снится, что на груди его камень, так что ночь была плохой. Делает зарядку. Пытается написать что-то в блокноте, который носит на всякий случай с собой, как отчаявшийся кладоискатель — лозу, ну, а вдруг? Смотрит телевизор. С утра на выставке делать нечего, Лоринков это знает, и с интересом следит за тем, как в чемпионате России по футболу команда «Рубин» сражается за выход в следующий круг с командой «Крылья Советов». Где мои крылья. В морозильнике писатель Лоринков находит пакет пельменей, — на этикетке написано «с телятиной высшего качества», — и решает устроить себе ужин а-ля рюс. Пельмени, водка. Какая-то из команд проигрывает, и огорченные фанаты выбрасывают на поле шутихи и дымовые шашки, и за несколько минут экран застилает дым, совсем как у Бендерской крепости, вспоминает Лоринков, когда там была историческая реконструкция русско-турецкого сражения. Матч остановлен. Лоринков принимает душ, тщательно бреется и глядит в небо. Настолько высокое, что здесь спокойно помещаются здания вроде их легендарных высоток, или МИДа. Идет на выставку. Там беседует еще с каким-то количеством приятных образованных людей, чувствуя себя бесконечно чужим тому, что их объединяет, и решает, что его писательская карьера закончилась. Толком не начавшись. Камень с плеч, и Лоринков роняет во сне тяжеленный том солянки из программы «Намедни» со своей груди, страницы мнутся, но это ничего, потому что книга Лоринкову не понравилась. Снова наступает вечер, и — оглушенный музыкой в московском кафе, где туговатый на ухо Лоринков безуспешно пытался расслышать, что же ему говорят литературные агенты и сотрудники издательств, — он принимает душ, включив телевизор на всю громкость. О, великолепная Скарлетт. Писатель Лоринков стоит, обтекая водой на ковре, и глядит на чудесную блондинку Йохансон, которая сидит на подоконнике двадцать седьмого этажа в Токио. Подружка фотографа. Фильм стоит того, чтобы его посмотреть еще раз, и Лоринков садится на стул, решив продолжить купаться позже, все равно он засыпает здесь глубокой ночью. Йохансон бродит по Японии, совсем как он по Москве. Удобный во всех отношениях, но бесконечной чужой город, думает Лоринков и внезапно пытается представить, каково здесь было Кантемиру, оставившему Молдавию навсегда. Или Друце, вспоминает молдавского классика Лоринков с усмешкой, после чего вновь глядит фильм, в котором Йохансон уже купается с главным героем в бассейне высотного отеля. Переключает. Это «Евровидение», и череда тошнотворных сюжетов с неизменным рефреном «политкорректность», «мультикультурность», вызывает у Лоринкова раздражение. Прелесть Молдавии в многообразии, говорит президент Воронин иностранным журналистам, приглашенным в его резиденцию в Кодры, — дремучие леса, — где когда-то валахи прятались от турецких набегов. Наше богатство это разнообразие народов Молдавии, говорит президент Воронин, при которым русских в республике стало в пять раз меньше, украинцев — в два, поляков — в три, а евреев вообще не осталось. Наша сила в мультикультурности, говорит президент Воронин, и произносит два слова из этих трех с ошибками, заставляя страдать своих спичрайтеров. Лоринков, почесывая высыхающую ногу, думает, что мультикультурность это полная и пошлая чепуха для слащавых сюжетов «Евровидения». Уж он-то знает. Когда на тебя справа давит стена русских, которые рассуждают о молдаванах, евших руками, а слева — стена молдаван с их легендами о русских-пьяницах, — при этом первые едят как лорды, вспоминает Лоринков одного деда, а вторые крепче молока ничего в рот не берут, вспоминает второго деда он, — то вырастаешь нервным. Думает нервно. Исправить это я уже не могу, думает Лоринков, — растроганно глядя на прощание Йохансон с пожилым актером, — остается позаботиться о будущем. Он все предвидел. В свидетельстве о рождения сына писателя Лоринкова написано «русский», и никакого мультикультуризма, ощущения многонациональности, и дебильных присказок про сто цветов в его жизни не было, нет, и, не будет. Писатель Лоринков ручается. В чем главная особенность и прелесть Молдавии, спрашивает его на следующий день рослая и красивая русская девушка из газеты, — а может и радио, — и Лоринков, помямлив что-то несуразное, продает душу дьяволу. Мультикультурность, конечно. Приосанивается и улыбается. Наш кустурица. Вечером ест пельмени, так и не решившись дополнить их водкой. В зрачках мельтешит Москва. Зубы сжаты. Чего я хочу, думает писатель Лоринков, и отвечает, глядя в небо. Свободы.
Дедушка Четвертый жаждет свободы, так что безо всяких сомнений подписывает бумагу, где написано, что он, Василий Тудоряну, будет сотрудничать с полицией королевства Румыния, в противном случае… Все понятно. Каждый час в подвале то пощелкивают, то гремят — это зависит от того, закрыта дверь или нет, — выстрелы, и в камеры, расположенных на первом этаже, заползает ужасающий дым. Поновей, что ли, оружия у них нет? Дедушка Четвертый слегка дрожит, беспокоясь за отца, успокаивает себя тем, что тот пронырливый. Это у них семейное. Вовремя понял, что к чему, отказался от дворянства, стал эсером, и революция их не коснулась, — правда, она в Молдавии мало кого коснулась, — зато теперь пришли румыны и красную сволоту стреляют в подвале лютеранской кирхи. В центре города! Дедушка Четвертый притворно ужасается, хотя ему плевать, где и как расстреливают румыны — главное, чтобы его не расстреляли. Отца пустили в расход. Симпатизировал красным, спросил румынский жандармский офицер, и, не слушая возражений, махнул рукой, и отца Дедушки Четвертого, почетного гражданина, поволокли в подвал. Сам обмяк. Позже член расстрельной команды, которого Дедушка Четвертый чудом нашел в социалистической Румынии Чаушеску, рассказал — у старика отказали ноги. Пришлось тащить. Поплакали вместе, выпили по чарке вина, и Дедушка Четвертый, простив Бога ради, отправился в Кишинев, в МССР, где состоял в Союзе Писателей, потому что инженер-путеец из него получился плохой. Не любил металла. Работать руками не любил, такое у крестьянских сыновей Бессарабии встречается, что уж про него, Дедушку Четвертого, говорить. Ухаживал за ногтями. На ночь смазывал руки жиром, одевал перчатки, спал, положив кисти на грудь. Аристократ прямо. Читал, что испанские короли так делают, и руками только писал, преимущественно стихи, про любовь, про родину. На границе тяжело вздохнул, и бросил письмо с доносом на отцовского палача в ящик, уехал, уверенный, что жандарма расстреляют. В «Сигуранце» лишь посмеялись. У нас в Румынии каждый второй — бывший жандарм и легионер, как сейчас каждый первый — тайный сотрудник службы безопасности, что же теперь за это, стрелять? Тем более, чья бы корова мычала, посмеиваются в «Сигуранце», просматривая контракт, подписанный Дедушкой Четвертым одной не очень хорошей для него ночью. Дедушка Четвертый любит писать. Дедушка Четвертый пишет анонимки. Ему можно, он пережил ужасы румынской оккупации, он уважаемый человек, он вообще столько вынес… Папа не пережил. Расстрелянный в подвале, он лежит в подводе, которую румыны задерживают в городе и определяют на вывоз трупов, — помалкивай, собака бессарабская и вози, благодаря, что сам живой, — и показывает свое лицо ночному городу. Вывозят к овраг. Каких-то тридцать лет спустя комсомольцы зальют его водой, разобьют по бокам клумбы, и назовут озеро в честь самих себя, Комсомольским. Пока безводно. Трупы сваливают в кучу, засыпают землей, — не очень стараются, потому что будет еще партия, вот расстрельная команда в кирхе как раз постарается. Румыны не дураки. Отстреляв всех, кого посчитали нужным, они разрушат кирху в 1940 году при отступлении. Заметали следы. Русские на такие мелочи внимания не обращали. Дедушка Четвертый дрожит и идет по ночному Кишиневу домой, обхватив себя руками. Он подписал бумаги. Теперь, — думает романтичный Дедушка Четвертый, — в самые ответственные моменты его жизни из-за угла будет появляться человек в черном, и, прикуривая папироску, направит все его действия. Фантазер. Охранники у дверей кирхи отворачиваются, когда Дедушка Четвертый вываливается, — ошалев от освобождения, — вдалеке маячит подвода, которая становится все меньше, и Дедушка Четвертый решает идти домой, где, наверное, уже ждет отпущенный отец. Ночует сам. На следующий день узнает о гибели отца и получает разрешение забрать тело, и солдаты очень смеются, когда к ним приходит этот напуганный молдаванин с бумажкой в руке. Ну и что с того, что тебе дали бумажку, олух царя небесного, мы же не обязаны разыскивать для тебя это тело. Мы просто не помешаем сделать это. Копай сам, кретин. Солдаты, покачивая головами, садятся на край оврага — позже здесь будет красивая цементная лестница с каменными львами, и писатель Лоринков поцелует там свою жену, когда они прогуляют фотодело, — и продолжают играть в карты. Копай. Дедушка Четвертый берет лопату и начинает работать, ему кажется, что это дело получаса — но земля требует времени, так что спина у него уже мокрая, и руки ободраны, а тела все нет. Глядит в лица, Стряхивает землю с волос, боится не узнать, оставляет чужие тела в покое, продолжает копать. Попадаются дети. Это вызывает в молдаванине Дедушке Четвертом ужас, и он крестится, бормочет себе под нос молитвы. Все равно копает. Знакомая одежда. Встряхнув отца за грудки, Дедушка Четвертый видит знакомые черты, и успокаивается — все-таки узнал. Вытаскивает тело. Счищает землю, и волочет отца наверх, где его ждет повозка. Спасибо, господа. Угодливо кланяется солдатам, а те, посмеиваясь, спрашивают — куда, кретин. Что-то еще? Дедушка Четвертый суетливо хватается за кошелек, деньги, конечно, принимают, но объясняют — надо бы закопать то, что выкопал. Дедушка Четвертый спускается в овраг, падая на спину и обдирая одежду, — складывает тела обратно, засыпает землей, — детей складывает почему-то отдельно, что, порядок решил навести, издевается кто-то наверху. Солдаты хохочут. Заканчивает. Земля въелась в разодранные ладони, Дедушка Четвертый боится и думать о заражении крови, — так что может быть к лучшему, если его сейчас расстреляют. Солдаты могут. К тому же, его мучают дурные предчувствия, и Дедушке Четвертому кажется, что этот овраг — и его могила. Кость на кости. Скелеты доисторических тюленей, лежавших на островах, гревшихся на беспечном Солнце Гондваны, мешаются со скелетами молдаван и русских, евреев и армян, и вот уже не разберешь, где берцовая кость Ольги Статной, а где плавник тюленя. Дедушка Четвертый, глядя из оврага на звезды, — белые, как лица вырытых, а потом зарытых им покойников, — прощается с миром. Напрасно. Ему везет и в эту ночь, и Дедушка Четвертый увозит тело отца, который решил спастись от красных, став красным, — опрометчивый поступок в Бессарабии 1919 года, — чтобы похоронить рядом с матерью. Той повезло. Погибла в 1916 году, утонула, купаясь. Дедушка Четвертый не находит могильщика — у тех жаркая пора — так что могилу отцу ему приходится копать самому. Он справляется. Устанавливает крест и в ярости и отчаянии дает себе слово никогда больше не прикасаться к земле, не прикасаться ни к каким инструментам, ничего, тяжелее пера, в руки не брать. Держит слово. Родня жены смеется, потому что Дедушка Четвертый, — когда семья выезжает в деревню, — держит в руках сапу, словно девственница кое что, что поможет ей перестать быть девственницей. Прашует неловко. Так что он даже и не берется, а ложится где-нибудь в тенечке и все пишет свои заметульки на бумажках. Образованный человек. О том, что Дедушка Четвертый из бывших, забывается очень быстро — Бессарабия, словно гигантская мясорубка, проворачивается за несколько десятилетий пять-шесть раз, и население меняется чуть ли не на сто процентов. Революция семнадцатого, и раз — выпадают окровавленным фаршем русские помещики, офицеры; девятнадцатый год и румыны — два, и перемалывается мясо пролетариев да простых молдаван; с девятнадцатого по сороковой мясорубка потихонечку жует евреев; сороковой год — новый оборот, и уже недобитых русских эмигрантов ведут к оврагу веселые пареньки в форме НКВД; сорок первый — снова румыны, снова в мясорубку пихают евреев да крестьян… Мясорубка крутится. Мясо лезет. Жир и кровь текут, фарш выпадает. Житель Кишинева 1910 года не узнал бы и сотой части горожан Кишинева 1939 года. Смена населения. Предыдущие исчезают, словно призраки, в каких-то фантастических Латинских Америках, которые в глаза никто не видел, и в куда более конкретном овраге у итальянского консульства, где стреляют то белых, то красных, то румын. Новые прибывают. Румынская администрация и военные, красные из Тирасполя, красные из Москвы, румыны из «Железного легиона», снова красные — все оседают в Кишиневе, чтобы уничтожить предыдущих, и раствориться, став бессарабской пылью. Никто ничего не помнит, все ходят, упершись взглядом в землю, — а что они там видят, смеется писатель Лоринков над соотечественниками, сохранившими эту скверную привычку — разве что отвратительные кишиневские дороги, те еще в начале века приезжих ужасали… Все всего боятся. Поэтому Дедушка Четвертый не боится, тем более, он сын помещика обедневшего, да еще и принявшего революцию, да еще и румынами расстрелянного! Но то при советах. При румынах Дедушка Второй вроде бы осведомитель, хотя ни разу никуда его не вызывали, ничего не требовали, процедура была стандартной, людей пугали, связали порукой. Он не узнает. До конца жизни будет бояться, что коммунисты расстреляют его за сотрудничество с румынами, а румыны — за сотрудничество с коммунистами. Земля пахнет. Дедушка Четвертый это твердо запомнил, люди почему-то представляют себе землю чем-то неживым, — сказал он как-то дочери, удивившейся откровению, папа обычно был словно чужой — а она как мы. Пахнет, воняет, даже иногда, потеет, у нее есть тело, и под кожей оно расползается на мышцы, жир и кости. Земля живая. Уберите от меня Землю, закричит Дедушка Четвертый много лет позже, во время ночного кошмара, будучи уже членом Союза Писателей МССР, членом Союза Журналистов МССР, приват-доцентом, преподавателем марксизма-ленинизма в Кишиневском государственном университете, выстроенном русскими. Румыны жадничали. За двадцать лет при румынской оккупации в Молдавии не было построено ни одного административного здания, воскликнет писатель Лоринков, и как же правы были они, добавит он, подумав. Дедушка Четвертый кивнет. Уберите от меня землю, крикнет он, и ему сделается дурно. А очнется он в Костюженской психиатрической больнице, но это будет позже того дня, когда Дедушке Четвертому придется откопать мертвого отца для того, чтобы закопать его снова — много, много позже. Уйма дней пройдет. Со счету сбиться.
В середине девятнадцатого века в молдавское село Мартаноши, под Кировоградом, прибывает полк: военных обязывают стоять в этой дыре несколько месяцев, пока не начнется война с турком. Ждать скучно. Ну, раз так, господа офицеры, то отчего бы нам не сыграть партейку, пока вино охлаждается. Абас сбегает. Провинциальные офицеры, описанные Лермонтовым, описанные Куприным, описанные Пушкиным — кем только не описанные провинциальные офицеры, — садятся за стол в крестьянском доме. Дым, гвалт. А вот и вино. Денщик, запыхавшись, ставит на столик — рядом с игральным — корзину с бутылками из ручья, до сих пор протекающего рядом с сельским кладбищем. Задумался, чертов сын! Абас виновато улыбается, разводит руками, и открывает бутылки, вино идет по рукам, и офицеры хохочут, рассмешенные чьей-то остротой. Конечно, плоской. Иначе провинциальные офицеры, — кем только не описанные в русской литературе, — шутить не умеют. В армии суровых неразговорчивых людей мало, здесь, как и везде, ведутся интриги, склоки, и люди готовы друг друга подсиживать. По-бабьи. Лоринков изумляется. В 1993 году неразговорчивый министр обороны Молдавии Крянгэ-, суровый офицер, боевой генерал, — сумел в результате сложнейшей двенадцатиходовой интриги сменить начальника генерального штаба. Зарвался, юнец. Прежний начальник, — талантливый военный генерал Петрика, и это черт побери, фамилия, изумляется Лоринков, — был единственным, кто мог выиграть войну против Приднестровья, но в Молдавии таланта мало. Отец смеется. Сынок, говорит он писателю Лоринкову, мне доводилось видеть в армии взрослых мужчин, плакавших из-за того, что им недодали медальку. О, не только в армии. В 1981 году второй секретарь Молдавской компартии Иван Засульский падает с трапа самолета, наповал сраженный инфарктом. Причина в машине. К трапу самолета подали не «чайку», а «волгу», вовсе не положенную по статусу второму секретарю, читает Лоринков об этом удивительном случае в мемуарах кого-то из партийных молдавских бонз. Умирает в больнице. Вдова и семья покойного еще много лет будут поминать недобрым словом конкурентов по партии, которые лишили Ивана права на «чайку» и, стало быть, на жизнь. Лоринков смеется. Поручик Лазо, — из многочисленного семейства помещиков Лазо, — тоже не имеет права по статусу на денщика-мавра, однако же, завел, шельмец. Абас из эфиопов. Для середины 19 века это уже выглядит несколько… вызывающе. Коллеги завидуют. Иной полк хуже института благородных девиц, а иной институт благородных девиц хуже борделя. Мартаноши спят. Абас крадется к ручью. Так что командир полка только рад, когда к нему приходят местные, кланяются в ноги и предъявляют попорченный товар, — глупую девку, у которой, наверняка, и ноги черные. Полковник вздыхает. Абас таращит глаза и скалится. Он только рад понести заслуженное наказание и очень огорчается, когда узнает, что его должны, — по законам военного времени, — повесить. Конечно, стращают. Можно ведь и женить, чего, собственно, Абасу и хочется: он не против просыпаться, глядя на кукурузное поле за селом, ходить по воду к ручью, где встретил девушку, жить здесь и умереть. Мартаноши празднуют. Свадьбу отмечают всем селом и полком, посаженным отцом молодых становится русский полковник — сраженный в Мунтении шальной пулей, — поручик Лазо досадует, но денщика прощает. Выдает жалование. Глиняная посуда глухо стучит. Сальные частушки и песенки, берущие свое начало — поясняет подвыпивший и вечно умничающий поручик Лазо — из древнего культа плодородия, господа. Невеста краснеет, а что там у Абаса под кожей, никто не знает. Эфиоп и молдаванка живут счастливо, пожалуй, даже чересчур, о чем каждую ночь счастливая супруга оповещает село криками и стонами, — такими, что от них даже небо дрожит. Стыд какой. Действительно, большой. Наверное, это девчонку и сгубило, думает село, когда Абас, — спустя семь лет, — остается вдовцом с тремя детьми, кучерявыми, но не черными, а просто очень смуглыми. Церковно-приходская книга толстеет. Священник села заносит в нее данные о свадьбах, рождениях, смертях, и крестинах, сельских праздниках. Листья желтеют. Обложка треплется. Ее меняют четыре раза, последний раз переплет изготовили из парчи, это богатые сельчане решили показать, что для церкви им ничего не жаль. Абаскины тоже. Состоятельное семейство, многочисленное, негров нет, но через поколение у детей Абаскиных — толстые негритянские губы, кучерявые волосы, сплющенные носы. Книга толстеет. Парча протирается, а в 1918 году ее протыкает штыком красногвардеец Лычко, тоже уроженец села, только из малочисленной, — украинской — части. Получай, религия. Получай, Бог, говорит спокойно и презрительно Лычко, и вынимает штык из старой сельской Библии, придерживая книгу сапогом, потому что лезвие застряло в пухлых старых листах. Ожесточенный сердцем. Жена и дети у него умерли — шестеро душ — в тяжелые времена, пока Лычко на фронте был, христарадничали, выжил только мальчишка, которого взяли к себе Абаскины. Благодарствую, кланяется красноармеец. Губы кривятся, и Абаскины видят, что солдат вроде как и не благодарствует, а вроде как даже и издевается. Хата горит. Красноармеец Лычко поджигает дома середняков, и старший Абаскин — большой кучерявый мужчина, — становится бездомным, собирает своих девять душ, садит в повозку, и едет в Бессарабию. По прабабушке мы из молдаван, объясняет он жене, стало быть, там нам и жить. За ним тянутся еще несколько семей. Село Мартаноши провожает их треском горящих изб. Хорошее было село, богатое. Прощай, Абаскин, говорит Лычко и спасибо за сына. Прощай, Лычко, говорит Абаскин и снимает шапку, зла не держи, а я тебя прощаю. Старший Абаскин умный человек, даром что крестьянин, и знает, почему рвануло. В 1872 году император Российской империи выписывает наградной лист на имя мещанина Могилевской губернии Тимофея Свириденко, шести лет. Как стало известно нам, оказавшись сиротой, в то время как отец его сражался за Отечество на русско-турецкой войне во славу России и во имя освобождения братских нам славянских народов, Тимофей схоронил мать, погибшую от лихорадки, отягченной недоеданием… Как стало известно нам, Тимофей проявил похвальное благоразумие, не ступив на путь преступный, а обращаясь лишь к обществу за помощью, и собирая подаяние со всех окрестных сел… Двухлетнюю же свою сестру Елизавету мещанин Тимофей Свириденко клал рядом с собакой, которая теплом тела своего не позволяла ребенку замерзнуть насмерть в землянке, вырытой руками Тимофей Свириденко… Молоком этой же суки маленький Тимофей кормил сестру в те дни, когда подаяния не удавалось собрать… По нашему разумению… Обеспечить Лизавету средствами на обучение в приюте для девиц, Тимофея же оформить… Осунувшийся мальчишка со сведенными голодом ребрами, двухлетний перепуганный щенок в человечьем обличье. Потрясающая история, господа! Взрослые старики. Сколько таких не дождались наградного листа, думает Свириденко, прикрепляя красный бант на грудь в 1917 году, и это он-то, на старости лет, почтенный человек, доктор, ставший всем этим благодаря императорской милости… Неблагодарная сволочь. Мартаноши трещат и пылают, как и при турках — а они сюда доходили — не горели. Красноармеец Лычко беснуется, и его отряд — мстители, кара Божья, шепчет сельский священник, — смотрят безучастно на командира. Сын плачет. Тятя, говорит он, ты странный. Нет, нет, сынок, говорит Лычко, дрожа. Успокаивается. Обессиленный, глядит на пустые улицы, идет ночевать в церковь, но не спится, так что он гладит голову сына, который лежит рядом. Организует колхоз. В 1937 году страшно голодают, зато в 1939 году каждый передовик получает по 10 подвод с зерном, и село захлебывается в вине и давится едой, наступает изобилие, но в 1941 году приходят немцы. Пять лет голода. Приходят наши. Плачут от радости. В село приезжает корреспондент, снимает на камеру. Грузовик, на нем трое мужчин, — это немецкие прихвостни, — на шеях у них веревки, другим концом привязаны к столбу. Грузовик трогается. Следующий кадр — трое жалких червей, изменивших советскому народу, болтаются на ветру Мартанош. Старший Лычко встречает сына, угнанного в Германию, но чудом там выжившего, и гладит голову мальчишки. Этот день Победы…. В 1947 году снова голод, и младший Лычко ловит в амбаре воробьев, в сеть попадают четырнадцать птиц, большая удача, но доносит отцу он всего семерых, остальных съел сам. Ничего, сынок. Вот тебе пять птичек, а отцу и двоих хватит. В 1949 году председатель колхоза Лычко получает поздравительную телеграмму от самого Сталина за успехи в сдаче зерна, так что в село подвозят продуктов. В 1951 снова голод, и Лычко просыпается от бормотания сына в углу хаты, — это он во сне — разобрать можно только слово «хлебушек». Мальчишка тощий, да и не мальчишка он давно уже, под сорок, так и не женился — малахольный, не вырос толком, голодал все время, лучше бы помер в детстве, думает иногда с досадой и жалостью отец… Председатель утром вышел на край села, где между кукурузным полем, — ни одного початка сейчас не было, — и кладбищем течет ручей. Здесь сто лет назад чернокожий Абаска, — денщик поручика Лазо, — увидел молдаванку и захотел остаться. Сел у воды. Поднял голову, шевелил губами. Кается, подумал сын бывшего сельского священника, не расстрелянного, но посидевшего свое — а чужого нам не надо, — глядя на председателя издалека. Покается, подумал Бог. Ошибались. Господи, сказал Лычко, ну что же ты, а. Ручей шумел. Господи, сказал председатель Лычко, когда мой сын наестся? Бог, вроде, сжалился. Какой-то год перетерпели, и уже после этого никогда не голодали, хлеба было вдоволь, кукурузы тоже — ее здесь задолго до Хрущева сажали, — так что село вновь разрослось. Приезжали молдаване. Искали церковно-приходскую книгу, разговаривали с местными, почтительно кланялись старому, — под девяносто уже, — председателю Лычко, похоронившему пятидесятилетнего сына. Тот сильно болел печенкой и все просил перед смертью покушать сала. Ну, отец и таскал, почти месяц, в кировоградскую больницу, так что сын голодным не умер. Наелся от пуза.
Красная площадь совсем даже не красная, она серая, в булыжниках, и идти по ним страшно неудобно, особенно Дедушке Четвертому, который носит туфли на каблуке в пятнадцать сантиметров. Невысокий щеголь. Такие туфли в МССР будут только у него, да еще и председателя республики, Ивана Бодюла. В 1993 году туфли продадут внуки дедушки Четвертого, — на вещевом рынке Кишинева на месте бывшего аэродрома, — чтобы купить продуктов. Пока туфли новые. Дедушка Четвертый стоит в костюме и молдавской шапке — кушме — и улыбается, за ним Красная площадь и Кремль, за ним великий советский народ и прекрасное будущее, за ним Система. Он преуспевает. Член Союза Писателей, почетный член Союза журналистов МССР, разъезжает Дедушка Четвертый по республике, словно вестник будущего, намек на грядущее. Здравствуйте, мы из газеты «Советская Молдавия», а заодно и по разнарядке на культурный вечер в вашем клубе, да отчего же нет, по стаканчику, конечно. От бутылки вина не болит голова, а болит у того, кто не пьет ничего, ха-ха. Молдавия жирует. Изобилие шестидесятых выплескивается через край, занося в квартиру Дедушки Четвертого горы еды, моря выпивки, — и в какую квартиру! Три комнаты! Два балкона! Стены сочатся вином, в двухсотлитровой ванной плещется ароматный суп с лучшими и свежими продуктами, на перилах в подъезде сушатся связки чеснока и лука, вместо штор висят отрезы ткани, подвал заполнен картофелем, морковью и луком, с люстр свисают окорока и колбасы, масло течет по пальцам, из крана брызжет молоко. Задыхаемся в еде. Мешки конфет. Вот что вспомнит позже Мама Вторая о детстве и об отце, который девочке был не рад, и все ждал, когда же у него появится наследник. А теперь тост! Дорогие друзья, говорит симпатичный, умеющий болтать молдаванчик — так позже охарактеризует Дедушку Четвертого с неприязнью Бабушка Третья, — давайте выпьем за дружбу народов. К примеру, я. Сын народов украинского и молдавского, румынского и гуцульского, а вот моя жена — украинская молдаванка, чей прапрадед был, представьте себе, эфиоп! Да-да. Азербайджанцы восторженно перешептываются. Эфиоп в предках это престижно и напоминает о Пушкине, хотя во всех остальных смыслах ему до Пушкина далеко, понимает Дедушка Четвертый, просматривая свои записи на четвертушках бумаги, — тех после его смерти найдут в ванной и кладовке больше трех тысяч четырехсот штук. Внук найдет. Командировки в Москву. Каждый год Дедушка Четвертый станет фотографироваться на Красной площади, которая вовсе никакая не Красная, а серая, особенно на черно-белой фотографии. Улыбается. Почти все одинаково на снимках, кроме того, что узел галстука съезжает набок все сильнее, и лысина на голове Дедушки Четвертого все больше и больше, но он не переживает. Кушма прикроет. Шапка это колорит и необходимая деталь, по этим приметам национальная интеллигенция из республик узнает друг друга без слов, когда встречается в Москве. Украинцам — косоворотки, молдаванам — кушмы, белорусам — что-нибудь с вышивкой, ну и так далее. Сестрам по серьгам. Дедушка Четвертый женат счастливо, супруга красива, глаза большие, черные. Потомок эфиопов! Правда, Дедушка Четвертый знает еще, что он перед выбором, и пора определяться: будет ли он чиновником от литературы или, собственно, литератором. В СССР разницы нет. Много лет позже писатель Лоринков прочитает в записях философа Галковского, что писатель был в СССР профессией, и, — вспомнив отца матери, — согласно кивнет головой. Но если на самом деле, то разница есть, и Дедушка Четвертый спрашивает себя, готов ли он променять одно на другое, ведь, безо всяких сомнений, кое-каким талантом он обладает. Не Пушкин, но… Остаться функционером, написать производственный роман-другой, зажиреть, отупеть… или все-таки писать по-настоящему? Даже вопрос какой-то… производственный. Так что все ясно. Все разрешается само. Семья растет. Буду писать в стол. Рождаются, — один за другим, — мальчики, и Дедушка Четвертый, с облегчением положившись на провидение, носится по МССР, — обменивает положительные репортажи о колхозах-миллионерах на мешки с брынзой и грузовики с мясом. Меняет диссертации на тонны конфет, а те — на место в кооперативе, а уж то — на место в Аллее Славы местных классиков. Он может сделать так, что вы получите место на закрытом давно Армянском кладбище, — правда, придется за это «пробить» поездку внука директора кладбища в Болгарию на слет комсомольской молодежи, но это легко осуществить, потому что есть один человек в горсовете, и тому позарез нужна помощь в защите докторской, а вы ведь може… Бог обмена. Стремительный и тороватый Дионис. Знает всех. Может все. Сумеет обмануть и еврея, что в МССР дело, вообще-то, практически неосуществимое. На самом деле Дедушка Четвертый политик, просто он не очень это понимает, ведь политика в Советском Союзе это горячее обсуждение антиконституционного переворота в Чили и чтение бесполезных газетных статей про бесполезную Северную Корею, чем, например, увлекается его странный новый родственник, отец пацана, который бегает за дочкой, Мамой Второй. А знаешь, — скажет она Папе Второму как-то, — отец только и делал, что нес, нес да нес в семью. Словно огромный хомяк. Ага, скажет Папа Второй, и повернется набок, чтобы не захрапеть, когда уснет — а на спине он храпит всегда — и погладит жену по руке. Дедушка Четвертый устраивает детей в институты, племянников в университеты, дает кому надо, берет у кого можно, у него всегда три вакантных места в мясомолочном техникуме, и две вакансии на кондитерской фабрике «Букурия». Лекций не читает. Рассказывает студентам о том, о сем, они ему благодарны, зачеты ставит за приятную беседу, и Дедушка Четвертый со временем начинает беспокоиться из-за растущего живота, а с лысиной давно уже смирился. Носит портфель. Типичный советский национальный интеллигент, сказал бы Лоринков, увидев фотографию Дедушки Четвертого. За папку начальника и шапку-пирожок Богу душу продаст. Бог Дедушки Четвертого это семья. А еще женщины, так что каждый год в Москве, — кроме фотографирования на Красной площади, — у него есть еще один ритуал. Звонок, гостиница, десять рублей портье, конфеты, муж в командировке, я привез бутылочку чудесного вина. Каждое лето поездка на курорт Трускавцы, минеральные воды, симпатичные разведенки, это не говоря уж о массажистках, чайники с горлышками в виде рыбки, сине-белый фарфор, «Курорт Трускавец 1964», «Курорт Трускавец 1967», золотые кольца на пальцах буфетчиц, перстень у Дедушки Четвертого, — провинциал есть провинциал — и юбки. Короткие, длинные, не брезгует даже шерстяными, лишь бы было на ком задрать. Бабник страшный. Страшное прошлое и выкопанный отец больше не беспокоят, что же поделать, такова Бессарабия, здесь труп на трупе и трупом погоняет, мирные времена нашего края закончились здесь в начале века. Дедушка Четвертый его ровесник. На Комсомольское озеро ходить не любит. Я лучше дома посижу, пупсик, говорит он жене, и та ведет детей гулять, зная, что муж непременно приведет домой какую-нибудь потаскушку. Бесстыдник. Зато на детей молится. Женщины и семья. Вот что лучше всякого смирения вытравляет из Дедушки Четвертого мысли о настоящей литературе, и он окончательно становится обычным функционером средней руки: книг не читает, искусством не интересуется, в Союзах состоит ради благ, писать и думать забыл. Знать, не очень и надо было.
Дедушка Четвертый держится до семидесятых, выдав замуж старшую дочь и, и с нетерпением ждет, когда же вырастет младший. Любимый сын. Тот растет непутевым — поздний ребенок, — избалованным верзилой, и Дедушка Четвертый с тревогой думает, что семья сползает по статусной лестнице. Сын-недоучка! Не бывать этому, орет в ярости Дедушка Четвертый, когда узнает, что средний решил после школы идти в какую-то ремонтную мастерскую или в кулинарный техникум, черт разберешь, а в институт не хочет. Коллеги засмеют. Культурный человек, образованный, в Союзе Писателей состою, и чтобы сын в шестеренках копался? Дедушка Четвертый трясется. Падает, и его еле успевает подхватить маленькая, всегда плачущая жена, сын помогает тащат выгибающееся тело отца к дивану, — прижимают руки и ноги, чтоб сам себя не калечил. Язык придерживают. Диабет.
… Дедушка Четвертый угасает быстро, взгляд опускается, ходит, потряхивая головой, на груди кусочек бумажки, написано «я диабетик, пожалуйста, если вы видите, что я лежу без сознания, сообщите моей семье по телефону… адрес…». Семья растет без его воли. И, как всегда бывает, все делается не так, идиоты чертовы. Некоторое время он пытается бороться, но бойцовские качества, — вспоминает Дедушка Четвертый ров и солдат, броситься на которых с лопатой ему не хватило духу, — это не его сильное место. Жизнь растратил. Вот что самое страшное, понимает вдруг Дедушка Четвертый, отчетливо осознав, что — когда он умрет, — останется лишь бюстик на местной аллее бессарабских писателей. А книг нет. Писать их уже поздно, нет попросту сил, руку поднять трудно. В классики он не выбился. Дедушка Четвертый решается на аферу, в 1978 году разыскивает главу районы Рышкановка и с глазу на глаз говорит с ним, — речь идет маленькой тайне советского чиновника, — о дипломе, полученном за деньги. Хорошо, пять тысяч. Дедушка Четвертый возвращается домой с пачкой денег в кармане, и чувствует, как деньги буквально оживляют его, видит впервые за много лет каштаны, — которыми засадили обе стороны проспекта Ленина, — слышит смех в троллейбусе, оборачивается. Помог сыну. Автомобиль, первый взнос за кооператив, так что Дедушка Четвертый снова набирает номер главы района Рышкановка. Я ведь не снаряд. Могу и два раза. Отчаявшийся чиновник обращается в милицию, там, к счастью, находится знакомый Дедушки Четвертого, который советует семье переждать неприятности. Дедушка Четвертый с нервным срывом ложится в клинику. Есть и минусы. Например, репутация психа. Я не сумасшедший, говорит он истово младшему сыну, который пришел навестить его, мальчик мой, я не сумасшедший. Антоша молчит. Тогда почему ты здесь, — спрашивает он, наконец, недоверчиво отца, и тот поникает, ну, что ты скажешь. Я шантажист, сынок? Прячусь от органов? Поверь, говорит он, просто поверь, я не сумасшедший. Ладно, папа. Мальчик глядит в окно второго корпуса лечебницы, из которого открывается вид на виноградные поля, а за ними виднеется вишневый сад. Ха-ха. Пушкин наплевал.
Спустя полгода дело замяли. Дедушка Четвертый возвращается домой. Умирает через двадцать лет, но мог бы сразу. Он овощ. Говорит что-то себе под нос, кушает по расписанию, кашка, овощи, все тертое, все вареное, без сахара, ставят уколы, но живот все равно растет, а мышцы дряблеют. Дедушка Четвертый лежит на диване. Храпит так громко, что внуки испуганно говорят бабушке, — где-то вертолет. Ходит под себя. На диване клеенка. Сын пошел в мастерскую и начал пить. Дочь плачет, когда приезжает, но это случается редко, они с мужем — Папой Вторым — кочуют по всему Советскому Союзу, это непорядок, думает тупо Дедушка Четвертый. Без корней Семью не создаешь. Но Семья Дедушки Четвертого существует лишь в его прохладной, пахнущей мочой комнате. Все грызутся, ссорятся, а там и восьмидесятые наступают, так что Дедушка Четвертый ждет не дождется смерти. Но ее все нет. Наступает рецессия. Старик встает с кровати, отлипая ляжки — он, как всегда последние лет десять, в семейных трусах, — и крутит диск. Симпатичная разведенка лет шестидесяти. Совсем девчонка. Приходит к Дедушке Четвертому и они возятся на клеенке, когда в комнату заходит уже выросший младший сын, неожиданно вернувшийся домой, и смотрит пораженно на все это. Папа, говорит он и восхищенно смеется, вы что это, папа?! Ну, папа…
В 1997 году в Молдавии становится на одного писателя больше — бывший министр обороны Молдавии Павел Крянгэ пишет книгу, которую издают тиражом пятьсот экземпляров, в мягкой обложке. Молдавский Пиночет. Двумя годами раньше Крянгэ решается на переворот и ведет бронетранспортеры — какая страна, такая и техника, смеется генерал Советской Армии Крянгэ, — к Кишиневу, но останавливают русские. Звонят, просят прекратить. Обещают, что президента сменят в любом случае, и, — редкий случай, — Москва не обманывает, на место колхозника и националиста Снегура приходит болтливый космополит Лучинский, которому, тем не менее, радуется вся Молдавия. Позже он станет ее первым разочарованием. Позже. Ключевое слово Бессарабии. Чтобы здесь не случилось, нужно подождать, потому что истинное положение дел открывается нам позже, думает Лоринков, в день победы Лучинского напившийся коньяку и кричавший что-то обидное из окна парламента в здание напротив. Президентский дворец. Неудачник Снегур. Ха-ха. Первое, что делает новый президент Лучинский, — отправляет в отставку министра Крянгэ. Молдаване. Жрут лучших, бормочет Крянгэ, сожравший чуть раньше начальника генерального штаба Петрику. Пишет книгу. Я хочу рассказать, — начинает он, — а потом спрашивает стенографистку, может так и назвать книгу, а? Хочу рассказать. Писатель Лоринков ищет книгу бывшего министра обороны Крянгэ в магазинах, на складе издательства, и находит лишь один экземпляр в национальной библиотеке. Копирует страницы. Когда он приходит в библиотеку в 1999 году, книги здесь уже нет. Как и положено всякому высокопоставленному военному, Павел Крянгэ почти все мемуары посвящает интригам, разборкам и сплетням: кто кого обошел, кто кого подсидел, кто кого и как не поздравил, забыл оделить… и от брошюрки в лицо Лоринкову веет затхлым смрадом атмосферы провинциальных гарнизонов. Так, должно быть, пахла хата, приспособленная в селе Мартаноши под офицерский клуб. О, провинция, ты константа. Генерал Крягнэ уделяет в своей книге всего лишь двадцать страниц гражданской войне 1992 года, и это единственное, что интересует в этих воспоминаниях писателя Лоринкова, который небрежно перелистывает начало и конец. Ага, вот оно. Ну, рассказывай.
Павел Крянгэ в 1992 году становится начальником генерального штаба армии Молдавии, и получает приказ придумать план по захвату Приднестровья. Кряжистый мужик. Чем-то смахивает на Грачева, на Лебедя, все — десантники, афганцы, с юморком, грубоватые. Все — неудачники. Едет на «Волге» в сторону Тирасполя, глядит на холмы, слушая залпы — война уже идет, — и находит под Бендерами премьер-министра Друка. Спрашивает того, какой ему представляется военная организация в Молдове и Друк отвечает, что провел смотр полка «Тигина-Тирас», и в ближайшее время будет сформирован еще один полк. Обмундирование заказали в Германии и Швеции. Я обратился к помощнику Друка, — пишет Крянгэ, — и тот сказал «создадим один полк, потом другой, и вы станете командующим армией». Пораженный Крянгэ проводит смотр. Спина мокрая. На пыльном, — как и все в Молдавии, — плацу собираются сто с небольшим человеком, это и есть весь полк, со смехом и изумлением читает писатель Лоринков, сто человек в полку, мать вашу. Сто десять, укоризненно уточняет офицер Крянгэ в своих мемуарах. Все они, добавляет он в своих воспоминаниях, представляли собой весьма жалкое зрелище и лишь один из резервистов мог бы исполнять обязанности сержанта. Фамилии не помню.
В 1992 году писатель Лоринков с тревогой глядит в экран телевизора, по которому мелькают фигуры в камуфляже, это наши войска входят в Бендеры, рапортует диктор «Молдова-1» и Лоринков радуется. Наконец-то. Правда, спустя пару дней диктор мрачнеет, мрачнеет и учительница румынского языка в школе, зато веселеет учительница русского языка и литература, соученики же Лоринкова веселятся от души, потому что это русская школа. Мать недовольна. Ох уж эти русские, бросает она, и Лоринков знакомится с новичком, парня перевели из Бендер, его отец полицейский, и сейчас воюет там. Фамилия Русу. Значит, из русских, тех селили в конце 19 века и всем давали фамилию Русу, в смысле, русский, как все перепуталось-то, вздыхает учительница физики, она немка и вот-вот уедет. Привет, я Женя. Когда мальчишки жмут друг другу руки, штаб Министерства обороны, анализируя обстановку, предложил призвать военнообязанных, сформировать подразделения, вооружить и обучить их на наших полигонах, а затем передать МВД, пишет суконным, — а другого у него не было, — языком генерал Крянгэ. Но видный националист той поры, генерал Косташ, — бывший руководитель ДОСАФ в МССР (Дедушка Четвертый покупал у него парашютные разряды для мальчиков из правильных семей) — с предложением не согласился, заявив «пока мы туда не пойдем, проблема сепаратизма не будет решена». Тринадцатилетний Лоринков возвращается домой и ставит чайник на плиту, увлеченно рассказывает матери о новом ученике. Какой невнимательный! Снова включил газ, а огонь не зажег, укоризненно говорит мать. Но зажечь газ не получается. Его нет. Это Приднестровье перекрыло трубу в ответ на нападение, и весь Кишинев высыпает на улицы, готовить еду на кострах, и электрическая плитка в эти месяцы стоит половину автомобиля. Чаю не попили.
Генерал Крянгэ едет на Кошницкий плацдарм и признает, что, — практически, он обожает совать это «практически» повсюду в тексте — централизованного управления в зоне конфликта не было. Отсутствовали средства связи, жалуется автор мемуаров. Рассказывает забавную историю. С Крянгэ был генерал Дабижа-Казаров, которому дали слово. Дабижа сказал, что генерал Крянгэ назначен начальником штаба при президенте и отвечает за боевые дела в этом регионе…. Скоро мы будем проводить операцию в этом направлении, сказал Казаров, и показал на северо-восток, и лицо Крянгэ вытянулось. Позже я спросил, — пишет Крянгэ, — зачем рассказывать о секретных планах, но Дабижа промолчал. Планы наступления обсуждались в Кишиневе в то время чуть ли не в школах. Политрук приднестровского батальона «Днестр» приезжал на выходных домой — в квартиру по соседству с Бабушкой Четвертой — и выходил за молоком и хлебом в камуфляже без знаков различия. Здравствуйте, как ваше ничего. Лоринков со своим новым приятелем — чей отец лежит, отстреливаясь, в комиссариате полиции Бендер, — решает сбежать на войну. Помогать нашим. Кому нашим? Сейчас Лоринков не уточняет, он ведь не эфиоп Абас, и, если покраснеет, это станет заметно. У приднестровцев появляются танки, пишет Крянгэ, но они договариваются с молдавским командованием не применять их. Взамен мы не применим «Ураган». Чистая сделка, сказал бы Дедушка Четвертый. Справедливо, кивает писатель Лоринков, сидя в читальном зале национальной библиотеки, и гадая, почему книги нет в продаже. Сделка длилась неделю. Потом «Ураган» заполыхал, и танки пошли вперед. Генерал Крянгэ продолжает. Большая часть 18-19-летних необстрелянных молдавских солдат не выдержала психологически танковой атаки приднестровцев, — вспоминает он разорвавшегося у него на глазах наблюдателя, в которого попал танковый снаряд, — и побежала. Танки остановили офицеры, пишет Крянгэ, и добавляет с гордостью — молдавские офицеры. Полковник Карасев, начальник штаба Чиходарь, командир батальона Продан, рядовой Малинин, перечисляет он. Им на помощь отправили колонну мотострелков, и те попали под дружественный огонь у Бендерской крепости, пишет Крянгэ, и Лоринков вспоминает то место, где это произошло — он спрашивал, ему показали — и уцелели всего несколько человек.
Ну, а чем мы там будем воевать, спрашивает писатель Лоринков дружка Русу, не будем же бегать, как бабы, без оружия? Там оружия валом. Добровольцам, к тому же, еще и раздают, говорит Женя. Добровольцы обратились ко мне с просьбой помочь вооружением и боеприпасами, пишет генерал Крянгэ и добавляет, что его настолько тронул их патриотизм, что он принял решение выделить отряду автоматы, пулеметы, гранатометы и боеприпасы к ним. Мальчишки собирают сумку. Покупают пять литров пива, наливают в пластиковую бутыль, и пьют на спор, кто быстрее. Побеждает Лоринков. Восхитительное чувство опьянения меняет его взгляды на алкоголь, до сих пор несколько — как всякому подростку на раннем этапе созревания и положено — ханжеские. Пьет с удовольствием. Они решают быть снайперами. Такие действительно есть, подростков, которые воюют за Молдавию, называют «бурундуками». Оба недурно стреляют. Относительно румынских офицеров-инструкторов, летчиков и других специалистов, — отвергает Крянгэ многочисленные обвинения приднестровцев, — могу сказать, что они никогда не находились ни в гарнизонах, ни на наших воинских позициях, ни тем более на боевых позициях. Как и «бурундуки». Это он добавляет во время интервью в 1997 году. Кишинев сидит у костров. У въезда в город бетонные плиты. Постовые с автоматами. Семьи бендерских полицейских, оставшихся верными Кишиневу, вывозят на правый берег. Селят на турбазе «Дойна» в парке на Рышкановке. Это ненадолго, пара месяцев, и вернемся в Бендеры и Тирасполь и заживем, а пока четыре койки в комнате. Кормят в столовой. Играют в волейбол. Писатель Лоринков с дружком Русу, — который знает всех там, — ходит на турбазу каждый день, танцует на дискотеке под «Леди в красном», носит дипломат с зубной пастой, дезодорантом и бритвой, и ухаживает за дочкой полицейского. Если увижу, что ты правда меня любишь, говорит она, кутаясь в шаль — а ничего больше они вынести из квартиры не успели, эвакуация была срочной, казаки нажимали — обязательно перепихнемся. Что? О, да. Это важно. Так что Лоринков на некоторое время откладывает свою отправку на войну, тем более, что она не заканчивается. Война тянется целое лето. Вечность для подростка. Гребанная Россия, если бы они не помогали приднестровцам, давно бы уже все кончилось, говорит Русу, который в 2006 году переезжает на ПМЖ в Россию. Все сложно, говорит он перед отъездом… В 1992 году все гораздо проще, и мальчишки все же решаются, — ждут вечером поезда, который едет почти до Бендер, но он все никак не едет. Отцовский пистолет, консервы. От усталости засыпают к полуночи. Проваливайте, салаги, несколько дней поезда будут ехать только в нашу сторону, эвакуировать войска из зоны безопасности, вы что, не слышали последние новости? Подписано перемирие. Чего уж там, война проиграна, это признает и генерал Крянгэ в написанных позже мемуарах, так что мальчишки плетутся домой. Троллейбусы не ходят. Ветер. Тени деревьев пляшут на кишиневском асфальте, и если посмотришь вниз, голова кружится. Ничего, в следующем году победим. Губы мягкие, груди полные. Обязательно перепихнемся. Дома мать слушает вранье про поздние занятия карате, и кладет на тарелку салат оливье, качает головой. Какой рассеянный. Зачем ты ставишь чайник на плите, газа же нет с прошло… Пламя вспыхивает.
По утрам во дворе кричит старьевщик, это значит, что скоро у подъезда загремит бидоном молочник, — тот ходит сюда, на край города, прямо из костюженского села. Пора вставать. Но Бабушка Четвертая давно уже на ногах, готовит завтрак для Дедушки Четвертого и детей, а сама уже искупалась, и причесалась. Бабушка Четвертая вся в делах. Ладная, спорая учительница химии, — очень требовательная, и по-большевицки непреклонная ко всем, кроме своих детей — она, тем не менее, прекрасная домохозяйка. Дедушке Четвертому повезло. Бабушка Четвертая, — моложе его почти на пятнадцать лет, — несет на себе груз хозяйства, словно африканка — тяжелый кувшин с водой на голове. Играючи и скалясь. Бабушка Четвертая собирает виноград на плантациях за городом, и каждое десятое ведро отдают ей, Бабушка Четвертая поет на сборе клубники, Бабушка Четвертая берет себя килограмм с собранных десяти, Бабушка Четвертая кладет виноград и клубнику в банки, по горсти в каждую, и закатывает их. Прямо в ванной. Бабушка Четвертая крутит компоты, Бабушка Четвертая варит сливу с сахаром в медном тазу, и пенка на его краях так соблазнительно вкусна. Дети ссорятся. Я хочу пенку, говорит дочь, нет, я хочу пенку, из упрямства возражает средний сын, который, вообще-то, пенку терпеть не может. Дети, тише. Бабушка Четвертая выгуливает детей на Комсомольском озере, которое построили наши комсомольцы, молодцы, и сама она тоже участвовала, ее класс был первым, кто прорыл канаву по периметру озера, — ставшую основой водопроводных стоков. Молодцы, ребята! Трудились, не покладая рук, все, а самым активным был, как всегда, Ион Суручану, смешной парнишка, который вечно напевает. Тоже мне, певец. Бабушка Четвертая фотографируется с детьми у подножия каменного льва, — тот охраняюет высокую лестницу, идущую от самой воды до площадки обозрения, а с той открывается вид на район Баюканы. Дети, вы растете в счастливой стране. Когда-то здесь было посольство буржуинской страны, и румынские оккупанты расстреливали большевиков. Так погиб ваш прадедушка. Минута молчания. Тополиный пух медленно взлетает по лестнице, огибая, — по каким-то прихотям июньского ветерка, — львов, молчаливо разинувших пасти. Лоринков увидит таких в Турции, в заброшенном хеттском городе, где на вершине холма, — под самым небом, — будут реветь в сторону Египта тысячелетние львы. Все стремится к небу. Но больше всего стремимся к нему мы, коммунисты, так что, когда Юра Гагарин взлетает в космос, Бабушка Четвертая плачет от счастья. У нее очки. Темные, это невероятно модно, их привез Бабушке Четвертой муж, никогда не бравший ее ни в какие поездки, что первые несколько лет брака она списывала на чрезвычайную важность его миссии. Дочь хочет. Ладно, Валя, говорит Бабушка Четвертая, каким-то провидческим чутьем назвавшая дочь именем первой женщины-космонавта, надевай. Дай мне, ревет брат. Дети едва не подрались, порядок удается восстановить, пообещав мороженое дочери, и та нехотя отдает очки сыну, — он, самодовольно-нелепый, замирает на лестнице с черными кругляшами на глазах, дочь кривится. Внимание, птичка. Стаи ласточек взмывают над Комсомольским озером, и Бабушка Четвертая оборачивается на телевизионную башню, не такую, как в Москве, конечно, но для столицы братской республики неплохо, согласна. Бабушка Четвертая красавица. У нее томный взгляд, большие черные глаза, волосы вьются, она очень эффектная девушка. Приехало фотоателье. Бабушка Четвертая идет, с незаинтересованным видом, сниматься на фоне редкостных декораций. Дельфин в волнах. Жирафа посреди банановых деревьев. Космический скафандр на красной поверхности. Это Марс, темнота. Упряжка оленей. Поле цветов. В щитах дырки, суй голову, не моргай и улыбайся. Бабушка Четвертая жмется. Мадам, галантно говорит еврей — фотография в Кишиневе шестидесятых это их бизнес, — что нам эти фанерки, следуйте за мной. Показывает меха. Шубу, как у русских цариц, в которой любили фотографироваться девушки в Бессарабии до сорокового года, когда меха были в моде, а не считались мещанством. Да и вообще были. Бабушка Четвертая в меховой шубе, в меховой шапке, садится, зажмурившись, на трон, который вытащил фотограф из-под щитов, и он спрашивает ее — что же вы не раскрываете глаз. Жарко, говорит Бабушка Четвертая. Это мех, объясняет фотограф, и снимает. Вспышка. Ослепительно красивая Бабушка Четвертая глядит с черно-белой фотографии тамаханской царицей — она так хороша, что Дедушка Четвертый почти год не гуляет на стороне, и заказывает для этого снимка особую рамку особого дерева. Карельская береза. Меняет на диссертацию, которую пишет, конечно же, не сам. Читает все меньше. Дедушка, подбежит к нему как-то внук, сын от старшей дочери, к которой — равно как и к ее потомству, Дедушка Четвертый будет, в общем, довольно равнодушен, — дедушка, а правда ли, что скифы оперяли свои стрелы именно вот так? Нарисует, как. Дедушка Четвертый поулыбается, поговорит какой-то чуши, сам подивится, какие скифы, кто это. Преподаватель истории. Правда, это будет уже после диабета, впоследствии будет угрюмо думать внук, так что, может, доктор исторических наук Дедушка Четвертый все-таки знал, кто они такие, эти, — черт бы их побрал, — скифы. Бабушка Четвертая ранима и мнительная. Ах ты такая-сякая, говорит она дочери, ах вот ты как разговариваешь с матерью, — девчонка всего-лишь не расслышала какую-то просьбу и громко попросила повторить, — так поди же прочь с моих глаз, Не разговаривает месяцами. Детей это нервирует, они тоже становятся мнительными и ранимыми. Всегда на нервах. Бабушка Четвертая лечит ноги. Они станут некрасивыми и покроются синяками и венами к сорока годам, это все стоячая учительская работа. Бабушка Четвертая классный руководитель. Бабушка Четвертая школьный активист. Бабушка Четвертая берет дочь с собой в школу, и девчонка возится с игрушками на задней парте, пока Бабушка Четвертая обучает химии детей молдавских крестьян. Бабушка Четвертая дочь молдавского крестьянина. Абаскины мы, из молдавских сел на Кировоградщине. В Молдавии они живут плохо и бедно, потому что уезжают из родного села в одной одежде, так что тут их не заподозрят в кулачестве. Напротив, погорельцы. Семьи получают дома тех крестьян, которых недавно сослали в Сибирь, — по справедливости, за то, что мироедствовали. Бабушка Четвертая за справедливость. Она никому не говорит, но ноги у нее не только из-за стояния у парты, это еще со времен угона и плена. Она ведь из острабайтеров. Молоденькую Бабушку Четвертую забирают с партией рабочей молодежи для труда на благо и процветание Германии в 1942 году, и она прилежно — как в колхозе — обрабатывает землю. Хозяин издевается. Бьет по ногам плеткой, немцы не все такие, на соседнем хуторе даже выходной дают раз в месяц, и гордая комсомолка Бабушка Четвертая бежит. Ловят еще в Германии. Побои и возврат к хозяину, тот ждет с плеткой, неприятно улыбается, и жена у него дряная, только рада, когда рабочим плохо. Фрау-колбаса. Больше всего на свете Бабушке Четвертой хочется кусочка колбасы, о которой она только слышала, но не пробовала, потому что родилась с конце двадцатых, а голод начался с тридцатых. Есть было нечего. Но папа все равно справлялся и даже взял в семью сироту, пацана Лычко, который пришел, шатаясь, во двор и сказал что мамка и братки лежат тихие. О, страсти Господни, цокает, изучая историю голода Бессарабии, Лоринков, и, схватив за грудки тощенького четырехлетнего сына, который два часа умучивает один бутерброд с колбасой, орет — а ну ешь давай, ешь, ЕШЬ, чтоб тебя! Успокойся, говорит жена, которая всегда и все понимает, успокойся, сейчас нет голода. Невероятно мнительный, тревожный. Это у них семейное. Бабушка Четвертая так и не попробовала колбасы до конца войны, и еще лет десять после. В 1955 году, после нескольких лет замужества, она делится с Дедушкой Четвертым, и тот, все же любивший жену, — как она полагает, — выписывает ей несколько батонов салями. Дурно пахнет. Бабушка Четвертая едва не выкидывает колбасу, — завернутую в марлю, — на помойку, как ее удерживает вернувшийся из командировки Дедушка Четвертый. Муж смеется. Глупая, так и должна пахнуть настоящая салями, и Бабушка Четвертая режет кусочки колбасы и долго жует, и чувствует, что ничего вкуснее в жизни не ела, вот и сподобилась, мать двоих детей. Дедушка Четвертый сочувственно обнимает за плечи. Тащит в постель. Ох, не до того. Бабушка Четвертая, — в ожидании второго ребенка, — просит свежего хлеба и курицы. Дедушка Четвертый максималист. Привозит две булки лучшего хлеба, полученные прямо на выходе с хлебного комбината, привозит в судке курицу, которую вынесли для него с черного входа ресторана «Кишинеу», все невероятно свежее и горячее, чересчур. Заворот кишок. Хорошо, «Скорая» успевает, и Бабушка Четвертая даже ребенка не теряет, но с этого начинается ее долгая больничная эпопея. Постоянно болеет. Ноги, сердце, ребра, печень, селезенка, Бабушка Четвертая чувствует себя просроченным суповым набором, пораженным плесенью, она постоянно недомогает. Психологов еще нет. Были бы, объяснили бы, что это у нее на нервной почве, это она так внимание семьи к себе привлекает. Дедушка Четвертый хмыкает. Все чаще ездит в Оргеев, где у него, — по сообщениям соседок, — есть какая-то вторая семья. Привозит конфет. Огромный торт из мороженого, это диковинка, так что старшая дочь, которая отмечает десятилетие, прячет торт к кладовку, и когда наступает пора сладкого, в кладовке не находят ничего, кроме огромной сладкой лужи на полу. Оно же тает. Бабушка Четвертая вздыхает и идет за банкой компота в другой кладовке, а теперь попробуйте это варенье из белой черешни, а вот еще… Золотые руки. Бабушка Четвертая очень любит золотые украшения, у нее на каждой руке по пять колец, и с возрастом это лишь усугубится. Большие янтарные броши на всю грудь, печатки, перстни, кольца, массивные серьги, странно, смеясь, скажет Дедушка Четвертый, у тебя же в семье не было цыган. Был эфиоп! Бабушка Четвертая скажет это с гордостью, и Дедушке Четвертому станет приятно, черт побери, прямо как Пушкины. Осталось стихов написать. Дедушка Четвертый трезво оценивает свои скромные возможности на этот счет, и присматривается к детям. Дочь это для детей, понятно. Сын? Тоже нет, учится из рук вон плохо, книг не читает, талантами не блещет, в тетрадке для диктантов стоят жирные единицы. Позор родителям-учителям! Правда, когда МССР уже не будет, он посмеется над своими единицами, небрежно перелистывая тетрадку пухлыми руками кооператора-предпринимателя, небрежно скажет своим дочерям, ну и где теперь эти училки? Пока упорно молчит, обхватив голову, и глядя в учебник русского, который для него мука смертная, как и арифметика, и география и все другие науки. Надежда есть. Вот будет еще сын, мечтает Дедушка Четвертый, и он унаследует все самое лучшее в нашей семье, будет цепкий и везучий, как я, красивый, как мать, и талантливый, как Пушкин. Надо постараться. Дедушка Четвертый и старается, правда, частенько промахиваясь постелями, и у него в Молдавии уже четыре сына от разных женщин, и всем он будет помогать до самой смерти. Детолюбивые молдаване. Бабушка Четвертая очень рано получит удар, свалится, мыча, под балконом своего дома, повернет голову, увидит во дворе айву. Это она посадила. Пока не придет молочник, она будет лежать, постепенно забывая, как ее зовут, — врачи объяснят, что это из-за нехватки кислорода, вроде как у утопленников. Замычит, плача. Будет лежать в больнице почти год, Дедушка Четвертый, преисполненный чувства вина, станет приходить каждый день, кастрюльки с супом, салат в тарелках из сервиза, немножечко вина — ну, а почему нет, натуральное, виноградное, — лучший хлеб. Умеет ухаживать. Дом возьмет на себя дочь, и справится, пока сын, оболтус, будет гонять мяч во дворе, старательно обводя айву, посаженную матерью, и поглядывая наверх, нет ли там уже плодов, чтобы собрать. Отличный компот. Бабушка Четвертая еще молода, так что болезнь отступает, и женщина возвращается домой, располневшая — она станет говорить что это из-за переливания крови, чужая кровь толстого человека, це-це, — с толстой тростью. Нога приволакивает. Дедушка Четвертый радостно всплакнет и снова отправится в свой анабасис по Молдавии — за едой, за вином, и за женщинами. Бабушка Четвертая станет в малейшем взгляде в свою сторону выискивать желание обидеть, всего бояться, от телефонного звонка замирать, а вдруг это звонят сказать, что Дедушка Четвертый попал в аварию. Или кто-то умер? Она не ждет от жизни хороших новостей, ей не хватает отца, который умер рано — не дождавшись ее возвращения из германского плена, — и она каждое лето ездит в молдавское село, давшее им приют после побега из Мартанош. Называется Калфа. Послушай, дорогая, почему ты каждый год ездишь именно туда, спросит ее Дедушка Четвертый, примеряя перед зеркалом модную шляпу, и поворачиваясь, чтобы рассмотреть, сидят ли широкие брюки. А куда, в Трускавец, что ли? Дедушка Четвертый покашливает и меняет тему, а Бабушка Четвертая, взяв детей, едет в Калфу, к реке. Бабушка Четвертая, пережившая голод, знает толк в еде. Ловит мелкую рыбешку в марлю. Ловит воробьев. Ловит ящериц. Накалывает на спицу червяка и становится на мелководье, жадные днестровские бычки бросаются прямо на острие, глупые. Дети диву даются, мама такая ловкая, охотница. Ночью Бабушка Четвертая выходит во двор дома, где теперь живет старшая сестра с мужем, и копает. Ищет комсомольский билет. Это ее страшная тайна. В ночь перед угоном в Германию комсомолка Бабушка Четвертая закопала билет где-то во дворе, — чтобы он не достался проклятым фрицам, и его можно было, отряхнув от земли, прижать к сердцу после Победы. Забывает, где копала. Ищет десять лет, двадцать, сорок. До конца жизни копается во дворе, но очень секретно, и так и не находит корочки, — поэтому в партию не вступает. Страшно представить. Скажи, товарищ кандидат, — спросит ее председатель приемной комиссии, — а где твой комсомольский билет? Бабушка Четвертая цепенеет. Нет, уж лучше беспартийной. Дедушка Четвертый очень хочет еще сына, так что Бабушке Четвертой не остается ничего, кроме как постараться. Спят вместе каждую ночью, и иногда Бабушка Четвертая в беспокойстве приподымается, ей кажется, что она вспомнила, где же лежит этот чертов комсомольский билет. Встает на кухню. Идет в ночнушке, — маленькая, все еще красивая, хотя и полнеющая, — глядит на лампочку, которую прикрутил к вишне за окном сын. Холодно. Август близится к концу, и по дереву стекает прозрачная упругая субстанция, которую мальчишки, отодрав от коры, жуют. Вишневая смола. Надо в следующем году сварить еще больше компота, думает Бабушка Четвертая, мои пьют его вместо воды. Ну, кроме мужа. Тот все чаще пьет вино, правда, как истинный бессарабец, он умеет делать это, не пьянея — с тостами, красивыми долгими разговорами, воздетыми к небу руками. Снится отец. Грустно глядит он на дочь, и говорит Бабушке Четвертой, что она, между прочим, пятое поколение от эфиопа Абаса, и значит, ее дети будут шестым и очень похожи на арапов. Все сбывается. Магала диву дается, глядя на толстые губы, кучерявые волосы и глаза на выкате сына Бабушки Четвертой. Хорошо, не негр родился, смеется она. Дедушка Четвертый тактично покашливает, значит, пора в спальню. Утром загремит посудой молочница и придет старьевщик, хорошо бы лечь спать до полуночи. Правда, пока все как — то не получается, и Бабушка Четвертая думает, что двое детей это их судьба. Ей уже сорок. В таком возрасте лучше и не пробовать, пугают ее соседки, ведь к сорока рожают обычно детей с отклонениями. Тьфу на вас. Бабушка Четвертая в халате — она все реже одевается модно — и тапочках идет по двору. Там, кроме вишни и айвы, появляется орех, и Бабушка Четвертая — собиратель и охотник — сбивает палкой плоды, чтобы наварить из них черного и горького, зато невероятно полезного, варенья. Привлекает семью. С удивлением видит, что дочери помогает бросать палки какой-то мальчишка в тельняшке. Ах, да. Дети же растут. Дочь получилась красавицей. Короткие платьица, черные волосы, яркие глаза, стройная, бойкая, умная. Ухажеры вьются. Бабушка Четвертая хочет серьезно поговорить с ней о том, как нужно подходить к выбору будущего мужа и вообще вести себя до свадьбы — девчонка серьезная, но лишний раз напомнить о жизни как о ловушке не помешает, — и даже подзывает на кухню, где обычно ведутся все важные разговоры. Да, мама. Садись, говорить Бабушка Четвертая, как вдруг чувствует неудержимую тошноту. Дождались. Тебе плохо, спрашивает обрадованно Дедушка Четвертый, жена молча кивает, и мучительно стонет, закрывшись в туалете. Дедушка Четвертый рад. Он умывает руки, дальнейшее от него не зависит, его дело — привозить свежей выпечки да жаренной курицы, когда беременная того попросит. Взятки гладки. Дочь глядит на него, открывая для себя мужчин, и ей неприятно. Ну, что же, доченька. Перефразируя Генералиссимуса… Других мужчин у нас для вас нет.
Лето 1992 года дает знать о себе неожиданной жарой, что плохо для урожая, но очень полезно для подсолнечника, и тонны масла льются в цистерны, пропитывая землю ароматом семечек. Начинается гражданская война. Небольшой отряд волонтеров, потерявших двенадцать человек при боях в городе, врывается в какое-то здание на окраине, чтобы переждать ночь. Другой мир. Здание увешано лентами и гирляндами, это выпускной, и вооруженные люди, сначала смущенно, а потом наглея, заполняют школу. Глазам своим не верят, какое счастье привалило — с сотню девчонок-старшеклассниц, чудненько, тянет командир, криво улыбаясь. Девочки переглядываются. Жмутся. Комбат Костенко, которого молдаванам подсунули приднестровские спецслужбы, а приднестровцам подсунули молдавские спецслужбы — никто не хочет брать этого сумасшедшего человека на себя, — ведет к Днестру молдавского полицейского. Раздевайся. Ради моих трех детей, говорит полицейский, и хватает комбата за ноги, но тот брезгливо отталкивает от себя пленного, загоняет в воду, — стреляет в спину, в голову, — чего их жалеть, ублюдков, кто пожалеет после вчерашнего, что случилось в школе. Свита бесстрастно молчит. Бендеры дымятся. Младший сын Бабушки Четвертой раздраженно выключает телевизор, когда диктор срочно сообщает новость о взятии Бендер, младший сын Бабушки Четвертой за приднестровцев. Горит комбат Костенко, которого какой-то вспыльчивый приднестровец пристрелил прямо на следствии, — тело пришлось облить бензином и поджечь. Горит тело депутата приднестровских советов, которого молдаванин Илашку подловил в поле подсолнечника и пристрелил на глазах у дочери, а тело сжег. Горит квартира, в которой прячется от разъяренных приднестровцев Илашку, и ему приходится выйти оттуда с поднятыми руками, — до самой своей смерти гвардеец, случайно участвовавший в задержании террориста, жалеет, что не пристрелил румына. Средний сын Бабушки Четвертой отправляется на пункт сбора средств для волонтеров и дарит мешок носков и рубашек. Сочувствует нашим. Пьяный казак ставит к стенке русоволосого пацана, и тычет в лицо дулом, — сынок полицейского блядский, — где тут у вас вино, у вас же тут вино в любой квартире, в бочке. Женя Русу кривится, стараясь не заплакать. Щенок. Молдавская полиция, которую почти месяц гоняли по Бендерам, — и они сквозь зубы признают, что им тут не рады, — находит приют на крыше какого-то здания, и решает сделать там опорный пункт. Это роддом. Тем лучше, цедит заместитель комиссара полиции Бендер, и десять лет спустя в интервью «Независимой Молдове» нехотя признается, что да, был такой эпизод. Но нас вынудили. Интервьюер сочувственно кивает, ведь русские снова запретили ввоз молдавского вина, но свои помои — не в вине, так в газетах — они от нас получат. Писатель Лоринков, читая то ли немца, то ли француза Аубе, загибает страницу. Там о британских наблюдателях в Мадриде во время гражданской войны. Лицемеры. Им бомба должна упасть на голову, чтобы они признали вину тех, кого поддерживают, думает он, читая доклады наблюдателей о войне 92 года. Насилие накрывает Молдавию, как когда-то волны древнего мезозойского моря. Сверху страна похожа на тушу мертвого зверя, по которой мечутся и копошатся то ли вши, то ли черви. Сапсан планирует. Когда точки замрут, можно будет спускаться.
За все время существования штаба при Главнокомандующем я не получил ни одного письменного распоряжения, пишет о гражданской войне в Молдавии генерал Крянгэ, и обращает внимание беспристрастного наблюдателя на то, что шли, между прочим, боевые действия, и гибли люди, а скрепленных подписью, — то есть подтвержденных юридически — указаний соответствующего начальника, не было. Чем это объяснить, спрашивает генерал Крянгэ, глядя на старый, советского еще производства, стол, за которым он пишет в кабинете мемуары. Только одним, вновь берется за ручку он. Боязнью взять на себя ответственность за происходящее, режет, как ему кажется, правду, генерал Крянгэ, а Лоринков недовольно качает головой. Вечные полумеры. Почему не назвать тех, кто виновен, спрашивает писатель Лоринков. Генерал Крянгэ отворачивается. Мы все виновны.
В последние дни конфликта мы теряли по 10–15 человек убитыми и по 40–50 ранеными, вспоминает Крянгэ. Все острее чувствовалась нехватка резервов, добавляет он, вспомнив, как безуспешно пытался наскрести еще хотя бы полк. Лоринков в 1992 году был поражен, увидев висящего на балконе третьего этажа соседа, за парнем пришли из военкомата, а мать сказала, что его нет дома. Воевать не хотел никто. Не было оружия, боевой техники, офицерских кадров, соглашался Крянгэ. Росло число беженцев, согласен Лоринков. Якобы временное пристанище для семей полицейских в кишиневской туристической базе «Дойна» просуществует восемь лет. После этого они, отчаявшись, самовольно займут строящийся для депутатов дом в центре города. Я их воевать не просил, воскликнет один из руководителей «Народного фронта», отправлявшего людей на бойню. Я тоже, возражает генерал Крянгэ в своих мемуарах, и писатель Лоринков пытается понять, кто же просил, ведь мы все-таки воевали, не так ли? Вооруженные резервисты все чаще уходили самовольно с боевых позиций, вспоминает последние дни войны генерал Крянгэ. Нередко появлялись в Кишиневе, так что пришлось создать пропускные пункты на ключевых дорогах, ведущих к месту войны, и Лоринков вспоминает, как дорога до села Калфа в восточном направлении, отняла у его матери двенадцать часов, и это полтора часа пути от Кишинева. Но воевать хотели! Генерал Крянгэ утверждает это, описывая случай, когда, — после решения о создании миротворческих сил, — вооруженная группа из 120 военнослужащих, скрытно покинув плацдарм, завладела паромами через Днестр, двумя автобусами и окольными путями добралась до Кишинева. Встали у правительства. Люди в афганках, на которых большинство жителей Кишинева глядели с осуждением, слишком уж много русских было в городе в то время. Президент Воронин кивает. В годы его правления русских осталось пять процентов. Может быть поэтому Москва всегда охотно поддерживала его партию на всех парламентских выборах. Резервисты просили его, — утверждает генерал Крянгэ, — возглавить войска и продолжить войну. Многие считают, что генерал это выдумал, чтобы оправдать свою попытку путча несколько лет спустя. Дедушка Четвертый согласен. Во время этой войны он снова ложится в больницу, чтобы ему— теперь преподавателю истории румын, — ни в чем случайно не запачкаться. Мало ли кто победит. Провокация, связанная с нападением на бендерский отдел полиции, была осуществлена специально, утверждает генерал Крянгэ, и одноклассник знакомит Лоринкова с отцом, полтора месяца проведшим в этом комиссариате. Лицо дергается. Сухопарый усатый мужчина, совершенно оглохший от беспрерывной стрельбы, но слух потом восстановится, пусть и не весь.
Генерал Крянгэ чувствует необходимость вернуться к началу войны. Я, как начальник штаба при Главнокомандующем, не понимал причин, побудивших президента Снегура принять столь очевидное ошибочное решение, разводит руками он. Оно было принято без анализа возможных последствий, оценки обстановки, без совета со штабом, качает головой Крянгэ Для меня решение о вводе войск в Бендеры 19 июня явилось полной неожиданностью, восклицает генерал. Те, кто участвовал в принятии этого решения, фактически подставили штаб, упрекает власти Крянгэ, и идет в ванную. Моет руки. Возвращается к столу. Что там дальше.
Писатель Лоринков возвращается к мемуарам генерала Крянгэ после недели лихорадочного записывания плана будущей книги, которая, — по прошествии недели, — кажется ему чем-то неодушевленным. Что же. Лучше плохая книга, чем мертвая. Бросает бумаги в пакет, — там рукописи четырех последних книг, которые уже изданы, блокноты, бумаги, мелкие купюры, на которых записывал фразы, — выносит его в Долину Роз. Сжигает у родника. Сверху спускается наряд карабинеров, добрый день, что происходит, — всего лишь жгу мусор, говорит Лоринков, и глядит вслед наряду, этим детям несчастным, ну как с такими можно что-то выиграть? Некоторые «исследователи» заявляют, — согласен с ним генерал Крянгэ, — что мы, якобы, «потеряли возможность разобраться с казаками и выгнать их из Приднестровья» и «не дали нашим парням выйти из окопов». Все эти слова — авантюра, восклицает Крянгэ, особенно, если учесть, что армии, в полном смысле этого слова, у нас тогда не было. Нет и сейчас, добавляет Лоринков. В этих условиях «разобраться» с противником, хорошо оснащенным и вооруженным, значило пойти на провал, неоправданные и многочисленные человеческие жертвы, снова переходит на казенный язык министр обороны Крянгэ, который умрет, не увидев окончательного краха молдавской армии. Продадут все. Утверждения некоторых «политиков», что проблемы внутреннего политического противостояния можно решить оружием, оказались ошибкой, смотрит с будущее с некоторым оптимизмом генерал Крянгэ. Становится дипломатом. Подписание соглашения между Молдавией и Россией «О принципах мирного урегулирования» и ввод миротворцев оправдали себя, любуется он фразой, которую не стыдно и в официальное сообщение вставить. Оставляет бумаги на столе, отправляется спать. Храпит, затихая. Жена прислушивается, генерал в том возрасте, когда, при заложенном дыхании, может остановиться ночью сердце. Развалился за год. Еще прошлой весной был подтянут и стремителен, когда велел выдвигать колонну на Кишинев, и писатель Лоринков проснулся в квартире на краю города из-за лязга и грохота, думал дорожные работы, выглянул в окно. Бронетранспортеры, мама. Как ты думаешь, что это? Неужели приднестровцы? Нет, я читал, что министр обороны с президентом в ссоре. Замолчите, оба. Женщина, прижав к себе двух подростков, глядит на цепочку бронированных машин из окна, и на свет в окне никто не обращает внимания, это Кишинев, если что, сопротивления не будет, нам бы выспаться. Утром, умывшись, Крянгэ продолжает. Надо бы теперь про личную храбрость, думает он. Вспоминает. В разговоре с генералом Дабижей я подчеркнул, что нужно как можно быстрее организовать оборону на выгодных рубежах, пишет он, представляя себя рубящим ладонью воздух, ну, как в фильмах. К полудню Дабижа позвонил генералу почему-то из Новых Анен и доложил, что осмотрел в городе школу, решил оборудовать ее под командный пункт и пойдет смотреть что-то еще. Крянгэ отчитал его за то, что он ищет командный пункт в 25 километрах от наших войск, а ведь в Варнице в это время шел минометный обстрел! Крянгэ ухмыляется. Он дубоват, он не очень умен, но он не трус, и Дабижа, — заплетающимся языком мямливший что-то по телефону, — до сих пор заставляет его гадливо приподымать верхнюю губу. Оскал при виде падали. Позже, — добивает упавшего Крянгэ, — когда Дабижа приехал в Варницу, то, будучи в окружении полицейских, то упрекал их в том, что они не могут навести порядок в стране, не умеют ловить преступников. На лицах людей были ярость и возмущение, вспоминает Крянгэ, и со вздохом добавляет, что, конечно, ему пришлось их успокаивать. Выпили вина. Закусили плациндой с луком и яйцом. Бабушка Четвертая жарила плацинды с гусиным жиром — фирменный секрет переселенцев из Мартанош, — когда почувствовала, что все. Позвала мужа. Дедушка Четвертый высунулся из окна, крикнул водителю, и вывел жену из подъезда, та споткнулась. На счастье. Повезут в роддом номер один, где закричит лет двадцать спустя оглушительно писатель Лоринков, а потом его сын Матвей, а потом его дочь Глаша, и это будет уже старая больница. А сейчас новострой! Бабушка Четвертая стонет и, охает, но скорей для порядку, ей по-настоящему страшно лишь за то, что сын может родиться каким-то не таким, В сорок два-то года. Роды длятся шесть часов, и когда мальчика обмывают— Дедушка Четвертый на радостях первый и последний раз в жизни уходит в недельный загул, — спрашивает врачей. Все ли нормально? А ты что, не чувствуешь, смеются они, родила же без сучка без задоринки. Врач, остановившись над ней, глядит на свое перевернутое в повязке лицо, и все понимает. Говорит, что так нельзя. Если от жизни ждать только худшего, оно придет, говорит этот нежданный пророк, и все сбывается, жизнь у Бабушки Четвертой будет плохая, очень плохая, но разве не того она ждала, разве не вызывала на себя всяческие беды, настороженно ожидая лишь их? Сама накликала. И род ее развеется по миру, словно израильский народ передал ему эстафету, и село, где умер ее отец, в 1992 году накроет ракетным обстрелом за два дня до мира. Обстановка на переговорах — делает к этому миру скачок генерал Крянгэ, — была крайне сложной. Она накалилась до предела, — продолжает сыпать штампами генерал, — когда в дом, где велись переговоры, вошла группа вооруженных до зубов гвардейцев с комбатом Костенко. Нам угрожали. Но мы не поддавались на провокации, утирает генерал пот со лба, и комбат Костенко глядит на него исподлобья с фотографии, на которой снялись представители молдавского и приднестровского командования. Черно-белая. Почти все — бывшие афганцы.
Писатель Лоринков выходит из спортивного зала бассейна «Динамо», где занимаются сплошь полицейские и сотрудники СИБа, чувствуя как приятно потяжелел бицепс. Мать переживает. Мне кажется, — шепотом говорит она жене, — он стал явно зависим от физических упражнений. Зато при деле. Лоринков безмятежно глядит прозрачную воду, здоровается с инструкторами по плаванию, любуется детьми, идущими друг за другом по дорожкам, словно воинские колонны, это значит, что уже осень, потому что летом на бассейне безлюдно. Писатель Лоринков в темно-синей — из-за пота, а вообще-то она бирюзовая, — майке стоит под огромным секундомером, и глядит, как белка соскакивает с сосны, нависшей над другим концом бассейна и сидит на бортике, пощелкивая зубами, к восторгу спортсменов. В зале Лоринков жмет руки двум невероятно вытянувшимся за лето мальчишкам, старший из которых надежда молдавского плавания, или наоборот, в любом случае они братья. Сыновья полицейского. Когда я вырасту, говорит один из них, буду спецназовцем, как отец, может даже на войну попаду… Попадешь, говорит обычно молчаливый Лоринков, вспоминая своих соотечественников. Заходит в душ. Воздевает руки. Господи, говорит он, спасибо тебе за то, что я есть, за то, что я дышу этим воздухом, за что я любуюсь этим великолепным, удивительным… Хорошо, в душевой никого нет, и можно не стесняться. Пост-тренировочная эйфория. Спасибо тебе за то, что я могу чувствовать тепло, благодарить Лоринков, за то, что могу чувствовать холод… и горячая вода вдруг отключается, и под ледяным потоком он говорит в потолок — эй, ну не настолько же чувствовать!
Павел Крянгэ, — министр обороны Республики Молдова, — несомненно сыграл заметную роль в бурных событиях приднестровской войны, пишет комендант города Тирасполя в 1992 году, полковник Бергман, и Лоринков, вдоволь насытившийся суконными и выспренне-кокетливыми воспоминаниями военных, позволяет себе передохнуть, и несколько недель не ходит в читальный зал Национальной библиотеки. Гуляет в парке. Папа, кричит сын, я построил на диване войну, но потом ее поломал. Лоринков давится водой из родника. Ему часто кажется, что сын знает, о чем он думает, но только сегодня это стало совершенно очевидным, и Лоринков застывает у воды, текущей из каменной плиты. Зачем сломал, сынок? Война это слезы, очень серьезно говорит тот. Верно, говорит Лоринков, война это плохо. Одно расстройство. Бабушка Четвертая плачет от радости, глядя на своего позднего сына, и ее приходят навестить в больнице муж и старшие дети. И наполню Землю народом твоим. Семья ширится.
Мой белый город, ты цветок из камня. Это про Кишинев 50-хх. После голода конца сороковых Кишинев оживает, строится, и каждый прочно занимает в нем свое место, вот, например, Пушкин. Бюст его, выполненный скульптором Опекушкиным, — и представляющий собой копию верхней части памятника поэту в Москве, — привезен в Бессарабию еще в конце 19 века, но лишь в 50-хх годах его переносят из дальнего угла парка в центре города в самую его середину. Пушкин становится центром Бессарабии. Гринвичем. Бюст окружают клумбами, и возле него фотографируются молодожены, поэт глядит на фонтан, бивший в Кишиневе до середины 2007 года, когда городское управление окончательно было разрушено. Географические координаты памятника — 47°1′30.39″, 28°49′42.97″ — добавляет система географического поиска в интернете, «Гугль-мэп». Памятнику Котовскому она отводит несколько другое положение — 47°0′48.6″N, 28°51′18.2″E. Бессарабский Робин Гуд, застреленный 6 августа 1925 года на пляже, по официальной версии — еврейским налетчиком из Одессы, — усаживается, не без помощи скульпторов, на коня, и выезжает в самое основание улицы Штефана Великого. Склонил голову. Памятник переживает даже волну национального самосознания, накрывшую молдаван в конце 20 века, ну, а в середине его Котовский самоуверен, тверд, и держит коня за узду так же крепко, как КПСС — кормило власти в стране. Раны Молдавии заживают. Голодающие вдоль проспекта становятся привидениями, раскулачивание забыто, и уже в середине шестидесятых обратно из Сибири тянутся кулаки. Многие остаются. Обиженные на земляков, торжественно дают себе слово не возвращаться в Молдавию, и об одном из таких сибирско-молдавских сел показывает репортаж аналитическая программа «Резонанс» по каналу «Молдова 1». Писатель Лоринков смотрит. Обычные молдаване. Пьют вино, плачут.
Памятник Лазо встает в самом центре района Ботаники. Молодой революционер глядит сверху на Долину Роз и железнодорожный вокзал, одна рука приподнята и повернута ладонью к земле, и ему сразу же приписывают фразу. Ша, братва, вы на Ботанике. Городской фольклор. Шинель Лазо распахнута. Лицо напряжено, он как будто обдумывает, как избежать смерти и паровозной топки. Поздно, Лазо.
Папа Первый становится заместителем редактора газеты «Молодежь Молдовы» и, внимание, корреспондентом, — да, внештатным, зато кого! — «Комсомольской правды». В двадцать-то с небольшим! Получает свою комнату в общежитии, и считает это достаточным для того, чтобы предложить Маме Первой подметать эту комнату и гасить в ней свет вечерами. Что, спросит она. Ну, в смысле, не хочешь ли ты стать моей женой, спросит Папа Первый и Мама Первая легонечко кивнет, брак одобрят многие коллеги Никиты. Не зазнался. Выбрал жену из трудящейся молодежи — Мама Первая после детдома обучилась на штукатура и повара — не стал гоняться за какой-нибудь важной дочкой. Заставляет Маму Первую поступить в институт, это факультет библиотечного дела, расположенный еще в старом здании, бывшем особняке купцов, в центре Кишинева. Переедет позже. Мама Первая ходит на учебу из общежития при Молдавском телевидении, покупает в подвале по Армянской вкуснющие пирожки с мясом и сыром на завтрак, и пьет вино с мужем после учебы, на ужин. Смотри, дорогая! Никита воскликнет, листая журнал «Наука самосознания» — беседа с каким-то индийским натурфилософом, и подписано — Григорий Котовский, если это псевдоним, то дурацкий, куда глядит редакция. Это не псевдоним. С йогом беседовал видный советский ученый, специалист по Индии, сын легендарного Григория Котовского, Григорий Котовский-младший. В шестидесятых он путешествует по Востоку. Приезжает на открытие памятника. Волнуется у моря людей под копытами бронзового коня. Начинает речь словами «в этот невероятно важный для меня день…», и редкие кишиневские старожилы обратят внимание на то, как, все-таки, Гриша похож на Гришу-старшего. Доживет до 21 века. В толпе стоит с гвоздиками и Бабушка Третья — губы ее поджаты еще выше, чем в 50-хх, а в 70-хх поднимутся совсем уж под нос, — с Дедушкой Третьим, но им до Котовского дела нет, просто вышли прогуляться, и показать себя людям. Дедушка Четвертый не выйдет из дому, плевать он на все, — кроме семьи, — хотел. Готовится к свадьбе. Выдать дочь замуж для молдаванина нелегкое дело, но он старается, так что Мама Вторая абсолютно счастлива, когда все проходит без сучка и задоринки, не считая, конечно, поведения родителей жениха. Папа Второй безразличен. Уже на следующий день он с супругой отбудет из Кишинева, и короткие толстые руки Бабушки Третьей — в пигментных пятнах — до него не дотянутся. Так он полагает. Мама Вторая в фате, локоны у нее вьются, отчего она напоминает барышень девятнадцатого века, в которых влюблялись такие, как Пушкин. Сердца Бабушки Третьей это не смягчает. Дедушка Третий произносит часовые тосты-речи. Бабушка Третья всхлипывает, и бормочет себе под нос, — но достаточно громко, чтобы ее услышали, конечно, — что-то про молдаван, охмуривших ее мальчика. Дедушка Четвертый с глупой улыбкой замирает на ступенях загса, ему все равно, свое дело он сделал — дочь родил, выкормил, руку дочери передал, а дальше играет тот, кто получил пас. Бабушка Четвертая в янтаре. Папа Второй и Мама Вторая замирают, глядя на нас с фотографии, молодые и полные надежд, как вся Молдавия шестидесятых. Кожа невесты удивительно хороша и нежна и у нее невероятно яркие, зеленые глаза, и это видно на фотографии. Цвет входит в моду. Так что Папа Первый и Мама Первая тоже заказывают цветные фотографии со своей свадьбы, которую отмечают не очень широко — все-таки молодые оба сироты, — и старший коллега Никиты, пустив слезу, бьет себя в грудь и обещает, что весь коллектив «Молодежи Молдовы» заменит им родителей. Папа Первый улыбается. Он уже получил предложение от газеты куда престижнее, — «Независимой Молдовы», — просто не хочет пока расстраивать уже седых коллег по молодежному изданию своими чрезмерными успехами. После свадьбы.
На следующий, после росписи, день, молодые отправляются в зону отдыха Вадул-луй-Воды, и сидят вечерами у реки, слушая, как пастухи созывают овец. Днестр течет. Сады плодоносят. Земля невероятно плодоносна, это тела людей, — в обилии погибавших здесь предыдущие сорок лет, — дали ей сока. Трупы лучшее удобрение. Молдавия цветет и грузовики с усатыми по моде тех лет парнями, и девчонками с косынками — по моде тех лет, — несутся по полям. Все тонет в изобилии овощей фруктов. Новые городские власти строят театр Оперы и Балеты. Полненькая девушка Биешу лучше всех поет «Чио-Чио-Сан» и отказывается переезжать в Москву. Румыны ездят к нам за подсолнечным маслом. Одесситы за джинсами. Хлеб в столовых не доедают. Вино не закусывают. Мама Вторая учится пить из зеленого перца, главное, срезать крышечку. Закусываешь самим перцем. Вполне сытно. Никогда не будет разрухи. Голода. Все успокоилось. Все улыбаются с фотографий, и даже Гагарин улыбается, — которого привезли под Кишинев в криковские подвалы и три дня космонавт разъезжал по улицам подземного города на «Чайке», напиваясь до чертиков около бочек с лучшими винами. Это слухи. Ведь Гагарин разъезжал на «Волге», знает все знающий уже спецкорр «Комсомольской правды» по МССР Никита Бояшов. Война, начавшаяся в 1917 году, и взбаламутившая Бессарабию как пыльная буря — ее дороги, закончилась в 1952 году. Никогда больше мы не будем голодать. Никогда больше. Никогда. Поет Надежда Чепрага. Играет на арфе в Органной зале, выстроенном специально для нее, Светлана Бодюл, дочь главы МССР Ивана Бодюла, и тот, на какой-то встрече с деятелями культуры, отзывает в сторону Дедушку Четвертого и заговорщицки кивает на каблуки. А у тебя сколько сантиметров? Поет Ион Суручану, и Бабушка Четвертая умиляется сорванцу в телевизоре. Знал химию. Лоринков химию тоже знал, поэтому радостно приветствует бывшую учительницу, поражавшую когда-то его своей молодостью, красотой ног и откровенными мини-юбками. Не для меня ли старались? Вопрос так и не срывается у него с губ, — это взрослая и вполне почтенная дама, а он почтенный отец двоих детей, один из которых тянет его к парку аттракционов, а другая — трех месяцев, — орет, и впивается в руку. Да у тебя зубы, бормочет Лоринков. Беспомощно оглядывается. В Кишиневе открывается цирк, туда приезжают мировые звезды, а в восьмидесятых годах даже даст представление Попов. Солнечный клоун. Маленький Лоринков, приподнявшись на кресле, с тревогой будет глядеть, как Попов подбросит сразу двенадцать ложек, чтобы, — после того как те перевернутся, — поймать их на поднос. «Веселый официант». Не получится три раза, и пот на лице Попова будет виден даже с семнадцатого ряда. Маленький Лоринков зажмурится, и вот тогда грянут аплодисменты, и мальчик быстро откроет глаза, но Попов уже будет радостно махать рукой зрителям, которые устроят ему овацию. Получилось. Потом вверх пойдут канатоходцы и все повторится, девушка без страховки семь раз отступит по наклонному канату, а на восьмой все же поднимется. Писатель Лоринков начнет подбрасывать ложки с подноса в тридцать лет, и к тридцати двум его рекорд будет — шесть штук. На канат не решится. Космонавт Титов машет рукой со свадебной фотографии в селе Ларга, куда он приехал рассказать колхозникам о космосе. На космонавте гирлянда из фруктов. Все смеются. Вы не поверите, товарищи, но планета вертится, в буквальном смысле вертится, и из космоса это видно. А теперь выпьем вина! Оно здесь вкусненькое, как квасок. Молдавия гуляет. У нас, полковников, от вина изжога, говорит молодоженам Бабушка Третья, так что ящик коньяка, который остался после праздника, мы возьмем себе. А что это у тебя родственники такие… простенькие? Деревенские? Молдаване?.. Первый холодок. В Молдавии это, впрочем, неважно, здесь всегда так жарко. Зато исчезает пыль, легендарная бессарабская пыль. Советская власть озеленяет республику, та покрывается лесами и садами. Никогда больше не будет здесь пыли и грязи. Папа Второй и Мама Вторая отбывают из Молдавии к месту службы молодого мужа, и Бабушка Третья с ненавистью глядит на невестку. Ничего, время помирит. Товарищи, говорит очередной космонавт и покачивается. Планета и правда вертится. Поворачивается от Солнца к черному космосу тем ее боком, где несутся грузовики и смеются парни с девушками. Наступает ночь. Планета делает еще оборот и Солнце вновь встает над этим ее боком, и Солнце видит. Молдавия все еще есть.
Часть вторая
До самой смерти Малыш будет любить яичницу, и никто никогда не узнает, что это не из-за вкусовых пристрастий, как могли бы подумать многие — особенно после того, как Малыш в студенчестве изжарил омлет из десяти яиц, и о чем гордо рассказывал затем всему курсу — а в зрительных. Дело в цвете. Оранжевый и желтый. Эти цвета на тарелке каждый раз напоминают Малышу об огромном поле ромашек, в котором был четырехлетний он, и, — стоя на коленях, — выкликал оттуда мать, наблюдавшую за ним из окна пятиэтажного дома по соседству. Военный гарнизон. Цветки ромашек будут ярко-желтыми, в окружении белейших лепестков, и от из белизны Малыш будет щурить глаза, никогда больше он не встретит такого чистого белого цвета. Даже в Заполярье. А уж там-то всем прибывшим сразу советовали прикупить очки, темные и по форме как у Сталлоне, в популярном в советских видеосалонах боевике «Кобра». Черепашьи глаза. Но даже и снега Заполярья, — которые лежат в этом удивительном краю годами, не тая, — не заставили Малыша щуриться так, как тонкие лепестки ромашек в городке гарнизона Южной Группы Войск. ЮГВ. Когда Малыш писал письмо бабушкам и дедушкам, тетям и дядям, двоюродным сестрам и двоюродным братьям, — а перечислять в письмах и открытках приходилось всех, чтобы никто не обиделся, велела Мама Вторая, — он писал в графе «обратный адрес» не дом и улицу, как все, а просто номер части и эту загадочную аббревиатуру, еще и значения-то слова «аббревиатура» не зная. ЮГВ. Поле начиналось сразу под домом, и отделяло гарнизон от болота, — наполовину осушенного, — которое эти несносные венгры засыпали мешками с дешевой бижутерией. Ее ребята, конечно же, растаскивали, и несколько месяцев расхаживали по гарнизону кто с фальшивым перстнем, кто в невероятно ярких сережках, пока не вознегодовало начальство. Мещанство. Пришлось снять. Ромашку Малыш собирал для матери, она просила его об этом ласково, и он шел по цветы, уверенный, что делает нужное и важное дело, а Маме Второй всего-то и нужно было, чтобы ребенок побыл на свежем воздухе под присмотром сверху. Уж больно домосед. Брат Малыша с улицы не вылезал, организовывал штабы, команды, какие-то нападения, игры, в общем, был заводилой, и ничто пока не предвещало, что вскорости они поменяются ролями. Малыш в поле. Возится себе среди ромашек в гарнизоне в 1983 году, — времена вегетарианские, так что ребенка можно оставить одного на улице, особо не опасаясь, — да глядит иногда вверх на дом. Где там мать? Возвращается с мешочком, набитым ромашкой, оставляя за собой лепестки и желтые соцветия, невероятно гордый собой ребенок, и, помыв руки, валится на диван отдохнуть. Тяжело спит. Просыпается в неясном свете то ли утра то ли вечера и спрашивает Маму Вторую, — а что, уже следующий день? Нет, Малыш. Это всего лишь вечер, так что ты можешь еще погулять, пойди найди брата, говорит Мама Вторая, затеявшая стирку и готовку впрок, от которой ее не отучила даже благополучная Венгрия. Приехав, поразилась. Увидев в магазине колбасу в свободном доступе, купила сразу пять батонов, отчего Папа Второй, — живший здесь некоторое время сам, — долго хохотал. Она здесь всегда, Ты серьезно, спрашивает Мама Вторая, пораженная тем, что колбаса есть в магазине всегда, поразительно, в Кишиневе в магазинах нет ничего, кроме этого крабового мяса по рубль сорок за банку, да водорослей. Есть траву! Они там совсем уже над нами издеваются, говорит она, и Папа Второй уходит на службу, а Мама Вторая, ласково погладив сына по голове, отправляет его на улицу, искать брата. Малыш спускается. Глядит на поле, но оно уже не такое волшебное, как днем, уже начинаются сумерки, так что белое — не ослепительно белое, а желтое — не оранжевое, как при ярком солнечном свете. Брайт-елоу. Он думает это много позже, когда бесконечно требовательно и жестко отстаивает у своей второй жены право на такую яичницу, белок которой был бы крепко схвачен, а желток — еще нет, чуть вязкий, и ослепительно оранжевый. Чертов литератор. Всем вам хочется проявить себя, — гневно отвечает жена, как всегда, пережарившая яйца, — лишь бы остаться в памяти потомков хоть чем-то. Вы словно коты, которые давно уже умерли, но которых помнят из-за царапин на обоях или дверном проеме. Обои меняют. Не говори мне, что эта чертова яичница не втемяшилась тебе в голову из-за «Пигмалиона» или как там называлась эта пьеска у этого старого психопата Шоу, ну, та, где девчонка, не отличавшаяся умом, зато взявшая свое красотой, имела лишь одно достоинство — умела жарить яйца и ветчину, как надо. Значит, я такая?! Женская логика. Малышу и в голову бы не пришло так изощренно оскорбить женщину, тем более ту, с которой он делит постель, он для таких намеков не настолько умен и изыскан, в конце концов. Пережаренный желток теряет цвет, — терпеливо объясняет он жене, — та, не выдержав, обрушивает сковороду на стол, и уходит в свою комнату плакать. Она так и не научится. Скоро разведутся. Малыш выходит из подъезда, в темных углах которого его поджидают страшные люди в темных плащах — фильм «Звездные войны» показывают в кинотеатрах даже без сурдоперевода, а он вот-вот начнет читать, — и огибает дом. Выходит к болоту. Если побродить немного по щиколотку, то обязательно присосется пиявка, и ее можно будет снять с ноги, и отнести домой, держать в банке. Малыш познает мир. Тащит домой тритонов, и те живут, поражая его совпадением внешности с динозаврами и драконами, которые нарисованы в его энциклопедии обо всем на свете. Ловит карасиков. Множество маленьких мелких серебристых рыбок, которых Малыш с братом селят в аквариуме, чтобы начать разводить рыб, и дикие караси, конечно же, дохнут на следующий же день. Спасает голубя. Приручает кошку. Бродит по огромным холмам — на самом деле кучам земли, сброшенным по краям почти осушенного болота экскаваторами, — в поисках кого-нибудь, кого бы стоило спасти и принести домой. За спиной ромашки. Малыш оборачивается к полю и видит, что оно уже посерело, значит, сумерки в самом разгаре, и в гарнизоне слышны разговоры и смех. Малышу страшно. Поле сереет как-то… угрожающе, и он бежит через него, стараясь не глядеть на цветы, выбегает на прямые асфальтовые дорожки. Налетает на старшего. Извините, на бегу бросает он, и, — пролетев еще несколько метров, — переходит на шаг, теперь можно и не торопиться и выглядеть степенно. Ми громаден. Малыш стоит возле огромного дома — на самом деле пятиэтажка — который с торца так велик, что взгляд Малыша еле доходит до крыши, голову приходиться задирать очень сильно. Не стой так! Смешливая девочка из соседской квартиры подбегает к нему и силой возвращает голову в прежнее положение, серьезно объясняет Малышу, что задирать голову нельзя, а то кровь будет все время в голове, и умрешь о кровоизлияния в мозг. Так умер Ленин. Малыш напуган. Девчонке лет восемь, и она невероятно большая женщина, ей можно верить, но он на всякий случай позже решает перепроверить факты у другой известной ему большой женщины. Мама Вторая. Правда, что Ленин умер потому, что держал голову так, спрашивает малыш и задирает голову, а Мама Вторая умиляется своему умному сыну. Ну, да. А почему он так держал голову, спрашивает Малыш, все еще держа голову задранной, и мать отвечает — он же все время думал. О нас. А ты прекращай. Ладно, говорит Малыш, опуская подбородок, и задумчиво спрашивает, а в туалет он ходил, этот ваш Ленин. Что за глупости?! Не спрашивай меня больше об этом, сердится Мама Вторая, и Малыш думает, что, наверное, Ленин никуда не ходил. Сидел себе все время с задранной головой и думал, пока кровь в голове его не прикончила. Интересно, каково это. Ну, умирать. Засыпая, Малыш иногда думает о том, что значит умереть, и тогда комната в его закрытых глазах пляшет, как на каруселях. Или американских горках. Малыш спускается с них и поднимается на них, — разинув рот в крике, — вместе с отцом, когда в гарнизон приезжает луна-парк с аттракционами, те для жителей СССР покажутся космическими. А еще рок-концерт. Малыш глядит на него в 1984 году, уже взрослым, пятилетним: фигурки вдалеке кривляются на сцене, рядом стоит бронетранспортер полиции, и много молодых ребят пьют пиво и танцуют под неприятный и резкий звук электрогитар, напоминающий визг пилы. Малышу не понравилось. Родителям тоже, так что они уходят с этого концерта, и Малыш, покачиваясь на плечах Папы Второго, глядит на засыпающий Цеглед — городок, где располагался гарнизон, — и сам засыпает. Просыпается утром. Глядит из окна, и видит, что ромашковое поле покрылось цветами. Желтыми. Белыми. Малышу много лет будет казаться, что это первое воспоминание его детства и он станет уверять всех в этом, — но это всего лишь память сыграла с ним злую шутку, ведь есть и более ранние воспоминания. Лягушата на асфальте. Он стоит в каком-то мокром месте, на его лице собирается влага, — это вроде туман или мелкий-премелкий дождь, — а под его ногами и вообще везде сидят маленькие лягушата. Так бывает. Иногда проходит дождь и с неба сыпятся лягушки, или монеты, или еще что-то, — прочитает выросший малыш в книжке про чудесные явления, каждому из которых дано объяснение. Значит, был шторм. Ветер поднял в небо лягушек и понес куда-то, а потом ослаб, и все это посыпалось с небес, поражая малограмотных, и тех, у кого нет книжки «Чудеса: наука объясняет». Книжка интересная. В доме вообще огромное количество книг, это Мама Вторая, работающая библиотекарем, приносит домой почитать все самое лучшее, интересное, прогрессивное. Малыш читает «Спартака». Учится ездить на велосипеде, маленькие еще дефицит, так что он выезжает из-за угла дома на взрослом велосипеде, стоя под рамой, отчего велосипед с первого взгляда кажется пустым, и прохожие вздрагивают. Упорный малый. Колени Малыша в ссадинах и шрамах, но он упорно ездит на большом велосипеде, пока ему не дарят маленький, который у них с братом, впрочем, крадут на третий же день покупки. Ищи — свищи. Вечерами дети в гарнизоне играют, собравшись у домов, и Малыш нет-нет, да задерет голову, глядя на огромные дома. Мир так велик. Если мы с тобой просверлим отверстие прямо в этой песочнице, говорит герой Малыша, — спокойный и умный девятиклассник Колюжный, — и будем сверлить его до упора, то выйдем на обратной стороне Земли. А долго придется идти, спрашивает Малыш, глядя на звезды, появившиеся над песочницей. О, да. А как ты думаешь, спрашивает малыш, помолчав под внимательным и веселым взглядом парня, которого забавляет этот серьезный малыш, Луна всегда будет рядом с Землей или когда-нибудь улетит от нас? Никуда она не денется. Луна спутник Земли. Малыш кивает, хотя не очень понимает, почему спутник никуда не денется, — что ему стоит взять и деться, — но он кивает, потому что слишком много расспросов признак малышей. Девятиклассник выточит из дерева автомат — точную копию ППШ, да еще и с вынимающимся диском — и подарит Малышу. Брату сделает АКМ. Малыш примет это спокойно, он разбирается в оружии хуже брата и очень любит того, так что он не против отсталого ППШ. Дети играют. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, — считает кто-то, уже не видный в темноте, — и Малыш сидит на бордюре, вдоволь наигравшись в городки. Дети кружатся. Одна из девочек берет Малыша за руку и тащит ко всем, и там кружит вокруг себя, оторвав от земли, отчего Малышу становится так хорошо, будто он в невесомости. Я Луна. Он закрывает глаза, мягко опускается на землю и лежит на траве. Тебе плохо, спрашивает его встревоженная девочка. Мне хорошо. Малыш молча встает и идет домой.
Женщины умеют быть язвительными и умеют делать тонкие намеки, Малыш знает это с самого детства, ведь Мама Вторая иногда получает письма для них всех от Бабушки Третьей и тогда плачет. Сидит тихонько, скулит. Малыш подходит к ней и гладит по голове, брат тоже садится рядом, но Мама Вторая никогда не рассказывает, из-за чего она расстраивается. Что-то в письме? Мама Вторая оставляет расспросы без ответов, и деланно весело оживляется, когда домой приходит Папа Второй. Возится с детьми. Много читает им вслух, и Малыш старательно следит за пальцем матери, который ползет по строчкам книги, чуть опаздывая за ее словами. Учится читать. Мама, мама, радостно кричит старший брат, встречая мать у порога, Малыш научился читать, и Малыш, слегка удивленный суматохой, говорит, глядя в книгу «ма ма мы ла ра му мы ло бы ло бе ло». Правда, умеет. Мама Вторая горда. Много позже Малыш, — пытаясь ответить на вопрос, что собой представляет его мать, — скажет, что лучший ответ на это дает книга «Обещание на рассвете», да только написана она совсем о другой матери. Опять литературщина. Что же поделать, если Малыш с детства проводил время в книгах, в прямом смысле — среди стеллажей библиотек, где работала его мать, и в переносном — чуть ли не в упор опустив лицо в книжный разворот. Опасность близорукости. Чтобы совсем не испортилось зрение, Малыша с братом отдают на курсы плавания, и мальчишки, дрожа от холода в цементной раздевалке бассейна в Бобруйске, выйдут на бортик под взглядами мозаичных пловцов, у каждого из которых над головой будет сиять плохо скрытый нимб. Это же бывшая церковь. Малыш с недоумением воспримет бассейн, всплески воды, приглушенные ее толщей крики тренеров, бормотание детей, плывущих друг за другом цепочкой, резкий запах хлорки, пенопластовые доски. Что все это? В Венгрии, где семья будет жить до 1986 года, все было совсем по-другому, и бассейны там — целые комплексы с разными водоемами разной температуры — строят как светлые, просторные, жизнерадостные. Малыш знает. Он долго бродит по мелководному бассейну под открытым небом, с горячей водой и маленькой клумбой в центре, где растет ива. А в ней живет дрозд. Дрозд, мадам. Венгры обязательно обращаются к женщинам «мадам», чем очень смущают Маму Вторую. Мадам, что же вы. Малыш бредет, подняв подбородок, к дереву посреди мелкого бассейна, и останавливается у ветвей, завидев дрозда. Птица скачет. Малыш глядит на нее завороженно, и слишком поздно обратив внимание на то, что мягкое и ласковое течение — из-за постоянно прибывающей внизу горячей воды, — утаскивает его ноги чуть вперед, отчего он просто вынужден опуститься лицом в воду. Четырехлетний тонет. Мама Вторая, завидев это слишком поздно, охает и бросается вперед, но Папа Второй, сжав зубы, берет за руку, и они видят. Мальчишка плывет. Барахтается, и, будь это бассейн молока, ей Богу, спустя какое-то время мы оказались бы в сметане. Упрямый мальчик. Малыш рано поймет, что упрямство — его главное достоинство, им он способен и гору прошибить, если, конечно, того захочет. В Венгрии хорошо, тепло, как в Молдавии, — откуда семья родом, — и Малыш часто ставит свою руку на бумагу, а Мама Вторая обводит его пальцы ручкой, а потом пятерню прижимает к бумаге брат. Два силуэта. Так они будут делать, даже когда научатся писать, а произойдет это рано, — и будут приписывать к открыткам родителей последние фразы. «Бабушка и дедушка привет вам от меня и брата у нас все хорошо как у вас привет тете привет дяде привет братьям и сестрам». Бабушка Третья шлет посылки. Фанерные ящики, сколоченные гвоздями, очень крепко сбитые, замотанные в изоленту, зашитые в парусину. Мама Вторая ругается. Чем крепче и надежнее защищена посылка, тем отвратительнее будет ее содержимое, знает она, и сначала предчувствия, а потом опыт не обманывают. Старые вещи. Свитера с дырами на локтях, майки с пятнами, штаны с дырами, ношенные носки… и все это пересыпано огромным количеством карамели, которую Малыш с братом не едят. Она издевается. Папа Второй самоустраняется, и Маме Второй приходится держать справляться самой, ей приходится туго, особенно когда приезжают родители мужа. Дородная женщина, Бабушка Третья, прибывшая к семье в Забайкалье в роскошном полупальто и шапке, — Малыш едва ходить научился, и лица его с фотографии, сделанной во время метели, совсем не видно, торчит только шапка, укутанная шарфом, — производит фурор, сразу же собирает вокруг себя гарнизонных сплетниц. Оживляет воспоминания. Брызжет ядом в невестку, рыщет по военторговским магазинам и требует от сына купить ей меховую шапку, потому что в Советском Союзе их количество показатель престижа. Папа Второй ищет шапку. Это вроде татаро-монгольского нашествия, объясняет он своей жене, проще разок откупиться, и дождаться, когда сборщики дани отбудут. Мама Вторая плачет. Поначалу ей казалось, что помощь может прийти от Дедушки Третьего, должен же мужчина вести свою жену твердой рукой, и ставить ее на место, но тот окончательно переселился в свой мир: мир заметок из глянцевого журнала про Северную Корею, отдыха у радио после обеда, и веселых песенок Утесова на огороде, после работы с картошкой. Бабушка Третья свирепствует. Бабушка, — спрашивает ее Малыш, — почему ты так не любишь мою маму, на что Мама Вторая вспыхивает радостным румянцем женщины, приобретшей защитника, а Бабушка Третья улыбается еще слаще и ядовитее. Иди поиграй. Малыш спускается с жирных колен Бабушки Третьей, с ее колоннообразных ног, с ее огромного живота, и спрыгнув на пол, выходит из комнаты, тревожно скользнув взглядом по лицу матери. Перестрелка начинается. Малыш уже забыл об этом, он снова вышел на улицу, в кармане у него несколько штук вкусного овсяного печенья, и он идет к болоту. Зимой замерзает. Дети высыпают на лед, и устраивают хоккейные сражения, часто приходят венгры, и тогда соревнования становятся прямо-таки международными. Малыш боится венгров. Когда все засыпают, — слышит он вечером на скамейке у дома сдавленные разговоры взрослых второклассников, — венгры ходят вокруг гарнизона и только и ищут кого бы убить, а одного прапорщика поймали и отрезали ему голову. Папа Второй хохочет. Многим прапорщикам, говорит он, я бы и сам с удовольствием отрезал не только голову, но и… Дорогой! Мама Вторая укоризненно качает головой, и Малыш второй остается в недоумении: чего бы еще такого отрезал прапорщикам Папа Второй, и зачем ему вообще это делать. Венгры восставали. Малыш сам видел старого полковника., потерявшего во время бунта жену и детей, после чего он сел в танк и поехал к Будапешту, не останавливаясь даже перед женщинами с детьми. Так говорят. Малыш глядит на хоккей. У него есть клюшка и шайба, и он выходит поиграть днем — брат хоккей не любит, он с приятелями занят устройством штаба в ветвях огромного каштана за стадионом, — поволочь за собой шайбу. Играет с собой. Сам себе защитник, сам себе нападающий, Малыш совершает невероятно смелые прорывы, ложится на шайбу, бьется насмерть, выигрывает дерби Канада-СССР, ему рукоплещет весь мир и даже спутник Луна. Вечером приходят ребята постарше, и, — сбросив ранцы у камышей, — разогреваются, в ожидании венгерских сверстников. Бьются до ночи. Выигрывают обычно наши, но и венгры ничего себе парни, так что, когда они приглашают советских ровесников к себе в школу, наши соглашаются. Берем и мальцов. Малыш попадает в венгерскую школу, которая поражает его — не видевшего еще ни одной школы — своими размерами. Бутерброды с сыром. Не простые, а в виде корабликов, и Малыш не знает, что ему делать с зубочисткой, на которой, словно мачте, держался сыр в виде паруса. Выкинуть? Малыш ищет глазами мусорное ведро, но не находит, так что неловко сует зубочистку себе в карман, и она лежит там, сначала мятая, потом поломанная, пока Мама Вторая не выбрасывает все из карманов перед очередной стиркой. Мама Вторая плачет. Бабушка Третья умеет уязвить и в письме — даром что пишет с ошибками, — и Малыш начинает ненавидеть Бабушку Третью, из-за которой Маме Второй почти все время плохо. Гнусная жаба. Оставь мою маму в покое. Но как же Папа Второй? Он ведь сын Бабушки Третьей, и Малыш его очень любит — этот большой мужчина, казавшийся в детстве таким многозначительно грозным, проявляет, в общем, невероятную терпимость в отношении к детям, понимает много лет спустя Малыш. Все сложно. Так что Малыш предпочитает не думать много на этот счет, а просто провожает Маму Вторую в больницу — что-то у нее с почками, — и остается дома с братом, а Папа Второй уходит на дежурство. Шестилетний брат варит борщ и жарит картошку, вкусно, спрашивает он Малыша, на что тот отвечает: конечно, братик. Обожает старшего. Тот умный, сдержанный, худощавый — Малыш крепко сбит и коренаст, — волосы вьются, очень красивый. Готовит невкусно. Но какое это имеет значение, если для тебя так старались? Малыш съедает все. Просыпается рано утром — февраль, — и видит, что возле кровати целая коробка ярких гусар с лошадьми и оружием. Сабли, пистолеты, аркебузы, кивера, стремена, уздечки, шпоры, — да, венгры, изготовившие этот набор игрушек, знают толк в гусарах. Малыш глазам не верит. А что случилось, слабо бормочет он тискающим его отцу и брату, и узнает, что это у него день рождения, ему четыре года. Взрослый мужик. Так что мужик Малыш, позавтракав, выходит из дома — это еще Комаром, в котором они живут до того, как попасть в Цеглед — и идет гулять, пытаясь осмыслить случившееся. День рождения. Голуби воркуют, и гусары сидят на конях как влитые, хотя их можно снять и отправить драться в пешем строю, так иногда случается, объяснил брат. В атаку! Малыш с братом ищут, — как и все гарнизонные дети, — патроны на старом стрельбище, и, как и все гарнизонные дети, находят эти патроны. Здоровенные, от пулемета. Называется «Шилка», — говорит солидно брат, — и вертит в руках большущие гильзы, после чего закапывает их с Малышом, обернув для сохранности в пакет из-под молока. Потом не могут найти. Ищут долго, как Бабушка Четвертая — свой комсомольский билет, — и еще дольше вспоминают это, пытаясь понять, куда же дели боеприпасы. Папа Второй молчит. В то утро он вышел из дому за детьми, и проследил, куда они спрячут патроны, после чего выкопал и отнес на службу. Все равно не уследишь. Так что Малыш с братом набирают целую горсть старых патронов на стрельбище, и тащат домой тайком от родителей, а когда те уходят в гости, решают немного пострелять из металлической пушки. Вместо карандаша пули. Бах-бах, гремит пушка, и брат от изумления становится на правое колено, и чуть выше его головы в холодильнике появляется отверстие с кулак, пули-то старые и неправильной формы. Прибегает мать. Кто уронил холо… начинает она, и садится, взявшись за сердце, брат с Малышом ничего не понимают, в квартире много дыма. Неприятное воспоминание. Много раз, — глядя на брата и его дочь, — Малыш будет вспоминать тот день, ту замершую картинку, и каждый раз с омерзением спрашивать себя, а что было бы, если. Не случилось ничего. Бог миловал, так что Малыш с братом, — несмотря на взбучку отца, — продолжают таскать патроны. Хранят не дома. Есть штаб, который они сколотили из старых досок и веток на большом дереве, и откуда постреливают в кошек и противников рябиной из воздушной винтовки или стрелами из самодельного лука. Винтовка у брата. Он с малых лет отдает должное высоким технологиям, а Малыш предпочитает старый добрый лук, овладевает которым в ходе мальчишечьих войн в совершенстве. Гарнизонный Робин Гуд. Наш Котовский. Отец учит стрелять из винтовки «ТОЗ» и Малыш впервые познает чувство, которое испытываешь, еще не нажав на курок, но уже Зная, что ты попал. Владение миром. Его тянет к девочкам, которые, хоть и странный народ, все же куда приятнее — он это охотно признает — мальчиков, и брат отзывает его в сторону. Таинственно шепчет. Отец принес домой много пороху, чтобы почистить печь, так что мы можем взять себе немного, и Малыш, конечно, согласен. Порох артиллерийский. Маленькие трубочки оранжевого — словно сердцевины ромашек — цвета, с шестью маленькими дырочками с торца. Малыш гребет кучу. У него возникает идея почистить печь самим, за что родители им будут очень благодарны, брат поддерживает, и они, засыпав с килограмм оранжевых палочек за чугунную крышку печи, поджигают. Пламя вспыхивает. Здорово, говорит Малыш, — им при виде пламени вновь овладевает странное чувство неги и невесомости, которое он испытал, глядя на звезды, — и заглядывает в печь, сам не зная, почему. Происходит маленький взрыв. Малыша, с обожженным лицом, несут на медицинский пункт, где военный врач брызжет ему в лицо чем-то вроде геля, на что ребенок, — к восхищению всего гарнизона-, матерится и требует «убрать дихлофос». Лицо заживает. Даже ресницы, и те отрастают, хотя Мама Вторая, — всегда готовая к худшему, — уже ждала вердикта врачей о том, что ни ресниц, ни волос не будет. Бабушка Третья пишет. Пусть внимательнее следит за детьми, требует от Папы Второго она, хотя и он и она, и Мама Вторая знают, что Бабушке Третьей на детей плевать. Лишь бы уязвить. Малыш, — дождавшись, пока лицо заживет, — вновь играет со сверстниками на площадке у дома, исследует с братом мрачное и брошенное здание, где во время войны располагалось Гестапо, спускается с отцом к Дунаю. Находят ружье. Старинное, лет сто, не меньше, и отец возится с ним, чтобы сделать подарок Дедушке Третьему, — тот ведь знатно охотился, — но ружье не пригодится, потому что Бабушка Третья из него эту дурь-то выбила. Поехали лучше на огород. Малыш с братом стоят возле Дуная и глядят на танкеры, проплывающие мимо, не замечая, как под ногами плещется несколько огромных карпов, пойманных кем-то, и оставленных нанизанными на леске. Привязана к дереву. Папа Второй отвязывает леску и рыбы, плеснув, исчезают в воде — уплывают за танкерами — а Папа Второй извиняющимся тоном объясняет сыновьям, что рыба в Дунае все равно несъедобная. Едят халасли. Горячий, проперченный суп из карпов, выращенных не в засаленном от нефти Дунае, а в чистейших озерах. Ходят на плантации. Свежий перец и помидоры можно купить, и их срежут прямо у вас на глазах, да, спасибо, мадам. Гарнизонные игры. Малыш с удовольствием тянет канат, брат малыша — бегает, а отец возглавляет команду по волейболу. Мама Вторая стреляет. Пистолет «Макарова» тяжеловат для нее, не набравшей после двух родов и пяти лишних килограммов, так что она мажет. Малыш с досадой думает о том, что лучше бы он сам стрелял вместо мамы, ведь ему уже пять, и он тайком от отца держал уже в руках пистолет, и если взять его крепко… Приехала Бабушка Третья. Что ей нужно? Почему она такая злая? Почему все время лезет целоваться своими мокрыми губами, с неприязнью думает Малыш, спускаясь по ступенькам с четвертого этажа. Странная женщина. Он гуляет по гарнизону, вкратце рассказывает остановившим его лейтенантам содержание «Спартака» — во дает, восхищенно присвистывает вновь прибывший, это для молодых офицеров вроде аттракциона, — и идет к болоту. За ним уже ворота. Гарнизон самому покидать нельзя, это запрещено, хотя дети, конечно, в Цеглед бегают. Малыш незаинтересованно бродит вокруг часового с большим и страшным штык-ножом на поясе, после чего шмыгает между прутьев забора, и выходит к дороге. Несутся фуры. Малыш стоит, задумчиво показывая проносящимся мимо грузовикам советские пятнадцать копеек, пока не останавливается одна из машин, и улыбчивый водитель не бросает взамен какую-то мелочь. Югославский динар. Малыш подбирает монетку, швыряет взамен копейки, и, помахав рукой, глядит, как машина заводится и уезжает, — югослав все время смеется и покачивает головой, ему эти русские пятнадцать копеек и даром не сдались, но уж больно смешной и серьезный малыш. Динар ярко желтый. Он очень блестит и Малыш возвращается в гарнизон, чтобы поискать еще чего-нибудь интересного у болота, но там ничего, кроме тритонов. Собирает ромашку. Цветы приходится сбрасывать в майку, которую подворачиваешь у живота. Получается мешок. С таким вот мешком, полным ромашки, Малыш и возвращается домой с братом, которого увидел по пути, и их встречает мать с неприятным красным и опухшим лицом. Малышу неприятно. Он уже знает, что такое лицо у нее из-за слез. Мама Вторая очень красива, но сыновья все реже будут видеть ее лицо безмятежным, мать то плачет, то кусает губы, и взгляд у нее тревожный. На лице ее — ни минуты покоя, — любой физиономист скажет вам, что это лицо человека, снедаемого тревогой, страхами, и заботами. Вечно боится. Вечно ждет неприятностей. Вечно кривит губы. Лицо Афродиты, тронутое паникой. Встревоженная Венера. Даже много лет спустя, на похоронах Дедушки Третьего, когда Бабушка Третья превратится в развалину — пусть и с цепким взглядом, и невероятно жизнелюбивую, но все же в развалину, — а тетка станет осколком самой себя, Малыш не сможет проявить великодушия, не сможет сдержать ненависти к ним. С содроганием отвернется. Мать была настоящей красавицей. Почему вы изуродовали мою мать, едва не крикнет он в лицо этим высокомерно застывшим за поминальным столом жабам. Малыш вздыхает. Мама, мы принесли тебе цветов, говорит он, и вываливает ромашку на кресло, брат помогает. Бабушка Третья улыбается. Ромашка ей даже очень нужна, так что она возьмет ее себе, а еще прихватит кусок пемзы из ванной, чтобы тереть свои старые больные ноги, которые столько натерпелись в немецком плену. Конечно, мама. Бабушка Третья ведет себя в доме сына, как дорогой гость в монгольской юрте — Папа Второй служил в Монголии и знает, о чем речь, — и может взять себе любую понравившуюся вещь. Папа Второй уходит на службу, Малыш с братом отправляются в невероятное путешествие к айве на самом краю гарнизона — конец мира, — а Мама Вторая остается в квартире с Бабушкой Третьей. Это испытание Божье. К счастью, как и все испытания, оно заканчивается, так что Малыш с братом машут рукой уходящей за забор гарнизона Бабушке Третьей и ее молодцеватому спутнику, Дедушке Третьему. Зато сестра передохнула. Папа Второй говорит это с усмешкой, и обнимает за плечи жену, но та не в силах сдержать слез, и он говорит ей — ну что же ты, успокойся. Сыновья молчат. Смотрят в сторону.
Совсем не то Бабушка Четвертая. Та шлет посылки, которые вызывают радостное оживление у всей семьи. Там будет бутылка хорошего вина для Папы Второго, доброе письмо и какое-нибудь простое, но изящное украшение для Мамы Второй, хорошая книжка для мальчишек, а то и удивительная игрушка. Радио, например. Брат Малыша, — под его восхищенным взглядом, — сам что-то паяет и клеит, и спустя месяц в доме появляется маленькое ручное радио. Сам собрал! Руки у брата не золотые, думает Малыш, внимательно глядя на тонкие братовы пальцы, и почему же взрослые так про них говорят? Бабушка Четвертая присылает корабли, Бабушка Четвертая шлет набор для работы по дереву, и Малыш выжигает на дощечке веселого зайца с морковкой и его дощечку дарят. Бабушке Третьей. Еще Бабушка Четвертая шлет дочери советы и утешения: доченька, пишет он, твой муж это теперь твои родители, так что не нужно спорить со своей судьбой, и думать забудь о разводе, ну что с того, что муж отдал тебя на растерзание свекрови. Такова твоя женская доля. Мы тебя не примем. Покорись мужу. К тому же, Папа Второй не то, чтобы злой, он просто никогда не видел, как надо. Так что Мама Вторая, — которой не оставлено выбора, — плачет ночами и учится жить на войне. Семья молодая. Стерпится, слюбится, они все сходятся потому, что между ног горит, и еще и понятия не имеют, что брак — это ответственность, обязанность, и еще много суровых и солидных «-стей». Об этом любит поговорить Дедушка Третий. Папе Второму до всего этого нет дела, он просто сбежал от родителей, и продолжает скитаться, — что начал делать еще в детстве, кочуя от одного гарнизона к другому. Мама Вторая находит утешение лишь в сыновьях, старший всюду таскает с собой младшего, разница небольшая. Малыш помнит ее на зубок. Год, два месяца и четыре дня, как-то сказал он, пробужденный от глухого сна на вечеринке в университете, где выпил разом пять литров пива, и уснул в комнате для слабаков. Такая забава. Но сейчас он ничего, кроме воды и чая, не пьет. Ромашкового чая.
Малыш ужасно боится, что кто-нибудь просверлит дыру из их песочницы на другую сторону Земли. Отец берет с собой на учения. В лесу солдаты разбивают палатки, а в поле стоит огромный стог, по которому брат и Малыш с восторгом лазают, и в небе над ними кружит какая-то хищная птица. В лесу фазаны. Одного отец подбивает просто палкой, и наполовину съеденную тушу птицы облепляют в домашней духовке муравьи. Придется выкинуть. Отец убивает косулю, животное лежит в прихожей, и в уголке ее глаза дети видят слезу, после чего ударяются в слезы сами, так что Папа Второй перестает охотиться на косуль. Идет на зайца. Одного подбирает живым, и приносит в дом: рыжеватый, тощий как кошка, заяц прячется ночами за стенкой и барабанит лапами. Назвали Ударник. Не выдержав ночных бдений, Папа Второй отвозит зайца в лес, выпускает, взамен приносит ежа, который остро пахнет и пьет молоко, осторожно высунув мокрый нос из колючек. Ударник похлеще зайца. Только еж не стучит, а топает, так что ночами стало еще хуже, — приходится отнести в лес и ежа. Малыш читает книжку про дерево с котом, про трех поросят, и «Будущий полководец» и «Будущий адмирал», ну-ну, говорит отец. Мама Вторая гордится. Ее сын необычайно развитый мальчик. Малыш делится на улице овсяным печеньем с каким-то вновь прибывшим сверстником — мы приехали аж из Москвы — и они вместе исследуют строительный вагончик. Мальчик делится пряником. Ничего вкуснее в своей жизни Малыш не ел, и не один год своей жизни он будет искать точно такие же пряники, но, конечно, не найдет их. Очень-очень вкусно. Главное, не говорить «аппетитно», думает Малыш, а еще — пытка. Его коробит от этих слов. Брат, когда они ссорятся — редко, но случается, — долдонит, когда они лежат, каждый на своем кресле-раскладушке: пытка-аппетит-аппетитная пытка — пыточный аппетит — аппетит-пыт… Мама, он дразнит! Вечером показывают новости, и Малышу кажется, что телевизионная будка это такой домик на ножках, где сидят мужчины и женщины в костюмах. Вечно говорят. Сегодня в результате подлого… Погибшая… Индира Ганди… Папа, спрашивает Малыш, а Индира Ганди это что, обезьяна какая-то, и родители насмешливо переглядываются. Папа Второй переключает.
Скованные одной целью, скованные одной целью, песенку эту Малыш впервые услышит на однокассетном магнитофоне «Десна», который сделали в Дагестане. Качественная техника. Это Дедушка Третий похвалил, который вообще все хвалит, и терпеть не может, когда ноют и жалуется, поэтому он Маму Вторую и недолюбливает. Все ей не то. Вечно жалуется на отсутствие каких-то условий, а разве у них с Бабушкой Третьей были условия, когда он в Корее исполнял свой интернациональный Долг, а жена с двумя детишками околачивалась на хуторе и коз доила? Так не жалуйся. Бабушка Третья подключается: тебе что-то не нравится в службе твоего мужа, дорогуша, сладка спрашивает она, и, пусто улыбаясь, добавляет — так зачем же ты пошла за него замуж? Мама Вторая улыбается. Это уже не испуганная забитая девчонка, которую свекровь и свекр третируют, как хотят, — она закаленный в этих битвах боец, она поджимает губы, она уже научилась выживать в этой атомной войне, и, — как и все, кто в ней выжил, — мутировала. Мама Вторая полна ненависти. Напоминает Бабушке Третьей, что, вообще-то, это ее сын очень хотел на ней жениться, а ей и не очень-то и надо было, и ей на минутку кажется, что так оно и было. Ненависть стирает память. В дрязгах и скандалах они как-то постепенно забывают, как на самом деле начиналась история семьи. Папа Второй на учениях. Мама Вторая присматривает за детьми, которые растут так быстро, что месяцы становятся днями, а года — месяцами. Старший вытянулся. Малыш уступает ему уже не полголовы, а целую голову, что не мешает ему становиться все бойчее и задирстие, а старший, напротив, стихает и становится задумчивее. Круглый отличник. Малышу не хватает терпения на это, и он ограничивается похвальными грамотами: такие листочки дают каждому, у кого есть всего одна-две четверки в годовых оценках. Не любит математику. Оба продолжают плавать. И это уже становится серьезным, потому что тренировки каждый день, и Мама Вторая проводит свою жизнь в ожидании сыновей в холлах бассейнов советских республик. Отдала себя детям. Бабушка Третья поджимает губы. Нет, в Белгороднестровск я не поеду, говорит угрюмо Мама Вторая, — там даже нет бассейна, где могут заниматься дети, так что мы переждем здесь, в Белоруссии. Смотри какая! Я за своим мужем и в огонь и в воду, говорит Бабушка Третья, и глядит на внуков пустыми глазами, Мама Вторая думает: неужели ей в голову не приходит, что мы живем для детей? Мама Вторая живет для детей. Ложится в госпиталь вместе со старшим сыном, у которого нарывает кожа головы, и врачи вовремя успевают сделать операцию, так что брат Малыша отделался лишь шрамами. Гуляет во дворике. Малыш приходит в гости с Папой Вторым, и завидует брату — в больнице дают вкусные йогурты, в больнице дают печенье, между половинками которого спрятан слой шоколада, одно печенье можно аккуратно скусать с одной стороны, другое — с другой, и тогда шоколад — весь твой, беспримесно. Во дворике бассейн. Братик, тебе больно, спрашивает Малыш. Брат важно кивает. Ух ты. В бассейне живут несколько черепах, и Малыш кормит их сырой морковкой, думая, чем бы таким заболеть, чтобы и его положили в эту больницу, к брату. Делится с отцом. Тот напоминает, что брата скоро выпишут, и говорит, что пора прощаться. Братья обнимаются. Малыш идет к гарнизон, держа за руку большого отца в парадной форме и больших сапогах — День Артиллериста, — и всю ночь лежит, свернувшись калачиком, и слушая веселые выкрики за окнами. Отец сопит. Кормит сына жареной картошкой, и яичницей, берет с собой на службу, так что Малыш возится по соседству с плацем, когда там идут занятия. Грохот сапог, команды. Брата выписывают. На радостях мальчишки устраивают потешное сражение в ванной, и Малыш нечаянно толкает брата, который сильнее и поэтому сдерживает себя, оба слышат глухой стук, и вода становится красной, а потом бурой, это кровь. Не повезло старшему. Его снова отправляют в больницу, и зашивают шрам на затылке, а Малыш не может уснуть, потому что в глазах, — если их закрыть, — у него все прыгает. Обожает брата. Мальчики неразлучны, и когда старший идет в школу, Малыш скучает дома две недели, а потом тоже просится в школу. Ну, пусть походит. Мама Вторая надеется, что ему это просто надоест, покупает малышу тетрадки и пеналы, на одном из которых нарисованы человечки с бластерами и крылышками на сандалиях, в касках покорителей космоса из какого-то модного в то время на Западе сериала. Малыш заворожен. Эти человечки чудятся ему в вечернем небе Цегледа, когда он, сделав уроки, играет в футбол со старшими ребятами. Звезды пляшут. Это Малыш принял чересчур тяжелый мяч головой, и опустился на землю от неожиданного удара. Брат бросается на обидчика. Кто дерется с Малышом, дерется с его братом, и наоборот, — знают все. Учительница молодая. Ее фамилия такая же, как и автомат — а Малыш знает, как называется автомат, — и Елена Николаевна Калашникова, большая, статная, кажется им божеством. Было ей двадцать. Десять детей. Классы маленькие, потому что это гарнизонная школа, и Малыш знает всех своих соучеников по имени, больше всего ему нравится рыжая Света, которую он подумывает пригласить на свидание. Мать тревожится. Не слишком ли рано созрел наш мальчик, не слишком ли он чувственный, спрашивает она Папу Второго, когда Малыш, выпросив три конфеты — для себя, девушки и ее подруги, — выбегает из дома. Папа Второй раздумывает. По-моему, она просто ревнует, думает он, одевает спортивный костюм — в таком же фотографируется в ГДР молодой сотрудник КГБ Путин, — и отправляется на шашлыки с сослуживцами. Все фотографируются. Шашлыки держат в зубах, прямо на шампурах, это шик такой, дети сидят на покрывалах, волосы у женщин подняты, костюмы одноцветные, со стрелкой на штанах. Папа Второй бегает. Он очень поправился и весит сто тридцать килограммов, — Мама Вторая с грустью вспоминает тощего паренька, который бегал за троллейбусом, в котором она ехала, — возобновляет занятия штангой, но от этого поправляется еще больше. Приходится бегать. Малыш бежит рядом с папой, солнце бьет в глаза, роса блестит, вставать рано непривычно, но награда велика — увидеть просыпающий лес, услышать, как шумно дышит рядом отец, кувыркнуться, чтобы развить координацию и гибкость. Малыш радуется. Папа Второй постепенно приходит в норму, и удивляет весь гарнизон, заслужив благодарность командования. Это происшествие. Ночью в гарнизон приезжает машина с офицерами из какой-то другой части, пьют, веселятся, и один из гостей тонет в бассейне, остальные, испугавшись, бросаются в машину, чтобы уехать. Газуют. Мастер спорта Папа Второй совершает рывок, и заскакивает в автомобиль, останавливает. Ай да герой. Малыш боксирует с отцом шутя, и тот, случайно махнув рукой, задевает нос сына, больно страшно, и Малыш пытается не заплакать, очень долго — и ему удается. Отец утешает. Он появляется дома редко — словно бог из машины, с горечью думает Малыш, глядя на попытки отца побыть своим в доску парнем десятилетия спустя, — так что дети предоставлены Матери. Та чересчур заботлива. Начинает чересчур давить на них, любовь и опека чрезмерны, но она чувствует себя униженной, так что ей нужны гипертрофированные доказательства верности. Дети стараются. Папа Второй получает назначение. Дети, мы переезжаем, говорит Мама Вторая, и дети, которые еще ни разу не переезжали в сознательном возрасте, радуются. Мама Вторая опечалена. Она знает, что лучше, чем в Венгрии, не будет, что переезд это разбитая мебель, — которой и так нет, — скитания, новые дыры Советского Союза, по которым принято рассылать офицеров. Конечно, не ошибается. Назначено в Бобруйск. Папа Второй едет к новому месту службы, а Мама Вторая с грустью прощается с Венгрией и ведет мальчишек в парк аттракционов, который приехал из Словакии. Дают жвачки. Сладкие, и очень мягкие, в форме сигареты, — можно сунуть ее в рот и с солидным видом разгуливать вдоль механических лошадок и комнат страха и смеха. Машины светятся. Огромный столб торчит посреди площадки, и с него свисают на цепях светящиеся сидения, — столб начинает вращаться, кресла разлетаются, посетительницы визжат, посетители мужественными голосами просят их не паниковать, это же всего лишь карусель, дети радуются, шумит машинка для производства сахарной ваты, которая теплым облаком окутывает лицо, если в нее вгрызться. Тает во рту. Малыш двадцать четыре года проживет без сахарной ваты, а когда решит попробовать, что же все таки за вкуснятину продавали в парках его детства, будет страшно разочарован. Да это же просто сахар! А ты как думал, дорогой, спросит его язвительно первая жена, страшно недовольная тем, что Малыш затащил ее в этот несчастный парк для детей. Намекает, что ли? Она была девушка яркая, резкая, порывистая, и считала, что ей нужно делать карьеру, поэтому Малыш, — подававший большие надежды на первых порах университетского образования, но к концу его запивший, — вызывал у нее естественное раздражение. Ошибочка вышла. Так что спустя год после окончания университета они развелись, и Малыш каждый раз, когда видел жену ведущей выпуска новостей на местном канале, прибавлял громкости. Тренировал волю. Аттракционы светились. С тех пор Малыш заболел манией аттракционов, он не пропускал ни одного лунапарка, ни одного игрального автомата — азартные игры не в счет, он знал, что ему не везет, так что даже не пробовал, — ни одной карусели, детской площадки. Прописался на аттракционах. Довольно странное увлечение с учетом боязни высоты, которую Малыш стал испытывать в Венгрии, напугав мать. Таскала по специалистам. Он просто ребенок и просто боится высоты, это пройдет, раздраженно сказал врач, и Мама Вторая успокоилась. А Малыш нет. Так что высоты он боялся всю сознательную жизнь, а началось это в Цегледе, на балконе пятого этажа, куда Малыш вышел, чтобы взять мяч, а потом побледнел, прислонился к стене и у него отнялись ноги. Балкон ведь упадет! Матери пришлось выносить его в квартиру на руках. Ночью наступило полнолуние и Малыш глядел на невероятно большую Луну, нависшую над гарнизоном, — не спал никто в городе, такое случается раз в двести лет, — а потом глядел, как она тает в синем мадьярском утре. Прощай, Луна. Прощай Венгрия. Мы уезжаем, и Мама Вторая уже без слез глядит за тем, как все ее богатство, накопленное за восемь лет брака, в очередной раз гибнет — бьют неполный сервиз солдаты, ломают шкаф, не лезущий в дверной проем грузчики, все ломается, падает, бьется, как это свекрови удавалось при стольких переездах копить? Бабушка Третья улыбается. Мама Вторая покупает три больших ковра — ценность в Советском Союзе, — и сворачивает их в тяжеленные трубы, зашивает в простыни, и тащит все это на себе. Сыновья рядом. Тащить все на себе нормально, Папа Второй тут не подмога, будь он даже рядом — если на офицере форма, он никогда не возьмет в руки хозяйственную сумку. Престиж военного. Мама Вторая тащит, задыхаясь, старший брат ведет за руку Малыша, и глядит на венгров с подозрением. Все они фашисты. Мама Вторая ставит ковры на перрон, разгибается, чтобы передохнуть, и тут Малыш видит, как на них несется на всех парах поезд, — он не понимает, что машина движется по рельсам, и не свернет, — и прирастает к перрону, страшно напуганный. Брат держит за плечи. Поезд, пронесясь мимо, задевает неловко поставленные ковры, и один из них попадает под колеса, плакали сто тридцать рублей, и Мама Вторая бегает, кричит и плачет. Вечные неудачи. Малыш стоит, прижавшись к брату, и вспоминает учительницу, которая перед отъездом пригласила их в гости. Пельменей наварила. Когда в Ленинграде был страшный голод из-за фашистов, окруживших город, — рассказывала она притихшим детям, — люди собирали крошки и кушали их как первое и второе. А вы выкидываете хлеб! Малыш никогда в жизни больше не выкинет ни одного кусочка хлеба, что будет выводить из себя его вторую жену, какого дьявола ты скаредничаешь, кричала она ему во время одного из ста тысяч их семейных скандалов, сейчас же нет войны, сейчас МИР. Извини, дорогая. Люди в Ленинграде, вспоминая хлеб, плакали и ели крошки, которые могли найти, так что Малыш никогда больше не выбросит ни одной горбушки. Учительница прощается. Малыш покидает рай. Выходит к ромашковому полю в последний раз, но оно сейчас просто зеленое, ромашки ведь не цветут круглый год, сынок. Не имеет значения. Для малыша поле все равно покрыто белыми и оранжевыми точками, а деревянный ППШ он дарит какому-то мальчишке на год младше его. Не жадный. Брат свой АКМ аккуратно упаковывает, игрушку приходится бросить в контейнер с вещами, сунув в коробку с пылесосом, но это лишняя предосторожность, на железной дороге контейнер, как обычно бывает, вскрыли, и вытащили оттуда все, что показалось сотрудникам железной дороги интересным. АКМ, например. Вот поэтому-то Мама Вторая и не доверила ковры грузовой пересылке, и потащила их ручной кладью. Один потерян. Каким-то чудом запихнув оставшиеся два под полки, Мама Вторая хлопочет, устраивает сыновей, кормит, и глядит в окно. Венгрия убегает. Советский Союз приближается. Такая любимая Родина. Малыш со старшим братом идут в конец вагона за водой, и проводник, — бегущий мимо, — хлопает дверью по руке брата. Прищемил пальцы мальчишке. Малыш в ярости врывается в купе проводников и кричит, чтобы немедленно извинились перед братом, иначе он их тут всех. Проводники извиняются. Смеются, приносят чаю, самые чистые покрывала, теребят Малыша и брата, пожилые женщины в синей форме тащат Маму Вторую выпить чаю в проводницкой. Чудесные мальчишки. Брат с Малышом играют в купе, ждут, когда покажется Советский Союз, рисуют в альбоме фигурки — кружочек с ручками и ножками — каждый на своем листе, произвольно. Накладывают листы. Это что-то вроде электронного морского боя, — объяснял позже Малыш одной из своих жен увлеченно, — только не морской, и не электронный. Бедный мальчик. Глупые женщины. Как объяснить им, что у меня, несмотря ни на что, было хорошее детство. Малыш с братом играют, засыпают, просыпаются, чистят зубы, бегают друг за другом по вагону, стоят на спор, — ни за что не держась, — на красном коврике, постеленном на полу в коридоре. Лезут на третью полку. Пьют чай, читают книжки. Мама Вторая глядит на мальчиков с гордостью, и постепенно перестает вспоминать неудачу с ковром, хотя свекровь, без сомнений, напомнит. Прочь мысли о ней. Мама Вторая гладит головы сыновей, и желает им спокойной ночи. Завтра ночью будем в Союзе, говорит она, и Малыш сладко засыпает, чтобы через несколько минут — как ему показалось, — подняться из-за резкого света. Приехали, дети. Голос матери доносится откуда-то из коридора, Малыш, сопя, одевается скорее на ощупь, и, взяв брата за руку, выходит из купе. Прощаются с проводниками. Станция Барановичи. Ночь, холодно, и дети дрожат, так вот что такое переезды, — с неприязнью думает Малыш, — это когда тебе не дают поспать, как следует, и даже вагон не успевает стать твоим домом. Мальчик оглядывается. Небо беззвездное. Мама Вторая вытаскивает из вагона сумки и ковры, обнимает детей и все трое застывают на перроне молчаливым памятником ожиданию, первый раз из многих десятков. Чего мы ждем. Должна приехать машина с папой, и мы поедем в Бобруйск, говорит Мама Вторая, тоже подавленная переездом, а вернее тем, что его испытали на себе дети, совсем скоро приедет. Скрипит рама. Это одинокий велосипедист с фонариком катит мимо путей, и, молча блеснув им в лицо, проезжает дальше, и мать с детьми слышат бормотание. Цыгане приехали… Мама Вторая шокирована, она в негодовании, она говорит Малышу — пойди и скажи этому несчастному ублюдку, что мы не цыгане, а молдаване. Братья с удивлением переглядываются, они и не знали. Национальная гордость просыпается в униженных, запомнит с тех пор Малыш. Он идет. Ему страшно, но не хочет, чтобы туда пошел брат, — он боится за брата больше, чем за себя, и ему не хочется разочаровывать Маму Вторую, которая ищет защитника хотя бы в нем, это-то Малыш уже прекрасно понял, так что он идет к велосипедисту, замершему метрах в ста впереди. Мать с братом все дальше. Набирает воздуху. Эй, послушайте, вы, говорит семилетний Малыш, и угрюмый белорус поворачивает к нему с удивлением свое вислоусое — Малыш будет ненавидеть такую форму усов всю жизнь, — мы не цыгане, а молдаване, ясно?! Мы молдаване! Малыш глядит на мужчину на велосипеде, раздув ноздри и выпятив глаза, и чувствует, что одержал маленькую победу, но ровно до тех пор, пока мужчина, искренне удивившись, не отвечает. Да какая разница? Малыш чувствует, что у него отобрали победу, так что возвращается к Матери уже бегом. Велосипед скрывается в ночи. Я сказал, мама, говорит он печально, но гордо, ты молодец, говорит она удовлетворенно, и яркий свет заставляет их всех прикрыть лица руками. Это такси и Папа Второй.
Бабушка Третья просыпается, глядя на подсолнухи, повернувшиеся к окну. Дедушка Третий так трогателен. Цветы словно живые, ах вы котики мои, бормочет Бабушка Третья, и встает, чтобы сунуть ноги в матерчатые тапочки и пошаркать на кухню, ей нравится выглядеть старше, чем она есть. Пенсия это отдых. Дедушка Третий плещется в ванной, бреется старой опасной бритвой, которую ему еще в Германии подарили, и он точит лезвие на ремне каждые выходные, настоящий виртуоз во владении этой бритвой. Бреется в поезде на ходу. Малышу ужасно хочется такую бритву, но зачем она ему, у него нет еще усов и бороды, ему всего семь лет, и доверять мальчишке опасную бритву не стоит. Бабушка Третья гремит ключами. Все шкафчики в квартире заперты, завязаны, и дочь, как и мебель, заперлась и лицо у нее постоянно вытянуто. Дедушка Третий шипит. Это значит, что он набрал в ладони одеколона и похлопал себя по щекам, женщинам приятно слышать, как энергично возится отец и муж утром в ванной. Еле кивают друг другу. Ольга облачается в кожаные джинсы, присланные Пашкой из Монголии, где он служил первые два года своего лейтенантства, и куда Мама Вторая отправила телеграмму «Поздравляю воскл ты стал отцом тчк», на что ошалевший от радости и ящика шампанского Папа Второй ответил «Мальчик или девочка вопр» так что Маме Второй пришлось еще раз идти на почту и сообщать что «мальчик назвали Сашей тчк». Рожала в Одессе. Возвращалась зимой, близился Новый год, и брат Малыша ворочался в пеленках беспокойно, потому что очень мучился животом, дома у Бабушки Четвертой было полно народу — два сына, у старшего семья, — так что Мама Вторая сдуру было ткнулась к родителям мужа. Кто там? Дверь еле прикрыли, бросили сквозь зубы «наши все дома», но впустили, потому что ночь надвигалась. Утром пришла свекровь. Знаешь, милочка, сказала она, глядя в сторону, у папы от детских криков болит голова, подыщите себе другое место. Мама Вторая уйдет с сопящим свертком. В Монголию нельзя, а на телеграмму «что делать» муж ответит «придумай что-то, я же тут Служу», так что Мама Вторая попробует снять комнату, но ее примет к себе на время Бабушка Четвертая, и первый год жизни брат Малыша будет расти с мамой, тетями и дядями. Приедет Папа Второй. В животе заворочается Малыш. Ты не должна рожать, у вас еще даже стенки нет, скажет Бабушка Третья, но Мама Вторая проявит норов. Малыш родится. Брат будет бегать вокруг коляски с прутиком и отгонять всех, кто подойдет слишком быстро. Это мой брат. Мама Вторая замрет, в халате, с двумя детьми, и семьей мужа на фотографии: это к ним зашли в гости свекр со свекровью. Нос вздернут. Нелегкие пять часов приходится ей пережить, Бабушка Третья негодует и бесится из-за того что Мама Вторая отказывается переезжать в Белгороднестровск за мужем. В землянку. У меня двое детей, одному месяц, другому год, три месяца и десять дней, — говорит устало Мама Вторая, — я не поеду с ними в землянку. Тебя не просили их делать! Сухопарая сестра Папы Второго восклицает это возбужденно, и Мама Вторая уже с жалостью глядит на эту бесплодную смоковницу. Не удостаивает ответа. Нужно ехать за мужем туда, куда его пошлют, хоть на край света, нужно уметь быть верным, восклицает Ольга. Так езжай, бормочет Мама Вторая. Ты не представляешь себе, как это прекрасно, путешествовать по всему огромному Советскому Союзу, увлеченно говорит Ольга, которая не подымает задницу даже в туристические походы, и уже заставила три свои книжные полки сборниками «Дорога зовет» про геологов, рыболовов и мореходов. Не представляю, бормочет Мама Вторая. Оскорбленная девица тридцати лет замирает, в бой вступает Бабушка Третья. Мама Вторая выстояла. К мужу она переедет только в Забайкалье, это будет барак, но хотя бы уже не землянка. Внука родители Папы Второго не жалуют. Мама Вторая рожает Малыша в Кишиневе — первая городская больница, новенькое здание на мосту между Центром и Ботаникой, — и, уже опытная, носу не кажет. Дедушка Третий звонит. Что же это ты не показываешь нам наследника, бодро спрашивает он невестку-молдаваночку, и приглашает в гости, так что Малыша приносят к семье отца на третьей неделе жизни. Аккуратно разворачивают. И он, — такой маленький, — всем нам улыбнулся, скажет прочувственно тетка над гробом Дедушки Третьего, и мы все были покорены, но Малыш промолчит, потому что ему нечего будет сказать. Чужие люди. Малыш улыбается родне из пеленок, Мама Вторая глядит на него с гордостью, и думает, как хорошо, что не поддалась уговорам свекрови и оставила ребенка, а рядом крутится брат. Уже ходит. Фотографируется в костюме моряка: красивый, волосы вьются, но светлые, глаза большие, лицом в мать, пока еще пухленький малыш. Одессит, будет бодро брякать Дедушка Третий. Он всегда будет брякать. Ну что, белорусы, приветствует он внуков, которые приедут погостить — на побывку! — ну что, забайкальцы, ну что, мурманчане. Дети злятся. Дедушка Третий всегда благодушен, всегда всему рад, — неужели ты не видишь, что бабушка обижает маму, все время хочется спросить Малышу. Какие вкусные чипсы! Здорово, что вы живете в Белоруссии, где продают удивительно вкусные чипсы, говорит радостно Дедушка Третий в 1988 году, когда в магазинах месяцами нет мяса. Вам повезло попасть в Заполярье, увидите северное сияние, пишет он бодро в ответ на жалобу невестки на то, что в гарнизоне второй месяц нет овощей и хлеба. Чудесно. Замечательно. Потрясающе. Споем что-нибудь из Утесова. Чего такие кислые?! Малыш понимает, наконец — ребята здесь, в Союзе, называют это «врубиться», — что Дедушка Третий маму не защитит и им не поможет. У Дедушки Третьего трехкомнатная квартира в раю обетованном, солнечной Молдавии, но мы будем жить на съемных углах, первый из которых Малыш увидит в Белоруссии, с чего всегда будет начинать отсчет взрослого детства. Первые неприятности. Именно с этого момента он начинает помнить себя всего и целиком.
Жизнь Малыша перестает быть набором цветных и прерывистых воспоминаний в ту ночь, когда такси везет его, брата, Маму Вторую и отца в Бобруйск, где папа нашел чудесную квартиру. Долго плутают. Таксист хочет заработать на полтора рубля больше, мать желчно говорит об этом вслух, и отец смущается. Переплачивает полтора рубля. Семья высаживается во дворе какого-то частного дома, Мама Вторая с ужасом глядит на земляной пол, на пьяных хозяев, которые варят на кухне что-то с очень резким запахом — самогонка, много позже понял Малыш, — и на ведро в углу, которое и не ведро, а уборная. Устраивает истерику. Папа Второй впервые задумывается, а может, родители в чем-то правы, упрекая жену в излишнем меркантилизме? Мама Вторая собирается. Устраивается в холле дома культуры военного городка, и Малыш засыпает на кресле в обнимку с братом под тяжелым занавесом из актового зала. Ходят люди. Мама Вторая не собирается никуда уходить, пока им не дадут хоть какого-нибудь угла, и Папа Второй ужасно стесняется. Получают квартиру. Разумеется, не в частное владение, — такого в Советском Союзе не было, кажется, думает Малыш — просто на срок службы выдали ключи от квартиры, хозяева которой собрали вещи в одной комнате и закрыли ее. Двумя перебьемся. Мать тащит из дома с земляным полом вещи на саночках, надрываясь, и Малыш глядит в изумлении на снег и ворон, на мраморные лица вокруг, ему еще никогда не доводилось видеть северян поблизости, а Белоруссия для него — крайний север. Какие-то вы смуглые, говорит ему с братом тетка, обнимая их по приезду в Кишинев на летние каникулы. Мы же с моря. Ну и что, хмурится светловолосая тетя, и велит тщательно вымыться мочалкой, чтобы хоть как-то снять загар. Бабушка Четвертая переживает. Главное, чтобы были кареглазенькие и смугленькие, говорит она, ожидая, когда появятся дети у Малыша, единственного из внуков, кто не сделал ее прабабушкой. Мама Вторая обживается. Дети стараются, но поначалу получается очень плохо, и Малыш с братом попадают в такую школу, что впоследствии не раз хохочут, глядя на клип «Стена», ох уж эти английские мажоры, то ли дело бобруйская школа номер девять. Настоящая тюрьма. Толстая, — с окольцованными пальцами, — директриса вежливо осведомляется у Мамы Второй, не привезла ли она из Венгрии каких-нибудь сервизов или ковров, которые могла бы продать по-дешевке. Дети в строю. Классная руководительница берет за затылок хлипкого, — вечно с соплями, — мальчишку, и бьет того головой о доску. Хлещет линейкой. Ругается хуже солдат. Малыш ужасно переживает, потому что на любое оскорбление в свой адрес он обязан будет ответить, как учила мама. Дерется из-за девочки. Учительница врывается в класс, и бьет по голове его соперника, за которого Малыш сразу же вступается, и тогда рассвирепевшая пожилая женщина с редеющими медными волосами комкает лист бумаги и бросает Малышу в лицо. Он бросает в ответ. Класс умолкает. Это настоящий бунт, но Мама Вторая, спешившая по льду на гарнизонных дорожках к школе, твердо объясняет школьному руководству, что никому не позволит бить или третировать своих сыновей — никому кроме себя, мама, так ведь, скажет грустно повзрослевший Малыш, — и всегда учит их давать сдачи. 1987 год. В почтовом ящике Папа Второй находит толстую пачку каких-то листов, — что это, новые счета какие-то, спрашивает он жену, и та недоуменно листает. Читают дома. «Мчится по России тройка, Мишка, Райка, перестройка», и еще много столбцов о том, как Михаил Горбачев, его жена и перестройка губят Советский Союз, и пока Генсек болтает языком, в магазинах нет продуктов. Продуктов правда нет. В маленьком магазине за гарнизоном лежат под стеклом большие свиные головы, вызывающие у Мамы Второй отвращение, а за стеклом напротив — пирожные и торты. Малыш мечтает. Мне бы шапку невидимку и на ночь в магазин, думает он, прижавшись к стеклу лицом, но Мама Вторая уводит его из магазина, это отвратительные советские сладости, жирные, слишком вредные, в них много крема, они тошнотворны. Мама Вторая ненавидит Советский Союз. Малыш любит Маму Вторую. Так что малыш начинает ненавидеть Советский Союз. Становится маленьким фрондером, много и без толку читает, в том числе и толстые литературные журналы, слово «Солженицын» для него не пустой звук, а еще он знает, что Лермонтова убили на дуэли за эпиграмму на царя, а не потому, что поэт довел бедного Мартынова. Гласность наступает. Транслируются в прямом эфире съезды народных депутатов, все сидят у телевизоров. Политизированы все, а больше всего дети — в журнале «Крокодил» выходит карикатура, где маленькие дети в песочнице обсуждают итоги съездов. Малыш роняет очки. Стекло вдребезги. Это настоящая трагедия и мать три дня не разговаривает с ним, потому что найти очки в Бобруйске 1987 года очень трудно, невозможно почти. Четырхглазик. На больших стеклах есть и маленькие — для чтения вблизи — это Мама Вторая не оставляет надежды исправить близорукость сына, наступившую вовсе не из-за его пристрастия к чтению. Это последствия порохового ожога. Малыша его небольшая близорукость не мучает, он вполне энергично и успешно дерется из-за очков в новой школе, — одноклассники узнают, что когда они дерутся с Малышом, то дерутся с его братом, и наоборот, — и лазит по крыше дома, охотясь на голубей. Жизнь налаживается. Угрюмые лица белорусов разглаживаются, Мама Вторая подружилась с соседкой напротив, снег, оказывается, можно собирать в большие шары и ставить один на другой, а с горки у дома можно кататься на лыжах, которые подарил дядя из Кишинева. Мальчики адаптируются. Папа Второй поглядывает на это с беспокойством, потому что он, — единственный из семьи, кто вырос в семье военного, — уже видит признаки переезда задолго до него самого. Малыш читает стихи. Идем из бара как-то раз, летит от шефа к нам приказ, летите детки на Восток, бомбите русский городок, — декламирует мальчишка, — после чего следует неудачная попытка бомбежки, первый снаряд попал в капот, раком встал старший пилот, а кончается все тем, что «летели мы бомбить Союз, теперь летим кормить медуз». Мама Вторая уверена, что это КГБ. Они сочиняют эти дурацкие стишки, а потом распространяют как народное творчество, говорит она мужу, и Папа Второй пожимает плечами. Школа серая. В ней ходят строем на переменах, буквально, — и Малыша бесит, когда его жены считают, что это он преувеличивает, чтобы вызвать их жалость, — физкультурой занимаются на матах в холле. Зимой лыжи. Малыш сбивается с лыжни, и полтора часа плутает в лесу, выходит весь мокрый, запыхавшийся, а учитель даже и не глядит в его сторону, потому что в бобруйской средней школе номер девять 1988 год лишь по календарю, а на самом деле — год 1972, или, к примеру, 1949. Проклятые совки. Мама, приходит Малыш к маме с учебником, — на первой странице которого девочка тянет тюльпан солнцу, — научи меня читать по-молдавски. Какой смысл, сынок. Все мы будем советским народом, который говорит по-русски и голосует на съездах за программу партии. Папа Второй беспартийный. От учебника пахнет подсолнечным маслом, язык матери для Малыша это всегда дом бабушки, подоконник, много солнца, бутылка с желтой рыбкой на горлышке, и неторопливый разговор двух женщин. Мать и бабушка. Малыш пишет письмо Дедушке Третьему, у которого ехидно осведомляется, куда же пропало мясо из страны, которой так успешно руководит партия — это в восемь-то лет, с тоской и злобой думает он о себе, когда вырастет, — и отправляется с братом на тренировку. Одноклассница показывает фото. Ее папа, тоже офицер, — здесь у всех папы офицеры, — по пояс торчит из бронетранспортера, а ниже пояса уже машина. Механизированный кентавр. Если высунуться из люка, то при подрыве оторвет ноги, зато можешь остаться в живых. Он в Афганистане сейчас, говорит девочка, которой нравится Малыш, но которому не нравится девочка, так что он, повертев снимок из вежливости, возвращает. Папа Второй пишет рапорты. Просится тайком в Афганистан, и ужасно нервничает из-за того, что Мама Вторая не хочет, чтобы он в Афганистан попал. Двое детей. Зато против Чернобыля Мама Вторая ничего не имеет — никто еще толком не знает, что там случилось. Взорвался завод. Мифы и легенды о Чернобыле еще начинают сочинять, и Папа Второй уезжает туда на целый год, оставив жену с детьми. Мама Вторая досадует. Чертовы коммунисты не умеют толком даже атомную станцию построить, читает она между строк в журнале «Звезда»; коммунисты все развалили, читает она в журнале «Новый мир»; партократы и бюрократы только и делают, что колбасу жрут из распределителя, читает она в журнале «Огонек». Малыш тоже читает. Хватит, говорит ему мать, и отбирает книжки, лучше иди погуляй, так что Малыш с братом берут лыжи и идут целый день к кладбищу за городом, которое кажется обманчиво близким. Возвращаются затемно. Мама Вторая вне себя от страха, весь гарнизон на ногах, это конец 80-хх и вегетарианские времена прошли — в Белоруссии то и дело идут процессы маньяков. Психи свирепствуют. То и дело находят убитых детей, изнасилованных детей, судят душегубов с пятьюдесятью жертвами на счету, с семьюдесятью жертвами, судят Чикатилл, судят Михасевичей, газеты в истерике, люди в панике. Белорусский феномен. А тут еще СПИД! Малышу трудно заснуть, потому что в глазах у него все страшно пляшет, он ужасно боится уколов, а вдруг его заразят этим ужасным СПИДом. Мать спохватывается. Мальчик растет чересчур впечатлительным, ему не хватает твердой уверенности, спокойствия. Мужского воспитания. Ничего, спорт поможет. Братья много плавают, это уже похоже на что-то профессиональное, тем более, рядом спортивный комплекс «Шинник». Это мирит с Бобруйском. Мама Вторая покупает папку, куда складывает грамоты Малыша, и их соберется больше ста штук, — у брата пятьдесят, он стайер, у них меньше дистанций, — а уж призов-то не сосчитать. Малыш — спринтер. Крепкий, взрывной, порывистый, он идет на плавание как в школу — чтобы не скучать дома самому без брата, — и его ставят на заплыв со старшими в соревнованиях случайно, чтобы дорожка не пустовала. Бассейн в пятьдесят метров. Малыш выигрывает. Получает первый урок формальностей. Останавливается у края бассейна, срывает протекшие очки, я выиграл, выиграл, радостно говорит он секунданту, важному мальчишке лет пятнадцати, и тот улыбается. Говорит — дай руки. Зачем, спрашивает Малыш. Дай руки, смеется секундант. Малыш тянется. Секундант берет его ладони и с силой прижимает их к бортику, после чего нажимает на кнопку механического секундомера. Вот теперь ты выиграл.
Поднажми, велит себе Малыш, который только учится командовать своим телом, и перестает чувствовать ноги — чересчур активный финиш отнимает его последние силы и волю, и мальчик финиширует судорожным рывком рук. Все равно проиграл. Малыш, отфыркиваясь, с недоумением глядит на Славу Новгородцева, — парнишку годом старше, — который не должен его обходить, никак не должен. Слава смеется. Малыш пожимает плечами и жмет руку победителю. Он умеет проигрывать и даже рад в глубине души, что это случилось. Бассейн «Шинник» ровно гудит, это спортивный комплекс градообразующего предприятия, шины нашего завода колесят по дорогам всего Советского Союза, написано в рекламном проспекте — они только-только появляются. Реклама пробивается. Малыш с недоумением глядит на то, как мужчина в телевизоре суетливо бегает по городу с порванными штанами, а потом с блаженной улыбкой садится в уютной кресло ателье по ремонту и пошиву одежды. «Приходите к нам». Чушь какая-то. Зато американцы умеют показывать рекламу и Малыш с мамой и папой и братом и попугайчиком Кузей, — которого они купили взамен умершего попугайчика Карлуши, умершего от старости, — смотрят телемост. У нас секса нет. Хоть убейте Малыша, но он совершенно не помнит этой дурацкой фразы, зато отчетливо — до сих пор — в его памяти музыкальный клип молодой Кайли Миноуг, которая поет, покачиваясь, в розовых облаках. Какой примитив! Долбанные восьмидесятые, их Малыш всегда будет ненавидеть, с их «Ласковым маем», Юрой Шатуновым и кучей другого дерьма, которого он, слава Богу, не успел хлебнуть. Розовые розы. Как женственно, говорит с восхищением Малыш, глядя на зарубежную певицу, — бедняга, как и все в СССР к конце 80-хх уже привык к тому, что молодая женщина ходит в мини-юбке, колготах в сеточку, и волосы у нее крашенные, — и родители с усмешкой переглядываются. Женишься на такой. Малыш и женился, первая его жена выходила из ЗАГСа в розовом платье, пышном внизу, тонком на талии — Малыш не знает, как описать это в правильных портновских терминах, — и под ногами молодых лежат кучи розовых лепестков, это затея жениха. Мать кривится. Ненависть к невесткам перейдет ей по наследству от свекрови. До этого далеко — до всего в моей жизни далеко, часто думает маленький Малыш, она, моя жизнь, словно бы и не начинается, — и Малыш смотрит клип Кайли Миноуг, смотрит яркий мультик про поросенка-американца, который дружит со смешным страусенком-индейцем, смотрит рекламу консервов и чипсов и все это кажется ему невероятно вкусным. Ты как сорока! Разгневанный Дедушка Третий пишет внуку — картинка не должна сбивать его с толку, и все это глупая пропаганда, рассчитанная на идиотов, один из которых — это его внук! Дедушка — совок. Малыш до хрипоты спорит с дедом насчет СССР и США, — само собой, он за Америку, потому что она богатая, счастливая и цветная, как реклама чипсов, — и убеждает себя, что в Америке все лучше. Даже чипсы. Те чипсы, которые продавались в Белоруссии в коробках — тяжелые, подсоленные пластины из картофеля, — он будет искать потом много лет. Конечно, без толку. Все забито спрессованных крахмалом, — который нынче выдают за лепестки картофеля, — да еще и присыпано каким-то вызывающе пахнущим порошком, это чтобы у детей возникало привыкание. Дедушка Третий негодует. Вместо того, чтобы говорить с внуком как дед, он ведет с ним газетную полемику, это радует ничего не понимающего Малыша, да еще и мать подзуживает. Телемост заканчивается. Малыш с братом отправляются в свою комнату — из нее открывается вид на небольшое поле с сосновой рощей, — и еще немножечко разговаривают друг с другом. Ночью жарко. Малыш встает попить, и натыкается спросонья на полуголую мать, ты что, следишь за мной, визгливо спрашивает она, и Малыш от ужаса теряет дар речи. Возвращается в постель. На следующий день едет на соревнования в город Светлогорск — два часа пути на автобусе, и задумчиво наблюдает белорусские пейзажи, — чтобы снова проиграть Славе Новогородцеву. Чертов спинист! Малыш вроде уже как и смирился, когда прохиндея разоблачают — оказывается, он плыл, подтягиваясь рукой за дорожку. Мальчишку лишают грамот и долго стыдят на собрании, и Малыш вздыхает с облегчением: ему плевать на грамоты, но он хотел знать, почему проигрывает. С тех пор Малыш усваивает, — если он не выиграл, значит, противник смухлевал. И Малыш все равно выиграет. В школе разрешения на отлучки дают неохотно, это школа старых, советских традиций, и если у тебя не застегнута верхняя пуговица пиджака или галстук повязан не так, как следует, будут неприятности. Малыш — самый быстрый чтец в классе. В пионеры раньше всех принимают брата, толстощекую девочку Олю Комарницкую и всегда грустного Аркашу Шраера. Он еврей. Малыш с братом — наполовину молдаване-наполовину русские, Оля Комарницкая полячка, Слава Новгородцев русский, Света Коваленко белоруска, Сережа Добровольский — украинец, они живут в большой многонациональной стране, Малыш знает назубок названия всех республик, — они на карте на стене класса, — на каждой республике нарисованы мужчина и женщина в национальной одежде. Помнит костюмы. У прибалтов они какие-то… замороженные, что ли, а узбеки, наоборот, носят очень пестрые халаты. Самые красивые — молдавские. Малыш патриот Молдавии, потому что патриотка Молдавии — его мать, и он твердо знает, где растут самые вкусные фрукты, живут самые красивые люди и светит самое яркое Солнце. Милый дом. Папа Второй берет отпуск и едет с ними в Абхазию на месяц — две недели у моря, две недели в горах, — и Бабушка Третья пишет гневное письмо. Что за траты?! Если собрать все деньги, которые вы потратили на отдых, можно будет купить стенку, шкаф, и еще останется на шубу мамочке. Папа Второй смеется. Ему все-таки уже далеко за тридцать, и он все меньше внимания обращает на то, что говорит его мать, ее голос словно теряется где-то далеко, да она и правда далеко. Хорошо, что я не в Молдавии. В Абхазии они живут в доме отдыха у самого моря, это Сухуми, и Малыш с удивлением ест жесткую свинину — абхазы не держат свиней дома, и те свободно гуляют, где хотят. Ну, как собаки. Малыш мечтает научиться нырять глубоко-глубоко, он читает книгу Жака Майоля «Человек-дельфин» и влюбляется в море, так что все две недели он плещется где-то в сорока метрах от берега, пытаясь достать дно. Рекорд двадцать метров. Недурно для двенадцатилетнего мальчика, но Малыш хочет еще, и ужасно расстраивается, когда после касания дна на двадцатидвухметровой глубине у него идет из уха кровь и отец запрещает нырять. Тренирует дыхание. Штормит, и пятиметровые волны обрушиваются на набережную города, и Малыш как раз больше всего любит купаться в шторм, — они с братом заходят в воду, и море колотит их по камням под спокойным взглядом отца. Пускай учатся. Мальчишки еле выходят из моря, а какая-то туристка, посмевшая окунуться в такую погоду, — на радость всей набережной — выскочила из моря без купальника, сорванного волнами. Растут бананы. Они, правда, не дозревают, но Малыш с братом все равно срывают парочку, чтобы привезти Маме Второй, и прячут плоды в чемодан. Тащат его вдвоем. Довольный Папа Второй, который считает, что баловать пацанов — только портить, — идет рядом, руки в карманы, спускается со ступенек автобуса. Это они приехали в горы. Кабулетти. Отдыхающие по утрам собираются в столовой, чтобы, — с бледными лицами и изжогой, — пить кефир после ночных попоек, а Папа Второй с детьми, так что не пьет, и каждый день таскает мальчишек по горам. Десятикилометровые походы. Возвращаются поздно вечером, уставшие, и сразу засыпают, а Папа Второй на балконе сидит с бутылкой вина и глядит, как темнота стирает горы. Чайные плантации. Чабаны с овцами, которые звенят. Малыш вспомнит Абхазию, когда вернется в Молдавию. Обсерватория. Горное кафе, открытое непонятно для кого, но где им сделают салат из свежих овощей и поджарят мясо, и все будет вкусным и свежим, правда, острым. Снег наверху. И яркое пятно на нем, Малыш подбежит поближе, и увидит цветок — глядите, ребята, это эдельвейс, скажет отец, и они заберутся еще выше, где облака совсем быстро бегут. Лягут на спину. Спускаться придется несколько часов, но оно того стоило, решит Папа Второй, и Малыш будет ждать, пока бережливый брат не вынет из чемодана коробку шоколадных конфет, и выдаст брату и отцу по одной штуке. Он бережливый. Если бы не брат, Папа Второй и Малыш съели бы всю коробку в один день. Возвращаются окрепшие, загоревшие, отдохнувшие, Мама Вторая тоже посвежела, и даже губы кусает не так часто, а попугай Кузя летает и чирикает от радости. Приезжает Бабушка Третья. Снова увозит с собой кусок пемзы, но Мама Вторая, уже закаленная, не позволяет испортить себе настроение, уходит от скандалов, гасит намеки, сама атакует и так успешно, что растерянная свекровь чувствует необходимость срочно отступить. Эту схватку я проиграла. Малышу дарят велосипед — первый подарок от дедушки с бабушкой за десять лет, — но его украдут уже через три дня у местного магазина. Папа Второй рыбачит. В Белоруссии очень много озер, и Папа Второй едет рано утром на одно из них, взяв с собой сыновей — Малыш сидит на раме, а брат на заднем сидении. Светает. Дорожки аккуратные, заасфальтированные, газон у домиков радует глаз, Малыш позже будет скептически слушать утверждения о том, что порядок в Белоруссии навел Лукашенко. Порядок там был всегда. Педантичные, жестковатые, суровые белорусы выходят по утру к забору и приветствуют мужчину, везущего на велосипеде своих сыновей. Дзоброе утро. Дзоброе, посмеивается Папа Второй. Но много не смейтесь, дети, — говорит он мальчикам, — мы ведь тоже немножко белорусы, ваш дедушка отсюда родом. Ставят удочки-донки. Малыш хватается за поплавочную удочку, ему невероятно везет в рыбалке, и отец с братом это знают. Счастливая рука. Так что спустя два часа под ногами Малыша садок с кучей линей, сладковатой на вкус рыбы без чешуи, которая живет в норах под берегом, — ну прямо как раки, — и которая топит поплавок сразу же. Карась покачивает. Карп медленно кладет. Малыш в курсе особенности клева всех видов рыб, какие только встречаются в Белоруссии, все благодаря отцу. Чувствует рыбу. Брат берет на донку пятикилограммового карпа, и Малыш возится с рыбой, стоя по колено в воде, чтобы не сорвалась, и они еле вытаскивают громадину на берег. Долго любуются. Потом Малыш распутывает леску — его обычное наказание, потому что он крайне небрежно относится к снастям, что бесит педанта-отца, — и они едут обратно. Отец уезжает. Как обычно, ночью, это зазвенела коробочка, которая есть во всех квартирах гарнизонных домов Советского Союза. Вроде тревожной кнопки. Она звенела, слышал сквозь сон Малыш, и потом была возня, шуршание, и хлопнула дверь, значит, папа ушел на службу ночью, такое бывает. Утром мать готовит. Пробует убить карпа, который глядит совсем как человек — мелкая рыбешка так не умеет — но он слишком большой и нож в слабой женской руке не протыкает чешую. Бьет по голове. Брат отворачивается, хотя, конечно, уже не плачет, и Мама Вторая вспоминает косулю. Малыш раздражен. От отца он знает, что в любом деле тянуть не стоит, — отбирает у матери нож и выгоняет ее и брата с кухни, сам просит у рыбы прощения в мыслях, и протыкает ее под жабрами. Ухватившись, отрезает голову. Мощная рыба бьется, и Малышу едва не становится дурно, но это быстро проходит, так что он запоминает: гуманность это не всегда доброта. Сварили халасли. Получилось вкусно. На следующее утро, в понедельник, — Малыш с братом и еще несколькими несчастными, — стоят перед линейкой, и пионервожатая лет сорока читает речь траурным голосом. Достойны презрения. Подонки и враги. В то время, как вся наша дружина в едином порыве как один человек вышла на празднование… Девятого мая… Прогуляли… Конечно, это не было обязательным, но… Малыш шокирован. Он, конечно, за наших, но это ведь отец взял его с собой на рыбалку девятого мая, думает он, глядя искоса на брата. Тот молчит. Тогда и я помолчу, думает спорщик Малыш. Пионервожатая гневно клеймит тех, кто 9 мая провел как выходной день, а не пришел в школу, чтобы в едином порыве спеть и станцевать, и это становится последней каплей в чаше терпения Мамы Второй. Как будто при Сталине! Что за школа, недоумевает она и переводит сыновей из девятой школы гарнизона в шестнадцатую общегородскую школу города Бобруйска. Она экспериментальная. Про нее снимают документальные фильмы, которые показывают по советскому телевидению, она прогрессивна, она — ростки нового. Директор Ревзин. Мужчина с бородкой и свободными взглядами, которые любому школьнику 2008 года показались бы копилкой нафталина и анахронизмов. Но тогда… Малыш с братом поначалу теряются, — они не понимают, почему на перемене можно выйти из класса самому, не дожидаясь распоряжения учителя, и пойти куда хочешь, а не строем в столовую или в туалет. Здесь нет формы. Белый верх, черный низ, этого вполне достаточно, считает учитель Ревзин. Выходит школьная газета, и работает школьное радио, так что Малыш получает свои две минуты славы, когда зачитывает по радио предвыборную программу. Да-да, он баллотируется! Малыш хочет стать членом совета пионерской дружины, — и он им становится, — а еще ему доверяют писать статью в школьную газету, новые времена явно настали. Но и старые не прошли. Молодежь все еще вступает в комсомол, это обязательно, правда, Малыш из противоречия выходит из пионеров, что вызывает бурный восторг у его матери. Какой умница. Папы Второго нет, и малышу некому объяснить, что лучший способ пережить обстоятельства — стать для них незаметным. Наступает лето. Теперь уже Ммама Вторая едет в отпуск в Кисловодск, и берет с собой детей, так что Малыш изводит экскурсовода — пожилую женщину, измученную нарзаном и что там у них еще бьет из земли, — придирками, расспросами и уточнениями. Мать цветет. Гнусный мальчишка. Думая о себе так, тридцатилетний Малыш сгорает со стыда, особенно, когда читает воспоминания Довлатова о заповеднике Пушкина и о самых назойливых посетителях, которые всегда Больше Всех Знают. Но он не со зла. Малыша распирает щенячья радость жизни, они постепенно обжились в Белоруссии и она стала их домом, так что ему хочется поделиться с миром своей радостью, а другого способа привлечь внимание мира — кроме как его зацепить, — он не знает. Фотографируется на канатной дороге. Уже подросший, серьезный, в очках, смазливый мальчишка сидит в кресле на высоте двадцати метров — мать фотографировала из другого сидения — и глядит вперед. На все свое мнение. Рядом брат. Внешне это облагороженная копия Малыша, который поправляет экскурсовода, рассказывающего о причинах дуэли Лермонтова с Мартыновым. Все было так… Экскурсовод терпеливо вздыхает, и Малыш упоенно разглагольствует под восхищенным взглядом матери, и она так горда и счастлива, что ни у кого не хватает духу что-то сказать. Тем более, экскурсовод и правда мало знает.
Мама Вторая фотографируется с детьми у большого синего озера, вода в нем всегда ледяная (Малыш добавляет — а вы знаете, что в высокогорных озерах Мексики…). Подымается на Казбек. Отправляется в поход, и две недели группа идет сложным маршрутом, ночуя в палатках, и воду берет прямо из земли — она течет с пузырьками, — поэтому чай отдает минералкой. Группа небольшая. Лысый молодой подводник — это от радиации, с тревогой говорит Мама Вторая, задумывающаяся о том, что грозит ее мужу, — учит Малыша делать ночлег в лесу. Парнишка из Казани. Большой, семнадцатилетний, он рассказывает Маме Второй и мальчикам настоящие ужасы о том, что творится в его городе. Подростковая преступность. Уличные банды. На улицу не выйдешь. Малыш с братом слушают, притихнув, они просто не представляют себе такого. Мама Вторая ужасается. Малыш читает в обрывке газеты про невероятный случай где-то в Подмосковье: парни постарше обидели компанию подростков, те затаились, и когда обидчики приехали отдыхать с палатками и девочками, напали ночью. Всех убили. Двенадцатилетние зарубили шестнадцатилетних. Потом, окружив палатку девушек, вытащили тех за волосы и… Малыш уже понимает, что случилось потом. Ему немножко страшно, немножко противно, и он взбудоражен. А уже после того, что случилось, мальчишки зарубили и девочек. Страна ужасается. С восторгом и дрожа, позволяет себя пугать, — газет в то время лучше не читать, но их читают все. Малыш с Мамой второй и братом возвращаются из похода на туристическую базу в Кисловодске и получают значки туристов, и разряды. Третий взрослый. Пф, насмешливо говорит Малыш, который вот-вот получит второй взрослый по плаванию, третий разряд… Каменный век.
В Белоруссии цветут поля голубики, если идти долго лесом, то можно выйти на огромную поляну, которая пружинит, и сочится водой, это мох, на на мху ягода, и малыш с братом собирают ее. Собирают грузди. Большие вкусные грибы, их Мама Вторая солит в бочке на балконе, куда уже не боится выходить подросший малыш. Все боятся радиации. В школе Малыша и его соучеников обследуют на щитовидку — просто вызывают в коридор во время уроков, и медсестра прикладывает к шее каждого ученика десертную ложечку. Смех один. Им дают сладкие маленькие таблетки, которые, вроде бы, делают из гречихи японцы, и это чудо-средство помогает от радиации. А что это, радиация? Папа Второй мог бы рассказать, но пока он а Чернобыле, — занят тем, что зарывает пораженную технику в землю, старается обходить места, где счетчик показывает самые высокие дозы, и вечерами парится в бане и пьет кагор. Других средств нет. Каждое утро он, придя во главе команды в город, со злостью видит разрытые могильники, это спекулянты достают автомобили, телевизоры, видеомагнитофоны, — и смертоносные вещи разъезжаются по всему Союзу. Спекулянтов ловят. Иногда пристреливают сразу же, — а чаще всего сдают милиции, — но ставки очень уж высоки, один автомобиль это целое состояние. Умирают в таких за месяц. Папа Второй разводит огонь в лесу, и, стоя вдалеке, наблюдает за тем, как в пламени появляется невиданный цвет — какого нет на планете Земля. Он не красный, не синий, не желтый. Чернобыльский цвет. Папа Второй запомнит его навсегда, ему некому пока рассказать об этом, он не отправляет письма домой, чтобы радиация не попала, и просто ждет, когда время его командировки кончится. Как там мальчишки. Скучаю по своим.
Малыш с братом плавают все лучше, и начинают ездить на соревнования, объезжают всю Белоруссию. Гомель, Светлогорск, Солегорск, Солнечнегорск, Осиповичи, Барановичи, Минск, Брест… Всюду призы. Малыш получает за первое место на дистанции четыреста метров кролем веселого клоуна Клепу; за второе место на двести комплексом — несколько книжек о спорте; за неизменно первое место на сто спиной — турник, который можно смонтировать и установить дома; за первое место на двести спиной — электронный морской бой, за третье место на двести брасс, хотя это вообще-то не его вид — махровое полотенце. Брат болеет. В самом конце соревнований, когда почти все зрители расходятся, на тумбочку становится и он — это заключительная дистанция в полтора километра кролем, — и тогда уже Малыш идет по бортику за братом, громко кричит, срывает голос. Всегда переживает. Между городами чистые аккуратные дороги, и тренер спрашивает детей, не хотят ли они спеть, чтобы время прошло незаметнее, и, не дождавшись ответа, сразу же начинает. Старая мельница-крутится вертится. Николаев отстой. Серов отстой. «Ласковый май» — что надо. Малыш, который никогда не слушал музыки дома — ну, кроме нескольких пластинок — с удивлением узнает все это от одной из девочек. Кажется, брассистка. Слушают магнитофон. Даже целуются, но она похожа на обезьянку, так что Малышу не очень хочется, хоть ему и приятно, что она глядит на него так проникновенно. Тренер подбадривает. У него кривые ноги, он очень похож на Влада Листьева, которого только-только начали показывать по телевизору, и он женился на молодой тренерше по плаванию же, вызвав пересуды родителей. Бьет досочкой. Правда, без особого усердия, а за провинность, и всегда в меру, но у Малыша это все равно вызывает протест и негодование. Его не бьют. Тренер жесткий, — даже жестокий, — и как-то заставляет всю группу приседать триста раз и отжаться двести, из-за того, что занятия начались не вовремя. К середине многие плакали. Малыш садится на деревянных ногах на десять раз больше, чем положено, и отжимается так же, и тренер поглядывает на него с усмешкой. Значит, ерничаем? Малыш получает еще сто приседаний и пятьдесят отжиманий в нагрузку, и, конечно, ломается, — тело его попросту не слушается. То-то же. Вечером Мама Вторая дает мальчикам по столовой ложке десертного вина, и Малыш думает, что кагор это очень вкусно, хотя, конечно, совсем не вкусно, когда пьешь его в количествах больших, чем ложка. Тошнотворное сладкое пойло. Малышу нравится кагор и нравится ликер «Веллингтон» из черники, который мать увезла из Венгрии, он тоже сладкий и слабоалкогольный. Малыш ест паштет. С курицей или головой свиньи на жестяной крышке, — он такой вкусный, что банки на троих не хватает. Сгущенка, паштет. Много консервов и мало овощей, которые уже становятся в то время дефицитом. А уж свежее мясо и подавно. Это все Горбатый. Мама Вторая и слышать не хочет критики в адрес Первого секретаря, потому что он за свободу и против партократов, в конце концов, разве не благодаря Михаилу Сергеевичу она может спокойно читать заметки диссидентов в журнале «Октябрь» или «Новый мир»? Народ читает. Тиражи «толстяков» неслыханные — до нескольких миллионов, — и много лет позже новый редактор «Нового мира» Василевский признает в интервью «Русскому журналу» — вообще без тиража, электронному, — что ситуация была неестественная. Камерные издания. Тем не менее, их читают тогда все и Мама Вторая выписывает в библиотеку что пожелает, денег много, бюджеты все еще советские. Наступает рынок. Чтобы приучать к нему детей, Мама Вторая договаривается с сыновьями о работе в библиотеке. Выносят книги. За работу получают рубль вознаграждения, и за месяц Малыш зарабатывает себе на подводное ружье, о котором столько мечтал. Только ружья нет. Дефицит. Зато Малыш впервые в жизни устает от работы, и так сильно, что засыпает однажды вечером в кресле, и у него нет даже сил почесать себе бровь, — так что это желание само проходит. В школе хорошо. Малыш дружит с одноклассниками, ему нравится одна из них — Женя Светличная, — красивая девочка с зачесанными волосами, и как-то он ловит на себе ее взгляд во время урока литературы. Не отводит глаз. Так они смотрят друг другу в глаза сорок пять минут и Малыш думает, что он, кажется, невероятно влюблен. Интересно, а она? На следующий день он снова глядит на нее, и она на него, и так они проводят дни в школе, вызвав внимание классной руководительницы, которая тактично намекнет детям в разговоре поодиночке, что нужно и учебой заниматься. Я люблю ее. Малыш убеждается в этом, когда Женя Светличная не приходит на занятия несколько дней, это она болела. Малыш скучает. Девочка возвращается и они снова глядят друг на друга, долго-предолго. Она невероятно красива, у нее белый воротничок, волнистый, и Малыш будет любить такой покрой платья всегда. Женя ему улыбнется. Расстояния меняют судьбы, напишет позже классная руководительница Маме Второй — своей подруге — когда справится о судьба Малыша, сообщив о рождении у Жени Светличной уже четвертого ребенка. Мама Вторая скажет об этом Малышу, но он девочку даже не вспомнит — трудно сохранить что-то в памяти из тех пятнадцати школ, в которых мы учились, правда, ма, спросит он мать, и та вновь почувствует легкое и такое приятное чувство вины, — хотя, конечно, он помнит. Была ведь и переписка. Даже сохранилась. Несколько десятков конвертов с неумелыми письмами — а какие ты можешь написать в двенадцать-то лет, — в начале которых обязательно несколько слов о погоде и о том, сколько стоит черешня в Кишиневе и Бобруйске, глупостями кто кому нравится и не нравится, и так почти все, и только в последних — уже что-то более конкретное. Знаешь, возможно, тебе это покажется ужасно смешным, но я должен сказать тебе что-то очень важное — пишет Малыш. Конечно, в постскриптуме. Проходит месяц. Ну, почему же мне что-то должно показаться смешным, если это может оказаться вовсе не смешным, отвечает девочка, и добавляет — говори. Еще месяц. Я тебя люблю, пишет дрожащей рукой Малыш после обычного письма, в самом начале которого, конечно же, сообщает о погоде в Кишиневе. Месяц. И я тебя, пишет она, и мир взрывается: в окна бьют фонтаны радуги, и Малыш обдумывает, как им следует пожениться, когда они вырастут. Конечно, на воздушном шаре. Конечно, переписка заглохнет. Засохший цветок, булавка, коричневое уже пятнышко высохшей крови на одном из листочков, и маленькая черно-белая фотография. Малыш забудет, все забудет. Всю эту охапку случайно найдет кто-то из его университетских приятелей, когда придет в гости на съемную квартиру Малыша — тот как раз перетащит скопом все свои вещи из родительского дома, — и здорово посмеется. Вечеринка в разгаре. Детские письма, ну-ну. Здравствуй, сегодня в Бобруйске похолодало, а килограмм конфет стоит… В Кишиневе килограмм конфет стоит, и уже очень тепло… Взрывы хохота, клубы дыма, в углу в клетке мечется попугайчик, купленный на новоселье на счастье, — и только лица у девушек станут почему-то задумчивыми, — и улыбка Малыша будет гаснуть, пока непонятливый заводила будет все читать, да читать вслух. Наконец, Малыш рявкнет. Да заткнись ты! Нависнет над шутником, который даже задрожит, так страшен будет вид Малыша — сам задрожит, вырвет из руку охапку бумаг, и бросит все на поднос, подожжет, и напьется, очнется под утро. Неправду говорят, будто пьяницы спят крепко, это только пока алкоголь действует, — так что это будет ранее утро, еще даже не рассветет. Побродит по квартире. Выпьет воды. Подойдет к столу. Поворошит пальцем пепел. Принюхается. Пахнет кислым, значит, кто-то вчера не сдержался и сблевал. Заглянет под диван. Поморщится.
Малыш сидит на первом ряду, а Женя Светличная на третьем, и они глядят друг другу в глаза урок за уроком. Жизнь хороша. Да еще и заграничная поездка, первая после Венгрии, — Малыша включают в группу, которая едет на соревнования в Болгарию, в город — побратим Бобруйска, и их автобус отъезжает из города ночью, и Малыш ежится под тонким пледом на заднем сидении. Автобус спит. Малыш глядит на огоньки ночной дороги, глядит на Украину, а потом видит границу, это начинается Румыния, и смешной жалкий пограничник — не цыгане, а румыны, они нас, молдаван, родственники, важно поправляет кого-то из коллег по команде Малыш, — пропускает их за две бутылки лимонада. Стекла разбиты. Дороги пусты. Светофоры исправно работают, это ведь венгерская Румыния. 1989 год, Чаушеску расстреляли буквально за неделю до того, как бобруйская команда по плаванию отправилась в Болгарию на соревнования, и дети глядят на опустевшую, не знающую, что делать со своей нежданной свободой Румынию. Нищета ужасает. К счастью, они очень скоро проезжают Румынию и попадают в Болгарию, здесь все уже веселее, тем более, пора подумать о стартах. Малыш нервничает из-за очков. Они всегда протекают, и к концу дистанции один глаз — обычно левый — ничего не видит из-за скопившейся воды. Будем переучивать. Усатый тренер, довольный возможности снова поломать кого-то через колено, срывает с головы Малыша очки и велит ему плыть так. В хлорированной воде? Давай-давай, подбадривает Малыша тренер, и мальчик почти километр плывет, зажмурившись, и полагаясь лишь на слух. Ты жульничаешь. Тренер показывает Малышу доску, которой бьет пониже спины тех, кто провинился, и Малыш с обреченным вздохом открывает под водой глаза. Он видит! Ничего страшного не случилось, я вижу, думает он, и с этих пор выходит на соревнования всегда без очков, которые могут подвести и оставить без грамоты. Болгария это Запад. Здесь цены в магазине при отеле указаны в долларах, что огорчает Малыша, который зашел сюда купить помаду для Мамы Второй, бритву для папы Второго и сувенир для брата. Иди сюда. Цыганка манит его за отель и показывает рынок, где цены в левах, и Малыш покупает там помаду для мамы, бритву для папы, и сувенир для брата. Кидает монетку в фонтан. Соревнования выигрывает советская команда — болгары совсем слабенькие, да и бассейн у них на полметра меньше, чем следовало бы, — и ребята пару дней отдыхают. Ездят в Софию. Пьют кислое молоко, катаются на скейтах, фотографируются на ступенях монастырей и горных замков по пути домой. Выезжают на щебневую дорогу. Тренер, подобрав два кремниевых камня, показывает детям фокус-покус: если ударить их друг о друга, будет искра, это все знают, зато почти никто не знает — о потом камень запахнет жареной курицей. Малыш принюхивается. Правда, курица. От запаха камней у него бурчит в животе и он получает помидор, огурец и кусок хлеба с брынзой. Малыш возвращается гордый собой, брат поднимает его на плечи и носит по комнате, Папа Второй радуется, Мама Вторая испекла татарский пирог — слоеное тесто, мясо и картошка, с крупно молотым черным перцем — и налила сыну бокал «Рислинга», присланного Дедушкой Четвертым. Осушает в глоток. Пить, говорит он, и Мама Вторая испуганно наливает в бокал уже воды. Папа Второй вернулся уже навсегда, узнает Малыш, и это непривычно, за год они с братом отвыкли от присутствия отца. Наверху живет колли. Ее хозяин, — смешной туповатый мальчишка, — вечно читает, запинаясь, и не занимается никаким спортом — учится в гарнизонной школе, бедняга — и Малыш учит его стрелять из лука. Его отец — вертолетчик. Ему повезло чуть меньше, чем Папе Второму, так что соседа привозят домой на носилках, у него размягчаются кости — вымывается кальций, с умным видом говорят друг другу гарнизонные сплетницы, — и он не может встать. Выпадают волосы. Если бы ему нарисовали брови и глаза, накрасили рот, и надели парик, он был бы вылитый Майкл Джексон, думает Малыш, когда узнает, что умер поп-идол. Вертолетчик умирает. Туповатый мальчишка сверху ревет пару недель, но потом все-таки выходит во двор и они играют. Папа Второй жив. Он с тревогой прислушивается к себе, продолжает ходить в баню, не курит, и пьет каждый вечер кагор. Кажется, пронесло. Приедет без вещей — те заставят снять и сожгут на пропускном пункте — лишь с небольшим штампиком в пропуске. Черный кружочек с треугольником внутри. Двадцать лет спустя писатель Лоринков, — ведущий сына гулять в Долину Роз, — увидит вдалеке странную процессию, идущую от вокзала наверх, в район Ботаника. Средневековое шествие. Колонну вялых, изможденных людей, с флагом, на котором отштампован черный кружочек с треугольником внутри. Флаги тоже поникшие. Словно чума наступает, подумает Лоринков и ему сожмет горло. Остановится. Папа, что это, спросит сын. Чернобыльцы, ответит Лоринков, и будет стоять, вытянувшись, до тех пор, пока колонна не подойдет; пока колонна не пройдет; пока колонна не скроется из виду.
Папа Второй дома и семья постепенно вновь привыкает к его присутствию. Малыш прекрасный спортсмен. Немного язычник. Покупает лимонад и выливает половину бутылки в Неман, пока прогулочный катер скачет во волнам, и ребята с тренером глядят на реку, ухватившись за поручни. Пусть я выиграю. Лепит из пластилина мужскую фигурку и ставит ее за шкаф, перед соревнованиями делает на фигурке надрезы, про себя называет ее Перуном. Прочитал о Руси. Бабушка Третья дает о себе знать письмом, в котором сообщает сыну, что, пока невестка гостила у них с внуками — вообще-то приехали на один день, и даже не переночевали, — из ее шкатулки пропали несколько колец. Мама Вторая рыдает. Чего она хочет, спрашивает она, и трясется, сколько можно, может разведемся, чтобы твоя мать успокоилась, но Папа Второй знает, что Бабушку Третью и это не устроит. Ей нужны жертвы. Он успокаивает плачущую жену, а притихшие Малыш с братом, притворившись спящими, шепотом обсуждают, как бы им насолить жирной нелюбимой бабуле. Ненавидит маму. Это, кажется, единственное, что омрачает жизнь семьи в те месяцы, не считая козней Бабушки Третьей, все довольно хорошо. Кольца, конечно, находятся. Папа Второй едет на какие-то учения.
Малыша приглашают в гости. Он идет с братом, которого тоже приглашают — Малышу хочется верить, что из-за него, — оба нарядные, и дарят хозяйке, это день рождения у Жени Светличной, цветы и конфеты, пьют морс, едят вилкой и ножом, играют с девочками и мальчиками в фанты. Очень весело. Возвращаются домой, обсуждая свое будущее, оно прекрасно, ведь в экспериментальной школе номер 16 города Бобруйска детям вместо уроков труда преподают основы специальностей — они, например, изучают электротехническое, — и по окончании девятого класса выдают диплом и выпускника ремесленного училища. Да еще и спорт. Малыш обнимает брата за плечи, они друг за друга в огонь и в воду, и брат, наклонившись, восклицает — гляди! Нашел серебряный рубль. 1876 год. С этого начинается коллекция мальчишек, которая за десять лет разрастется до ста пятидесяти монет зарубежных стран и пятидесяти старинных российских монет, все скрупулезно подсчитано педантичным братом. Монета сверкает. Малыш думает, что она — добрый знак, значит, теперь все будет хорошо, наконец-то все устроилось. Дома переполох. Мебель сдвинута, вид у Мамы Второй растерянный, по комнатам ходит проверяющий от жилого комитета, ковры свернуты. Что случилось, спрашивает Малыш, уже зная, и мать отвечает. Снова переезжаем.
Временами в гарнизоне совсем нет еды, и тогда Малыш слышит, как Мама Вторая плачет ночами. Сумерек нет. В Заполярье очень светло летом, и невероятно темно зимой, местный климат подавляет Малыша. Приехали ночью. Фонари ярко горели у подъездов, во многих окнах был свет, кто-то выглядывал, прибытие новой семьи в гарнизон это всегда событие, и Малыш с братом стараются проскользнуть в подъезд как можно скорее. Очень холодно. Судя по всему, много снега, который пока не очень виден, — темнота мешает разглядеть окрестности, — и Малыш с удивлением слышит радостный возглас из какого-то окна. Абхазы приехали! Это как? Светлоглазый и светловолосый Папа Второй смеется, Мама Вторая поджимает губы и бормочет что-то про этих русских, а Малыш с братом, добравшись до постели после утомительного путешествия, засыпают прямо на полу — вместо кроватей пока одеяла, багаж еще не прибыл, никакой мебели в квартире нет. Одна движимость. Тараканы, клопы и вши, которых Папа Второй выведет позже, когда дети выйдут из квартиры, Мама Вторая, подавленная, осматривает квартиру. Папа Второй хмыкает. Зато здесь есть морошка, здоровская такая, лоси огромные, рыбалка чудесная, — приподнято говорит он жене, но, увидев ее глаза, умолкает, и, раздраженный, уходит на кухню. Вечно недовольная. Утром схожу за хлебом, а пока поешь сухарей с консервами, сухо говорит Мама Вторая, и Папа Второй удивленно спрашивает — а почему утром? Так ведь сейчас магазин закрыт, говорит терпеливо Мама Вторая, или они у вас тут по ночам работают? Дорогая, — с сарказмом говорит Папа Второй, — сейчас день. Малыш с братом спят крепко. Добирались две недели, из Бобруйска уезжали ночью, Малышу так и не хватило смелости поговорить с девочкой, которая ему нравится, ничего, письмо напишу, думает он, сидя на переднем сиденье грузового автомобиля. Идет дождь. Темно, слякотно, и так будет всю дорогу, Малыш с матерью и братом ждут поезда на все той же станции, куда они когда-то приехали, и детям кажется, что сейчас, — поскрипывая, — откуда-то выедет велосипед. Пусто. Прибывает поезд, семья усаживается, они едут в Минск, и, не разглядев его толком, направляются в Ленинград, где останавливаются в гостинице «Мурманск». На третьем этаже буфет. Очень дорогой, но зато там есть салат из кальмаров, что несколько выводит мальчишек из ступора — они с удовольствием пробуют это необычное для себя блюдо, начинают оглядываться. Гостиница высотная. Ленинград очень серый, страшно грязный, 1989 год, и Малыш с матерью гуляет по городу, глядя на нелепые сейчас в нем яркие вывески с рекламой. Много иностранцев. Мужчина в пыжиковой шапке и кожаном пальто предусмотрительно придерживает двери лифта перед Мамой Второй, и та, бледнея от неожиданной галантности, коротко кивает и собирается было войти, как мужчина, пропустив перед собой нескольких иностранцев, равнодушно отодвигает советскую с двумя детьми и проходит сам. Все равно он хам, дети. Мама Вторая говорит это очень громко в тупое лицо под шапкой, и объясняет, так, чтобы весь лифт слышал, что пропускать перед собой детей и женщин следует, ВЫХОДЯ из лифта, ВХОДИТЬ же первым должен мужчина. Малыш запоминает. Всегда входить первым, выходить же последним, подавать руку даме, выходя из транспорта, наливать старшим — он не раз еще поразит своими хорошими манерами самых разных людей в самых разных точках земного шара. Третий конгресс драматургов стран СНГ, театральное бьеннале в Варшаве, встреча писателей Востока и Запада в Стамбуле, московский книжный фестиваль. Малыш вежлив. Везде он подвинет стул, встанет первым, подаст руку, пропустит, подаст, кивнет, поклонится, улыбнется, — он умеет быть подчеркнуто вежлив. Ты довольна, мама? Мама Вторая довольна. Малыш с братом с ненавистью смотрят на мужлана в пыжиковой шапке, который просто не замечает ни их, ни Маму Вторую, и иностранцы довольно щебечут, глядя на маленькую перевозную клетку. Оу, перрот. Хиз нейм из Кузя, говорит Малыш, откашлявшись, и иностранцы приходят в полный восторг, пыжиковая шапка смотрит на Малыша с ненавистью. Перед иностранцами заискивают. Вся страна готова смотреть в рот человеку, который не говорит по русски, снимаются дешевые кинокомедии про то, как иностранцы учат советских дураков уму-разуму, в телепередачах все больше рекламы, Запад хочет, чтобы мы были сытыми и благополучными, а не дикарями с ракетой. Мама Вторая верит. Гостиница «Мурманск» не спит, смеется визгливыми голосами проституток, похахатывает благодушным баском иностранцев, скрипит дверьми и кроватями, пошатывается на ледяном ленинградском ветру. Погода невероятная. Малыш с удивлением убеждается, что расхожее представление о Ленинграде, как о городе, где с утра идет дождь, а днем светит солнце, перед тем, как выпадет снег, а уж тот растает при вечернем потеплении — чистая правда. Кальмары вкусные. Мама Вторая записывает у буфетчицы рецепт, главное, узнает она, это не переварить, потому что кальмары становятся жесткими, — всего пара минут в кипящей воде, — и рассказывает о Белоруссии, Венгрии, Забайкалье, которого, впрочем, дети почти не помнят. Много странных людей. Прогуливаясь в городе — времена смутные, и поезд в Мурманск идет раз в неделю, так что им пришлось ждать, — Мама Вторая и Малыш встречают мужчину с незаметным лицом, которые настолько невыразительно и незаметно, что Малыш запоминает его на всю жизнь. Лиза, милая! Черт побери, ты не поверишь, начинает Малыш, глядя на то, как Борис Ельцин представляет совсем уже другой стране своего преемника, и его жена в первый раз прослушивает удивительную историю о Малыше, Маме Второй и брате, которые сталкиваются в Ленинграде не с кем-нибудь, а с самим Владимиром Путиным. Издержки жизни с драматургом. Жена, конечно же, не верит ни единому его слову, вернее, так — он-то сейчас может думать, что это был тот самый Путин, но, скорее всего, ему просто кажется, он выдает желаемое за действительное. Владимир Владимирович! Скажите пожалуйста, где вы были в сентябре 1989 года, в Ленинграде, 12-го числа с 12 до 14 часов, не в окрестностях ли гостиницы «Мурманск», пишет подвыпивший Малыш в поле «Вопрос». Это прямая линия. Президент Владимир Путин отвечает на вопросы посетителей интернета, и вопрос малыша регистрируется прод номером 19837, и новый президент, конечно, не отвечает, потому что на двадцать тысяч вопросов — и среди них такие глупые, сетует президент конфиденциально ведущему программы «Вести» — не ответишь. Вот, например, из Молдавии. Где я был с тринадцати по… в окрестностях гостиницы… Что за идиотизм?! Ведущий «Вестей» смеется, президент сдержанно улыбается — он-то отлично знает, что 12 сентября 1989 года действительно был в окрестностях гостиницы «Мурманск», видимо, кто-то из коллег по СНГ шутит, — и отвечает на вопрос жительницы Саратова о прорвавшейся канализации. Малыш мрачнеет. Жена вздыхает, и гладит его голову во сне, бедный мальчик, думает она, бедный мальчик, бедный мальчик, бедный-бедный-мальчик, бедный бедный мой мальчик, и спит он плохо, жалко страшно, а ведь придется развестись, никуда не деться, бедный-бедный-бедный. Всхрапывает. Прибывает поезд. Малыш с братом усаживаются в купе, пока Мама Вторая распихивает под полки багаж, среди которого и несколько пакетов с сушеными кальмарами. Заживем, мальчишки. Поезд едет очень медленно, потому что рано темнеет — полярная ночь, мальчики, — и Мама Вторая глядит с тревогой на то, как отступает цивилизация. Понятия не имела, куда едет. Все отлично, пишет ей Папа Второй, места здесь чудесные, пацаны будут в восторге, много рыбы, зверя, ягоды, свежий воздух, отличные условия, все будет замечательно, приезжайте скорее. Дедушка Третий улыбается. Привет, мурманчане, пишет он мальчишкам, и письмо приходит еще в Белоруссию, и Малыш чувствует, как его обжигает — по-настоящему, горячим в грудь, — ненависть к человеку, для которого он просто манекен для упражнений в искусстве переписки. Колодец, куда можно выкрикнуть пару здравиц, бодрых приветствий, еще какой-то чуши. Мама Вторая, чрезвычайно напуганная происходящим — это не просто 1989 год, а его окончание, — отправляет телеграмму родителям мужа. «Может быть пока все наладится дети поживут у вас вопр я бы поехала к мужу сама и поглядела что там за условия тчк здесь очень плохой свет боюсь за глаза младшего не уверена что там есть бассейн зпт где они могли бы плавать да и вообще я не в курсе насчет условий тчк это на пару месяцев тчк. Заранее спасибо тчк жду ответа». Дедушка Третий отвечает. Крепитесь, мурманчане! Что за упаднические настроения?! Бодро поднять нос! Держаться вместе! Одним кулаком! Вопреки! Несмотря! Невзгодам в лицо! В тесноте да не в обиде! Это я о вашем новом месте службы, конечно! Не о нашей тесной квартирке! Что вам та Молдавия?! Мама Вторая вздыхает. Ей отказали. Поезд еле тащится. Пути старые, — они, как и страна, на последнем издыхании, — Мама Вторая, когда дети спят, старается бодрствовать, чтобы, если вдруг катастрофа, успеть вытащить детей. Кликуша. Напрасные предосторожности. Никакой катастрофы не случается, и поезд все же прибывает в город Петрозаводск, который в 1989 году выглядит даже более убого, чем провинциальный Бобруйск. Малыш ищет книжный магазин. Покупает книжку полярника, проведшего несколько лет в снегах, среди пингвинов, тюленей и еще пятерых таких же несчастных обмороженных мужчин, как и он. Представляет себя полярником. Узнает значения слова «пеммикан», запоминает на всякий случай, что в экспедицию с собой лучше брать не досушенные сухари, которые не будут крошиться, и еда не будет потеряна. Больше книг нет. Ничего нет, и семья покидает Петрозаводск с радостью — ну и дыра, облегченно говорит Мама Вторая — чтобы после пожалеть и о нем. По дороге столбики. Это еще что, спрашивает Мама Вторая проводника, и тот объясняет, что так в Заполярье, — где глазу зацепиться не за что, — отмечены километры. Сто первый километр. Сто двадцатый. Ну и так далее. Мама Вторая притихла. Мальчишки, те и подавно молчат. Приезжают, наконец, в Мурманск, где в порту Малыш с любопытством глядит на настоящий прибой: море действительно поднимается на несколько метров за считанные часы, и опускается за столько же. Кричат чайки. В порту работают краны, кричат люди, здесь хоть какое-то подобие жизни, и Мама Вторая ведет детей в общественную столовую, где только рис и рыбные котлеты, и они пахнут, почему-то, салом. Все равно едят. Поезд из Мурманска отбывает в город Заполярный и это еще двадцать четыре часа пути, снега и плохие пути удлиняют любые расстояния на севере в два раза. В небе пролито молоко. Это и есть Северное Сияние, ребята, то самое великолепное яркое северное сияние, поражающее и все такое… Привет, мурманчане! Письмо от Дедушки Третьего догоняет их в дороге, оно полно бодрых призывов держаться, крепиться, еще чего-то, и Мама Вторая, не выдержав, бессильно матерится при детях. Малыш рвет письмо. По сторонам путей медленно ползут какие-то бараки, снова какая-нибудь Богом забытая станция, думает Мама Вторая, но это город Заполярный. Следует привал. Ждать приходится два дня — семья живет в местном Доме культуры, Малыш уже знает, что театральный занавес отличное покрывало, — после чего снова поезд, который едет к тупичку на станции у поселка Корзуново, там дислоцированы вертолетчики. Сталинские соколы! Когда твой дед был сталинским зенитчиком, пишет дедушка Третий, и Малыш брезгливо не отвечает, кажется, он взрослеет. Мечтал купить подводное ружье. На кой оно теперь ему здесь, в Заполярье, где днем темно, как ночью, а ночью просто темно? Да и где его купить? Малыш подавлен, у него депрессия, да и у брата тоже, держатся они лишь благодаря друг другу. Подбадривают, подшучивают. А вот и Корзуново. Отсюда всего несколько часов пути на грузовике по сопкам. Мама, что за буквы там светятся на какой-то скале, кажется «МОЛ». Папа Второй смеется. Это какой-то солдат-молдаванин залез на сопку, чтобы написать краской «Молдова», да только после трех букв сорвался, говорит он, и Мама Вторая резко спрашивает — что тут смешного? Бедный солдатик. Машина приезжает в гарнизон днем — хотя Маме Второй и детям кажется, что ночью, — он называется Луостари. Пять пятиэтажных домов. Несколько казарм. Один магазин — военторг. Плац. Пожалуй, все, припоминал позже Луостари Малыш, про себя всякий раз предавая это несносное местечко анафеме. Приходится драться. Как всегда и везде. Малыш, рассвирепев, бьет ногами в лицо здоровому однокласснику с фамилией как у министра финансов — кажется Павлов, — пока его держат сзади за руки. Получилось случайно. Но после этого случая за Малышом закрепляется слава каратиста, тем более, что у него правда есть книжечка, сшитая из фотокопий — приемы карате — купленная у глухонемого в поезде за один рубль. Брат бьет Павлова. Одевает на голову мусорное ведро, и все узнают, что, если кто-то дерется с Малышом… Братьев дразнят абхазами, хотя ни одного абхаза в Луостари испокон веку не было, но с тех пор Малыш сочувственно относится к абхазам. Даже болел за тех, когда с грузинами воевали. Хотя и грузины ничего, — вспоминает Малыш отдых где-то там, на Кавказе, — дружелюбные. Свет тусклый. Лампы в школе горят очень ярко, но свет все равно получается тусклый, потому что природного освещения нет. Это ничего, скоро весна. И что тогда, спрашивает Малыш, который, — к тревоге Мамы Второй, — видит все хуже, и его утешают. Будет жарко и светло. Летом у нас такая жара, говорят мальчишки в гарнизоне, что мы даже хотим в рубашках с длинным рукавом, без всяких свитеров! Братья переглядываются.
Малыш находит утешение в книгах, и если раньше много читал просто потому, что ему это нравится, теперь он просто прячется в книги. Влюбляется в фотографию из книжки «Человек-дельфин». Пишет письма девочке из Бобруйска. Все заработанные у родителей деньги тратит на книжки, которые иногда завозят в местный военторг, покупает все без разбору, и даже пишет свое первое литературное произведение. Трактат о пытках. Дыба, плети, а дальше Малыш прекращает работу, потому что ничего не знает о пытках, удивить одноклассников не получается. Мало фактуры. Малыш откладывает деньги на подводное ружье, это довольно глупо, но он все равно мечтает, что когда-нибудь найдет его в продаже. В Заполярном обнаруживается бассейн. До города четырнадцать километров, и Мама Вторая, принеся себя на алтарь, — куда она сама себя загнала, позже не без злорадства будет думать Малыш, — посвящает все свое время поездкам. Полтора часа туда, полтора обратно, Заполярный, дети плавают, выкрики в бассейне, запах хлорки, тренера, шлепающие по бортику, а Мама Вторая сидит на скамеечке и читает книгу. Дети при деле. Они поступают в перспективную группу модного тренера Дунаева, и приступают к серьезным тренировкам. В отличие от кривоногого белорусского «Листьева», которого, впрочем, Малыш тоже будет всю жизнь вспоминать с благодарностью, Дунаев — рубаха-парень. Дети его обожают. Становится легче жить, и уже даже вечная темнота, холод, и всеобщее обозление, с ними связанные, переносятся не так тяжко. Малыш с братом играют. Выкапывают в снегу за городком настоящие подземные ходы, фотографируются возле карликовых берез, в бушлатах, тяжелой, некрасивой, неудобной северной одежде. Есть санки. Морошка оказывается большой оранжевой ягодой, на вкус отдает морковью, лоси в Заполярье и правда огромные, убеждается Малыш, лежа на шкуре гиганта, подстреленного и освежеванного офицерами, который бросили шкуру сохатого в баню. Там же подцепили вшей. У них насекомые, насекомые, кричит, вся трясясь, брезгливая Мама Вторая, и, — придя в исступление, — карнает головы сыновей ножницами, чуть ли не рвет волосы руками, потом, чуть успокоившись, бреет мальчишек налысо. В школе смеются. Снова приходится драться. Малыш мучается животом, он ненавидит северные уборные, — там страшно холодно, в один день он буквально исходит жидкостью, посетив уборную двадцать три раза. Мать шипит. Начинается трансформация. То, что казалось невероятной заботой самой Маме Второй, и было естественным для детей в девять лет, в двенадцать стало гнести. Она чересчур бесцеремонна. Она чересчур напоминает свою свекровь, с которой так долго воевала. К счастью, Малыш все больше времени проводит сам — он много ездит по соревнованиям, ночует в советских северных гостиницах, выигрывает сто метров спиной и двести метров спиной, становится призером на двести метров комплексом, а вот брасс ему по-прежнему не дается. Девочки зреют. Малыш все чаще глядит на сверстниц, плавающих с ним в одной команде. Пишет письма.
Наступает девяностый год, и в гарнизоне начались перебои со снабжением, так что Малыш иногда слышит, как Мама Вторая плачет ночами. Пропадает хлеб. Помятый, в фурункулах — на первом году службы они все такие — солдат просит Малыша купить хлеба в магазине, потому что солдатам теперь отпускать перестали. Малыш смотрит на дядьку в шинели. И когда вырастает и все становится на свои места — в правильную перспективу — и понимает, что это был восемнадцатилетний сопляк, доходяга несчастный, все равно смотрит. Две булки белого. С сахаром его едят к чаю, Мама Вторая с нервным смешком, — издает который все чаще, — называет это «луостарское лакомство». Ругаются с мужем. Что я могу поделать, это я, что ли, подвоз прекратил, орет на жену Папа Второй, глядя на морщины, появившиеся на ее лице. Это от злобы. Луостарское лакомство нравится и Малышу, ну, хотя бы потому, что булок в магазинах нет. Сок и белый хлеб. После них исчезает и черный хлеб, так что Луостари больше месяца хрустит сухарями, которые начальник части, махнув рукой на приказы, велит достать со складов с НЗ. Рыбная колбаса. Папа Второй, торжествуя, приносит два батона — тонких, черных, — и глядит, как мальчишки, изголодавшиеся по мясу, едят. Встречает взгляд Мамы Второй. Настроение портится. Колбаса невкусная, и в ней есть белые кусочки свиного сала — зачем они в рыбном фарше, ума не приложу, будет материться Малыш, которому, конечно, никто не поверит. Рыбная колбаса, ха-ха. Жена спросит. Дорогой, не слишком ли активно эксплуатируешь тему своих детских несчастий? На что он, распахнув окно, вывалит из него все ее платья с криком «убирайся, сука», и она уберется. Папа Второй тоже разорется. Как ты меня достала своими вечно кривящимися губками, вечно бля недовольна, все не то, все не так, орет он на жену, и вроде бы повзрослевшие Малыш с братом снова становятся маленькими детьми. Молчат в комнате. Жрать нечего. Так что Папа Второй ходит на охоту, и возвращается с добычей, в доме появляется мясо — заодно он учит сыновей стрелять, и Малыш узнает поразительное чувство СИЛЫ, которое приходит в руки с оружием. Папа Второй ловит солдата. Ты чего здесь делаешь, спрашивает он какого-то зачумленного грузина, покрытого нарывами — южане на Севере страшно мучаются фурункулезом, — почему не в санчасти? Не пускает сержант. Папа Второй бьет в ухо сержанта, и волочет несчастного грузина в медсанчасть, и так беднягу моют, перевязывают, начинают лечить. Папа Второй в уголке. Когда врач отворачивается, вынимает из кармана кусочек чеснока и трет подмышку, от этого столбик термометра сражу же вырастает. Получите больничный. Благодарные родители грузинского солдата пишут Папе Второму письмо и присылают посылку с орехами и чачей, Папе страшно неудобно. Дети рады орехам. Привозят хлеб. Выдают пайки, которые предоставила в качестве гуманитарной помощи Норвегия, там растворимый сок и китайская ветчина, галеты, все очень вкусно, потому что необычно, сейчас Малыш такую жратву даже своему коту — а тот съест все, что ни дашь, — не сунет. Дети нахваливают. Жена оттаивает. Малыш едет в Североморск, ест в тамошней столовой салат из квашеной капусты с брусникой, ест ветчину, разминка, соревнования, на старт, внимание, выстрел, и Малыш мощно дельфинит ногами на выходе, цепко держит сильных соперников, и ломает их на последнем отрезке, — это его коронный стиль на двести метров. Умный малый. В Архангельске Малыш становится объектом насмешек всей группы, потому что покупает себе за пятьдесят рублей подводное ружье. Малыш знает, что мечты нужно исполнять, даже если они никчемные. Группа его любит. Несколько ребят четырнадцати лет, один пятнадцатилетка, четверо — двенадцатилетних, пять девочек. На старшей купальник лопается. Малыш об этом старается не думать, он увлечен фотографией дрессировщицы дельфинов из книжки Майоля. В Луостари проводят кабельное телевидение, и Малыш с братом смотрят фильмы про борцов стиля «кэтч», это кажется им невероятно серьезным. Телик черно-белый. По воскресеньям. Ровно в три, начинается показ мультфильмов «Чип и дейл» и «Утята Макдака». Смотрит весь Союз. Единственное, чего не понимает Малыш, — как этот чертов скряга Скрудж различает своих племянников, ведь эти трое утят словно с трафарета срисованы. Так они и срисованы! Да, но как тогда… Это Малыш узнает два года спустя, когда увидит мультфильм в цветном телевизоре, все будет очень, до обидного просто: Вилли — красный, Билли — синий, а Дилли — желтый. Ха-ха. Но и черно-белые, мультики очень даже интересные, больше всего Малышу нравится припев песенки, с которой начинаются «Чип и дейл». Чип-чип-чип-чип и дейл, к нам спешат, чип-чип-чип-чип и дейл, лучше все-е-е-х, напевает он в комнате, и ужасно смущается, когда заходит отец, тактично ничего не заметивший. Мальчишка еще не вырос. Малыш задерживает дыхание на три минуты сорок секунд, это в ванной, а если в бассейне, то на десять секунд меньше, там больший объем воды давит на легкие. Брат засекает. Я человек-дельфин! Малышу хочется научиться задерживать дыхание на часы, чтобы опускаться под воду на километры, трогать руками края Марианской впадины, скользить между солнечных рифов Средиземного моря, выныривать в черных маслянистых волнах Ледовитого океана, разглядывать ослепительно белые зады нырярльщиц-ама в Японском море, играть мышцами в водопадах, дремать в озерах, подниматься вверх с лососями по рекам. Влюблен в воду. В Луостари много воды. Но она там в виде снега, к которому Малыш равнодушен, если не сказать — ненавидит. Не играет в снежки. Глядит, как гарнизонная проститутка, школьница Машка, поджидает солдат под забором, она дает за пакет сока и булку хлеба, — белого, конечно, — это хорошая сделка. Приходит посылка. Малыш с братом глядят, как Папа Второй отрывает фанерку, вытаскивает тонкие гвоздики, и вытряхивает содержимое на газету, это от Бабушки Третьей. Горы леденцов. Старое рванье. Бодрая открытка. Это уже Дедушка Третий. Северяне. Мурманчане. Бодрее. Ровнее. Тверже. Мама Вторая кусает губы, ее красивый рот, когда она его кривит, такой некрасивый. Малыш ненавидит тараканов, здесь их много, потому что людское жилье единственное место, где тараканы могут выжить. Рядом живет сумасшедший. Это бывший офицер и бывший майор, возможно бывший Петров, которого выгнали из армии за воровство у офицеров же, он ходит по гарнизону в кальсонах, надетых на ватные брюки, прикармливает кошек, и ненавидит собак — бросил в одну из них топором, едва не попав в Малыша. Убивает бродяжек. Бродит, одичалый, трахает проститутку Машку, пьет одеколон — а иногда и польскую водку, ее стали заводить в Союз в огромных количествах, — кричит и стонет ночами. И, кстати, я тебя люблю, пишет Малыш в конце письма дрожащей рукой и заклеивает конверт, отправляет, чтобы получить конверт из которого выпадет засушенный цветок. Майор Петров остается. После окончания срока службы из Луостари уезжают, здесь не живут, но майор Петров остается, ему некуда ехать, так что ему оставляют квартиру — все равно в домах живут меньше людей, чем следует, — и определяют место в кочегарке. Малыш живет в дороге. Все время приходится ехать, частенько похожий на югослава тренер Дунаев — любимец женщин, — ночует в Заполярном у какой-нибудь грудастой красотки, и тогда в его квартире остаются Малыш с братом. Автобус туда, автобус обратно. Часто дорогу размывает. Тогда приходится идти пешком. Начинается «Веселый дельфин». Все соревнования в спортивных школах в Советском Союзе называются «Веселый дельфин», эти совки, — говорит с отвращением Мама Вторая, — ничего выдумать не могут даже. Утром в феврале Папа Второй выходит на остановку, куда подъезжает грузовик, забрать пассажиров, и стоит с сыновьями два часа. Нет транспорта, ладно, бодрее, веселее, верить, держаться, ну, и все такое, и они идут пешком, пятнадцать километров. Приходят за пятнадцать минут до начала соревнований, и Малыш, встав под холодный душ, чувствует, как жжет кожу вода. Папа Второй доволен. Меня и в молодости в армии звали показушником, смеется он, и сыновья переглядываются, не совсем уверенные в том, что им необходимо было совершать этот не очень нужный подвиг. Выигрывают соревнования. Папа Второй обратно, — к счастью, — решает все-таки ехать, и в ожидании попутной машины мальчики едят в ресторане Заполярного, Малыш вытряхивает в винегрет всю перечницу, она, конечно же, не закреплена, но на счете это не отразится, так что скуповатый брат заставляет Малыша съесть салат. Рот горит. Суп с яйцом очень вкусный, но заказы часто путают, приносят, что подороже. Малыш любит пельменные, он вообще обожает пельмени, берет всегда две порции с уксусом, еще ему нравится жареная рыба, которую он просит в столовых спортивных школ. Варенье из мандаринов. Успехи все значительнее. Малышу предлагают поехать в Ленинград в спортивную школу, где преподает, вроде бы, сам знаменитый Сальников, но родители отказываются, и правильно делают, школа будет закрыта всего год спустя. Учитель труда просит всех встать. Среди нас есть человек, которого нам нужно уважить, поскольку он прославил наш город, говорит тожественно косноязычный мужчина в фартуке, с которым у мечтательного Малыша вечные нелады. Разворачивает газету. На соревнованиях по плаванию в северо-западной зоне РФСРФСР чемпионом на дистанции сто метров на спине стал… С результатом… Малыш с любопытством слушает, потом думает — да это же обо мне. Поприветствуем чемпиона Северо-Западной Зоны РФСФСР. Класс шумит. Малыш откидывает крышку парты, и выходит в коридор, стены темно-зеленые, свет уже не такой тусклый, как зимой, это начинается полярный день. Он ослепляет. Снег не тает, но теперь, из-за Солнца, повисшего где-то на краю сопок и не желающего заходить — оно и не зайдет целых полгода, — он не лежит темными пятнами где-то сбоку, а лезет беспощадным светом в глаза. Выдают очки. Черные, как у Сталлоне в фильме «Кобра». Носить их одна мука, тем более, на морозе, так что все щурятся, и зрение Малыша падает еще сильнее, Мама Вторая снова в истерике, это, кажется, теперь ее обычное состояние. Ищет врачей. Находит книжку какого-то окулиста, Бейтса, и Малыш терпеливо, под присмотром матери, делает странные упражнения, вращает глазами, жмурится, лежит, прикрыв глаза ладонями, что называется пальмингом. Зрение восстанавливается. Из поселка Корзуново постепенно уезжают вертолетчики, из Заполярного тянутся в сторону большой земли офицеры, все смутно что-то предчувствуют. Папа Второй хмурится. Малыш с братом уходят на озеро по соседству на целый день, чтобы ловить рыбу, но, просидев на морозе до вечера, так ничего и не поймают. Дома, наконец, пусто. Так что Мама Вторая ругается с мужем, и тот чувствует, как волна отвращения и дрожи колеблет его тело, она своими придирками его просто достала. Что мы здесь делаем?! Если что-то не нравится, собирай шмотки и выметайся, говорит он, — ладно, говорит она, я так и сделаю, — ну, попробуй, говорит он, и родители, когда сыновья возвращаются, не разговаривают — и две недели еще не разговаривают. Майор Петров храпит и кричит по пьянке ночами на свою уже сожительницу Машку. Папа Второй спросонья злой, стучит кулаком в стену. Просит утихомириться. Майор Петров носит с собой топор, и ставит каждое утро в ухода в подъезд миску с какой-то бурдой, это для кошечек. Те бросаются в ноги ко всем, кто выходит из подъезда. Папа Второй вернулся с учений с шапкой, полной ягод. Близится лето.
Малыш едет на соревнования аж в Петрозаводск, пробует там впервые в жизни оленину, ничего, ему понравится. Все мясо. Тренер Дунаев, хитро улыбаясь, шастает по ночным коридорам гостиницы с чайником, из которого пахнет вином, и, когда приоткрывает дверь, чтобы узнать, чего тебе, можно увидеть краешком глаза симпатичную гостью. Отличный тренер. Ребята тренера Дунаева бьют рекорды и выигрывают соревнования, Малыш знает, правда, последние полгода он никак не может выполнить первый разряд, застрял на старом результате и все тут. Выигрыши не радуют. Но как-то Малыш просыпается удивительно сильным и спокойным, едет, заваливаясь на поворотах на брата, в машине по сопкам, и на бассейне в Заполярном просит тренера засечь время. Дунаев хмыкает. Малыш стартует и проплывает на три десятых лучше первого разряда, тренер жмет ему руку, но запрещает задерживать дыхание больше, чем на тридцать секунд. Мечта стать дельфином, обрызгав напоследок, издает всплеск, и исчезает где-то в темной — из-за плитки — воде бассейна города Заполярный. Малыш проверяет ружье. Два наконечника, каждым из которых человека можно убить, мощная резина, хотелось, конечно, ружье на сжатом воздухе, но таких попросту не было, хорошо, что это нашлось. Малыш мечтает об акваланге. Станешь мастером спорта международного класса, смеется тренер Дунаев, куплю тебе акваланг. Малыш не станет даже простым мастером спорта и акваланга себе поэтому не купит, даже когда появятся деньги, много денег, будет только брать в аренду. Не заслужил свой.
Летом Мама Вторая берет сыновей и едет в Кишинев, на встречу с солнцем и фруктами, которые Бабушка Третья смешно называет «фрухта». Жалуется родителям. Жалуется братьям. Жалуется всему миру. Условия в Луостари действительно невыносимые, жизнь в гарнизоне напоминает ниточку на медицинском аппарате — то пропадает, то тянется, все еле — еле, все через силу, — и Мама Вторая боится возвращаться на Север. В один из вечеров на кухне с бутылкой подсолнечного масла на подоконнике — крышечка в виде золотой рыбки все еще на горлышке, — Мама Вторая внезапно говорит то, о чем думала последний месяц. Мы остаемся. Мама, мы остаемся. Ну, что же…
Девчонка паникерша! Дедушка Третий, возмущенный, приходит в гости к Бабушке Четвертой, где остановилась семья, и интересуется, не собирается ли она вернуться к его сыну, Папе Второму? Трудности временные! Все наладится. Бодриться. Не будь самкой! Мама Вторая самка, ей руководят инстинкты, которые подсказывают, что дети под угрозой, — так что она бесстрашно налетает на свекра. Происходит первое открытое столкновение. Мы никуда не уедем из Молдавии, — говорит она Дедушке Третьему, — я не буду гробить здоровье детей по гарнизонным дырам, я не хочу, чтобы младший ослеп, а старший навсегда ссутулился, я хочу, чтобы они ели мясо хотя бы два раза в неделю, а не по большим праздникам. Дедушка Третий уходит. Бабушка Третья задумывается, уронив живот на колени, расставив ноги пошире: необходимо разработать план ведения компании против невестки, свекровь в глубине души даже рада внезапному появлению врага. То-то повеселимся. Малыш с братом рады переезду, в Молдавии хотя бы свет настоящий, да и дома не такие обшарпанные, как в этом Луостари несчастном. Кстати, о доме. Где вы будете жить, ты подумала, спрашивает степенно Дедушка Третий, который приходит на еще одну Серьезную Беседу, чтобы образумить невестку. Конечно, не у вас. Уж не у меня, с сарказмом соглашается Дедушка Третий, у нас негде, комната маме, комната мне, комната Ольге… Мама Вторая усмехается. Уходите, говорит она. Мы как-нибудь без вас справимся, сами, и она справляется — помогает брат, который открыл кооператив, и стал невероятно деловым, носит кепку-аэродром и говорит с еврейским акцентом. Договаривается насчет жилья, и Мама Вторая и мальчишки заезжают в однокомнатную квартиру, которая кажется им хоромами, денег нет, так что на одну стену клеят зеленые обои, на другую красные, а одну оставляют вовсе без обоев. Мама Вторая звонит Папе Второму. Дорогой, ради детей мы должны вернуться в Молдавию, хоть твои родители и против. Тот рад, потому что за лето, когда отсутствовала, — лето 1991 года, — все явно накренилось и вот-вот рухнет, сам-то он отсюда выберется, а вот за мальчишек беспокоится, с ними на руках как я отсюда смоюсь? Ждите в Молдавии. Мама Вторая кладет трубку и переводит дух — она решила развестись, если муж не согласится, но разводиться, конечно, не хотела, — глядит на календарь, висящий на почте в центре Кишинева. 12 августа 1991 года. Мальчики, мы остаемся. Пятидесятиметровый бассейн «Юность» еще открыт, и Мама Вторая записывает сыновей в спортивный класс при нем, пока она договаривается, Малыш сидит на скамеечке у входа и глядит на гаражи. Виноград зреет. Чего приуныл, пловец, спрашивает здоровенный мужчина со спортивной сумкой, и подмигивает, позже Малыш увидит его несколько раз в воде, это Башкатов, лучший пловец Молдавии, серебряный призер Барселоны, кролист, я плавал по соседней с ним дорожке, будет вспоминать он, и спрашивать жену, уже третью. Ну, в Башкатова-то ты веришь?
Малыш ненавидит балет, поэтому путч 1991 года запоминается ему невыносимой скукой у телевизора, тем не менее, он сидит у экрана вместе с матерью и братом, и всем Кишиневом, и всей МССР, и всем СССР. Всем миром. Девушка в белых тапочках и некрасивой длинной юбке, под которой видны обтягивающие штаны — скоро такие войдут в моду и в них станут щеголять все одноклассницы Малыша, «лосины» — прыгает вверх и замирает, поддержанная мускулистым партнером. Балеруны — педики. Малыш это точно знает, а вот пловцы, к примеру, не педики. Потому что Малыш только и делает на предварительной тренировке, что пристраивается за девочками, плывущими в стиле брасс. Все они так делают. Это пройдет, говорит тренер Маме Второй, да и всем мамам, обеспокоенным гормональным взрывом в головах детей. Малыш отжимается. К осени нужно быть в форме, — тренировок будет по две в день, предупрежден он, — да только что с нами со всеми будет осенью? Советский реванш. Балет все длится, и Малышу кажется, что те несколько лет, когда он ложился спасть на полтора часа позже, чтобы посмотреть «Прожектор перестройки», или смеялся ужасно смелым передачам, в которых Юрий Никулин рассказывал анекдоты людям прямо на улицах, просто наваждение. Прошедший морок. Мама Вторая ужасно переживает, сидит в комнатке, сжав кулаки, и все повторяет — как же так, неужели все, как же так. Трансляция прерывается. Телевизионщики — ужасно смелый народ, думает Малыш — показывают танки, Москву, людей, цветы. Неужели они осмелятся? Кто они? Что осмелятся? Папа Второй стреляет на полигоне, донельзя радуясь тому, что семья осталась в Молдавии, дела сейчас начнутся мужские. На Москву. Папа Второй слышит эти разговоры в офицерской столовой, и думает, что никто никуда не пойдет, духу не хватит, так оно и случается. Но офицеры гудят. Пойти на Москву колонной, и раздавить там это демократическое говно, говорят они между собой, озлобленные нищетой и неурядицами. Папа Второй стреляет. Первые несколько дней после отъезда семьи он спал и выпивал, потом ему надоело, и он начал каждый вечер париться в бане, а по утрам стрелял. Выбивал десятку. Боеприпасов никто не считал и не жалел, бардак страшный, думает Папа Второй о части, так хоть на стрельбе руку набью. Снова попал. Фотографируется, большой и черный — черный бушлат, черное от мороза и загара лицо, черные валенки, — на память на заснеженном полигоне. Кабельное отключили. Кто-то собирается. На Москву. Майор Петров никуда не собирается, кормит кошек, и Папа Второй иногда думает, а не стал ли бы он таким же майором Петровым, не будь у него жены и детей. Семья нужна. Папа Второй решает это для себя, и, когда жена звонит, чтобы решить насчет Молдавии, говорит — да, оставайтесь, я приеду через пару лет. Дослужу. Идет на полигон и стреляет. Автомат, пистолет, снайперская винтовка, карабин. Забавы ради — дымовые шашки. Возвращается домой, включает телевизор, а там балет. Точно кто-то умер, думает Папа Второй, и садится у телевизора с куском розовой ненастоящей ветчины на тарелке. Китайская подделка. Трансляция прерывается. Путчисты бросили вызов… Телевизионщики смелые, хмыкает Папа Второй. Мама Вторая судорожно сжимает руки сыновей: нет, мы не дадим им, не позволим. Малыш верит.
Молдавия молчит, на улицах пусто, позже в газете «Независимая Молдова» напишут, что 19 августа 1991 года на центральной площади Кишинева собрались толпы встревоженных людей, но это все неправда. Молдаване напуганы. У них не было диссидентов, лесных братьев, они никогда не боролись против Советов, просто в очередной поменяли хозяина, и все тут. Хозяина больше нет. Молдаване ужасно растеряны, все ждут, что будет дальше, и глава МССР Мирча Снегур на всякий случай пишет две поздравительные телеграммы: одну путчистам, другую Борису Ельцину, и глава непризнанного Приднестровья Игорь Смирнов — раскол уже есть, осталось окропить его кровью, — пишет две такие же телеграммы. Повезло Снегуру. Он отправляет телеграмму Ельцину, правда, уже 21 августа, но лучше поздно поздравить кого надо, чем рано — кого не надо. Смирнов ошибается. 19 августа отправляет телеграмму ГКЧП, приднестровцы все такие, дурные, горячие и чересчур принципиальные, думает Снегур довольно, вот поэтому столицей края стал Кишинев, а не их Бендеры. Теперь раздавим. Президент России, Борис Николаевич Ельцин, запомнит навсегда, кто, когда и как его поздравил, поэтому молдаван будет просто не любить, а приднестровцев не любить еще больше, и все увидят это во время войны 92 года. Велит не вмешиваться. Офицеров российской армии, — которые не выдержат вида бойни в Бендерах и выведут танки защищать мирный город, — уволят из армии задним числом, многих посмертно. Пенсий не будет. Наград не будет. Семьи останутся без содержания. Россия-мать. Не забудем. Бодриться. Держаться. Выше нос, ровнее спину. В Кишиневе все поникшие, сгорбленные, ходят, озираясь. Те, кто на митингах в 89-м кричали про Румынию-мать, втихомолку собирают вещи, в ночь с 19 на 20 августа в Кишиневе во многих квартирах горит свет, кто-то жжет документы, кто-то спешно готовится к отъезду, а известная поэтесса, лидер националистического движения Леонида Лари копается в огороде своего дома. Ищет партбилет. Другой лидер молдавского националистического движения, Николае Добруджа, — бывший Никита Бояшов, взявший себе другие имя и фамилию — звонит в Бухарест, но на другом конце линии молчат. Чертова подстава! Все притихли, — русский медведь, без сомнений, сейчас отшлепает всех тех, кто его покусывал, и молдаванам ужасно страшно. Мама Вторая злится. Чертовы коммунисты всех уже достали до самых печенок, семья ее поддерживает, Дедушка Четвертый преподает историю румын так же легко, как и марксизм-ленинизм — не знает ни того, ни другого, — Бабушке Четвертой плевать на политику, а братья занимаются коммерцией, и им надоел ОБХСС. Коммунисты не пройдут. Малыш с азартом болеет за наших, когда показывают бревна, которые москвичи швыряют в бронетранспортеры, танки, иностранных корреспондентов, Белый Дом и самого Ельцина. Молдавия переживает. Вечером Малыш смотрит пресс-конференцию ГКЧП и вместе со всеми весело смеется над дрожащими руками этих уродов, тиранов, путчистов, фашистов, красных сволочей. Дедушка Третий расстроен. Этого несносного Горбачева давно пора проучить, да разве же эти психопаты смогут сделать дело, они же трясутся, как бабы. Тьфу, ГКЧП. Утром 20 августа, — когда становится понятно, кто побеждает, — молдаване собираются на площади и начинают бороться с ГКЧП и режимом, тем более, что в Молдавии никакого ГКЧП не было. Мама Вторая радуется. Все радуются. Возможно тебе это покажется удивительным, — сухо говорит сестра Мамы Второй по телефону, — но я бы хотела поехать на отдых в Вадул-луй-Воды с мальчиками, надо же. Едут. Тетке племянники вроде игрушки, особенно Малыш — Мама Вторая всегда с ревностью следит за тем, как Ольга носится с гордостью демонстрирует способного и нескромного мальчишку своим знакомым, — и на курорте у Днестра все они вдоволь наиграются. Малыш рыбачит. Ныряет у берега реки с ружьем, и его едва не уносит течение, Днестр река узкая, но на многих своих сгибах стремительная. В норах раки. Несколько километров реки — как раз между Кишиневом и Тирасполем, — облеплены по берегам деревянными и каменными домиками, это дома отдыха. Огромные скалы. Со временем они станут поменьше, ну, или Малыш побольше, в любом случае соотношение скал к небу поменяется, а может, это просто старость, будет грустно думать шестнадцатилетний Малыш. Тетка странная. Интересуется эзотерической литературой, с удовольствием случает рассказы продавцов книг про Бхавагат Путу и каких-то индусов, которые разрисовывают себя пеплом от сожженных покойников. Ей за сорок. Почему ты так и не вышла замуж, спрашивает ее бесхитростный Малыш, на что она отвечает… Ничего не отвечает. Но дает понять Малышу, что есть вещи, о которых лучше не спрашивать, сама же думает, что, без сомнений, мальчишку подучила этому его несносная мамаша-молдаванка. Покупают персики. Я больше люблю лысые, говорит скуповатая тетка, потому что на волосатых — волоски. Неудивительно. Носит шляпу с большими полами, начинает быть странной, — как и положено всякой незамужней даме в возрасте, — причесывается все менее аккуратно. Малыш посмеивается. Брат пожимает плечами, он дипломат, и хотел бы, чтобы никто не ссорился, так что полномочным представителем Мамы Второй в отношениях со свекром и снохой становится Малыш. Бьется насмерть. Тетка скупает эзотерику. Снисходительный Малыш объясняет ей, какие книги лучше читать — библиотека сестры отца, составленная из писем Пушкина к Дельвигу и ответов Дельвига Пушкину, вызывает у него лишь презрение, — и форсит в гостях. Добрые знакомые. У нее всегда полном приятелей, с детьми которых она носится куда больше, чем со своими племянниками, — говорит Мама Вторая. Она права. У тетки правда полно знакомых с приятными детьми — мальчики с бабочками, девочки в рюшечках — которые кушают ножом и вилкой, послушные, и, кажется, даже в туалет по нужде не ходят. Фиалками гадят. Все они умеют играть в теннис, носят белоснежные рубашки, а у одной из девочек, — к родителям которой тетка берет Малыша в гости, — есть кусок настоящего гамбургера. Половинка в разрезе. Мы были в Москве, говорит смуглая девчонка на пару лет младше Малыша, и там посетили «Макдональдс», и вот я привезла. Малыш качается в кресле. Приятель тети дарит ему книжку Джавахарвала Неру, два тома, и Малыш некоторое время упражняется в том, чтобы запомнить имя автора. Глядит из окна. Обычный двор обычных кишиневских девятиэтажек, друг тетки весьма приятен и обходителен, это международный адвокат, в 1991 году звучит завораживающе, и его дочь переписывается со сверстниками в США. Хочешь писем? Малыш получает охапку конвертов с письмами от американских сверстников — весьма модное в то время занятие — которые ищут себе друзей в СССР. Ну, уже бывшем. Малыш читает. Привет, я Джонни Д, я люблю пиццу и пончики, я люблю американские жареные крылышки с мексиканским соусом, я люблю гамбургеры и «Кока-колу», я люблю сладкие сухарики и я люблю… Обжора. Привет. Я Джеки С. Обожаю кино, читать комиксы и… Привет, я… Пока. Малыш даже писать не станет, письма кретинов каких-то, и лишь в университете поймет, почему они ему такими казались — корреспондентам было лет по девять, а ему двенадцать. Пропасть. Малыш прощается. И уходит с теткой, Двахарвалом Неру и образом надкусанного гамбургера. Малыш ловит бычка. Тетка жарит его и подает на тарелке свежих овощей, ну прямо царь-рыба, восхищенно — преувеличенно восхищенно, — говорит Дедушка Третий, приехавший навестить внуков. Бабушка Третья приценивается. Мальчишки уже большие, из них можно кое что выжать, решает она, и в один из вечеров раскрывает свой вечно улыбающийся рот, чтобы облить грязью Маму Вторую. Это провокация. Малыш, — очертя голову, — бросается в драку и выдерживает нападки двух женщин до тех пор, пока возмущенная Бабушка Третья не спросит, да кто же ты, черт тебя побери, такой? Сын своей матери. Мама Вторая обустраивается, покупает два стула и встречает груз, отправленный из Заполярья, и в доме появляется, наконец, стол. Дедушка Третий теряет все свои сбережения, Бабушка Четвертая теряет все свои сбережения, но человек по фамилии Павлов — он даже стрижен как тот Павлов, с которым Малыш подрался в школе Луостари, короткий ежик, — уже теряется где-то за поворотом, потому что Молдавия становится независимой. Молдавские националисты. Дедушка Третий цедит это с презрением, Мама Вторая, напротив, поддерживает — вполне вероятно, что в пику свекру, — и мира в семью это не возвращает. Мальчики у реки. Приезжает брат Мамы Второй и говорит Ольге, что хочет забрать братьев с собой на море, на что возмущенная женщина отвечает, что срок путевки еще не истек. Ох уж эта семья женушки нашего Пашки… Назойливые молдаване. Хамы, скоты. Брат упрямствует. Мальчишек вытаскивают на веранду домика и спрашивают, что они хотят, уехать или остаться, взрослый Малыш с удовольствием размозжил бы головы участникам этого небольшого инцидента, — всем, кроме себя и брата, — но маленький Малыш еще не знает, как нужно проходить Сциллы и Харбиды. Корабль стонет. Брат Мамы Второй и тетка лаются до самого вечера, пока утомленная женщина не сдается и за запирается у себя в комнате с неприятно опухшим, когда она плачет — это единственное общее, что есть у нее и Мамы Второй, — лицом. Малыш принес ей компота. До свидания, тетя. Малыш с братом едут на море в машине дяди, — весельчака и балагура, кооператора и двоечника по русскому языку и литературе, — за ними следует кавалькада автомобилей, это вся молдавская родня по линии Бабушки Четвертой. Словно цыгане, бросает Бабушка Третья. Молдаване ужасно дружный народ, назидательно говорит Мама Вторая, и это и отличает их от русских, которые друг друга вместо хлеба жрут, варвары. Табор, усмехается Дедушка Третий. Все они немножечко правы — это действительно табор. И действительно довольно дружный, так что Малыш с братом с удовольствием ловят камбалу и креветок с компании троюродных братьев и сестер, катаются на плоту у побережья, воруют тайком у взрослых сладкую воду, смешивают ее с вином, и ложатся спать за полночь. Наши спортсмены. Подвыпивший дядя, — хвастающий племянниками примерно так же, как несносная русская тетка, — обнимает ребят за плечи, и поднимает свой стаканчик вина. Малыш смеется. Послушай, подзывает его к себе один из двоюродных дядей, как ты думаешь, почему это яйцо такое, и Малыш, досконально изучивший книгу «1010 фокусов от Кио», говорит — ну как же, вы проткнули его иглой, содержимое вытекло, а дырочка замазана пастой. Чертов гений! Наивные молдаване, институтов не заканчивавшие — прошло ваше время, советские, с вашей сраной никому не нужной ученостью, пришло время Рынка и Предприимчивости, — покачивают головами. Смышленые мальчишки. Малыш читает английский. Самоучитель Петровой. Молдаване качают головами еще сильнее, хватит читать столько, испортишь глаза, лучше иди с девчонками на дискотеку, попрыгай под «Розовые розы». Малыш идет. Коблево гудит. Ты чего тормозишь, раздраженно спрашивает приятель из Бендер, — с которым Малыш знакомится на волейбольной площадке, — ты молдаван, что ли?! Эй, мальчик, орут нервно молдаване. Шторм выносит к берегу тысячи камбал, и отдыхающие собирают их прямо руками, засаливают в банках, и от палаток несет рыбной вонью, ведь солили неправильно и все пришлось позже выкинуть. Любчики, говорит дядя. Толстый, лысый, как его отец, Дедушка Четвертый. Мягко стелет. Два цеха по производству носков, три — колготок, два — рубашек, и один — брюк. Постоянно строит. Покупает квартиры, продает, объединяет капиталы, скидывает, покупает особняки, пристраивает, достраивает, пристраивает, торгаш, презрительно говорит Дедушка Третий. Мама Вторая парирует. Ваша жена всю жизнь колбасу из буфетов домой таскала, говорит она, почему же вы позволяете себе судить других? Дедушка Третий негодует. Сын далеко, в Заполярье, его не призовешь поставить на место невестку. Несносная она. Огромная семья — со всеми ее ссорами и примирениями, лягастыми кузинами и грудастыми подругами кузенов, кознями и интригами, — возвращается обратно с моря, навьюченная арбузами и кукурузой, ракушками и мешочками с песком, камушками и склянками с морской водой. Малыш совсем черный. Любуется Кишиневом. Осенью они с братом пойдут в школу, в которой будут учиться не год или два, а до самого конца, до одиннадцатого класса, — это фантастика просто какая-то. Здесь будет его дом. Никто его отсюда никуда не выдернет, никуда не придется ехать, дрожа ночью, — где-нибудь на станции, — от недосыпа и холода. Он счастлив. Дедушка Четвертый совсем плох, ни черта уже не соображает, ну да и какая разница, ему наливают стаканчик вина и садят во главе стола, и он улыбается оттуда бессмысленно. Выпивать соображает. В молдавской семье круговорот праздников. В углу дома бочка с розовой водой, а за ней бочка с белым вином, к полуночи уже можно смело подходить и цедить вино в стакан, взрослым все равно. Молдаване танцуют хору, становятся в большой круг и пляшут, взявшись за руки, Мама Вторая, раскрасневшись от счастья — все еще молодая, все еще красивая, наконец-то среди своих, — танцует, и говорит мальчикам, вот видите, сыновья, как умеют отдыхать молдаване. Красиво, культурно! Чистый восторг.
Папа Второй стреляет. Солдаты разбегаются, кто куда, республики независимые, и что теперь с этим делать, непонятно, все хотят уехать на Родину. Много солдат-кавказцев. Азербайджанцы с армянами живут дружно, учатся воевать, чтобы ссориться уже дома, а здесь нам что делить, Папа Второй доволен. Получает письмо. Многоуважаемый… в связи с образованием национальной армии… необходимостью в кадрах… многоопытный офицер… служба Родине… Папа Второй молчит. Одиночество и молчание завораживают его, он может молчать месяцами, отдавая лишь распоряжения и команды, он смотрит на молоко, пролитое не небо — так, кажется, обозвал Северное сияние младший сын, — он прыгает в снег, хорошенько распарившись в бане. Гарнизон умирает. Почти все офицеры отослали свои семьи домой, многие готовятся переезжать, остаются одиночки и майор Петров. Папа Второй гуляет в сопках, подолгу стоит возле карликовых берез, глядит, прищурившись, на границу с Норвегией, где-то там по соседству городок Лиихаммери, где проводились Олимпийские игры. Жарит себе картошку. Читает журнал «Советский воин», на последней странице всегда несколько приемов самбо с иллюстрациями, Папа Второй интересуется, потом отрабатывает в зале. Север молчит. Папа Второй молчит. Солдат в части больше нет, гарнизон расформировывают, у страны нет на него денег, так что подполковник Папа Второй, — именно в тот день он подумал, что, в сущности, уже может не считать себя молодым человеком, — глядит на грузовую колонну, спускающуюся с сопки. Гражданские уезжают. Осталось полсотни офицеров, все демонтируется, вывозится, — тех, кто не пожелал уехать на одну из внезапно образовавшихся пятнадцати исторических родин, переводят в Печенгу. Гарнизон молчит. Майор Петров узнает, что его никуда не переводят, никуда не назначают, и что он может оставаться в квартире в пятиэтажке столько, сколько душе его будет угодно. Пьяница воет всю ночь. Папа Второй этой же ночью сидит у окна — в подъезде остались всего шесть человек, — и глядит за дома в сопки. Видит зайца. Огромный, серый, он прыгает нагло по соседству с людским жильем. Уже бывшим. Папа Второй думает, что надо бы зайти к майору Петрову и утешить мужика, выпить с ним, что ли. С алкашом? Надо что-то другое придумать. Но Папа Второй так и не придумал. Включил телевизор, сел посмотреть, проснулся от того, что экран шипит и серый. Значит, утро. 1992 год, в Молдавии на Днестре стреляют, и Папа Второй мысленно поздравляет себя с тем, что оставил письмо из Кишинева без внимания: что угодно, только не гражданская война. Мальчики на Днестре встали грудью на пути молдавского фашизма, пишет ему сестра. Чертовы коммуняки окопались в Тирасполе и строят козни молдаванам, пишет ему жена. Бодриться, выше, крепче, быстрее, веселее, пишет ему Дедушка Третий. Еды уже много. Но это мясо и хлеб, ну, еще сгущенка, овощей мало, так что Папа Второй от дрянного питания покрывается фурункулами, да еще и этот мороз, от которого кожа трескается. Кровь за ушами. Папа Второй уходит с последней колонной из Луостари, десять машин оставляют за собой пустой плац, пустые пятиэтажки, и майора Петрова в одной из них. В Печенгу не захотел. Бедный пьянчужка, думает отяжелевший Папа Второй, что ему делать в Печенге, он же будет там бездомным, а бродяге на Севере… Тут хоть какие-то шансы. Перед отъездом зашли попрощаться, хотя майор и не захотел ни с кем говорить, просто сидел себе в квартире, глядел в окно. Прощай, майор. Каждый оставил Петрову что-то из продуктов, спирта целый ящик, а Папа Второй положил на пол в прихожей пистолет и двенадцать полных обойм, в чем не было никакой необходимости, потому что у майора Петрова было ружье, а пистолетом на Севере много не настреляешь, сказал кто-то из сослуживцев. Но Папа Второй другое имел в виду.
Гарнизон продержался всего год, — это все-таки Север, — а потом с ним произошло то, что с планетой Земля в фильме «Тысячелетие без людей», который Малыш видел по каналу «Дискавери». Как будто мы вымерли. В ускоренной съемке трава пробилась сквозь асфальт, разрушились балки и перегородки, стены кусками обвалились на дороги, на крышах поселились летучие мыши и кошки. Книги сгнили. Стекла обратились в пыль, плотины взорвались, обдав небо фонтаном грязной из-за человека воды, животные вновь стали хозяева Земли. Квартиры вымерзли. Все прошло. Малыш ночами просыпался из-за того, что топили в Кишиневе слишком жарко, это потом прошло, но в 1992 году батареи были еще по-советские горячими. Гарнизон Луостари пережил две метели, а третья накрыла его так, что не выдержали многие стекла, от холода скукожились внутри квартир двери и полопались гвозди, тепло было в одной квартире. Майор Петров жег печь. Кошки, которых он прикармливал, обосновались в квартирах, но размножиться в больших количествах им помешали мороз и песцы, пришедшие в гарнизон. Белые собачки. Из одного окна валил дым. Иногда майор Петров выходил на улицу, шел к плацу, и стоял там, моргая, представляя себя последним человеком планеты Земля после войны. Ядерная зима. Моргал, тер глаза, шел смотреть, что кто оставил, рылся к чужих столах, просматривал ненужные бумаги. Пялился на фотографии. На одной смотрели вверх два симпатичных мальчишки в майках под американские, рядом с крепким офицером и красивой черноволосой женщиной. Кажется, соседи. Малыш в это время хохотал от души, бросаясь снежками в троллейбус номер 4, ехавший по улице Роз от его школы. Майор Петров повертел снимок, и бросил на снег, ночью занесло, вморозило, к следующей весне от заледеневшей, а потом раскисшей, бумаги ничего не осталось. Еда заканчивалась. Майор Петров порылся в соседской квартире, нашел какую-то фанерную коробку, кажется, в таких посылки шлют, подумал он, и верно, на дне был почтовый штемпель. Внутри горсти леденцов. Дырявый свитер. Кишинев, индекс 2005, почтовый адрес… Майор Метров выходил на охоту, но из-за дрожи в руках стрелял не очень метко. Поймал кошку. Сварил, съел, и на несколько мгновений сознание — не спившегося еще человека — вернулось к ними, майор подумал, что я делаю, что со мной происходит. Прочь, в Печенгу. Перестать пить, найти телефон, позвонить куда-то в Россию, где бывшая жена, найти работу, майор Петров точно решается, всю ночь готовится к пешему переходу до Заполярного — двадцать километров полярной ночью да при морозе это не шутка, — разговаривает сам с собой, смеется, шутит, плачет. Утром стреляется.
Папа Второй в Печенге становится офицером береговой артиллерии, и с профессиональным интересом глядит на мрачные воды Ледовитого океана. Интересуется Молдавией. Быстрая война там заканчивается, и Папа Второй отмечает в записях все промахи и ошибки, допущенные артиллерией с обеих сторон, хотя какая там артиллерия, смех один. Боги войны. Дедушка Третий пишет ему письма, призывает бодриться и все такое, Папа Второй по сдержанному тону в том, что касается жены и детей, понимает — отношения не налаживаются. Черт с ними. Папа Второй бегает по утрам с отрядами морпехов, которые форсу ради выходят на утренние занятия в майках с черными — а не синими, как у десантников, — полосками. Качается в зале. Печенга в сравнении с Луостари просто центр мира, так что Папа Второй и в библиотеку записывается. Главное, дослужить. Всего год остался, думает Папа Второй, и к нему в гости приезжает Мама Вторая, супруги смущены, так долго друг друга не видели. Стирает, готовит. На съемной квартиры Папы Второго порядок, конечно, но без женщины все равно не то. Как там мальчишки? Малыш с братом собирают черешню в садах за районом Гренобля — французский побратим нашего Кишинева — потому что в Молдавии произошла очередная денежная реформа. И вместо старых купонов теперь новые. Каждое десятое ведро себе. Подрабатывают на дядю-кооператора, — работы все больше, оплата все меньше, — мечтают купить компьютер местного завода «Синтез». Успевают за месяц до закрытия, после которого завод делят, пилят и открывают в пустых помещениях огромные рынки. Стиральный порошок и тампоны — в бутике номер двести пятнадцать. С ума сходит вся Молдавия, все торгуют, продают, и весь Кишинев можно найти на толчке, вещевом рынке. Мама Вторая продает куртки-«аляски». За день уходит по двенадцать штук, заработки прекрасные, у всех, но не у нее — брат-кооператор обкрадывает, с негодованием видит Малыш. Мы же все одна семья. Любчики. Малыш, заслышав любые разговоры о семье и братстве, прикрывает рукой правый карман. Война закончилась очень быстро, так что он не успевает сбежать на фронт с другом, о чем благоразумно не рассказывает Дедушке Третьему. Того бы сразу удар хватил. Тетка переезжает в Москву, ей здесь делать нечего, Бабушка Третья не желает разменивать квартиру, а вместе жить дальше просто невозможно. Да и молдаване эти со своим самосознанием сраным… Дедушка Третий получает первый нокаут от Паркинсона. Папа, плачет дочь. Милый, хлопочет Бабушка Третья. Сверху планирует американский истребитель. Стрекочет пулемет. Янки скалится. Улыбаются подсолнухи. Стучит в окно Солнце. Вот и конец мне настал, силится сказать Дедушка Третий, но лишь приподымается на локте. Примчались внуки. Даже невестка пришла, честь оказала. Стоят в углу комнаты, смотрят настороженно. Мммм, мычит Дедушка Третий. Подходит младший, самый несносный, характер вконец испортился, это, видимо, гормональное. М-м-м-м, мычит Дедушка Третий и все три женщины в истерике, потому что не получается понять, что он имеет в виду, — да что же ты хочешь сказать, папа?! Заткнитесь все, спокойно говорит Малыш, усвоивший от отца и отца отца, что паника лечится грубостью. От неожиданности заткнулись. Мммм, говорит Дедушка Третий, и Малыш, наклонившись над ним, внимательно глядит в лицо деда своими глубокими карими глазами. Медленно кивает. Идет к окну, отставляет от него вазу с цветами, и распахивает, спрашивает, обернувшись — ну что, так лучше? Дедушка Третий довольный, молча откидывается. Теперь можно поспать.
Папа Второй думает, что старик еще крепкий, хотя, — как жена рассказывает, — удар был сильным. Пора в Кишинев. Надо быть рядом, когда все случится, так что Папа Второй начинает собирать документы, тем более, что приглашение из Молдавии все еще в силе. Там нужна армия. Срок службы подходит к концу, и Папа Второй уезжает из Печенги. Он больше не российский офицер, прощай, армия. Устраивает прощальный вечер, два дня потом отдыхает, плавает в бассейне у знакомого тренера Дунаева. Избавляется от ненужного. Меняет два охотничьих ружья и бинокль на вагон досок, из которых собирается сколотить в Кишиневе домик на даче, бреется, надевает парадную форму. Прощается с Севером. Идет по улице с чемоданом, к железнодорожной станции, в видит там состав, у которого курят сослуживцы, рядом несколько грузовиков, видны вдалеке еще машины, идет погрузка, много солдат, привет, морпехи, приветствует Папа Второй знакомых. Снежинка падает на нос. Куда, ребята? В Чечню, говорит кто-то, Чечню замирять, а где это — хрен ее знает, весело и недоуменно добавит кто-то из бравых морпехов. 1994 год.
Малыш растет стремительно. Как на дрожжах, — мысленно извиняет он себя за банальность, — но это и впрямь похоже на дрожжи. Малыш плавает два раза в день, и видит, как на соседней дорожке делает поворот сам серебряный призер Барселоны, Башкатов. Малыш ныряет ко дну. Малыш отдыхает, когда над открытым бассейном «Юность» туман, и тренер не видит, что происходит на том конце пятидесятиметровой чаши, выложенной плиткой. Малыш качается в зале. Малыш влюбляется в одноклассницу. Малыш приглашает девочек на свидания к памятнику Лазо, Малыш ворует цветы с клумб у ресторанов «Русь» и «Кишинеу», и дарит розы без оберточной бумаги, сгорая со стыда, но денег на целлофан попросту нет. Малыш торгует. Малыш продает носки и колготки, Малыш собирает заполярный еще стол с матерной бранью, делает сидр, и ночью бутылка, в крышке которой Малыш не просверлил дырку, взрывается. Квартира пахнет яблонями. Малыш растет. Малыш получает первую оценку в Кишиневе, это десять баллов — пятибалльную систему отменили и время на час сдвинули, вот, глядите, у нас здесь вовсе не Россия, — по биологии, потому что изучил назубок строение ракообразных. Учительница хвалит. Малыш клепает кнопки в цеху у дяди, Малыш смотрит программу про фермерство с ведущей Максимовой и мечтает заработать миллион, выращивая огромные желтые и красные перцы, помидоры, ярко-зеленую фасоль. Малыш дерется с одноклассником полтора часа, и по итогам схватки скорее проигрывает, зато потом в дело вступает брат и теперь и здесь все узнают — кто дерется с Малышом… Малыш слушает музыку, он открывает для себя «Битлз», и песня «Один билет уехать» становится его откровением, особенно соло на бас-гитаре, слушая которое, Малыш чувствует себя привязанным к огромной струне, на которой висит мир, и страну эта колеблется, и это — струна бас-гитары Джорджа. Малыш читает авторизированную биографию «Битлз». Малыш целуется с троюродной сестрой. Малыш бреется в четырнадцать лет. Малыш мечтает о новой войне, на которой бы он совершил подвиги. Малыш дерзит учителям, Малыш пробует написать стихотворение, и у него получается так плохо, что он больше никогда не пишет стихов, Малыш отправляется на свой четырнадцатый день рождения в магазин мороженного «Пингвин» сам, — друзьями обзавестись еще не успел, а брат уехал к родственникам в деревню на пару деньков, — Малыш записывается на рукопашный бой, Малыш ходит на бокс, учится не падать, Малыш достает учителей, Малыш начинает учиться все хуже, хотя все признают, что он толковый парень. Малыш становится серебряным призером чемпионата Молдавии. Малыш не получает карманных денег. Малыш впервые затягивается сигаретой — это «Кемел», — и глупо смеется, это эйфория, ну, или если по-простому, приход — и трет пальцы листом ореха, перед тем, как зайти домой. Малыш трудится. Он устраивается в ночную доставку, и посещает занятия очень редко. На хер школу, можно зарабатывать кучу денег ночной доставкой сигарет, выпивки и еды! Малыш получает первую зарплату. Малыш обставляет дядю-кооператора, обставившего его с братом на зарплату, и тот признает в Малыше своего. Спасибо, до свидания, дядя. Мама Вторая выживает и торгует на рынке. Брат учится. Малыш попадает в гуманитарный класс, потому что спортивный расформировали — бассейн «Юность» закрывается навсегда — и пишет настолько дерзкие сочинения по литературе, что учительница вызывает в школу родителей. А их нет. Отец в России, а мать… Моя мать давно умерла, грустно говорит Малыш. Все прыскают. Малыша разрывает, он не знает, что с ним происходит, но с ним что-то происходит, это явно. Малыш идет по кривой дорожке. Малыш вырывает у женщин сумочки на проспекте Мира, и бежит с хохотом за дружками, которые вырвали у кого-то кошелек из рук. Вечная забота деньги. Малыш участвует в гоп-стопе у дороги от вокзала к Долине Роз, гоп-стоп это грабеж: Малыш стремительно нападает на прохожего, накидывает тому на голову куртку, и пока жертва бьется, подростки срывают с него часы, цепочку, кольцо, кошелек. Все как в армии. Левая рука, шея, карман, правая рука. Малыш знает назубок. Одноклассники тоже хорошо устраиваются. Кто-то кидалой при обменном пункте, кто-то в бригаду попал. Все спортсмены, все ребята крепкие. Малыш не чувствует себя своим и среди них. Малыш отходит от криминала, в который не успевает вступить толком. Малыш страшно влюбляется. В Малыша страстно влюбляются. Малыш переживает несчастную любовь. Малыш счастлив в любви. Малыш разочаровывается в жизни. Малыш с опаской встречает отца, который приехал с Севера, это чужой человек, с претензиями на то, чтобы его воспитывать. Папа Второй воспитывает. Малыш подчиняется силе. Потерпеть осталось всего ничего, отец получает назначение в город на границе, и отправляется туда, это маленький провинциальный город Комрат. Ну, езжайте если не в Заполярный, так хоть в Комрат, злобствует Бабушка Третья. Дети противятся. Еще одна дыра?! Да сколько же можно?! Папа Второй настаивает. Малыша исключают из кишиневской школы, другой, третьей. Малыш идет с компанией таких же разгильдяев, как и он сам в ресторан «Русь» и видит, как какой-то жлоб в кожаной куртке ругается с симпатичной, чересчур накрашенной — сразу видно, еще учится, — кобылой лет шестнадцати, а потом трахает ее в машине у входа в ресторан. Ребята ждут. Когда девка выскальзывает из тачки, подростки налетают на мужика, и срывают с него куртку. Лоскутная, но кожа. В пятнадцать лет заиметь такую куртку, все равно, что в 39-м — Железный крест. Малыш будет носить ее лет пять. Ни в одну кишиневскую школу не принимают. У Малыша нет выбора. Малыш едет в Комрат, Малыш доучивается, и оказывается, что ему снова пора в Кишинев. Малыш поступает в университет. Смотрит на девушек в коротких платьях у центрального корпуса, заходит, видит объявление на стене, и зачем-то вместо иняза сдает документы на журфак. Малыш поступает. Малыш сидит в Кишиневе на террасе у Национально Дворца — самый центр Кишинева, — невероятно взрослый, страшно битый жизнью, окончательно повзрослевший. Шестнадцатилетний мудрец. Все могло быть и хуже, думает он, в России мои сверстники гибнут в Чечне. Пожимает плечами. С шиком тратит десять леев, которые получил от родителей на неделю. Кофе и кокосовая водка. Хватает напиться в первый раз, так что Малыш возвращается без денег в общежитие, где он пока на этаже один, — осень еще не началась, до нее два дня — и валится на свою кровать, даже не разувшись, чтобы уснуть тяжело и без снов. Напротив общежития ивовая аллея. Ночами прохладно, ведь уже поздний август, так что Малыш во сне обнимает крепко сам себя, чтобы согреться. Сердце стучит. Ветви покачиваются, тени так красиво сплетаются в окне. Малыш не видит. Малыш в отключке.
Красотка живет в раю. Красотка живет в огромном замке, населенном послушными и ласковыми чудовищами, очарованными принцами, добродушными драконами и смешными призраками. В большой и счастливой стране, где на стадионе у школы люди занимаются физкультурой в одноцветных костюмах производства ГДР. Где проводятся семейные спартакиады. Где есть ясли и заводы, и в столовых при этих заводах дают невероятно вкусные запеканки с вареньем. Красотке три года. Замок напоминает пчелиную соту, она видела такие, когда ездила с Папой Первым в его командировку по республике — остро стоял вопрос развития пчеловодства в МССР, как и многое другое, заболтанный бюрократами, — вспоминает Красотка непонятные фразы Папы Первого, уже тогда говорившего газетными фразами. Много маленьких дырочек, форма прямоугольника. Многоэтажный жилой дом. Иногда лифт ломается. Подняться пешком с первого этажа на девятый, — где семья перспективного журналиста получила пятикомнатную квартиру, — для Красотки целое путешествие. На первом этаже живет Кот-Мурлыка, которого никогда не видно, потому что это Незаметный кот; на втором сторожит лестницу огромная собачка Пси, тоже Незаметная. Третий этаж пропустим. Ничего особенного, обычный подъезд кишиневской многоэтажки, свежевыкрашенные внизу, и оштукатуренные вверху стены, зато на четвертом уже нарисована грозная рожица, и пройти мимо нее — испытание. Взгляд обжигает Красотке спину. Спина маленькая, лопаточки торчат, Папа Первый всегда с жалостью и недоумением глядит на спинку дочери, ему так жаль ее, хрупкую, нездешнюю, в этом огромном мире сталелитейных производств, тонн урожая и высот коммунизма, к которым надо стремиться. Красотка — дюймовочка. Невысокого росточка, красивая с детства, — ее не портит даже прическа под горшок, которую экономный Папа Первый сам время от времени делает дочери, — девочка перебирается со ступени на ступень, высунув кончик языка изо рта. Белые трусики. Больше ничего, времена вегетарианские, Красотка родилась в 1976 году, и в то время родители в Кишиневе еще могли выпустить ребенка на улицу без присмотра, пусть даже трех лет и почти голую. Красотка восходит. На пятом этаже живет смешная назойливая еврейка, тетя Сара, она то и дело зовет Маму первую попробовать ее варенье из помидоров, — гадость невероятная, — и хитрая Мама посылает Красотку. Тетя Сара бесцеремонна. Может зайти в квартиру без стука — конечно, если кто-то дома, то дверь не закрыта, а зачем, — и долго трепаться с мамой, глядя из окна кухни на крышу школы. Школа окутана тайной. Это место, куда Красотка попадет, когда вырастет, а пока это всего лишь три здания, соединенных между собой узкими переходами — Красотка отлично знает, как выглядит школа, она как раз под их домом, — и притулившееся боком к стадиону. Буду отличницей. Красотка проходит пятый этаж на цыпочках, чтобы тетя Сара, заслышав пыхтение, не вышла, и не потащила в дом, пробовать что-то ужасно невкусное. В руках лопатки. Красотка любит шестой этаж, потому что, — как ей кажется, — там живет принц, который приедет за ней на велосипеде и укатит туда, где лебеди и озера, дальнейшее для Красотки не имеет значения, она и не знает, что бывает дальше. Мама Первая вкалывает. Работает в ресторане в две смены, — ничего не выносит, вызывая удивление коллег, но увольнять ее, из-за мужа, боятся, — так что Красотка идет в ясельную группу. С детства общительна. Почему шестой, Красотка сама не знает, но ей приятно думать, что где-то под ней живет прекрасный принц, поселился там тайком, и ждет случая, чтобы представиться и полюбить навсегда. Красотка проходит седьмой этаж, там живет грустный старый дядя, которого Папа зовет пьяницей, а что это значит, пока не спрашивайте, а на восьмом живут пусть и городские, но все-таки цыгане. Так что Красотка проносится, сломя голову. Вот и девятый. Здесь дом, так что Красотка стоит несколько минут у лестницы, ведущей на чердак, переводит дух. Люк наверх открыт. Как интересно, думает Красотка, карабкается наверх, и с изумлением видит, что лифт не кончается на их, — самом верхнем, — этаже. Он еще и на крыше. Выглядывает наружу. Крыша совсем не страшная, на ней много антенн, проводов, и справа и слева — по большой будке, как та, из которой выглядывает Красотка, и по краешку крыши гуляют важные голуби. Красотке нравится. Даже если не подходить к краю, все равно виден их район, но кто сказал, что подходить нельзя, — так что Красотка подходит. Сжимает лопаточку. Голуби лопочут с прекрасной девочкой, и из-за антенны выглядывает принц с белым велосипедом, в небесах кружится фата невесты, осыпая Красотку благими пожеланиями и обещаниями счастья. Мир полон волшебства. Вон в том зеленом доме, всего пять этажей, с презрением думает Красотка, живет злая волшебница, которая притворяется старухой — продавщицей из молочного магазина, за теми двумя — дорога в аэропорт, откуда взлетают в небо чудесные игрушечные самолетики, а в самом низу… А что внизу? Красотка подходит поближе к краю крыши, и голуби вспархивают, их так много, они так громко хлопают крыльями, так быстро кружатся над головой Красотки. Девочка поднимает голову. Не кружитесь так быстро, — говорит она голубям, — а то у меня закружилась голова, и стоит на самом краю крыши. Сосредотачивает взгляд. Глядит себе под ноги, и пугается, потому что низ, оказывается, очень далеко и глядеть на него страшно. Мама, говорит девочка. Ой, мамочки. Если Красотка не упадет, то она вырастет. И если Красотка вырастет, она всегда будет удивляться тому, как причитает ее соседка по квартире, — снимут на паях, — когда к той приходит ее парень. Ой, мамочки. Невероятно, будет думать Красотка, если не упадет, — я понимаю, звать мать можно во время родов, думает не рожавшая еще Красотка, — но чтобы во время Этого… Ой, мамочки. Скрип кровати, шорох покрывала, тихий, искушающий смех. Когда двое занимаются любовью в присутствии третьего, это всегда приглашение, даже если вы не получаете его почтой или посыльным на гербовой бумаге с инициалами устроителей бала. Смех усилится. Красотка вздохнет. Сожмет ноги покрепче и повернется на бок. Заснет, потому что завтра рано вставать, учиться и работать. Если, конечно, она не упадет в 1980 году, стоя на краю крыши девятиэтажного дома, окруженная голубями, которые кружатся вокруг ее головы — словно святая — прижав к груди пластмассовую лопатку. Ой, мамочки. Если взглянуть вдаль, то уже не так страшно, но все равно страшно, ведь ты уже Знаешь, что внизу. Так Красотка знакомится с первородным грехом. Все мы с ним знакомимся тем или иным образом, в той или иной форме. Если попробовал, все уже никогда не будет, как прежде. Так что нет никакого смысла глядеть вдаль и думать, что внизу ничего страшного нет. Девочка зовет маму. Но откуда же ей здесь, на крыше, быть? Здесь иногда загорает сосед из второго подъезда, который спасается на крыше от троих детей и несчастной, замученной ими всеми — детьми и мужем — жены. Но сегодня он на дежурстве, так что девочку никто, кроме голубей, не слышит. Ноги Красотки немеют и девочка закрывает глаза, и не может удержать равновесия. Она падает.
Красотка лежит немного, потом поднимается на локтях, и оглядывается. Ничего не изменилось. Красотка лежит головой от крыши, ногами к краю, ей повезло, она упала назад, не вперед. Лопатка в руках. Красотка осторожно садится, и, стараясь не глядеть вперед, потихонечку отползает. Голуби садятся. Это что-то неопасное, понимают они, и Красотка и правда будет не опасной для них еще несколько лет, пока не приведет за собой на крышу банду индейцев, и те начнут охотиться на птиц из самодельных луков. Красотка озорничает. Папа Первый привозит ей из московской командировки настоящий грузовик, и девочка возится с машиной, плюнув на игрушки, где же ее женский, материнский инстинкт, переживает отец. Родите сестричку. Они стараются, но Мама Первая, чей организм перенес страшный голод, не справляется с еще одним зачатием, вернее, с ним-то еще получается, а вот выносить нет. Два выкидыша. Мама Первая и Папа Первый постепенно привыкают к тому, что у них будет всего один ребенок, но Красотке очень нужен брат или сестра. Воображает сестру. Она старше Красотки на два года, она очень похожа, но чуть менее красива — чтобы мальчики заглядывались на нее, а не на сестру, придумывает предусмотрительная Красотка, — и у нее гораздо более отвязный характер. Девчонка-сорванец. Красотка диву дается, что вытворяет эта сестра — носится с мальчишками по краям крыш, лазит по подвалам, дерется, разбивает коленки, в общем, в их паре заводила она. Папа Второй нервничает. Не стоит спускать все с рук ребенку, который в оправдание своих шалостей придумывает каких-то персонажей, возмущается он и Красотку показывают врачам. Очень возбужденная девочка. Красотке прописывают санаторий и электросон — это когда ты лежишь на кровати и ее слегка покачивает, и на голове у тебя какие-то проводки, и ты засыпаешь. Красотка сопит. А сейчас состоится сеанс гипноза, говорит врач детям, собранных в профилакторий, и те смеются, шутят, галдят. Уж меня-то не заколдуют, шепчет Красотка сестре, — которая всегда с ней, — и именно ее гипнотизер просит выйти к нему. Две секунды. Красотка падает, крепко заснув, и подхваченная на руки врачом. Вот тебе и гипноз. Красотка мажет зубной пастой мальчиков из соседней палаты — если бы не кинофильм «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен», дети в пионерских лагерях никогда бы не догадались до этого, — купается в Днестре, ест витаминные салаты. Папа Второй озабочен питанием. Главное, чтобы в девочку поступало как можно больше витаминов, бормочет он, — Мама Первая думает, что Красотка в этом случае вроде автомобиля, а витамины бензин, все механизированно, строго, — и покупает чересчур много фруктов. Мелко режет. Морковь, черешня, черника, смородина, клубника, дефицитные бананы, апельсины, груши, яблоки. Капельку меда. Красотку тошнит от мисок с фруктовыми салатами, но попробуй она только отказаться, Папа Первый приходит в неистовство. Отец голодал! Мать голодала! Красотке ужасно стыдно, так что она давится безвкусным — все смешалось, — салатом, стараясь не вырвать. Ужасно нервничает. Поэтому в профилакторий на Днестре поправлять нервы ее будут отправлять до двенадцати лет, а потом как-то все само образуется, а заведение будет работать, пока в главный корпус не попадет артиллерийский снаряд, это будет 1992 год, вот освободимся от русских и построим себе кучу новых санаториев, не очень-то и жалко. Красотка хорошо учится. Ее фотографируют для снимка на доске почета школы, куда она, конечно же, попала. Ребенок-картинка, банты, руки сложены перед собой — так принято сидеть, а если хочешь задать вопрос, нужно поднять правую руку, не отрывая локтя от парты, — смотрит весело, добро. Наше чудо. Мама Вторая носится с дочкой, старается ее баловать, но Папа Первый предпочитает строгость, ребенок должен быть готов ко всему. Отталкивает дочь, чтобы та, — случись что, — сумела выкарабкаться сама. Задача выжить. Красотка сначала обижалась на неласкового папу, потом перестала, придумала себе волшебного отца в синем колпаке и с черным плащом, а на том, само собой, желтые звезды. Наряд гнома Знайкина из «Астрономии для малышей». Красотка любит звезды. Она выпрашивает у Мамы Первой подзорную трубу с пятидесятикратным увеличением, и изучает ландшафт Луны. Рисует карту. Красотке кажется, что именно она, — первоклассница кишиневской школы номер 12, - станет первым человеком на Земле, который догадался составить карту Луны. Работает месяц. Приносит Папе Первому карту, которую рисовала тщательно, разными красками, с значками, которые сама придумывала. Ага, дочка. Папа Первый, — не отводя взгляда от телевизора, — треплет Красотку по голове, и сообщает ей, что карта Луны дело не новое, их существует множество. Красотка прячет бумагу в папочку. Папочка растолстеет. Новое доказательство теоремы Пифагора — ты умница, но наверное, прочитала его в старом учебнике геометрии, там было именно такое доказательство, — записочки, рисунки, фантастический рассказ про девочку Алису на звездолете. Сестра всегда рядом. Ей можно рассказать, кто из мальчиков нравится, и, хоть она и хихикает, но все понимает правильно, переживает. Красотка ищет друга. Знакомится на улице с невероятно огромным — с теленка, качает головой Мама Первая, — псом, которому явно нужен дом. Затаскивает в подъезд. Псина переживает, боится лифта, так что Красотка тащит его за лапы и поднимает на девятый этаж, мимо пещер и гротов, принцев и драконов, которые заметно скукожились с тех пор, как она стала взрослой. Семь лет! Пес живет в доме несколько дней, потом Мама Первая все-таки выгоняет собаку, и Красотка плачет несколько дней вечерами, а сестра утешает. Обнимает за плечи. Прямо Карлсон какой-то, не выдерживает Папа Первый и смеется, и Красотка кричит ему — не Карлсон, не Карлсон! Сестра!!! Мама Первая просит поласковее. Но оба они люди старой закалки, главное, чтобы ребенок был сыт, обут и одет, и в школу ходил, а ласковости — не до них. Красотка жаждет нежности. Всю жизнь хочет, чтобы ее полюбили и приласкали, и сделает ради этого все на свете. Все отдам за любовь. Глупая песенка глупого перестроечного певца перевернет жизнь Красотки, она будет ходить и напевать про себя «все отдам за любовь». Купит пластинки. Попробует краситься, Мама Первая ругать не станет, просто объяснит, что краситься женщине стоит, когда она становится взрослой, а не в десять лет. Красотка купит бесцветную помаду. За макияж в школе выгоняют. Мальчиков заставляют скатывать рукава рубашек обратно, чтобы не были похожи на фашистов с короткими автоматами, фашисты в кино всегда с засученными рукавами. Красотка любит кино. Просит пятьдесят копеек у отца, и никогда не встречает отказа — кино их общая страсть, — ходит на все показы, куда пускают детей до двенадцати. Обожает комедии. Классу ко второму Папа Первый, помешанный на еде и запасах, покупает огород, так что Красотке приходится ходить в кино не каждые выходные, а через. Едем трудиться. Дефицит уже начинается, но еще не распространен широко, так что соседи подсмеиваются над Папой Первым. Тот напряжен. Чертовы идиоты, бросает он упрек бездельникам, которые сидят на лавочке до ночи — даже лампочку над ней повесили, провод протянули, доминошники клятые, — и идет к автобусной остановке с тяпкой на плече, и корзиной в руке. Красотка плетется сзади. Веселее, подбадривает ее Папа Первый, но Красотке совсем не весело идти на картошку — той всегда выкапываешь столько же, сколько посадил, — поливать огурцы. Папа Первый неистовствует. Я тебя приучу к труду, кричит он дочери, и заставляет поливать огурцы, даже когда начинается дождь. Красотка ненавидит землю. Сестра тоже терпеть не может огород, хотя Красотка уже взрослая и понимает, что никакой сестры нет, а есть мечта о том, чтобы быть такой как она, эта несуществующая девчонка. Сестра смелая. Носит каблуки, красится, ходит на дискотеки, целуется с мальчиками, пьет шампанское, и небрежно выкуривает сигарету, держа ее между указательным и средним пальцем. Красотка завидует. Маленькая, смешливая, уже, пожалуй, несчастная, — она любимица учителей и соучеников, никогда не унывает, симпатяга, глаза лучистые. Зеленые глаза. Красотка сидит у зеркала, накрасившись, и внимательно глядит себе в глаза, то поджимает, то собирает губы — не толстоваты ли, не тонковаты ли, — ужасно переживает из-за слегка торчащих ушей, боже, ну и нос у меня, говорит она сокрушенно. Грудь меньше чем следовало бы, а потом как-то сразу становится больше, чем следовало бы. Красивы ли мои губы? Кто поцелует их, записывает в толстой тетрадке Красотка, и это становится ее дневником, она ведет его несколько лет, пока не прочитает все, ужаснется и выкинет эти глупости. Заведет новый. Теперь-то писать станет взрослая умная женщина, а не глупышка — очаровашка, дочь строгих родителей, придумавшая себе сестру. Ведет пару лет. Уже став матерью читает, и, ужаснувшись, выбрасывает, — написаны черт знает какие глупости, и она покупает себе еще одну толстую тетрадку. Красотка любит крыши. Никогда никому не рассказывает, что произошло с ней как-то на краю крыши, и со временем ей уже кажется — это обманчивое детское воспоминание из тех, которых никогда не было. Ну, вроде автобусной аварии, которую якобы видел писатель Лоринков. Сейчас не разберешь. Красотка выбирается на крышу, держа за руку парня, Красотка торопливо расстегивается, приспускает джинсы и поворачивается. Девчонка из соседнего двора бережет себя для свадьбы. Поэтому она на крыше не расстегивается, а садится на корточки, и расстегивает парней. Красотка не такая. Если Красотка влюбится, то отдаст все, не кокетничая и не торгуясь. Красотка — прямая. Красотка ни разу не сделает это не по любви. Дома родители, гостиница это что-то из книг, в парках много народу. Крыша чудесное место. Красотка кокетливо поправляет прическу. Красотка покупает колготки. Красотка узнает, что есть такая штука, месячные. Красотка переживает из-за груди. Красотка ужасно хочет влюбиться. Красотка растет.
Всю жизнь писателем Лоринковым управляют не страсть и разум, как он самонадеянно полагает, и две планеты. Уран и Сатурн. Один из любимых писателей писателя Лоринкова, — практически переставшего писать, — Норман Мейлер, знал толк в астрологии и относился к ней серьезно. Какого дьявола ты скалишься? Несколько глав нескольких книг Мейлера посвящены звездам не как небесным телам, находящимся на расстоянии миллиардов километров от нас, а как фантомам, воздействующим на нашу судьбу. Повелители рока. Вот что такое звезды, — поэтому писателя Мейлера вовсе не удивило бы влияние Сатурна и Урана на писателя Лоринкова. Сатурн буйный. Уран вялый меланхолик. Рождение писателя Лоринкова 14 февраля 1979 года предопределяет его жизнь — вот так, просто, — он всю жизнь будет переходить из состояния бурления в состояние вялости и оцепенения. Один к девяти. Достаточно лишь появления Сатурна из-за Солнца, как Лоринков, преобразившись, творит чудеса — работает по двадцать часов кряду, шутит, смеется, пишет, успевает все на свете, сам по себе бразильский карнавал и молдавские похороны, он горы сворачивает. Выглядывает Уран. Лоринков, впав в оцепенение, едва находит силы, чтобы дотащиться до дивана в детской комнате, и свалиться под удивленным взглядом сына Матвея. Золотоволосый зеленоглазый мальчик. В мать, вяло думает Лоринков, и засыпает, чтобы проснуться часов через двадцать, выпить воды, сходить в ванную, и снова спать. Жена так и не привыкла. Черт побери, раздраженно повышает голос Лоринков, неужели за столько-то лет совместной жизни нельзя привыкнуть к тому, что мне иногда Ужасно хочется спать? Разбивает чашки. Кстати, как там твой роман, спрашивает жена, прихорашиваясь голышом перед зеркалом, после бурного примирения, которые особенно удаются после разбитых чашек. Роман? Писатель Лоринков с удивлением вспоминает, что вот уже больше двух лет вроде как пишет роман, ни одной строчки которого не появилось, и это значит, что Сатурн запаздывает. Лоринков очнулся. Встрепенувшись, возвращается к тексту, и отправляется в Национальную библиотеку, мостовая перед которой уже покрылась желтыми листьями, — это снова осень, теперь уже 2009 года. Библиотека пустует. Лоринков долго сидит в читальном зале, а потом выбирает наугад несколько книг из каталога. Мемуары молдавских политиков, Плутарх, Светоний, Платон… пожалуй, только Платон выбивается из этого ряда скучных, пустых рассказчиков, все как один спасающих безнадежно унылый текст перечислением сомнительных анекдотов своего времени. Светоний это вроде «Экспресс-газеты», с удивлением понимает Лоринков. Плутарх потянет на «Здоровый образ жизни», потому что, кроме анекдотов Светония, у него есть еще пару нравоучительных сентенций. Лоринков читает. Он не хочет работать, он не может писать книги, ему ничего не хочется. К счастью, у него есть деньги, это немаловажный момент. Матвей и Глафира. О них стоит подумать еще и потому, что в сентябре в Молдавии женщины, наконец-то, одеваются элегантно и со вкусом. Пляжные наряды в центре города — привилегия июля. Лоринков глядит на изящные юбки, невероятно утонченные кофты, ровный цвет лица, Лоринков глядит на глаза черные, голубые, зеленые, Лоринков чувствует себя сорокалетнимм Банкиром, Лоринков сам себе и банкир и Уоллес, интересно, как это, думает он, когда жену любишь, но не обернуться вслед незнакомой женщине не можешь? Кризис среднего возраста. Лоринков бы вполне утешился этим, не знай он, что кризис начинается у мужчин в шестнадцать, и заканчивается к восьмидесяти. Женщины. Это невыносимо. Надо работать, думает Лоринков, который лишь листает подшивки и читает газеты пятнадцатилетней давности, чем-то увлекла его недавняя и скудная история его убогой — Лоринков отдает себе в этом отчет — страны. Как твой роман? Лоринков не знает. Может, стоило бы вырезать старые газетные статьи и подклеивать их в белый альбомный лист, а между ними писать что-то фломастером. Это можно называть перфоманс. Ну, или «Книга Мануэля», чувствует Лоринков укор совести перед другим своим любимым писателем, Кортасаром. Дорогой, я — самая важная книга. Так пишет в прощальной записке блондинка, спавшая с двумя писателями — негром и белым. Лоринков смотрит кино. По произведению Маламуда, написано в титрах, еще один чудесный предлог ничего не писать, и Лоринков заказывает в библиотеке Маламуда, — есть только в журнале, ну, что же. Чудесно. Лоринков, как и всякий другой писатель, сталкивается с самой страшной проблемой всей этой братии, за исключением, может быть, Гомера. Все написано. И если Гари обижался на других авторов за то, что они придумали задолго до него свои замечательные псевдонимы, то Лоринкова, ставящий Ромену в укор это самолюбование — ох уж эти французы… — занимает другая беда. Что там псевдонимы. Все самые лучшие тексты выбраны, думает он. Как будто изначально, от сотворения мира, было написано несколько тысяч хороших книг, и всех их потом лишь раздают смертным. Он спокоен. Он свое получил. Несколько книг писателя Лоринкова прочно заняли свое место в русской, и, стало быть, мировой литературе, — это не только написано в журнале «Новое литературное обозрение», но это еще и твердо знает сам Лоринков. Прежде всего читатель, с благодарностью думает он о матери-библиотекаре. И дело не в нем. Я просто получил право написать эти книги, знает он, — книги, словно написанные задолго до меня. Снял с полки. Получил венок. И ему уже нет нужды писать книги, которые займут место. Свергнут. Превзойдут. Сейчас ему хочется написать всего лишь книгу, которая… Что? Момент жизни, на котором история не остановится и не начнется, и значит, он хочет написать саму жизнь. Но разве он Бог? Давно уже ни во что не верящий Лоринков глубоко вздыхает и подходит к огромному окну читального зала национальной библиотеки, и глядит на улицу. Каштаны падают.
Писатель Лоринков возвращается затемно. Дома пусто, и из-за того, что в коридоре нет коляски, и детский диван собран, квартира кажется больше, чем обычно. Их нет. В углу светится ноут-бук. Записка на холодильнике, Лоринков узнает, что жены с детьми не будет неделю — в Молдавии есть не только вилки, ложки и интернет, но и горящие путевки, скажет он с издевкой какой-то пафосной московской литературной даме, — внизу приписан постскриптум. «Твоя семья — твоя лучшая книга, дорогой». Да, дорогая. Лоринков, договорив с женой по мобильному телефону — как всегда в отдалении от него, у нее приподнятое настроение, бедная девочка, — садится у экрана, ждет пару минут, а потом выходит на балкон. Вороны кружатся. Садятся в темное пятно парка. Значит, уже ночь. По телевизору, как обычно, ничего интересного, серфинг по интернету все больше напоминает Лоринкову лазанье по помойке, а он не помойная крыса, а бывший писатель Лоринков, хоть это и чревато для него рефлексией, незнакомой помойной крысе. Есть не хочется. Ванну лучше принять под утро. Дома чисто. Так что Лоринков начинает писать. Больше просто нечего делать.
Молдаване большие мастера плясать и говорить о любви, но на самом же деле любить не умеют, ведь это чрезвычайно холодные и склонные к созерцательной меланхолии люди, — утверждает в одном из своих очерков, опубликованных в санкт-петербургском журнале «Прочтение» писатель Лоринков, и добавляет — они как сухой лед, дают много дыма, но никакого тепла. Красотка не согласна. Ей уже тринадцать. И вот она, например, умеет любить. Дайте только кого. Молдавскую ССР сотрясают националистические митинги, а Красотка, влюбленная в мальчика из параллельного класса, позволяет ему припереть себя к стенке в школьной раздевалке, и глядит в глаза, пока тот, не отрывая взгляда, шарит у нее под юбкой. Первый поцелуй. Малыш с хохотом забегает в девичью раздевалку бассейна «Юность», и хлещет полотенцем девчонок из группы, те визжат, разбегаются, остается только одна, — которая ему не очень-то и нравилась, — и Малыш с удивлением понимает, что их теперь в раздевалке только двое, она уже не смеется, так что он подходит, и их разделяет только ее грудь, мягкая и чересчур большая, что делает ее бесперспективной пловчихой и отчего она и не перейдет в следующий спортивный класс. Ну что же. Они стискивают ее грудь и она позволяет им приблизить лица. В раздевалку вкатывается, словно собачья свадьба, еще десять-пятнадцать подростков, и волшебный миг прерывается, что там, что там. Красотка уходит. Малыш бросается в воду. Эти эпизоды — знаки из будущего, Оно, впрочем, последует очень скоро. Все-таки все они еще слишком молоды для того, чтобы спать друг с другом, хотя это было поколение рано забравшееся в постель: пока наши родители, просравшие свою страну и самих себя, торговали куртками «Алясками» и плакали ночами, — говаривал Лоринков, — нам ничего не оставалось делать, кроме как успокаивать себя мыслями и разговорами о том, какие мы самостоятельные, ну и трахом. Ребенок, предоставленный сам себе, обязательно обратит внимание на свою физилогию. Мягко говоря. Время страшно ускорилось. Будущее наступает так стремительно, словно бы его и нет. Мать Красотки плачет ночами, в Кишиневе в 1988 году очень серьезный дефицит еды, совсем нет овощей, что приводит жителей аграрной, в общем-то, республики, в неистовство. Молдавия без овощей?! Глава ЦК ВЛКСМ МССР, Петр Лучинский, собирает в Дворце Дружбы Народов инструкторов комсомольских ячеек и дает им инструкции, как объяснять людям нехватку моркови и картошки. Дело в жадности. Многие жители МССР, — говорит холеный Лучинский, — купили слишком много картошки и моркови, чтобы сделать запасы на зиму, вот магазины временно и опустели; если же вы присмотритесь к балконам кишиневцев, то увидите там мешки, нет, горы картофеля и моркови. Инструктора смеются. За кого он нас принимает, за идиотов, что ли, переговариваются они в перерывах встречи, и сплевывают на пол курилок. Само собой. За кого же еще принимать их бывшему крестьянину Лучинскому, который сделал стремительную карьеру, благодаря уникальной способности произносить получасовые фразы без пауз. Бессмысленные фразы. Инструктора комсомола объясняют людям, что картофеля и моркови нет потому, что… Разъяренные толпы осаждают магазины и партячейки, все это накладывается еще и на национальное самосознание — которого в Бессарабии отродясь веку не было, а сейчас вдруг появилось, поговаривают, не без помощи КГБ, — и республика снова бурлит. Казалось, все наши беды позади. Нет, качает головой пустомеля Лучинский и уезжает в Узбекистан вторым секретарем ЦК, переждать трудные времена и вернуться уже после того, как Молдавия станет независимой. Неожиданно для всех. Неожиданно для себя самой. Красотка ходит в школу, и занимается гимнастикой, слушает пластинки певицы Сандра, и три дня носит черное, когда в газетах пишут, что француженка погибла в автокатастрофе. Оказалось, слухи. Ходит на концерты. Марафон «50 на 50», когда те приезжают в Кишинев, «Ласковый май», рок-группы. Меньше всего ей хочется думать о политике, но политика у нее дома: отец Красотки, Папа Первый, свихнулся на этом, и только о партиях, выборах, газетах и говорит. Он националист. Ходит на митинги, произносит там речи, вступил в «Народный фронт», о нем даже написала газета «Цара», и все с удивлением узнали, что вроде бы русский мальчишка Никита Бояшов, присланный в Молдавию по распределению, на самом деле сын кулаков из Бессарабии. Уцелевший в страшных жерновах и т. д. Все плачут. Мама Первая так рьяно в политику не подалась, но мужа одобряет, ты понятия не имеешь, дочка, ЧТО мы вынесли при русских, — мягко говорит она раздраженный дочери. Не имею и не хочу. У Красотки рыжие волосы, Красотка худощава, подтянута, она фотографируется в зоопарке с мамой и старшей сестрой, — которую никто, кроме нее, не видит, — и несмотря на то, что на карточке еще ребенок, это уже девушка, глаза ее спрашивают — ну, кто же, кто возьмет меня и полюбит, полюбите же меня, ну хоть кто-то. Взамен отдаст все. Родителям не до любви. Отец возглавляет националистическое шествие через мост, по районам Ботаника и Центр, несет в руках румынский флаг, совсем с ума сошел. Коллеги морщатся. Русские журналисты думают, что Бояшов рвет задницу, чтобы подмазаться к националистам, националисты думают- Бояшов хочет подмазаться к националистам. Бояшов неистовствует. На самом деле он сошел с ума сорок лет назад, вылетев из теплушки в снежный сугроб, — думает он, почесывая шрам на щеке, — и с тех пор все никак не придет в себя. Сорок лет страха. Бояшов напоминает сам себе кусок угля, слежавшийся на глубине нескольких километров, и под огромным давлением превратившийся в алмаз. Твердый и холодный. Он все время вздрагивает по ночам, беспокоится Мама Вторая поначалу, а потом привыкнет, ко всему ведь привыкаешь. Особенно в семье. Бояшов боится сотрудников спецслужб, ему кажется, что его все время ищут, чтобы отомстить за письмо Сталину, и убить каким-нибудь экзотическим — как они умеют — способом. Уколоть зонтом. При Хрущеве не очень страшно, а вот при Брежневе, который, как известно, симпатизировал Усатому, страх стал невыносим, и Бояшову пришлось выпивать на ночь рюмку коньяка, чтобы уснуть. Я никто и меня зовут никак, говорит он себе. Никто и никак, убеждает он себя. Родовое село объезжает за километр. Страх изуродовал. Постепенно Никита Бояшов забывает свои настоящие имя и фамилию. Как раз к 1989 году. Когда самое время ее вспомнить. И Никита Бояшов, журналист газеты «Независимая Молдова», просыпается среди ночи, и, плача, говорит жене: я вспомнил, как меня зовут, я вспомнил свое имя, я не никто, у меня есть имя, у меня есть ИМЯ. Успокойся, просит жена. Дочка в ночнушке стоит на пороге комнаты, и Бояшов с жалостью глядит на ее детское, заспанное лицо. Меня зовут Аурел Грозаву, говорит он. Молдавия хохочет. На следующий день Никита Бояшов идет в паспортный стол, чтобы сменить имя и фамилию, и об этом случае пишет газета «Цара». На третьей полосе. На первой полосе «Цара» печатает «Десять заповедей румына», первая из которых гласит «Нельзя вступать в смешанные браки, потому что скрещивать породы пристало лишь животным, но не людям». Подсолнечное поле вновь засверкало. Солдаты бегут. Пятнадцать лет спустя автор «Десяти заповедей» Сергей Мокану станет советником президента Воронина, фыразит сожаление о максималистских высказываниях юности, все мы в молодости так категоричны, и я был грешен. Осуждал пьяниц. К «заповедям» у Мокану претензий нет. У Папы Первого тоже. Он теперь настоящий. Он теперь Аурел Грозаву. Публикует воспоминания о своей семье, ходит на митинги, носит шарфы и шляпу, — как принято среди молдавских писателей, — трясет кулаком с трибуны. Гранитного Ленина снесли. Ночью, как и Сталина, подняли кранами, бросили на грузовую машину, увезли на ВДНХ, поставили за деревьями. Памятник авторитаризму. Снесут его по решению члена авторитарной КП МССР Мирчи Снегура. Папа Второй ликует. Красотка с ужасом смотрит на невероятно изменившегося отца — в нем словно две пластинки, одна об отвратительных русских, другая о счастливом будущем в составе Румынии, — и начинает потихонечку протестовать. Памятник Штефану венчают. Детский поэт Леонида Лари дает интервью газете «Молодежь Молдовы», и утверждает, что под Лубянкой есть огромный колодец, откуда доносятся голоса, слышные и ей, а по утрам Космос шлет сигналы, как поступать в этот день. Никто не смеется. Страна смотрит Кашпировского, писатель Лоринков своими глазами видел людей, которые крутили головами по часовой стрелке, сидя у экрана, а трехлитровую банку с водой он «заряжал» сам. Интервьюер ехидничает. В «Молодежи Молдавии» — пока издание не прикрыли — всегда работали самые лучшие и самые ехидные журналисты, знает писатель Лоринков, работавший в юности в газете «Молодежь Молдавии». Пока жар не погас. А вы знаете, — спрашивает этот чересчур подкованный русский, которому лучше убираться в его Орел, или где они там пьют водку и трахают медведей, — что великий господарь Молдовы Штефан Великий был женат на русской. Леонида Лари негодует. Отправляется в архивы, и выясняется, что да, чертов Штефан Великий оскоромился, так что наследникам господаря — в самом широком смысле слова «наследники» — приходится исправлять эту ошибку. Памятник разводят. Священник Петр Бубуруза, — исключенный позже из рядов служителей Молдавской Митрополии за растрату, — официально разводит Штефана Великого и его русскую жену, после чего венчает с памятником детского поэта, сумасшедшую Леониду Лари. Присутствуют официальные лица. Ведется прямая трансляция. Слишком много свидетельств. Дрожащая Лари кладет обручальное кольцо на постамент памятника, и улыбается, среди гостей есть и Папа Первый. Аурел Грозаву, и Красотка со стыда сгорает, видя вечерний репортаж по каналу «Молдова 1». Папа, прекрати меня позорить. Происходит первый скандал. Что ты знаешь о мучениях, которые причинили нам русские, орет, брызгая слюной в лицо дочери, Аурел Грозаву. Красотка запирается в своей комнате. Уходит ночевать из дому на скамейках в парке, — после особенно громких скандалов, — становится весьма самостоятельной юной особой. Одноклассники сочувствуют. Красотка учится в русской школе и все знают, что ее папаша не в себе, третирует дочь, так что иногда Красотка ночует у одноклассниц, хотя старается не злоупотреблять, и ей частенько хочется спать. Ночует в садах. Комсомольское озеро окружено участками, которые руководство МССР велит срочно раздать кишиневцам, — чтобы сами себе растили картошку и морковь, — и на участках есть домики. Дрянные, деревянные. Четырнадцатилетняя Красотка ходит ночевать туда, разматывая толстую проволоку, которой дачники пользуются вместо замка. Ест виноград, старается не мусорить. Облюбовала домик по соседству с телевизионным центром — аккуратный, в углу свалены матрацы и какое-то тряпье, им Красотка укрывается, потому что в полночь всегда просыпаешься от холода. Матрац не очень греет. Спать стараешься все равно вполглаза, потому что, говорят, по домикам иногда проходится городской ОМОН, ищет там наркоманов и воришек. Красотка блюдет себя. Ей осточертела девственность, и ужасно хочется кого-нибудь любить, — в том числе и в ЭТОМ смысле, — но все же было бы неплохо, думает она, если бы это сделал мальчик, который ей нравится, а не наркоманы, воришки, или ОМОН. Ночи студеные. О зиме Красотка старается не думать. Утром умывается в роднике по соседству и, — стараясь не глядеть в лица собачникам, выводящим псов на границу парка и огородов, — идет на остановку троллейбуса, где в теплом салоне так хочется спать. Круги под глазами. Проститутка, где ты шляешься, орет на нее Папа Первый и заносит руку, что не добавляет отношениям отца и дочери теплоты и понимания. Какая разница? Красотка с ненавистью думает об отце как о постороннем человеке — он таким для нее и останется — и ей плевать на то, как плохо с ним поступали русские. Это неважно. Русские, евреи, молдаване, всем этим дерьмом люди начинают заморачиваться с возрастом, — сделает удивительно открытие Лоринков, не найдя среди шестнадцадцатилетних ни одного, кто бы всерьез интересовался подобными темами. Да и сам не интересовался. Все происходит позже, — осенит Лоринкова, — когда на смену восторгу, любви к жизни и и широко раскрытым глазам приходят разочарование и неудачи. Тогда-то и начинаются мысли о составе крови. Взрослые помешаны на национальных вопросах, как подростки — на сексе. Лоринкову приятнее подростки. Он любит секс. Красотка помешана на сексе, — как и все в ее возрасте, она часто мастурбирует, оставшись одна в дачном домике, и ей чудно обонять потом свою руку и сладко представлять, как в постели с ней будет лежать кто-то еще. Учится неплохо. Мать ужасно переживает, но, похоже, отношения между отцом и дочерью вошли в стадию непримиримых противоречий. Тебе наплевать на кровь дедушки и его семьи, убитых большевиками. Наплевать на мои боль и страдание. Так зачем ты здесь? Не хочешь принимать моих правил, уматывай. Кростка и уматывает. Дома она появляется очень редко, бабушек и дедушек у нее нет, потому что родители сироты — может, это их и ожесточило, думает Красотка, — и спешно подыскивает себе хоть какое-то жилье к зиме. Мальчики отворачиваются. Взрослая жизнь все же ожесточает, так что, — кроме кругов под глазами из-за недосыпа — у Красотки появляется и складка у рта, и на свой выпускной она не придет, у нее нет денег на новое платье. Зато она уже подрабатывает. Красотка спешно заканчивает в девятом классе курсы шитья. Ничего особенного. Весь Кишинев учится на курсах шитья, парикмахеров, операторов ЭВМ и иностранных языков, — вузы пустуют, кому они на хер нужны со своим образованием, пять лет в трубу, наступает рынок, времени терять нельзя. Всем рвать когти. Красотка стрижет волосы — мать только ахает, когда дочь появляется дома с каре вместо косы до пояса, — что, впрочем, даже нравится отцу. Толстая русская коса. На хер. Красотка, испытывая чувство невероятной гадливости, забирает какие-то книги, и уходит. Снимает комнату. Невероятно взрослая, знает себе цену, шьет вечерами, и старается что-то отложить — хотя это, конечно, пустые мечты. У Красотки план. Когда ей исполнится восемнадцать, она подаст в суд на родителей и они разменяет квартиру, так что у нее скоро будет свой угол. Ее мечта. А пока ходить приходится в квартиры парней, да и то, когда их родителей нет дома. Красотка уже женщина. Она, осторожности ради, спит с ребятами постарше ее, — ее целевая группа двадцатипятилетние, будет она думать позже, когда станет специалистом по маркетингу, — в школе ни с кем не встречается. Знакомств не заводит. Мальчик, который ей ужасно нравился, и которому ужасно нравилась она, не смотрит в ее сторону, и как-то роняет небрежно «шлюха», что Красотке ножом по сердцу, но она проходит мимо, ровно покачивая бедрами. Обиженный мальчишка. Держится в стороне. Она взрослый человек с взрослыми заботами, ей не нужно путаться с детьми. Ее первому мужчине было девятнадцать, он казался ей очень взрослым. Дальше был двадцатипятилетний, сейчас она встречается — только малолетки говорят «ходит» — с тридцатилетним, и тот забирает ее после школы на машине. Ну так и ей шестнадцать. Красотка принадлежит к поколению неудачников. Все стремились рано повзрослеть. Многие ровесники сели в тюрьму, родили в семнадцать, из детства перескочили в зрелость — не по чужой воле, как Красотка, — по собственной дурости. Красотке очень нравился тот мальчик, но что он мог ей дать? Уверенность дает лишь мужчина. Красотка прекрасно разбирается в способах предохранения, хотя и переживает один невероятно неприятный день, когда происходит задержка, даже к врачу приходится пойти на всякий случай. Деточка, ты уже ведешь половую жизнь. Да мы все ведем половую жизнь. Красотка время от времени все равно приходит к дачный домик, хотя и подозревает, что владельцы подозревают о ней. Не пойман, не вор. К тому же она не крадет. А два-три месяца летом, во время которых она экономила на комнате, давали ей возможность отложить немного денег. Тридцатилетнего сменил тридцатипятилетний, мальчик из школы окончательно потерял к ней интерес, и нынешний мужчина катает ее по городу и водит в ресторан «Русь» покушать. Выходи за меня. Красотке хватает ума не согласиться и тогда он, крепкий коротко стриженный мужчина, нервничает. Ты что, в натуре? Красотке приходится, — стараясь не волноваться, — объяснять пацану, что не на ту напал, и что она дочь самого Аурела Грозаву, одного из лидеров и идеологов нового национального правительства. В багажник хочешь? Блатной присмирел, и они, доев, расходятся навсегда, хоть Красотке и приходится согласиться на унизительный последний разик в машин. Вроде откупа. Пока машина, — припаркованная под лестницей у ресторана, — слегка покачивается, появляются тени, и когда Красотка, одергивая юбку, вылезает из тачки, бросаются к ее кавалеру. Какие-то малолетки. Срывают кожаную куртку, убегают. Шла бы ты девочка домой, говорит какая-то старушка, продающая у «Руси» сигареты. С радостью, да только его нет. Пора подумать о ровесниках, думает Красотка, дрожа в летней одежде — а ведь уже начало октября, — они глупые, но с ними хотя бы не опасно. Приходит к своему дачному домику, а там вместо проволоки висит замок. Все ясно. Красотка, кивнув, выходит к дороге, и добирается до вокзала, где спит в зале ожидания в первый раз. Выглядит прилично. Так что патруль полиции, обходящий кресла, — карабинеры внимательно вглядываются в лица ночных посетителей вокзала, — принимает ее за ждущую поезда студентку. Красотка горит. Утром, ошалевшая от постоянного вокзального гула, с болью в спине и бедрах, идет домой. Поспать хоть часов. На пороге ее встречает Мама Первая и говорит, что отец знать ее не желает окончательно, и что она их опозорила навсегда, так что может убираться. Красотка кивает. Ну что за дни пошли, — думает она, — везде сменились замки. Не надейтесь, говорит она Маме Первой, что я не подам на вас в суд, вы должны мне одну комнату, и выскочивший из комнаты Папа Первый орет, обращаясь к жене, видишь, какое говно мы вырастили?! Так кто растил. После этого Красотка уходит из дома окончательно. К счастью, 2 октября 1992 года погожий денек, так что несколько часов у нее есть, и Красотка засыпает в Долине Роз, на лавочке. Парк гудит, словно море. В 1982 году Красотка едет с папой и мамой на море, это база отдыха Союза Журналистов МССР на черноморском побережье Украины, и папа, надувая матрац, рассказывает Красотке, что когда-то и у Молдавии был выход к морю. Матрац в виде крокодила. Красотка визжит, вцепившись ему в шею, но все равно переворачивается, так что несколько секунд глядит на мельтешащие вод водой ноги отдыхающих и поражается тому, что под водой вообще видеть можно. Выныривает, фыркая. Папа Первый учит плавать, показывает правильный гребок, работу ног, Мама Первая улыбается с берега. Песчаная полоса. За ней начинаются кустарники, очень низкие, но Красотке они пока достают до подбородка, а за ними столовая. Там кормят не очень вкусно, зато полезно, ничего жирного, жареного, острого, — Папе Первому, очень нервному и испортившему желудок на его нервной работе, это очень важно. Папа Первый весь дергается. Он много пережил, говорит Мама Первая, которая сама много пережила, и часто рассказывала об этом дочери, так что Красотка никогда не выбрасывает хлеб. Даже крошки. Папа Первый ездит на важные совещания, пишет невероятно серьезные репортажи, и считается одним из лучших журналистов МССР. Он и есть лучший. Дома бывает редко, так что Красотка растет, по сути, с мамой, — молчаливой, замкнутой молдаванкой, навсегда прибитой к земле страшным голодом своего детства. Кормит вкусно. Она закончила — для души, как объясняла всем, — кулинарный техникум, и научила Красотку способам нарезки овощей. Соломка, фигурка, сеточкой. Красотка возится на кухне. Фартук спадает. Мама, можно я испеку колобка, спрашивает она и Мама Первая кивает. Звонят в дверь. Это Папа Первый вернулся из невероятно важной командировки, стремительно целует в нос дочь и жену в щеку. Чертовы бюрократы. Представляешь. А я им и говорю. Припечатал в газете. Срочно в номер. Перо зовет. Красотка, которая повзрослеет, и тайком даже от самой себя будет следить за тем, что пишет ее отец — теперь это «Литература ши арта», главный орган националистов Молдавии, — убедится, что лексика Папы Первого не изменилась. Набор фраз. Сначала папа пользовался ими, потому что так удобно, — думает Красотка, — потом они подменили папу. Прошла всего пара месяцев после войны, и Молдавия еще дымится. Семьи рушатся. Красотка, проходя мимо поэта Виеру — давнего знакомца отца, — вежливо здоровается с ним, но облысевший, похожий на птичку, поэт, отворачивается. Не очень надо. У Виеру тоже семейная драма, он отказал в доме своему сыну Колину, за то, что тот женился на русской. Русские бабы…С ладкие бабы, поэтому от них нужно держаться подальше, пишет в передовице «Русские шлюхи» еще один молдавский детский поэт, Дабижа. Этому-то и молдавские не давали. Никакого национализма в конце 80-хх в республике не было, сладко складывает на животе руки профессиональный партаппаратчик Петр Лучинский. Так, редкие перегибы. Лозунга «Чемодан-вокзал-Россия» тоже никогда не существовало, — диктует он секретарше, — это недоразумение, какой-то парень не получил комнату в общежитии, обиделся и крикнул соседу, чтобы тот ехал в Россию, и дал пожить в комнате ему. Ха-ха. Чемодан-вокзал-Россия, скандирует пятидесятитысячная толпа на центральной площади Кишинева, и это фиксирует камеры иностранных СМИ, ну и КГБ-шников, конечно. Ничего такого не было, пишет Лучинский. Да он нас за идиотов держит, нервно восклицает писатель Лоринков, просматривая, почему-то, мемуары и этого лжеца. Толпа скандирует и бросается бить молдавских же милиционеров, среди тех, кто призывает собравшихся к порядку, есть и журналист Аурел Грозаву. Постойте, румыны! Вместе с ним на помосте стоит поэт Виеру, который — как у молдаван принято — помирится с сыном, и, попав в первый парламент независимой Молдавии, пролоббирует выделение сыну помещения под ресторан. Самый смак. Центр города, старинное здание, совершенно случайно — то самое, где посходило первое великое Национальное Собрание 1918 года, — и в помещениях, где собранные со всего Кишинева румынскими солдатами депутаты срочно голосовали за воссоединение, будет пахнуть супом и мамалыгой с токаной. Чудесный ресторан. Писатель Лоринков часто заглядывает туда, чтобы съесть печень по-лионски, выпить бутылку вина, и подумать — как странно ложатся в Бессарабии карты. В том числе географические. Из окна ресторана «Пани Пит» — так он называется — видно здание Национальной Библиотеки, куда Лоринков ходит, словно на работу. Ну, писать книгу. Дома это совершенно невозможно, так что Лоринков, оставив жену и двоих детей, идет в библиотеку, раскрывает блокнот, и сидит в огромном читальном зале, глядя в окно. Выбирает книги. Вместо того, чтобы писать, читает. Больше всего, почему-то, его интересует малахольная история его маленькой родины. Молдавия это такая жопа, скажет ему поэт Виталий Пуханов сочувственно, когда Лоринков приедет в Москву на презентацию своей написанной в прошлой жизни книги. Лоринков помнется. Не простая, а мистическая, скажет он, не потому, что будет обидно за родину, а чтобы самому за себя обидно не было. Но это неважно. Мистическая, не мистическая, задница все равно остается задницей. Красотка с этим совершено согласна.
Мама Первая приходит к дочери навестить — Красотке уже семнадцать — и говорит, так вот как ты живешь. Комната в общежитии, четыре кровати, шкаф, стол у окна, посуду моют по очереди, все наряды Красотки в одном чемодане. Она студентка филфака. Поступила со второго раза, так что первый год она проводит на центральном рынке Кишинева, в овощном ряду, если заходить со стороны улицы Бендерской — торгует картошкой и морковью. Овощей уже много. Денег нет. Красотка находит работу по объявлению на столбе — в 1994 году почти все так находят работу, — и старается не обвешивать слишком сильно. Плюс-минус сто граммов. Она совсем взрослая. Все как-то очень быстро произошло, и она не помнит себя маленькой. Ночевки на открытом воздухе отбили память. Какие-то отрывочные воспоминания. Море, крокодил, папа, хотелось мальчика, фото в зоопарке, Сандра, а еще в Кишинев приезжал лунапарк, и у его владельцев — кажется чехи, — можно было купить за пятнадцать копеек жвачку в виде сигареты, папа за такие ругал. Папа Первый вышел в тираж. Облысевшие поэты с венчиками волос по краям головы свое дело сделали, так что Виеру, Дабижа, и еще несколько десятков деятелей культуры и искусства — писателю Лоринкову до чертиков хочется узнать, где же их книги, этих поэтов и писателей, — теряют депутатские мандаты. У власти люди дела. Пилятся бюджеты, рушатся заводы, отнимается имущество. Боновая приватиизация. Все жители Молдавии получают бон — клочок бумаги, — четыре миллиона клочков и есть все имущество МССР. Бумажки похожи на карты. Их тасуют и сдают, козыри, по странному стечению обстоятельств, получают бонзы, которые и в МССР были бонзами. Папе Первому не повезло. Он не бонза, он из тех, кого бонзы кличут «наши идеологи». Проще говоря, шестерка. Папа Первый стремительно регрессирует. Подумывает приступить к воспоминаниям. Как будто они кому-то могут быть интересны, — думает Красотка, — лихо отвешивающая картошку на стареньких весах. Ты нас позоришь. Мама, говорит Красотка, я ведь уже взрослый человек и в следующем году поступлю в университет, так что оставьте, пожалуйста, меня в покое, и не пытайся сказать, что тебя прислал сюда отец. Нет. Папа тебя не вспоминает. Тебя для него нет. Чудесно, говорит Красотка, и улыбается, спрашивает — может, хочешь купить картошки. Товарки сочувственно отворачиваются. Мама Первая, расстроенная, уходит. Красотка, высоко подняв голову, улыбается бывшим одноклассникам, которых встречает на рынке, им ужасно неловко. Зимой носит обрезанные на пальцах перчатки. Отвешивает два килограмма, поднимает голову и встречается взглядом с тем самым мальчиком, который ей нравился в школе. Ужасно стесняется. Военно-полевой роман, говорит с улыбкой Красотка, и он сразу успокаивается, — они долго разговаривают. Начинают встречаться. Красотка спит с ним со второго свидания, потому что первое произошло в кинотеатре, и это было бы не слишком удобно. Его родители против. Ее тоже. Это же мальчик из русской школы. Но она девушка самостоятельная, снимает уже квартиру на двоих с коллегой по рынку — молодая девчонка из Калараша, которая уедет позже в Италию, — так что им никто не может помешать. Понимающая товарка часто оставляет их одних. Парень выше Красотки, когда он лежит на ней, она утыкается ему в грудь лицом. Он неутомим. Может два-три раза подряд — вот оно, преимущество ровесников, думает с изумлением Красотка, которая кончила первый раз в жизни, и неожиданно для себя закричала, — и обожает сзади. Работает охранником. Отслужил год в армии — погранзастава в Комрате — и увлекается рукопашным боем. Он живет в квартире с матерью и отцом, который начал выпивать после того, как закрыли завод «Счетмаш». Если отцу дать на бутылку, а мать уходит на дежурстве в столовой, можно прийти туда и заниматься любовью, пока в закрытую комнату скребется собака парня, ротвейлер. Красотке кажется, что это судьба, ее смущает только одно. Странный сон. На крещенские морозы она, поддавшись уговорам соседки по квартире, — в деревне в эту ерунду верят, — гадает на жениха, и ей снится совсем другой мужчина. Невысокий, смуглый. Этот — светловолосый и рослый, так что Красотка ему по плечо. Ну что, ты, кажется, остепенилась, с усмешкой спрашивает ее мать, когда приходит навестить Красотку, поступившую в университет, на самый непрестижный факультет, филологии. Постоянный мальчик… Помню его со школы. Той самой школы, куда я приходила с глазами, красными, как у белой мыши, думает Красотка, уже не способная простить родителей. Мама Первая спрашивает, намерена ли она жить в общежитии? Красотка говорит «ага», и провожает парня в Ирландию, собирать рассаду, трудовая миграция из Молдавии, которая примет угрожающие размеры — сам президент Воронин признает это в очередном докладе, который напишут помощники, в 2008 году, — только начинается. Уехать еще легко. Сначала он будет много писать, пару раз позвонит, потом перестанет, Красотка войдет в положение, ведь нелегалам очень тяжело, а потом он исчезнет. Легализуется к 2005 году. Приедет в Молдавию в 2008, посмотреть на сына, и Красотка будет сопровождать мальчика на встречу, — от этих молдаван за границей не знаешь, чего ждать, они там с ума сходят, вдруг возьмет да и украдет ребенка? Нет, посидели, помолчали неловко, договорились насчет денег — конечно, он ничего не прислал потом, — и Красотка вдруг поняла, почему он не смог остаться, почему сбежал. Да он просто ревновал к прошлому. Вот дурак. Да, она была беременна. Он собирался в Ирландию всего на год, заработать на квартиру и свадьбу. Не сложилось, живот рос, так что филфак пришлось отложить и перевестись на заочное, вернуться на рынок, где Красотка и простояла до самого 1998 года. Носила ребенка в слинге. Такая тряпка. Маленький, с удивленным взглядом, он засыпал, обхватив мать ручками и ножками, — конечно, летом, зимой приходилось оставлять его с няней, — и Красотка поражалась тому, как быстро летит время. Еще вчера она была тринадцатилетним цветком с пухлыми губами. Сегодня уже пожилая женщина в четверть века, с ребенком и местом на рынке. Родители не объявлялись. Прошлое стиралось. Красотка постепенно забывала их, и все реже видела одноклассников, из Молдавии ведь все всегда уезжают. Кто уцелел. Кто не уцелел, тех Красотке не было жалко, — мы поколение, которое просрало само себя, говорила она, выпив. Очень редко.
Центральный рынок в 90-хх годах вернул свои утраченные позиции и вновь, — как и в веке 19, - стал солнечным сплетением Кишинева. Вещи и продукты. Красотка торговала всем. Она продавала банки шпрот, которые делала из тюльки, выловленной в Долине Роз: раздевалась по пояс и заходила в воду, шла, держа за собой кусок марли, и выдергивала его из воды. Рыбешка трепыхалась. Красотка клала ее в кастрюлю, заливала крепким чаем и маслом, сыпала соль и специи, варила на медленно огне полдня. Чистые шпроты. Делала банки горошка под заводский. Разливала в бутылки спирт, подкрашивала отваром луковой шелухи, и продавала «под коньяк». Поехала даже два раза в Турцию на автобусе за тканями — особенно пользовались спросом желтые, с красными розами — но на границе было очень хлопотно, турецкие пограничники мурыжили автобусы сутками, и в обмен на пропуск заставляли самых красивых пассажирок уходить с ними в домик. Если ты говорила «нет», другие пассажиры очень негодовали. Так Красотка переспала с турком. Ну их, будем выживать дома. Домом был рынок. Зимой надо одевать две пары колготок, чтобы не отморозить себе все на свете. То есть яичники. Летом легкая маечка и короткие шорты, но все равно к вечеру потная и мокрая. Зато сексапильная. Маленькая собачка до старости щенок, так что невысокая, в меру задастая и очень миловидная Красотка, — по молдавским меркам вполне уже взрослая женщина, — будет пользоваться успехом у рыночных ловеласов. Но она-то девушка серьезная. Красотка переспит с грузчиком, Красотка переспит с хозяином десяти столов, Красотка переспит с оптовым покупателем, но ее не будут считать шлюхой, потому что свободная женщина искала мужчину в постель и дом. Дом уже был. К своему 23-летию Красотка все же закончила филфак — средний балл диплома шесть и три десятых, — и наскребла на однокомнатную квартиру, в которой нее была постель, а у сына — раскладное кресло-кровать. Мальчика Красотка из упрямства отдаст в русский садик, но это уже не будет иметь никакого значения, потому что националистические дрязги в Молдавии середины 90-хх поутихнут. Нищета всех помирит. Красотка заработает еще немножко денег, и, по совету бывалых, купит два стола на рынке, и через несколько лет их будет уже пятнадцать, так что у сына появится своя комната, и Красотка глядит на него с обожанием. Мой мальчик. Он-то будет счастливым. Денег постепенно будет все больше, складка у губ, — которая появилась еще в школе, — все глубже. Красотка купит трехкомнатную квартиру в новострое, и перестанет ходить на рынок, наймет работников. Займется парфюмерией, откроет небольшой магазинчик. Получит право представлять довольно престижную марку средней ценовой категории. Окончит экстерном экономическую Академию. Средний балл диплома — девять и три. Дочь гуманитария! Вспомнит и о родителях, Красотка зайдет к ним год спустя после Миллениума — Мама Первая откроет дверь, Папа Первый, ни разу не видевший внука, так и не выйдет из комнаты, совершенно разбитый победой коммунистов на выборах 2001 года, — чтобы забрать фотоальбом. Ради одного снимка. Того самого, где она в синем платьице рядом с пони, еще ребенок, уже созревшая. Бери не хочу. Возьмите меня. Не взяли тогда, не возьмут и сейчас, так что, — хоть Красотка время от времени спит с тем, спит с этим, — постоянного мужчины у нее нет. А к одиночеству привыкаешь. Так что Красотка уже и не ищет. Хочет поскорее вырастить сына, женить его на порядочной девушке, и пусть живут-поживают, внуков наживают. А она отоспится.
Красотка встречается с Малышом возле Молдавского государственного университета, она стоит в группе студенток четвертого курса, ждет, кода вынесут зачетки с оценками. У нее уже есть морщины. Малыш еще совсем тощий, в стильных военных ботинках, купленных тайком на военном складе — предмет гордости, хоть и на два размера больше, чем следовало бы, — идет сдавать документы. Кучка недоступных старшекурсниц. Малыш жадно глядит на их гладкие ноги, тяжелые зады, торчащие груди, в вырезы коротких сарафанов, стильные прически, изящные серьги, недоступные лица. Где здесь центральный корпус? Несколько минут они разглядывают его, а одна — невысокого роста, так и не обернувшаяся, задумалась о чем-то, Малышу видно лишь ее ухо с зеленым камнем в серьге, — машет рукой в нужную сторону. И на том спасибо. Следующей осенью русскую группу первого курса журфака определяют на лекции профессора Ионко, которому, — по его выражению, — осточертели эти молдаване, и который скоро уедет в Германию, и, чтобы все успели прослушать курс лучшего специалиста Молдавии по эпохе романтизма, в той же аудитории сидит и группа Красотки. Малыш прогуливает. Красотка посещает все занятия, она догадывается, что высшее образование — какое-никакое — это ее какой-никакой шанс. Прилежно слушает. Иногда засыпает, и приходит в себя после толчка кого-то из соседей, вся в поту, мокрая, неприятная. Ходит на курсы вождения. Покупает автомобиль, белый, это «Хонда», и Красотка становится лихим водителем, приезжает за университетским дипломом, вызвав зависть однокурсниц и чрезмерное внимание декана. Неприятный старикан. Красотка терпеть не может стариков, которые пытаются залезть к ней под юбку, — со своими стариками я отгуляла в юности, думает она. Профессор румынской литературы перебирает карточки. Скажите, вы случайно не дочь известного публициста Аурела Гроза… Нет, я дочь безвестного журналиста Никиты Бояшова, говорит Красотка холодно. Дома сын. С мальчиком занимается репетитор английского, музыки — пианино уже ждет в углу специальной комнаты для занятий, — он пойдет в лучшую школу города, а учиться будет в Яссах, в румынской военной академии. Военный переводчик с японского и арабского. Преподаватель, вздохнув, ставит «отлично», — пришлось читать Ребряну всю ночь, это было ужасно, чтение и книги Красотку не увлекают, — и протягивает зачетку. Не отпускает. Что-то еще, спрашивает Красотка. Не хотите поужинать сегодня вечером, спрашивает молодой еще профессор — в Молдавии профессора и полковники все сплошь молодые, старых сожрали, — и Красотка говорит, что хочет ужинать каждый вечер, так уж она устроена. Ха-ха. Я имею в виду Вместе. Нет, я занята. Она не врет. Красотка занята: она ждет вечером в кафе мальчика, который пишет ей восторженное письмо по интернету, завидев анкету на сайте знакомств, — целая поэма родинке в декольте, вот смешной, — и вдыхает аромат горячего шоколада. Тошнотворный, как все сладости. Красотка любит мясо, но дает себе волю лишь дома. На ней джинсы клеш и белая кофта. Ожившие семидесятые. Мальчик робеет, девушка оказалась такой же красивой, как и на фото, да еще и взрослая, да еще и при машине, черт побери! Мальчик сорвал куш. Он пьет чай, потому что, — прекрасно понимает отучившая себя от иллюзий Красотка, — чай это самое дешевое. Он много курит — «Лаки страйк лайт» как раз стали очень модными в Кишиневе, — отчаянно форсит, не верит своему счастью, и, наваливаясь на Красотку в автомобиле, когда она вывозит их за город, трусит. Не переживай. Красотка все делает, как надо, и молодость берет свое, так что неутомимый мальчик, кончив, не останавливается и постепенно Красотку забирает. Машина раскачивается. Да, о, да. Справа в окне след, это самолет взлетел и взял курс на Восток. Ты кончила? Ох уж эти дети. А то ты не слышал. Красотка вытирается влажными салфетками, прихорашивается и отвозит мальчика к дому. Мы еще встретимся, спрашивает он, осмелев, хотя всю дорогу — от ворот города до самого центра, а потом по пути к цирку, — озирался, и Красотке совершенно понятно, почему. Ей ясно, что происходит. Не привык изменять, боится что увидят. Красотка знает, почему он это делает. Красотка все знает. Бедняжка боится, что жизнь промчится мимо него, как поезд — мимо застывших на холме пастухов. Обычный в Молдавии пейзаж. Загорается зеленый, и Красотка трогает с места, мальчик, прокашлявшись, спрашивает — так мы увидимся? А, да. Конечно. Дома сын бежит от няни, и Красотка целует мальчика. Держит на руках. Мой ребенок получит столько ласки, сколько в него влезет, думает она, в чем-то все же бессознательно копируя отца. Чуть отстранена. По телевизору новости, что-то про молдавский театр, и Красотка переключает на музыкальный канал. Красотка ненавидит интеллигенцию, она хорошо помнит знакомых отца — всех этих актеров, писателей и художников, — которые могли завалиться к ним домой среди ночи, и тогда в кухне становилось накурено. Отчаянные фрондеры, да. Только на кухне. Красотка ненавидит вопрос, который, — единственный, — по-настоящему волнует и будоражит всех жителей Молдавии. Национальный вопрос. У кого сколько какой крови, что плохого сделали нам эти блядские русские, как отвратительны эти уроды-румыны, помесь серпентария с нацистским институтом евгеники, с презрением думает о соотечественниках Красотка. Она из принципа не интересуется политикой, она из принципа занимается бизнесом. Молдавская интеллигенция это говно, думает Красотка об отце. Бывший премьер МССР Еремей не согласен. Он пишет в своих воспоминаниях, что группа про-румынски настроенной интеллигенции в СССР решилась на настоящий демарш — ночью, пьяные, на коленях встали перед памятником Штефану, и читали стихи Эминеску. Восемь человек. Еремей с гордостью перечисляет фамилии этих несгибаемых румын, достойных своих римских предков. Бывший премьер Еремей умалчивает, что узнал об этом происшествии из восьми доносов, поступивших от участников события. Красотку бы это не удивило. Но ей некогда читать, — а тем более мемуары старых молдаван, сошедших с ума на пенсии от бездеятельности и ненависти к этим несчастным русским, — Красотка подрабатывает контрабандой сигарет. Это прибыльно. Дома у Красотки всегда лежат несколько коробок «Ассоса», который так любит мальчик, познакомившийся с ней по интернету, и который играет в шпиона, так что у Красотки не остается сомнений в том, что он изменяет своей девушке. Ему двадцать. Он уже ведущий на местном телевидении. Красотка перестает отвечать на звонки. Красотка смеется, когда он появляется, — несчастный и бледный, — предлагая ей выйти за него замуж. Возвращайся к своей девушке, мягко говорит Красотка, и научись ценить то, что имеешь. Откуда ты знаешь?! Мальчик еще немножко страдает, и доставляет некоторое количество неприятностей, — оно близко к критическому, когда Красотка позволяет ему вернуться, а потом бросить ее, и уйти победителем. Ну, и последний раз. Конечно, куда без этого. Мужчины, — думает спокойно Красотка, — подрагивая от толчков мальчика в пах во время этого самого Последнего Разика. Отвозит его на телевидение, ведь скоро эфир. Целует в щеку. Покупает в книжном магазине учебники для сына, берет в руки яркую книжицу со смешным молдаванином на обложке, видимо, что-то детское, — нет, книга писателя Лоринкова про трудовую миграцию из Молдавии, с чем он категорически не согласен. Книга о людях, не умеющих ценить то, чем владеют. Красотка перелистывает, ей не понравилось начало, но она покупает, нужно же хоть иногда хоть что-то читать. Папа Первый, по слухам, запил. Его видели на террасе Дома печати, где он покупал дешевую водку для дружков из Союза писателей, плакал, и кричал что большевики навсегда заморозили его отца. Как Снежная королева — Кая. Собутыльники кивали. Как фашисты — Карбышева. Собутыльники вознегодовали. Кого ты назвал фашистами, немцев?! Эти, с твоего позволения, фашисты пытались спасти нас от Сталина и ГУЛАГа, и Папа Первый пьяно оправдывался — да как же… да уж я-то… последний кому… кто… — кто-то размахнулся, пришлось вставать, опрокинув стол, началась пьяная драка. Ты блядь бездарность, а ты, скотина, стучал на коммунистов, — братья-румыны, остановитесь, ваши ссоры на руку русским, — а ты строки талантливой в жизни не написал, вы ничтожества, все, насекомые, чтоб вас, пыль у моих ног. А я великий, я гений, я Величайший, нет ВЕЛИЧАЙШИЙ, ты величайший алкоголик, ах ты тварь, сволочи, мрази… Крики, наряд полиции. Все — большевики. Разбили его семью, погубили жизнь, и все такое, а потом в участок пришла Мама Первая и увела его, оцепеневшего, с синяком, порванной рубашкой и слюной из раскрытого рта, домой. Сильно избили. Передвигался как робот. Слег на несколько недель. Красотка пожимает плечами. Что же, папа сам позволил прошлому взять над ним верх, — уж она-то такой ошибки не совершит, знает Красотка. Жить надо без прошлого. На вопрос, какая у нее национальность, Красотка отвечает «болгарка». Довольно редкая, поэтому в Молдавии никаких нареканий ни у кого не вызывает. Это вроде как болеть за сборную Монако по водному полу в Санкт-Петербурге во время матча «Зенита» с «Манчестером». Абсолютное отстранение. Мужчинам лишь бы разделиться на команды и начать мордобой. Красотка — женщина. Красотка купается и читает книгу писателя Лоринкова, и фыркает, ведь на самом-то деле вся эта миграция, она происходит не так, как здесь описано, вот ведь фантазер и болтун. Но смешно, да. С Красоткой совершенно согласен обозреватель российской газеты «Ведомости», — «все достоинство этой книги в своеобразном черном юморе ее автора», — пишет он; но Лоринков, — как всегда, когда начинает новую книгу, — глядит уже и на прошлые книги, и на все, что с ними связано, как солдат на ампутированную ногу. Что-то чужое. Это не я. Давно проигранные сражения, давно выигранные битвы — это может оживить лишь стариков, похваляющихся прошлым за стаканом вина, думает он. Типа спившегося Аурела Грозаву. Так что писатель Лоринков, прочитав рецензию, лишь пожимает плечами. Не повезло бедняге, о котором все это написано. Встает и потягивается. Ноут-бук не светится, с удивлением понимает он. Значит, уже утро.
Малыш приходит в себя после отключки, за окном уже 2000 год, и все изменилось, в первую очередь, само окно: это не замызганное стекло между трухлявой рамой, а чистейший выход на улицу, заключенный в европластик. Малыш лежит дома. Малыш купил дом, — хоть это и стоило ему нескольких лет напряженной работы и кое-каких профессиональных компромиссов, о которых он, в отличие от Довлатова, даже вспоминать не хочет. Вчера отмечали. Только что? Малыш встает, и, потирая висок, соображает, что да как, открыв бутылку пива о край дивана, хоть его ужасно ругает за это жена. Нервная красавица. Малыш хлебает пиво, и находит на столе записку, кажется, все мои любимые женщины общаются со мной посредством корреспонденции, думает он. Дорогой, не забудь о дипломе. Малыш чертыхается и идет в ванную, под контрастный душ, примерно через час приходит в норму, и, с таблеткой валидола под языком, закапав в глаза средства от сухости в глазах, Малыш спешит в университет. Внимание, вспышка. В газете факультета журналистики «Журналист» выходит снимок группы Малыша, на котором он сам стоит ближе к центру, а однокурсники — в основном девушки — сидят по краям на парапете Комсомольского озера. Там еще есть вода. Малыш обнимает жену, она училась с ним, так что он имел возможность изменять ей уже со второго курса, что и не преминул сделать, виня во всем алкоголь. Психованная стерва. Жена обожает работу на телевидении, уже устроилась ведущей вечернего эфира на местный телеканал и с ума сходит, когда читает о себе уничижительные отзывы в интернете. Малыш смеется. Дорогая, я еще не видел ни одного доброго слова ни о ком в этом вашем интернете, что набирает силу. Жена отмахивается. Рослая, сантиметров на пять выше Малыша, она любит носить декольтированные платья и ее раздражает непомерный — как ей кажется — темперамент мужа. Только о трахе и думает. Она жалуется подружкам, те хихикают, и многозначительно переглядываются, чтобы затем проверить, так ли это. Все так, девочки. Малыш вечно раздражен там, внизу, — так же, как и наверху. Он вечно не в духе и ему все время хочется секса, он даже подумывает сходить к психотерапевту, чтобы проконсультироваться насчет приапизма. Но все недосуг. У Малыша репутация одного из лучших журналистов Молдавии, но человека желчного и неприятного. Он соответствует. Пока Малыш спит в отключке то на одной кровати, то на другой; то с одной женщиной, то с ее подругой, желающей убедиться, правда ли этому парню всегда мало, — проходят пять лет. Он староста группы. Он начинает работать с первого курса, у него просто нет выбора, Малыш, уставший от своей семьи, старается даже не звонить родственникам. Их было слишком много в моей жизни. Малышом гордятся: Бабушка Третья вырезает из газет его статьи, Дедушка Четвертый не преминет упомянуть в беседе с каким-нибудь пропойцей из Союза Писателей о своем внуке, весьма перспективном журналисте. Малыш бьется с безденежьем. Малыша выгоняют из общежития по вполне понятным и уважительным причинам, — как бы ему не хотелось думать об обратном, — так что ему приходится жить в рабочем кабинете. Редакция умиляется. Практикант, влюбленный в работу. Малышу просто некуда деваться, он хранит старое красное одеяло в шкафу, и заворачивается в полночь, когда в Дом Печати точно никто не придет. Спит на подоконнике. Спит на столе. Спит на двух кушетках, которые в редакцию приносят с ближайшей свалки. Водит в кабинет девушек. Среди них и жена. Стервозная красивая девчонка из группы, которой покоя не дает мысль, что ее парень — очень Перспективный и даже, кажется, Пописывает. О чем ты? Малышу в голову не приходит мысль, что обычный человек может писать книги, но ведь ему и мысль о том, что обычный человек может в газеты писать, тоже не приходила. Да и обычный ли он? Ты не такой как все, говорит ему стервозная девчонка, которую он тискает в подъезде, уткнувшись носом ей в грудь — она снова на каблуках. Малыш хочет с ней спать. Она сопротивляется. У нее вздернутый нос, — на экране это не видно, — и очень красивые глаза, Малышу хочется увидеть их близко от себя, когда он будет в этой девушке. Она сопротивляется. Малыш недоумевает. Она читает ему целую лекцию о том, что необходимо легализовать публичные дома, благодаря которым мужчины могли свободно удовлетворить свою страсть, не ломая жизнь порядочным девушкам. Ты что, девственница?! Девушка фыркает, и Малыш переводит дух — он имеет дело не с сумасшедшей, а с обычной лицемеркой. А лицемеров легко обмануть. Малыш признается ей в любви, долго-долго, так что месяц спустя они уже лежат в одной кровати, и он отчаянно атакует ее низ, а она морщится, и явно не получает удовольствия от процесса. И никогда не получит. Я слишком узкая, станет жаловаться она Малышу, пока он на четвертом курсе не прочтет книгу Эдуарда Лимонова «Палач», привяжет ее к кровати, и оттрахает ее как следует, засунув туда руку — чуть не по локоть. Конечно, она придет в восторге. Дорогой, может быть мы поженимся? Она говорит это на третьем месяце знакомства, Малышу противна сама мысль, что придется учиться еще несколько лет в одной группе с девушкой с обиженным взглядом. Он соглашается. Студенческая свадьба. Рис и просо на плечи, из родни Малыша на бракосочетании присутствует только брат, и они здорово напиваются в тот вечер. Малыш влюблен в алкоголь. Ему нравится вырубаться — по-настоящему нравится — ведь тогда он словно бы попадает в иное измерение. У Малыша видения. Он напивается, и во сне к нему приходит Дьявол: то в виде отрубленной светящейся головы, а то холодной неприступной женщиной; он видит огромные поля ромашки, глубокие расщелины; он — сапсан, который парит над миром, он подсолнечник, и он поворачивает голову вслед за Солнцем. Пробуждения ужасны. Похмелья крушат Малыша, и если первые несколько лет свободного парения он вполне может встать в шесть утра после бессонной ночи — вернее и не ложиться — то к окончанию университета Малыш отходит после пьянок по два-три дня. Любит одиночество. Жена-стерва с пониманием относится к его пристрастию к алкоголю, потому что, во-первых, все парни болеют этим в молодости, а во-вторых, он же у меня Творческий. Малыш не понимает, о чем она. Он просто лучше всех в мире умеет складывать слова в предложения, но этого никто еще пока, — кроме него, — не знает. На Малыше пять судебных дел за сенсационные материалы, и обвинения по последнему из них будут закрыты лишь в 2007 году, под аплодисменты публики, в Кишиневском окружном суде, откуда еще Котовский сбежал. У Малыша красный диплом. У Малыша итальянский галстук, который он умеет завязывать так изящно и небрежно, что сердца его однокурсниц тают. Он неверный муж. Это тоже не очень мучает его жену, потому что, во-первых, все молодые парни болеют этим, а во-вто… А по-моему, она просто рада тому, что я трахаюсь на стороне, думает Малыш. Он покупает квартиру. Милый, как чудесно, говорит жена, и, перевязав себя полотенцем на талии, гримасничает перед зеркалом, и обещает устроить ему на новоселье нечто Особенное. Минет, что ли? Малыша бесит, что простейшей вещи от нее нужно домогаться неделями, он вечером того же дня сильно напивается и приходит в себя в квартире знакомой, которая давно ему нравилась. Она танцует. Тоже выпившая, красивая большая блондинка, извивается перед ним. Будто Саломея какая-то. Малыш боится потрясти головой, — миллиметр движения отзывается ударом внутри, — он просто лежит, приподнявшись на локтях, и, широко раскрыв глаза, с трудом дышит. Дело кончится ударом. Малыш это знает, и очень сильно потеет, а танцующая женщина садится над ним на корточки, и теперь они танцуют вместе, так что похмелье проходит. После пьянки женщина самое-то. Малыш умеет пить шампанское из горлышка и коньяк из пластиковых стаканчиков. Возвращаться домой под утро с таким видом, будто это ему должны, а не он. Да и должен ли? Малыш время от времени садится за печатную машинку, и пробует что-то набрать, получается глупо, нелепо, не то. Я еще не пробудился. Позже Малыш поймет, что эти годы были чем-то вроде ученичества, инкубацией: если бы он не выдержал их, никогда бы ему не стать тем, кем он стал. Ну да, писателем. Малыш ночует в кабинете, но иногда, чтобы не застало начальство, ходит спать в зал ожидания железнодорожного вокзала или едет на электричке куда-то в сторону Румынии и обратно, это как раз шесть часов, потому что поезда ходят медленно. Полотно разрушается. Все разрушается, но Малыш не обращает на это пока внимания, он молод и ему не до того, он еще верит в будущее Молдавии. Ведь Молдавия это я. Малыш не тот, кто он есть. И никогда не был, думает он. Днем Малыш — подающий надежды журналист, острое перо, что там еще говорят эти маразматики из редакций, ночью же он — тоскующее одиночество, которому некуда преклонить голову. Он призрак. Я никто и меня зовут никак, думает Малыш. Изучил город. Много ночей он бродит по Кишиневу, чтобы не уснуть где-то на лавочке, и в совершенстве знает город. Бабушка Третья кричит ему, когда он, ошалевший от скитаний — не случилось спать целую неделю, и у него просто не оставалось выбора — пришел к ней домой, чтобы он убирался. Или платил за постой. Ладно, бормочет Малыш, твоя взяла, скверная ты старуха, будут тебе платить, и Бабушка Третья, удовлетворенная, стелит ему в спальне уехавшей в Москву тетки, и сидит до полуночи над кроватью, рассказывает последние сплетни. Дайте мне сна. На следующее утро окрепший Малыш уходит, — конечно, жить у Бабушки Третьей он не будет, нечем платить, работа в редакции предполагает много энтузиазма и мало оплаты. Обманывают все. Мы, русские, должны держаться друг друга, говорит ему чиновник в секретариате городской газеты, сухонький еврей Гуревич, — за пять лет до выхода фильма «Брат-2» на экраны, — и откусывает третью часть его мизерных гонораров. Надо делиться. Мы, русские, должны держаться друг друга, — говорят ему в редакции еженедельной газеты, — и он молча уже сам отстегивает третью часть своих гонораров; мы, молдаване, говорят ему, и он молча открывает кошелек, вопросительно подняв брови. Умный малый. На третьем курсе женится, повезло… Когда Малыш покупает квартиру, на радостях напивается так, что приходит в себя через две недели. Жена переживает. Как же я буду ходить на эфиры? Малыш хмуро глядит в угол комнаты, выходит на улицу вечерами, чтобы купить себе пива, занятия не посещает, он все равно лучший, и это правда, он получит красный диплом. Малыш талантлив. Только в чем и для чего, и к чему ему приложить этот свой талант? Малыш не знает. Значит, пока выпьем. Малыш циник. Малыш работает в ежедневной газете, это чудесная возможность пить каждую ночь, и злиться на людей каждый день. Вечером пьянка. Малыш с отвращением глядит в лица провинциальных знаменитостей от журналистики, и бросает им ставшую стандартной фразу о том, что они, де, дерьмо, а он гений. Ну и попробуй теперь не подтверди слов. Так что Малыш пробует писать. Кажется, это оно, как-то понимает он, придя на работу рано утром, и написав рассказ, — кажется, я понял, для чего я создан. Рассказ выходит в Москве, в толстом журнале «Новый мир», так что эта рефлексирующая сука, — как Малыш называет свою первую жену, — наконец-то насытилась. Носится с литературкой. Как ни странно, Малыш тоже. Книги меня спасли, поймет он позже. Малыш, — который пил от ужаса и усталости, — постепенно выходит из пике, он понимает, что поля ромашки и добрую мать, которые снились ему с шестнадцати по двадцать один год, не вернуть. А во сне он видит иллюзию. Морок. Так что Малыш постепенно пьет все меньше, и это автоматически отдаляет его от профессионального круга, что, в свою очередь, создает ему репутацию человека одинокого и желчного. Звонят в редакцию. Дедушка Четвертый умер. Ну, что же. Малыш, закончивший в этом году университет, специально для выпуска купил костюм, пойти на похороны есть в чем. Стоит у гроба. Рыдающие — интересно, почему они все время так бурно плачут, хмуро думает Малыш — молдаване протягивают ему над телом деда рубашку и брюки, так положено, ну, он и берет. Пьет вино. Деда хоронят на новом кладбище «Дойна», и Малыш, стоя у края разрытой могилы, не чувствует ничего. Абсолютную пустоту. Покойный меня не очень-то и любил, думает он и уходит с поминок. Мать переживает. Малыш пишет рассказ о похоронах деда — в ключе магического реализма, естественно, — и его снова печатают в Москве. Это уже тенденция. Ну что, внук, переговорим, бодро спрашивает его Дедушка Третьей — с тех пор, как Малышу нашлось куда приткнуться, они с Бабушкой Третьей решили возобновить прерванные отношения, — поговорим Серьезно и Ответственно? Малыш молча вешает трубку. Малыш не разговаривает неделями. Малыш получает гонорар за рассказ о похоронах Дедушки Четвертого, и желчно думает — ну, хоть что-то я от вас получил в наследство. Семья моя. Приходит домой и жмет несколько раз штангу на балконе, в комнате пусто. Он уже разведен. Малыш вздохнул с облегчением, когда эта дерганная женщина ушла из его дома со всеми ее сорока парами обуви. Психованная стерва. Станет обсасывать их развод годами. Безумно талантливый, бесконечно сумасшедший, и немножко извращенный… Мой бывший муж. Малышу плевать. Наконец-то у него появляется время. Малыш пишет. Пишет рассказы, пьесы, повести… лучшего всего, конечно, получаются пьесы. Постепенно он становится известен. Небывалый по масштабам Молдавии талант. Молдаване сходят с ума от зависти. Каракалпакские писатели, с юмором назовет их Лоринков, прочитав это определение в журнале еще одного талантливого мизатропа, писателя Галковского. Малыш живет один. Малыш пересматривает грамоты, которые хранятся в папке, запертой в верхнем ящике стола, Малыш пишет письма брату в США. Малыш учится готовить. Малыш увольняется из газет, не интересуется политикой, по телевизору смотрит только «Кухня-ТВ». Я никогда не соответствовала уровню героини «Пигмалиона», — жалуется его вторая жена, с которой Малыш живет всего два года, — так что он всегда смотрел на меня как на что-то временное. А по-моему, женщины все усложняют. Бедный, бедный мальчик, как-то скажет ему вторая жена, ты зациклен на жалости к себе, на что Малыш крикнет ей — заткнись! Малыш отрастил бородку и усы, Малыш привел себя в форму, Малышу хочется всего лишь, чтобы рядом с ним жила молчаливая девушка с большой грудью, которая бы обожала его и готовить. Таких нет. Такая была. Иногда Малыш, напившись, звонит ей ночью, — ее номер единственное, что он запомнил за пять лет безумной пьяной учебы, — и кладет трубку, когда слышит на том конце ее голос. Она уедет. Так что приходится перебиваться самому, и Малыш предпочитает засыпать засветло. Звонок ночью. Малыш долго не понимает, что он и где он, пока ноющий голосБбабушки Третьей не объяснит ему, что случилось непоправимое. Дедушка Третий умер. Малыш, — почесывая на нервной почве руки и плечи, — вызовет такси, и будет ждать машину на улице, поеживаясь от холода. Прямо как в детстве. Железнодорожная станция, и вот-вот приедет поезд, чтобы увезти нас куда-нибудь далеко-далеко. Светят фары. Малыш приезжает в дом Бабушки Третьей и Дедушки Третьего, который лежит, мертвый, на огромной кровати, а над ним кружится самолет ВВС США, и пилот, наконец, празднует победу. Грустная тетка. Лицемеры, думает Малыш, глядя на нее и Бабушку Третью, и на мертвого деда, чего вы теперь от меня хотите, я всю жизнь был вам чужой, чего же вы хотите от меня теперь, ЧЕГО ВЫ ВСЕ ТЕПЕРЬ ОТ МЕНЯ ХОТИТЕ, повторяет про себя Малыш всю ночь, хотя обещал себе уснуть сразу же. В глазах скачет. Малыш, удивив себя, занимается организацией похорон, ведь Папы Второго — привыкшего разъезжать — нет в Молдавии, и Малыш за главного. Деда Третьего хоронят на Армянском кладбище. Будет салют и погоны полковника на надгробном камне, как того пожелали дочь и вдова покойного. Малыш ничего не чувствует. Каменный я, что ли, думает он сам о себе спокойно, предлагая на поминках присутствующим почтить память Дедушки Третьего рюмкой водки. Сам не пьет. Малыш пишет книги, которые постепенно начинают выходить, это не то, чтобы слава слава, которой Малыш так никогда и не добьется — да и не добивался — а просто известность в кругу профессионалов. Скажем, так. Свое место в русской литературе он занял, — пусть довольно неожиданно для себя, — и кому надо, о Малыше знают. Он устраивается пресс-секретарем в известную компанию, покупает билеты в Венгрию, и летит в Цеглед, находит военный гарнизон, где они жили, и там уже музей советской оккупации, так что Малышу приходится купить билет. Отдает должное. Все сохранили, как было, пытается вспомнить он, даже болото не до конца осушили. А вот ромашек уже нет. Малыш возвращается. Малыш заходит в гости к Бабушке Четвертой — совершенно случайно — и не застает ее дома, зато дверь, по старой привычке, открыта. Так что Малыш роется в ванной. Находит огромный пакет с бумажками, это четвертушки, на которых в советских библиотеках писались паспорта книг. Четвертушки заполнены и пронумерованы. Что еще за клинопись, усмехается Малыш, чмокает в щеку Бабушку Четвертую, которая почти ослепла, и справляется у нее, — та отвечает, это дедушка писал при жизни глупости какие-то, может тебе нужно, внучок? Давай, говорит Малыш, в котором, — как в любом запутавшемся в жизни человеке, — просыпается страсть к бытовой археологии. Карточка номер один. «ИСТОРИЯ СЕМЬИ». Малыш смеется. До чего же они смешные, эти молдаване, все они, чувствуя свою ничтожность, помешаны на том, чтобы оставить после себя Дом, Историю Семьи, Важный Труд, Диссертацию. Дикари. Русские не лучше, впрочем, вспоминает Малыш вещи Дедушки Третьего, которые — после тщательного имущественного ценза, — позволено было вынести за дом и сжечь. Папка с газетными вырезками. Все как одна про какую-то сраную плотину в Северной Корее, где дедушка посбивал американские самолеты и получил за это кортик с дарственной надписью Мао Цзе Дуна. Кстати, где он? Не знаю, говорит Бабушка Третья, шмыгнув, так что Малышу все понятно. Продала с выгодой. Еще в вещах какие-то химикаты для фотографии, — которой Дедушка Третий увлекался, — поэтому куча бумаг и тряпья, сложенная Малышом за домом, вспыхивает ярко и необыкновенно. Словно несуществующим цветом. Малыш вспоминает, что про такой огонь в Чернобыле ему рассказывал Папа Второй. Малыш празднует двадцатипятилетие, и выворачивает руль резко вправо, он бросает свою престижную работу, и уезжает в Турцию, проводником туристических маршрутов. Водит группы. Анталия, ущелья, древние ликийские города, старинное стекло, ему две тысячи лет, — берите себе на память по кусочку, — и которое Малыш разбрасывает среди камней за неделю до появления группы, затонувший город, видный с поверхности воды, дружелюбные турки, старинный Каш, Мекка дайвинга, так что Малыш отвел, наконец, душу ныряльщика. Почернел, стройный. Ночами пишет. С семьей отношений не поддерживает, да и где она, эта семья? Уже 2007 год, миграция из Молдавии стала необратимой, какой-то Лоринков умудряется даже на этом заработать, пишет книгу, Малыш заказывает ее интернет-доставкой, ну, что сказать, слишком уж много ерничания. Но смешно, да. Малыш положительно оценивает Лоринкова в интервью российскому литературному порталу, он рад тому, что в Молдавии теперь два писателя. Книги Малыша расходятся умеренно. Больше ничего и не нужно. Умеет выжать слезу, умеет заставить улыбнуться, но это, конечно, ремесло, пусть и высшего качества, но ремесло. А не безумное, порой уродливое, но гениальное Вдохновение, говорит о Малыше писатель Лоринков в интервью российскому литературному порталу. Клятые молдаване. Лишь бы пнуть друг друга. Малыш, — с удивлением для себя, — разбирает карточки Дедушки Четвертого. Писать не умел. Зато много фактуры, так что Малыш начинает ее зачем-то — да просто от нечего делать — обрабатывать. Облагораживать. Зимой не сезон, времени много. С туристками не спит. Малыш устал от романов, к тридцати у него уже три брака, к счастью, ни в одном не было детей, а если и было, ему о том неведомо. Наш турецкий изгнанник. Звонит Мама Вторая. Приезжай, Бабушка Третья умерла, говорит она скорбящим — для приличия, знает Малыш, — тоном, так что придется ехать. Стоят у гроба. Папа Второй, — очень коривший себя за то, что его не было рядом во время смерти отца, — снова в разъездах, организация похорон снова на Малыше. Опять Армянское кладбище. Малышу и Маме Второй нечего сказать друг другу, общий враг лежит в гробу перед ними, и оба чувствуют даже что-то вроде пустоты. А думала жить вечно. Малыш предлагает почтить память его бабушки рюмкой водки всех присутствующих на поминках. Сам не пьет. Звонит брату в США, и, — открыв каждый по бутылке вина, — братья поминают память зловредной старухи, которая ушла, так и не смирившись. Смерть застигла ее над рекламной газетой. Выбирала себе новую мебель, даже ручкой обвести самое интересное предложение успела. Ненасытная. Сейчас-то успокоится. Малыш, стоя у набросанной земли в венках, смеется и говорит брату, что у него есть большие сомнения относительно успокоения: он считает, что старушка и по смерти станет загребать себе как можно больше земли. Чокаются в трубку. Твой брат — единственный человек, который тебя не раздражают, говорят Малышу все его три жены, с перерывом в несколько лет каждая. Малыш отмалчивается. Если бы вы знали, что нам пришлось пережить, — нам двоим, — думает он с грустью, и посвящает своему брату книгу, которая как-то легко и совершенно случайно почти закончил в Турции. Это вроде бы роман, а вроде и нет. Человеку, ухудшенной копией которого я являюсь. Вот мы-то двое и есть Семья. Остальной семьи нет. Дядя уезжает в Италию, другой — в Португалию, кто-то в России, двоюродные браться в Ирландии, сестра в Иордании; конечно, Малыш их всех не любил, — да и за что? — но они, черт бы их побрал, все-таки Были. А сейчас их нет. Наша семья словно разбитая армия, все раскиданы, разбросаны, а большей частью уже и мертвы, думает никогда не служивший в армии Малыш. После этого не пишет. Наклевывается интересная сделка, вопрос стоит о недвижимости в райском регионе Земли, где собаки едят апельсины, упавшие с земли, а кур не нужно кормить, — здесь всегда тепло, и они живут на подножном корме. Как свиньи в Абхазии. Малыш срывается в последний момент. Предусмотрительно вложив деньги, отказывается от личного участия и решает возвратиться в Молдавию, чтобы дописать книгу, купить автомобиль и снова заняться штангой.
А пока Малыш в древней Ликии. Малыш переплывает на байдарке долину, в которую когда-то спустилось море — Молдавия в миниатюре, некстати думает он, — и провожает американских туристов в рыбный ресторан на набережной. Собаки лают. Десятки кошек трутся о ноги столов и посетителей, за запотевшим стеклом холодильника, — словно в бобруйском магазинчике восьмидесятых- свиная голова — валяется свежая рыба. Выбирайте, прошу вас. Рыбки играют у пристани. Жизнь во всей ее полноте. У ресторана покачиваются яхты, на одной дымится жаровня, гости едят прямо на воде. Через залив, накрывший старинный город, отлично видный с поверхности воды в солнечную погода — а солнечная погода здесь всегда, господа, — виден старинный римский храм. Расколот молнией. Малыш снимает жилет, сдает владельцу байдарок, сушит на Солнце голову, — показывал, как нужно вести себя, если байдарка перевернется. Вымок. Пьет кислое молоко, заедает хлебом, болтает ногами. Солнце припекает. Трудно поверить, но это декабрь. Малыш гуляет немножко, провожает группу, после того, как ее ощипали продавцы сувениров, — в Стамбуле то же самое дешевле раза в два, — и возвращается к себе. Он живет в памятнике. Домику четыреста лет, это архитектурная достопримечательность, но здесь все — памятник и ценность, — так что хозяин сдает Малышу две комнаты. Живет по-царски. Малыш нежится в море, регулярно ныряет, и любуется котиками, отдыхающими на обратной стороне перешейка между морем и заливом. Невероятно. Глазам своим не поверил, думал, турецкий проводник, как обычно, — восток, дело тонкое, думает Малыш спусти тридцать лет после премьеры фильма про Петруху, — преувеличивает, врет. Там отдыхают морские котики. Ты уверен? Клянусь своей семьей. Стало быть, не очень уверен. Так что Малыш, когда только еще приехал в Кеково и нашел квартиру, во второй свой вечер здесь переплыл залив, — три километра для него пустяки, — и вышел из воды, словно Посейдон какой. Пустой берег. Расколотый молнией храм. Ровно надвое. Почерневший мрамор, груда камней у подножия, прозрачная вода, и Малыш рад, что он на мелководье. Плыть над трехкилометровой прозрачной глубиной, — между ним и затонувшим городом словно бы и нет воды, такая она прозрачная — было странно. Проводник не врал. На обратной стороне перешейка лежали темные фигуры, купальщики, подумал, сопротивляясь последний раз, Малыш. Нет, котики. Влажные, блестящие, усатые торпеды. Лежали, глядели в сторону безбрежного — это только кажется, Средиземное не очень большое, — моря, ничего не боялись. Они здесь под охраной. Малыш глядит на них, и ему щемит сердце, почему бы это. Вечереет. Так что Малыш, постояв еще немного на груде камней посреди перешейка, — каких-то сорок-пятьдесят метров, и полюбовавшись на стадо котиков на валунах, тихонько идет назад. Плывет, уже дольше, обратно. Смотрит телевизор. В Молдавии состоялись выборы, победили коммунисты, растерянное лицо их вождя, Воронина, показывают все телеканалы мира, коммунисты, 2001 год, это же экзотика. Малыш засыпает. Малыш просыпается, гуляет по Кашу, знакомится с инструкторами по дайвингу, с прокладчиками маршрутов, с бездельниками всей Западной Европы, которые живут здесь по полгода, и Малыш очень скоро узнает почему. Здесь рай. Малыш водит группы. Малыш спасает утопающих. Малыш учит веснушчатых австралийских туристок проходить на байдарке сложный — как им кажется — маршрут между камней, тут и там натыканных в уголке залива. Малыш пишет книги. Вернее, книгу. Малыш разбирает записи Дедушки Четвертого — единственное не нужное, что взял с собой из Молдавии. Это что-то вроде истории семьи, и Малыш, хохоча, узнает, что у Дедушки Четвертого было еще две семьи, одна в Оргееве, и одна в Бендерах — и это помимо кишиневской, — и семеро незаконных детей. Ай да старик. Малыш решает, — на всякий случай, — свои дневники сжечь, что и делает после первого года своего пребывания в Каше. Разводит ими костер, на котором туристам поджарят рыбку. Дедушка Четвертый откровенен. Воспоминания начинаются фразой «я дважды похоронил своего отца». Много красивостей. Куда же в воспоминаниях бессарабского интеллигента без красивостей, сплевывает рыбную косточку Малыш. Я познал ад. Ад следовал за ними. Крылья ночи. Мрак ужаса. Кошмар отчаяния. О, лицемеры, — вопиет Малыш в ярости, — стараясь забыть свою убогую несчастную, проклятую им родину как можно скорее. По телевизору про Молдавию ничего. Ну, разве что в 2002 году покажут сюжет по «Евроньюс», и там какой-то чиновник из Брюсселя станет утверждать, что в Тирасполе производится атомное оружие. Малыш смеется. Я никогда не любил свою жену, пишет Дедушка Четвертый, — но всегда был к ней почтителен и уважал ее, как мать моих детей. Малыш морщится. Бабушка Четвертая на похоронах выла. Я всегда с прохладцей относился к своим внукам, — сыновьям моей дочери, — пишет Дедушка Четвертый, и Малыш пожимает плечами, что же тут нового, он это всегда чувствовал. Зато я обожал младшего сына. Он далекой пойдет, он гений, я думаю, ему передались мои способности литератора, которые я безбожно растратил на канцелярщину в Союзе Писателей, самонадеянно пишет бездарный — на взгляд Малыша — Дедушка Четвертый. Младший самый способный… Это написано в 1988 году, и очень скоро Дедушка Четвертый станет диабетическим овощем, и не увидит, что его младший сын сопьется, так и не закончив автодорожный колледж. Из него даже механика не получилось. Малыш переплывает залив. Глядит на котиков. Старый чертов кретин. Я — твой наследник. Как бы этого мне не хотелось, как, впрочем, — я уверен, — этого не хочется и тебе, думает Малыш, подняв лицо к небу. Котики играют. Малышу приходит в голову шальная мысль в следующий раз принести им мяч, но он не знает, как на это посмотрит местный государственный смотритель за природным балансом. Днем валуны пустуют. Малыш знает точно. Он водит через этот залив флотилию байдарок за собой три раза в неделю, и слушает, как туристы смеются и восторгаются, выбираясь на берег, и поднимается перед ними по горке камней, чтобы показать вид на валуны и море. Там отдыхают котики. На Средиземном море?! Туристы смеются, они уверены, что Малыш преувеличивает, все турки такие, а смуглый бородатый Малыш и правда очень похож на турка, местные даже с ним по-турецки заговаривают. Вечером котики возвращаются. Малыш плавает к ним каждый вечер. Шесть километров. Получается, отличная тренировка. Большой спортивный класс Малыша, как и его семья, развеян по ветру, из тридцати человек уже трое умерли, а двадцать семь — за пределами Молдавии. Даже он. Малыш думает о Молдавии как о кладбище слонов, месте, которое, без сомнения, есть, но которого никто не видел. Кроме умирающих слонов. Мама Вторая изредка пишет, присматривает за Бабушкой Четвертой, с братом созваниваются почти каждый вечер — его голос, да котики, вся компания Малыша. С бывшими женами не общается. Время от времени в Москве выходят книги, написанные им в те горячечные пять лет, что валялся пьяным на кроватях в самых разных комнатах Кишинева. Малышу все равно. Чего я хочу, думает он, выходя из воды на пустынный пляж, с обратной стороны которого глядят в море котики. Свободы. Что такое свобода, спрашивает себя Малыш, — не удержавшийся, и бросивший в котиков мяч, — на которой они, вопреки всем ожиданиям, внимания не обратили. Но и не испугались. К этому человеку они привыкли — Малыш да смотритель, вот единственные, кого они подпускают близко. Мяч несъедобный. Молдавию изредка показывают в новостях — исключительно в разделе «восточноевропейские новости», так что Малыш более-менее в курсе происходящих там событий. Коммунисты победили, демократы проиграли, коммунисты проиграли, коммунисты победили. Коммунисты стали демократами, демократы вступили в коммунисты, потом снова поменялись. Бессарабские проститутки. Народ бежит. Жить все хуже. Мама Вторая остается, ей все равно, Папа Второй с приятелями из России организовал общий бизнес, бывшие военные держатся крепко, держатся вместе, зарабатывает неплохо. Много ездит. Малыш изредка с ним созванивается, отец с сыном разговаривают неловко. Каждый вечер Малыш начинает заплыв, плывет аккуратно, держит темп, — если ветра нет, на дорогу уходит всего час. С ветром два. Стало ритуалом. Малыш уже различает улицы древнего города, лежащего под ним. Различает котиков. Ходит степенно. Время здесь медленное. Малыш не спеша читает воспоминания Дедушки Четвертого и зачем-то начинает писать. Тоже медленно. Это очень нетипично для Малыша, раньше писавшего торопливо, ухваткой — так, как ел его вечно спешащий отец-офицер. Да и жил так. Сейчас Малыш, — завороженный застывшим Средиземноморьем, — никуда не спешит. Живет себе. Что делать с книгой — не знает. Суну под кровать, и, когда умру, ее найдет кто-то из внуков, если, конечно, они у меня будут. Светлый солнечный диск исчезает в воде, и Малыш понимает, что плыть обратно придется ночью. Лучше заночевать здесь. Это не проблема, здесь всегда тепло и благодать, здесь рай, искренне считает Малыш. Котики пошлепывают телом о камни, сползают к воде освежиться. А то и соскальзывают. Сидит до утра под расколотой аркой, обхватив колени руками, думает. Вспоминает год. Две тысячи девятый. Утром Малыш приветствует тот самый диск, словно подновленный чрезмерно соленой — не то в Ледовитом океане — водой, и потому ослепительно яркий. Малыш очнулся. Он здесь вот уже семь лет, вспоминает он. Он десять тысяч раз проплыл залив, отделяющий городок Каш от перешейка, за которым начинается Море. Бесчестное количество раз видели его выходящим из воды орлы и скалы, разрушенный храм и валуны, древнее этого храма. Рожденный водой. Сын Афродиты. Он уже ликийское божество. Он уже котик. Малыш, взглянув последний раз на море и Солнце, поворачивается, чтобы, наконец, уйти по-настоящему. Не вернувшись. Вечереет, а завтра рано вставать, до аэропорта Анталии два часа езды. Прощайся. Малыш и прощается. Чайка кричит, море хлопает о камни, и Малыш, обернувшись последний раз, видит силуэт котика на валуне. Поднялся к небу. На носу мяч.
Аэропорт отстроен. Малыш выходит из разъезжающихся дверей, и первое, что он видит — лоскутные одеяла полей. Говорит «я приехал». Кому?.. 2009 год. По телевизору показывают, как дымится здание парламента после каких-то демонстраций, но ему все равно Что бы не случилось, я остаюсь, думает он. Живет аскетом. Иногда думает, что надо бы снова начать писать, но для этого — думает совсем ужа втайне от себя — ему нужна женщина. Жизнь не устраивает, зачем. Она сама о себе позаботится. Сдает на права и покупает автомобиль, — из принципа, чтобы доказать себе, что иногда механизмы ему все-таки подчиняются — и старается практиковаться в езде. 14 октября 2009 года выезжает на своей синей «Шкоде» на центральный проспект города — улицу Штефана Великого — которая пустует из-за праздника. День вина. Все горожане собрались на Комсомольском озере, — куда так и не налили воду, — и гуляют на территории ВДНХ, под памятниками Ленину и Сталину. Вино пьют. Малыш едет по пустынной главной улице города мимо уже отреставрированных парламента и президентского дворца, и тормозит как раз между ними. Весь в прошлом, я весь в прошлом, понимает вдруг он, поэтому и не устраивается моя жизнь. Загорелся зеленый. Жмет на газ. Машина стоит. Ремень полетел?
Лоринков все-таки начал писать, но, как это обычно в начале и бывает, боится потерпеть неудачу и успокаивает себя тем, что, во-первых, не попробуешь не получится, а во-вторых… Я все равно в тупике. Так что нужно действовать. Тем более, ему надоело дергать за испытанные струны, он не хочет вызывать слезы и смех испытанными приемами. Ничего не хочет. Матвей вытянулся. Весит уже шестнадцать с половиной килограммов, слава Богу, худощавый в мать. Как твой роман, спрашивает брат по телефону. Как-то так… Матвей в «Макдональдсе», куда Лоринков тоже любит ходить — здесь можно даром читать местные глянцевые журналы, — и играет с шариком. Глядит в трубочку. С родными не общается, тем более, что почти все разъехались. Италия, Португалия, Россия, Армянское кладбище, кладбище «Дойна». Лоринков пьет кофе. Лоринков спит днем. Лоринкову снится, что Молдавия снова стала дном диковинного мезозойского озера, о котором они с Матвеем читали в раскладной книжке «Эра динозавров». Мы на дне. Толща воды покрывает нас, думает Лоринков, глядя на своего прекрасного сына, — все мы давно умершие грандиозные животные, нас нет, мы стали известняком с ракушками, из которого строят кишиневские дома. Ракушки, тюлени, люди — пять веков, пять эпох, смешиваются в планктон, который безжалостно цедит время-кит. Конечно, все случайно. Ведь, думает писатель Лоринков в «Макдональдсе», пока его сын есть картошку — а вы что, думаете, в любом другом кафе Кишинева вам ее поджарят как-то по другому, что ли, — было бы здорово, если бы время уподоблялось ковру. Взаимосвязь, узор, и все такое. В 3 веке до нашей эры камешек падает с обрыва над Днестром и это приводит к событиям 20 века. Но ведь это враки. Так не бывает. Время не замыкается, хоть и повторяется время от времени, думает писатель Лоринков, и к ним подходит вежливая сотрудница заведения. Когда у тебя день рождения, малыш, спрашивает она, и писатель Лоринков вздрагивает. Так его называл только брат, который давно уже за границей. Машинально отвечает. Четырнадцатого февраля тысяча девятьсот семьдесят девятого года, говорит он. Сотрудница смотрит на него с удивлением, и смеется, Лоринков — хочешь не хочешь — замечает, что у нее приятный цвет лица и стройные ноги, юбка ведь короткая. Колготки или чулки? Что за страна, в сравнении с манерой здешних женщин одеваться даже униформа «Мака» выглядит стильной, раздраженно думает Лоринков. Потом спохватывается. Ты стареешь, чтоб тебя. Сотрудница спрашивает Матвея — малыш, я Тебя спрашивала, когда у тебя день рождения? Подумала, флиртую. Лоринков краснеет. Матвей отвечает. Ему дарят фломастеры. Ими удобно править текст и отец выторговывает у Матвея один фломастер. Лоринков черкает в листах. Сто с лишним заполненных текстом листов, полгода работы, получилось неплохо, это позже и правда издадут, называется «Клуб бессмертных». Получилось хорошо, но не то, чего хотел. А разве с детьми не так? Лоринков никогда не представлял себе, какими будут его дети, поэтому он изумлен, глядя на них. Словно инопланетяне. С книгами так же, — ты их не пишешь, а тебе словно дают снять одну из них с невидимой полки и переписать. Да, но роман? Какие-то наброски… Он просматривает, пока Матвей заводит динозавра из набора «Счастливая еда», и пластиковый тиранозавр скачет по их столу, вызывая восторг мальчишки. Нет, все не то, думает писатель Лоринков, но как узнаешь, если на начнешь? Решает начать. Начинает. Матвей с удивлением глядит на отца, черкающего что-то с обратной стороны счета. Что ты пишешь, спрашивает он, и смеясь, пересказывает позже ответ отца. Слова пишу.
Красотка выходит из дома, чтобы немного пройтись по центральной улице, пока та пустует, дома делать нечего, сын в скаутском лагере в Румынии. Утром звонили родители. Дочка, мы хотим поздравить тебя с великим праздником, сказал с пафосом отец, по голосу слышно, пьяный. Что же, сегодня его день. Красотка холодно выслушала поздравления — с праздником вина, с ума сойти, — поздравила в ответ, сказала, что зайти не сможет. Мама к телефону не подошла. Красотка понимает, что Красотке уже тридцать четыре. Красотка женщина в соку. Может так наподдать, что на седьмом небе от счастья будешь. Красотка ходит в фитнес-центр, занимается бегом, посещает баню и турецкую баню, делает по утрам макияж, руководит здешним представительством «Эйвон», и дает интервью местному журналу «Акварель», в рубрике «Формула успеха». Лоринков гогочет, читая. Молдавская-бизнес-вумен. Напыщенная идиотка, как, впрочем, и все здесь в Молдавии, к которой, я впрочем, чересчур нетерпим и требователен, думает с неожиданной теплотой о родине Лоринков. Матвей видит маму. Писатель Лоринков целует ее, сдает на руки сына, и глядит, как все они втроем — она, Матвей, маленькая Глаша, — садятся в такси, чтобы уехать к родителям на ужин. Руки в карманах. Не спеша идет к президентскому дворцу, полюбоваться новыми витражами, установленными после недавних погромов. Безлюдно. Слава Богу, все на ВДНХ. День Вина спрятали подальше от центра. Лоринков терпеть не может иностранных журналистов, снующих между горожанами во время Дня Вина, с камерами и фотоаппаратами, он сжав зубы глядит на ролики в интернете, где молдаване пьют вино из пятилитровых пластиковых бутылей, после чего блюют и падают на асфальт. Вакханалии. Лоринков любит Кишинев в октябре, так что он идет по центру города с физическим почти наслаждением. Проходит центральную площадь, — стоит немного под старинной Аркой, установленной еще при русских императорах, — специально загребает ногами листья. Машин мало. Красотка идет ему навстречу. Идет по городу не спеша, с удивлением видя свое лицо на рекламных щитах, — свежий номер журнала «Акварель» уже в продаже, написано внизу, — и думает, не вызвать ли ей машину. Куда ехать? За город, туда, откуда взлетают самолеты, и куда любил приезжать в юности Папа Первый, мечтавший о путешествиях. Он сам признался. Давно, когда Красотке, чтобы увидеть лицо отца, нужно было задрать свое повыше. Это была их тайна. А сейчас он, пьяненький, звонит ей с утра, чтобы поздравить с каким-то глупым праздником, и Красотка прекрасно понимает, в чем дело. Родителям нужны деньги. Она даст. Красотка покачивает бедрами, и старается не обращать внимание на взгляды. Совсем как в школе. У президентского дворца хочет перейти дорогу, — захотелось в кино, а оно там, в здании бывшего благородного собрания, вспоминает Красотка рассказы отца, где когда-то Котовский ограбил всю местную элиту. Хорошо элита. Полицейский у дворца восторженно хмыкает, глядя на зад Красотки, та улыбается, и ждет, когда загорится зеленый. У светофора еще стоит какой-то мужчина, но тому явно не до нее. Ни до кого. Смотрит в небо. Красотка делает шаг вперед, и едва не падает. Каблук сломался. Остановившаяся машина все не заводится, и опытный водитель Красотка думает что бы это могло быть. Возможно, ремень.
Лоринков гуляет в очках, ведь октябрь единственное время года, когда ему хочется видеть Кишинев в мельчайших деталях, и ему не надоедает это делать. Листья резко очерчены. Небо в росчерках самолетов, уносящихся прочь от Молдавии. Росчерки тают. Лоринков стоит под светофором, возле которого притормозила машина с загорелым мужчиной, и ломает каблук эффектная женщина. Писатель Лоринков глядит вверх, любуясь осенним — он любит осень, это, кажется, единственное настоящее в нем, — небом. Сейчас должно случиться что-то важное, вдруг думает он. Но Солнце не останавливается, да ведь и Навин давно уже умер. Что дальше? Лоринков не узнает, пропустил. Женщина глядит на нервничающего водителя, и улыбается. Вот-вот скажет — да это же… Что? Лоринков не знает, у него нет прав. Лоринков решает: к черту все, напишет он простую историю, безо всякого смысла. Ну хотя бы о мужчине и женщине, которые познакомились у светофора, когда у нее сломался каблук, а у него — машина, и началось все это лет сто назад, когда бабушки и дедушки зачали детей, ставших их отцами и матерями. Хоть так и не бывает. Лоринков любуется обоими. Красивая была бы пара. Познакомились? Лоринков никогда не узнает. Он наклоняется, чтобы завязать свои проклятые, вечно развязывающиеся шнурки. А когда выпрямился, чтобы глянуть на привлекшую его внимание броскую и эффектную даму — что-то в ее лице кажется ему знакомым, но это обман, кризис среднего возраста, — на перекрестке уже нет ни ее, ни машины. Может, она подсказала, в чем дело, а он в благодарность предложил ей кофе, и они уехали вместе. Или мотор завелся, — гадает Лоринков, — и каблук не сломался, а просто подвернулся, и она все-таки перешла дорогу, затерявшись в рекламных щитах у городского кинотеатра. Кто знает. Лоринков вздыхает, поправляет очки. Снова прислоняется к столбу спиной. Забыл все. Остался наедине с Кишиневом, занялся любимым делом. Уставился в небо.
май 2007 — август 2009