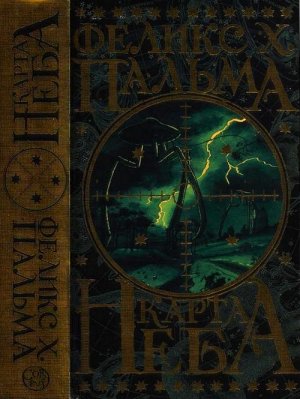
Феликс X. Пальма написал замечательный роман, в котором мастерски соединил самые разные литературные жанры… Создать Новую реальность ему помогают знаменитые писатели (Уэллс, По, Стивенсон, Верн) и их книги. «Карта неба» — достойное продолжение «Карты времени», но и те, кто не читал первой части трилогии, смогут без труда следить за развитием событий во второй ее части.
ASSOCIATED PRESS
Читателю «Карты неба» предстоит разгадать немало загадок и сопоставить противоречивые на первый взгляд факты… Кроме того, он обнаружит в романе особые сигнальные значки, позволяющие восстановить всю историю жанра научной фантастики.
THE WALL STREET JOURNAL
В романе Пальмы события выдуманные и реальные соединяются таким образом, что граница между ними неразличима, в то же время он побуждает читателя взглянуть на мир глазами человека викторианской эпохи, разделить наивный энтузиазм, с каким тот воспринимал быстро меняющуюся действительность.
ABC
КАРТА НЕБА
(Роман)
На космическом уровне… только фантастическое имеет шансы быть истинным. Тейяр де Шарден
Было бы глупым бахвальством презирать и осуждать как ложное то, что кажется нам невероятным. Монтень
— Как, вам известно, — спросил он, — люди там [на Марсе] или чудовища обитают? Алексей Толстой. «Аэлита»
Часть первая
Входи, многоуважаемый читатель, и без боязни окунись в захватывающую атмосферу нашего романа, где тебя ждут невероятные приключения, которые станут испытанием для твоего сердца, а быть может, и для твоего разума!Если ты полагаешь, что наша планета преспокойно вращается себе в необъятной вселенной, где ей ничто не угрожает, то сейчас ты обнаружишь, какая страшная опасность может подстерегать нас в космосе.
Так что мой долг предупредить тебя, отважный читатель, что здесь ты столкнешься с такими ужасами, о которых твоя бесхитростная душа, возможно, не подозревала и не догадывалась, что Господь может подобное породить. Если эта история не пробудит в тебе глубоких чувств, мы вернем тебе твои пятаки, чтобы ты потратил их на что-нибудь более волнующее, ежели ты таковое найдешь!
— Как думаешь, Петерс, что же это все-таки за тварь? — обратился к метису другой матрос, некий Карсон, словно в сложившейся ситуации тот обладал большим авторитетом, нежели сам капитан.Петерс некоторое время молчал, словно прикидывал, готовы ли его товарищи воспринять то, что он собирался им поведать.
— Это демон, — наконец проговорил он с хмурым видом. — И явился он со звезд.
I
Джереми Рейнольдсу хотелось бы быть влюбленным, чтобы иметь возможность окрестить женским именем ледяную глыбину, в которую уперся его корабль, этот антарктический пейзаж, расстилавшийся перед ним. Или горную цепь, на горизонте к югу, или бухту, открывавшуюся справа в снежном тумане, или даже любую из многочисленных льдин. Но Рейнольдс никогда не испытывал чувств, похожих на любовь, и единственным именем, которое он мог бы использовать в этих целях, было имя Джозефины, богатой девушки из Балтимора, за которой он ухаживал, влекомый совершенно иными интересами. Откровенно говоря, он не мог представить себя, обращающегося к ней во время чаепития, под неусыпным взглядом ее матери, со словами: «Кстати, дорогая, я назвал твоим именем континент, лежащий далеко за Полярным кругом. Надеюсь, это тебя обрадует». Нет, Джозефина не сумела бы оценить такой подарок. Она ценила только то, что можно носить на пальцах, запястьях или шее. Какой прок от подарка, которого она никогда не увидит и не потрогает? Это чересчур изысканный презент для девушки, чуждой всякой изысканности. И вот теперь, очутившись во льдах, на сорокаградусном морозе, Рейнольдс принял решение, какого не смог бы принять, находись он в любом другом месте: прекратить ухаживать за Джозефиной. Да, именно так он и поступит. Весьма маловероятно, что ему удастся вернуться живым в Нью-Йорк, но он дает себе торжественный обет: если с помощью какого-то чуда это произойдет, его избранницей станет лишь та, кто обладает тонкими чувствами и способна испытать волнение оттого, что на Южном полюсе есть закованный в лед утес, носящий ее имя. Хотя было бы неплохо, про себя добавил он, подчиняясь своему неизменному здравому смыслу, чтобы такая девушка располагала к тому же достаточными средствами и в случае, если фортуна ему не улыбнется, не корила бы его за то, что та далекая скала — единственное, что он может ей предложить.
Он тряхнул головой, чтобы прогнать эти романтические мысли, уносившие в далекий мир, который отсюда казался неправдоподобным, и устремил свой взор на бесприютный край, лежащий в такой дали от цивилизации, что Творец не стал украшать его приметами жизни. Кроме того, кому захочется окрестить именем жены, своим собственным, корабля, доставившего их туда, или организатора экспедиции этот кусок льда, который, возможно, в конце концов станет его могилой? Да, он приехал сюда, обуреваемый стремлением вписать свое имя в Историю, но, как становится очевидным, единственное, что ему удастся написать, будет его эпитафией.
Они отплыли из Нью-Йорка в октябре с намерением достичь Южного полюса через три месяца, когда лето в Южном полушарии в разгаре, однако из-за целого ряда неблагоприятных обстоятельств и неудач, преследовавших их с самого начала экспедиции, путешествие безнадежно затянулось. К тому времени, когда они миновали Южные Сандвичевы острова и направились к острову Буве, этому ускользающему от глаз наблюдателя островку, который с таким трудом нанесли на карту предыдущие исследователи, даже помощник кока и тот знал, что удача ждет их только в том случае, если они достигнут цели до конца лета. При этом экспедиция вышла очень дорогостоящей, и они уже проделали слишком большой путь, чтобы возвращение могло устроить хоть кого-нибудь, а потому капитан Макреди приказал держать курс на острова Кергелен, надеясь, что кроличьи лапки, которые захватили с собой матросы, окажутся более действенными у Полярного круга, чем в Америке. Оттуда они проследовали на юго-запад и вскоре начали встречать на своем пути первые плавающие льдины, которые словно охраняют берега Антарктиды, как отважные часовые. Используя проходы между льдами и огромными айсбергами, они сумели без особых помех продвинуться довольно далеко, пока почти полностью скованное ледяным саваном море не объявило им, что в этом году зима решила прийти на месяц раньше, в середине февраля. Невзирая на это, они с энтузиазмом принялись раскапывать лед, наивно уповая на двойную обшивку из африканского дуба, которую Рейнольдс приказал поставить, дабы усилить корпус старого китобойца. Это были долгие и отчаянные попытки, но в конце концов появление огромного айсберга превратило схватку со льдом в мираж. Но капитан Макреди проявил себя весьма изобретательным человеком: он распорядился сыпать угольную пыль на державший их в тисках лед, чтобы побыстрее растопить его, приготовил свечи и даже отправил нескольких человек раскалывать лед с помощью любых колющих инструментов, какие только отыскались в трюме. Единственное, что ему оставалось, это попробовать собственноручно перенести корабль на другое место, подобно какому-нибудь богу с Олимпа. А так все эти усилия ни к чему не привели, разве что добавили ситуации патетики. Они были обречены с того самого мгновения, когда решились войти в это море, усеянное ледяными капканами, а может быть, даже с момента, когда Рейнольдс замыслил свою экспедицию. Вскоре судно слегка накренилось на правый борт, и им удалось спуститься на лед, где Макреди приказал кому-то подняться на вершину ближайшего айсберга и сообщить, что он оттуда увидит. Вырубив с помощью кирки небольшие ступеньки во льду, дозорный вытащил латунную подзорную трубу и подтвердил то, что уже давно подозревал Рейнольдс: мир для них теперь ограничивался бескрайним ледяным полем, ощетинившимся скалами и айсбергами, белым небытием, где они вдруг стали жалкими, ничего не значащими букашками, не важно, живыми или мертвыми.
Спустя две недели положение не улучшилось, и глупо было это отрицать. Ледяные клещи, державшие в плену «Аннаван», не разжались ни на миллиметр. Наоборот, тревожное потрескивание льда свидетельствовало о том, что его давление на корпус судна только усиливается. И ослабления этой хватки можно было ожидать разве что через восемь-девять месяцев или даже позже, когда сюда снова придет лето, и это еще если им повезет, ибо Рейнольдсу было известно слишком много похожих историй, когда желанное таяние льдов так и не наступало. На самом деле, каким бы опытом ты ни обладал, все становилось непредсказуемым, едва ты отваживался вступить в царство льда. Достаточно вспомнить хотя бы экспедицию сэра Джона Франклина, предпринятую в 1822 году на север Канады с целью отыскать Северо-Западный проход. Участники экспедиции столько времени блуждали во льдах, что Франклину пришлось даже съесть собственную обувь, чтобы хоть как-то заглушить страшный голод. Но Франклин все же вернулся домой, что удавалось далеко не всем. «Не пополнят ли и они длинный перечень неудавшихся экспедиций, пропавших кораблей, мечтаний, канувших в неизвестность, который заботливо составляют в Адмиралтействе?» — подумал Рейнольдс, с отвращением разглядывая свои заиндевелые сапоги. Пока что им остается только молиться, чтобы 1830 год не был указан на их надгробных плитах вслед за датой рождения.
Он бросил грустный взгляд на «Аннаван». Это было китобойное судно тридцатиметровой длины, знававшее лучшие времена, когда оно промышляло кашалотов и китов-горбачей в южной Атлантике. От того славного прошлого осталось лишь полдюжины гарпунов и дротиков, хранившихся в арсенале. Теперь же «Аннаван» представлял собой довольно нелепое зрелище: он опирался на подобие мраморного пьедестала, накренившись набок и немного задрав носовую часть. Желая свести к минимуму вероятность того, что судно опрокинется, Макреди распорядился спустить паруса на обеих мачтах и навалить гору снега по правому борту, которая служила бы одновременно подпоркой и склоном для спуска. Солнце висело над самым горизонтом, где ему предстояло пробыть еще несколько недель, перед тем как окончательно погаснуть в апреле, уступив место долгой полярной ночи, и освещало «Аннаван» слабым и тусклым светом.
Устав от тесноты корабельных помещений, по которым приходилось передвигаться, то и дело задевая головой свисавшие сверху, как грозди винограда, орудия и инструменты, натыкаясь на койки и громоздившиеся повсюду съестные припасы, немногочисленные члены команды сгрудились у подножия судна, бросая вызов жестокому морозу, который забавлялся тем, что превращал в поблескивающие облачка дыхание, вырывавшееся из их ртов. Кроме него, Джереми Рейнольдса, фигурировавшего в бумагах в качестве начальника экспедиции, экипаж под командованием капитана Макреди составляли два офицера, боцман, два артиллериста, хирург, кок и два поваренка, два плотника и дюжина матросов, один из которых, приставленный к ездовым собакам, был огромный молчаливый метис, плод кощунственной связи индеанки из племени упшароков с белым. И насколько мог заметить Рейнольдс, пока никто из них за свою судьбу особенно не тревожился. Но не потому, что на борту было достаточно провизии, а запасов угля хватало, чтобы поддерживать тепло внутри судна до наступления лета. Такая беззаботность порождалась опытом, что был у них за плечами, многочисленными трудностями, которые им пришлось пережить в подобных и даже гораздо худших переделках. Либо так предпочитал думать Рейнольдс, не мог же он считать, что безоговорочное смирение, с которым они встречали невзгоды, объясняется тем, что их несчастные жизни значат для них не больше мушиного укуса, это было бы слишком ужасно, так как собственная жизнь была ему по-прежнему дорога, по крайней мере пока. Как бы то ни было, он надеялся, что такое положение вещей долго не продлится и не подтвердятся известные разговоры в портовых тавернах насчет того, что в условиях, подобных нынешнему, не стоит ни о чем беспокоиться, пока достаточны запасы рома. Вот когда они иссякнут, все резко изменится: безумие, которое до сих пор, словно робкий поклонник, витало где-то поодаль, начнет искушать экипаж и в конце концов обольстит наиболее слабых, и те не замедлят поднести пистолет к виску и спустить курок. Рейнольдс прикинул, сколько галлонов рома может храниться в винном погребке судна. Макреди, у которого имелись собственные запасы бренди, приказал Симмонсу, одному из помощников кока, выдавать ром разбавленным водой, что обычно практиковалось, дабы растянуть его запасы на возможно более длительный срок. И никто из матросов не возмутился, словно они тоже знали, что, пока у них будет ежедневная порция спиртного, они будут спасены от самих себя.
Рейнольдс перевел взгляд на капитана Макреди. Тот тоже покинул судно и теперь сидел на каком-то тюке, рядом с железной клеткой, которую метис Петерс установил на снегу для собак. Капитан был укутан в несколько шерстяных плащей, поверх которых надел непромокаемую накидку, а на голове у него красовалась шапка с наушниками, одна из тех шапок, какие в шутку называли «валлийскими париками». Наблюдая за мощной фигурой капитана, сидевшего совершенно неподвижно, как будто он позировал художнику, Рейнольдс понял, что должен немедленно вывести всех их из этого оцепенения, пока экипаж в полном составе не погрузился в беспробудную спячку. Пришла пора просить Макреди, чтобы он выделил людей для обследования местности, после чего они могли бы продолжить путь к цели, сулившей им в случае успеха такую славу и такое богатство, о которых они не могли и мечтать: найти проход к центру Земли.
Тем не менее Рейнольдс продолжал лишь наблюдать за капитаном, не решаясь подойти к нему. Капитан был ему неприятен. Рейнольдс считал его человеком грубым, циничным и неуравновешенным, принадлежащим к тому типу людей, которых трудно вообразить утешающими приятеля, пережившего разочарование в любви, и которые способны пожалеть разве что легавую, угодившую в капкан. То была взаимная неприязнь, более того, ненависть, которая по причине существовавшей иерархии неизбежно заразила всю команду, и Рейнольдс очень скоро обнаружил, что в составе руководимой им экспедиции нет ни одного симпатизирующего ему человека, за исключением Аллана, сержанта-артиллериста, мечтавшего стать поэтом. Они двое были самыми молодыми участниками экспедиции, и, наверное, потому, что сержант был единственным, кто не видел в нем капризного щеголя, между ними возникло что-то похожее на дружбу. Но сейчас Аллан, вероятно, сидел в своей каюте и изливал слова на бумагу, почти не касаясь ее пером, с такой же нежностью, с какой мимолетная тучка пишет каплями дождя на речной глади. Так что Рейнольдс ковырял снег носком сапога, набираясь смелости, чтобы выйти на поединок с Макреди, а именно такой характер приобретали в последнее время его беседы с капитаном — они напоминали дуэли, только без шпаг, в которых Макреди стремился, образно говоря, поразить его в самое сердце.
Смелости Рейнольдс обычно набирался за десять минут, и этого времени с лихвой хватит, чтобы я успел поприветствовать вас, прежде чем вы окунетесь в эту историю. Воспитанность наряду с улыбкой и адюльтером относится к числу немногих вещей, отличающих нас от животных, и мне хотелось бы думать, что мое поведение, пусть даже оно и не совсем обычно, не имеет ничего общего с поведением животных. Так что считайте, что я вас пригласил: входите, наливайте себе бокал любого напитка и усаживайтесь в приглянувшееся вам кресло возле камина. Разве есть лучший способ послушать историю, происходящую в полярных льдах, чем усесться у огня с бокалом в руке, побалтывая его содержимое? А теперь, когда вы удобно устроились, позвольте попросить у вас извинения за то, что я начал свой рассказ с этого места, а не с прекрасной истории любви, речь о которой у нас впереди. Но если я начал именно с этого, а не с рассказа про восхитительную мисс Харлоу, то это произошло просто-напросто потому, что я счел такое начало наиболее подходящим. Все мы любим наслаждаться солнечным днем, но разве такие дни не кажутся нам еще более прекрасными после ночной бури, когда гроза — это уже всего лишь воспоминание и мир отдыхает, погрузившись в сладостный покой?
Так что вернемся к Рейнольдсу, который спустя десять минут устремил свирепый взор на капитана Макреди. После стольких усилий, затраченных им, чтобы добраться до этого места, он не собирался позволить самоуверенному и тупому моряку помешать ему довершить задуманное. Он сжал кулаки в карманах и решительно зашагал по снегу, направляясь к человеку, который из-за своей нелепой спеси становился последним препятствием на пути к заветной цели. Как он и ожидал, увидев его перед собой, Макреди поморщился, не скрывая досады.
— Приветствую вас, капитан, — поздоровался он.
— Что вам угодно, Рейнольдс? — осведомился тот, недовольный, что его оторвали от важного дела, состоявшего, по всей видимости, в том, чтобы испытать, как мороз постепенно пробирает до костей, и проследить, чтобы снег сохранял свою белизну.
— Мне бы хотелось уже сегодня начать обследовать это место, — отвечал Рейнольдс напористо. — Не думаю, что мы должны сидеть сложа руки и дожидаться, когда льды растают.
Капитан усмехнулся как бы про себя и несколько секунд молчал. Затем с нарочитой медлительностью поднялся и встал во весь свой угрожающий рост.
— Значит, по-вашему, мы сидим сложа руки, дожидаясь, пока льды растают? — проговорил он.
— Если вы и делаете что-нибудь еще, то очень хорошо это скрываете, капитан, — ответил Рейнольдс, вложив в свои слова максимум иронии.
Макреди презрительно засмеялся.
— По-моему, вы не очень хорошо понимаете ситуацию, Рейнольдс. Позвольте, я вам ее разъясню. Знаете ли вы, что является причиной треска, что будит нас по ночам? Это лед, Рейнольдс. Да, проклятый лед, все сильнее сжимающий наше бедное судно и разрушающий его корпус, из-за чего, вероятно, когда произойдет таяние, если оно, конечно, случится, судно будет настолько повреждено, что не сможет плыть. Вот каково в точности наше положение. Что мы можем сделать в такой ситуации? Я скажу вам, Рейнольдс: единственное, что мы можем сделать, — это покинуть судно и отправиться в путь по замерзшему морю, пока не доберемся до земли, а это могут быть сотни километров, которые придется преодолевать со снаряжением, продовольствием, корабельными шлюпками и, по крайней мере, двумя железными печками и соответственным запасом угля, чтобы не замерзнуть по дороге. А теперь скажите: много ли шансов на успех у такого плана?
Рейнольдс не ответил. Ему самому такое решение представлялось, конечно, безрассудным. Никто точно не знал, как далеко и в какой стороне находится берег, а брести наугад по местности, утыканной торосами, через которые пришлось бы тащить тяжело груженные сани, было самоубийственной затеей. Но если отбросить этот безумный план, то оставался еще один, безумнее, чем первый. Рейнольдс слышал, что в подобных ситуациях некоторые капитаны приказывали соорудить временный лагерь прямо на льдине, чтобы течения увлекли за собой импровизированный корабль изо льда и снега, хотя случаи, когда подобный хитроумный план увенчался успехом, можно было пересчитать по пальцам. Рейнольдс даже не осмелился предложить капитану подобный вариант. Куда предпочтительнее, конечно, было забраться в убежище, каковым продолжало оставаться их судно, и, потягивая ром, ждать каких-нибудь перемен. Любых. Но он не собирался сидеть сложа руки в ожидании чуда. Глупо было не обследовать местность, коль скоро они здесь очутились.
— А как же экспедиция? — спросил Рейнольдс. — Не вижу никаких оснований останавливаться на полдороге.
— Ах да… Ваша экспедиция, — язвительно процедил Макреди. — Ваше намерение найти отверстие, ведущее к центру Земли, который, как вы считаете, обитаем и освещается собственным солнцем, чуть меньшим по размерам, чем наше. Или, кажется, двумя солнцами?
Слушая, как Макреди откровенно потешается над его идеями, Рейнольдс не мог не вспомнить своего партнера Симмса и насмешки, которые пришлось вынести им обоим во время поездок с лекциями о полой Земле. И вот теперь благодаря капитану эти насмешки долетели и до Антарктиды, вновь заставив Рейнольдса вспомнить о том, что хорошо смеется тот, кто смеется последним. В свое время эта поговорка, повторяемая им словно мантра, помогла ему победить уныние.
— Вы можете считать, как вам будет угодно, капитан, но такова цель нашей экспедиции, и вы хорошо это знаете, — ответил Рейнольдс.
Над белой пустыней разнесся презрительный смех Макреди.
— Ваша наивность, Рейнольдс, потрясает. Вы действительно думаете, что экспедиция преследует столь бескорыстные цели? Существование на полюсе дыры, позволяющей проникнуть внутрь Земли, мистера Уотсона мало волнует.
— Что вы хотите этим сказать? — недоверчиво проговорил Рейнольдс.
Капитан снисходительно улыбнулся:
— Все это предприятие мы организовали вовсе не для того, чтобы подтвердить или опровергнуть вашу смехотворную теорию, Рейнольдс. Того, что хочет наш благодетель, хотят все мировые державы: выяснить стратегическое значение этих земель, единственных, которыми пока никто не смог завладеть.
Начальник экспедиции смотрел на капитана с наигранной недоверчивостью, а в душе ликовал. Своими словами Макреди только что подтвердил, что проглотил наживку. Рейнольдс знал, что Уотсон на самом деле верит в существование пустотелой Земли, так же как политические власти, правительственные учреждения, поддержавшие их, оставаясь в тени, и группа меценатов, которые тоже предпочитали действовать анонимно. Однако все они договорились соблюдать осторожность и скрывать свои подлинные цели, по крайней мере пока. Если экспедиция с треском провалится, Рейнольдс будет единственным, на кого обрушатся все неприятности, насмешки и издевки. Те же, кто остается в тени, всего лишь потеряют некоторое количество долларов. Они умоют руки, скажут, что их намерения были совершенно другими. Нельзя было допустить, чтобы в народе создалось мнение, будто деньги расходуются на столь бредовые предприятия. И Рейнольдс согласился стать козлом отпущения, хотя и в обмен на заключение тайного пакта. Если он сумеет открыть этот новый мир, а он был уверен в том, что сумеет, его стремление к богатству и славе будет в полной мере удовлетворено. В конторе его адвокатов надежно хранился документ, навеянный знаменитым договором в Санта-Фе между Католическими королями и Колумбом: Рейнольдсу были обещаны титулы адмирала, вице-короля и главного правителя всех земель, открытых под земной корой, а также десятая часть всех товаров, какие будут найдены, приобретены, куплены или обменены на открытых территориях. Поэтому Макреди мог и дальше считать его марионеткой, управляемой неизвестными кукловодами, да так даже предпочтительней: чем меньше будет знать капитан, тем спокойнее всем. Рейнольдс ему не доверял. Сказать по правде, он не доверял никому: история знала немало узурпаторов, которые украли славу первооткрывателей у подлинных героев, лишив их лавров победителей и приговорив к забвению. Рейнольдс не хотел разделить их судьбу. Он слишком хорошо знал, что мир в основном состоит из посредственностей, а нет ничего опаснее, чем зависть посредственности.
Между тем капитан с насмешливой улыбкой ждал ответа, как вдруг оглушительный рев, донесшийся с неба, потряс все вокруг. Оба они испуганно подняли головы. Остальные члены экипажа сделали то же самое, уверенные, что это небеса рушатся на их головы.
То, что они увидели, трудно объяснить, особенно если никто из вас никогда не видел ничего похожего, как и эта горстка людей, которые в тот момент словно бы соревновались между собой, кто состроит более удивленную гримасу при виде того, что падало с небес. Оно неожиданно появилось на горизонте, мгновенно приблизилось к ним, пронеслось над головами и исчезло за дальними горами, прочертив извилистую полосу света на сумрачном полотне неба. Никто, конечно, не понял, что такое этот огромный объект, плоский и округлый, который, похоже, вращался вокруг своей оси, издавая при этом оглушительный вой. Превратившись в светящуюся точку, он исчез, и вскоре послышался ужасный грохот, как будто многотонная железная громада ударилась об лед. В течение почти двух минут сюда доносилось эхо, вызванное ударом. Когда оно наконец смолкло, наступившая тишина показалась всем невыносимой, словно они погрузились на дно океана. Только тогда капитан Макреди решился открыть рот.
— Что за дьявольщина? — пробормотал он, даже не скрывая своей растерянности.
— Боже правый, я не знаю… Предполагаю, что это метеорит, — откликнулся Рейнольдс.
— Не думаю, — возразил ему кто-то.
Это был худенький матрос по имени Гриффин. Рейнольдс обернулся и с любопытством посмотрел на него, поразившись уверенности, с которой тот оспорил его слова.
— Его траектория была слишком… причудливой, — разъяснил матрос, немного смутившись оттого, что все взгляды сразу обратились на него. — Когда он приблизился к горам, то вдруг повернул под прямым углом и сделал слабую попытку подняться выше, как будто хотел избежать рокового исхода.
— Что это значит? — осведомился Макреди, для которого сказанное прозвучало как головоломка.
Гриффин повернулся к капитану и, немного стесняясь, ответил:
— Ну, это было похоже на то, как если бы кто-то старался изменить курс. Как если бы кто-то… управлял им.
— Управлял? — воскликнул капитан.
Гриффин кивнул.
— Это правда, капитан. Мне тоже так показалось, — поддержал его другой матрос, Уоллис.
Макреди молча уставился на Гриффина, стараясь переварить то, что услышал. Тем временем люди, остававшиеся на борту «Аннавана», покинули судно, встревоженные жуткими звуками, и, спустившись по снежному откосу, теперь крутились среди своих товарищей, допытываясь у них, что случилось.
— Возможно, это какой-то род… летательного аппарата, — рискнул предположить Гриффин.
Мнение матроса поразило Рейнольдса. Летательный аппарат? Но какого же типа? Ясно, что это не воздушный шар. Он пронесся по небосводу с дьявольской скоростью, словно что-то им двигало, хотя Рейнольдс не заметил, чтобы к нему был прикреплен какой-нибудь паровой двигатель. Капитан Макреди вышел наконец из задумчивого состояния и снова посмотрел в сторону ледяных гор.
— Ладно, есть только один способ проверить это, — проговорил он. — Мы отправимся к месту, где он упал.
Словно внезапно вспомнив, что он здесь капитан, Макреди энергично взялся за дело: он проверил своих людей и, выкликнув некоторых из них по именам, быстро составил отряд разведчиков. Потом взглянул на главу экспедиции, вновь одарив его ехидной улыбкой.
— Вы можете присоединиться к нам, если хотите, Рейнольдс, — язвительно сказал он. — Глядишь, по дороге наткнемся на вашу знаменитую дыру.
Рейнольдс не счел нужным отвечать на этот выпад. Он молча кивнул и вместе с другими поднялся на «Аннаван», чтобы вооружиться всем необходимым для похода сквозь льды. Он спустился на нижнюю палубу, миновал скопление гамаков и коек и, ориентируясь по слабому свету масляных фонарей, добрался до узкого коридора, который вел к каютам офицеров — эвфемизм, обозначавший ряд клетушек, где ютился командный состав. Очутившись в своей крохотной каморке, освещенной тусклым светом, что просачивался через иллюминатор, Рейнольдс с тоской окинул взглядом неудобное жилище, где ныне проходили его дни: встроенная койка с толстым матрасом из конского волоса, крошечный секретер, стол с двумя стульями, кресло, которое он велел доставить на корабль из своего дома, шкаф, служивший ему кладовкой, где он хранил бутылки с бренди да пару головок сыра; умывальник в углу, наполненный водой, ныне замерзшей, и две уставленные книгами полки, к которым он почти не прикасался, так как обнаружил у великих классиков одно свойство, о котором раньше не подозревал, — изолировать его от холода, подстерегавшего с противоположной стороны стены. В такой тесноте было невозможно танцевать, но Рейнольдс и не собирался этого делать, даже если бы каким-нибудь чудесным образом в его каюте появилась девушка, но, к сожалению, теснота мешала и выполнению куда менее важных задач, таких, например, как срочно утеплиться, чтобы защитить себя от мороза. Когда ему это с грехом пополам удалось, он вернулся на нижнюю палубу.
Через двадцать минут отобранные капитаном люди снова спустились вниз, одевшись как можно теплее и вооружившись до зубов; они взяли две пары саней и несколько собак. В группу, кроме Рейнольдса и Макреди, входили доктор Уокер, сержант артиллерии Аллан и семь матросов, с которыми Рейнольдс до сих пор почти не общался: Гриффин, Уоллис, Фостер, Карсон, Шепард, Рингуолд и полукровка Петерс. Убедившись, что все в сборе, Макреди энергичным кивком указал на ледяные горы, и отряд немедленно двинулся в путь.
II
Во время перехода Рейнольдс старался держаться подальше от капитана, хотя по всем правилам должен был идти рядом с ним. Он умышленно приотстал и вскоре обнаружил, что сбоку от него шагает Гриффин, тот самый щуплый матрос, который привлек его внимание своими суждениями. Рейнольдс вспомнил, что Гриффин завербовался на «Аннаван» в последний момент, когда команда была уже набрана. Его настойчивое стремление стать членом экспедиции победило уклончивые отговорки Макреди, что свидетельствовало как о страсти матроса к подобным путешествиям, так и об умении обходить возникавшие на пути препятствия, особенно в виде грубых и неуступчивых капитанов. «Но почему для Гриффина было так важно очутиться здесь, в этом морозном краю?» — подумал Рейнольдс.
— Наверное, вы правы, Гриффин, — сказал он матросу. — Возможно, то, что мы найдем в этих горах, окажется чем-то вроде летающей машины.
Гриффина явно удивило, что начальник экспедиции, до сих пор не заговаривавший с матросами, обращается к нему по-дружески. Видимо смутившись, он лишь кивнул головой, закутанной во множество платков и шарфов, из-под которых торчал замерзший нос. Однако Рейнольдс решил любой ценой завязать разговор с нелюдимым матросом.
— Почему вы присоединились к нашей экспедиции, Гриффин? — не стал он ходить вокруг да около. — Вы верите в то, что Земля внутри пустая?
Матрос недоуменно смотрел на него. Его тонкие усы покрылись инеем, и начальник экспедиции подумал, что, когда Гриффин вернется на судно, ему придется отдирать примерзшие волоски. Именно поэтому, чтобы избежать неприятной и болезненной процедуры, Рейнольдс продолжал бриться, хотя ему и приходилось пользоваться тазиком, наполненным талой водой.
— Это весьма романтическая идея, сэр, — произнес Гриффин наконец.
— Весьма романтическая идея, значит… Но вы в нее не верите, — сделал вывод Рейнольдс. — Предполагаю, что вы здесь из-за денег, как и все прочие. Но скажите, почему вы так стремились попасть на «Аннаван»? На любом другом судне платят ровно столько же или даже больше, и условия там не такие опасные.
Гриффин, который, похоже, чувствовал себя все более неловко, выдохнул воздух, тут же превратившийся в кристаллики, и несколько секунд обдумывал ответ.
— Я должен был наняться на судно, где мне не было бы гарантировано возвращение, сэр, — наконец выдавил он.
Рейнольдс не мог скрыть замешательства. Он вспомнил объявление о найме команды, которое Макреди опубликовал в нескольких нью-йоркских газетах и от которого у него самого все внутри холодело:
Требуются люди для путешествия в Антарктиду с целью отыскать проход к центру Земли. Условия опасные: предельный холод и постоянный риск. Благополучное возвращение не гарантируется. В случае успеха — почет, признательность и щедрая прибавка к жалованью.
— Вот уж не думал, что для кого-то это может стать приманкой, — сказал Рейнольдс.
До сих пор он считал, что не слишком отличается от прочих смертных и что всех, кто отправился в плавание на «Аннаване», привлекла последняя фраза объявления. Но, оказывается, этого тщедушного матроса заинтересовала как раз предпоследняя. Похоже, пути человеческого сердца так же неисповедимы, как пути Господни. Гриффин пожал плечами и молча продолжил путь, пока испытующий взгляд Рейнольдса не вынудил его сделать некоторое добавление.
— Я не знаю, почему завербовались остальные, сэр, — признался он, по-прежнему глядя прямо перед собой, — я же сделал это, чтобы избавиться от одной женщины. По крайней мере на время.
— Чтобы избавиться от женщины? — переспросил Рейнольдс, еще больше заинтригованный.
Матрос горестно вздохнул.
— Я ухаживал за девушкой, а четыре с лишним месяца назад выяснил, что, оказывается, обещал на ней жениться. Как это вышло, до сих пор ума не приложу. — Гриффин, похожее, грустно улыбнулся из-под нескольких слоев ткани, закрывавших его лицо. — Но я пока не собираюсь жениться. Мне всего тридцать два года, сэр! Я еще многого не видел в этой жизни!
Рейнольдс изобразил на лице понимание.
— На следующий день после помолвки, — продолжил матрос, — я отправился в порт и нанялся в эту экспедицию. Терпеть не могу холод, но, как я уже сказал, «Аннаван» был единственным судном, где возвращение не гарантировали. На его борту я располагал бы достаточным временем, чтобы решить, что же в действительности я хочу сделать со своей жизнью.
— Понимаю, — сказал Рейнольдс, хотя абсолютно ничего не понял. — А что же она? — спросил он, уверенный, что девушка конечно же разорвала помолвку с человеком, который перед свадьбой счел уместным отправиться в самоубийственное путешествие.
— Как вы можете предположить, ее не слишком обрадовало то, что наша свадьба неожиданно откладывается на месяцы или даже годы, но она оценила мою… мою страсть к приключениям.
— Понимаю, — повторил Рейнольдс.
Гриффин едва заметно кивнул, благодаря за поддержку, и, словно спохватившись, что безответственно растратил большую часть запаса слов, отпущенных на этот поход, дал понять, что разговор окончен. Они молча шагали рядом, словно два монаха, прогуливающихся по монастырской галерее, а между тем вокруг, как на грех, начал сгущаться туман, и мороз, похоже, усилился.
Стараясь не обращать на это внимания, Рейнольдс стал вспоминать падение странной машины. Не знаю, что думаете вы, но если бы я был на месте Рейнольдса, то мне это тоже показалось бы в высшей степени любопытным: оно произошло именно тогда, когда они находились здесь, словно бы по заказу. Если бы их судно не застряло во льдах, никто бы не увидел этот аппарат, и тогда его пилот, если он действительно кем-то управлялся, умер бы без свидетелей, а перед смертью тщетно протягивал бы руку, взывая о помощи. Рейнольдс задумался, какая страна может обладать научными знаниями, необходимыми, чтобы создать подобное устройство, но тут же одернул себя. Нет смысла гадать. Через какой-то час или даже раньше все выяснится само собой, решил он и переключил внимание на величественную красоту пейзажа, на безукоризненную и неисчерпаемую белизну, окружавшую их со всех сторон и напоминавшую мрамор, из какого строят дворцы. Любуясь причудливой ледовой архитектурой, он отдавал себе отчет в том, что если бы мог увидеть сверху, с птичьего полета, — как могу я — этот тягостный ландшафт при свете блеклого бесконечного дня, перед ним предстала бы картина из сна или из сказок — огромное пространство, рассеченное цепочкой муравьев, упрямо шагающих вперед, не обращая внимания на красоту мира, в котором они существуют. И, продолжая свои мимолетные размышления, которым, как вы вскоре убедитесь, наш путешественник любил предаваться, Рейнольдс заключил: ирония состоит в том, что те же самые причины, которые наделяют красотой окружающий пейзаж, могут в конце концов погубить всех их. Однако же разве природа не выставляет напоказ свое великолепие с простодушием красавицы, не ведающей, что, для того чтобы восхищаться ею, мужчинам иногда приходится жертвовать жизнью?
Несмотря на сгущавшийся туман, они быстро заметили аппарат. То, что упало с небес, зловеще вырисовывалось вдалеке, словно маяк, направляющий их движение. И когда наконец они достигли места катастрофы, им стало ясно, что действительно это был никакой не метеорит, а некое летающее устройство, хотя и не похожее ни на что виденное ими раньше. Размером оно было с огромный экипаж, только округлое и плоское, как монета. Аппарат, похоже, не получил повреждений при падении, однако от удара лед в радиусе по меньшей мере тридцати метров растрескался, из-за чего им пришлось пробираться к нему со всеми предосторожностями, чтобы не провалиться. Аппарат сделан из блестящего полированного материала. На его гладкой поверхности, напоминавшей дельфинью шкуру, не было никаких признаков дверцы или люка, а может, их просто невозможно было различить в силу как раз этой гладкости. Единственным, что нарушало сверкающую округлость, были рельефные группы непонятных знаков, сделанных, по-видимому, из того же материала, что и аппарат, и испускавших слабое красноватое сияние.
— Кто-нибудь может мне сказать, что это за чертовщина? — спросил Макреди, пытливо вглядываясь в окружавшие его лица.
Никто не ответил, да капитан и не ждал ответа. Все завороженно глядели на сверкающую поверхность аппарата, где наряду с гроздями облаков, украсивших небо, и цепью гор отражались их недоуменные физиономии. Рейнольдс вгляделся в свое отражение, не узнавая себя. Он уже столько времени пользовался маленьким зеркальцем для бритья, разглядывая свое лицо по частям, казавшимся ему несовместимыми, что сейчас был поражен плачевным результатом, полученным от соединения всех их в одно целое. Спору нет, он был безукоризненно выбрит, однако его усталый и лихорадочный взгляд свидетельствовал о недосыпании, а лицо сильно осунулось.
Обреченно вздохнув, Рейнольдс переключился на ближние к нему сочетания знаков. В основном они состояли из волнистых линий, отдаленно напоминая буквы в восточных языках, и были окружены значками, похожими на геометрические фигуры и не имевшими сходства ни с какой известной ему письменностью. Не в силах побороть искушение, он протянул руку к одному из этих символов, собираясь погладить его спиралевидную поверхность. Хотя ему было любопытно проверить, каков на ощупь этот удивительный блестящий материал, он не стал снимать перчатку, боясь отморозить пальцы. Но как только ткань соприкоснулась со знаком, странная струйка дыма медленно поползла вверх, и небольшая голубая вспышка вырвалась из его перчатки, словно внезапно расцветший цветок. Затем Рейнольдс почувствовал дикую боль, немедленно перекинувшуюся с руки на все тело. Он резко отдернул пальцы от поверхности аппарата, но мучения не уменьшились, и с губ его сорвался ужасный вопль. Внезапно он почувствовал запах — пахло горелой тканью, горелым мясом и еще чем-то металлическим, но, чем именно, он не смог распознать. И хотя боль застилала ему разум, Рейнольдс вдруг осознал, что, когда его перчатка прикоснулась к диковинному знаку, она начала гореть, несмотря на минусовую температуру воздуха, и теперь огонь перекинулся на его кожу. Сгрудившиеся вокруг него матросы в ужасе отпрянули, а Рейнольдс с искаженным от боли лицом рухнул на колени прямо на лед, поддерживая правую руку, обернутую обрывками опаленной, дымящейся, съежившейся ткани, напоминавшими длинные когти злой колдуньи.
— Боже мой! — воскликнул подбежавший к нему доктор Уокер.
— Черт побери, пусть никто не касается обшивки этой штуки! — прорычал Макреди. — Пусть никто ничего не трогает без моего разрешения, или я повешу его на рее!
Доктор велел стоявшему поблизости Шепарду быстро пробить отверстие во льду. Когда лунка была проделана, Уокер опустил руку Рейнольдса по локоть в ледяную воду. Послышалось шипение, какое возникает, когда раскаленное докрасна железо опускают в ведро с водой. Через некоторое время, почувствовав, что его собственная рука начала замерзать, несмотря на рукавицу, Уокер извлек из лунки руку Рейнольдса. Тот безропотно подчинялся хирургу и был явно подавлен попеременным воздействием на него огня и ледяной воды.
— Необходимо срочно отправить его в лазарет, капитан, — объявил доктор Уокер. — Здесь мне нечем даже перебинтовать ему руку.
— Капитан Макреди! — закричал метис, прежде чем тот успел ответить доктору.
Макреди обернулся к Петерсу, который стоял метрах в десяти от аппарата и показывал на лед.
— Я обнаружил следы, сэр!
Капитан раскрыл от удивления рот, но тут же спохватился и, сделав непроницаемое лицо, поспешил к месту, где находился метис.
— Похоже, кто-то вышел из машины, — предположил Петерс.
Макреди с досадой посмотрел на полукровку, словно тот был во всем виноват, хотя сердился он, безусловно, на то, что нескончаемая череда неожиданностей мешает ему продемонстрировать перед подчиненными невозмутимое спокойствие, коим должен отличаться любой капитан. Метис опустился на колени рядом со следами, долго изучал их, а затем растолковал остальным прочитанное в усеивавших снег каракулях:
— Следы огромные, больше, чем у полярных медведей. Да что там, они больше следов любого из животных, населяющих Землю, — добавил он, обводя пальцем след. — Видите? Они почти такой же длины, как рука человека от плеча до кончиков пальцев. Но поражает не только их размер. Следы имеют овальную форму и очень глубоки, как будто тот, кто их оставил, весил не одну тонну. К тому же нет отпечатков, которые говорили бы о наличии пальцев. Имеющиеся углубления в виде желобков скорее похожи на когти.
— Значит… это не человеческие следы? — спросил капитан.
— Боюсь, что нет, сэр, — стоял на своем Петерс. — При этом, кем бы ни был тот, кто вышел из машины, это существо, которое ходит на двух ногах, хотя я не думаю, что это человек.
Наступила гробовая тишина.
— Следы оставлены совсем недавно, — добавил метис, бросив на них внимательный взгляд. — Я бы сказал, минут двадцать назад, если не меньше.
Слова Петерса встревожили моряков. Они стали озираться по сторонам и вглядываться в окружавшую их белую пустыню, в которой, как внезапно оказалось, они были уже не одни.
— А где же продолжение следов? — полюбопытствовал Макреди, стараясь выглядеть спокойным. — Куда направилось это… существо?
— Это-то и есть самое удивительное, капитан, — ответил Петерс и показал куда-то вперед. — Дальнейшие следы находятся там, почти в двух метрах от первых. Значит, существо способно одним махом преодолеть расстояние, невозможное для любого животного. Следующие следы должны находиться еще дальше, потому что отсюда я их не вижу.
— Ты хочешь сказать, что оно перемещается прыжками? — спросил Макреди.
— Похоже на то, капитан. Причем прыжки становятся с каждым разом все длиннее, что затрудняет преследование, даже если туман рассеется. Невозможно определить, куда оно двинулось, — хоть прочесывай весь этот район.
— Как думаешь, Петерс, что же это все-таки за тварь? — обратился к метису другой матрос, некий Карсон, словно в сложившейся ситуации тот обладал большим авторитетом, нежели сам капитан.
Петерс некоторое время молчал, словно прикидывал, готовы ли его товарищи воспринять то, что он собирался им поведать.
— Это демон, — наконец проговорил он с хмурым видом. — И явился он со звезд.
Его слова вызвали, конечно, всеобщее смятение. Капитан было поднял руку, чтобы приказать всем умолкнуть, но передумал. Разве была у него гипотеза лучше, которая позволила бы успокоить команду?
— Хорошо, — подытожил он, стараясь не выпустить ситуацию из-под контроля. — Не будем торопиться с названиями. Кем бы ни было это существо, возможно, оно все еще рыщет по окрестностям. И мы отправимся на поиски, чтобы это выяснить. Доктор Уокер, вы и Фостер возвращайтесь на судно с мистером Рейнольдсом и полечите ему руку, а когда он оправится, напомните ему: иногда, прежде чем хвататься за что попало, неплохо подумать.
Доктор кивнул и помог стонущему Рейнольдсу встать на ноги, в то время как капитан продолжал отдавать распоряжения:
— Нам лучше разделиться. Петерс и Шепард пусть возьмут одни сани и начинают поиски в южной стороне. Карсон и Рингуолд, вы берите вторые сани и идите на север. Гриффин и Аллан, вы тоже отправляйтесь к северу, а ты, Уоллис, пойдешь со мной. Пройдите пару миль и, если ничего не обнаружите, возвращайтесь сюда, здесь будет место сбора. Вопросы есть?
— Только один, капитан: а если нам повстречается… демон? — подал голос Карсон.
— Если он вам встретится и будет вести себя угрожающе, стреляйте в него не колеблясь из мушкета, Карсон. В общем, прикончите его.
Все закивали в ответ.
— Прекрасно, — сказал капитан и вдохнул в себя морозный воздух. — А теперь в путь! Отыщем этого сукина сына!
III
Рейнольдс стоял на палубе «Аннавана», баюкал свою перевязанную руку и наблюдал за тем, как сумерки окрашивают в красновато-пурпурные тона ледяные поля, отчего создавалось впечатление, будто все они находятся на поверхности планеты Марс. В какую бы сторону он ни смотрел, невозможно было определить, где проходит граница между замерзшим морем и сушей, поскольку снег уничтожил все следы их тесного союза, словно умелый портной, у которого никогда не заметишь места штопки. Рейнольдс знал только, что капитан Макреди запретил ходить вокруг судна и вдоль левого борта — это было опасно, так как под тяжестью тела лед мог треснуть. На самом деле они находились в проливе, сейчас засыпанном снегом. Вследствие этого было приказано, чтобы опытные моряки, привыкшие опорожнять кишечник с палубы, делали это только у левого борта, так что наслаждаться грандиозным ледяным пейзажем с этой стороны судна не очень рекомендовалось.
Рейнольдс поднял голову к видневшимся на небосводе немногочисленным звездам и, как всегда, с благоговением уставился на величественные творения Создателя. Если метис прав, вонзившийся в лед летательный аппарат прилетел с одной из них. И считать так вовсе не глупо, подумал он, по крайней мере не глупее, чем верить, будто центр Земли обитаем, а Рейнольдс в это верил. Хотя точнее было бы сказать, что он желал этого, поскольку, по его мнению, обрести бессмертие можно, лишь став последним великим первооткрывателем последнего великого неведомого царства. Но сейчас абсолютно неожиданно перед его глазами открывался иной горизонт, бесконечно более перспективный с точки зрения вечной славы: много ли среди глядящих на него сверху планет обитаемых миров? И какая слава ждет того, кто сумеет их завоевать? Он так глубоко задумался над этими вопросами, что чуть было не ухватился за металлические поручни палубы. А ведь ему говорили, будто низкие температуры превращают металл в опасное оружие, даже если на тебе рукавицы, но, правда это или нет, Рейнольдс предпочитал не проверять. Он устало вздохнул. Проклятая действительность, враждебная и неприятная, не давала ему передышки. Опасность подстерегала здесь со всех сторон: мало того что ни к чему нельзя было прикасаться, так еще, как назло, целая бригада, вооруженная топорами и кирками, именно сейчас скалывала лед с мачт, а не то под его тяжестью судно могло перевернуться. Куски льда с грохотом падали на палубу, словно артиллерийские снаряды. Таким образом, если Рейнольдс хотел созерцать звездное небо, он должен был увертываться от этого смертоносного града, способного искалечить его, так же как и люди с лопатами, пытавшиеся счистить снег с деревянного настила палубы, пока он не превратился в толстый панцирь, не дающий открыть люки. Но Рейнольдс предпочитал находиться здесь и время от времени приплясывать на месте, чтобы восстановить циркуляцию крови в окоченевших ногах, а не в лазарете, потому что постоянный треск льда, сжимавшего корпус судна, не давал сомкнуть глаз.
Прошло уже больше пяти часов с тех пор, как капитан Макреди и его группа вернулись из разведки, ничего не обнаружив. И только Карсон с Рингуолдом не явились в условленное место. Они ушли на север, и Макреди со своими людьми ждали их почти час, после чего, усталые, голодные и замерзшие, они решили вернуться на «Аннаван». Никто не делал заключений по поводу их отсутствия, но один и тот же вопрос носился в воздухе: уж не наткнулись ли они на того, кого команда стала называть звездным монстром? Конечно, никто этого точно не знал, однако, скорее всего, именно так и обстояло дело.
Вначале, когда его, пошатывающегося от боли, вели к судну Фостер и доктор Уокер, Рейнольдс проклинал свою неосторожность, и не только потому, что выставил себя в смешном свете перед командой и дал пищу для шуточек капитана, но и потому, что лишился возможности обследовать место, где они находились, о чем мечтал с того момента, как они застряли во льдах. Однако теперь он мог радоваться тому, что оказался таким безответственным: как объяснил ему сержант Аллан, из-за тумана, который с каждым разом все более сгущался, было бы невозможно отыскать заветное отверстие, ведущее внутрь Земли, иначе как случайно провалившись в него.
Да, он должен был признать, что экспедиция выходит не такой, какой он ее задумывал, а после последних событий вообще трудно предсказать, как все обернется. Рейнольдс постарался приободриться, вновь призвав на помощь тот дух практицизма, который отличал его от прежних путешественников, этих идеалистов, рисковавших своими жизнями, не имея никакого плана и рассчитывая только на свет от путеводной звезды, горевшей в их мечтах. Он же, напротив, относился к нынешней экспедиции как к бизнесу. Это был его билет в новую жизнь. И никакой ловкач вроде Макреди не лишит его лавров победителя. Тут ему вспомнились многочисленные препятствия, какие пришлось преодолеть, чтобы оказаться здесь, и враги, которых он сломил своим упорством. Нелегко было найти деньги для такой экспедиции, и прежде всего потому, что подавляющее большинство человечества и в мыслях не допускало, что Земля может оказаться полой. Он — другое дело. Он почти мог утверждать, что побывал там, внутри, хотя это происходило только во сне.
Все началось далеким вечером, когда совершенно случайно встретившийся ему человек изменил его судьбу, и с тех пор Джереми Рейнольдс перестал плыть по течению, и его жизнь потекла скрупулезно выверенным курсом.
В означенный вечер он проходил мимо одного из залов, использовавшихся в Пенсильвании для чтения лекций, как вдруг услышал доносившийся изнутри дружный хохот. Если Рейнольдс в чем и нуждался после неудачного рабочего дня в редакции газеты, которой он руководил, так это в толике смеха. Да, он отчаянно жаждал веселья. Но, чтобы понять душевное состояние Рейнольдса, заставившее его остановиться возле зала, нужно чуть больше узнать о нем, а потому позвольте мне ненадолго прервать повествование и сделать беглый набросок души нашего путешественника. Как многие до и после него, Рейнольдс вырос в глубокой нищете и с малых лет был вынужден работать, чтобы оплачивать все, в чем нуждался, начиная с новых подметок для башмаков и кончая учебой в университете. С самых нежных лет, хотя, наверное, в данном случае это выражение не слишком подходит, он пристрастился к чтению. Но больше всего его привлекали не вымышленные истории, а книги о путешествиях и открытиях. С пугающей быстротой он поглощал рассказы Марко Поло, биографию Колумба, написанную его сыном, героические эпопеи тех, кто впервые отправился к Северному полюсу, открывал Южный полюс и неизведанные земли Африки… Как нетрудно догадаться, все эти подвиги питали фантазию подростка, и Рейнольдс рос, мечтая превзойти знаменитых авантюристов, которые, словно в их жилах струилась та же беспокойная кровь, что у богов с Олимпа, оставили свои имена на скрижалях Истории, а главное, и об этом не стоило забывать, вернулись, нагруженные сокровищами и награжденные титулами, распространявшимися и на их наследников. Рейнольдс ненавидел посредственность и с ранних лет начал ощущать свое превосходство над окружающими, хотя и сам не смог бы определить, на чем основывалось это чувство, поскольку при взгляде на него сторонний наблюдатель мог бы констатировать, что молодой человек не обладает ни особыми талантами, ни выдающимися физическими данными, ни блестящим умом. Что же отличало его тогда, например, от счетовода, жившего на том же этаже, с которым они обменивались высокомерными взглядами, столкнувшись на лестнице? А отличало его от этого типа и прочих соседей вера в себя, абсолютная убежденность в том, что он рожден для великих и захватывающих подвигов. Однако шли годы, но никто не приглашал его вспомнить о своем прекрасном тайном предназначении. По правде говоря, он быстро перестал терпеть лишения, поскольку сумел закончить курс журналистики и даже сделался редактором газеты, хотя этот успех, доступный каждому, не утолил его жажды славы. В общем, ему опротивело барахтаться в этой серости, воспевая чужие подвиги, перечисляя чудеса, которые непременно случались с другими, и подсчитывая стоимость сокровищ, найденных счастливчиками, для тех читателей, которые, как и он, только о них и мечтали. Нет, он рожден не для этого. Он рожден для того, чтобы появляться на страницах газет в качестве вершителя величайших, беспримерных подвигов, вызывающих зависть у мужчин, мечтательные вздохи у женщин, восхищение у матерей и даже лай у собственных собак, ибо и в животном мире его необычайные деяния не останутся незамеченными.
К несчастью, он не находил способа достичь всего того, о чем мечтал, и потому вы вряд ли удивитесь, услышав, что каждая ночь превращалась для него в страшную пытку. Рейнольдс мучил себя, воскрешая в памяти самые замечательные эпизоды из прочитанных книг о путешественниках, а затем оглашал темноту жалобными, едва ли не предсмертными вздохами, сетуя на то, что все уже открыто. По крайней мере все то, что имело смысл открывать, потому что простого открытия чего бы то ни было, разумеется, было недостаточно. Какую славу, какое богатство мог обрести тот, кто, к примеру, сумел бы нанести на карту извилистые очертания ледяных берегов Антарктиды? Нужно ухитриться открыть что-то такое, что изменило бы Историю, обессмертило бы имя первооткрывателя и, кстати, доверху наполнило бы его карманы. Но следовало действовать не спеша, ибо в промежутке между возвращением Марко Поло в 1295 году и отплытием Колумба в 1492 году десятки путешественников сделали важные открытия, но их имена практически канули в Лету — их затмило открытие Америки, хуже того, почти никто из отважных искателей приключений не получил в награду ничего, кроме жалкого жалованья да пожизненной лихорадки. Кто, к примеру, помнит сегодня о монахе Одорико из Порденоне, который отважно проник в Китай через Индию и Малайзию? А об арабе Ибн Баттуте, исследовавшем Центральную Азию и север Африки? Да даже знаменитый Христофор Колумб не сумел как следует разыграть свои карты. Он умудрился убедить целый королевский двор в том, что Земля на самом деле гораздо меньше, чем полагал древнегреческий ученый Эратосфен, и что он, Колумб, сумеет найти новый путь в Индию, который обеспечит процветающую торговлю специями, но самое главное — он смог выторговать себе завидное вознаграждение. К сожалению, вскоре он нажил могущественных врагов, не замедливших обвинить его в злоупотреблениях по отношению к туземцам. Плачевный опыт управления своим вице-королевством в конце концов завершился для него потерей авторитета и властных полномочий. Да, было очевидно, что профессия первооткрывателя сопряжена со многими опасностями, которые отнюдь не всегда таятся в глубине непроходимых джунглей. Рейнольдс верил, что сам он сумел бы организовать все гораздо лучше, если бы ему представился такой случай. Он рассчитывал на свой зоркий глаз журналиста, на свои политические связи и коммерческое чутье… Да, ему не хватало знаний по географии и навигации, что верно, то верно, но главное — ему не хватало земель для открытия. Так что оставалось только терпеливо ждать, когда какое-нибудь чудо вызволит его из обывательской трясины. Ну а если чуда не случится, тогда он всегда сможет жениться на Джозефине, что, конечно, не будет подвигом, достойным войти в историю, но по меньшей мере наполнит его кошелек. Хотя теперь Рейнольдс уже и не знал, можно ли рассчитывать на этот куш, так как девушка с каждым днем становилась все более невосприимчива к его неуклюжим ухаживаниям. Таковы были в общих чертах тревоги, мучившие Рейнольдса, когда он проходил мимо конференц-зала и услышал смех. Вполне понятно, что он тут же решительно открыл дверь: ему просто необходимо было над кем-нибудь посмеяться, чтобы не пришлось в конце концов смеяться над самим собой.
Но, войдя, он в замешательстве обнаружил, что стоявший на эстраде и так веселивший публику человек был никакой не комик. Наоборот, отставной армейский офицер Джон Кливз Симмс, по-видимому, очень серьезно относился к тому, что говорил. А говорил он невероятные вещи: что Земля подобна огромной пустой внутри скорлупе. Вернее, так: она подобна яйцу, состоящему, как полагается, из скорлупы, белка и желтка, которые четко отделены друг от друга. Внутрь можно забраться через два огромных отверстия на одном и другом полюсе, и там, во чреве Земли, находятся четыре сферы, также полые и погруженные в некую эластичную среду, отвечающую за силу притяжения. Но более всего поразило Рейнольдса утверждение, будто в недрах нашей планеты тоже некогда зародилось чудо жизни. Симмс утверждал, что под миром, в котором все мы обитаем, находится другой мир, более теплый и разнообразный, чем наш, где можно встретить растительность, животных и даже… человека. Как и следовало ожидать, эти слова вызвали новый взрыв хохота у публики, к которой сидевший в последнем ряду Рейнольдс охотно присоединился.
Чтобы утихомирить слушателей, Симмс попытался придать больше значимости своим идеям, указав, что они опираются на труды многих прославленных ученых прошлого, таких как астроном Эдмунд Галлей, воображавший, что во чреве Земли также бурлит жизнь и оно освещается особым светильным газом, который иногда прорывается сквозь тонкую земную кору у полюсов и расцвечивает небо полярным сиянием. Или как швейцарский математик Леонард Эйлер, утверждавший, что внутри Земли находится солнце, имеющее 600 миль в поперечнике и дающее тепло и свет обитающей там высокоразвитой цивилизации. Или как сэр Джон Лесли, осмелившийся возразить последнему, заявив о наличии не одного, а двух подземных солнц, которые он окрестил Плутоном и Прозерпиной. За этими именами последовали многие другие, однако изложение новых безумных теорий вызвало у публики еще больший смех. Рейнольдс тоже хохотал как одержимый, освобождаясь через смех от глубокой разочарованности в своем умении жить, а тем временем Симмс говорил о том, что в центре Земли обитают гиганты вегетарианцы, живущие более четырехсот лет, существа, обменивающиеся мыслями посредством излучений, карлики-альбиносы, передвигающиеся при помощи антигравитационных установок, а также мамонты и другие животные, которых человек считал давно вымершими. Если верить Симмсу, то Земля внутри была весьма многолюдным местечком. И тут неожиданно смех застрял в горле у Рейнольдса, и, хотя на его губах продолжала играть веселая улыбка, тело медленно подалось вперед, он начал внимательно прислушиваться к тому, о чем говорил забавный человечек. Подобно бумажным стрелам, его слова с трудом пробивались сквозь царивший в зале неимоверный шум. Несмотря на это, Рейнольдс, затаив дыхание, с сильно бьющимся сердцем, вцепившись вспотевшими руками в подлокотники кресла, внимал изложению теории ученого Тревора Глинна относительно подземных месторождений полезных ископаемых на Земле. Как известно, человек добирался до них с великим трудом, сантиметр за сантиметром буря твердую породу, создавая угольные шахты, алмазные копи, прииски по добыче других ископаемых и рискуя жизнью ради того, чтобы похитить драгоценные металлы и камни у Земли, чья кора была для них, казалось, надежной защитой. Однако, как только удастся проникнуть вглубь Земли через одно из отверстий у полюсов, доступ к указанным месторождениям будет таким же простым, как прогулка по бульвару в экипаже. Получалось так, что Земля, — и тут Симмс развернул множество планов, карт и сложных схем, чтобы подтвердить это, — скрывала в своих недрах сотни гораздо более богатых и обширных месторождений, нежели те, что находились ближе к земной поверхности. Иными словами, подземные жители использовали золото, алмазы и прочие драгоценные камни так же беззаботно, как их верхние соседи использовали глину. Наверняка их города, дороги и даже одежда создавались с использованием драгоценных металлов и имели бы неимоверную цену на поверхности. Последние слова Симмса потонули в очередных взрывах хохота, но ошеломленный Рейнольдс ловил воздух пересохшим ртом. Он получил ответ на все свои мольбы. Возможно, на поверхности планеты и не осталось ничего существенного, что можно было бы открыть, зато под нею еще один Новый Свет ждал своего конкистадора. Это было царство, над которым прибывший первым мог бы утвердить свою власть и даже проложить новый «Путь пряностей», перекачивая наверх золотые слитки, уголь, минералы, бриллианты, что привело бы к созданию невиданного по масштабам рынка. И тот, кто этого добьется, получит контроль над всей торговлей под флагом своей страны со всеми вытекающими отсюда преимуществами. Рейнольдс принялся мечтать, сидя в своем кресле, словно младенец в колыбели, убаюкиваемый смехом присутствующих. Какое название дадут люди этим новым территориям — Второй Новый Свет или Внутренний Мир? И, конечно, торговля уже не будет заморской. Для такого случая понадобится новый термин. Внутриземная торговля? Глубинный путь? Масса авантюристов захочет отправиться на новые земли, привлеченная их богатствами. Но только тот, кто прибудет первым и сумеет удачно разыграть свои карты, станет избранником славы. Рейнольдс поежился при мысли, что кто-то может опередить его. Нет, он должен сблизиться с забавным человечком и выудить у него сведения, которые помогут понять, имеет ли он дело с очередной безумной идеей или же это может превратиться в успешный план. Он, казалось, подошвами башмаков ощущал щекотание, исходившее от земных глубин, эхо таинственной жизни, протекавшей в эти минуты там, внизу.
Поэтому, как только слушатели покинули зал, качая головами при воспоминании о том, какой вздор им пришлось выслушать, а Симмс с горестным видом начал свертывать чертежи с изображением внутреннего строения Земли, которыми он иллюстрировал свое выступление, Рейнольдс подошел к нему, взглянул в его опухшее лицо с женскими губами, поблагодарил за лекцию и предложил помочь собрать иллюстрации. Симмс с удовольствием принял его помощь, дававшую возможность продолжать изливать свои идеи на неожиданного слушателя, посланного ему судьбой. Так Рейнольдс узнал, что капитан уже десять лет как ездит по стране в качестве страстного проповедника новой теории. Похоже, самого заметного успеха он добился, когда убедил сенатора Ричарда Джонсона внести в Конгресс предложение о финансировании экспедиции к центру Земли. На глазах у оторопевших конгрессменов бедняга Джонсон зачитал записку Симмса, в которой отставной армейский капитан обязался, если получит достаточную поддержку, исследовать отверстие, ведущее внутрь планеты. Как нетрудно догадаться, его попытка оказалась безуспешной, но Симмс и не думал сдаваться.
— Существует масса признаков, доказывающих, что моя теория верна, — объявил он, пока они с Рейнольдсом собирали чертежи, размещенные на мольбертах. — В чем, например, причина ураганов и шквалов, как не в том, что воздух всасывается внутрь через отверстия на полюсах? А почему тысячи тропических птиц улетают на зиму к северу?
Рейнольдс счел эти вопросы риторическими и подождал, пока они растают в воздухе подобно снежинкам. Было неясно, имел ли в виду Симмс, что птицы проникали внутрь Земли через дыры на полюсах и гнездились там или же что-то совершенно иное, но Рейнольдсу это было не важно. Он предпочел кивать головой, делая вид, будто слушает усталый голос Симмса, а сам лихорадочно просматривал груду бумаг, карт, рисунков и схем, которыми капитан старался подкрепить свои слова. По большей части бумаги относились к серьезным трактатам, многие из них были подписаны именами известных ученых, и нельзя было не пожалеть, что поборником всех этих экстравагантных теорий был такой бестолковый и смешной человечек. Рейнольдс прикинул, что бы мог сделать он с его журналистскими способностями, если бы обладал такой же кучей сведений и знаний. Он сумел бы все как следует организовать, придать материалам привлекательный вид — не только для публики, но также для учреждений, способных оказать им поддержку — почти бессознательно он начал думать во множественном числе, — и в целом украсил бы проект патиной доверия, чего так не хватало клоунским выступлениям Симмса. Да, подумал он, разглядывая рисунки, очень может быть, что, несмотря ни на что, Земля внутри полая. Почему нет? Многие, похоже, в это верят.
— Не говоря уже о многочисленных случаях упоминания в древних мифах мест, расположенных в глубинах Земли, — продолжал капитан, внимательно следя за реакцией собеседника. — Полагаю, юноша, ты слышал об Атлантиде или о царстве Агартха.
Рейнольдс рассеянно кивнул: он обнаружил рисунки Тревора Глинна. Пометки и запутанные расчеты на полях сообщали о расстояниях между месторождениями, различных маршрутах, следуя которыми можно до них добраться, приблизительных количествах полезных ископаемых, давали топографические и геологические данные, причем такие обстоятельные, что нетрудно было предположить, что картографическая съемка местности произведена самим Глинном, побывавшим в самых потаенных пещерах с карандашом в руке. И тут словно озарение снизошло на Рейнольдса, и он понял, что речь идет не о том, верить или не верить, а о том, ставить на это или не ставить. И он решил поставить. Поставить на полую Землю. И верить в нее по-детски, как верил в существование Бога: если в конце концов выяснится, что Бог — это обман, последствия веры в него не будут такими ужасными, как в том случае, если Бог существует, а он объявит себя атеистом. То есть он верил с оглядкой, заранее подстраховавшись, чтобы не гореть в аду, если ошибся, и тем самым лишний раз демонстрировал свой практический ум. Он размышлял над всем этим, стараясь отвлечься от назойливого голоса Симмса. Если есть еще не открытый мир, он не станет терять время в спорах о том, существует ли такой мир на самом деле. Пусть этим занимаются другие. Он же просто-напросто отправится на его поиски. Таким образом получалось, что сегодня Рейнольдс обрел смысл жизни, до того упрямо ускользавший от него. Ничто не предвещало этого еще утром, когда по дороге на работу его чуть не сбил экипаж, и даже днем, когда трактир, в котором он обычно обедал, оказался запертым из-за смерти хозяина. Тем не менее это случилось: он встретил свою судьбу. И теперь ему оставалось лишь радостно следовать ей.
Голос Симмса прервал его размышления.
— Однако, — сказал отставной капитан, прикидывая про себя, достоин ли незнакомец того, чтобы стать хранителем знаний, о которых он умалчивал на своих лекциях, — главная причина, заставляющая меня считать, что наша Земля полая, совершенно иная.
— Вот как?
— И эта причина чисто экономическая, юноша, — многозначительно произнес Симмс. — Ведь наши кости и те полые. Естественно, что мысль о том, чтобы сотворить Землю полой и тем самым сэкономить материал, не могла не посетить Создателя.
Рейнольдс постарался ничем не выдать своего презрения к столь глупому аргументу и изобразил на лице восхищенную гримасу. Он понимал, что если хочет осуществить свой план, то должен на первых порах добиться расположения этого нелепого человечка. С другой стороны, он интуитивно чувствовал, какой тяжелой обузой может обернуться для него союз с этим типом.
Так или иначе, но на следующий день Рейнольдс продал свою долю акций в «Спектейторе», газете, которую он издавал в Уилмингтоне, и, свободный как птица, присоединился к Симмсу. Почти целый год они колесили по стране, словно два евангелиста, возвещающих о скрытом под землей царстве, что сопровождалось лекцией, теперь уже более упорядоченной и привлекательной благодаря правке, внесенной умелой рукой Рейнольдса. Однако его усилия придать проекту солидность то и дело разбивались о бредовые идеи и эксцентрические выходки Симмса. Несмотря на это, Рейнольдс старался не отчаиваться и настойчиво проводил в жизнь параллельный план, составленный за спиной у напарника. Скоро он изучил все, что можно было узнать о различных теориях полой Земли, и выделил среди них те, которые были более привлекательными и удобоваримыми для публики, заполнявшей залы, и те, которые могли бы заинтересовать власть имущих, рассевшихся по кабинетам, и, как он надеялся, соблазнить их. Воодушевленный первыми успехами, он развил бурную деятельность в последующие месяцы: рассылал письма коллегам журналистам, договаривался о встречах с политиками, обращался с просьбами о помощи ко всем, кто мало-мальски мог ее оказать, из кожи лез вон, чтобы раздобыть денег. Постепенно он добился того, что в различных кругах общества о полой Земле стали говорить как о научной теории, возможно, недостаточно последовательной для того, чтобы избежать удивленного движения бровей, но достаточно пристойной, чтобы обойтись без традиционных смешков. Разумеется, если в это время не появлялся Симмс, чтобы все испортить.
Однажды вечером, когда они отмечали то, что Симмс считал своим последним триумфом, а он — его последней диверсией, Рейнольдс окончательно удостоверился, что у отставного капитана серьезные проблемы с алкоголем. Как всегда, они провели день, раскрывая тайны полой Земли тем, кто хотел их слушать, после чего уселись за стол, уставленный кружками с пивом, и наступил черед продемонстрировать друг другу куда более бесхитростные изгибы своей души — по крайней мере, этому ритуалу неукоснительно следовал Симмс в конце ужина, тогда как его напарник внимал ему со смешанным чувством жалости и досады. На протяжении многих вечеров, по мере того как алкоголь развязывал капитану язык, Симмс все больше и больше запутывался в лабиринте собственных иллюзий. Он продумал подземный мир до мельчайших подробностей, создав в своем воображении что-то вроде идеального оазиса, где счастье было растворено в самом воздухе и где не существовало ни мук, ни страданий, сопровождающих людей на поверхности. В общем, это был мир, где невозможно быть несчастным, мир, чьи чудеса Симмс описывал вечер за вечером, опаляя собеседника лихорадочным взглядом умирающего, чьи глаза в ожидании смерти уже видят блаженный рай. Тем не менее Рейнольдс не мог не признать, что это стремление убежать от мира, который тебя не удовлетворяет, эти отчаянные поиски лучшего места каким-то образом их роднят. Однако же было между ними и важное различие: Симмс выстроил свою мечту, чтобы укрыться за ней, и обнес ее высокими стенами своего безумия, не позволявшими глядеть вдаль, в то время как он, бесконечно более практичный, окружил себя десятками подзорных труб и телескопов, позволяющих разглядеть все возможные пути и направления. На самом деле Рейнольдса не слишком волновало, что находится в центре Земли: развитая цивилизация фосфоресцирующих красоток, племя свирепых орангутанов, горстка городов, пострадавших от неведомых войн, или развалины исчезнувших древних цивилизаций. Главное — добраться туда, а там поглядим.
Однако, хотя вечер, о котором мы ведем речь, начался как всегда, вскоре он приобрел неожиданное направление. Наклонившись к нему из кресла и опасно помешивая в руке содержимое своего стакана, Симмс вкрадчивым голосом признался, что если смог так прекрасно описать подземный мир, если был столь уверен, что то, что находится у нас под ногами, выглядит именно так, как он изобразил, и не иначе, то это потому, что он просто-напросто там побывал. Неожиданное признание бывшего офицера конечно же поразило Рейнольдса, и, застыв в изумлении, он выслушал рассказ Симмса. К сожалению, пересказать его сейчас во всех подробностях не представляется возможным, ибо это отвлекло бы вас от основного повествования, а потому ограничусь лишь беглым упоминанием о том, что предполагаемые события имели место в 1814 году, в самый разгар войны с британцами. Отряд, которым командовал Симмс, попал в засаду, и вскоре всем, как солдатам, так и офицерам, стало ясно, что наступила пора следовать не чьим-то приказам, а инстинкту выживания. Преследуемому двумя британскими солдатами Симмсу удалось спрятаться в гроте, который попался ему на пути, и в глубине его, после многочасовых блужданий по лабиринту туннелей, он наткнулся на лестницу, которая, похоже, вела к центру Земли. Там перед его глазами предстал город с красивыми куполами, словно сошедший со страниц «Тысячи и одной ночи», равно как и история, которую он поведал ошеломленному Рейнольдсу и которая включала любовь к прекрасной принцессе тамошнего царства, дворцовый заговор, революцию и, наконец, отчаянное бегство и расставание с вышеуказанной принцессой, сгоравшей от любви. Когда Симмс закончил свой рассказ, окропив его горькими слезами по возлюбленной Литине, принцессе Милмора, того самого подземного царства, изрядно напуганный Рейнольдс понял, что пришла пора избавляться от напарника. Но, к несчастью, легче было решить, чем сделать. У Симмса, несмотря на его жалкие выходки, иной раз случались приступы вдохновения, и во время одного из них он заставил Рейнольдса — это произошло в самом начале их отношений — подписать договор, согласно которому они обязались совместно осуществить экспедицию к центру Земли, причем никто из них не имел права реализовать данный проект в одиночку, за исключением случая смерти одного из компаньонов. И теперь Рейнольдсу оставалось только проклинать себя за то, что он подписал документ.
На протяжении всех последующих дней он неотрывно думал о том, как бы ему отделаться от Симмса. Тот с каждым разом пил все больше, даже по утрам и особенно перед лекциями, словно верил, что алкоголь оттачивает его красноречие, из-за чего Рейнольдс жил в постоянной тревоге, опасаясь, что на очередном собрании или лекции Симмс откроет миру свою безумную историю. Единственное, до чего Рейнольдс додумался, это, что надо по возможности свести ущерб к минимуму. Он начал договариваться о встречах за спиной у Симмса и даже поощрял его пьянство, чтобы тот в течение дня пребывал в покорном полубессознательном состоянии. Так он мог являться на лекции один, оставляя Симмса дрыхнуть в гостиничном номере.
И вот наконец ему представилась возможность, о которой он так долго мечтал. Он вел в своем номере переговоры с двумя сенаторами, как вдруг туда без предупреждения ввалился Симмс в нижнем белье, совершенно пьяный, и, встав на колени перед именитыми гостями, стал умолять поддержать их проект и дать немного денег им с другом, потому что как раз в эту минуту под его ногами вздыхает от любви прекрасная принцесса, в чем гости могут убедиться, если приставят ухо к ковру. После этого он свалился на пол и безмятежно захрапел. Рейнольдс с отвращением глядел на него. Наскоро извинившись, он проводил сенаторов, которые никак не могли опомниться от увиденного, а затем в течение нескольких минут изучал лежавшего на полу Симмса, и постепенно презрительная гримаса на его лице сменилась недоброй улыбкой. Осмелится ли он совершить это? Если пропустить такую возможность, второй у него, скорее всего, не будет, заключил он и, стараясь не думать об истинном смысле того, что делает, принялся с усердием горничной, желающей как следует проветрить комнату, открывать одно за другим окна. Дело происходило в Бостоне в середине зимы, которая в этом году была особенно суровой. Ледяной ветер тут же принялся рвать занавески, в то время как комнату наводнил рой танцующих снежинок, усеявших ковер, пол и углы номера белыми клочьями, словно кто-то разорвал здесь подвенечное платье невесты. Убедившись, что все идет так, как он предполагал, Рейнольдс покинул комнату, оставив полуголого Симмса лежать на полу в условиях, не сильно отличающихся от уличных, и пошел ночевать в его номер, заранее предупредив портье, чтобы его ни в коем случае не беспокоили. Следует сказать, что заснул он мгновенно. На следующее утро он вернулся в свой номер и обнаружил, что Симмс по-прежнему пребывает в бесчувственном состоянии, хотя теперь лежит в нескольких метрах от того места, где он его оставил, так как, по-видимому, просыпался среди ночи и пытался доползти до кровати в поисках тепла. У него было багровое, переходящее в синеву лицо, и он натужно дышал, издавая при этом хриплые звуки, какие издает тромбон, если заткнуть его мокрыми тряпками. Рейнольдс быстро перенес Симмса в его комнату и уложил в постель. После этого он вызвал врача, определившего у больного тяжелую форму пневмонии. Симмс так до конца и не пришел в сознание. На протяжении четырех дней он только обливался потом, бредил и метался в жару на кровати, громко зовя Литину. На рассвете своего последнего дня, прожитого на поверхности той самой Земли, которая обрекла его на такие унижения, Симмс открыл глаза и уставился на Рейнольдса, просидевшего все это время у его изголовья. Собрав последние силы, отставной капитан обратился к нему хриплым сдавленным голосом. Все мои усилия были тщетными, прошептал он. Литина никогда не узнает, что я стал жертвой заговора, что я по-настоящему любил ее и продолжал любить, покинув ее мир, каждый день, каждый час. Рейнольдс смотрел на него и чувствовал, как его сердце наполняется жалостью. И тогда, почти не отдавая себе отчета в том, что делает, он взял Симмса за руки и пообещал ему в этой комнатенке, пропахшей лекарствами и смертью, что не успокоится, пока не достигнет центра Земли и не передаст Литине его слова. Симмс с трудом выдавил из себя благодарную улыбку. И через несколько секунд его глаза потухли, а рот судорожно открылся в поисках воздуха, который он уже был не в состоянии вдохнуть.
Освобождение от Симмса оставило горький осадок в душе Рейнольдса, но, поскольку было бы весьма непрактичным плакать из-за этого, а тем более терзаться до конца своих дней воспоминаниями, как, несомненно, поступила бы любая чувствительная душа, он решил задвинуть их в самый дальний уголок памяти, где хранились поступки, которыми он не слишком гордился, и следовать своему плану. Так что Рейнольдс продолжал выступать с лекциями по всему восточному побережью, увешивая стены иллюстрациями из трудов Галлея, Эйлера и прочих ученых. Поскольку его выступления не давали никакого результата, отчаяние заставило его брать за вход пятьдесят центов, чтобы таким образом собрать деньги на экспедицию. Но очень скоро ему открылось, что этот романтический порыв не приносит никакой практической пользы, и он решил: пришла пора пробиваться в более высокие сферы. Он вербовал сторонников, переезжая из города в город, и с удвоенной силой стучался в двери высоких кабинетов, пока наконец не заручился поддержкой самого президента Джона Куинси Адамса, пообещавшего ему, что правительство возьмет на себя расходы по исследованию отверстия на полюсе. Однако Рейнольдсу не пришлось откупоривать шампанское, так как, на его несчастье, Куинси проиграл выборы, не успев выделить ему деньги, а занявший его место Эндрю Джексон, с которым Симмс плечом к плечу сражался во время обороны Нового Орлеана, отменил экспедицию. Но Рейнольдс не сдавался. Он уже слишком далеко зашел, чтобы начинать все сначала. А потому, воспользовавшись тем, что Соединенные Штаты испытывали по отношению к европейским странам комплекс культурной неполноценности, он попробовал преподнести полярную экспедицию как величайшее патриотическое предприятие, какое только можно себе вообразить. Проект привлек внимание Уотсона, предпринимателя, который немедленно изъявил готовность. Деньги Уотсона сыграли свою роль, и постепенно многие другие влиятельные люди присоединились к предприятию, так что образовалась запутанная сеть тайных интересов, и в один прекрасный день Рейнольдс внезапно обнаружил, что за ним пристально наблюдают могущественные хищники — следят за каждым его шагом и готовы разделить с ним триумф или сожрать его в случае неудачи. Наконец «Аннаван» под крики толпы отплыл из нью-йоркского порта и взял курс на отверстие в полюсе, а мечта, отравлявшая жизнь Симмсу, была названа газетчиками Великой американской экспедицией.
Тем не менее сейчас они находились в месте, словно бы не являющемся частью известного им мира, где уже не были слышны восторженные рукоплескания толпы, а все было окутано безмолвием, столь напоминавшим забвение, которое усыпляло желания и жизнестойкость людей, отнимая у них надежду на возвращение к цивилизации.
Мало того, случилось совершенно неожиданное происшествие, последствия которого Рейнольдс пока не мог предугадать. Они прибыли туда с намерением отыскать проход к центру Земли и столкнулись с монстром, прилетевшим со звезд. И хотя в данный момент все его мысли были пронизаны страхом, Рейнольдс не мог помешать своему мозгу обдумывать так и сяк не слишком экстравагантную идею: нечаянное открытие тоже может принести ему славу и осыпать деньгами. Разве добрая часть великих открытий не была сделана случайно? Разве Колумб наткнулся на Новый Свет не тогда, когда искал новый путь в Индию? Возможно, появление странного существа не таило в себе никакой угрозы экспедиции, будучи намного важнее, чем она сама. Если взглянуть на эту историю под таким углом зрения, не составит труда сделать вывод, что он встретил Симмса, верившего в полую Землю, и преодолел множество невзгод только для того, чтобы оказаться сейчас здесь и стать свидетелем события, которое, быть может, станет важнейшим в истории человечества, более важным даже, чем само рождение Христа.
Рейнольдс постарался успокоиться. Сейчас, как никогда бесстрастно, нужно рассмотреть весь спектр открывающихся перед ним возможностей, чтобы попытаться опередить события. Если им удастся пленить демона и отвезти его в Нью-Йорк, они произведут небывалый фурор, это очевидно. Невозможно подсчитать, чем может обернуться для человечества открытие других разумных существ во Вселенной. Если пришелец действительно, как считал метис, явился оттуда, то сам он и его летательный аппарат заставят человека по-новому взглянуть на место, занимаемое им в природе, и даже изменят его представление о смысле жизни. Хочет того или нет человек, этот самодовольный император космоса, ему придется признать, что Земля — довольно-таки ординарная планета, затерянная среди звезд. Звездный монстр стал бы, конечно, революционной находкой. Но прежде надо поймать его. А возможно ли это? Тут вдруг ему пришла на ум другая мысль: а что, если у звездного монстра нет злых намерений, как все почему-то считают, и он прилетел на Землю с мирными целями? Удастся ли наладить с ним контакт? Неизвестно, но все же стоит попытаться, ведь это будет означать неизмеримо больший успех, чем просто привезти его голову в Нью-Йорк. Первый контакт с разумным существом из другого мира! О скольких чудесных вещах мог бы поведать человеческой расе такой пришелец? А как вспоминали бы Рейнольдса, творца этих чудес, грядущие поколения? Он решительно обуздал свою фантазию. Рано пока об этом говорить. Главное сейчас — найти способ вернуться домой, ибо, если они замерзнут во льдах, им вряд ли пригодится знание о том, что на других планетах тоже есть жизнь, пусть даже они успеют перед этим выпить чаю с жителем одной из них.
Два силуэта, появившиеся на горизонте, прервали его размышления. Рейнольдс вытащил из кармана подзорную трубу и направил ее на темные фигуры, продвигавшиеся к кораблю. Хотя расстояние не позволяло как следует рассмотреть лица, было очевидно, что это могли быть только Карсон и Рингуолд. По походке не похоже было, что они ранены. Рейнольдс обратил внимание на сани, которые они везли за собой, и на лежавший на них тяжелый груз, прикрытый одеялом. От удивления он даже раскрыл рот. Груз мог означать только одно: Карсону и Рингуолду удалось захватить звездного монстра.
IV
Возвращение двух матросов взбудоражило команду «Аннавана» так, как если бы перед ней вдруг возникли призраки. Рейнольдс, капитан Макреди, доктор Уокер, боцман Фиск и некоторые матросы, в том числе Петерс, Аллан и Гриффин, спустились по снежному склону вниз, чтобы встретить пропавших товарищей.
— Ну что, нашли его? — спросил Макреди и указал на тюк, к которому были прикованы все взгляды.
— Нет, капитан, — ответил Рингуолд, — но зато обнаружили это.
Он дал знак напарнику, и, ухватившись вдвоем за концы толстого одеяла, они выставили на всеобщее обозрение свой груз. Собравшиеся не могли удержаться от восклицаний, и, хотя перед ними лежал не звездный демон, зрелище было не менее ужасающим. Исследуя окрестности, Рингуолд и Карсон наткнулись на тушу громадного полярного медведя, зверски растерзанного. У животного было вырвано горло, расплющен череп и вскрыта брюшная полость, из которой торчали наружу спирали кишок, окаменевших на морозе. Мало того, у него была, можно сказать, с корнем вырвана одна из лап. Раны были настолько ужасны, что никто не осмеливался помыслить, чем они могли быть нанесены. Рингуолд объяснил, что, когда они нашли медведя, внутренности его еще дымились, указывая, что смерть наступила не слишком давно. Поскольку туман настолько сгустился, что идти было невозможно, они решили расширить дыру в брюшной полости и по очереди греться в еще теплом чреве. Так им удалось избежать серьезного обморожения, хотя у обоих отдельные пальцы на ногах потеряли чувствительность. Услышав этот рассказ, все сразу заметили липкую и омерзительно пахнувшую пленку, покрывавшую одежду матросов. И тут Гриффин обратил внимание присутствующих на одну из лап медведя. Наклонившись, он обнаружил на некоторых когтях что-то вроде обрывков странной красноватой кожи.
— Пусть мы пока не знаем, как в целом выглядит монстр, но уже можем сказать, что у него ярко-красная кожа, — объявил он. — Трудновато ему будет проскользнуть незамеченным по снегу.
— Разве ярко-красная? — удивился один из матросов, рассматривая лоскутки на медвежьих когтях. — А по-моему, скорее золотистая.
— Тебе надо купить очки, Уоллис, — вмешался матрос по фамилии Кендрикс. — Она явно темно-синего цвета.
Остальные моряки сгрудились возле медвежьей лапы, желая определить истинный цвет кожи монстра. Каждый видел свой цвет.
— Немедленно прекратить споры, черт бы вас побрал! — рявкнул капитан, которому надоели бессмысленные дебаты. — Вы не понимаете, что цвет этой твари должен интересовать нас в последнюю очередь! Боже милосердный, главное, на что она способна!
Пристыженные матросы тут же умолкли. И поскольку я полагаю, что никому из вас не доводилось в своей наполненной спокойствием жизни лицом к лицу встречаться со столь необщительным зверем, сделаю небольшое отступление, чтобы сообщить, что полярный медведь — страшный противник, которого почти невозможно убить одним выстрелом. Его череп так крепок, что способен остановить пулю, посланную из мушкета, под стать ему и легкие, которые может пробить далеко не всякое оружие. К этому следует добавить, что сердце медведя — это орган, который очень трудно обнаружить в невообразимой мешанине мышц, сухожилий и толстых слоев жира. Кажется, будто он постоянно носит средневековые доспехи. И тем не менее звездный монстр не испытал при встрече с ним особых затруднений и буквально растерзал его.
Рейнольдс смотрел на труп медведя не только с ужасом, но и с некоторым разочарованием. Вряд ли можно было сказать, что звездный демон являет собой образец терпения или ставит превыше всего основополагающие законы вежливости. Хотя могло быть и так, что гость из Вселенной, если он действительно прилетел оттуда, всего-навсего оборонялся.
Наконец капитан Макреди перестал качать головой, отошел от туши и оценивающим взглядом окинул горизонт.
— Слушайте меня внимательно, — сказал он, обшарив окрестности прищуренными глазами. — Отныне никто не покинет судно без моего разрешения. Мы укроемся внутри и выставим посты. Если эта тварь проделала такое с полярным медведем, нет нужды говорить, что бы она могла сделать с любым из нас.
Все уныло согласились с капитаном. Нет, не стоит об этом говорить.
— Что касается медведя, — добавил капитан, — то поднимите тушу на судно. По крайней мере, у нас будет еда, пока мы будем ждать появления этой твари, потому что рано или поздно она непременно появится.
Все послушно вернулись на судно, как-то сразу смирившись с осадным положением, в котором они вдруг очутились, и не пытаясь протестовать, хотя их покорность объяснялась скорее тем, что они просто не знали, на кого им жаловаться. Мало того что они рисковали замерзнуть насмерть на проклятой льдине, так теперь к этому в виде особой приправы добавился звездный монстр! Шагавший в конце невеселой процессии Рейнольдс заметил, что Аллан задержался возле того места, где стояли сани, и с озабоченным видом вглядывается в даль, словно размышляя над тем, готов ли хрупкий человеческий разум к созерцанию существа из другого мира, чей вид настолько несхож со всем существующим на Земле, что, возможно, покажется скорее непонятным, нежели страшным.
— Мы одни… — пробормотал он, поравнявшись с Рейнольдсом. — Одни против него.
От этих слов у Рейнольдса сжалось сердце. Ему показалось, что окружавшая их бескрайняя равнина вдруг сузилась до крошечных размеров.
Прошло два дня. Все было по-прежнему спокойно. Хотя, безусловно, это было напряженное спокойствие, когда любые непонятные звуки заставляли вздрагивать, когда самые впечатлительные от неожиданности проливали бульон на пол, а мушкет становился за обедом столь же обычным атрибутом, как столовые приборы. Это было подозрительное и преувеличенное спокойствие, когда нервы натянуты до предела, что приводило к ссорам и перепалкам по любому поводу, и разрешались они в большинстве случаев тем, что один из участников выхватывал нож, а в остальных — вмешательством капитана Макреди, для которого ссоры служили предлогом для демонстрации своих боксерских навыков. В общем, это было такое утомительное спокойствие, что все втайне мечтали, чтобы их наконец атаковал чертов монстр и стало бы ясно, могут они его победить или же их попытки оказать сопротивление окажутся такими же тщетными, как у пресловутого медведя, чье мясо теперь ублажало их желудки.
Для того чтобы появление демона не застало команду врасплох, Макреди распорядился выставить на палубе четырех вахтенных, по одному с каждой стороны. И хотя Рейнольдс был освобожден от этой обязанности то ли потому, что он возглавлял экспедицию, то ли из-за раненой руки, он время от времени выходил на палубу подышать свежим воздухом, особенно когда после долгого заточения ему начинало мерещиться, будто его и без того тесная каюта сделалась еще уже. Но на этот раз он покинул свою каморку по другой причине. Его каюта располагалась чересчур близко к лазарету, находившемуся на самом носу судна, и он только что узнал, что доктор Уокер, с таким состраданием отнесшийся к нему, когда он обжег руку, собирается ампутировать ногу матросу Карсону, чтобы у того не началась гангрена. Незадолго перед этим Рейнольдс уже слышал жуткие завывания Рингуолда, доносившиеся словно из глубин ада, а ведь тому ампутировали всего лишь три пальца на руке.
Судя по тому, с какой свирепостью обрушился на него мороз, едва он вышел наружу, температура опустилась ниже сорока градусов. Жуткий ветер завывал над обрубками мачт и снежным откосом, перемещая снег из стороны в сторону. Рейнольдс закутался в свой плащ и огляделся по сторонам. Он с радостью обнаружил среди дозорных Аллана. Фигуру артиллериста, чье тело, казалось, было составлено из тонких и удлиненных деталей, напоминая силуэт голенастой птицы, было невозможно спутать ни с одной другой, хотя она и была спрятана под несколькими слоями одежды. Немного поразмыслив, Рейнольдс решил побеседовать с ним. В конце концов, юноша из Балтимора был единственным членом команды, чьи впечатления о происходящем могли ему что-то подсказать.
Так же, как это было с Гриффином во время похода к летательной машине, когда Рейнольдс впервые подошел к Аллану, у него не было иного намерения, кроме как выяснить причину, по которой к экспедиции присоединился человек, столь же резко отличавшийся от остальных матросов, как щеголеватая буквица отличается от каракулей малограмотных людей, чей удел — заурядная тоска и незамысловатые пороки. С самого начала Аллан проявил себя как прекрасный собеседник, став почти единственным человеком на борту «Аннавана», с кем Рейнольдс мог найти общий язык, а потому глава экспедиции частенько искал встреч с юношей — они помогали ему проветрить мозги. Со временем, заметив, что, похоже, Аллан тоже уютно себя чувствует в его компании, он стал приглашать его к себе в каюту, чтобы вместе расправиться с запасами бренди, привезенного с континента. И Рейнольдс сумел уже обнаружить, какое пагубное действие оказывал алкоголь на беднягу Аллана: если первая рюмка превращала его в блестящего оратора, то после второй он принимался безудержно болтать, то и дело сбиваясь с мысли, и все пытался раскрыть душу перед Рейнольдсом, считавшим, что не заслуживает подобных откровений. Наконец, после третьей, он начинал клевать носом, уже ничего не соображая. Рейнольдс никогда еще не встречал человека, который был бы столь же нестойким к спиртному, как Аллан. Малолетний ребенок и тот дал бы ему фору. Впрочем, Рейнольдс этого не проверял.
Несмотря на все это, их беспорядочные беседы позволили начальнику экспедиции составить довольно точную биографию Аллана, которую, с вашего позволения, я сейчас изложу, выделяя лишь самое основное, чтобы не слишком отвлекать ваше внимание. Возможно, эти сведения окажутся вам полезными, учитывая неожиданную роль, какую артиллерист будет играть в нашей истории. Поначалу Аллан говорил Рейнольдсу, как и остальным членам команды, что он сын Бенедикта Арнольда, американского генерала, предавшего своих и перешедшего на сторону британцев во время Войны за независимость. Да, словно провоцируя окружающих, чтобы они потребовали от него отречься от обесчестившего себя отца. Однако, поскольку Аллан был не способен лгать под алкогольными парами, Рейнольдс очень скоро выяснил, что у юноши далеко не столь известные родители: Аллан был сыном актеров бродячего театра, умерших от чахотки, когда мальчику было всего три года. Правда, его сиротская жизнь продолжалась совсем недолго, поскольку тут же все заботы о нем взяла на себя богатая ричмондская семья, восхищавшаяся сценическим талантом его несчастной матушки. Но глава семейства не соглашался официально усыновить Аллана, несмотря на уговоры своей супруги. Его отказ, как сразу же понял Рейнольдс, наложил глубокий отпечаток на отношения между Алланом и благодетелем, причем последний не только отказывался ставить свою подпись на бумагах, которые могли связать их сильнее любых кровных уз. Как только его подопечный достиг отроческого возраста, он стал готовить его к карьере адвоката, не обращая внимания на то, что подросток каждую ночь при свете свечи пишет стихи и мечтает стать поэтом. Естественно, что эти трения, с каждым разом все более частые и глубокие, сделали обстановку в доме невыносимой, и после нескольких лет разлада, взаимного непонимания и даже обоюдных угроз Аллан, которому все это надоело, решил прибегнуть к иной стратегии, позволяющей помириться с опекуном: он сказал ему, что хотел бы поступить в Вест-Пойнт. Это было последнее средство. Как он и предполагал, опекун принял идею на ура и с облегчением вздохнул, посчитав, что наконец-то ершистый юноша перестанет бездельничать и найдет свою дорогу в жизни. Но чем ближе становился день поступления в академию, тем больше Аллан убеждался в том, что немного поспешил: на самом деле меньше всего на свете он желал оказаться в Вест-Пойнте. Единственное, чего ему хотелось — это исчезнуть, сделать так, чтобы земля его поглотила, либо, если такое невозможно, найти место, где время бы чудесным образом остановилось, что позволило бы ему думать, набираться сил, решать, какой жизни он хочет для себя, и, возможно, написать новую поэму, уже зарождавшуюся в его голове, не заботясь о ежедневном добывании хлеба насущного. Существовало ли такое место где-нибудь, кроме тюрьмы? Когда до него дошли слухи о готовящейся экспедиции на «Аннаване», не гарантировавшей возвращение, зато обещавшей сплошные приключения, он понял, что это как раз то самое. И решительно поднялся на борт судна, не задумываясь над тем, куда завезет его несчастную душу старый китобоец и что ее ждет: безумие или искупление.
Вот так и формировалась эта забавная команда, подумал Рейнольдс. Команда, состоявшая из беглецов. В действительности ни Аллана, ни Гриффина, ни других членов экспедиции совершенно не интересовало, полая внутри наша Земля или нет. Более того, Рейнольдс вдруг осознал, что и его самого это мало волнует. Все они представляли собой горстку отчаявшихся людей, бежавших от своих внутренних демонов, которые принимали форму женщины, одержимой мыслью о замужестве, неуступчивого опекуна или, как в его случае, страха перед худшей из смертей, которая наступает спустя годы после естественной смерти, когда все, знавшие покойника, тоже умирают и на земле не остается никого, кто мог бы вспомнить его имя и воздать ему хвалу. Эта вторая смерть по-настоящему уничтожает человека, стирает все его следы, и лишь немногие способны победить ее, вписав свои имена в Историю. Однако в результате этого бегства в никуда все беглецы на судне разделили одну судьбу: им суждено было встретиться с настоящим демоном. Хотя появление монстра, с иронией подумал Рейнольдс, по крайней мере, неожиданно помогло участникам экспедиции задуматься над своей немудреной жизнью и заново оценить ее.
При этой мысли Рейнольдс вновь покачал головой. Уж очень многие вещи он считает само собой разумеющимися, признал он, шагая в сторону Аллана. Чересчур многие. Кто уверял его, что эта машина неземного происхождения? Почему он поверил предположениям какого-то индейца, который даже в следах, похоже, толком не разбирается? Возможно, это какие-то военные испытания некой иностранной державы. Но, по правде говоря, в испытания он не верил. Что-то подсказывало ему, что загадочное существо не принадлежит нашему миру, хотя, несомненно, его желание, чтобы так оно и оказалось на самом деле, снижало объективность предчувствия. И о намерениях пришельца лучше не строить догадок. Да он сам, поначалу мечтавший наладить хоть какой-нибудь диалог с ним, заразился страхом, охватившим всю команду: спал он теперь с пистолетом под подушкой и долго не мог сомкнуть глаз, воображая бродящего снаружи монстра.
Подойдя к молодому артиллеристу, Рейнольдс дружески поздоровался с ним, и в течение нескольких минут они хранили почтительное молчание, как соседи по театральной ложе, любуясь расстилавшейся перед ними обрывистой ледяной равниной. Ветер раскачивал фонари на шестах, опоясывающих судно, придавая оттенок волшебства окружающему пейзажу, как будто где-то вдали, среди снегов, собрались феи. Наблюдают ли за ними в эту минуту? — подумал он с некоторым беспокойством. И, откашлявшись, задал вопрос, давно вертевшийся у него на языке:
— Что это за штука, Аллан, как вы думаете?
Закутанная в несколько слоев материи голова сержанта несколько секунд сохраняла неподвижность.
— Я не знаю, — произнес он наконец и слегка пожал плечами.
Но Рейнольдса, возможно, как недавнего журналиста, такой ответ не удовлетворил. Он попробовал сформулировать его по-иному:
— Вы полагаете, он прилетел… со звезд?
На этот раз артиллерист не замедлил с ответом:
— Да, мой друг, вероятно, с Марса.
Рейнольдса удивила такая уверенность.
— С Марса?
Артиллерист кивнул и повернулся к Рейнольдсу, вперив в него свои огромные серые глаза, в которые тот обычно избегал заглядывать из боязни, что они поглотят его без остатка, подобно Мальстрему.
— Это самое простое объяснение, — сказал Аллан чуть ли не с сожалением. — А самые простые объяснения почти всегда верны, мой дорогой Рейнольдс.
— Почему? — спросил тот, и было неясно, относится его вопрос к первому или ко второму утверждению. А может, к обоим сразу?
— Потому что Марс — это планета, больше всего похожая на нашу, — объяснил Аллан, вновь переведя взгляд на льдины. — Вы читали доклады Royal Society[1], основанные на исследованиях, которые Уильям Гершель, астроном английского королевского двора, произвел с помощью своего телескопа? — Рейнольдс покачал головой и сделал знак Аллану, чтобы тот продолжал, чем его собеседник не замедлил воспользоваться: — В них утверждается, что Марс обладает плотной атмосферой, во многих отношениях похожей на нашу, а потому он скорее всего обитаем.
— Я вижу, вы не рассматриваете возможность того, что эта штука и машина, доставившая ее сюда, имеют отношение, скажем, к испытаниям, проводимым какой-нибудь иностранной державой.
— Конечно, я ее рассматривал. Однако очень трудно или даже невозможно себе представить, чтобы какая бы то ни было иностранная держава добилась столь невероятных научных успехов и при этом до сих пор сохраняла бы свои достижения в тайне, вам не кажется? Таким образом, мы исключаем возможность того, что эта штука имеет земное происхождение, а значит, нам остается предположить, что она прибыла из космического пространства. И если мы примем эту гипотезу как единственно верную, то не ошибемся, предположив, что наш гость прилетел с Марса, самой близкой от нас планеты, где существуют условия для жизни. — Аллан бросил на него быстрый взгляд. — Разумеется, я могу ошибаться и даже немного исказить факты, чтобы они вписались в мою теорию, что свойственно обладателям логического мышления, однако, пока мне не докажут обратное, я буду считать самым простым, а следовательно, наиболее логичным такое объяснение.
Сказав это, он поднял лицо к небу, и его глаза устремились, казалось, к какой-то определенной точке, где, не исключено, находилась красная планета. Ежась от холода, Рейнольдс напряженно и в то же время завороженно наблюдал за ним, не зная, что сказать в ответ. Его всегда удивляли познания Аллана. Он не встречал человека, столь сведущего в самых разных материях, каким казался артиллерист, и способного столь исчерпывающе и в то же время категорично рассмотреть любую вещь. Не случайно юноша поступил в престижный Виргинский университет, когда ему было всего семнадцать. Правда, у самого Аллана было совершенно иное мнение об этом храме знания. Как рассказывал он однажды, находясь уже на взводе, в стенах университета, на который столько надежд возлагал основавший его бывший президент Томас Джефферсон, царили полный хаос и распущенность. Формально его деятельность строилась на некоем кодексе чести, передававшем управление в руки самих студентов, в коих таким образом предполагалось воспитывать сознательность и совесть, свойственные джентльменам-южанам. Весьма похвальное намерение, насмешливо заметил артиллерист, вот только студенты, в большинстве своем отпрыски богачей, воспользовавшись неслыханным отсутствием надзора, тратили время на то, чтобы играть на деньги в карты, устраивать попойки и даже драться на дуэлях. Аллан, который в силу обстоятельств был вынужден вести тот же образ жизни, что его товарищи, очень быстро накопил немыслимый карточный долг и, так как никто не собирался его оплачивать, был без лишних слов исключен из университета. Правда, прежде он успел сжечь мебель в своей комнате. Это было еще одним поступком, который его опекун, обвиняемый Алланом в том, что он воспитал его как богача, но не сделал богачом, не сумел или не захотел объяснить.
— Знаете что, Рейнольдс? На самом деле я всегда верил, что это вопрос времени и рано или поздно они нанесут нам визит, — неожиданно добавил артиллерист задумчивым и в то же время унылым тоном.
— Марсианин… — повторил Рейнольдс, сам себе не веря.
Он был рад и одновременно напуган. Рядом с ним стоял человек незаурядного ума, который, так же как он, верил, что это существо прилетело из космоса. Марсианин… Упавший с неба марсианин… И первыми людьми, которые установят с ним контакт, будут они, отважные члены экипажа «Аннавана», участники Великой североамериканской экспедиции, возглавляемой им, Джереми Рейнольдсом, великим путешественником, первым человеком, который будет разговаривать со звездным пришельцем, человеком, который, может быть, никогда и не станет вице-королем подземного мира, но зато войдет в Историю как посланник Земли за ее пределами.
— Да, марсианин, — повторил Аллан, глядя теперь на Рейнольдса своими сияющими глазами, словно впитавшими в себя весь блеск созвездий, которые он перед этим рассматривал. — И его существование все меняет, не правда ли? Например, как вы теперь сможете верить в Бога?
Слова артиллериста отвлекли Рейнольдса от его мечтаний, и ему стало немного стыдно. Похоже, Аллан тоже задумывался о последствиях этого открытия, однако его душа, без всякого сомнения гораздо более альтруистская и возвышенная, чем у Рейнольдса, не сосредоточивалась на одном лишь воздействии данного события на его личность или на выгоде, какую оно могло принести ему лично. Нет, Аллан в первую очередь думал о том, к каким последствиям для человечества приведет прибытие марсианина, и Рейнольдс внезапно почувствовал себя ничтожным, поверхностным и корыстным эгоистом. Жалкой личностью. И поскольку он принадлежал к сорту людей, которые, ощущая свою неполноценность, сразу же начинают спорить с собеседником, то вступил в дискуссию с артиллеристом, даже не решив для себя, действительно ли он с ним не согласен.
— Вы попрали многовековые схоластические дискуссии, Аллан! — воскликнул он и неожиданно для себя громко расхохотался. — Напомнить вам, что сказано в Книге Бытия? Бог сотворил все сущее, небо и землю, все видимое и невидимое. Все, понимаете, Аллан, все. И это «все» включает и марсианина. Единственное различие состоит в том, что на протяжении тысячелетий человек считал себя единственным разумным существом во Вселенной, и вот теперь мы случайно стали свидетелями того, что такое представление ложно. Действительно, мы только что открыли, что являемся лишь одним из видов разумных существ в созданном Богом гигантском бестиарии, и отныне нам придется привыкать к этой мысли точно так же, как люди Возрождения были вынуждены признать, что Земля не является центром божественного творения, а представляет собой одну из многих планет, безмятежно вращающихся вокруг Солнца. Вот и все. Очевидно, что Бог обретет еще большее могущество в наших глазах, поскольку был способен сотворить существа, превосходящие человеческое воображение.
— Вы уверены в этом, Рейнольдс? — снисходительным тоном проговорил Аллан. — Оглянитесь вокруг: вот «Аннаван», одно из самых современных судов нашего времени, однако спустя почти четыреста лет единственное, что отличает его от простой каравеллы, — это использование угля наряду с энергией ветра да замена дерева металлом. А всего в нескольких милях отсюда лежит аппарат, прибывший из другого мира, нечто настолько передовое, что даже не снилось нашим гениям. Подумайте, какая цивилизация могла создать подобную машину и какие еще чудеса, возможно, приберегает для нас общество, сумевшее произвести подобное. Элексир от старости? Уничтожение всего того, что является источником самых жутких наших мук и страданий? Произведенные по нашему образу и подобию существа, выполняющие за нас самую тяжелую и нудную работу? Возможно, бессмертие? Скажите, Рейнольдс, куда после этого направят свои взоры верующие? Боюсь, что, когда все это станет явью, никого уже не заинтересует то, что может предложить нам Бог со своим Царством небесным, — назидательным тоном произнес сержант, любитель изрекать подобные фразы, достойные быть высеченными в мраморе.
Рейнольдс не знал, что на это возразить, и не в последнюю очередь потому, что на самом деле был согласен со всем, что говорил Аллан, буквально с каждым его словом. Оба замолчали, любуясь танцем огней во льдах. В любом случае, подумал Рейнольдс, не все ли равно, будет через пятьдесят лет человек по-прежнему верить в Бога или станет поклоняться полосатому скунсу, а следовательно, незачем тратить время на пустые споры.
Но тут из недр судна внезапно донесся какой-то шум, заставивший их прервать разговор. Похоже, голоса доносились из лазарета. Что там могло случиться? Неужели Карсон разбушевался, оставшись без одной ноги? Как и другие вахтенные, Аллан не осмелился покинуть свой пост, и в итоге Рейнольдс, пожав на прощанье плечами, стал единственным, кто нарушил ледяную тишину палубы, бросившись бежать к ближайшему люку. Ему удалось не споткнуться о разбросанные там и сям предметы и не поскользнуться на снегу, тонким слоем покрывавшем палубу. Он уже исчерпал свои права на ошибку в этой экспедиции. Передвигаясь мелкой рысцой, которая выглядела скорее нелепой, чем осторожной, он спустился на нижнюю палубу и направился к лазарету. У его дверей толпились любопытные. Он отодвинул их в сторону, и, когда вошел внутрь, поистине Дантова сцена предстала перед его глазами, лишив дара речи. Капитан Макреди стоял посреди комнаты с бледным, искаженным от страха лицом.
Причиной того было растерзанное тело доктора Уокера. Оно валялось на полу, словно сломанная кукла. Кто-то, а вернее сказать, что-то, потому что ни один человек не мог бы сотворить такого с себе подобным, с ужасающей тщательностью растерзало его на части. У него была до самого плеча оторвана правая рука, отсечены обе ноги и настолько глубоко перерезана глотка, что сквозь разрез можно было различить, позвонки. Вдобавок у несчастного была вскрыта грудная клетка, а то, что прежде находилось внутри, будь то органы, кишки или куски ребер, теперь валялось на полу. Казалось, некий ребенок рылся в сундуке в поисках какой-то игрушки. Стены были забрызганы кровью и чем-то липким. Рейнольдсу казалось невероятным, что все эти кусочки, должным образом соединенные и собранные, составили бы в итоге доктора Уокера, мыслящую и веселую личность, который еще час назад, встретившись Рейнольдсу в коридоре, поинтересовался, как его рука. А посреди этого разгрома, съежившись и дрожа на своей койке с видом человека, прошедшего через весь ужас, какой только может произойти на этом свете, лежал матрос Карсон. Рейнольдсу не составило большого труда заключить, что виновником бойни был спустившийся с небес демон, он же марсианин, если верить Аллану. Он понял, что человек у монстра вызывал не больше уважения, чем полярный медведь, и что к тому же пришелец мог проникнуть на судно незаметно для всех. Это открытие заставило его похолодеть и расстаться с остатками радости или воодушевления, которые он еще совсем недавно испытывал, когда весело рассуждал с Алланом о пришельце. То, что он теперь испытывал, имело другое название. Это был страх, страх, какого он никогда не ощущал, страх, напоминавший о его хрупкости, о его ничтожности, о его прискорбной уязвимости и особенно о крайней самонадеянности в том, что касается его планов обрести величие.
— Боже праведный… — пробормотал капитан, не в силах отвести глаза от растерзанного трупа.
Немного придя в себя, он подошел к Карсону и стал было расспрашивать его, но матрос впал в каталептическое состояние. Макреди пробовал его трясти, отвесил ему несколько затрещин, однако тот никак не реагировал. Видимо, поняв, что впустую тратит время, капитан резким движением отодвинул Рейнольдса от двери и обратился к своим людям:
— Слушайте все. Скорее всего, тварь, что устроила такое с доктором Уокером, все еще находится на судне. Отправляйтесь в арсенал, возьмите столько оружия, сколько сможете унести, и обыщите судно сверху донизу.
И Рейнольдс вдруг оказался в лазарете один, не считая Карсона, и только слышал, как вдалеке капитан отдавал приказания. Сдерживая тошноту, он снова оглядел жуткую груду того, что осталось от доктора. Потом перевел взгляд на Карсона. Не потому ли он дрожит, подумал Рейнольдс, что предчувствует свою смерть и гибель всего экипажа, поскольку понял своим убогим умишком: ничто человеческое не способно противостоять тому, что он увидел. Им не удастся защитить себя. Он прикончит всех, одного за другим, на этой затерянной льдине, пока Бог отвернулся и смотрит в другую сторону.
V
По приказу Макреди матросы тщательно обыскали судно вплоть до последнего уголка в каждом трюме и на каждой палубе. С мушкетами на изготовку они осмотрели угольную яму, пороховой погреб, где дожидались своего часа различные боеприпасы, и даже заглянули внутрь топки в машинном отделении, не забыв также про кладовку с одеждой. Но нигде не обнаружили следов звездного демона. Похоже, расправившись с врачом, он просто-напросто испарился. Не отыскали они и каких-либо повреждений в корпусе либо отверстия, через которое марсианин, или кто там это был, мог проникнуть на «Аннаван». Растерявшийся Макреди не придумал ничего другого, как только удвоить посты, а также расставил нескольких человек цепью вокруг «Аннавана». На сей раз, если пришелец попробует снова подняться на судно, это не пройдет незамеченным. Мало того, он получит хороший заряд в задницу. После чего он, капитан, собственноручно отрежет ему яйца или что там у монстра болтается между ног.
К сожалению, нововведения не уничтожили страх в глазах матросов, не перестававших раз за разом обыскивать судно и расспрашивать своего товарища Карсона, что он видел. Они хотели знать, как выглядит монстр, спустившийся с небес, чтобы покончить с ними. Однако описание, сделанное Карсоном, разочаровывало. Матрос лежал на одной из коек в лазарете, одурманенный опиумом, и только-только начал ощущать как приятное и безобидное щекотание прикосновение зубьев ножовки, с помощью которой врач намеревался отпилить ему ногу, как вдруг огромная тень ворвалась в лазарет и набросилась на доктора Уокера. Перепуганный Карсон не мог понять, то ли это галлюцинации, вызванные действием опиума, то ли все происходит в действительности и только кажется бредом, и приготовился умереть таким же способом, гадая, почувствует ли он, когда монстр начнет его расчленять, что-нибудь кроме приятной щекотки. Но, на его счастье, крики товарищей встревожили демона, заставив его быстро ретироваться. Что касается облика пришельца, то Карсон давал очень невнятное и неудовлетворительное его описание, не прибавившее ничего нового к тому, что вывел Петерс на основе следов. У марсианина действительно были когти, а не копыта, и весь его облик внушал ужас, но больше из рассказчика ничего нельзя было вытянуть, даже того, какого цвета у пришельца кожа. Карсон был от природы неразговорчив и, хотя прекрасно знал, когда нужно поднять тот или иной парус, чтобы использовать ветер, не обладал обширным запасом слов, чтобы описать существо, которое, вероятно, не было похоже ни на что виденное им раньше. Когда он оправился от испуга, ему перевязали маленькую ранку, оставленную пилой на коже, потому что никто не решился продолжить ампутацию, начатую врачом, и велели не покидать лазарета в надежде на чудо или на то, что в конце концов карты решат, кто должен взять в руку ножовку и избавить его от мук.
На следующее утро останки доктора Уокера были похоронены во льдах в гробу, сколоченном корабельными плотниками. Конечно, в могиле лежала лишь кучка разрозненных частей тела, ибо с его смертью на борту судна не осталось врача, способного сложить головоломку, в которую превратил доктора звездный монстр. С помощью кирок и лопат была выкопана могила, и в нее опустили гроб, покрытый национальным флагом. Место его вечного упокоения было отмечено простой доской, на которой было написано:
Памяти доктора Френсиса Т. Уокера, ушедшего из жизни 4 марта 1830 года от P. X. на борту «Аннавана» в возрасте 34 лет.
Метис забил ее в смерзшуюся гальку громадной кувалдой. Церемония проходила неподалеку от судна и, хотя выглядела торжественной, была проведена с плохо замаскированной поспешностью, так как никому не хотелось слишком долго находиться на жутком морозе, тем более когда в окрестностях рыскал монстр.
После похорон Рейнольдс забрался в свою каюту, улегся на койку, закрыл глаза и, стараясь не обращать внимания на вездесущий скрежет корабельной обшивки, принялся размышлять о последних событиях. Понятно, что в свете новых фактов разговор, который они с Алланом вели несколько часов назад, рассуждая о звездном демоне с веселой беспечностью школьников, решающих, приглашать нового однокашника на свой день рождения или нет, оказался совершенно бессмысленным. Однако, хотя теперь самым логичным было признать, что у монстра нет особого желания брататься с ними и что он скорее склонен нести смерть и уничтожать жизнь в любых ее проявлениях, будь то полярный медведь или опытный врач, Рейнольдсу не хотелось отказываться от своего намерения мирно побеседовать с пришельцем. Должен ли он выбросить эту идею из головы только потому, что существо столь неделикатно обошлось с доктором Уокером? Но, возможно, оно до сих пор не поняло, что они тоже разумные существа и при желании с ними можно прекрасно общаться? Да-да, наверное, пришелец воспринимал землян как обычных тараканов, уничтожая их без малейших угрызений совести. Тут Рейнольдс одернул себя, поняв, что ищет оправдание буйному поведению монстра, в то время как должен признать: по неизвестной причине демон хочет истребить их, зверски расправиться с каждым, и их спасение состоит в том, чтобы прикончить его раньше, чем он прикончит их. Хотя, разумеется, и в этом Рейнольдс не мог быть до конца уверен. По сути дела, единственный вывод, к какому они могли прийти, заключался в том, что они не могли прийти ни к какому выводу Им не хватало фактов. Рейнольдс вздохнул и сел в кровати. Наверное, они могли бы установить истину, если бы спокойно оценили ситуацию и не поддались панике. «Нельзя отбрасывать такой вариант только потому, что они пока не знают, с чем столкнулись», — подумал Рейнольдс. Он встал и решительно направился к Макреди с намерением обсудить ситуацию.
Капитанская каюта была раза в четыре больше, чем у него, так как располагалась по всей ширине кормы и включала внушительную библиотеку и огромную кладовую, где теснились окорока, сыры, банки с малиновым джемом, мешки с чаем, бутылки отборного бренди и прочие лакомства, оплаченные им из своего кармана. Кроме того, у Макреди был собственный гальюн, где он мог отвлечься от многотрудных забот, — маленькая каморка по правому борту, предмет зависти Рейнольдса, считавшего ее главной роскошью, уголком цивилизации, несущим утешение, хотя и неуместным. Капитан налил ему в стакан бренди и указал рукой на кресло, не предложив вначале посетить туалет, за что глава экспедиции был бы ему благодарен.
— Итак, Рейнольдс, чем я обязан чести вашего визита? — с иронией в голосе осведомился он, когда гость сел.
Тот с жалостью окинул взглядом рослую фигуру человека, который из кожи лез вон, чтобы подчеркнуть свою власть, демонстрируя неприкрытую антипатию, хотя сознавал, что побежден, бесспорно побежден обстоятельствами. А ведь то, что судно застряло во льдах, подумал Рейнольдс, наверняка можно было предвидеть, к таким неприятностям капитана подготовила его долгая карьера, и он мог бы встретить это с профессиональным спокойствием, рассчитывая, что с приходом лета долгожданное чудо свершится и лед отпустит их из плена. Да, треклятые ледяные поля распадутся на отдельные льдины, и в конце концов «Аннаван» сумеет вырваться и победно пройти каналами, кромки которых тут же сомкнутся, и это будет поистине апофеозом человеческой воли, но прежде всего — праздником жизни, в котором примут участие утки и чибисы, чьи радостные стаи заполнят небеса, треска и сельди и даже полярные киты, под чьим почетным эскортом они возвратятся на родину. Но, наверное, теперь уже ничего подобного не случится, потому что кто-то, не отличающийся хорошим вкусом, бросил на стол неожиданную, неведомую и смертоносную карту, какой никто никогда не видел. А главное, никто не знал, как правильно дальше играть. Рейнольдс отхлебнул бренди, откашлялся и заявил без обиняков:
— Капитан, я думаю, в сложившихся обстоятельствах нам следует поговорить о дальнейшей стратегии.
— О дальнейшей стратегии? — Макреди глядел на него открыв рот, как будто Рейнольдс вошел к нему в каюту в костюме арлекина. — Что вы такое мелете?
— Все очень просто, капитан. Как организатор этой экспедиции я отвечаю за все, что относится к открытиям, сделанным ее участниками, и хотя очевидно, что мы приблизились к открытию прохода к центру Земли не больше, чем при выходе из Нью-Йорка, тем не менее нами совершена одна из величайших находок в истории человечества, а потому полагаю, что мы должны выработать план действий и договориться насчет наших позиций.
Макреди еще несколько секунд смотрел на него, а затем откинулся в кресле, и от его хохота, казалось, затрясся весь корабль. Успокоившись, он вытер толстыми пальцами выступившие слезы и быстро заговорил:
— Ради всех святых, Рейнольдс! Вы не перестаете меня удивлять! Значит, хотите договориться насчет наших позиций… Так я вам скажу, какая у меня позиция. Как только эта штука, чем бы она ни оказалась, попробует сунуться сюда, мои люди и я влепим ей хороший заряд в задницу, отрежем в качестве трофея голову, а мясо, если оно не слишком отвратительное, отдадим собакам. Таков мой план действий в сложившихся обстоятельствах. Вы же, если хотите, можете продолжать играть в первооткрывателей, только прошу вас заниматься этим внутри вашей каюты, где вы никому не помешаете.
Рейнольдс предполагал, что разговор получится нелегким, однако, поскольку пришел к Макреди с четким предложением, не мог допустить, чтобы вызывающее поведение собеседника сбило его с толку. А потому он сделал еще один глоток и пустил в ход лесть.
— Капитан, — сказал он, — вы ведь не какой-нибудь там пьянчуга матрос, каких полно на этом судне. Вы джентльмен, опытный мореплаватель, и я уверен, вам достанет мудрости понять колоссальное значение случившегося. Я разговаривал с сержантом Алланом, который, как вы знаете, человек образованный, обладающий обширными знаниями… в астрономии, и он согласен со мной, что скорее всего это существо прибыло к нам с Марса. Вы понимаете, против кого мы воюем? Против марсианина, капитан! Против существа с другой планеты! Разрешите привести всего один пример: если мы убьем его, не сумев вступить с ним в контакт, то никогда не узнаем, откуда он на самом деле прилетел. А главное, как мы докажем по возвращении в Нью-Йорк, что это пришелец с другой планеты? Что мы продемонстрируем миру, капитан? Отрубленную голову диковинного зверя, и все… Ученые мало что смогут извлечь из этого единственного свидетельства, вам не кажется? Поэтому обращаюсь к вам со следующей просьбой: я хочу, чтобы вы отправили новую экспедицию к летательной машине.
Макреди выслушал речь Рейнольдса, застыв в кресле с каменным лицом, после чего одним большим глотком осушил свой стакан, с подозрительной невозмутимостью налил себе новую порцию и взглянул на гостя с откровенной жалостью.
— Рейнольдс, не успею я подумать, что большей глупости вам не сморозить, как вы доказываете обратное. Вы в своем уме? Я не собираюсь никуда посылать моих людей. Сейчас, когда тварь затаилась где-то поблизости, это было бы все равно что отправить их на верную смерть. Вы же видели, что она сделала с доктором Уокером. Кроме того, машину невозможно открыть, к ней даже прикоснуться нельзя… Забыли, что произошло с вашей рукой? — Макреди кивком указал на забинтованную руку Рейнольдса. — И вообще, какого дьявола мы там забыли?
— Если мы сумеем открыть машину, то скорее всего обнаружим внутри достаточно сведений о напавшем на нас существе, — терпеливо разъяснил Рейнольдс. — Это может иметь для нас важнейшее значение как в случае, если его намерения окажутся мирными и нам придется всего лишь научиться с ним общаться, так и в противоположном случае, потому что, возможно, мы найдем там какой-нибудь ключ или оружие, которое поможет нам его разгромить. — Капитан все так же молча взирал на него с полнейшим равнодушием, и Рейнольдс понял, что должен изменить стратегию. — В последнем случае, иными словами, если в конце концов нам не останется ничего другого, как убить его, и мы это сделаем, а потом льды начнут таять и освободят нас, позволив вернуться домой, не кажется ли вам справедливым получить хорошую компенсацию за все, что мы пережили? А я вас уверяю: если мы привезем в Нью-Йорк голову марсианина вкупе с какой-нибудь вещью, найденной в машине, которая доказывала бы, что речь идет об обитателе другой планеты, то получим столько денег и заслужим такую благодарность, какая вам и не снилась.
— Свою жизнь и жизнь моих людей — вот единственное, что я хочу вывезти в целости и сохранности из этого ада, Рейнольдс.
Тот едва сдержал вздох разочарования. «Похоже, ни на лесть, ни на упоминание о материальной выгоде Макреди не клюнул. Где же у него ахиллесова пята?» — подумал он, разглядывая капитана. У каждого есть свое слабое место, и капитан не мог быть таким неподкупным, каким силился себя представить. К удивлению Рейнольдса, Макреди впервые за долгие месяцы путешествия взглянул на него с проблеском симпатии — правда, симпатии, окрашенной жалостью, что было огорчительно.
— Никак не возьму в толк: то ли вы ясновидящий, то ли законченный глупец, а может, и то, и другое, — услышал Рейнольдс. — Во-первых, я не понимаю, как вы можете до сих пор сомневаться в намерениях этого существа, после того как оно столь учтиво обошлось с бедным доктором Уокером. Уверяю вас, что не нуждаюсь в иных доказательствах. Мне совершенно ясно, каким образом мы должны вступить с ним в контакт. Что касается этой чертовой летательной машины… Как вы собираетесь ее открыть? Силой ума?
— Понятия не имею, капитан, — признался Рейнольдс. — Может, удастся взорвать ее с помощью динамита…
Насмешливая ухмылка капитана окончательно вывела его из себя.
— По крайней мере, надо попробовать! — выкрикнул он.
Капитан покачал головой, словно перед ним сидел умалишенный, и в каюте воцарилась усталая тишина. Рейнольдс попытался собраться с мыслями. Постепенно он оставался без аргументов.
— Никогда не понимал таких людей, как вы, — вдруг задумчиво произнес Макреди и рассеянно поболтал содержимое своего стакана. — Какого дьявола они добиваются, чтобы их имена остались навечно вписанными в историю? Чем это может помочь доброму христианину, когда черви обглодают его косточки? Я уже говорил вам недавно, Рейнольдс: мне на вашу полую Землю наплевать. Точно так же, как на происхождение этой твари. Прилетела она с Марса, с Юпитера или откуда еще, — мне все равно. Я получаю хорошее вознаграждение за выполненную работу, которая состоит в том, чтобы судно и его команда благополучно вернулись в Нью-Йорк. Для этого меня и наняли. И это единственное, чего я желаю, Рейнольдс: спасти шкуру, чтобы получить мои деньги.
— Не могу поверить, что это единственное ваше желание в жизни, — огрызнулся Рейнольдс, вложив в свои слова все презрение, на какое только был способен.
— Конечно, не единственное. Я мечтаю о загородном домике с садом, где будет полным-полно тюльпанов.
— Тюльпанов? — изумился Рейнольдс, никак не ожидавший такого ответа.
— Именно тюльпанов, — упрямо повторил капитан, как видно, пожалевший о сказанном. Потом с опаской покосился на Рейнольдса. — Моя мать была голландка, и я помню, как она сажала их в нашем саду, когда я был маленький. Отец их ненавидел, представляете? И старался вытоптать, делая вид, будто наступил на них случайно. Ну а мне эти чертовы цветы очень нравятся. Думаю, именно поэтому меня так привлекает садоводство, — сказал он бесстрастным тоном. — И когда придет пора уходить на покой, надеюсь, что накоплю достаточно, чтобы тихо и мирно жить и от души заниматься цветами. И заверяю вас, что не отступлюсь, пока не выведу самый красивый по эту сторону Атлантики сорт тюльпанов. Я назову его именем моей матери и представлю на всех конкурсах цветоводов, какие только у нас проводятся. Это все, чего я хочу, Рейнольдс: прекрасный сад, полный тюльпанов, и камин в гостиной, а над ним — голова монстра, с которым вы так жаждете побеседовать.
Рейнольдс молча смотрел на него, пытаясь выбросить из головы ошеломляющий образ капитана с садовыми ножницами в одной руке и корзинкой, полной тюльпанов, в другой. Неужели такой грубый мужлан, как Макреди, способен сорвать тюльпан, не повредив его? И как он себя поведет, если не победит ни на одном конкурсе: встретит неудачу с улыбкой или перестреляет членов жюри? Рейнольдс откинулся в кресле и отпил еще один глоток из стакана, стараясь привести мысли в порядок. Мог ли он думать, что таким случайным образом обнаружит слабое место Макреди? Впрочем, то, что ахиллесова пята капитана — проклятые тюльпаны, мало чем ему пригодится. Зато он должен признать: если его аргументы не произвели на Макреди ни малейшего впечатления, то капитан сумел почти переубедить его своими контраргументами. Действительно, что он, Рейнольдс, надеялся найти внутри летательной машины? Словарь, который поможет объясниться с монстром? Не лучше ли последовать совету капитана и постараться спасти свою задницу, чтобы в конце концов добраться до Балтимора и вернуться к прежней жизни, пусть скучной и серой, но единственной, какая у него есть. Если сравнить ее с тем, что обрушилось на него на этой льдине, то она не выглядит такой уж ужасной, и он вполне сможет ее вынести, если, к примеру, займется разведением тех же цветов. Он поставил стакан на стол, пораженный, что какая-то часть его существа, оказывается, мечтала о такой жизни. Но другая часть, та самая, что отравила его мечтами о славе и привела на край света, вновь начала терзать душу неистово, словно разбуженная кобра, внезапно выпрыгнувшая из своей корзинки. Не для того он забрался в такую даль! Слава бродит где-то рядом, стоит только протянуть руку… Нельзя сдаваться, сказал он себе. И тем более забывать, что он, Джереми Рейнольдс, рожден для славы.
— Капитан, давайте рассуждать логично… — вновь заговорил он примиряющим тоном. — Очевидно, что это существо обладает неизмеримо более развитой техникой, чем мы. И я убежден: оно прибыло на нашу планету не затем, чтобы сожрать всех нас, как примитивный хищник.
Капитан взглянул на него так, словно решал, то ли разругаться с ним раз и навсегда, то ли отложить это на потом.
— Я знаю, о чем вы думаете, Рейнольдс, — произнес он так же нарочито спокойно. — Вы идеалист, и вам хотелось бы верить, будто мы живем в мире, где существа, достигшие настолько высокого уровня цивилизации, воспитаны в духе уважения к более слабым. К сожалению, должен разочаровать вас: в мире, где мы живем, ничто не гарантирует нам того, что высшее существо проявит теплоту и сочувствие к бедным низшим расам, населяющим Вселенную. Если только речь не шла о личных счетах с несчастным доктором Уокером, во что мой скромный разум отказывается верить. А ваш?
Рейнольдс сжал зубы, стараясь, чтобы охватившая его ярость не выплеснулась наружу. В этот момент ему больше всего хотелось стать свидетелем того, как звездный демон лакомится капитаном, причем ради такого случая он был бы готов лично сдобрить блюдо приправами и специями. Он долго крепился, но в конце концов этому тупоголовому мужлану удалось вывести его из себя.
— Я бы не стал чересчур гордиться разумом, который не позволяет вам увидеть такую простую вещь: это существо не сознает порочности своего поведения, капитан, — решительно возразил Рейнольдс. — Неужели вам так трудно понять мою мысль? Хотим ли мы установить контакт с существом или уничтожить его, все равно мы прежде всего должны понять его, это же очевидно. И, я уверен, любой матрос добровольно согласится отправиться со мной к машине, когда я объясню, что только это поможет нам выжить.
Макреди выслушал его с невозмутимым лицом.
— Вы кончили? — осведомился он с раздражающим спокойствием. — Хорошо, а теперь послушайте меня, Рейнольдс. И как можно внимательнее. Я оставлю без внимания то, что вы в скрытой форме угрожали мне мятежом, хотя мог бы тут же созвать военный трибунал, объявить вас виновным и запереть в трюме, пока вы там не сгниете. И хотя вы этого не заслуживаете, буду к вам снисходителен и лишь доведу до вашего сведения, что положение экспедиции коренным образом изменилось. Мы находимся в чрезвычайных обстоятельствах, что делает меня высшей властью на судне, нравится вам это или нет. Тем самым вы лишаетесь какой бы то ни было власти. А теперь, если вы ничего не имеете против, я расскажу вам, как начиная с этого момента мы будем действовать против напавшего на нас безжалостного врага. Мы дождемся появления этой твари, вот что мы сделаем. И не сдадимся ей, так как не собираемся приносить себя в жертву. Если вы несогласны и хотите вернуться к летающей машине, что ж, с моей стороны препятствий не будет. Теперь вы знаете, где она находится. Заверяю вас, что как-нибудь сумею пережить такую потерю. Идите в арсенал и берите там все, что вам потребуется для вашей безумной экспедиции и что вы сумеете унести на себе, потому что рассчитывать на помощь кого-нибудь из моих людей вы не сможете. Мы же останемся на судне и будем поджидать эту тварь. И поверьте, мне не понадобится выяснять, о чем она думает, чтобы изрешетить ее пулями, как только она осмелится показаться.
Рейнольдс не знал, что на это ответить. С видимым удовольствием Макреди лишил его власти, единственного, что у него было на этом судне. Он низвел его до положения полного ничтожества, заставил ощущать себя последним глупцом, чуть ли не никчемным щеголем, которого не следует принимать в расчет. Именно так относился к нему отец. Рейнольдсу вдруг невольно вспомнилось насмешливое выражение, всякий раз появлявшееся на лице родителя, когда сын показывал ему свои книги о путешествиях и говорил, что и он тоже, подобно этим знаменитым исследователям и искателям приключений, когда-нибудь совершит великие открытия. Отец словно возглавил парад, устроенный, чтобы унизить его, потому что затем Рейнольдс увидел перед собой лица всех тех, кто насмехался над ним в университете — над его заштопанным бельем и подержанными учебниками, и перед ним промелькнули саркастические улыбки публики, собравшейся в зале, где Симмс и он читали лекции о полой Земле. Замыкало эту обидную галерею лицо Джозефины, скорчившей пренебрежительную гримасу, когда он, прощаясь, сказал ей, что уезжает на Южный полюс в поисках славы и богатства. Весь мир смеялся над ним, и весь мир еще подавится своим смехом, потому что партия не кончена. Как раз наоборот: партия только начинается.
— Обещаю вам, что по возвращении в Нью-Йорк объявлю вас лично ответственным за неуспех экспедиции. Обвиню вас в том, что, будучи никуда не годным мореплавателем, вы допустили, чтобы судно затерло во льдах; в том, что отказались исследовать местность в целях обнаружения прохода к центру полой Земли, и, наконец, капитан, вы ответите за каждую смерть, случившуюся начиная с данного момента, включая смерть первого гостя из Вселенной, ступившего на нашу планету.
Рейнольдс очень жалел, что был вынужден прибегнуть к угрозам, но ничто другое на этого ослепленного яростью и высокомерного безумца не действовало. Правда, и угрозы, похоже, не возымели ни малейшего действия на Макреди, который в ответ только пренебрежительно фыркнул.
— Рейнольдс, таких тупиц, как вы, я еще не встречал, — сказал он после небольшой паузы. — И не намерен продолжать с вами разговор. Полагаю, наша беседа и так слишком затянулась и мы оба сумели четко обозначить свои позиции, руководствуясь принципами взаимного уважения. Не стану отрицать, что ваши бредни немало повеселили некоторых джентльменов и меня. Но сейчас мне не до шуток. В сложившихся обстоятельствах на борту моего судна меньше всего требуется шут гороховый.
Рейнольдс застыл на месте, открыв рот. «Некоторых джентльменов»?
— Что-нибудь еще, Рейнольдс? — спросил Макреди, поднявшись и повернувшись к гостю спиной. — Если это все, тогда позвольте мне вернуться к своим обязанностям.
Рейнольдс созерцал широкую спину капитана, не зная, что ему делать и что сказать. Он раздраженно хмыкнул, поставил стакан на стол и встал.
— Как вам будет угодно, капитан. Но тогда забудьте про то, что когда-нибудь один из сортов тюльпанов будет носить имя вашей матушки.
И вышел из каюты, хлопнув дверью.
VI
По пути в свою каюту Рейнольдсу пришли в голову десятки более остроумных и язвительных реплик, чем та, которую он пробормотал в спину капитану, но было уже поздно. Макреди выиграл этот раунд. Рейнольдс горестно вздохнул, отпирая дверь. В глубине души более всего он сожалел о том, что мелодраматический уход помешал ему допить стакан отличного бренди, которым его угостил капитан. Никогда еще с такой силой ему не хотелось ощутить, как алкоголь раскаленной лавой опускается по горлу, распространяется по венам и согревает желудок, одновременно успокаивая разгневанную душу. Иначе говоря, ему безумно хотелось напиться, причем как следует, до потери сознания. И ситуация, в которую он попал, давала ему превосходное оправдание для того, чтобы разом выпить одну из бутылок, уцелевших после его с Алланом бесед.
Он взял первую попавшуюся бутылку и уселся в кожаное кресло, которое захватил с собой из дома — не потому, что рассматривал его как талисман или что-то в этом духе, а потому, что подозревал: этот предмет, принадлежащий к миру, в который он не скоро вернется, не позволит забыть о его истинной жизни, а ведь ее будет все труднее разглядеть сквозь нескончаемую череду дней, проведенных в море. И он не ошибся: кресло напоминало ему о доме. Да, оно нашептывало, что где-то существует более разумный, более упорядоченный и удобный мир, в котором вокруг тебя не бродят странные монстры и в котором порезаться во время бритья — это самое страшное, что может с тобой приключиться. Итак, кресло служило ему чем-то вроде факела в ночи, но не только: он был рад, что взял его с собой, потому что оно к тому же превратилось в самое удобное место на корабле, где можно было отдохнуть и расслабиться, не считая, конечно, личного сортира Макреди. Более того, в случае кораблекрушения он предпочел бы его любому плоту.
Рейнольдс сделал большой глоток и закашлялся. Что хотел сказать Макреди, когда заявил, что над ним, Рейнольдсом, кто-то там смеялся? Было это сказано для красного словца или капитан действительно что-то знал? Неужели вся экспедиция была огромной дымовой завесой, скрывавшей неведомые ему интересы? Но Рейнольдс был все-таки начальником экспедиции, не могли же и его тоже обмануть! Так или иначе, даже если он на самом деле стал жертвой обмана, если те, кто незаметно следил за ним, имели иные цели, если им было нужно, чтобы Рейнольдс по какой-то тайной причине, которую никто не позаботился ему раскрыть, добрался до этих мест, очевидно, что кое-чего им не удалось спланировать заранее: появления таинственного существа. Да, никто на это не рассчитывал. И звездный монстр предоставлял Рейнольдсу возможность избежать роли шута, которую его покровители, видимо, приготовили ему, и с триумфом вернуться в Нью-Йорк, сжимая в руке ключ от Вселенной. Как бы то ни было, сейчас он не должен сидеть сложа руки, сказал он себе. Макреди разрешил ему посетить арсенал и отправиться на поиски летательной машины вооруженным до зубов наверняка только потому, что в глубине души был уверен, что он не рискнет, а забьется в свою каюту, подобно перепуганной дамочке, где капитан и навестит его, широко улыбаясь, когда все будет закончено, чтобы продемонстрировать голову монстра. Но Макреди ошибается, подумал Рейнольдс и снова отхлебнул из бутылки. Конечно, ошибается. Если капитан отказывается дать ему в помощь людей, он пойдет к марсианской машине в одиночку, взорвет ее и возвратится на корабль со сведениями, которые позволят успешно противостоять звездному демону. Да, так он и поступит, решил он и сделал новый глоток. Он ведь настоящий мужчина, не то что там всякие любители тюльпанов. Рейнольдс еще выпил. А что он надеялся отыскать в летательной машине такого, что могло бы им помочь? Он и сам толком не знал. Возможно, он обнаружит космическое оружие, куда более изощренное и мощное, чем примитивный мушкет, с помощью которого человек вел свои маленькие войны на своей тесной планете. Он снова поднес бутылку к губам. Хотя на самом деле ему хотелось бы найти там совсем другое, то, что поможет ему наладить какое-то общение с пришельцем, когда тот объявится. Это станет для монстра сюрпризом. Или же он обнаружит там что-то вроде священной книги, содержащей историю этой расы, некий манускрипт, из которого станет ясно мировоззрение инопланетян и то, достойное ли место занимают в нем земляне или их воспринимают как досадную помеху либо как пищу. Рейнольдс глупо усмехнулся, представляя возможные заголовки газет: «Кодекс Рейнольдса!», «Раскрыта тайна Вселенной», «Великий путешественник Джереми Рейнольдс обнаружил марсианский Коран»…
Он прикончил бутылку последним жадным глотком и замер, уставившись в никуда и ощущая приятное покачивание, словно в гамаке, в то время как в его голове росла убежденность в том, что отправиться в одиночку к месту, где находилась летательная машина, не такое уж сумасбродное предприятие, как казалось вначале. Черт побери, почему это он не сможет? Что ему помешает? В порыве оптимизма, чувствуя себя бесконечно могучим, Рейнольдс встал, полный решимости доказать Макреди, что он не какой-нибудь тупица-идеалист, а человек, способный проявить свои лучшие качества в столь крайней ситуации, как нынешняя. Да-да, он сходит к машине и вернется победителем, чтобы спасти всех от неминуемой смерти. Вот как он поступит. Он спасет всех, черт бы их подрал, хотя они этого и не заслуживают. Он напялил на себя плащ, замотал голову платком и, словно мумия, пытающаяся найти выход из пирамиды, нетвердой походкой побрел в сторону арсенала.
Там он стал вооружаться всем, что только мог унести. Приладил два пистолета к поясу и, заметив, что еще осталось место, добавил третий. Затем повесил на плечо три мушкета, а на шею — два мачете, набив вдобавок карманы динамитными патронами. Соблазнился было легендарными гарпунами, но тут же отверг их из-за непомерного веса. Даже один был бы для него непосильной ношей. Вначале ему показалось, будто этого оружия недостаточно, но когда он попробовал пошевелиться, то понял, что погорячился. Под тяжестью оружия его походка изменилась, и все равно он не захотел ни от чего отказаться, хотя дуло одного из пистолетов, болтавшихся на поясе, упиралось ему в пах при каждом шаге. Он пересек палубу грустной походкой циркового клоуна, объяснявшейся не только количеством выпитого, но и чрезмерным грузом оружия, которое он упрямо нес с собой. Все плыло у него перед глазами, и ему почудилось, что вахтенный на корме — это Карсон… Рейнольдс тряхнул головой, отгоняя от себя нелепую мысль, и продолжил свой нелегкий путь, время от времени останавливаясь, чтобы подобрать выпавший из кармана динамитный патрон или передвинуть беспокоивший его пистолет. Наконец он добрел до снежного склона, служившего матросам для спуска с корабля. Теперь предстояло очень осторожно спуститься и… Но не тут-то было: вместо того чтобы скользить по склону, он покатился по нему, увлекаемый огромным весом своей поклажи. И пока домчался до самого низа, его чуть было не задушили ремни мушкетов, перепутавшиеся у него на плече. Он немного полежал на снегу, довольный, что не погиб глупой смертью у подножия корабля, восстанавливая дыхание и координацию своих членов. Потом, когда почувствовал себя лучше, встал на ноги с таким же трудом, с каким, должно быть, это проделывал первый гоминид, но куда с меньшей грацией и взял курс на горы, едва угадывавшиеся на горизонте и окутанные клочьями тумана, что делало их похожими на полураспакованные новогодние подарки.
Но достаточно было прошагать два десятка метров, чтобы понять: ему не под силу дотащить весь этот арсенал до места, и когда один из пистолетов в третий раз упал в снег, он не стал его поднимать. Затем он выбросил один мушкет и таким образом, сбрасывая с себя оружие, метр за метром продвигался вперед, стараясь не терять из виду горы, хотя это становилось все труднее из-за начавшего быстро густеть тумана. В какой-то момент он в замешательстве понял, что не в состоянии разглядеть ничего вокруг. Казалось, он попал в мир, который кто-то разобрал на части и унес. И больше ничего не осталось. В затуманенной голове Рейнольдса мелькнула мысль о том, что его поход — чистое безумие. Из-за необычайно плотного тумана он потерял из виду не только конечную цель, но и дорогу к судну. Усталым жестом он бросил последний мушкет. Что же теперь? Он не мог оставаться здесь, во льдах, на жутком морозе. К несчастью, разумное решение ускользало от него, словно рыба из рук, которую он раз за разом пытался ухватить за хвост. Голова у него кружилась, мысли путались, ему страшно хотелось лечь, забыть про усталость и уснуть. Приходилось покориться очевидному: он находился посреди неведомо чего и был слишком пьян, чтобы ясно мыслить. К тому же не следовало забывать про звездного монстра, который, быть может, бродил где-то неподалеку. Перспектива отдаться на волю пришельца заставила его воскресить в памяти тот ужас, который он испытал при виде растерзанного тела доктора Уокера. Он схватил пистолет, еще болтавшийся на поясе, и в отчаянии стал поочередно целиться в разные стороны. Ему показалось, что в тумане мелькнула чья-то тень. Страх сделался невыносимым, заставив дрожать руку, сжимавшую пистолет, и внезапно, непонятно как, он открыл, что бежит сквозь туман. Бежит. Бежит, не ведая, зачем и куда. Бежит к пятой стороне света, не обозначенной ни на одном компасе. Ощущая дыхание монстра у себя на затылке, он бежал, сознавая, что смертельный страх не позволит ему остановиться, пока не откажут ноги.
И тут он обо что-то споткнулся и упал ничком на лед, сильно ударившись лицом. Наполовину оглушенный, Рейнольдс стал подниматься, пытаясь понять, на что он наскочил. Внезапно его руки нащупали сапог, торчавший из-под снега, словно нелепый гриб. Оторопев, Рейнольдс подержал руки на сапоге, словно хотел его согреть. Оправившись немного от неожиданности, он начал медленно ковырять смерзшийся снег. Вскоре ему удалось откопать часть ноги, вставленной в сапог, а затем и всю ногу вплоть до ляжки. Он все яростнее разгребал снег и постепенно откопал тело. Из белой могилы на него глянуло багровое лицо, слегка затушеванное слоем льда, что покрывал его наподобие вдовьей вуали. Не без отвращения Рейнольдс протер лицо своей перчаткой и всмотрелся в проявившиеся черты. Из неведомого далека на него удивленно взирал матрос Карсон с видом человека, к которому нагрянул незваный гость. Тут Рейнольдс заметил, что живот матроса представляет собой до ужаса знакомое зрелище: он был распорот когтями. Но какого черта здесь делает Карсон? Возможно, это все-таки он нес вахту на корме и, увидев, что Рейнольдс удаляется от судна и пьяной походкой бредет неизвестно куда, последовал за ним, но ему не повезло: монстр добрался до него раньше…
Рейнольдс резко выпрямился и испуганно огляделся по сторонам. Демон был где-то рядом и наблюдал за ним, теперь он это знал. Монстр уже учуял его. Он выпотрошил беднягу Карсона, действуя, наверное, с удвоенной яростью из-за того, что не сумел прикончить его в лазарете. И теперь оставалось только ждать, когда он накинется на него, Рейнольдса, чтобы и его растерзать на куски, ибо такова была манера поведения этого существа, таким был его способ общения с представителями человеческой расы. Рейнольдс сделал то единственное, что мог сделать в создавшейся ситуации: бросился бежать. Бежать куда глаза глядят. Бежать и бежать сквозь туман. Он бежал так, как никогда в жизни не бегал.
VII
Различив вдалеке громаду «Аннавана», слабо освещенную дюжиной фонарей по правому борту, Рейнольдс подумал, что все это время его направляла не иначе как рука Создателя. В противном случае невозможно было объяснить, как он пришел именно туда, куда хотел. Рейнольдс из последних сил заторопился к кораблю, время от времени оборачиваясь назад, ибо опасался, что именно сейчас, когда он находился в двух шагах от убежища, из тумана появится звездный монстр. Однако, расправившись с Карсоном, пришелец поутих и не стал преследовать Рейнольдса, видимо, не считая его достойной добычей. Добравшись до «Аннавана», начальник экспедиции с превеликим трудом поднялся на судно по снежному откосу. Несший вахту на правом борту Гриффин сочувственно следил за его трудным восхождением. Когда Рейнольдс оказался рядом, матрос любезно протянул ему руку и помог вскарабкаться на борт.
— Карсон погиб! — сообщил ему Рейнольдс, тяжело отдуваясь. — Монстр разорвал его на куски!
Однако матрос ничуть не встревожился, услышав страшную новость, и только молча смотрел на него с непроницаемым лицом.
— Вы что, не слышали, Гриффин? — крикнул он. — Говорю вам, Карсон погиб!
— Успокойтесь, сэр, — отозвался на сей раз матрос. — Я вас прекрасно слышу, но полагаю, что вы ошибаетесь: Карсон во-он там.
Рейнольдс посмотрел туда, куда указывал Гриффин, и обнаружил метрах в двадцати от них фигуру матроса, который нес вахту на корме.
— Это Карсон? — переспросил он, вглядываясь в темный силуэт вахтенного, стоявшего к ним спиной.
Гриффин кивнул.
— Вы уверены?
— Абсолютно уверен, сэр, — сказал он чуть ли не с сожалением. — Боюсь, что это он.
Рейнольдс недоверчиво рассматривал силуэт на корме.
— Вы хорошо себя чувствуете, сэр? — услышал он голос матроса.
— Все в порядке, Гриффин, не беспокойтесь… — медленно пробормотал Рейнольдс. — Просто я слишком много выпил. В этом все дело.
— Понимаю, сэр. Это вполне объяснимо, — успокоил его Гриффин. — Такая ситуация всеми тяжело переносится.
Рейнольдс рассеянно кивнул и походкой сомнамбулы пошел прочь от Гриффина, нимало не заботясь, что тот может про него подумать. Он сразу же забыл про матроса, а тот неотрывно следил за тем, как Рейнольдс передвигается по палубе «Аннавана», и в глазах его читалось не только простое любопытство. Вопреки тому, что Рейнольдс сказал Гриффину, он был трезв как никогда. Долгий забег по снегу встряхнул его, и в голове удивительным образом прояснилось, пока он неторопливо приближался к застывшему на корме вахтенному. Гриффин уверял, что этот вахтенный — Карсон, но он-то знал, что такого не может быть. Не может быть, потому что он только что обнаружил труп матроса под снегом. Стоило закрыть глаза, как перед ним вставали его искаженные ужасом черты, сохраненные для вечности благодаря ледяному савану. Рейнольдс пытался распознать человека, к которому приближался, но это было трудно из-за густого молочного полумрака, а главное — из-за многочисленных слоев одежды, в которые приходилось закутываться, выходя из помещения наружу.
Ну а если это действительно Карсон, как уверял его Гриффин, что тогда, подумал Рейнольдс, двигаясь с нелепой осторожностью, словно нес на голове кувшин. Не доверять своим чувствам — вот что было бы логичнее всего. Ну не может быть двух Карсонов — одного здесь, несущего вахту, и другого там, в снегу, с кишками наружу! И ведь он, Рейнольдс, был пьян, нельзя этого забывать. Он принял мертвого матроса за Карсона, но, возможно, это был не Карсон, а кто-то другой, похожий на него. Разве он помнит всех членов команды в лицо? Да нет конечно. Однако, если бы ему пришлось клясться на Священном Писании, разве не поклялся бы он, что это был Карсон? Внезапно, когда он уже находился так близко от вахтенного, что мог различить клубы пара, поднимавшиеся над закутанной головой, его пронзило воспоминание, заставившее остановиться в каких-нибудь трех метрах от матроса. Ему пришлось откапывать труп. Да, он откапывал его, потому что труп был погребен под слоем снега! И тело демонстрировало признаки чересчур сильного замерзания, если учесть, что оно всего лишь час находилось под открытым небом. Ни снежная буря, ни низкие температуры не могли сотворить с ним такое в столь короткий срок, а потому его предположение, будто Карсон увидел, как он спустился с корабля, и последовал за ним, сразу показалось ему абсурдным. Как же он не обратил на это внимания, раскапывая труп? Оставалось в качестве оправдания повторить: он был пьян, причем достаточно для того, чтобы не заметить, что труп пролежал на морозе много времени.
Сколько именно? По-видимому, день или два. Хотя в таком случае когда же Карсон покинул судно и зачем? Продолжая стоять неподалеку от вахтенного, Рейнольдс напряг память. В последний раз он видел Карсона в лазарете, тот находился в каталептическом состоянии, став свидетелем зверского убийства доктора. К нему еще заходил кое-кто из его товарищей, чтобы расспросить про монстра. Да, когда он выходил из арсенала, ему показалось, что он признал Карсона в одном из вахтенных. Наверное, спутал с ним кого-то другого, точно так же, как Гриффин. Скорее всего, Карсон в какой-то момент удрал из лазарета и, никем не замеченный, покинул судно бог весть с какой целью. Возможно, он находился во власти горячечного бреда или же просто не мог больше вынести тягостного ожидания, на которое все они были обречены. Впрочем, это не так важно. Разве сам Рейнольдс не совершил недавно точно такую же глупость? Как бы то ни было, несчастный столкнулся с монстром. И вот около часа назад Рейнольдс обнаружил его труп, в то время как все полагали, что Карсон по-прежнему находится на судне. Но его тут не было, не могло быть, подумал Рейнольдс. Карсон остался лежать в снегу. А это не Карсон.
Сердце у Рейнольдса бешено забилось, и он отругал про себя чертова Гриффина, вселившего в него нелепую тревогу. Этот умник ошибся, и, как только Рейнольдс сделает последние четыре или пять шагов, отделяющие его от часового, и тронет его за плечо, он увидит перед собой физиономию Кендрикса, Уоллиса или кого-нибудь еще. Потом он разыщет капитана Макреди и доложит ему о своей печальной находке. Рейнольдс неуверенно сделал два шага, но, прежде чем он сделал следующий, темная фигура, видимо узнавшая о его приближении по скрипу дощатого палубного настила, стала поворачиваться. Затаив дыхание, Рейнольдс глядел на профиль, который становился все более отчетливым, по мере того как матрос поворачивался к нему с раздражающей медлительностью, и вот наконец его взору открылось все лицо, и он узнал этот отсутствующий взгляд и искривленные в гримасе губы. Рейнольдс и матрос, который недавно лежал мертвый в снегу, стояли на палубе «Аннавана» и молча смотрели друг на друга. Лицо Рейнольдса выражало изумление и недоверчивость — он был слишком сбит с толку, чтобы ощущать страх или хотя бы понимать, что должен его ощущать, — в то время как на физиономии Карсона застыло немного растерянное выражение, как будто он спал стоя и был неожиданно разбужен Рейнольдсом. Тем не менее именно он нарушил чары молчания.
— Вы что-то хотели, сэр? — спросил он.
Его голос показался Рейнольдсу странным, каким-то нечетким, какой бывает у того, кто долго не упражнял свои голосовые связки. Ему пришлось сделать над собой нечеловеческое усилие, чтобы, преодолев смятение, выдавить:
— Нет-нет, Карсон… Разве что хотел сказать, что рад видеть тебя выздоровевшим.
— Спасибо, сэр, — учтиво поблагодарил матрос.
Рейнольдс, словно загипнотизированный, не мог отвести глаз от матроса. Он вновь вспомнил лицо, которое он раскопал, — багровое, навсегда искаженное ужасом. Лицо Карсона. Но если труп принадлежал Карсону… Рейнольдс почувствовал, как сердце замерло у него в груди, пока в мозгу рождался ужасный вопрос: так с кем он сейчас разговаривал? С кем, черт побери?
— Сэр… Вам помочь? — повторил матрос.
Рейнольдс отрицательно покачал головой, не в силах произнести ни слова. Нет, было что-то решительно странное в этом голосе. Вроде бы голос был Карсона, но звучал он немного по-иному. Не исключено, что все это он просто внушил себе, успокаивал себя Рейнольдс, но не мог отделаться от ощущения, что было нечто обманчивое в этом человеке. В его манере двигаться, говорить, смотреть… Словно перед ним находился актер, старательно игравший свою роль. Кто ты? — мысленно спрашивал Рейнольдс, почти против собственной воли вглядываясь в маленькие невыразительные глазки, которые, похоже, тоже рассматривали его с сугубой подозрительностью, с недоверием, какого он никогда не наблюдал во взгляде Карсона.
И тут гигантский силуэт, который не мог принадлежать никому, кроме полукровки, появился на палубе, прекратив это обоюдное изучение. Петерс ловко спустился по снежному склону и, ссутулившись от холода, направился к клетке с собаками, которую он ежедневно на несколько часов закрывал парусиной, чтобы сбитые с толку отсутствием полной ночной темноты животные могли спокойно поспать. И Карсон, и Рейнольдс молча наблюдали за метисом, довольные, что его появление предоставило им передышку, особенно Рейнольдс, отчаянно нуждавшийся в том, чтобы привести в порядок свои впечатления. Но, как выяснилось, времени для этого ему было отпущено немного, потому что, как только Петерс снял плотную парусину, собаки тут же вскочили и принялись нюхать воздух, явно проявляя признаки беспокойства. Вдруг, словно повинуясь команде хореографа, они повернули головы в сторону палубы и почти сразу же зашлись в неистовом лае, сгрудившись за прутьями клетки и пытаясь открыть дверцу. Петерс пытался их успокоить, но животные будто взбесились. Рейнольдс покосился на Карсона и встретил его невозмутимый взгляд.
— Собаки чем-то встревожены… — пробормотал Рейнольдс.
Карсон в ответ лишь пожал плечами. Однако Рейнольдсу показалось, что в его маленьких глазках блеснул злобный огонек. Нелепое подозрение вдруг обрушилось на него как удар молнии. Он почувствовал, как холодный пот стекает по его телу, закутанному во множество одежек. Проглотив слюну, он откашлялся и со спокойствием самоубийцы, который за несколько часов до того как покончить с собой уже считает себя мертвецом, снова обратился к матросу:
— Когда сменитесь, загляните ко мне в каюту, Карсон. Хочу угостить вас бренди. Думаю, вы этого заслужили.
— Благодарю вас, сэр, — отозвался матрос и буквально пронзил его взглядом, — только я не пью.
И этот буравящий взгляд, и зловещий тон испугали Рейнольдса. Хотя, возможно, голос показался ему таким из-за сильного ирландского акцента Карсона, сказал он себе, стараясь успокоиться.
— Подумайте, — выдавил он из себя, чувствуя стеснение в груди. — Таким бренди, каким я собираюсь вас угостить, не следует пренебрегать.
Некоторое время Карсон молчал, видимо размышляя над приглашением Рейнольдса.
— Хорошо, сэр, — наконец ответил матрос, все так же не спуская с Рейнольдса напряженного взгляда. — Я зайду к вам, когда закончится моя вахта.
— Прекрасно, Карсон! — воскликнул Рейнольдс со всей пылкостью, на какую только был способен. — Жду вас.
Он непринужденно повернулся и направился к ближайшему люку, не в силах избавиться от ощущения, что ему в затылок смотрят глаза мертвого матроса. Жребий брошен, с содроганием подумал он. Он принял решение почти бездумно и теперь не мог дать задний ход. Надо было продолжать игру до самого конца. Правда, ему понадобится помощь, а на борту «Аннавана» лишь один человек мог ему помочь. Он зашагал в сторону своей каюты, изображая беззаботную походку, а за его спиной все так же надрывались собаки.
Аллан был погружен в сочинение новой поэмы, когда Рейнольдс вошел в его крошечную каюту. У начальника экспедиции было озабоченное лицо, он тяжело дышал, но, несмотря на это, юноша лишь бросил на него рассеянный взгляд и вновь сосредоточился на своей поэзии, как будто вдохновение было горстью песка, который мог утечь сквозь пальцы, стоило чуточку их разжать. И хотя в распоряжении Рейнольдса оставалось не так уж много времени, он прикусил язык, чтобы не помешать юноше. Аллан рассказывал ему, как несколько лет назад после одной из многочисленных ссор с опекуном он уехал в Бостон, чтобы испытать судьбу, и там ему удалось опубликовать свой первый поэтический сборник, который, к сожалению, почти не был раскуплен, а потому не позволил юному поэту выбраться из нищеты. Очутившись без гроша в кармане, он в отчаянии пошел служить в армию простым солдатом и даже дослужился до сержанта-майора, прежде чем покинуть ряды армии, условия службы в которой мало способствовали дальнейшему развитию его призвания как поэта. К стыду своему, ему не оставалось ничего другого, как вернуться в дом опекуна. А вскоре возникла идея поступления в Вест-Пойнт, так что Рейнольдс представлял себе, насколько важно для Аллана было суметь зарабатывать себе на жизнь своим пером. Поэтому он уселся на койку и стал ждать, когда юноша кончит, постепенно успокаиваясь и приводя в порядок мысли. Он попытался также разобраться с чувствами, а то в смятении ему начало казаться, что он слышит глазами, а видит ртом. Но отрешенное состояние, в котором находился Аллан, в конце концов подействовало на него гипнотически. Юноша низко склонился над своим столом, так что его волосы, которые он по студенческой привычке все еще зачесывал назад, ниспадали ему на глаза темным водопадом. И если его бледность, грустное выражение лица и элегантная худоба в целом неизменно вызывали у Рейнольдса чувство нежности, то теперь артиллерист казался ему еще более хрупким существом, поскольку его тело было охвачено едва заметной дрожью, а внутри тела все бурлило, словно в перегонном кубе. Не он был поэтом в этой каюте, но невольное сравнение пришлось Рейнольдсу по вкусу, потому что Аллан занимался не чем иным, как освобождался на бумаге от того темного, что обволакивало его душу.
Рейнольдс кивнул сам себе в подтверждение своих мыслей. Он правильно поступил, придя сюда, подумал он, продолжая разглядывать артиллериста. Только такой ум, как у Аллана, сможет понять то, что он собирается ему рассказать; только такая далекая от всего суетного, земного душа способна помочь ему в предприятии, которое он намерен предложить, и, что самое главное, только человек, отравленный ядом художественного творчества, согласится смиренно отступить на задний план, когда придет пора делить земную славу, которой они будут увенчаны, ибо, как подозревал Рейнольдс, Аллана интересовала только та слава, какую могли принести его писания. Теперь оставалось лишь изложить дело так, чтобы артиллерист не решил, что он совсем потерял рассудок. Закончив писать, Аллан взглянул на Рейнольдса поблескивающими, как угольки в костре, глазами, но тот все еще не придумал, с чего начать.
— Мне пришла в голову одна поразительная идея насчет марсианина, Аллан, — наконец заговорил он, — настолько поразительная, что, поделись я ею, никто на нашем судне не воспринял бы ее всерьез.
— Но вам нужно, чтобы кто-нибудь воспринял ее именно так, — улыбнулся Аллан, собирая письменные принадлежности с аккуратностью судебного медика, складывающего свои инструменты.
— Совершенно верно. И я думаю, только вы способны на это. Поэтому хочу поделиться ею с вами и надеюсь, вы поможете мне разобраться в этом безумии, Аллан, ибо в противном случае, боюсь, все мы погибнем раньше, чем думаем.
Аллан с довольным видом закивал головой и театральным жестом вскинул свои худые руки арфиста.
— Мы видели, как марсианин спускался с неба в летающей машине, Рейнольдс. Что после этого может отказаться воспринять мой жалкий разум?
— Хотелось бы, чтобы вы оказались правы, мой дорогой друг, потому что, похоже, я понял, каким способом монстр проник на судно. — Он дождался, пока его слова разлетятся в воздухе, как пылинки, и медленно осядут в душу Аллана, прежде чем продолжить. — И вот что самое главное: я открыл, что он до сих пор его не покинул. Полагаю, что существо, убившее доктора Уокера, до сих пор находится среди нас.
— И вы знаете, где он сейчас? — резко вскочил со своего места юноша.
— Если я прав и еще не потерял рассудок, — мрачно забормотал Рейнольдс, — то в настоящее время он находится на палубе и готовится сдать вахту. А через десять минут явится в мою каюту, чтобы вместе со мной выпить.
Аллан, чуть приоткрыв рот, встретил его слова молчанием. Рейнольдс ждал, решив не торопить юношу. Он достаточно хорошо знал Аллана, который не нуждался в дополнительных разъяснениях. Как вы тоже, без сомнения, поняли из разговора, состоявшегося у них на палубе перед убийством врача, быстрота мышления у Аллана была куда выше средней. А его выдающаяся логика была такова, что иной раз Рейнольдс не мог отделаться от мысли, будто юноша глядит на все вокруг с какой-то особой позиции — необязательно свысока, но откуда-то со стороны, — и с этого наблюдательного пункта все достижения человечества, его успехи и победы над окружающей средой и самим собой кажутся ему забавной обезьяньей игрой. Однако со временем Рейнольдс не без грусти убедился, что своеобразный талант юноши, его умение упростить действительность и в конце концов свести ее к единой формуле, столь же идиотической, сколь доступной, не позволяет проникнуть в его внутренний мир, так как мятежная и утонченная душа Аллана проявляет себя чересчур прихотливым образом, зачастую неожиданно даже для него самого.
— Вы хотите сказать, что… он превратился в одного из нас? — задал наконец вопрос артиллерист.
Рейнольдс вздрогнул так, как будто ступил босыми ногами на холодные мраморные плиты. Произнесенное вслух, это предположение прозвучало не только нелепо, но и пугающе. Тем не менее он слабо улыбнулся и кивнул в ответ. Юноша его не разочаровал. И теперь, судя по его испытующему взгляду, он требовал вознаграждения в виде подробностей. Рейнольдс откашлялся, готовый предоставить ему таковые.
— Несколько часов назад я спустился на лед с намерением вернуться к летательной машине, — начал он немного смущенным голосом, как будто сам с трудом верил в происшедшее, — но из-за тумана заблудился. Потом довольно долго ходил кругами, опасаясь, что монстр может напасть на меня в любую минуту… пока не наткнулся на труп матроса Карсона. Он был растерзан. Как медведь, как бедный доктор Уокер. Тело было частично погребено под снегом и так сильно замерзло, словно пролежало там сутки или двое. Я постарался как можно быстрее вернуться на «Аннаван», чтобы поднять тревогу, но, когда ступил на борт, столкнулся с сюрпризом: Карсон нес вахту на палубе, и кишки у него были на своем месте. — Он остановился, чтобы перевести дух, и печально улыбнулся. — Как вы можете себе представить, вначале я ничего не понимал, но потом мне пришла в голову странная идея. И чем больше я ее обдумываю, тем больше она кажется мне единственно верной: что, если матрос, вернувшийся с медвежьей тушей, был не настоящий Карсон, а некто… принявший его облик?
— Некто, принявший его облик… — медленно повторил Аллан, словно тоже не мог поверить в собственные слова.
Рейнольдс решительно, но грустно кивнул.
— Вспомните, что во время обследования участка вокруг летательной машины Карсон и Рингуолд потеряли друг друга в тумане. Существо воспользовалось этим, чтобы убить первого и подменить его собой.
— И теперь, по вашему мнению, это существо, кем бы оно ни было, несет вахту на палубе… — продолжил юноша.
— Именно так. И одному богу известно, с какой целью, — криво улыбнулся Рейнольдс, словно извиняясь перед собеседником за то, что рассказал ему эту безумную историю. — Что вы думаете по этому поводу, Аллан? Считаете, что все это бред?
Какое-то время, показавшееся Рейнольдсу бесконечным, юноша хранил молчание, уставившись в одну точку.
— Думаю, вопрос заключается не в том, бред это или нет, — наконец заговорил он. — Мне, например, сам факт моего существования уже давно кажется бредовой загадкой. Нет, мы должны задать себе другой вопрос: существует ли иное объяснение, освобождающее нас от необходимости рассматривать эту очевидную нелепость. К примеру, вы полностью уверены, что найденный вами труп принадлежал Карсону? Вы сами говорили, что стоял густой туман и что тело было частично засыпано снегом. Кроме того… — Аллан замялся, сомневаясь, стоит ли ему продолжать. — Заранее прошу меня простить, если мои слова покажутся вам обидными, и заверяю, что ни в коей мере не собираюсь осуждать вас, но должен признаться, что даже отсюда чувствую… м-м-м… запах алкоголя.
Рейнольдс горестно вздохнул.
— Аллан, не буду отрицать того, что я выпил, но, поверьте, никогда еще мой ум не был столь здравым, как сейчас. Конечно, больше всего мне хотелось бы сказать вам, что я не слишком уверен в том, что видел, потому что был пьян и к тому же сильно напуган. Я бы сам посчитал сумасшедшим любого, кто рассказал бы мне нечто подобное. Но боюсь, что не могу так сказать, Аллан. Я абсолютно уверен в том, что видел. В снегу лежал труп Карсона.
Он замолчал и задумался. Действительно ли он сказал правду? Разве не грыз его маленький червячок сомнения относительно личности убитого? На самом деле Рейнольдс не мог быть полностью уверен в том, что видел. Он был почти уверен, но должен был утаить это «почти» от Аллана, если хотел, чтобы их разговор не застрял на этом пункте. Кроме того, он не мог быть уверен и в том, что это «почти» не возникло в его мозгу позднее, после того как он обнаружил на палубе другого Карсона.
— Понимаю, — прошептал юноша.
— В любом случае, Аллан, если это был не Карсон, то кто? Никто больше не покидал судна. — Рейнольдс сделал паузу, а потом продолжил: — Но есть и кое-что еще, Аллан. Карсон, с которым я недавно разговаривал на палубе, показался мне… Не знаю, как вам объяснить… Он показался мне странным, каким-то другим. Не говоря уже о том, что, почуяв его запах, собаки залаяли как бешеные.
— Собаки? — пробормотал Аллан.
— Вот именно. Не странно ли это, по-вашему?
Юноша встал и принялся расхаживать по тесной каморке, невпопад двигая руками и ногами, словно марионетка, управляемая неопытным кукольником. Было заметно, что он взволнован.
— Но если ваши подозрения верны, то как это существо могло превратиться в Карсона? Дублировать человека! Вы отдаете себе отчет, насколько сложен человеческий организм? Ему пришлось бы скопировать каждый из органов… да не только это, а еще знания, язык, чувства… психику и даже воспоминания! Карсон не был просто пустой оболочкой, костюмом, который любой мог надеть на себя. Он был человеком, венцом творения… Возможно ли скопировать то, что столь великолепно произведено Создателем, и еще добиться, чтобы этого никто не заметил?
— Оставьте, Аллан, я прекрасно понимаю, насколько трудно воспроизвести человека, начиная с носа и кончая пресловутым половым членом, однако вы должны признать, что мозг матроса Карсона как раз не отличается особой сложностью. Эта ирландская деревенщина не была наиболее достойным представителем нашей расы. И поскольку нельзя сказать, что мы здесь окружены самыми светлыми умами планеты, не думаю, что если вдруг Карсон станет еще молчаливее, чем обычно, это вызовет подозрения у остальных членов команды. Кроме того, имеются и иные факты, подтверждающие мою гипотезу. Про собак я уже говорил, но есть и другое… Вам не кажется удивительным, что Карсон совершенно спокойно несет вахту, хотя, как известно, у него обморожена нога? Можно ли избавиться от обморожения столь чудесным образом, без вмешательства медика?
— Должен признать, это достаточно странно, — согласился Аллан. — И все же я отказываюсь верить, что…
— Ради бога, Аллан! — заволновался Рейнольдс. — Вы же сами убеждали меня, что это существо есть не кто иной, как марсианин, исходя из того, что самое простое объяснение всегда и самое верное. Так вот, теперь у нас в Антарктике два Карсона. Один, растерзанный, лежит в снегу, другой, немного не в себе, но живой, находится на палубе. Не знаю, как вам, но мне проще объяснить столь необыкновенное чудо тем, что марсианин перевоплотился в матроса. После того как разделался с ним, естественно.
Аллан не отвечал. Он долго и внимательно разглядывал одну из переборок каюты, словно надеялся отыскать там ответ.
— Согласен, Рейнольдс, — наконец процедил он. — Допустим, что марсианин способен трансформироваться в любого из нас и принял облик Карсона… Но почему он так сделал? Какова его цель? И почему, растерзав доктора Уокера, он не торопится точно так же поступить и с нами? Чего он ждет?
— Не имею ни малейшего представления, — признался Рейнольдс. — Я и пригласил его к себе в каюту затем, чтобы попытаться понять его доводы и установить с ним контакт. Но, честно говоря, у меня есть подозрение, что на самом деле он не хочет нас атаковать. Иначе он бы уже давно расправился со всеми, согласны? У него была такая возможность. Скрываясь под личиной Карсона, он мог свободно передвигаться по судну и убивать нас по очереди одного за другим. Правда, я не думаю, что для него было бы сложно покончить и со всеми сразу. Это наводит меня на мысль, что убийство доктора Уокера следует рассматривать как несчастный случай. Он убил его, так сказать, в порядке самообороны, когда доктор приготовился ампутировать ему ногу.
— Понятно, — сказал Аллан.
— Мы не знаем, какими нас видит это существо, — продолжал Рейнольдс. — Возможно, оно напугано больше нас и пытается всего лишь уцелеть в обстановке, которая представляется ему враждебной. Единственное, что мы знаем, — это то, что его реакция может быть в высшей степени резкой, а потому должны приближаться к нему весьма осторожно, чтобы он не почувствовал угрозы… Думаю, тогда у нас появится шанс вступить с марсианином в диалог. И если есть на этом судне человек, кому я могу доверять при выполнении такой миссии, то это вы, Аллан.
— Понимаю ваши намерения, Рейнольдс, и даже отважусь сказать, что, будь у меня больше времени на размышления, я бы, вероятно, признал вашу правоту. Одного только не могу понять… Почему вы не сообщили обо всем капитану Макреди? Почему хотите, чтобы мы занимались этим вдвоем?
— Капитану? Ох, Аллан, вы же знаете, какого высокого мнения обо мне Макреди, — стал оправдываться Рейнольдс. — Он не поверит мне, если только не увидит собственными глазами труп Карсона, а я сомневаюсь, что смогу уговорить его отправиться туда. Несколько часов назад, которые теперь кажутся мне вечностью, у нас состоялся небольшой… обмен мнениями, после чего он посоветовал мне не высовывать носа из своей каюты до конца путешествия и даже пригрозил военным трибуналом, если я не перестану беспокоить его своими бреднями. Теперь вы понимаете, почему я не бросился со всех ног докладывать ему о том, что марсианин принял облик одного из его подчиненных. Но допустим даже, что Макреди мне поверит. И что тогда, по-вашему, он сделает? Наверняка постарается убить это существо и тем самым уничтожит какую-либо возможность вступить с ним в контакт. А именно этого я и хочу, Аллан: наладить с ним общение. Не только потому, что, на мой взгляд, диалог с монстром — это единственное, что может нас спасти, но и потому, что это означает само по себе, мой друг. Если мы правы и на борту нашего корабля находится марсианин, то неужели мы не сможем поговорить с ним? С жителем другой планеты, Аллан!
Юноша понимающе кивнул, хотя, похоже, не слишком вдохновился идеей Рейнольдса, а потому тот продолжил уговоры:
— Возможно, это станет самым главным событием в истории человечества! Если наша теория верна, мы стоим на пороге открытия невиданных масштабов. Мы с вами — единственные на судне люди, способные все сделать правильно. Остальные же лишь мечтают спасти свои задницы. Они бы без колебаний сожрали завещание Христофора Колумба, если бы это помогло им утолить голод. Наш долг перед человечеством и будущими поколениями — взять дело под свою ответственность. Я совершенно уверен, что вы и я оказались здесь не случайно. Задумывались ли вы над тем, что все происходило бы абсолютно по-другому, если бы нас не было на этом корабле? Наша судьба привела нас сюда, Аллан, по одной причине: дабы мы вмешались и воспрепятствовали тому, чтобы прибытие на Землю первого гостя из космоса превратилось в вульгарную охоту на него.
Юноша вновь кивнул. Потом глубоко вздохнул, что Рейнольдс истолковал как готовность принять решение, опять уселся на стул и устремил свой взгляд в бесконечность.
— Могло быть, что его машина рухнула здесь, не долетев до места назначения, не важно какого… — предположил он, к своему сожалению, чувствуя, что начинает воодушевляться мыслью о том, что на борту их судна находится марсианин. — И теперь он очутился совершенно в другом месте, на льдине, и не знает, как отсюда выбраться.
— Я тоже так думаю, — великодушно признался Рейнольдс. — И, возможно, решение проблемы он связывает с нами. Потому он и проник на судно, что считает, будто мы знаем, как выбраться из этих мест.
— Боюсь, как разумный вид мы его разочаруем, — усмехнулся Аллан, но в следующее мгновение, спохватившись, что в сложившейся ситуации шутки могут дорого обойтись, принял серьезный, едва ли не мрачный, вид. — Хорошо, Рейнольдс, считайте, что я на вашей стороне. А теперь объясните ваш план.
Рейнольдс недоуменно взглянул на него. План? Да, конечно, Аллан хочет узнать его план. Ему самому бы этого хотелось.
— Ну… Если честно, я еще не до конца продумал, как провести разговор… Прежде всего, мы пока не можем признать нашу теорию абсолютно верной. Хотя мы почти уверены в том, что пришелец превратился в Карсона, мне придется как можно деликатнее попросить его снять маску. Но только когда у меня будут все необходимые доказательства… Тогда, видимо… По правде сказать, даже не знаю, Аллан. Боюсь, что дальнейшие действия я не успел обдумать. Буду импровизировать в зависимости от его реакции. Но не беспокойтесь, цель, которую нужно достичь, мне совершенно ясна.
— Вы учитываете возможность того, что он явится с враждебными намерениями? Что, если он попытается на вас напасть?
— Разумеется, я рассматривал возможность того, что марсианин не станет вступать со мной в диалог, а вместо этого предпочтет разорвать меня на части. Вот почему я нуждаюсь в вашем присутствии, Аллан. Я хочу, чтобы вы стали моей гарантией, страховкой моей жизни, — сказал Рейнольдс.
— А ваш гость не насторожится, увидев меня в вашей каюте? — спросил Аллан, который предпочел бы дожидаться результатов этой встречи в своей каморке.
— Он вас не увидит. Вы спрячетесь в шкафу и, если дело примет нежелательный оборот, выскочите и выстрелите в него, прежде чем он успеет на меня наброситься.
— A-а… Понимаю… — прошептал Аллан, бледный как полотно.
— Я могу на вас рассчитывать? — чуть ли не с мольбой в голосе спросил Рейнольдс.
— Разумеется. Как вы можете сомневаться? — ответил юноша, немного поколебавшись, словно до конца не знал, какой ответ дать. — Боюсь, что я единственный на судне матрос, который поместится в вашем шкафу.
— Спасибо, Аллан, — заулыбался Рейнольдс, искренне тронутый решением юноши, и, не слишком погрешив против истины, добавил: — Меньше всего надеялся отыскать друга в этом аду.
— Не забудьте о своих словах, когда я вам уже не буду нужен, — пробормотал Аллан. — Кстати, не осталась ли у вас бутылочка бренди? Коль скоро я собираюсь стрелять в марсианина, мне понадобится выпить рюмку. Или даже две.
— Лучше разопьем ее вместе с марсианином… — торопливо предложил Рейнольдс, прикидывая про себя, что надо бы убрать бренди из шкафа, прежде чем туда заберется бывший артиллерист.
VIII
Рейнольдс внимательно окинул взглядом свою маленькую каюту, словно театральный режиссер, проверяющий, правильно ли расставлены декорации на сцене. Он освободил шкаф, служивший ему кладовкой, постаравшись, чтобы Аллан не заметил последних двух-трех закупоренных бутылок, и теперь юноша находился внутри, словно покойник в тесном гробу, который могильщик прислонил к стене, пока копал могилу, но зато с пистолетом в руке. На столик, занимавший середину помещения, Рейнольдс выставил одну из бутылок и два стакана, а рядом, в качестве зловещего мазка, нарушавшего мирную картину, положил заряженный пистолет. Он предпочел оставить оружие на виду, а не прятать в кармане, чтобы не вызывать лишних подозрений, так как после введения осадного положения все члены команды расхаживали вооруженные до зубов. К столику был приставлен стул, напротив него стояло кресло, привезенное им из другой жизни, удобное и спасительное. Не хватало лишь одного из актеров, который, если его гипотеза верна, явится под маской.
Рейнольдс нервно взглянул на часы, прикинув, что Карсон уже сменился с вахты и с минуты на минуту постучится в дверь. По звукам, долетавшим до него из разных мест судна, он определил, что члены экипажа занимались своими обычными делами, не подозревая, что через несколько минут в маленькой каютке на носу будут решаться их судьбы. Он поправил повязку на руке, пытаясь успокоиться. Карсон вот-вот появится, а он до сих пор не решил, с чего начать разговор. Какое приветствие окажется наиболее уместным с точки зрения неумолимых законов вежливости, чтобы встретить жителя другого мира? Они с Алланом предварительно обсудили, как будут проходить переговоры, и, хотя имели разные мнения по этому вопросу, им удалось прийти к согласию. Прежде всего было решено не пытаться сразу брать быка за рога, а действовать более тонко. С помощью привычных фраз и замечаний Рейнольдс должен создать обстановку непринужденности, а затем, когда собеседник ослабит бдительность, огорошить его залпом злонамеренных вопросов, припереть к стенке, заставив сбросить маску. Да, так они договорились. Никаких прямых вопросов. Первым делом нужно добиться, чтобы монстр почувствовал себя спокойно и уверенно, чтобы в нужный момент показать ему, что он разоблачен, но при этом ему предоставляется возможность вступить в диалог. По правде говоря, эта идея насчет крайней осторожности, предложенная Алланом, не слишком нравилась Рейнольдсу. Он предлагал побыстрее перейти к делу, но Аллан возражал: почувствовав себя в опасности, марсианин может ответить яростной атакой, что он уже не раз демонстрировал. Разоблачение должно осуществляться деликатно и изящно, это будет настоящий шедевр манипулирования, призванный продемонстрировать пришельцу тонкую проницательность рода человеческого, несколько высокопарно закончил поэт и с достоинством фараона, примеряющего новый саркофаг, полез в шкаф. Одно Рейнольдсу было ясно: в какой-то момент беседы они с пришельцем будут вынуждены открыть свои карты. На самом деле от того, как Рейнольдс сумеет провести разговор, зависят многие вещи: для начала его собственная жизнь, равно как и жизни тех людей, что сейчас копошатся на борту судна, но, кроме того, и место, которое займет его имя в истории, да, пожалуй, и сама история.
Он в очередной раз передвинул стаканы на столе и вновь посмотрел на часы, подумав при этом, что, наверное, до сидящего в шкафу Аллана доносится бешеный стук его сердца. Беседуя с Карсоном на палубе, он еще до конца не понимал громадного значения предстоящей встречи. Все произошло слишком быстро. Можно сказать, и я не стараюсь тем самым его оправдать, что Рейнольдс действовал по наитию, движимый подозрением, которое только-только родилось в его мозгу. Но сейчас это было уже не подозрение: почти наверняка через несколько секунд в его дверь постучит существо с другой планеты. И это существо, такое непохожее на него, такое чуждое человеку, усядется на самый простой земной стул, скрывая свой настоящий облик под человеческой оболочкой, и попытается начать с ним разговор, одновременно анализируя его реакции с таким же вниманием, с каким Рейнольдс будет исследовать реакции собеседника. Какими бы ни были их тайные намерения, в этой каюте состоится акт общения между двумя разными видами. Два разума, рожденных на двух разных планетах бескрайней Вселенной, найдут общий язык, установят диалог между собой, совершат маленькое чудо по секрету от остального мира. Рейнольдс испытывал странное головокружение. Ему вспомнился темный блеск в маленьких глазках Карсона, когда залаяли собаки, недобрый блеск, никогда ранее не омрачавший взора моряка, и он подумал, что теперь эти глаза будут испытующе глядеть на него на протяжении всего разговора, вот только сумеет ли их настоящий владелец скрыть память о том, что они повидали, пока он летел со звезд к Земле, — россыпи метеоритов, кометы с огненными хвостами и все то, что Создатель счел за благо расположить вне досягаемости земных телескопов.
В этот момент кто-то тихо постучал в дверь. Вернее, даже робко. Рейнольдс вздрогнул и, оправившись от замешательства, бросил многозначительный взгляд на шкаф, зная, что Аллан видит его сквозь решетчатую дверцу. Затем утвердительно кивнул, словно сообщал миру, что спектакль начинается. И пошел открывать дверь, стараясь, чтобы ноги не дрожали. Карсон вошел в каюту, застенчиво поздоровался, развязал косынку, закрывавшую лицо, и снял перчатки. И опять, как тогда на палубе, Рейнольдса поразила его неестественная, если хорошенько приглядеться, походка. Матрос передвигался довольно неуклюже, хотя и силился это скрыть, как будто по ошибке надел башмаки не на ту ногу. Рейнольдс предложил ему стул, а сам быстро уселся в кресло, сразу же почувствовав себя защищенным в этом подобии кокона из дерева и кожи. Карсон неверными шагами подошел к стулу и опустился на него, причем, как заметил Рейнольдс, про обмороженную ногу даже не вспомнил. Он сразу же наполнил стаканы, стремясь сохранять спокойствие. Матрос молча наблюдал за ним с невозмутимым, почти равнодушным видом. Рейнольдс еще никогда не видел лица, более неподходящего для выражения чувств, чем это. Казалось, Творец вылепил его, когда уже устал создавать все новых и новых людей. Рейнольдс поднял свой стакан и, сделав молниеносный выпад в сторону гостя, словно опробовал рапиру, осушил его одним глотком. Эта маленькая пантомима помогла ему успокоить нервы. Карсон невозмутимо глядел на него, не решаясь взять стоящий перед ним стакан.
— Не бойтесь, попробуйте, — подбодрил его Рейнольдс, стараясь, чтобы голос не дрогнул. — Увидите, что я вас не обманул. Бренди действительно отличное.
Матрос взял стакан с преувеличенной осторожностью, словно боялся ненароком раздавить его, поднес к губам и чуть-чуть отпил. После чего через силу состроил довольную гримасу, сменившуюся постной миной, что появлялась на его лице всякий раз, когда не нужно было ничего изображать. Потом поставил стакан, похоже, решив, что крошечного глотка достаточно для соблюдения требуемых правил вежливости. Рейнольдс откинулся в кресле, делая вид, что не находит ничего странного в лицемерном поведении Карсона.
— Полагаю, вы до сих пор не можете забыть то, что пережили. Наверное, это была жуткая сцена, — заметил он, стараясь вспомнить, видел ли он когда-нибудь, чтобы настоящий Карсон пил спиртное, или же матрос был действительно единственным трезвенником в команде. — Хотя должен признать, что ваше описание этого существа не слишком помогло нам понять, с кем мы сражаемся.
Рейнольдсу почудилось, что во взгляде Карсона вновь на мгновенье возник тот самый странный блеск, и он даже немного отодвинулся от стола. А если тут всего лишь чистой воды внушение? Действительно ли он видел это или заставил себя увидеть в отчаянной попытке подтвердить свою гипотезу?
— Сожалею, сэр, но все произошло так быстро… — проговорил Карсон после некоторой паузы, словно с опозданием понял, что Рейнольдс ожидает от него ответа.
— Не извиняйтесь, Карсон, не стоит. Естественно, что вам не хочется говорить об этом деле. Полагаю, что вы напуганы, — успокоил его хозяин каюты и тут же пристально посмотрел на матроса. — Я угадал? Вы ведь напуганы… Карсон?
Он произнес его имя с чуть заметной иронией. Интересно, как расценил этот ход Аллан: как весьма тонкий или же, напротив, грубый?
— Думаю, что так, сэр, — ответил матрос, выдержав взгляд Рейнольдса с такой же тупой озабоченностью, с какой жаба подстерегает мошку.
— Конечно, конечно… Как и все мы, — подхватил Рейнольдс и еще шире улыбнулся. — Вам нечего стыдиться. Но вы должны понять, что подробное описание существа нам очень поможет. Подумайте, ведь вполне возможно, что мы кажемся ему такими же страшными и опасными, как он нам, если не хуже. И если я хочу узнать о монстре все, что только возможно, то это для того, чтобы лучше его понять и попробовать наладить с ним отношения. — Он в упор глянул на собеседника. — Я уверен, что мы в конце концов сумеем с ним договориться. Вы понимаете, что я хочу сказать… Карсон?
— Да, но боюсь, что не смогу вам помочь, — с сожалением в голосе сказал матрос. — Я ничего не помню из того, что видел. Вспоминаю только собственные крики. Но, по моему скромному мнению, он не выглядел испуганным, когда расправлялся с доктором, во всяком случае, не более испуганным, чем я… сэр.
Рейнольдс услышал логичный ответ нормального человека. Если только точно не знать, что этот самый нормальный человек лежит далеко отсюда со вспоротым животом. Тогда его, казалось бы, разумный ответ, можно истолковать по-разному… Например, как скрытую угрозу? Разве его собеседник не произнес слово «сэр» с оттенком иронии, так же как поступил он сам с именем матроса? Нет, не следует начинать разговор, заранее заняв оборонительную позицию, решил он. Возможно, это существо всего-навсего старалось получше, с его точки зрения, спрятаться? Не исключено даже, что оно приглядывается к нему, Рейнольдсу… Он перехватил испытующий взгляд матроса и снова одарил его ослепительной улыбкой.
— Стало быть, оно не выглядело испуганным, — продолжил он. — Но кто может распознать чувства столь далекого нам существа? Только оно само. Мы же сможем понять, что оно чувствует, лишь после того как прямо спросим его об этом. Разве не так?
— Может быть, сэр, — признал матрос, слегка напуганный словами Рейнольдса.
— Вот, например, мы с вами люди и поэтому понимаем, как выражаются человеческие чувства. Вы видите, что я улыбаюсь, и понимаете, что я в хорошем настроении.
— Очень рад за вас, сэр, — откликнулся Карсон, явно сбитый с толку.
— Да нет… Я не имею в виду данный момент, — объяснил Рейнольдс, — но если бы я радовался, вы бы сразу это поняли, поскольку у нас с вами один и тот же язык жестов, и я бы тоже смог читать по вашему лицу, как в книге, и дать название любому чувству, которое оно отражает. К примеру, страх или отчаяние, то есть чувства, которые мне тоже знакомы, потому что я их когда-то испытал… Вы следите за моей мыслью, Карсон?
— Вроде бы слежу, сэр, — ответил матрос, и на его лице не отразилось ровным счетом ничего.
— Хорошо. А теперь подумайте вот о чем: это существо, наверное, так сильно отличается от нас, а мы от него, что, вероятно, мы посылаем друг другу ошибочные сигналы. Наши обоюдные попытки вступить в контакт, если они, конечно, последуют, останутся совершенно незаметными для каждого из нас. Это как выбросить белый флаг перед армией слепых.
Карсон промолчал.
— Что вы думаете обо всем этом? — настаивал Рейнольдс.
Матрос посмотрел на него с некоторым удивлением.
— Я думаю, что только армия идиотов может сдаться армии слепых, сэр.
— Это было бы так, если бы речь не шла о метафоре, Карсон. Я только хотел объяснить вам, что предложение о мире не могло дойти до противоположной стороны. Теперь вы поняли?
— Но если они хотят мира, то… зачем начали воевать? И как их могли победить слепые?
— Ладно… Забудем об этом примере, — разочарованно произнес Рейнольдс. — И еще одна вещь меня беспокоит, Карсон: мы не обнаружили на корпусе корабля никакого отверстия, через которое можно было бы входить и выходить… Возможно, существо до сих пор находится среди нас.
Лицо Карсона исказилось от ужаса. На взгляд Рейнольдса, это выглядело не слишком естественно.
— Не дай бог, сэр, — с дрожью в голосе пробормотал матрос. — Тогда мы наверняка все погибнем.
Ради всего святого, подумал Рейнольдс с замирающим сердцем, ведь это решительно похоже на угрозу. Пришелец предупреждал его о своем могуществе? Призывал оставить все как есть и не нарушать кажущегося спокойствия на судне, ибо это чревато опасностью? Рейнольдс попытался успокоиться. Нельзя допустить, чтобы страх затуманил его рассудок. И именно сейчас, когда так необходимо сохранять хладнокровие. Он бросил беглый взгляд на шкаф, прикидывая, как Аллан мог оценить слова Карсона. Он многое отдал бы сейчас за то, чтобы узнать его мнение.
— Возможно, вы правы. Но меня сейчас больше заботит то, как ему удалось проникнуть на судно, — произнес он как ни в чем не бывало, стараясь по мере сил отвести вероятную угрозу. — Что вы думаете по этому поводу, Карсон?
— Ничего, сэр.
— У вас нет никаких соображений на сей счет? Не верю. Он же едва не убил вас тогда в лазарете. И его вид до того напугал вас, что вы целый день находились в состоянии шока. Уверен, что его образ неотступно преследует вас, стоит вам закрыть глаза, или я ошибаюсь?
— Нет, сэр, вы не ошибаетесь, — с горечью признал матрос.
— Хорошо. Тогда вы наверняка в замешательстве задавали себе тот же вопрос, что и я: как он проник на судно? И к какому выводу пришли?
— Боюсь, что не пришел ни к какому выводу, сэр, — ответил Карсон со смущенной улыбкой.
Поведение матроса вновь заставило Рейнольдса заколебаться. Не издевался ли над ним пришелец? Или же в ответе всего-навсего заключалось скромное мнение человека, не привыкшего его иметь? Не придает ли непроизвольно он, Рейнольдс, ответам матроса зловещий смысл, какого они в действительности не имели? Как знать. Одно было для него ясно: эта дорожка его никуда не приведет. Пришло время двинуться в другом направлении, ступить на более опасную тропу. Он мельком взглянул на шкаф, надеясь, что Аллан его правильно истолкует.
— А вот у меня есть свои соображения. Хотите, я вас с ними познакомлю? — предложил он с улыбкой.
Карсон пожал плечами, явно показывая, что разговор ему наскучил. Рейнольдс откашлялся и произнес:
— Полагаю, он забрался на судно по снежному трапу, как это сделал бы любой из нас.
— А как же вахтенные? — возразил матрос. — Никто из них не видел, как он поднялся, верно?
Рейнольдс сочувственно улыбнулся.
— Знаете ли вы, что пару часов назад со мной произошло нечто странное? — сказал он, проигнорировав вопрос, и незаметно приблизил руку к лежавшему на столике пистолету. — Я вышел немного прогуляться по снегу и наткнулся на труп.
Он впился глазами в Карсона. Тот выдержал его взгляд. Теперь матрос не улыбался, и на его лице появилось прежнее тупое выражение.
— Догадываетесь, чей это был труп?
Матрос глянул исподлобья.
— Нет.
— Карсона, — объявил Рейнольдс и после некоторой паузы добавил: — Я подумал, что он пошел за мной, увидев, как я покинул судно, а потом имел несчастье столкнуться со звездным монстром. Но, вернувшись, я встретил его здесь. И сейчас он сидит передо мной, живой и здоровый, хотя недавно я видел его мертвым, лежащим в снегу с распоротым животом. Какой из этого следует вывод?
Матрос все так же тупо смотрел на него.
— Я бы подумал, что вы ошиблись, сэр, поскольку я нахожусь здесь, — растерянно произнес он. — Вероятно, вы наткнулись на другого матроса и спутали его со мной.
— Гм-м… Возможно, но только все остальные члены команды на месте. Я проверял. Кроме того, я доверяю своим глазам. Труп, который я обнаружил в снегу, имел те же самые черты, черты матроса Гарри Карсона. — Он остановился, чтобы перевести дух. — К какому же выводу, по-вашему, я пришел? Я вам скажу: думаю, что бедного Карсона убили во время первой разведки, что монстр принял его облик и в таком виде проник на судно. Вот почему нет никакого отверстия в корпусе. Вот почему он сумел убить врача и затем исчезнуть, не оставив следа.
Матрос несколько секунд сидел неподвижно и вдруг громко расхохотался. Рейнольдс сурово взглянул на него.
— Простите, сэр, но такой бессмыслицы мне еще не приходилось слышать, — сказал Карсон, отсмеявшись. Потом медленно покачал головой и с неожиданным любопытством уставился на Рейнольдса: — А что думает обо всем этом капитан Макреди?
Рейнольдс не ответил.
— О, понимаю. Вы не решились ему рассказать… — заключил матрос с печалью в голосе, показавшейся Рейнольдсу наигранной. — Я возьму это на себя, сэр. Сложно, должно быть, найти кого-нибудь, кто бы поверил в эти дикие бредни. Это означает, что об этом знаете только вы, верно? Вы единственный. А теперь и я, разумеется.
Рейнольдс почувствовал, как у него напряглись мышцы. Пришелец намекал на то, что может тотчас же прикончить его, единственного, кто владеет этой тайной? Он снова посмотрел на шкаф, надеясь, что Аллан тоже насторожился. Холодный пот выступил у Рейнольдса на лбу и начал стекать по вискам. Он стер его дрожащей рукой. Карсон молча наблюдал за ним невинным взглядом простака. Если бы в эту минуту кто-нибудь должен был определить по их внешнему виду, кто из них двоих виновен, именно он, Рейнольдс, был бы осужден. Он вздохнул и решил, что пора кончать с этим спектаклем и обращаться непосредственно к монстру.
— Кто бы вы ни были, вы меня разочаровали, — произнес он подчеркнуто недовольным тоном, стараясь, чтобы его голос не дрогнул. — Неужели вы не понимаете, что я даю вам возможность высказаться и потому пока не выдаю вас?
Карсон по-прежнему молчал, не сводя с него глаз.
— Мы не низшая раса. Мы можем общаться на равных! — воскликнул Рейнольдс, но матрос не выказал никаких признаков того, что его заинтересовало данное предложение. — Судя по вашему поведению, вы на этот счет другого мнения. Искренне сожалею. Я действительно считаю, что мы могли бы многому научиться друг у друга, наша раса у вашей, а ваша у нашей.
Карсон издал неприятный смешок, как бы показывая, что у человеческой расы ему учиться нечему. Хотя можно было бы истолковать этот смех и как беспомощную реакцию матроса на безумные речи вышестоящего начальника. Глава экспедиции наклонился в кресле, не зная, как продолжить разговор. Непонятно почему, беседа вдруг приняла нежелательное направление, а потом и вовсе зашла в тупик. Как же теперь ее продолжить? И дальше провоцировать марсианина, пока тот не согласится сбросить маску и прислушаться к нему? Но ведь Карсон мог встать, хлопнуть дверью и пойти пожаловаться капитану. Рейнольдс нимало не сомневался, что для Макреди это станет идеальным поводом обвинить его в подстрекательстве или в чем-то подобном и запереть в трюме. Он умоляюще взглянул на шкаф. Потом положил локти на стол и вновь посмотрел на Карсона.
— Вы, наверное, удивлены, но наша раса обладает гораздо более высоким разумом, чем вы думали, — сказал он с отчаянием в голосе. — И хочу вас заверить, что у меня по отношению к вам самые честные и мирные намерения. Я всего лишь хочу пообщаться с вами, прийти к взаимопониманию. Но если вы не измените своего поведения, мне не останется ничего другого, как разоблачить вас.
— Сэр, я…
— Перестаньте притворяться, Карсон, черт бы вас побрал!
Матрос со вздохом прислонился к спинке стула. Рейнольдс тряхнул головой, раздосадованный его упрямством.
— К тому же вы ошибаетесь, если думаете, что я единственный, кто знает ваш секрет. Прежде чем открыться перед вами, я позаботился о том, чтобы обезопасить себя. Так что, если со мной что-нибудь случится, кое-кто поднимет тревогу, и, уверяю вас, не найдется ни места, ни тела на этом судне, где бы вы смогли укрыться. Нас здесь гораздо больше, мы знаем ваш секрет, и потому, чтобы загнать вас в угол, много времени не понадобится. И тогда уж я не вызовусь вести с вами диалог. Вас быстренько изрешетят пулями, не сомневайтесь. И хотя я видел, что вы способны сделать с полярным медведем, боюсь, вы все же не успеете перебить всю команду и вас прикончат раньше, — выпалил он, чувствуя, что выглядит нелепо, объясняя все это сидящему напротив него замухрышке.
— Ну конечно же, не успею, сэр! — отчаянно замотал головой матрос. Потом едва слышно добавил: — Только звездный монстр смог бы такое сотворить…
— Что вы сказали, Карсон? Вы снова мне угрожаете? — Рейнольдс испытывал скорее ярость, чем страх. — Значит, монстр… Только монстр может такое сотворить. Но уж никак не вы, простой моряк, верно? — Он вонзился глазами в лицо матроса и прибавил: — Простой моряк, так сильно обморозивший ногу, что доктор Уокер собирался ампутировать ее, а теперь расхаживающий по судну как ни в чем не бывало. Может ли такое произойти с простым моряком?
— Очевидно, доктор Уокер, да будет земля ему пухом, ошибся в своем диагнозе, — пожал плечами Карсон.
— Очень сомневаюсь: доктор Уокер не был новичком в своем деле. За его плечами долгие годы практики.
— Все люди ошибаются, сэр, — робко улыбнулся матрос. — Доктор Уокер был таким же человеком, как вы или я. Способным ошибаться, слабым и смертным, как каждый из нас.
Рейнольдс почувствовал опустошенность. Было очевидно, что все его слова, дружелюбные или провоцирующие, оказались бесполезными. Наверное, его судьба состояла не в том, чтобы добиться славы, а в том, чтобы продолжать этот разговор до тех пор, пока не начнут таять льды, а может, и до Страшного суда. Правда, он не верил, что у пришельца хватит на это терпения. По сути дела, тот играл с ним, как кошка с мышью, готовая сожрать свою добычу, когда ей надоест эта игра. Рейнольдс понял, что в такой ситуации ему осталось только одно. Правда, после этого все решительным образом менялось. Разумеется, он должен отказаться от своей заветной мечты установить диалог с жителем другой планеты, которая в свете последних событий выглядела столь же нелепой, сколь ребяческой. Если бы пришелец был намерен вступить в переговоры, разве отказался бы он от его предложения? Макреди оказался прав. И тут возможен лишь один разговор: подпустить его на расстояние выстрела и спустить курок. Однако Рейнольдс испортил все дело. Результат говорил сам за себя: он сидел в своей каюте напротив монстра, выложив на стол свои карты, — отчаявшийся, униженный, испуганный, полностью сознающий, что повел себя в этой ситуации как самоуверенный идиот. Он в последний раз перевел взгляд на шкаф, надеясь, что Аллан понимает всю важность этого краткого и единственного мгновенья славы. Потом взглянул на пришельца, не скрывая своего разочарования. К сожалению, теперь оставалось только пристрелить его. Быстрым движением Рейнольдс схватил пистолет и прицелился собеседнику в переносицу. Однако курок не спустил. Вытянув перед собой руку, он сурово глядел на матроса.
— Сожалею, что вы не захотели разговаривать, потому что теперь у меня нет выбора.
— Вы станете в меня стрелять? — вышел из оцепенения Карсон. — В одного из ваших матросов? Вас будут судить военным трибуналом, вас…
— Благодарю вас за заботу, Карсон, только я уверен: как только я выстрелю, вы сразу измените форму, и все убедятся, что я убил звездного монстра, — сказал Рейнольдс, стараясь выглядеть спокойным. — Я дал вам возможность решить вопрос цивилизованно, но вы этот вариант отвергли. Считаю до трех и стреляю. У вас есть последний шанс изменить свое мнение.
Карсон смотрел на него с искаженным от ужаса лицом.
— Один, — произнес Рейнольдс.
Матрос дернулся на стуле и вдруг безудержно разрыдался, умоляюще сложив вместе руки.
— Сэр, прошу вас, не стреляйте! Вы ошиблись: труп, найденный вами в снегу, не может быть моим. Ради бога, не делайте этой ужасной ошибки!.. — всхлипывал он, и слезы ручьем лились по его щекам, скатываясь, как в воронку, в полуоткрытый рот.
Рейнольдс старался, чтобы его рука, сжимавшая пистолет, не дрогнула. Ужасные сомнения между тем терзали его душу. Боже мой, что он собирается сделать? Хладнокровно пристрелить матроса? А если он действительно ошибся и тот труп принадлежал не Карсону? Значит, он выстрелит в невинного человека? Но он был твердо уверен, что наткнулся на труп Карсона. И этот хнычущий матрос не мог быть им. Нет, перед ним сидел марсианин. Это было самое простое объяснение, а ведь Аллан говорил, что самое простое объяснение, каким бы абсурдным оно ни казалось…
— Пожалуйста, сэр, я вас умоляю… — всхлипывал матрос.
— Два, — сказал Рейнольдс, стараясь не выдать голосом свои внутренние терзания.
Моряк вжал голову в плечи в знак полной покорности, тело его сотрясалось от рыданий. Рейнольдс застыл в нерешительности, чувствуя, как его самого начинает бить дрожь. Безумием было верить в то, что Карсон — пришелец, однако Рейнольдс в это верил. Наверное, он сошел с ума и, как все сумасшедшие, не сознавал своего безумия. Обуреваемый сомнениями, он бросил пистолет на стол. Он не мог убить его. Не мог, и все тут. Потому что он не убийца. По крайней мере, он не мог хладнокровно пристрелить того, кто, возможно, был невиновен, того, кто не причинил ему никакого вреда и не мешал осуществлению его целей, как в свое время Симмс.
— Три.
Рейнольдс не сразу понял, откуда возник этот голос, закончивший отсчет. Он растерянно взглянул на шкаф в надежде, что это произнес Аллан, призывая его тем самым выстрелить наконец, однако дверца шкафа была по-прежнему закрыта. Тогда он перевел взгляд на матроса, и сердце у него замерло. Карсон пристально смотрел на него со злобной, а вовсе не жалобной улыбкой. Рейнольдс потянулся к пистолету, но, прежде чем он успел его схватить, матрос широко распахнул рот, так, как будто у него была вывихнута челюсть, и из его зева высунулось нечто похожее на зеленоватое щупальце. Оно щелкнуло в воздухе, словно бич, и, мгновенно преодолев разделявшее их ничтожное расстояние, обвилось вокруг шеи Рейнольдса. Потрясенный внезапным появлением этой скользкой змеи, сразу же больно сдавившей ему горло, он в ужасе закричал, но его крик тотчас был прерван нехваткой воздуха. Он вцепился обеими руками в щупальце, пытавшееся задушить его, и попробовал освободиться, но не тут-то было. Змея была слишком сильна, и, прежде чем он успел что-либо сделать, она оторвала его от кресла и подняла над столом на высоту слухового окошка. Он беспомощно сучил ногами в воздухе и краем глаза наблюдал за Карсоном, который с непроницаемым видом сидел на стуле, не обращая внимания на кошмарный отросток, высовывающийся у него изо рта. И тут он увидел, что Аллан, бледный и дрожащий свидетель ужасающей сцены, покинул свое убежище и целится в затылок матросу. Вот только ему не удалось проделать все это бесшумно. Рейнольдс сверху увидел, как резко обернулся Карсон и потянулся к пистолету Аллана своей левой рукой, которая постепенно превращалась в страшную когтистую лапу. Юноша вскрикнул от боли, когда лапа накрыла пистолет, заодно содрав ему кожу на руке, но успел выстрелить. Послышались странные лающие звуки. Матрос получил заряд в левое плечо и был отброшен выстрелом назад. Рейнольдс почувствовал, что давление щупальца ослабло, и внезапно свалился чуть ли не с потолка на стол. Удар немного оглушил его, но, ловя ртом воздух, словно рыба, выброшенная на берег, он все же успел заметить стоявшего рядом Аллана с окровавленной рукой, который с опаской поглядывал в угол каюты, где валялся пришелец.
Со своего места Рейнольдс не мог видеть монстра, но достаточно было взглянуть на выражение лица юноши, чтобы понять, что противник приходит в себя. Должно быть, выстрел в упор оказался для него достаточно болезненным, заставив сбросить личину, так что теперь бедный Аллан, возможно, видел его истинный облик, каким бы он там ни был. А может, марсианин только поднимался с пола, чтобы вновь атаковать, и, не успев перевоплотиться, все еще имел вид Карсона, но уже с когтистой лапой вместо руки. Однако поднявшаяся с пола фигура была ни тем, ни другим. Лицо Рейнольдса исказилось от страха: напротив стоял Аллан… еще один Аллан. Два отражения, между которыми отсутствовало зеркало, как видно, кем-то разбитое. Два одинаковых человека, различавшиеся лишь своими ранами. У настоящего Аллана кровоточила рука, сжимавшая пистолет, у Аллана фальшивого, служившего маскировкой для пришельца, имелась обширная рана на правом плече, из которой текла зеленоватая студенистая жидкость. Было, впрочем, и еще одно различие: лже-Аллан, двойник артиллериста, преспокойно улыбался, тогда как оригинал трясущейся рукой направлял на него пистолет.
— Неужели ты выстрелишь в самого себя, Аллан? — раздался голос пришельца.
Аллан заколебался, а пришелец улыбнулся еще шире, отчего его лицо приняло неожиданно зловещее выражение, и сделал шаг вперед.
— Конечно же нет, — заключил он. — Никто не может выстрелить в самого себя, какие бы призраки ни бередили его душу.
В следующее мгновение грудь лже-Аллана пробила пуля, и он снова рухнул на пол. Его двойник обернулся туда, откуда грянул выстрел, и увидел Рейнольдса с дымящимся пистолетом.
— Спасибо, Рейнольдс, — пробормотал он дрожащими губами.
— Полагаю, вы имели в виду нечто подобное, когда сказали, что мы должны продемонстрировать пришельцу тонкую проницательность рода человеческого, — с улыбкой заметил Рейнольдс. Затем посмотрел в угол, откуда донесся стон пришельца, и, находясь в неудобной позиции для выстрела, приказал юноше: — Стреляйте в него, Аллан! Стреляйте, прежде чем он поднимется!
Но тот не успел: пришелец проворно скользнул под стол. Со смешанным чувством страха и отвращения Рейнольдс следил за клубком щупалец, перемещавшимся к дверям наподобие гигантского паука размером с собаку и сметавшим все на своем пути — впрочем, ввиду спартанской обстановки каюты это «все» свелось к любимому креслу Рейнольдса. Оно взлетело в воздух и, ударившись о ближайшую переборку, разлетелось в щепки. В этот момент в каюту вошел матрос Гриффин с пистолетом на изготовку. Но прежде чем он успел выстрелить, монстр сбил его с ног и, выскочив за дверь, пустился бежать по коридору.
— Сукин ты сын… — процедил Рейнольдс, разглядывая обломки кресла. Наконец-то нашелся предлог для того, чтобы излить весь страх и всю ярость, накопившиеся в нем за последние часы. — Можешь считать себя покойником.
IX
Он остался жив. Разоблачил марсианина и остался жив.
Его переполняла безумная, бессмысленная радость, несмотря на то что придуманный им план полностью провалился. Он не сумел наладить контакт с существом ни мирным путем, ни каким-либо иным. Не сумел он также ни уничтожить, ни захватить марсианина. Напротив, он так его разозлил, что смертный приговор команде «Аннавана» наверняка уже подписан в одном из кабинетов госпожи Судьбы. Однако это его не слишком волновало. Главное, что он был еще жив: дышал, двигался, ощущал жизнь как бешеный поток, бурлящий в его жилах, будоража душу. И хотя собственная жизнь всегда казалась ему унылой, серой и ничтожной, сейчас он воспринимал ее как бесценный дар. Он жив, черт побери! А на что употребить свою жизнь, решим потом, подумал он, пока бежал по нижней палубе с пистолетом в руке впереди Аллана, который непрестанно жаловался и причитал, и тщедушного Гриффина, в молчании, стиснув зубы, следовавшего за артиллеристом. Рейнольдс обратил внимание на то, как быстро пришел на помощь Гриффин. Можно было подумать, что он подслушивал за дверью. Возможно, ему показалось слишком странным поведение Рейнольдса на палубе, когда тот уверял Гриффина, что Карсон мертв, чтобы списать его на бред пьяного. Впрочем, Рейнольдсу сейчас было не до раздумий на эту тему.
Миновав офицерские каюты, он вслед за монстром вбежал на палубу, где толпилась команда, и едва не задохнулся от нестерпимой вони: пахло ламповым маслом, несвежим бельем, невынесенным ведром с нечистотами, а еще страхом, если, как уверяют некоторые, у страха есть запах. Монстр оставил после себя след в виде капель зеленоватой крови, и перепуганные матросы, прижавшиеся к переборкам, никак не могли поверить, что видели, как он пронесся мимо них, не во сне, а наяву. Выстрелы, как сразу догадался Рейнольдс, привлекли сюда всю команду, начиная с вахтенных на верхней палубе и кончая корабельными плотниками и поварами. Посреди всей этой суматохи вдруг замаячила фигура капитана Макреди. Он громко потребовал объяснить ему, что, черт подери, здесь происходит.
— Монстр на судне, капитан, — ответил кто-то сквозь шум, — он спрятался в трюме.
— На судне? — переспросил Макреди, вытаскивая пистолет из кобуры. — Не может быть! Как он сюда пробрался?
На этот вопрос никто не мог ответить, кроме Рейнольдса. Раздвинув обескураженных матросов, он предстал перед Макреди.
— Монстр может принимать человеческий облик, капитан, — объяснил он, не пускаясь в долгие рассуждения, как в разговоре с Алланом. — Он превратился в Карсона и поэтому смог убить доктора Уокера.
— Превратился в Карсона? Что за чушь вы несете, Рейнольдс? — процедил Макреди, после чего, взведя курок, направился к люку, ведущему в трюм, и стал спускаться по лесенке вниз. На главу экспедиции он даже не взглянул.
— Говорю вам, что монстр может принять облик любого из нас, — настаивал Рейнольдс, спускаясь вслед за ним. — Вы должны предупредить об этом людей!
— Приберегите свой бред для себя, Рейнольдс, — пробормотал капитан снизу. — Я не собираюсь ничего никому говорить.
Рейнольдс почувствовал, как охватившее его отчаяние превращается в неожиданную ярость, заставляя кровь бешено стучать в висках. Недолго думая, он засунул пистолет за пояс, ухватил капитана за лацканы куртки и прижал к стене.
— Прислушайтесь ко мне хотя бы раз, черт бы вас побрал, — произнес он, не ослабляя хватки. — Говорю вам, что эта тварь способна превратиться в человека. Сообщите об этом матросам, или же мы все погибнем!
Макреди слушал его, не делая попыток освободиться и, наверно, стараясь соотнести неожиданное поведение Рейнольдса с тем поверхностным мнением, какое сложилось у него о руководителе экспедиции.
— Хорошо, — бесстрастным тоном ответил он. — Вы сказали то, что хотели, а теперь отпустите меня.
Рейнольдс освободил его, сам удивляясь собственной реакции. Капитан медленно привел в порядок лацканы и посмотрел на него с презрением. Сконфуженный Рейнольдс хотел было извиниться за свою выходку, но не успел открыть рот, как оказался прижатым к стене. Пистолет Макреди упирался ему в левый висок.
— Выслушайте меня хорошенько, Рейнольдс, потому что повторять я не буду, — хрипло проговорил капитан. — Никогда больше — слышите? никогда! — не смейте хватать меня за лацканы. Иначе горько пожалеете об этом.
В течение нескольких мгновений они молча глядели друг другу в глаза.
— Капитан… — Казалось, голос Рейнольдса с трудом пробивается сквозь стиснутые зубы. — Если вы не прислушаетесь ко мне, мы оба недолго проживем на этом свете и не успеем ни о чем пожалеть. Несколько минут назад Карсон сидел в моей каюте и на моих глазах, а также в присутствии артиллериста Аллана превратился в звездного монстра. Потом он попытался убить нас. Мы успели в него выстрелить, и он убежал, но прежде снова преобразился, на этот раз в самого Аллана, а затем — в гигантского паука. Вы понимаете, что я вам говорю? Эта тварь может превращаться в кого захочет, даже в одного из нас!
— Вы хотите уверить меня, что Карсон вторгся в вашу каюту, чтобы позабавить вас чем-то вроде бредового маскарада? — возмутился Макреди.
— Я сам его пригласил, потому что подозревал, — объяснил Рейнольдс. — Несколькими часами раньше, по дороге к летательной машине, я наткнулся на труп настоящего Карсона.
— Что? Труп Карсона? И какого же дьявола вы не сообщили мне об этом?
— Не счел нужным… — пожал плечами Рейнольдс, насколько это было возможно в его положении пленника.
— Не сочли нужным? — взорвался Макреди. — Да кем вы себя возомнили? Мое терпение лопнуло, Рейнольдс!
— Разве вы поверили бы мне, капитан? Вы же сами приказали вас больше не беспокоить… и ваших людей тоже… — напомнил Рейнольдс скорее с иронией, чем со злостью.
— Джентльмены… — подал голос взволнованный Аллан. — Я не думаю, что сейчас самое подходящее время, чтобы…
— Вы были обязаны сообщить мне об этом инциденте, Рейнольдс! Я капитан! — взревел Макреди. — Вы отдаете себе отчет в том, что своей игрой в героя подвергли всех нас опасности?
— Напротив, теперь я могу рассказать вам о единственной возможности спасения, какая у нас есть. Если бы я не раскрыл, какими способностями обладает пришелец, мы бы погибли.
— А если бы эта тварь не знала, что мы об этом знаем, у нас было бы преимущество! — возразил Макреди. — Чего вы добивались, приглашая его к себе в каюту?
— Я хотел поговорить с ним, — нехотя признался Рейнольдс. — Я полагал, что…
— Поговорить? — взвился Макреди, обрызгав Рейнольдса слюной. — Вы пригласили его на чай, словно одна барышня другую?
— Капитан… — робко вмешался Аллан. — Вам не кажется, что…
— А вы помолчите, сержант! — прервал его Макреди. — Я-то думал, у вас побольше мозгов, чем у этого глупца. Рейнольдс… обещаю вам, когда это закончится, я отправлю вас под арест за неподчинение власти. Как же мне хочется прямо сейчас засадить вам пулю в лоб. — Капитан замолчал, обдумывая свои последние слова. — Так вы говорите, что эта тварь способна превратиться в любого из нас? Кто может мне гарантировать, что она не приняла ваш облик? — С этими словами он погладил курок своего пистолета.
— Я могу гарантировать это, капитан, — произнес чей-то голос у него за спиной. — Я собственными глазами видел, как она удирала от мистера Рейнольдса, так что прошу вас убрать оружие.
Макреди покосился влево и увидел направленное ему в голову дуло пистолета, который крепко сжимала худая рука матроса по имени Гриффин.
— И позвольте сказать вам, что я полностью согласен с сержантом Алланом, капитан: этот разговор можно будет продолжить позже, — спокойно прибавил он.
Макреди побагровел так, что, казалось, его вот-вот хватит удар, и по очереди взглянул на каждого из троицы. Затем со вздохом отпустил Рейнольдса и, одним движением руки отодвинув с дороги Гриффина, быстрыми шагами направился к трюму. Остальные последовали за ним. В дверях уже толпились встревоженные матросы в ожидании его приказов.
— Вы уверены, что монстр прячется где-то внутри?
— Да, капитан, — подтвердил Уоллис. — Я сам видел, как он вбежал. Похож на огромного муравья… Впрочем, не так уж и похож… А размером он с хорошую свинью, хотя и на свинью тоже не похож. Скорее…
— Избавь меня от своих описаний, Уоллис, — раздраженно махнул рукой Макреди. Сказав это, он умолк. — Внимание! — наконец произнес он, выйдя из задумчивости, и бросил на Рейнольдса снисходительный взгляд. — Этот ублюдок способен принимать человеческий вид, то бишь может превратиться в любого из нас.
Его слова вызвали недоверчивый ропот среди матросов, однако никто не осмелился высказать свое мнение в полный голос. Не ожидавший такого от Макреди, Рейнольдс с облегчением вздохнул. Он поблагодарил капитана вежливым кивком, а тот указал ему рукой на матросов, приглашая обратиться к стоявшей перед ним горстке храбрецов. Рейнольдс подошел к капитану, откашлялся и начал:
— Я знаю, что это кажется невероятным, но капитан сказал правду: монстр может принимать вид любого из нас. Не знаю, каким образом… Он убил Карсона и проник на судно в его облике. Поэтому, если встретите в трюме Карсона, стреляйте без колебаний. Настоящий Карсон лежит растерзанный во льдах.
Он сделал паузу, давая возможность морякам переварить услышанное.
— Как мы узнаем, что это не один из нас? — отважился спросить Кендрикс, выразив тем самым общие опасения.
— Мы не можем этого узнать. Да, это может быть любой из нас… Например, я, — сказал Рейнольдс и выразительно посмотрел на капитана. — Поэтому мы должны быть вдвойне настороже.
— Полагаю, нам лучше разделиться на пары, — предложил Макреди. — Так будет надежней. И пусть каждый ни в коем случае не теряет из виду напарника, даже на секунду. Только так мы сможем гарантировать, что монстр не превратится в одного из нас.
— А если заметите что-нибудь необычное в поведении напарника, — снова вступил Рейнольдс, — будь то непонятный блеск в глазах, странная речь…
— Жуткое щупальце, высовывающееся из его рта… — почти неслышно добавил Аллан.
— …тут же, не колеблясь, оповещайте остальных, — закончил Рейнольдс.
— Ладно, ребята, вы все поняли, — сказал Макреди. Ему не терпелось начать охоту.
Он разбил людей на пять пар и приказал Шепарду раздать им висевшие на крючках фонари. Когда это было сделано, капитан бросил взгляд на дверь трюма и вновь обратился к команде:
— Этот сукин сын не мог бы подыскать лучшего местечка, чтобы спрятаться. Но хотя найти его будет трудновато, то, что он забрался туда, дает нам определенное преимущество: здесь всего один выход. Лейтенант, вы с Рингуолдом останетесь сторожить у дверей. Если эта тварь попробует выйти, изрешетите ее без лишних разговоров, понятно? Остальные возвращаются на нижнюю палубу и, вооружившись чем только можно, ждут там.
— А я, капитан? — спросил Рейнольдс. Ему вовсе не улыбалось остаться не у дел.
— Вы пойдете со мной.
Удивленный Рейнольдс только кивнул в ответ. Он вытащил пистолет и пристроился рядом с капитаном, демонстрируя решимость, которой на самом деле не испытывал. Меньше всего на свете ему хотелось получить в напарники Макреди, и в первую очередь потому, что он не знал, выбрал ли его капитан из-за того, что он больше всех знал о монстре — хотя положа руку на сердце все его знание сводилось к тому, как разозлить пришельца, чтобы потом пришлось стрелять, — или же потому, что считал совершенно никчемным человеком, который станет балластом для любого матроса… А может, капитан намеревался прикончить его выстрелом в спину, улучив момент, когда они останутся наедине, и тем самым раз и навсегда избавиться от его назойливого присутствия.
— Ладно, пошли ловить этого ублюдка, — распорядился Макреди.
С оружием на изготовку они вошли в трюм, пронизывая узкими лучами своих фонарей густую тьму. Рейнольдс сразу почувствовал, как покрывается гусиной кожей из-за леденящего холода, царившего здесь, — температура была никак не выше тридцати градусов. И хотя трюм занимал огромное пространство, он тотчас понял, как нелегко будет по нему перемещаться, поскольку за небольшим участком, слабо освещенным фонарями, угадывался запутанный лабиринт из выстроившихся штабелями ящиков, мешков с углем, баков с водой, корзин, бочонков и бочек, а также таинственных тюков, прикрытых парусиной и громоздившихся почти до самого потолка. Рейнольдс наблюдал, как по знаку Макреди матросы подобно призракам протискивались в узкие проходы между ящиками, и их мушкеты словно обнюхивали воздух. Великан Петерс шагал, подняв тесак размером со свою руку, и его неумолимый взгляд бросал вызов всему, что скрывалось в темноте. Гриффин, неправдоподобно тщедушный и хрупкий по сравнению с метисом, погружался в окружающую тьму с холодным спокойствием. Из всех матросов только Аллан, похоже, был так же, как Рейнольдс, уверен, что никто из них не вернется живым.
Они с Макреди избрали для себя центральный проход. Капитан медленно шел впереди с пистолетом в одной руке и высоко поднятым фонарем в другой, а Рейнольдс следовал за ним, стараясь соблюдать разумную, с его точки зрения, дистанцию: не слишком приближаясь, чтобы это не выглядело трусостью, и в то же время не особенно отставая, чтобы в случае нападения пришельца они могли бы защитить друг друга; он тоже сжимал оружие в руке, готовый выстрелить при первом же подозрительном движении. По мере того как они продвигались все дальше, темнота отступала, и в неверном свете фонаря появлялись стены узкого тоннеля, возведенные из ящиков с сухарями, ломтями лосося, солониной и шоколадом. Бесконечные ряды ящиков, поставленных друг на друг так ненадежно, что могли рухнуть, если бы Рейнольдс задел их рукой или даже просто дунул в ту сторону. К тому же света фонаря явно не хватало, и легко было споткнуться о многочисленные тюки, преграждавшие проход, — груз размещался в трюме явно несведущими людьми. Тишина окружала их такой же или даже еще более плотной завесой, чем темнота. Лишь изредка они слышали вдалеке осторожные шаги своих товарищей, выделявшиеся на фоне зловещей партитуры, которую разыгрывали льдины, сжимавшие корпус «Аннавана». Лишь огромным усилием воли Рейнольдс заставлял себя следовать за капитаном по извилистым проходам, стараясь, чтобы пистолет не дрожал в руке всякий раз, когда он оборачивался назад и ему мерещилось, будто что-то шевелится в кромешной мгле. Он был уверен, что марсианин захочет расправиться прежде всего с ним. Это было естественно: ведь именно он, Рейнольдс, его разоблачил. И охота на марсианина шла тоже по его вине. Они завернули за угол и тут неожиданно услышали выстрел.
— Кто стрелял? — крикнул Макреди, остановившись, и смешно задрал голову вверх.
— Это я, сэр! Я, Уоллис! — долетело из темноты. — Мне показалось, что я вижу монстра, вот и выстрелил, но, по-моему, не попал. Только бочку с лимонным соком пробил.
— Проклятье… — процедил Макреди, обернувшись к Рейнольдсу. — Теперь нам придется вместо лимона использовать уксус, чтобы предупредить цингу.
Рейнольдс состроил удрученную физиономию, что не понравилось капитану. Тот уже собирался сказать какую-нибудь резкость, как вдруг замер, увидев, как лицо Рейнольдса исказилось от страха: тот заметил исполинскую фигуру за спиной у капитана, в нескольких метрах от него.
— Боже мой… — прошептал Рейнольдс.
Макреди обернулся, но успел увидеть только, как фигура скользнула за ящики. Не раздумывая, он поднял вверх пистолет и поспешил по проходу туда, где скрылся пришелец. Рейнольдс же, напротив, застыл на месте, пораженный обликом, который на сей раз избрал для себя монстр. Марсианин пересек проход очень быстро, так что он не успел его толком разглядеть, но и этого времени оказалось достаточно, чтобы понять, что теперь это никакой не резвый паук. Похоже, монстр достиг следующей стадии своей метаморфозы, существо имело гораздо более устрашающий вид и, хотя смутно напоминало человека, все же было ближе то ли к демону, сошедшему со страниц старинного фолианта, то ли к гигантской химере, слетевшей из-под козырька крыши какого-нибудь собора, — несмотря на то, что существо бежало, изрядно согнувшись, создавалось впечатление, что оно выше Петерса. И это было все, что он мог сказать о пришельце. Да еще, пожалуй, ему показалось, возможно потому, что марсианин перемещался упругими шагами, что он был похож на грабителя, подлого и бесчестного. Темнота в трюме не позволила определить даже цвет его кожи.
Два выстрела вывели Рейнольдса из задумчивости. Поскольку они прозвучали где-то неподалеку, он заключил, что стрелял Макреди. Рейнольдс проглотил слюну, стараясь победить страх, проникший в каждую клеточку его тела, и, поколебавшись, пошел в ту сторону, где скрылся капитан. Не пройдя и нескольких метров впотьмах, он споткнулся о какой-то тюк и рухнул наземь рядом с мягким на ощупь содержимым одного из ящиков. Оказалось, он перевернул ящик, набитый куропатками или фазанами. Рейнольдс с трудом поднялся и продолжил свой путь, ориентируясь на слабый свет капитанского фонаря. Когда разгоряченный Рейнольдс, тяжело отдуваясь, подбежал к Макреди, тот злобно всматривался в расстилавшуюся перед ним темноту, куда не доставал его фонарь.
— Этот подонок очень быстр, — сказал он.
— Вы попали в него? — осведомился Рейнольдс, переведя дух.
— Надеюсь, что так, хотя не могу быть до конца уверен. Видели, как он выглядит? Напоминает мерзкого орангутана, правда, с чем-то вроде двойного хвоста, который…
Но прежде чем Макреди успел закончить фразу, вдалеке послышались мушкетные выстрелы, а вслед за ними — визг, крики и звуки падающих с высоты ящиков. Когда шум стих, Рейнольдс услышал возбужденные голоса матросов, утверждавших, что они подстрелили монстра, причем голоса эти, как ему показалось, доносились с разных сторон. Макреди досадливо тряхнул головой.
— Собираемся у входа в трюм! — крикнул он, и фонарь высветил облачко пара, вылетевшее у него изо рта и сделавшее его похожим на дракона из кукольного спектакля.
Обратный путь они преодолели едва ли не бегом, но, когда прибыли к месту сбора, несколько человек уже дожидалось их. Тут же подоспели остальные, и они с облегчением убедились, что их маленький отряд не понес потерь. Они столпились возле узкого прохода, и, пока капитан силился составить хотя бы приблизительную картину того, что произошло, из сбивчивых рассказов подчиненных, Рейнольдс, прислонившись к крепкому на вид штабелю ящиков, взирал на эту сцену со странным равнодушием: после того как перед ним промелькнул пришелец в грозном и ужасном облике, какой не привидится и в горячечном бреду, мысль о том, что любая их попытка выжить бесполезна, все больше овладевала им, а эйфория, охватившая его, когда ему удалось живым выбраться из каюты, рассеивалась. Впрочем, нельзя поддаваться мрачным мыслям, сказал он себе, иначе впадешь в отчаяние, а это в нынешних обстоятельствах хуже всего. Нужно по-прежнему верить, что надежда на спасение остается, какой бы призрачной она ни была.
— Думаю, я в него попал, — утверждал взволнованный Рингуолд.
Рейнольдс с недоверием разглядывал его, как, впрочем, и других матросов, потому что все утверждали одно и то же. Внезапно по лбу матроса поползла капля крови. За ней последовала другая, и вскоре это был уже целый ручеек, стекавший по щеке к губам. Потрясенный Рингуолд поднес руку ко лбу и, убедившись, что это не его, а чужая кровь, льющаяся откуда-то сверху, поднял голову к потолку. Его примеру последовали остальные. На самом верху высокого штабеля они заметили нечто, напоминавшее человеческое тело, хотя ясно можно было различить только болтавшуюся в пустоте и вывернутую под невозможным углом ногу.
— Боже правый… — в ужасе прошептал лейтенант Блейр.
— Почему он его туда забросил? — дрожащим голосом спросил Кендрикс.
Словно завороженные рассматривали они свисавшую сверху ногу, напоминавшую большой вопросительный знак, пока постепенно к ним не вернулась способность соображать. И тогда море голов в косынках пришло в движение: матросы озирались по сторонам, чтобы с растущим страхом снова и снова убедиться в том, что никто из их товарищей не исчез.
— Черт побери! — прорычал Макреди, взбешенный поведением монстра, который не ограничился бегством от охотников, как поступил бы обычный зверь. — Кто терял из виду своего напарника?
Матросы пожимали плечами, обмениваясь недоверчивыми взглядами. Вроде бы ни одна из пар ни на миг не разлучалась. Но такого не могло быть, подумал Рейнольдс. И тут же вздрогнул от леденящего ужаса, вспомнив, что это он, да, он на несколько минут потерял из виду Макреди. Это случилось как раз после появления монстра. Его дальнейшие действия, казалось, были продолжением его мыслей: он повернулся к капитану, чтобы направить на него свой пистолет, но Макреди, видимо, пришел к такому же выводу, потому что Рейнольдс увидел нацеленное на него дуло. Матросы в ужасе наблюдали за их действиями. На несколько секунд в трюме воцарилась тишина.
— Если бы я был монстром, Рейнольдс, — проговорил наконец Макреди, взводя курок, — то заменил бы собой вас, чтобы не вызвать подозрений.
Рейнольдс неприязненно поморщился.
— На этот раз я не стану терять время на разговоры с тобой, кем бы ты ни был, — ответил он. — Три.
От выстрела Рейнольдса голова Макреди дернулась и откинулась назад. Потом вернулась в прежнее положение и удивленно посмотрела на него, словно не верила, что он действительно выстрелил. Затем ноги у капитана подкосились, и он на глазах у команды во весь рост рухнул наземь. Рейнольдс недоверчиво покосился на него: он и представить себе не мог, что избавиться от монстра окажется таким легким делом.
— Боже мой, да он же убил капитана! — изумленно воскликнул лейтенант Блейр.
Рейнольдс повернулся к матросам и поднял руку, успокаивая их.
— Не волнуйтесь. Это не капитан Макреди, а монстр. Я все же выпустил его из виду на минуту-другую. Монстр воспользовался этим, чтобы убить капитана и принять его облик, — объяснил он. Затем вновь повернулся к телу капитана, тот лежал навзничь посреди круга, образованного членами экипажа. — Понаблюдайте внимательнее за ним, и вы увидите, как восстановится его истинный облик.
Матросы не стали высказывать вслух свои сомнения и с любопытством обратили взоры на труп. Смерть наконец-то стерла неизменно недовольное выражение с его лица, и теперь оно выглядело на удивление приветливым, почти добрым, куда более подходящим для переселения в потусторонний мир без боязни возбудить к себе неприязнь или страх со стороны обитающих там душ. Однако проходили минуты, а его внешность не менялась, чего нельзя сказать о настроении матросов, которым это зрелище быстро наскучило. Неужели монстр мог сохранять чужое обличье и после смерти? — думал Рейнольдс, которого начинали тревожить обращенные на него недоверчивые взгляды матросов. Он повернулся к ним, шутовски пожимая плечами.
— Видимо, нам придется подождать еще немного… — извиняющимся тоном произнес он.
Аллан робко заметил:
— Вспомните, что, когда он превращался в каюте, он был только ранен…
— Возможно, дело в этом… — Рейнольдс старательно улыбнулся. — Очевидно, он не может принять свой истинный вид, будучи мертвым.
— Но где же тогда гарантия того, что он не находится по-прежнему среди нас? — нервно спросил лейтенант Блейр.
— Все очень просто: я же был единственным, кто терял из виду своего напарника, — объяснил Рейнольдс.
— А капитан Макреди — вас… — Гигант метис вышел вперед со своим тесаком в длинной руке, и его слова прозвучали в трюме как гром среди ясного неба.
— Вы же не думаете, что… Боже мой… — испуганно забормотал Рейнольдс. — Я не монстр, черт побери! Аллан, прошу вас…
Артиллерист грустно кивнул в ответ, явно ошеломленный столь беспорядочным и стремительным развитием событий.
— Выслушайте меня, пожалуйста… — начал он севшим голосом. — Я видел, как это существо превращалось в человека. В Карсона и в меня самого. И хотя оно способно создать точную копию, могу заверить вас, что все равно она чем-то отличается от оригинала. Этот человек — Рейнольдс, поверьте мне!
— А в чем это отличие, сержант? — спросил лейтенант Блейр, неприязненно рассматривая Рейнольдса.
— Затрудняюсь точно ответить… — еле слышно пролепетал Аллан, и его слова утонули в оживленных репликах матросов.
— Послушайте! Есть куда более простой способ это выяснить. — Резкий голос Гриффина пронзил людской гомон, словно узкий луч света — темноту. — Спустим тот труп сверху и узнаем, кто это.
Все некоторое время молчали, недоумевая, как им самим не пришло в голову столь явное решение.
— Верно! — рявкнул Петерс, угрожающе потрясая своим тесаком. — Пусть два человека спустят тело, но только, бога ради, при этом они должны быть уверены, что ни на миг не теряли друг друга из виду. А мы пока постережем мистера Рейнольдса. Прошу прощения, сэр, — он направил клинок на шею путешественника, — но вы только что стали лишней половинкой единственной распавшейся пары.
Шепард и Уоллис шагнули вперед в едином порыве.
— Мы займемся этим, — заверил Шепард. — Мы полностью уверены, что ни на шаг не отходили друг от друга, правда, Уоллис?
— Да, Шепард. Мы все время были вместе, — подтвердил тот, с тревожащей пристальностью глядя прямо перед собой.
— Неразлучны, как сиамские близнецы, — улыбаясь произнес Шепард каким-то странным голосом, похожим на свой и в то же время немного искаженным, словно язык у него во рту еле-еле ворочался. И без какого-либо перехода этот самый голос, к удивлению присутствующих, зазвучал снова, но только из уст Уоллиса:
— Ты верно сказал, Шепард. Неразлучны, как семейная пара. Более того, даже смерть не в силах нас разлучить…
В смятении Рейнольдс переводил взгляд с одного матроса на другого, пока не заметил плотную паутину из липких волокон, соединявшую правый сапог Шепарда с левым сапогом его товарища. В это мгновение он понял, что убил Макреди напрасно. И тут же ощутил, как в каком-то неопределенном уголке его тела, возможно в спинном мозге, рождается ужас в самом что ни на есть чистом виде и постепенно, через сеть нервов, распространяется по всему телу, стараясь парализовать его, лишить энергии, воли, чего-то, что наделяло его способностью двигаться.
То, что произошло вслед за этим, с трудом поддается описанию. Наверное, у более опытных рассказчиков — и тут мне приходят на ум имена Оскара Уайльда и Дюма — не возникло бы таких сложностей, но, к сожалению, описывать случившееся выпало мне. Понимая это, я постараюсь подбирать слова как можно осторожнее, дабы, по крайней мере, не запутать вас окончательно. А случилось вот что: никто и глазом моргнуть не успел, как тела Шепарда и Уоллиса начали таять, словно глиняные фигурки под проливным дождем, и сплавляться воедино. Исказившиеся черты матросов плавали в клейком потоке, как кусочки мяса в бульоне, соединяясь в дикую смесь глаз, губ и волос. Несмотря на страх, Рейнольдс не мог оторвать глаз от процесса превращений монстра, поскольку с каждой секундой этот желеобразный осадок выглядел все более чудовищным. Внезапно, подобно дрожжевому тесту в печи, клейкая масса начала подниматься и затвердевать в плотную фигуру с удлиненным телом, снабженным мощными мышцами, которое почти целиком покрывала красноватая шерсть, напоминавшая морские водоросли. Когда существо окончательно приобрело твердое состояние, Рейнольдс убедился, что его руки и ноги действительно заканчивались длинными и острыми когтями, а то, что он считал головой, поскольку она располагалась между плечами, приняло вид кошмарной помеси двух голов — волка и ягненка, ибо тут присутствовали как хищный оскал, так и подобие витых рогов по обеим сторонам черепа. Существо осклабилось, выставив целый ряд острейших клыков. В следующее мгновение оно повернулось к Фостеру, который, к несчастью, стоял справа от него, и молниеносным движением погрузило одну из своих когтистых лап в брюшную полость матроса, а затем извлекло оттуда пригоршню внутренностей и разбросало их по полу. Аллан побледнел при виде того, что шлепалось к его ногам, и его чуть было не вырвало, но в этот миг лапа монстра схватила его за горло и подняла в воздух словно марионетку. Артиллериста ждала неминуемая смерть, но, к счастью, Петерс вышел из столбняка, охватившего команду, и, подняв тесак, ринулся к монстру. Он нанес ему удар по плечу. Лезвие с поразительной легкостью погрузилось в плоть, заставив монстра издать жалобный вопль, эхом разнесшийся по трюму. Он инстинктивно разжал когти, освободив артиллериста. Кашляя и задыхаясь, Аллан покатился по полу, в то время как метис извлек свой тесак из тела противника, разбрызгав вокруг капли зеленоватой жидкости, и готовился нанести новый удар. Но на этот раз марсианин оказался проворнее. Он перехватил руку метиса в районе запястья и без видимых усилий сломал ее, подобно тому как ребенок ломает прутик. Петерс сделался бледный как полотно и молча смотрел на свою вывернутую под неестественным углом руку и на обнажившуюся в локте кость, но его страдания были недолгими: вторым невероятно быстрым движением монстр обезглавил его. Голова метиса с глухим стуком ударилась о ящики и покатилась по полу, сохраняя удивленное выражение, с которым Петерс встретил свою мгновенную смерть. Монстр повернулся к остальным членам команды, но тут Гриффин с поразившим Рейнольдса спокойствием поднял свой мушкет, прицелился и выстрелил прямо в грудь марсианину. Сделанный с близкого расстояния выстрел опрокинул того назад. Этим стычка закончилась, и люди наблюдали за тем, как монстр корчился на полу, изо всех сил стараясь снова изменить свой облик.
— Добей его, Кендрикс! — приказал лейтенант Блейр матросу, стоявшему ближе всех к марсианину.
Притаившийся возле ящиков Кендрикс с лицом, забрызганным зеленоватой кровью, среагировал не сразу. А когда шагнул в сторону монстра, тот уже снова принял вид чего-то паукообразного, как тогда в каюте Рейнольдса, и бросился бежать к выходу из трюма, сразу же затерявшись в темноте.
— Куда же ты, дьявольское отродье? — завопил Кендрикс и бросился его преследовать.
Лейтенант Блейр, Гриффин и все остальные поспешили за ним, и Рейнольдс внезапно остался в трюме один, на этот раз целый и невредимый в окружении погибших товарищей. При свете единственного фонаря, который, упав на пол, не погас во время схватки, он убедился, что ничем не может им помочь, разве что Аллану, который сидел, прислонившись к ящикам, с блуждающим взглядом, безучастный к происходящему. Первым побуждением Рейнольдса было бежать оттуда сломя голову и искать надежного убежища, бросив юношу на произвол судьбы, но что-то помешало так поступить. Только что, когда все поверили, что монстр вселился в него, Рейнольдса, и собирались хладнокровно прикончить его, именно Аллан вступился за него, не побоявшись пойти против всей команды. Нельзя забыть и того, что юноша согласился спрятаться в его шкафу. Но стоило ли в благодарность за преданность жертвовать собственной жизнью? — подумал он, еще раз продемонстрировав свой неистребимый практицизм. С каких пор его душа тянулась к такому типу отношений? Теперь он в них больше не нуждался и мог оставить Аллана. Если же он попытается вынести юношу, оба они станут легкой добычей марсианина. В этот миг артиллерист приподнял голову. Рейнольдсу показалось, что он вышел из забытья, по крайней мере частично, поскольку сумел найти его взглядом и прошептать:
— Рейнольдс… Рейнольдс…
— Я здесь, дружище, — откликнулся тот и завел руку юноши себе за плечо, чтобы помочь ему встать на ноги.
— Где остальные? — еле слышно спросил Аллан.
— Наш марсианин уже проверил груз в трюме и теперь отправился инспектировать другие помещения. По-видимому, он хочет убедиться, что плавать с нами безопасно, — пошутил Рейнольдс, и на лице юноши появилась слабая улыбка. — Вы можете встать?
Аллан кивнул, но, когда с помощью Рейнольдса попробовал подняться, нога у него подвернулась, и он со стоном вновь опустился на пол.
— Проклятье, кажется, я вывихнул лодыжку… — тихо пожаловался он. — Что же нам теперь делать?
— Не знаю, Аллан, — ответил Рейнольдс и, отодвинув носком сапога голову метиса, уселся рядом с юношей, словно признав свое поражение. — Если вы не можете ходить, нам, по-видимому, придется остаться здесь и ждать… Это место ничем не хуже прочих. Если монстр вернется, нам есть чем его встретить. — И он указал на пистолеты, которые продолжали сжимать в руках Макреди и Фостер.
— Идите на помощь нашим, Рейнольдс, — с трудом произнес юноша. — Я как-нибудь выкручусь. Вам незачем оставаться со мной.
Рейнольдс сделал вид, что возмущен.
— Нет, Аллан. Вы только что защитили меня от команды, подтвердив, что я не монстр, хотя у вас не было никаких доказательств… — начал он.
— Доказательство у меня как раз было. Я видел, с каким выражением вы целились в капитана Макреди и… удовлетворение, написанное на вашем лице, когда появился хороший предлог, чтобы выстрелить в него, показалось мне сугубо человеческим чувством.
Рейнольдс снова восхитился труднопостижимым, темным и блестящим умом Аллана. Вдалеке послышался голос Кендрикса.
— Я нашел его, лейтенант! — кричал он. — Это дьявольское отродье спряталось в пороховом погребе!
— Осторожней, Кендрикс! — предупредил лейтенант. — Не вздумай там стрелять!
И тут же раздались выстрелы.
— Черт бы тебя побрал, Кендрикс, я же сказал, что…
Взрыв заглушил последние слова лейтенанта. Рейнольдс и Аллан услышали его из трюма и сразу же ощутили, как содрогнулся корабль. Гора ящиков, под которой они сидели, тоже задрожала, и Рейнольдс едва успел оттолкнуть Аллана в сторону и последовать за ним, прежде чем на то место, где они сидели, обрушились тяжелые короба, наполненные бараньими ребрами.
— Будь ты проклят, Кендрикс! — выругался Рейнольдс, вставая и стараясь поднять артиллериста, который ухватился за него и жалобно застонал, наступив на поврежденную ногу. — Пойдемте, Аллан, — подбадривал он его. — Нам нужно идти. Оставаться здесь — теперь уже не самый лучший выход. Обопритесь на меня.
Еще не утихло эхо этого взрыва, как раздался второй, сопровождаемый новым толчком, и Рейнольдс понял, что хранящиеся в пороховом погребе ящики с боеприпасами и бочонки с порохом начали взрываться один за другим. В считанные минуты волна взрывов могла стать по-настоящему опасной и разнести корабль в щепки. Надо было покинуть его как можно скорее, что он и пытался втолковать Аллану. Он потянул артиллериста к люку, ведущему на палубу, где размещались матросский и офицерский кубрики. Из тесного коридора, за которым находился пороховой погреб, вырывались клубы черного дыма, постепенно распространявшегося по трюму. Рейнольдс решил, что преследовавшие монстра матросы погибли, более того, осмелился предположить, что погиб и сам монстр, но у него не было времени помолиться за их несчастные души. Они достигли нижней палубы, и глава экспедиции задумался над тем, что делать дальше, но не успел дать никаких наставлений Аллану — судно потряс новый взрыв, гораздо более мощный, чем предыдущие. От взрывной волны пол на палубе во многих местах вздыбился, а несколько балок взлетели в воздух и рухнули на груду инструментов и сундуки. Рейнольдса сильно ударило об одну из переборок, протащило несколько метров по полу и швырнуло на кучу обломков, отчего он перестал что-либо соображать. Темная пелена постепенно овладевала его сознанием.
— Рейнольдс…
Голос Аллана вывел его из забытья. У него болели все кости, и тем не менее он был цел. Рейнольдс приподнялся и поискал глазами юношу, пытаясь разглядеть его в густом дыму, заволокшем все вокруг. От взрыва масляные лампы слетели кое-где со своих крючков, и теперь там и сям разгорались небольшие костерки, грозившие распространиться во всех направлениях благодаря обилию дерева, из которого полярный холод изгнал все следы сырости. Аллана он не увидел, но различил поблизости чей-то силуэт: человек направлялся к арсеналу спокойным шагом, словно грешник, который за долгие годы пребывания в аду научился перемещаться по нему с завидной непринужденностью. Это был Гриффин, тот самый странный матрос, который, похоже, не побежал вслед за всеми к пороховому погребу и тем самым спас себе жизнь, но сейчас, вместо того чтобы покинуть корабль, что было бы естественно, собирался запастись оружием, словно считал, что битва с монстром еще не проиграна.
— Рейнольдс… — снова застонал где-то в углу Аллан.
Теперь он разглядел юношу, погребенного под обломками балок. Пока он был жив, но положение могло быстро измениться, если Рейнольдс не освободит его и не поможет выбраться с корабля. На этот раз он не колебался. Нет, он встал и, покачиваясь, двинулся к Аллану. Тот был пока в сознании, но его глаза лихорадочно блестели из-под спутанных волос, напоминая подрагивающее на ветру пламя свечи. Рейнольдс с трудом вытащил его из-под обломков, поставил на ноги и повлек за собой к ближайшему люку. Подъем вновь потребовал напряжения всех сил. Наконец они ступили на палубу «Аннавана», и царивший снаружи холод показался Рейнольдсу омолаживающим бальзамом. Но опасность не миновала. Они все еще находились на корабле. Не теряя времени, Рейнольдс огляделся и определил, с какой стороны расположен снежный трап. Подталкивая Аллана, он подвел его к самому краю, обнял обеими руками, и они скатились по склону, а за их спиной корабль затрясся от нового взрыва.
Оказавшись внизу, Рейнольдс вновь поставил Аллана на ноги и тащил за собой, пока они не удалились от «Аннавана» на разумное, по его мнению, расстояние. Потом оба без сил повалились в снег неподалеку от клетки с беснующимися собаками и оттуда, постепенно восстанавливая дыхание, зачарованно наблюдали, словно зрители на специально устроенном представлении, за медленным и неизбежным разрушением корабля. Взрывы происходили с интригующими интервалами и в зависимости от мощности то производили разрушения в корпусе судна, то всего лишь легонько покачивали его на ледяном постаменте, словно заботливая нянька колыбель. А между тем огонь, прожорливый и неостановимый, уже охватил мостики. Внушительные языки пламени вырывались с полубака и тут же, словно огненные змеи, обвивались вокруг рангоутов и мачт. Несколько матросов, объятых пламенем, прыгнули с палубы за борт. Эти несчастные прятались от монстра в каком-то укромном уголке корабля, и взрывы не позволили им вовремя покинуть судно. К счастью, из-за расстояния до ушей зрителей не долетал звук ломающихся при падении с такой высоты костей. Рейнольдс увидел, как плотное облако дыма, похожее на грозовую тучу, поднялось над палубой в качестве зловещей увертюры к ужасающему взрыву, который тут же последовал, разметав во все стороны обломки дерева, железа и части человеческих тел. Рейнольдс бросился ничком на снег, закрыв голову руками, в то время как Аллан продолжал сидеть рядом, зачарованно наблюдая за смертоносным дождем, словно ребенок, любующийся фейерверком. Ледяные горы подхватили и умножили оглушительный грохот до такой степени, что, казалось, даже воздух раскололся на тысячи кусков. Когда эхо смолкло, один лишь визг собак мешал сказать, что наступила гробовая тишина.
Рейнольдс медленно встал, с облегчением убедился, что ни один обломок не угодил в Аллана, который продолжал сидеть на снегу, словно приехал на пикник. В результате последнего взрыва на месте корабля осталась лишь куча деревянных обломков и искореженного железа, над которой поднималась струйка дыма, а вокруг на снегу виднелись полусгоревшие и искалеченные трупы. По чистой случайности его глаза остановились на одном из них, который еще дымился, словно догорающий факел.
Тем временем труп, который он отстраненно рассматривал, едва заметно пошевелился. Рейнольдс с удивлением наблюдал за ним, не понимая, как можно выжить после такого взрыва. Внезапно он заметил, что поднимающаяся из снега фигура слишком велика для человека. Со смешанным чувством ужаса и бессилия смотрел он, как выпрямляется марсианин — огромный, невредимый, неуязвимый. Он пережил взрыв без особого вреда для себя. Огонь уничтожил шерсть у него на плечах, но, похоже, марсианин этого даже не заметил. Встав на ноги, он принюхался, огляделся по сторонам и увидел их, сидевших в снегу в каких-нибудь двадцати метрах, — и живых, вызывающе живых. Он не спеша заковылял к ним по льду. Рейнольдс взглянул на Аллана. Юноша тоже увидел монстра и следил за его передвижениями.
— Боже, сжалься над нашими несчастными душами, — расслышал его шепот Рейнольдс.
Он снова перевел взгляд на марсианина, который неуклонно приближался к ним. Однако Рейнольдс прикинул, что у него хватит времени для последней попытки покончить с монстром. Он вскочил на ноги и, покинув Аллана, побежал к клетке с собаками, которые с бешеным лаем бросались на решетку. С помощью своего пистолета он сбил замок, распахнул дверцу и отошел в сторону, молясь, чтобы собаки лаяли от ярости, а не от страха. И возблагодарил небеса, увидев, как, оказавшись на свободе, дюжина псов с рычанием устремилась к марсианину. Этот его ход оказался неожиданностью для монстра, который приостановился и стал вглядываться в летящую к нему свору. Ее вожак с ходу прыгнул на марсианина, излив на него всю злобу, накопившуюся в собаках со времени появления на борту корабля фальшивого Карсона. Не прилагая особых усилий, одним ударом лапы марсианин разрубил пса надвое еще в воздухе. Однако это не испугало остальных собак. Своим ограниченным умом они были не в состоянии понять, что могут разделить участь вожака, и, не обращая ни на что внимания, ринулись на монстра со всей первобытной яростью, как отважные солдаты, верные воинскому долгу, ибо, по-видимому, не могли уклониться от последнего проявления преданности человеку. Рейнольдс смотрел, как они вцепились в тело монстра мощными челюстями, но тот в считанные секунды одних расшвырял в стороны, других с помощью когтей обезглавил, после чего стало понятно, что атака обречена. Им оставалось только спасаться бегством, Рейнольдс метнулся к артиллеристу и опять поставил его на ноги. Потом бросился бежать в обратном направлении, практически волоча за собой Аллана, и слышал за спиной визг раздираемых на части собак. Две из них пролетели над их головами, превращенные в бесформенные куски окровавленной плоти, и глухо ударились об лед.
Неожиданно Рейнольдс почувствовал, что у него нет больше сил, и в изнеможении остановился. Потеряв поддержку его рук, Аллан упал на колени, обратив к нему усталый взор. Рейнольдс оглядел нескончаемые ледяные поля впереди, вдруг оказавшиеся для него невыносимо тесными, и понял, что нет никакого смысла сопротивляться, лишь продлевая агонию. Он набрал в легкие воздуха и покорно повернулся лицом к марсианину, который медленно приближался к ним по снегу со свисавшими по бокам двумя мертвыми собаками, так и не разжавшими свои челюсти, в качестве мрачного украшения. Рейнольдс вытащил из-за пояса пистолет, некоторое время смотрел на него, размышляя о возможности использовать оружие в последний раз, и в конце концов зашвырнул его в снег. Уже не было нужды в героических и отчаянных жестах, ибо никто на него не смотрел. Этот спектакль с первого акта проходил без зрителей. Монстр остановился метрах в десяти и, набычившись, рассматривал их. Рейнольдс не знал, жалость ли таилась в его взгляде или насмешка, потому что, как сказал ему тогда в каюте марсианин, его мимика и жесты были слишком отличны, чтобы можно было их верно интерпретировать. Тут ему вспомнился глупый пример с армией слепых, с помощью которого он пытался просветить монстра, и Рейнольдс грустно улыбнулся. Единственное, чего он хотел сейчас, это чтобы кошмар кончился как можно скорее. Но тут монстр издал нечто похожее на крик животного. Теперь, когда он не пользовался голосовыми связками человека, звучал его истинный голос, напоминающий карканье дрессированного ворона, который пытается заговорить. Рейнольдс, естественно, не смог ничего разобрать, но в самом тоне ему почудились победные нотки. И он приготовился к жестокой смерти. Наклонил голову и опустил руки в знак того, что сдается, а может, по причине страшной усталости или даже равнодушия к собственной участи. Его взгляд задержался на пистолете, который он столь беспечно отбросил несколькими мгновениями раньше, и новая идея родилась в его голове. Зачем погибать медленной и страшной смертью от рук марсианина, когда он в состоянии исполнить это сам? Выстрел в висок — и все произойдет быстро и аккуратно. Он перевел взгляд на лежащего Аллана: юноша прижался щекой ко льду и, казалось, рассматривал какие-то видимые только ему одному картины. Тем временем монстр подходил все ближе и ближе, продвигаясь вперед с неторопливостью паука, наслаждающегося видом беззащитной жертвы, тем не менее Рейнольдс сомневался, что успеет выстрелить в Аллана, перезарядить пистолет и всадить пулю себе в голову раньше, чем марсианин доберется до них. Нет, времени хватит только на то, чтобы убить себя. В любом случае артиллерист, похоже, уже отыскал себе убежище где-то за гранью сознания и здравого рассудка.
— Мне очень жаль, Аллан, — прошептал он, торопливо подобрал свое оружие и взвел курок. — Видимо, даже в конце мне не суждено достичь величия, о котором я столько мечтал.
Но это было уже не важно. Героический и бескорыстный поступок в последние мгновения жизни все равно ничего не менял. Он приставил пистолет к виску, нежно, чуть ли не с любовью поглаживая курок. И тут заметил, что марсианин, словно поняв, что Рейнольдс хочет испортить ему удовольствие, прибавил шагу и вдобавок угрожающе выставил вперед свои когти. Рейнольдс улыбнулся. Ему все равно не успеть, как бы он ни торопился, подумал он, вдыхая запах падали и хризантем. Запах монстра. Он тоже исчезал, когда марсианин перевоплощался в человека.
— Увидимся в аду, скотина, — пробормотал Рейнольдс, готовясь спустить курок и рассеять по снегу свои заветные мечты.
Но вдруг, к удивлению не только Рейнольдса, но и самого марсианина, последний остановился, поднял свою уродливую голову к небу и заревел страшным голосом за секунду до того, как из его груди высунулся наконечник гарпуна. Марсианин растерянно ухватился за него когтями, и Рейнольдс, опустив пистолет, наблюдал, как монстр, корчась от боли, пытался извлечь гарпун, причем его черты начали тут же расплываться и таять. И на их месте поочередно возникали лица то Уоллиса, то Шепарда, а затем и юного артиллериста. Появление матроса Карсона с искаженным от крика ртом и выпученными глазами положило конец этой карусели превращений, этой веренице корчащихся от боли тел. И тут Рейнольдс увидел, что человек, метнувший гарпун, не поленился прикрепить к нему пару динамитных патронов. Не теряя ни секунды, он бросился на Аллана и накрыл его своим телом. В следующий миг раздался оглушительный рев, и марсианин разлетелся на мелкие кусочки, усеявшие все вокруг. Только когда вновь воцарилась тишина, совершенно ошеломленный Рейнольдс, которому вдобавок от взрыва заложило уши, осмелился поднять голову. И сквозь постепенно рассеивающуюся дымную пелену он различил в полярных сумерках невозмутимую фигуру матроса Гриффина.
X
Этими героическими и мужественными действиями, которые давно мечтал совершить сам Рейнольдс, матрос Гриффин не только покончил с монстром и тем самым спас жизнь ему и Аллану, но также не позволил нам, тем, кто внимательно следил за их приключениями, узнать, что произошло бы, если бы он не вмешался. Хватило бы на самом деле у Рейнольдса духу выстрелить себе в голову или бы он предпочел подобрать последние крохи на дне котла жизни, зная, что тем самым обрекает себя на мучительную смерть? Удалось бы им спастись благодаря какому-нибудь другому чуду, чему-то неожиданному и не зависящему от их воли? Или же, напротив, гениальная идея осенила бы одного из них, блестящего и измученного Аллана либо самолюбивого и мечтательного Рейнольдса, подсказав, как поставить мат противнику in extremis[2] на этой ледяной доске? Совершенно очевидно, что чудесное вмешательство Гриффина спасло жизнь обоим, тут не о чем спорить, однако точно так же очевидно, что оно лишило нас ответов на все эти вопросы. Представим себе на миг, что было бы, не появись Гриффин столь вовремя; более того, представим, что этот загадочный матрос вообще никогда не ступал на палубу «Аннавана». Согласитесь со мной: история развивалась бы совершенно иначе, причем то же самое произошло бы, если бы мы убрали со сцены любого другого члена экипажа. Конечно, не все они играли в ходе событий столь определяющую роль. Если мы, допустим, исключим из повествования кока, невзрачного толстячка, откликавшегося на звучное имя Данн, то от этого ровным счетом ничего не изменится, не считая ежедневного рациона команды или количества рома, похищенного этим субъектом из кладовки, о чем я до сих пор не упоминал, ибо предпочитаю без крайней необходимости не бросать тень на человечество, изображая пороки отдельных его представителей. Никаких особых изменений в нашей истории не произошло бы и при отсутствии в составе команды Уоллиса или Рингуолда и появлении вместо них Поттера и Грейнджера, пришедших наниматься, когда экипаж был уже набран, и в итоге завербовавшихся на другой корабль, где первый зарезал второго во время игры в карты. Оба повели бы себя точно так же, как их предшественники, я уверен в этом, потому что, на свое счастье или несчастье, умею видеть и другие возможности, которые вызревают за пределами нашего мира, вырастают там, подобно цветам в соседском саду. Однако для событий, в которые мы сейчас погружены и которые напрямую затрагивают судьбы Рейнольдса и Аллана, возможно, уже заслуживших ваши симпатии, появление Гриффина не могло не сыграть важнейшую роль.
Так что, если вы не имеете ничего против, то позвольте снова рассказать вам то же самое, но без досадного участия героического матроса. Итак, заставим его исчезнуть из повествования, выкрадем его, словно яйцо кукушки из чужого гнезда, чтобы восстановить ход событий, предначертанный Природой. Вообразите, что Гриффин не нанимался на «Аннаван» и корабль отправился навстречу своей роковой судьбе, имея на борту на одного матроса меньше. Это привело бы не только к тому, что Данн теперь ежедневно готовил бы на одну порцию меньше и что ведро с нечистотами опоражнивалось чуть реже, но и к более важным последствиям. Например, без Гриффина никто бы не обратил внимания на то, что прочертивший небосвод и упавший в горах объект, по-видимому, кем-то управлялся. У Рейнольдса не нашлось бы собеседника по дороге к летательной машине, и другой матрос помог бы ему подняться на борт «Аннавана» после того, как он обнаружил труп Карсона во время безумных блужданий во льдах. И никто не остановил бы капитана Макреди, когда тот приставил Рейнольдсу пистолет к виску и пригрозил убить его, намекая, что Рейнольдс может оказаться монстром. Но прежде всего, и это по-настоящему важно для нас, никто не вонзил бы гарпун в марсианина как раз в тот момент, когда он собирался лишить жизни Рейнольдса и Аллана. И что бы тогда произошло? Как бы продолжилась охота? Закройте глаза и забудьте обо всем, что я вам успел рассказать. Понимаю, что вы почувствуете легкое головокружение, ибо нет ничего в мире, что вызвало бы у человека большее уныние, чем обнаружить, что неизбежного, оказывается, можно было избежать. Но положитесь на меня: этот новый рассказ не станет лишним, я ручаюсь. Вернемся к тому моменту, когда монстр, расправившись с собаками, останавливается напротив них, провозглашает свою победу жутким карканьем и зловеще тянется к ним когтистыми лапами, в то время как Рейнольдс поглаживает курок своего пистолета, направленного себе в висок. А теперь посмотрим, как разворачивались бы события, если бы Гриффин не отправился в плаванье на «Аннаване», вырвавшись из-под власти женщины, чтобы угодить в лапы звездному демону.
Находясь в шаге от смерти, Рейнольдс смотрел на приближающегося монстра, мощного, бесчеловечного, громадного. И поймал себя на том, что им овладело странное спокойствие. Он уже не ощущал ни страха, ни радости, ни бессилия. Вообще ничего. Он израсходовал свой запас эмоций за последние часы, ставшие такими расточительными. Теперь он был пуст, и единственным, что еще кое-как тлело в его душе, было ужасное равнодушие к своей участи. Казалось, что все это происходит не с ним и он только наблюдает за собой откуда-то издалека, словно птица, которая как раз сейчас пролетала мимо и с легким любопытством посматривала на странную картину, разворачивавшуюся там, внизу, где обычно никогда ничего не происходило. Рейнольдс погладил курок и чуть-чуть нажал на него. И тут увидел, что марсианин, словно поняв, что он хочет лишить его развлечения, прибавил шагу и угрожающе выставил вперед свои когти. Рейнольдс усмехнулся, следя за противником широко раскрытыми глазами. Он решил не закрывать их до самого выстрела, чтобы унести с собой в потусторонний мир гримасу разочарования, которую, несомненно, скорчит марсианин, когда поймет, что жертва ускользнула от его лап. Будет ли ему больно или же он ничего не почувствует, когда пуля заставит его мозг разлететься на множество мыслей и его заветные мечты рассеются по снегу? «Как легко разрушить человека и все то, что он воображает, — подумал Рейнольдс. — Какими простодушными они были, полагая, что это могучее существо, превосходящее самые смелые фантазии человека, можно уничтожить с помощью их жалких средств! А оно словно воплощало собой само Зло, несокрушимое и вечное».
— Увидимся в аду, скотина, — пробормотал он, рассматривая глазами энтомолога, не испытывающего ни страха, ни каких-либо других чувств, исполинскую фигуру монстра, его чудовищные пропорции и мощную мускулатуру.
Он лениво прикинул, сколько тонн может весить подобное существо. Больше, чем бык? Меньше, чем слоненок? И тут неожиданно в его голове, словно вспышка молнии, возникла абсурдная идея, заставившая ослабить палец на спусковом крючке. А что, если?.. Впрочем, стоило ли пробовать? Он взглянул на Аллана, лежавшего в снегу. Изменение в планах нарушит его покой, но, возможно, он этого даже не заметит, коль скоро Рейнольдсу удастся спасти его от смерти в когтях у монстра, правда, лишь для того, чтобы предложить ему взамен другую смерть — от истощения или обморожения. Резким движением Рейнольдс отвел пистолет от виска и направил его на марсианина, явно застав того врасплох. Вслед за этим он без всяких колебаний и особых надежд деловито выстрелил ему в голову, словно выполнял какую-то формальность. Получив пулю, монстр повалился на лед, и, хотя Рейнольдс знал, что так с марсианином не покончить, он надеялся, что, по крайней мере, у него появится достаточно времени, чтобы осуществить свой план. Не теряя ни секунды, он вновь поднял артиллериста и заставил его бежать, на этот раз в сторону разрушенного корабля, но не напрямик, а обогнув лежащего демона.
— Беги, Аллан, беги изо всех сил! — подбадривал он артиллериста, который старался прибавить, беспорядочно размахивая руками и тем самым растрачивая последние запасы энергии.
Рейнольдс бежал рядом, следя, чтобы юноша не свернул в сторону, и время от времени поглядывал через плечо на монстра. Оправившись после выстрела, марсианин поднялся и, несколько сбитый с толку, все же возобновил преследование, хотя пока что передвигался не слишком быстро, словно уверенный в себе грабитель, знающий, что жертве некуда бежать. «Это к лучшему», — подумал Рейнольдс. И остановил артиллериста возле кучи обломков, чтобы перевести дух. Скользнув взглядом по гальюну Макреди, нелепо венчавшему гору балок и брусьев, он быстро обернулся и удостоверился, что марсианин продолжает их преследовать, совершая теперь все более длинные прыжки. Улыбаясь про себя, Рейнольдс обогнул корабль, подталкивая Аллана, и они ступили на ледяную площадку вдоль левого борта, куда покойный Макреди запрещал им заходить. Аллан посмотрел на Рейнольдса с тревогой, когда лед хрустнул у него под ногами, грозя расколоться, словно корочка слоеного пирожного. Но тут же луч понимания осветил сумрачный взгляд, и плотная красная маска из запекшейся крови, скрывавшая его лицо, лопнула в нескольких местах от взрыва беззвучного смеха. Вскоре у них появилось тревожное ощущение, будто они шагают по вздыбившемуся морю. Тогда, посчитав, что уже достаточно прошли по этой в высшей степени хрупкой поверхности, они остановились и взглянули на останки «Аннавана» в тот самый момент, когда из-за поворота показался марсианин. Он совершил умопомрачительный прыжок, чтобы приблизиться к ним, не сообразив, что направляется прямиком в импровизированную ловушку, которую ему подготовил Рейнольдс. Монстр приземлился на ледяную поверхность метрах в пяти от них, и лед немедленно подался под его невероятной тяжестью. Они увидели, как лед расступается и поглощает монстра, беспорядочно размахивавшего лапами посреди темного, как вино, моря, а затем снова смыкается с оглушительным треском. Однако этот удар, похожий на взрыв динамита, привел к образованию многочисленных трещин, распространявшихся во всех направлениях в радиусе не менее десяти метров. От неожиданного толчка Рейнольдс с Алланом упали на снег, стараясь ухватиться друг за друга, чтобы остаться вместе на одной из льдин, на которые раскололась близлежащая поверхность. С замиранием сердца они слушали, как марсианин силится выбраться наружу, стараясь разбить покрывавший его слой льда. От ударов лед крошился, но не разрушался до конца, и постепенно эти отчаянные звуки под ледяной толщей начали удаляться, превратившись в беспокойную барабанную дробь, с каждым разом все более слабую и глухую, из чего они заключили, что подводное течение, к счастью, уносит монстра куда-то в сторону. Когда стуки окончательно прекратились, Рейнольдс воззвал к Создателю или, вернее, потребовал от него, если исходить из категоричного тона его молитвы, чтобы это замерзшее море стало для монстра могилой. Пусть ему не страшны ни нехватка кислорода, ни обморожение, ни переохлаждение, как до этого не были страшны ни пули, ни огонь, однако Рейнольдс надеялся, что так или иначе марсианин встретит там свою смерть, поскольку, каким бы неуязвимым он ни казался, Создатель, насколько было известно Рейнольдсу, никогда не проявлял ни малейшей заинтересованности в том, чтобы наделить своих чад бессмертием. Помолившись, он опустился рядом с артиллеристом на подобие плота, который медленно плыл по узкому каналу, образовавшемуся после того, как раскололась льдина. Оба были настолько обессилены, что с трудом говорили. И все же Рейнольдсу показалось, что он слышит рядом с собой слабый голос Аллана:
— Спасибо за то, что вы спасли меня, Рейнольдс. Вот уж не думал, что встречу друга в этом аду.
— Только не забудьте об этом, когда уже не будете во мне нуждаться, — пошутил Рейнольдс, тяжело отдуваясь. — Если когда-нибудь наступит этот необыкновенный момент.
Артиллерист издал короткий смешок, сразу же растворившийся в воздухе. Потом наступило молчание. Рейнольдс приподнялся и понял, что Аллан истратил на этот смех свои последние силы, и сейчас он лежал рядом с ним без чувств. Почему он повсюду таскал за собой Аллана и ему ни разу не пришло в голову, что юношу можно оставить, бросить на произвол судьбы? Это было на него не похоже. Но на самом деле он поступал так, потому что не мог не откликнуться на мольбу, звучащую всякий раз, когда артиллерист произносил его имя, призывая его к себе с таким же слепым доверием, с каким ребенок зовет мать, очутившись в темноте. Отзываясь на этот отчаянный зов, он ощущал в себе нечто глубокое и странное, подумалось ему сквозь пелену усталости, нечто такое, чего он никогда не ощущал: впервые кто-то доверялся ему, кто-то в нем нуждался. Аллан, артиллерист, который хотел стать поэтом, юноша, который продемонстрировал ему, что такое дружба, произносил его имя и в трюме, и на палубе, и во льдах, и он не задумываясь бросался ему на выручку, но не потому, что ценил талант и считал, что его необходимо сохранить для истории, — он не настолько разбирался в литературе, — а потому что интуитивно чувствовал: спасая Аллана, он в какой-то мере спасает и свою эгоистичную душу.
Странным образом довольный тем, что его ждет смерть, а значит — долгожданный покой, Рейнольдс спокойно наблюдал, как, лавируя между айсбергами, их несет вперед ледовая повозка, ласково подгоняемая северо-западным ветром туда, куда он считал нужным их доставить. Ужасная усталость и сильные переживания последних часов сделали свое дело: он быстро погрузился в полузабытье, из которого его время от времени выводили лишь болезненные укусы мороза да непрекращающийся треск ломающихся льдин. Находясь в этом дремотном состоянии, Рейнольдс зачарованно наблюдал, как по небу проносятся грозди темных облаков, или любовался встречавшимися на их неведомом пути остроконечными айсбергами, и ему было отрадно сознавать, что их спасение или смерть уже не зависели от его воли, что они ничего больше не могли сделать, кроме как продолжать плыть на льдине, невзирая на угрозу голода и мороз, до тех пор, пока кто-то, возможно Создатель, не решит за них их судьбу. Постепенно ему становилось все труднее определить, сколько времени они вот так дрейфовали в ожидании смерти, но, просыпаясь, он всякий раз с удивлением убеждался, что жизнь по-прежнему заставляет биться его сердце. И насколько он мог понять, дотронувшись рукой до Аллана, несмотря на то, что артиллерист был покрыт инеем, в нем, похоже, тоже еще тлела жизнь, и этот маленький уголек мог бы, наверное, разгореться, если бы им чудом удалось добраться до какого-нибудь убежища, а так был обречен вскоре беззвучно потухнуть. Впрочем, что значили их жизни? Какую необходимую приправу должны были добавить они в общемировой котел? Нет, что-то они все-таки должны внести, заключил он, когда, неизвестно сколько времени спустя после гибели монстра, их плот вошел в гораздо более широкий канал, и ему, ослабшему и закоченевшему, почудилось, что дальше начинается открытое море.
Находясь в полубессознательном состоянии, он почувствовал, как его подхватили сильные руки и куда-то потащили, а потом утешился послушным теплом печки, взбодрился и смягчил горло горячим бульоном, ощущая, как жизнь медленно и недоверчиво вновь пробуждается в нем, а однажды, неведомо как и когда, он проснулся в теплой и уютной каюте рядом со скромным ложем, на котором с жадностью хватал воздух Аллан, затерявшийся в лабиринте бредовой лихорадки, но тоже выживший. Поэтому, когда капитан китобойца, исполин, способный, наверное, в одиночку справиться с самим Кракеном[3], спросил их имена, ему пришлось отвечать за обоих.
— Джереми Рейнольдс, — представился он, — а мой товарищ — это сержант-майор Эдгар Аллан По. Оба мы члены экспедиции на судне «Аннаван», которое отплыло из Нью-Йорка пятнадцатого октября к Южному полюсу, чтобы отыскать там проход к центру Земли.
XI
Однако ни в этот раз, ни в последующие дни Рейнольдс не проронил ни слова об ужасном монстре, прилетевшем со звезд, равно как и о жуткой бойне, в которой им чудом удалось уцелеть. Вначале — потому что ему казалось, что нет таких слов, которые могли бы верно передать этот кошмар и растолковать людям, что настоящий ад находится не под ними, а над их головами, далеко за видимым небосводом, где и обитают демоны. Когда Аллан наконец очнулся от лихорадки и взглянул на него исполненными мрачной тоски глазами, оба пришли к выводу, что лучше навсегда сохранить все это в тайне. Зачем открывать людям истину, к которой они, вероятно, не готовы? К тому же не следует забывать, что у них нет никаких доказательств. Если Создатель услышал их молитвы, то труп монстра надежно похоронен где-то в Антарктиде, и, учитывая постоянные бури и снегопады в этих местах, та же участь ожидает его летательную машину, прежде чем следующая экспедиция вновь доберется до этих проклятых мест. Она обнаружит здесь лишь обугленные обломки корабля в окружении тел зверски убитых членов экипажа, и тогда именно они с Алланом, единственные, кто остался в живых, станут главными подозреваемыми в устройстве этой необъяснимой оргии тотального уничтожения. Не для всех, конечно. Всегда найдется горстка неисправимых мечтателей, которые поверят в их историю и, движимые чистой воды фанатизмом, постараются доказать, что их рассказ — правда и первый марсианин действительно прибыл на Землю. Однако многие другие назовут их сумасбродами или комедиантами, а то и наградят обоими прозвищами сразу. И никто из них двоих не чувствовал в себе сил выдержать то, что сулила такая жизнь, наполненная объяснениями, доказательствами, защитительными речами… Словом, жизнь, отданная без остатка защите своей чести и доказательству своего здравомыслия.
Но не для этого они с таким трудом спасли свои жизни. Разумеется, не для этого, нет. Ускользнув от верной смерти, они теперь смотрели на жизнь как на неожиданный подарок, и оба попытались прожить ее насыщенно и сделать из нее то, что только можно сделать с жизнью. С другой стороны, это весьма распространенное желание среди тех, кто находился на волосок от смерти и чудом выжил, как, к сожалению, возможно, знает и кто-нибудь из вас. Итак, решив искоренить в себе равнодушие и бесчувственность, отличавшие их до сих пор, они хотели стать достойными этой второй попытки. Аллан с новым пылом вернулся к своей мечте стать писателем. Он надеялся заняться этим где-нибудь в тиши и твердо вознамерился забыть о тех днях, оставить любые мысли о них до конца жизни, а также после смерти, если на том свете у людей сохраняется разум. Ему достаточно было написать рассказ, с помощью которого он изгнал весь тот страх. Бывший артиллерист не нашел лучшего способа избавляться от любого демона, умоляющего приютить его в своей душе, чем заключать его навсегда в бумажную тюрьму. Со своей стороны, Рейнольдс научился любить жизнь во всей ее величественной простоте, и его единственным стремлением было теперь жить в мире и покое, радуясь каждому удару сердца и каждой толике воздуха, наполняющего его легкие, но при этом он всячески старался очистить душу от всего того, что помешало бы знавшим его людям сказать над его могилой, что в ней покоится честный человек.
Итак, сидя в скромной каюте корабля, везущего их обратно в Америку, они согласились хранить в тайне то, что видели, и пожали друг другу руки, скрепив тем самым свой договор, который никто не рискнул бы назвать джентльменским, поскольку было очевидно, что его заключили трусливые люди. Оба знали, что сокрытие столь важной для людей правды может быть расценено чуть ли не как предательство по отношению к человеческому роду, но тем не менее считали, что смогут спокойно жить с таким грузом на совести. И если кому-то из вас их решение покажется предосудительным, попробуйте напрячь воображение и задуматься, как бы вы сами прожили остаток своих дней после подобного ужаса. В общем, заслуживает их поведение порицания или нет, но они решили солгать, и к расплывчатым фразам, с помощью которых Рейнольдс уклонялся от вопросов своих спасителей, пока ухаживал за артиллеристом, прибавились после пробуждения последнего все необходимые подробности для того, чтобы получилась складная история, столь же фантастичная, сколь правдоподобная. По вечерам они развлекались тем, что повторяли ее снова и снова, постепенно обогащая деталями, в основном рожденными могучей фантазией Аллана, и затушевывая сомнительные места, пока не превратили ее в такую прочную и бесспорную истину, что в конце концов сами в нее почти поверили.
Однако во время плавания в безбрежном безмолвии океана Рейнольдс и Аллан развлекались не только тем, что искусно плели сеть лжи, но также возобновили откровенные беседы, начавшиеся на «Аннаване», и их дружба волей судьбы еще больше окрепла. Они увлеченно разговаривали до поздней ночи, наперебой демонстрируя самые дальние закоулки своей души, и им самим непонятно было, откуда бралась эта жадная откровенность. И, словно считая, что артиллерист заслужил право знать о нем все, Рейнольдс признался ему однажды в том, что каждый должен унести с собой в могилу. Иначе говоря, его жизнь отныне находилась в руках у артиллериста, однако Рейнольдс был уверен, что если и есть такой человек на свете, который неспособен предать его, то это Аллан. С тем же трепетом, с каким нянька-негритянка рассказывала ему в детстве кладбищенские истории о привидениях и встающих из могил покойниках, Рейнольдс доверил ему свою самую сокровенную тайну: капитан Макреди не был первым, кого он убил. Нет, еще до плавания на «Аннаване» он отправил на тот свет одного человека, не прибегая, правда, к пистолету. В тот раз он ограничился тем, что просто открыл окна. Когда он рассказал, как погубил Симмса, Аллан отвел взгляд и долго молчал. Затем вновь взглянул на Рейнольдса и с мягкой улыбкой, делавшей его моложе и одновременно старше своих лет, произнес:
— Мой дорогой друг, если когда-нибудь тебя будут судить за это на небесах, в единственном месте, где такое возможно, то я надеюсь, что буду рядом с тобой и помогу тебе придумать хорошее оправдание.
Не существует людей абсолютно честных или абсолютно подлых, должно быть, думал артиллерист, и как бы он ни старался убедить себя в том, что происшедшее в Антарктиде изменило его друга и что нынешний Рейнольдс — это иной Рейнольдс, который внезапно сделался добрым и честным малым, все же никто не меняется полностью, и о таком разве что пишут в плохих романах. Он оставался тем же самым Рейнольдсом, возможно немного поумневшим, способным лучше оценить свои качества, но на этом и заканчивались все его метаморфозы. Он сожалел по поводу Симмса, пробудившего все худшее, что было в его душе, и радовался за Аллана, этого бледного и тщедушного юношу, который непостижимым образом растрогал его, заставив защищать себя с риском для собственной жизни и отдавать лучшее, что в нем, Рейнольдсе, было.
В свою очередь Аллан тоже не стал скрытничать и обрушил на благодарного Рейнольдса целый поток воспоминаний из своей еще короткой жизни и, действуя с тем же радостным неистовством, с каким изливал душу на бумаге, рисовал автопортрет, в котором хотел узнать себя прежнего, разгадать, что за человек он был в те далекие дни, когда еще не познал ужаса и только мог представить его в своем болезненном воображении. Рейнольдс зачарованно слушал, восхищаясь даром юноши расцвечивать словами полотно событий, используя для этого такие яркие тона, что рядом с ними бледнели даже его собственные воспоминания. Казалось, Рейнольдс знал Аллана с детства, настолько явственно он видел сейчас, как, несмотря на свое хрупкое сложение, юный Аллан, словно амфибия, проплыл шесть миль против течения по реке Джеймс, бросая вызов обожаемому им Байрону; как он влюбился в миссис Стенард, мать своего приятеля, тонкую натуру, ставшую его музой, но вскоре погрузившуюся в мутные воды безумия; как писал юной Эльмире Ройстер письма, которые, как он с возмущением узнал впоследствии, перехватывал его опекун, прежде чем они могли воспламенить сердце девушки жаркими любовными признаниями. То был портрет строптивого и страдающего юноши, чьи родители не оставили ему в наследство ничего, кроме предрасположенности к туберкулезу; портрет ненасытного читателя и блестящего студента, отягощенного беспокойной душой, которого алкоголь валил с ног после первого глотка и который только что закончил длинную поэму под названием «Аль Аараф», когда на Землю прилетел марсианин, чтобы превратить его ночи в кошмар и мимоходом, потому что нет худа без добра, вдохновить его на роман, замысел которого давно вызревал у него в голове и который в конце концов сделал бы его писателем.
Как видите, оба узнали друг друга даже лучше, нежели каждый из них знал себя самого, и в этой дружбе они нашли способ утешиться в своем парадоксальном одиночестве, когда им открылось, что человек вовсе не единственный обитатель Вселенной. Но по мере того как корабль приближался к пункту назначения, оба перестали упоминать звездного монстра. Вначале они поступали так из осторожности. Но постепенно привыкли к выдуманной ими же действительности и почти поверили в нее. И хотя Рейнольдс отдавал себе в этом отчет, его начало тревожить то, с каким болезненным наслаждением Аллан отдавался этому фарсу, и он даже стал опасаться за душевное здоровье юноши, когда тот во время задушевного разговора вдруг упоминал о каких-то придуманных событиях как о подлинных. С каждым днем артиллерист казался Рейнольдсу все более беспокойным, все более далеким, даже замкнутым, словно его разум незаметно стирался, как стирается ковер в прихожей. Рейнольдс не решался напрямую поговорить с Алланом из боязни причинить ему еще больший вред. И, на мой взгляд, это было вполне понятное беспокойство для человека его эпохи, ибо оставалось еще более полувека до того, как некий австрийский невролог открыл миру механизмы человеческого мозга, который можно уподобить, если мне позволят такое сравнение, средневековому замку, под добротным каменным полом которого скрывается густая сеть подвалов и галерей, куда его владелец сваливает все то, чего не хочет видеть перед собой. Так или иначе, когда они прибыли в Америку, то без малейших колебаний повторили свою ложь перед целой армией репортеров, пришедших встретить двух участников Великой американской экспедиции к Южному полюсу.
А рассказали они, если вам это интересно, следующее: встретившись с яростными бурями и коварными айсбергами, они высадились на ледовый континент, лишенный всякого намека на растительность, которая могла бы подсказать, где они находятся. Там их подстерегал страшный голод, когда иссякли запасы провизии, хотя однажды Провидение сжалилось над ними, послав морского льва не менее 1700 фунтов весом, чьим мясом их истощенные желудки питались несколько недель. В конце концов они убедились, что проход к центру Земли загорожен льдами, и пустились в обратный путь, но во время стоянки в Вальпараисо экипаж взбунтовался и захватил корабль, чтобы заняться пиратским промыслом. Во время недолгого пребывания в Чили Аллан заболел странной лихорадкой, благодаря чему им двоим удалось спастись, так как мятежники сжалились над артиллеристом и оставили их на берегу, чтобы Рейнольдс за ним ухаживал. Так он и сделал, а потом их подобрал фрегат, на котором они и добрались до благословенной Америки. Вот что они рассказали. И, похоже, им поверили.
Наконец, после долгой череды интервью, совершенно измученные, они возвратились в Виргинию, и Рейнольдс с облегчением убедился, что ее воздух явно пошел на пользу Аллану, который спустя считанные дни полностью восстановился, и из кокона его бредовой пантомимы вылупилась бабочка, способная нормально порхать, или, по крайней мере, так же нормально, как это было до знакомства с ним, Рейнольдсом. Однако стоило ему появиться перед глазами Аллана, как он тут же замечал в них проблески страха, а потому не знал, помнит ли Аллан о том, что на самом деле произошло в Антарктиде, или похоронил эти воспоминания под нагромождениями лжи. Через неделю после их прибытия он не выдержал и прямо спросил об этом у Аллана. Тот немного удивился.
— Конечно же я помню о том, что с нами произошло, мой дорогой друг. Я заставляю себя вспоминать об этом каждую ночь, чтобы весь этот ужас питал мои кошмары, и заставляю себя забывать об этом каждое утро, чтобы успокоиться и суметь описать их, — признался он с ласковой улыбкой. — Не волнуйся за меня, Рейнольдс. Я художник. А художник — это человек, которого несет река: на одном ее берегу находится благоразумие, на другом — безумие, но он никогда не получит успокоения ни там, ни там и будет плыть посередине, увлекаемый водами своего искусства, далекий от жизни, которая происходит на суше, откуда за ним наблюдают остальные люди, но не могут ничем помочь, а он будет плыть и плыть, пока не умрет в необъятности моря.
Рейнольдс кивнул, хотя и не совсем понял замысловатую метафору. Главное, что он понял первую фразу. Аллан все помнил. Нет, он не лишился рассудка. И Рейнольдс больше не касался этой темы. Возвратившись в благословенную Америку, он сбросил с себя одежды мечтателя, раз уж речь зашла о метафорах, сжег их в не менее метафорической печи и с радостью зажил в соответствии со своей истинной рациональной натурой.
Прежде всего он навестил Джозефину, свою суженую, с твердым намерением расторгнуть помолвку, как решил еще во время экспедиции. Но, к собственному удивлению, вышел из ее дома, договорившись о дате свадьбы. На протяжении всего разговора с девушкой Рейнольдс с необычной настойчивостью рассматривал ее, надеясь, что в его душе возникнет что-то похожее на отвращение, поскольку, открыв в себе бесконечную, доселе не ведомую любовь к жизни, он не хотел больше ни дня проводить в компании тех, кто не испытывает подобного же благоговейного отношения к этому чуду. Джозефина была несложной натурой, она выросла в роскоши, и единственным чудом для нее было то, какими прекрасными становятся после огранки алмазы, которые она так любила носить. Раньше он, пожалуй, с этим бы смирился, но теперь Рейнольдс нуждался в большем. Теперь он хотел познать любовь, по-настоящему влюбиться, пасть жертвой неугасимой страсти. Он не желал умереть, не испытав любви, которая внезапно стала казаться ему самым возвышенным из чувств, и направлялся к дому девушки в уверенности, что Джозефина не та женщина, которая способна вызвать в нем это чувство. Но, когда он увидел ее, простодушие девушки взяло верх, оно неудержимо влекло к себе. Она сидела перед ним в приличествующем времени дня наряде и слушала рассказ о его приключениях со спокойным вниманием, не проявляя, однако, ни малейшего интереса к миру, не имеющему для нее никакого значения и смысла просто потому, что она в нем не жила, так что Рейнольдс засомневался, существует ли жизнь внутри Земли или в глубинах Вселенной. Точнее будет сказать так: он предпочел не знать, поскольку неожиданно то, что видел перед собой, весь этот столь очевидный мир, где уборная не являлась символом иерархии, мир, наполненный вещами, которые можно было видеть, трогать и в которых не было ничего волшебного, как, например, в стоявшем на столе фарфоровом чайнике, откуда, сколько его ни тереть, не появится джинн, или в безукоризненных манерах девушки, его впервые удовлетворило. И Джозефина, ставшая владычицей этой якобы подлинной действительности, населенной простодушными глупцами, показалась ему совершенным убежищем, куда можно сбежать от ужаса, который проступал за нею. Рейнольдс вдруг понял, что единственный способ избавиться от страха и возможного безумия — это стать таким же заурядным, как она, спрятаться за невежеством и равнодушием прилежно вульгарных душ. Рассматривая девушку, он сказал себе, что это от него зависит — увидеть ее красивее и интереснее, чем на самом деле, и приступил к выполнению задачи с благословения своего неподкупного практического разума, а через полчаса оживленной беседы добился, что Джозефина забыла про то, как неохотно он ухаживал за ней прежде, и отдала сердце неожиданно пылкому возлюбленному, которого вернули ей полярные льды. «А что может быть лучшим способом обосноваться в этом беззащитном мире, который человек выстроил вокруг себя, чем контроль за его бесперебойным функционированием?» — размышлял Рейнольдс. Поэтому, подарив Джозефине самый искренний поцелуй в своей жизни, он собрал сундучок, простился с Алланом и отправился изучать юриспруденцию в Нью-Йорк.
Однако Рейнольдс не мог сделать так, чтобы воспоминания о случившемся в Антарктиде не набрасывались на него всякий раз, как он утрачивал бдительность. Достаточно было взглянуть на свою левую ладонь, чтобы это произошло. На ней запечатлелся след от странного ожога в виде буквы или марсианского символа, смысл которого он уже никогда не узнает и который предупреждал его, что мир скрывает больше тайн, чем это кажется на первый взгляд. Иногда подобные мысли не давали уснуть по ночам, и тогда он до самого утра глядел в окно на усеянное звездами небо, размышляя над судьбой марсианина. Действительно ли они покончили с ним либо он выжил и ухитрился последовать за ними в Америку и теперь подкарауливал его в обличье одного из товарищей по учебе? Он знал, что этого не может быть, но все равно его охватывал страх всякий раз, когда кто-нибудь из однокашников бросал на него чересчур пристальный, по его мнению, взгляд. С неким Дженсеном, пригласившим его выпить бренди к себе в комнату, он даже перестал разговаривать. Он чувствовал себя одиноким, погруженным в столь же бесконечное, сколь нелепое одиночество, из которого его могли вывести лишь письма Аллана, единственного человека, кто мог его понять.
С тех пор как он переселился в Нью-Йорк, его друг завел привычку присылать ему длинные письма, рассказывая обо всех новостях, хотя было ясно, что это всего лишь предлог для того, чтобы поведать ему о своей душевной тревоге, ибо Аллан тоже в нем нуждался. Таким образом, Рейнольдс стал свидетелем того, как жизнь его единственного друга менялась с медлительностью потягивающегося кота. Из первого письма он узнал, что Аллана отчислили из Вест-Пойнта, и это привело к новому конфликту с его опекуном, принявшему на сей раз такие масштабы, что Аллан предпочел уехать в Балтимор и поселиться в доме своей тетки Марии Клемм, решив серьезно заняться прозой, поскольку был разочарован тем, что его стихи не пользовались успехом у читателей. По прибытии в Виргинию он тут же связался с издателями и редакторами журналов, и в конце концов ему удалось опубликовать «Аль Аараф», большую поэму, которую он написал во время плавания на «Аннаване», но лучше бы не писал вовсе, поскольку она не получила практически никакого отклика. Но Рейнольдс сразу же догадался, что все эти блеклые подробности были вежливым предисловием к тому, о чем Аллан действительно хотел поведать другу: о своих кошмарах, причудливых видениях, которые рождал во тьме его мозг. Он признался, что видел во сне всевозможные ужасы: корабли, управляемые мертвецами, дам с превосходными зубами, выпадающими у него на глазах из-за загадочного недуга, и даже самого себя. То его пытала испанская инквизиция, то сам он выкалывал перочинным ножом глаза кошке, а затем вешал ее без малейших угрызений совести. Иногда он выходил на улицу в таком возбуждении, что в каждом прохожем видел самого себя.
Из-за этих страшных чудовищ, с такой легкостью завладевших моими снами,
— горестно сообщал он, —я просыпаюсь среди ночи в ужасной тревоге, с бешено бьющимся сердцем и в холодном поту. Хотя должен тебе признаться, никогда еще я не писал так, как сейчас. Поэтому не хочу отказываться от этих кошмаров, ибо боюсь, что это единственный способ, каким я располагаю, чтобы как-то уменьшить ужас, наполняющий мою несчастную душу, который, как я наконец-то открыл, я научился изливать на бумаге с такой достоверностью, словно пишу собственной кровью.
С грустной улыбкой Рейнольдс убрал письмо в конверт. Марсианин населил призраками их души, но было радостно сознавать, что по меньшей мере Аллану это пошло на пользу. Рейнольдс вновь улыбнулся, представив своего друга если не счастливым, то, по крайней мере, успокоившимся после переезда в Балтимор, в дом заботливой тетки; там он стремится составить себе имя как писатель и навсегда изгнать нищету за порог их дома. Аллан еще продемонстрирует миру, чего он стоит, это всего лишь вопрос времени.
Два года спустя Аллан наконец-то прислал ему письмо с хорошими вестями:
Дорогой друг, мне приятно сообщить тебе, что один из моих рассказов удостоен литературной премии. Кажется, усердный труд действительно вознаграждается, в чем я начал было сомневаться, хотя в данном случае премия всего лишь наполнила меня радостью и укрепила уверенность в себе, но не освободила из тисков нищеты, которая в последнее время еще сильнее взяла меня за горло, ведь ты, должно быть, знаешь, что мой опекун умер, не оставив мне ни цента. Никакое наследство уже не сможет спасти меня от непрерывного крушения, каковым является моя жизнь. Но ты не слишком тревожься из-за меня, мой друг, ведь хотя у меня нет даже костюма, чтобы принять приглашение на обед, жизнь меня еще не покорила. Я принадлежу к выжившим, ты это знаешь лучше, чем кто-либо, и через несколько дней буду окончательно спасен, обретя наилучшее убежище в лице моей кузины Вирджинии. Да, мой дорогой друг, я хочу, чтобы ты узнал об этом первым: Вирджиния и я решили вскоре тайно пожениться.
Рейнольдс мог предположить подобную посмертную скаредность со стороны Алланова опекуна, но никогда бы не догадался, что артиллерист решит жениться на своей двоюродной сестре, девушке, которой едва исполнилось тринадцать лет и которая, по слухам, умственно была не слишком развита. Столь экстравагантная женитьба, однако, принесла, по-видимому, удачу Аллану, потому что он вскоре перебрался в Ричмонд, где ему предложили пост редактора журнала «Сазерн литерери мессенджер». Правда, полоса везения оказалась миражом. Рейнольдсу не замедлили сообщить, что его друга все чаще видели выходящим из захудалых трактиров сильно под хмельком, из-за чего его тетке и Вирджинии пришлось переехать в Ричмонд, чтобы отвратить его от пагубного пристрастия. Благодаря их заботам Аллан вернулся к нормальной жизни и смог сосредоточиться на писательской работе, еще больше упрочив славу, заработанную своими ранними творениями.
Как раз в это время Рейнольдс получил письмо, в котором артиллерист сообщал, что, воспользовавшись модой на рассказы о морских приключениях, начал писать книгу, навеянную событиями, которые произошли близ Южного полюса. Эту историю, названную «Повестью о приключениях Артура Гордона Пима», спустя несколько недель стал печатать с продолжениями «Мессенджер», и Рейнольдс с замиранием сердца читал каждый выпуск. Повесть его друга начиналась с описания плавания брига «Дельфин» по Южным морям и, если даже отбросить ритмическое и фонетическое сходство имен автора и главного героя, была насыщена автобиографическими деталями, причем отдельные из них были явно навеяны их путешествием: действие частично происходило в трюме, таком же душном, как тот, который избрал своим убежищем звездный монстр, а одним из персонажей был метис по фамилии Петерс. Но на этом отголоски событий, связанных с их злосчастной экспедицией, заканчивались, поскольку во второй части, где рассказывалось о плавании к Южному Полярному кругу, Аллан следовал лишь за своей фантазией. После многочисленных суровых испытаний, пробившись сквозь ледовые поля и айсберги и имея на борту нескольких членов экипажа, больных цингой, корабль бросил якорь у небольшого острова, где героев встретило племя дикарей, попытавшихся захватить их, так что им пришлось бежать оттуда на украденной лодке. В финальной сцене, венчающей череду жестокостей и зверств, после долгих дней плавания к югу по океану молочного цвета, под дождем из тончайшей пыли вроде пепла, герои увидели перед собой, прежде чем низвергнуться в бездну вместе с гигантским водопадом, таинственную фигуру, абсолютно белую и очень высокую, гораздо выше любого обитателя нашей планеты.
Рейнольдс написал Аллану длинное письмо, в котором восхищался его книгой, но просил пояснить, что означает такой странный, словно намекающий на что-то конец. Он постарался задать вопрос как можно более деликатно отчасти потому, что они не говорили об этих делах с тех давних пор, а отчасти из опасения, что кто-нибудь случайно прочтет письмо и откроет их общую тайну. Однако, к его удивлению, артиллерист, похоже, и сам не знал, что ждало его героев, увлекаемых в бездну водопадом.
Резко оборванный финал романа породил множество комментариев, мой дорогой Рейнольдс, — писал он. — Некоторые критики утверждают, будто я не знал, как закончить его, бросив в кульминационный момент то ли из лени, то ли потому, что иссяк источник моего жалкого воображения, то ли сама история меня к этому подтолкнула, словно было в ней что-то такое, что заставило меня умолкнуть. Пусть себе гадают, бедняги. Хотя, если честно, я и сам не знаю ответа, так как последние страницы писал в состоянии, которое могу определить лишь как глубокое потрясение поем череды жутких ночных кошмаров, непременно сопровождавшихся появлением некой страшной фигуры, о которой после пробуждения в памяти не оставалось ничего, кроме ощущения ужаса. Достаточно хорошо зная тебя, догадываюсь, о чем ты подумал: ты боишься, что твой бедный друг лишился рассудка. Не беспокойся, пока до этого не дошло. Хотя не стану тебя обманывать: каким-то непонятным образом я чувствую, что с каждым разом разум мой все больше помрачается. Ты не представляешь себе, как мне не хватает тебя в такие моменты, мой драгоценный друг. Иногда я чувствую себя страшно одиноким, поскольку, должен признаться, литература перестала быть для меня утешением, о котором я тебе говорил, с каждым разом все больше превращаясь в наказание. Теперь кошмары посещают меня и в часы бодрствования. Иногда я думаю: а не болен ли я? Что со мной будет? И знаю, что только ты догадываешься, каким должен быть ответ.
Рейнольдс с волнением прочел последнюю фразу, и к нему вновь вернулись прежние опасения по поводу душевного здоровья Аллана. По-видимому, столь блестящий, тонкий и изощренный ум не мог принять жизнь, построенную на фундаменте добровольного забвения. Сам Рейнольдс не испытывал ни малейших затруднений, живя такой жизнью: он сознательно старался не вспоминать былое и в то же время занимал свой ум всяческими житейскими заботами, пока с течением лет горестные воспоминания об Антарктиде окончательно не померкли в его памяти. Наверное, он смог этого добиться, потому что его мозгом управляли куда более простые механизмы, чем Аллановым, признал он без всякого смущения. Разве не сумел он забыть, что убил Симмса? А вот Аллан, не способный забыть по собственной воле, был вынужден стирать эти воспоминания, окружать их каменной стеной, сооруженной по такому случаю, хотя не сумел помешать тому, чтобы страх просочился сквозь камни и вылился на белую и бесконечную пустыню чистых листов, которые он ежедневно выкладывал на свой письменный стол. Но, несмотря на эти неутешительные выводы, Рейнольдс ограничился письмом, полным избитых утешительных фраз, поскольку знал: мало что еще может сделать для измученного артиллериста, разве что молить Бога, в которого он с каждым разом верил все менее истово, чтобы белый гигант, поджидавший его друга возле водопада, не оказался призраком, свидетельствующим о его полном помешательстве.
Следующее письмо Аллана пришло из Филадельфии, куда он отправился в поисках удачи, безнадежно испортив перед этим отношения с главным редактором «Мессенджера», уставшего терпеть его непрекращающиеся попойки.
Но, как преданный пес, нищета следовала за мной по пятам, — писал он, — и мне пришлось использовать свое перо для сочинения самых вульгарных вещей; я даже написал по заказу учебник, посвященный раковинам моллюсков, и ты, конечно, понимаешь, какое эстетическое наслаждение может доставить подобная работа. Правда, это, к счастью, не оставляет мне времени на то, чтобы продолжать писать мои рассказы, такие мрачные и болезненные, что даже меня они пугают. Но я знаю, мой друг, что они и не могут быть иными, ибо вылеплены из темной глины, которую я беру непосредственно из моих кошмаров. Даже мои рассказы о расследованиях Огюста Дюпена, которые я пытаюсь сделать не такими мрачными, не свободны от этого неизбежного ужаса, покрывающего их, подобно влажному мху. И только моей обожаемой Вирджинии удается пролить немного света на мою темную душу: каждый день, когда я возвращаюсь со службы, она встречает меня букетом свежесрезанных цветов.
К несчастью, этот свет оказался таким же недолговечным, как пламя свечки, и быстро угас. Следующее письмо Аллана, жуткое, душераздирающее, было написано человеком, потерявшим веру в жизнь.
Друг мой,
— начиналось оно, —пишу тебе в совершенном отчаянии, на краю глубочайшей пропасти, ибо уже не сомневаюсь в том, что у беды нет лучшей игрушки, чем моя несчастная душа. Вирджиния, моя нежная нимфа, заболела. Несколько дней назад, когда она развлекала нас, исполняя мои любимые мелодии и аккомпанируя себе на арфе, ее голос оборвался на высокой ноте, и вслед за этим, словно в страшном спектакле, поставленном самим дьяволом, из ее нежного ротика заструилась кровь. Это туберкулез, мой друг, и он пришел за ней. Да, эта подлая болезнь способна, по словам врачей, отнять ее у меня в течение двух лет, а то и быстрее, не обращая внимания на то, что никто не сможет занять опустевшее после нее место. Что будет со мной, когда ее не станет, Рейнольдс? Что будет со мной, когда она начнет увядать, когда ее нежная красота начнет осыпаться, изо дня в день роняя лепестки, из которых мои неуклюжие пальцы будут тщетно пытаться воссоздать розу?
Глубоко взволнованный известием о болезни женщины, с которой он даже не был знаком, и тем, как жутко это подействовало на его друга, Рейнольдс решил помочь ему по мере своих возможностей и предложил в качестве утешения поселиться на ферме в Блумингдейле, местечке в окрестностях Нью-Йорка, — в скромном раю на чистом воздухе, в окружении лугов с шелковистой травой, чтобы природа вдохнула в Вирджинию бодрость, которую лениво забирала у нее смерть. Аллан последовал его совету, и супружеская пара сбежала из Филадельфии, оставив позади внушительное количество врагов, в большинстве своем писателей, оскорбленных язвительными рецензиями, которые Аллан писал для «Бертонс мэгэзин». На ферме супругов ждала короткая передышка, и, как стало известно Рейнольдсу, жизнь время от времени дарила им крупицы счастья, но суровая зима заставила их перебраться в Нью-Йорк.
Вскоре после приезда Аллан произвел фурор в нью-йоркских литературных кругах, опубликовав стихотворение «Ворон», над которым долго работал и закончил лишь благодаря неожиданно выдавшемуся спокойным лету. До Рейнольдса доходили слухи, что люди ломятся на его выступления, спеша услышать, как он читает эти загадочные стихи, заставляющие сердце замирать. Заинтригованный Рейнольдс посетил одно из таких выступлений и воочию убедился, какое громадное впечатление производит чтение Аллана, который выпрямившись сидел на стуле со страшно бледным лицом, на собравшуюся публику, особенно на чувствительных дам. Когда все закончилось, Рейнольдс пригласил друга поужинать в ближайшем ресторане, и там, неумело, словно начинающий хирург, разрезая на части мясной пирог, тот выплеснул на него свое горе, признавшись, что метания между надеждой и отчаянием, на которые болезнь Вирджинии обрекала его душу, гораздо хуже, чем даже сама смерть жены. И что он открыл единственный способ бороться с этим: с помощью алкоголя и опиума. Когда они прощались, крепко обнимая друг друга, Рейнольдсу было уже не важно, свихнулся его друг или нет. Возлюбленная Аллана умирала, и ничего нельзя было поделать. Некто где-то решил, что двое этих прекрасных благородных людей должны страдать неизвестно почему, и такой выбор казался несправедливым. Вот что сейчас превращало мир в поистине ужасное место.
Еще не распечатав следующее письмо, посланное Алланом из своего очередного стойбища, Рейнольдс понял, что оно содержит скорбную весть. Через некоторое время он получил известие, что его друг после беспорядочных скитаний в конце концов вернулся в Ричмонд. Там Аллан узнал: Эльмира, его юношеская любовь, та самая девушка, что не получала его писем, стала почтенной вдовой, и мгновенно отыскал ее, словно для того, чтобы замкнуть круг. Эльмира поддалась на его уговоры, и в считанные недели вопрос о женитьбе был решен. Именно тогда Рейнольдс получил от Аллана последнее письмо. Тот писал, что едет в Филадельфию за своей тетушкой, чтобы она могла присутствовать на свадьбе, и сделает остановку в Балтиморе. Рейнольдс немедленно ответил, обещав встретить его и провести с ним те несколько часов, которые останутся до отхода поезда. Однако многочисленные дела, совершенно пустяковые, как он потом вспоминал с горечью и злостью на себя, сильно задержали его, и, когда он прибыл на пристань, Аллана там уже не было.
XII
29 сентября 1849 года в Балтиморе выдалось страшно холодным. В этот день в городе проходили выборы, и возле трактиров, переоборудованных в избирательные участки, горожане жгли костры, чтобы защититься от стужи. Не встретив Аллана, Рейнольдс в ужасе вспомнил о практике, к которой обычно прибегали во время выборов представители политических партий, угощавшие спиртным поддавшихся на их уговоры простаков, а затем возившие их с одного избирательного участка на другой, заставляя по нескольку раз голосовать за одного и того же кандидата. Он опасался, не стал ли Аллан жертвой подобных политиканов, и начал быстрым шагом обходить балтиморские улицы, спрашивая о своем друге во всех попадавшихся на пути трактирах. Если бы кто-нибудь наблюдал сверху за его лихорадочными перемещениями, как это могу сделать я, то с огорчением увидел бы, что Рейнольдс несколько раз едва не сталкивался с Алланом, и если этого не случилось, то потому, что в последний момент сворачивал не на ту улицу.
Итак, судьба не захотела свести их, чтобы спасти душу Аллана, и он ковылял от трактира к трактиру, совершенно пьяный, подталкиваемый кучкой негодяев, которые ложью заманили его в свои сети. Он шел, шатаясь из стороны в сторону и обхватив себя за плечи, чтобы хоть немножко согреться, но нищенские лохмотья, в которые его обрядили, чтобы поиздеваться, не спасали от холода, и с каждым шагом окружавшие его люди и предметы все больше расплывались перед глазами, пока усталость и алкоголь не сделали свое: он опустился на колени возле одного из трактиров не в силах идти дальше и был брошен на произвол судьбы возле мусорного бака теми, кто использовал его, как негодную вещь. Тяжело дыша и трясясь от холода, Аллан глядел на костер, горевший у входа в трактир, и, казалось, хотел уцепиться за него взглядом, как за якорь, в этом плывущем перед глазами мире. Однако головокружение не проходило, и в какой-то миг маленький костер приобрел масштабы пожара, а затем пронизывающий холод и неистовая пляска огня слились воедино, чтобы Обрушиться на его память.
Аллан в ужасе почувствовал, как маленькая плотина в его мозгу прорвалась, и в его сознание хлынул сдерживаемый ею водопад воспоминаний, таких ослепительно ярких, что, казалось, все опять происходит наяву: он видел объятый пламенем «Аннаван» и слышал голос Рейнольдса, приказывающего ему встать и бежать, если он хочет спасти свою жизнь, пусть даже на считанные минуты. И Аллан отчаянно задвигал руками, воображая, что бежит, хотя на самом деле стоял на коленях, не чувствуя, как от ударов о твердую землю с рук сдирается кожа. Артиллерист бежал по снегу, подталкиваемый Рейнольдсом, спасаясь от монстра, гнездившегося в его кошмарах и вот теперь снова гнавшегося за ним; монстра, прилетевшего на Землю с Марса или какой-то другой планеты во Вселенной, потому что Вселенная — это место, где обитают жуткие существа, каких жалкое людское воображение не может себе даже представить; монстра, который неизбежно должен был растерзать его, потому что он уже не мог больше бежать, потому что силы его иссякли, потому что он хотел только одного — упасть на снег и ждать, чтобы все поскорее кончилось, но как бы не так, друг тянул его: беги, Аллан, беги, черт бы тебя подрал, и он бежал, бежал по кругу, на коленях, вокруг костра, и перед его воспаленным взором расстилалась бесконечная белая пустота, а за спиной он слышал рев монстра и собственные крики, обращенные к Рейнольдсу, снова и снова молящие о помощи:
— Рейнольдс! Рейнольдс! Рейнольдс!
Он продолжал звать своего друга и в университетском госпитале при Washington Medical College, где, обойдя все больницы города, Рейнольдс его в конце концов и нашел.
Бредившего Аллана поместили в одну из частных палат больницы — внушительного пятиэтажного здания со стрельчатыми готическими окнами, располагавшегося в самой возвышенной части Балтимора и известного своими просторными помещениями и хорошей вентиляцией. Руководили работой больницы опытные врачи. Как сообщила Рейнольдсу сопровождавшая его сестра милосердия, пока они миновали залы, где лежало множество нищих, доставленных сюда с разной степенью обморожения, артиллерист не переставая выкрикивал его имя. Когда они наконец дошли до нужной палаты, Рейнольдс не сразу разглядел корчившееся тело, так как его тесным кольцом окружали студенты-медики, сестры и прочий персонал, узнавшие, по-видимому, известного писателя.
— Это меня он зовет, — объявил он глухим голосом.
Все изумленно повернулись к дверям. Совсем молоденький врач обратился к Рейнольдсу:
— Слава богу! А то мы не знали, как вас найти. Я доктор Моран. — Рейнольдс осторожно пожал ему руку. — Это ко мне доставили мистера По… Ведь это мистер По, не правда ли, несмотря на то, что на нем были какие-то ужасные лохмотья…
Рейнольдс с грустью рассматривал зловонную одежду, на которую указал врач, повешенную на стул с аккуратностью, какой это тряпье не заслуживало, и гадал про себя, какой же оборот приняла жизнь его друга за те часы, пока Рейнольдс его разыскивал, чтобы он в конце концов оказался так одет. Потом перевел взгляд на исхудавшее тело Аллана, едва прикрытое влажной от пота простыней, и подтвердил:
— Да, это он.
— Я так и думал. Знаете, я читал многие его рассказы. И не сомневаюсь, что его книги переживут своего автора. — Врач с состраданием взглянул на знаменитого пациента. Потом повернулся к Рейнольдсу. — Мистер По был доставлен в больницу в состоянии ступора неизвестным лицом. С тех пор он непрестанно выкрикивал ваше имя и уверял, что его преследует какой-то монстр.
Рейнольдс понимающе улыбнулся и кивнул с таким видом, словно привык к подобному поведению своего друга.
— Что-нибудь еще он говорил? — спросил он, не глядя на врача.
— Нет, больше ничего. Только все повторял то, о чем я сказал.
И, словно подтверждая слова врача, Аллан простонал:
— Он гонится за нами. Монстр гонится за нами…
Рейнольдс печально вздохнул и обратился к людям, столпившимся вокруг кровати Аллана.
— Вы не могли бы оставить меня наедине с ним, господа? — произнес он скорее повелительным, чем просительным тоном. И, видя, что врач молчит, добавил: — Всего на минуту, доктор. Я хотел бы проститься с моим другом без свидетелей.
— Пациенту недолго осталось жить, — запротестовал врач.
— Так не будем же терять время, — сухо проговорил Рейнольдс, выдержав его взгляд.
Врач кивнул и увел с собой остальных.
— Мы будем за дверью. Не задерживайтесь.
Оставшись один, Рейнольдс наконец приблизился к кровати, на которой лежал артиллерист.
— Я уже здесь, Аллан, — произнес он и взял его за руку.
Артиллерист попытался сфокусировать на нем взгляд своих глаз, ставших водянистыми, как у чучела зверя.
— Он гонится за нами, Рейнольдс! — вновь простонал он. — Он убьет нас… Он всех убил: Карсона, врача, Петерса… А теперь настала наша очередь… О боже… Он прилетел с Марса, чтобы разделаться со всеми нами.
— Да нет, Аллан, все это уже позади… — заверил Рейнольдс и покосился на дверь. — Мы убили его. Мы сумели его победить.
Аллан обвел палату отсутствующим взглядом, и Рейнольдс понял, что его друг ничего не видит вокруг.
— Где я? Мне холодно, Рейнольдс, очень холодно…
Рейнольдс снял с себя плащ и накрыл им Аллана, все еще продолжавшего лежать в снегу на сорокаградусном морозе.
— Ты поправишься, Аллан, не беспокойся. Поправишься и вернешься домой. И опять сможешь писать. Ты напишешь много книг, Аллан, вот увидишь…
— Но мне так холодно, Рейнольдс… — пожаловался артиллерист, немного успокоившись. — По правде сказать, так было всегда. Холод исторгается из моей души, друг мой. — Рейнольдс кивнул, его глаза были полны слез. Кажется, к Аллану внезапно вернулся рассудок, покинув далекие снега, он возвратился в лежащее на больничной койке тело, но теперь Рейнольдса встревожило абсолютное спокойствие друга. — Думаю, что я и завербовался-то на этот проклятый корабль, чтобы проверить, есть ли где-нибудь на свете такое место, где было бы холоднее, чем у меня в душе. — Он засмеялся, но его смех вдруг перешел в долгий приступ кашля. Рейнольдс испуганно наблюдал, как он бьется в страшных конвульсиях, грозивших разрушить его хрупкое тело. Но вот приступ прекратился, и Аллан, открыв рот, стал жадно ловить воздух, который, казалось, застревал в каком-то узком месте его организма и с трудом достигал легких.
— Аллан! — закричал Рейнольдс и осторожно, словно боялся что-нибудь повредить, дотронулся до его плеча. — Прошу тебя, Аллан…
— Я ухожу, мой друг. Ухожу туда, где живут монстры… — едва слышно прошептал артиллерист.
Рейнольдс в отчаянии смотрел, как напряглась у Аллана шея и страшно заострился нос. Губы приобрели синеватый оттенок. Он понял, что его друг умирает. От горестного всхлипа у того перехватило дыхание, но он успел сказать:
— Боже, сжалься над моей бедной душой…
— Не бойся, Аллан. Мы его убили, — произнес Рейнольдс и погладил его по липу с нежностью матери, которая убеждает своего сына, что в темноте нет ничего страшного, понимая, что это последние слова, какие услышит его друг. — В том месте, куда ты направляешься, уже нет монстров. Уже нет.
Аллан слабо улыбнулся. Затем отвел от него глаза, уставив их в какую-то точку на потолке, и со вздохом едва ли не облегчения расстался с жизнью, ставшей для него такой мучительной. Рейнольдса удивила простота смерти и то, что он не увидел, как душа Аллана вылетает из его тела, словно голубка, отправляющаяся в полет. Скорее из-за растерянности, чем из приличия, он на несколько минут задержался у постели умершего, все так же сжимая бледную руку артиллериста в своих ладонях, а затем осторожно положил ее ему на грудь. По иронии судьбы все-таки именно он стал единственным свидетелем смерти Аллана, раз уж это не случилось близ Южного полюса.
— Надеюсь, мой друг, что ты наконец обретешь покой, — сказал он на прощанье.
Он прикрыл лицо Аллана простыней и вышел из палаты.
— Он умер, — коротко сообщил Рейнольдс доктору Морану и его студентам, ожидавшим у дверей. — Но его творения будут жить вечно.
Блуждая по коридорам больницы в поисках выхода, Рейнольдс размышлял, было бы творчество Эдгара Аллана По иным, если бы на его жизненном пути не встретился марсианин, или же мрак, окутывавший его душу, все равно не позволил бы ему писать по-другому. Впрочем, этого никто не может знать. Рейнольдс, конечно, ошибался: я — могу, ибо мой взгляд способен проникнуть сквозь все возможные и невозможные преграды. Но Рейнольдс был всего лишь обычным человеком с таким же ограниченным кругозором, как у всех ему подобных людей. Выйдя из дверей больницы, он остановился перед ведущей вниз лестницей, щурясь от яркого утреннего солнца, окинул взглядом расстилавшуюся перед ним панораму: по булыжной мостовой катили экипажи и тележки бродячих торговцев, по тротуарам сновали взад-вперед пешеходы — то есть все то, что вместе составляло трепетную симфонию жизни, и вздохнул. Как бы то ни было, а звездный монстр в конце концов убил его друга. В некотором смысле марсианин победил их, нельзя не признать. Теперь он был единственным оставшимся в живых участником экспедиции на «Аннаване», единственным, кто знал, что в действительности произошло в Антарктике. Способен ли он дальше хранить эту тайну? Да, конечно, ответил он себе. Потому что у него нет выбора. Да и чем бы его утешила теперь возможность поделиться ею с кем-то? С кем? Со своей практичной и очаровательной Джозефиной? Кому нужно знать, что люди — не единственные обитатели Вселенной? Кучеру, правящему его экипажем, продавщице фиалок на углу, хозяину трактира, разгружающему бочки на противоположной стороне улицы? Пусть случится то, что должно случиться, подытожил он, следуя своему неподкупному здравому смыслу, надел шляпу и спустился вниз по каменным ступеням. Он не станет лишать человечество возможности и дальше безбоязненно наслаждаться манящей красотой звездного неба.
Но, по крайней мере, в последующие девять лет, а именно такой срок был отпущен Рейнольдсу, человечество не получило никаких подтверждений существования марсиан. Ну а о том, что произойдет позднее, он уже, разумеется, не мог знать. Возможно, его детям или внукам доведется увидеть, как с небес спускаются странные летательные аппараты. Но в ответе за это уже не будут ни он, ни Аллан, ни капитан Макреди, ни храбрец Петерс и никто из матросов, отдавших свою жизнь в Антарктиде, чтобы покончить со звездным демоном. Бороться с пришельцами придется другим. Они же сделали что смогли. После его смерти не останется в мире человека, который незаметно, пока его супруга созерцает вечернее небо, старательно пытаясь выделить на нем созвездия, опустит голову и переведет взгляд на странный шрам от ожога на своей руке, потому что боится, заглянув в звездную бездну, уловить направленный на него взгляд.
Рейнольдс не мог знать, — а если бы узнал, то, как говорится, перевернулся бы в гробу, — что через двадцать с лишним лет после его смерти новая экспедиция к Южному полюсу наткнется на обугленные останки «Аннавана», отплывшего из Нью-Йорка в 1829 году на поиски прохода к центру Земли. Они найдут обломки судна в зловещем окружении человеческих скелетов, а чуть поодаль, возле гряды гигантских айсбергов, обнаружат погребенный в снегу удивительный летательный аппарат. Но самым поразительным открытием станет закованное в лед странное существо, не похожее ни на одно из населяющих Землю. Для подробных исследований его под строжайшим секретом перевезут в Лондон. Потому что, не будем забывать: в этой истории никакой загадочный матрос по имени Гриффин никогда не плавал на «Аннаване». Следовательно, никто не взрывал марсианина и его тело не разлеталось на мелкие куски. Звездный монстр просто погрузился под антарктический лед на маленьком затерянном островке, который после женитьбы Джереми Рейнольдса стал отмечаться на картах как остров Джозефины.
XIII
Однако, если считать последствия неучастия матроса Гриффина в жизни Рейнольдса и Аллана единственной целью этого маленького эксперимента, то он не стоил подобных усилий, вы не находите? К счастью, цель эта более амбициозна, и состоит она в попытке продемонстрировать, как любой, даже самый простой, факт в конце концов влияет на жизнь большего числа людей, чем мы могли предположить вначале. Гриффин не плавал на «Аннаване», и это затронуло Рейнольдса и Аллана, но не только их, а еще и многих других персонажей этой истории, которые, словно трепещущие устрицы, сгрудившиеся на подносе, ожидают своей очереди доставить вам удовольствие. Правда, чтобы познакомиться с ними, нам придется перенестись во времени на несколько десятилетий вперед, а также переместиться в пространстве и очутиться жарким июньским полуднем 1898 года в Лондоне, в то время самом большом и высокомерном городе мира. Точнее, в одном из самых любопытных его районов — в Сохо, по которому шагает молодой мужчина, чрезвычайно худой и бледный, с птичьим лицом, по имени Герберт Джордж Уэллс. Обратите на него внимание. Вглядитесь в светлые усы, призванные придать больше взрослости его полудетскому лицу, в тонкий изгиб почти женских губ, в его светлые живые глаза, в которых невозможно не разглядеть биение острого, но непрактичного ума. Не пропустите ни одной детали, поскольку, несмотря на свой вполне обычный и не слишком героический вид, он-то как раз будет сопровождать нас до самого финала этой истории, хотите вы того или нет.
Уэллс направлялся в трактир «Корона и якорь», где у него была назначена встреча, которая, если все получится, пройдет совсем не так, как того ожидает пригласивший его господин. Речь шла о североамериканском писателишке по имени Гарретт П. Сервисс, имевшем наглость написать продолжение «Войны миров», его последнего романа, даже не поставив Уэллса об этом в известность и, видимо, полагая, что писателя этот факт порадует. Не то чтобы Уэллс считал свой роман шедевром, чьи достоинства неизбежно пострадают от того, что кто-то состряпал вторую часть. Нет, дело не в этом. Просто Уэллсу нравилось думать, что он живет в справедливом и внушающем уважение мире, где существует своего рода мораль художника, запрещающая использовать чужие идеи себе во благо, и бессовестные люди, совершающие подобное, заслуживают одного: чтобы их возможный талант вдруг иссяк, обрекая их зарабатывать себе на жизнь тем же неблагодарным трудом, что обычные люди. Хотя, если быть с вами откровенным, на самом деле ему было неприятно, что кто-то сумел не просто воспользоваться его идеей, но может извлечь из нее больший доход, чем извлек он сам. Вероятность того, что это произойдет, будоражила его, как мало что могло взбудоражить в этой жизни, вызывая сильное волнение на всегда спокойном пруду, с которым он любил сравнивать свою душу.
По правде говоря, он был неудовлетворен «Войной миров», так же как и всеми своими предыдущими книгами, считая, что снова не сумел достичь цели. В этом романе, где рассказывалось, как Земля была завоевана марсианами, которые обладали гораздо более развитой техникой, чем земляне, он подражал сэру Джорджу Чесни, насытившему веризмом свой роман «Битва при Доркинге», в котором, не скупясь на леденящие кровь сцены, описал вымышленное немецкое вторжение в Англию. Прибегнув к подобному же реализму, основанному на столь же детальных, сколь жестоких описаниях, Уэллс изобразил разрушение Лондона марсианами, действовавшими по отношению к людям абсолютно безжалостно, как если бы те были не мыслящими существами, а тараканами. В считанные дни наши космические соседи растоптали ценности и достоинство землян, продемонстрировав такое же пренебрежение к ним, какое британцы демонстрировали в отношении туземцев в колониях. Они захватили всю планету, поработив ее население и превратив Землю в своего рода курорт для представителей марсианской элиты. Ничто не могло сдержать их натиск. Ничто и никто. За этим мрачным сюжетом стояла сокрушительная критика ненасытного британского империализма, но поскольку публика верила, что Марс обитаем, — новые и более совершенные телескопы, как у итальянца Джованни Скиапарелли, обнаружили на красной планете сеть линий, после чего некоторые астрономы поспешили заявить с непоколебимой уверенностью, будто сами там побывали, что это каналы, построенные разумной цивилизацией, — открытие вселило в население страх перед марсианским вторжением, описанным в романе, и отвлекло внимание читателей от подлинных намерений автора. По правде говоря, это не слишком его удивило, поскольку нечто подобное случилось и с «Машиной времени», в которой дурацкий аппарат, давший название роману, совершенно затмил содержащуюся в нем острую критику классового общества.
И вот теперь этот самый Сервисс, который, кажется, довольно известен в своей стране как журналист, пишущий на научно-популярные темы, опубликовал продолжение его романа — «Эдисоновское завоевание Марса». Как следовало из названия, его героем был не кто иной, как сам Томас Эдисон, чьи бесчисленные изобретения превратили его в кумира американцев и назойливого персонажа самых разнообразных книг. В той, что служила продолжением романа Уэллса, неподражаемый Эдисон изобрел лучевое оружие и при поддержке всех наций мира построил флотилию межпланетных кораблей с антигравитационным двигателем и послал ее на Марс в качестве орудия возмездия. Именно таков был сюжет книги.
Когда Сервисс прислал ему свой роман, сопроводив письмом, в котором восхищался книгами Уэллса со столь карикатурным пылом, что того чуть не стошнило, и в туманных и витиеватых выражениях едва ли не требовал, чтобы писатель благословил пресловутое продолжение, то Уэллс ему даже не ответил. Ни на это, ни на полдюжины присланных вслед за ним писем, в которых Сервисс неутомимо добивался его одобрения и даже осмеливался предложить, учитывая их близость и общность интересов, каковые он, по его словам, уловил в книгах Уэллса, написать что-нибудь вместе. Не ответил, потому что, прочитав роман Сервисса, не испытывал ничего, кроме смешанного чувства гнева и отвращения. Беспомощная и глупая книжонка являла собой бесстыдное оскорбление для писателей, которые, как, например, он, старались выставить на витринах более или менее достойные товары. Правда, его молчание не остановило поток писем, а скорее даже усилило его. Но вот в последнем письме невозмутимый Сервисс просил оказать ему любезность и пообедать с ним, воспользовавшись тем обстоятельством, что на будущей неделе он на несколько дней приедет в Лондон, ибо ничто не могло бы сделать его более счастливым, чем возможность приятно провести несколько часов в беседе с почитаемым им писателем. И тогда Уэллс решил нарушить красноречивое молчание, которое, похоже, не возымело никакого действия, и принять приглашение — сесть напротив Сервисса и высказать ему все, что он на самом деле думает о его романе. Сервисс хотел узнать его мнение? Так он его получит. Уэллс ровным голосом, который ни на мгновение не перестанет быть вежливым и не выдаст клокочущую внутри ярость, скажет, какое отвращение вызвал у него главный герой, этот идеализированный Эдисон, поскольку ему, Уэллсу, изобретатель лампы накаливания показался довольно ненадежным субъектом, который совершенствовал свои изобретения за счет посторонних лиц, обладал дурным характером и с удовольствием конструировал смертоносное оружие. Он скажет, что роман Сервисса ни в коей мере не может считаться продолжением как из-за отсутствия в нем литературных достоинств, так и из-за своего омерзительного сюжета. Он скажет, что его главная идея, прямо противоположная идее уэллсовского романа, годится скорее для патриотического памфлета, поскольку примитивная мораль, которой пропитаны все эти жалкие страницы, может быть сведена к тому, что нехорошо соваться к землянам, а вернее: не рекомендуется беспокоить великого Томаса Эдисона и Соединенные Штаты. Он сделает это с особым удовольствием, зная, что после его уничтожающей критики платить за обед придется все равно Сервиссу.
Он так глубоко погрузился в свои мысли, что, когда вернулся в действительность, то обнаружил, что ноги сами привели его на Грик-стрит, куда ему было совершенно не нужно, и он помимо своей воли очутился перед зданием старого заброшенного театра, носившим двенадцатый номер. Но пусть вас не обманывает выражение удивления на его лице: это произошло далеко не случайно, поскольку все в жизни писателя было подчинено определенной цели и ничто не происходит само по себе, под влиянием естественных импульсов. В тех же редких случаях, когда эти импульсы его осаждали, им не удавалось проникнуть в его кровь, ибо рациональный ум писателя этому противился. Уэллс свернул туда сознательно, как бы ни старался свалить все на свои ни в чем не повинные ноги, и сделал это для того, чтобы как раз наткнуться на этот театр, в котором двумя годами раньше располагалась весьма экстравагантная фирма — «Путешествия во времени Мюррея». Как многие из вас помнят, названная фирма открыла двери для того, чтобы воплотить в жизнь самую, должно быть, заветную мечту человека: путешествовать во времени, а ее пробудил в обществе годом раньше сам Уэллс, опубликовав свой первый роман «Машина времени». Для начала фирма предлагала путешествие в конкретное будущее — 20 мая 2000 года, день, когда произойдет последняя битва за судьбу человечества, о чем сообщала афиша, до сих пор висевшая сбоку от фасада, на которой был изображен отважный капитан Шеклтон, направляющий свою шпагу на короля автоматов. Более века оставалось еще до этой знаменательной битвы, в которой капитану удастся спасти человечество от уничтожения, хотя благодаря «Путешествиям во времени Мюррея» за ней уже понаблюдала чуть ли не вся Англия. Несмотря на высокую цену билета, люди толпились у дверей фирмы, мечтая посмотреть, словно речь шла о новой опере, поединок, который обычным путем не могли увидеть в силу бренности их существования. Один Уэллс в этом не участвовал. Писатель, чей роман и вызвал весь этот ажиотаж, неизменно отказывался от путешествия в будущее, несмотря на многочисленные приглашения от самого Гиллиама Мюррея, владельца фирмы, которого газетчики с их обычным угодничеством и отсутствием воображения не замедлили окрестить Властелином времени и чья безвременная смерть, происшедшая в четвертом измерении, потрясла весь мир, возможно потому, что с ним умерла и тайна путешествий во времени. Уэллс, наверное, был единственным человеком на планете, кто не проронил ни слезинки по этому хвастливому толстяку, в память о котором на соседней площади даже воздвигли статую. Он был изображен надменно улыбающимся на пьедестале, выполненном в виде часов, при этом одну ручищу он поднял вверх, словно собирался совершить колдовство, а вторую опустил на голову Этерно, своего пса, к которому Уэллс питал такую же неприязнь, как и к его хозяину, не столько из-за безоговорочной преданности собаки Мюррею, сколько из-за страха перед собаками вообще, поселившегося в нем с тех пор, как однажды, когда он шел по улице в Бромли, направляясь домой, из-за кустов выскочил огромный пес и укусил его за руку с таким деловитым видом, будто действовал по заранее намеченному плану.
Уэллс остановился тут, потому что старый театр напомнил ему о последствиях того, что он прямо выложил одному автору свое мнение о его романе. Дело в том, что до того как превратиться во Властелина времени, Мюррей был молодым человеком, мечтавшим о куда более скромной метаморфозе: стать писателем. Как раз тогда, три года назад, Уэллс с ним и познакомился. Будущий миллионер попросил помочь ему с публикацией своего никуда не годного романа, но Уэллс отказал ему, высказавшись с излишней, возможно, резкостью, потому что не мог сдержаться. Эта ничем не прикрытая откровенность неизбежно сделала их врагами, как я вам уже подробнейшим образом рассказывал в другом месте. Из этого Уэллс извлек урок: в определенных случаях лучше солгать. Что он приобрел, сказав правду? Ничего. Если бы он от этого воздержался, многое сложилось бы по-иному. Что он приобретет, высказав все Сервиссу? Наверное, тоже ничего. Но, хотя Уэллс во многих других случаях умел солгать недрогнувшим голосом, к сожалению, случались и такие обстоятельства, в которых он не мог не быть искренним: если книга ему не нравилась, он был неспособен сказать обратное. Как он полагал, человека характеризуют прежде всего его вкусы, и был не в состоянии примириться с мыслью, что его сочтут безвкусным, если он объявит, что ему понравилось «Эдисоновское завоевание Марса».
Взглянув на часы, Уэллс обнаружил, что время встречи приближалось, и потому бросил последний взгляд на здание и направился по Чаринг-кросс-роуд в сторону Стрэнда, где и находился трактир, в котором они с Сервиссом договорились встретиться. Он решил заставить журналиста ждать себя, чтобы тот с самого начала почувствовал его презрительное отношение. Однако если Уэллс что и ненавидел больше, чем лгать относительно своих вкусов, так это опаздывать на встречу, поскольку наивно полагал, что если он будет приходить вовремя, то, по правилам вселенской справедливости, и его не будут заставлять ждать. Правда, пока ему не удавалось доказать, что одно зависит от другого: не раз приходилось ему с непроницаемым лицом торчать на углу или беззащитным клиентом караулить столик в многолюдном ресторане. Тем не менее писатель прибавил шагу, но он достигнет своей цели только через несколько минут, а потому воспользуюсь случаем, чтобы рассказать о нем кое-что еще, поскольку, как я вас уже предупреждал, он станет одним из главных персонажей этой истории. Начну с его детства, ибо человек — это всего лишь обученный манерам ребенок, а потому, пока он шествует по ярко освещенному шумному Стрэнду, сообщу вам, что Уэллс вырос вдали от улиц, подобных этой, которая, кажется, вобрала в себя всю суету мира. Он родился в городке Бромли графства Кент, в скромном домишке, где на первом этаже располагалась посудная лавка, которой кое-как управляли его родители. На заднем дворе, единственном открытом месте возле дома, обычно играл будущий писатель, который сейчас, не замедляя шага, рассматривал кусочек Темзы, поблескивающий между двумя постройками. Если взобраться на увитую плющом ограду в глубине двора, то можно было увидеть загоны мистера Ковелла, мясника, где постоянно томились многочисленные свиньи и овцы, жалобно стенавшие по ночам, словно их приносили в жертву некоему важному божеству, а не приберегали для местных клиентов. Слева виднелись теплицы мистера Манди, где он выращивал шампиньоны, удобряя их конским навозом, который его дети собирали на главной улице в деревянную тачку, а справа… Впрочем, боюсь, вы не успеете узнать, что находилось справа от заднего двора, так как, к моему удивлению, Уэллс уже подошел к трактиру — с безукоризненной пунктуальностью благодаря тому, что последний отрезок пути преодолел, забавно чередуя неуклюже сдерживаемый бег с бодрой трусцой. И вот он стоит, тяжело дыша, перед дверью трактира, на которой висит листок с его именем, раскачивающийся от легкого ветерка.
Не зная, как выглядит Сервисс, писатель не стал терять время и рассматривать сидевших внутри через окна, как обычно поступал: таким образом он проверял, пришел ли тот, с кем он договаривался, и, если нет, исчезал на ближайшей улице, чтобы не спеша появиться через несколько минут, а не ждать внутри под сочувствующими взглядами посетителей. Но сегодня Уэллс решительно вошел в трактир и остановился посередине зала, чтобы Сервисс его сразу заметил. К счастью, тут же худощавый и потрепанный жизнью человечек лет пятидесяти поднял руку в знак приветствия, и бесцветная улыбка появилась из-под его пышных усов. Поняв, что это Сервисс, Уэллс с трудом скрыл разочарование. Он предпочел бы, чтобы его соперник, которому он собирался без обиняков высказать свое мнение, имел более грозный и самодовольный вид, а не выглядел бы столь убого. Чтобы заглушить жалость, которую, несмотря ни на что, вызывал у него этот тщедушный человечек, он заставил себя вспомнить, что сделал этот субъект, и направился к заказанному столику. Сервисс раскрыл ему навстречу свои объятья, и нелепая улыбка заиграла на его лице, словно он был сиротой и желал, чтобы Уэллс его усыновил. Затем он обрушил на писателя поток слов, не уступая в красноречии продавцу средства для роста волос.
— Какая честь и какая радость, мистер Уэллс! — восклицал он, пустив в ход весь свой арсенал почтительных жестов и ужимок, в котором отсутствовали разве что глубокие поклоны. — Вы не представляете, до чего я рад с вами познакомиться. Садитесь же, будьте так любезны. Пинту пива? Официант, повторите, пожалуйста, ибо беседа литературных титанов должна пройти так, как полагается. Человечество не простит, если наши возвышенные рассуждения будут прерваны из-за сухости в горле. — После такого скомканного вступления официант, тертый малый, которого, как видно, хорошенько потрепала жизнь, стал поглядывать на них с пренебрежительным снисхождением как на людей, занимающихся чем-то столь неосязаемым, как искусство. Сервисс уставился своими маленькими глазками на Уэллса. — А скажите-ка мне, Джордж, — вы позволите называть вас Джорджем? — что вы ощущаете, когда каждый из ваших романов сотрясает общество? Каков ваш секрет? Может, вы владеете инопланетным пером? Ха-ха-ха…
Уэллс даже не улыбнулся в ответ. Он прислонился к спинке стула и молча ждал, пока звонкий смех американца не растает в воздухе, с мрачным выражением на лице, более подходящим для участника траурной церемонии, чем для человека, собирающегося отобедать со своим приятелем.
— Ладно, ладно, не буду приставать к тебе, Джордж, — продолжал Сервисс, сделав вид, будто огорчен его реакцией, — однако не могу не выразить тебе моего восхищения.
— Не тратьте попусту ваши похвалы, — сказал Уэллс, решивший поскорее взять нить разговора в свои руки. — То, что вы написали продолжение моего последнего романа, говорит само за себя, мистер Се…
— Просто Гарретт.
— Хорошо, Гарретт, — согласился Уэллс, хотя его и коробили фамильярность, к которой его принуждал Сервисс, и шутливый тон, который тот старался придать разговору. — Я сказал тебе, что…
— В любом случае комплименты никогда не повредят, тебе не кажется, Джордж? — вновь перебил его американец. — Особенно, если они заслуженны, как в твоем случае. Я тебе честно признаюсь: мое восхищение тобой родилось не сегодня. Он возникло, когда… Постой-ка… Ну да, пару лет назад, после того как я прочел «Машину времени», твой первый и потому показавшийся мне таким необыкновенным роман.
Уэллс вяло кивнул и отпил большой глоток из своей кружки. Ему необходимо было как можно скорее вклиниться в этот словесный поток, чтобы высказать американцу свое мнение о его романе. Чем позже он это сделает, тем в более неудобном положении окажутся они оба. Но Сервисс, похоже, не собирался предоставить ему такую возможность.
— И по счастливой случайности вскоре после публикации твоего романа был открыт способ путешествовать во времени, — продолжал он, театрально покачивая головой, будто до сих пор не мог оправиться от удивления. — Ты небось побывал в двухтысячном году и наблюдал за великой битвой, решавшей судьбу человечества?
— Нет, в будущем я не был, — сказал Уэллс, не желая распространяться на эту тему.
— Не был? А почему? — удивился американец.
Уэллс несколько секунд молчал, вспоминая, как, пока совершались «Путешествия во времени Мюррея», ему приходилось демонстрировать ледяное достоинство всякий раз, когда кто-нибудь заводил об этом разговор. В подобных ситуациях, повторявшихся с раздражающей частотой, Уэллс обычно прибегал к насмешливым комментариям, призванным выставить в смешном свете воодушевление своего собеседника. Уэллс представлял дело так, будто он парит над действительностью или опережает ее, но в любом случае далек от повседневной суеты, чего, кстати, чернь и ожидала от любого писателя, отчего-то приписывая ему более возвышенные и менее вульгарные, чем у нее, интересы. В иных случаях, когда Уэллс был не в настроении насмешничать, он давал понять, что оскорблен ценою билета. Эту версию он и решил изложить Сервиссу, полагая, что первую тот вряд ли проглотит, будучи все-таки тоже писателем.
— Потому что я думаю, Сервисс, что будущее принадлежит всем и никто не должен быть лишен возможности увидеть его из-за того, что он не располагает нужной суммой.
Сервисс непонимающе взглянул на него, а потом быстро провел по лицу рукой, словно стряхивая с него прилипшую паутину.
— Ага, понятно! Ты уж прости мою неделикатность, Джордж: билет был чересчур дорог для таких бедных писателей, как мы с тобой… — по-своему понял он Уэллса. — Если честно, я тоже не смог оплатить поездку. Правда, я начал копить, чтобы в конце концов попасть на знаменитый «Хронотилус», понимаешь? Мне хотелось увидеть грядущую войну. Я просто мечтал об этом. И даже задумал, когда окажусь в двухтысячном году, сбежать от своей группы и пожать руку отважному Шеклтону с благодарностью за то, что все наши мечты и чаяния не оказались напрасными. Ведь разве могли бы мы следовать прежним путем, делать изобретения и создавать произведения искусства, если бы знали, что в двухтысячном году на Земле не останется ни одного человека, способного наслаждаться ими, что не останется даже следа от всех наших достижений, что по вине злокозненных автоматов человек и все, что он сумел создать, исчезнет, как будто их и вовсе не было? — Выпалив это, Сервисс словно уменьшился в размерах, как проколотый воздушный шарик, после чего продолжил уже с грустью в голосе: — Но у нас уже не будет возможности отправиться в будущее, Джордж. Ни у тебя, ни у меня. Очень жаль, потому что сейчас у тебя денег наверняка более чем достаточно, чтобы совершить такое путешествие. Полагаю, тебя тоже огорчило известие о закрытии фирмы «Путешествия во времени» ввиду кончины мистера Мюррея.
— Еще как, — насмешливо произнес Уэллс.
— Газеты писали, что его съел дракон, один из тех, что обитают в четвертом измерении, — медленно припоминал Сервисс, — причем все произошло на глазах у его сотрудников, и те ничего не смогли сделать, чтобы этому помешать. Ужасное зрелище, должно быть.
«Да, Мюррею удалось впечатляюще обставить свою смерть», — подумал Уэллс.
— И что же теперь? Как пробиться в четвертое измерение? Думаешь, оно навсегда для нас закрыто? — спросил Сервисс.
— Не знаю, — равнодушно ответил Уэллс.
— Ну ладно, может, нам удастся побывать где-нибудь еще. Может, наша судьба — путешествия в пространстве, а не во времени, — утешился Сервисс, допивая свое пиво. — Возьми хотя бы небо, это непостижимое пространство без конца и края. Оно полно неожиданностей, ведь правда, Джордж?
— Возможно… — согласился Уэллс и нервно задвигался, будто сидел не на стуле, а на горячей сковородке. — Но мне бы хотелось поговорить о вашем романе, мистер Се… Гарретт.
Сервисс резко выпрямился и настороженно взглянул на Уэллса, словно ищейка, взявшая след. Довольный, что ему наконец удалось переключить внимание американца на пресловутый роман, Уэллс одним глотком допил свое пиво, чтобы набраться смелости и обрести столь необходимое сейчас спокойствие, и это не прошло незамеченным для его собеседника.
— Официант, еще пива, пожалуйста, а то лучший в мире писатель погибнет от жажды! — крикнул он, намеренно кривляясь, чтобы привлечь к себе внимание. Затем выжидающе посмотрел на Уэллса. — Ну что, дружище, понравился тебе мой роман?
Уэллс молчал, пока официант ставил на столик кружки с пивом и оценивающе поглядывал на него. Поняв, что стал объектом внимания, он машинально выпрямился на стуле и выпятил грудь, словно величие писателя должно было отражаться не только в его книгах, но и во внешности, этом случайном смешении генов, с которым мы приходим в мир и потом всячески пытаемся изменить, чтобы выглядеть солиднее, отпуская усы, бороду, длинные бакенбарды, нося дорогую одежду или прибавляя в весе и обретая тем самым пугающую округлость.
— Ну… — начал Уэллс, когда официант удалился.
— Да? — спросил Сервисс с детской надеждой в голосе.
— Кое-что получилось… — Уэллс замолчал, и между ними сразу же установилась бездонная, как пропасть, тишина, — просто замечательно.
Сервисс взволнованно дернулся на стуле.
— Кое-что. Получилось. Просто. Замечательно, — отрешенно повторил он, словно пробуя каждое слово на вкус. — Что именно?
Уэллс отхлебнул пива, чтобы выиграть время. Черт побери, что же замечательного можно найти в романе Сервисса?
— Например, космические костюмы. Или кислородные пилюли, — ответил он, потому что это были единственные стоящие детали в пресловутом романе. — Очень… очень изобретательно.
— Спасибо, Джордж! Я знал, что мой роман тебе понравится. Я знал! — выкрикнул Сервисс почти в экстазе. — Разве могло быть иначе? Конечно нет. Мы же с тобой родственные души, да просто близнецы, в литературном смысле, разумеется. Впрочем, как знать, может, и не только в литературном… О мой друг, мы с тобой творим нечто, до сих пор совершенно неизвестное, ты это понимаешь? Очень скоро наши романы отделятся от общего потока литературы и образуют свое особое направление. Мы с тобой, Джордж, творим историю. Нас будут считать отцами нового жанра. Вместе с Жюлем Верном, конечно. Было бы несправедливо забыть французика. Мы все вместе, втроем, изменяем литературу.
— Мне совершенно неинтересно создавать какой-то новый жанр, — перебил его Уэллс, все больше злясь на себя за то, что не сумел направить разговор в нужное русло.
— Знаешь, я думаю, не нам это решать, — возразил Сервисс, подтвердив свои слова кивком. Было видно, что он не хочет дальше углубляться в эту тему. — Давай лучше поговорим о твоем последнем романе, Джордж. Он такой страшный, с этими марсианскими воздушными кораблями в форме ската, облетающими Лондон… Хотел только спросить тебя насчет одной вещи: если, после того как ты написал «Машину времени», был открыт способ путешествовать во временных потоках, то не боишься ли ты, что теперь к нам пожалуют марсиане?
Уэллс невозмутимо глядел на него, стараясь определить, серьезно ли он говорит или это очередная шутка, но Сервисс ожидал ответа с не свойственной ему серьезностью.
— То, что я описал вторжение марсиан, Гарретт, вовсе не означает, что я непременно верю в то, что на Марсе есть жизнь, — нехотя объяснил он. — Это всего лишь аллегория. Я избрал Марс скорее как метафору, потому что он носит имя бога войны и из-за его красноватого цвета.
— Ну да, такой волнующий вид ему придает окись железа, присутствующая в вулканическом базальте, который покрывает его поверхность, словно кровавая мантия, — поспешил похвастаться своими знаниями Сервисс.
— Единственной моей целью было осуждение европейской колонизации Африки, — продолжал Уэллс, не обращая внимания на Сервисса. — Кроме того, я хотел предупредить об опасности, которую таят в себе исследования в области вооружений, в то время как в Германии происходит процесс милитаризации, вызывающий у меня по меньшей мере беспокойство. Но самое главное, Гарретт, я хотел предупредить людей, что все то, что нас окружает, будь то наука или религия, может оказаться бесполезным перед лицом нападения высшей расы.
Он умолчал о том, что помимо всего прочего роман позволил ему свести счеты с собственным прошлым, ибо первые разрушения, произведенные марсианами, пришлись как раз на такие места, как Хорселл или Аддлстон, где прошло его не слишком счастливое детство.
— И это удалось тебе в полной мере, Джордж! Еще как удалось! — с унылым восхищением признал Сервисс. — Именно это и заставило меня написать мой роман: я должен был дать людям надежду, которую ты у них отнял.
«Неужели надежда — Эдисон?» — подумал Уэллс, и это почему-то показалось ему забавным. Он почувствовал, как его обволакивает уютное тепло, и никак не мог понять, то ли это результат выпитых кружек, которыми был уставлен уже почти весь стол, то ли все дело в очаровательной привычке этого щуплого человечка соглашаться со всем, что бы он ни сказал. Так или иначе, он не мог отрицать, что ему начинает здесь нравиться и что разговор у них получился вовсе не такой неприятный, как он себе воображал, более того — планировал. Он не знал, как это вышло, но они обсудили роман Сервисса, и ничего не произошло. Да и как могло произойти, подумал он, если единственное, что он сумел выдавить из себя, было слово «замечательно», которое никак не может считаться отрицательной оценкой, ибо с незапамятных времен используется в положительном смысле… Вот уже несколько минут, как они сменили тему разговора, так для чего же возвращаться назад? Для того только, чтобы высказать Сервиссу все начистоту, как три года назад он поступил с Мюрреем? Но проделывать это сейчас ему не хотелось, с удивлением подумал он. Но почему? Разве американец не заслуживал наказания за то, что осмелился продолжить его роман? Наверное, заслуживал, но он, Уэллс, не ощутил бы от разноса никакой радости, скорее наоборот. Тут он вспомнил, как во время чтения романа Сервисса его безумный и, очевидно, совершенно непроизвольный юмор заставлял Уэллса не раз и не два улыбнуться уголками губ, отчего его усы начинали вздрагивать. И хотя он неоднократно отшвыривал от себя книгу, возмущенный неумением и глупостью автора, однако же потом неизменно подбирал ее с пола, чтобы, извинившись перед самим собой, продолжить чтение. Было в манере Сервисса что-то такое, что вызывало непонятную симпатию. То же самое происходило с безумными письмами американца. В конце концов он всегда комкал их и швырял в камин, но сперва непременно прочитывал. И, как он все больше убеждался, их автор, такой жалкий и неудачливый во всем, пробуждал в нем такую же нежность, как и его писания. Это означало, что он прекрасно может оставить свое мнение при себе, дабы не обижать его, и если он не поступил так же с Мюрреем, то только потому, что тотчас почувствовал неприязнь к нему из-за его властных манер. Неожиданно он понял, почему столь безжалостно с ним обошелся: под предлогом уничтожающей критики его романа он хотел уничтожить непомерное эго его автора. Напротив, Сервисс был не уверенным в себе и робким простаком, не способным культивировать в себе какое бы то ни было эго.
— Ты никогда не думал сделать другой финал, чтобы мы смогли победить марсиан? — застенчиво спросил Сервисс, выведя его из задумчивости.
— Каким образом, Гарретт? — возмутился Уэллс. — Что у нас на Земле есть такого, что могло бы одолеть описанную мною марсианскую технику?
Сервисс пожал плечами, не зная, что возразить.
— Но в любом случае я должен был предложить какую-то альтернативу, чтобы им засиял хотя бы лучик надежды… — пробормотал он, с грустной улыбкой разглядывая посетителей, заполнивших заведение. — И мне, и всем им хотелось бы думать, что, если когда-нибудь мы подвергнемся нашествию инопланетян, у нас будет возможность выжить.
— Наверно, такая возможность будет, — смягчился Уэллс, которому все больше нравился этот тип, провозгласивший себя поборником человеческой надежды. — Но мое недоверие к человеку слишком глубоко, Гарретт. Если и существует какой-то способ победить марсиан, это будет не наша заслуга, я в этом уверен. Возможно, разгадка лежит там, где мы менее всего ожидаем. Кстати, почему это тебя так беспокоит, ты что, действительно веришь в нашествие наших соседей с Марса?
— Ну разумеется, верю, Джордж, — со всей серьезностью подтвердил Сервисс. — Но полагаю, что это случится после двухтысячного года. Прежде мы должны заняться автоматами.
— Автоматами? Ах да, конечно…
— Но я совершенно убежден в том, что рано или поздно марсиане вторгнутся на Землю, — настаивал Сервисс. — Разве ты не согласен, что каналы на Марсе построены разумными существами, как утверждает в своей книге Лоуэлл?
Уэллс читал книгу о Марсе Персиваля Лоуэлла, защищавшего эту точку зрения, и даже использовал ее для обоснования сюжета своего романа, но до веры в существование жизни на Марсе ему было еще далеко.
— Полагаю, что миллиарды планет в нашей Вселенной выполняют не одну лишь декоративную функцию, — ответил Уэллс, считавший споры о существовании жизни в других мирах бесплодным занятием. — И вполне разумно предположить, что на сотнях таких планет существуют необходимые для жизни условия. Но если мы ограничимся исключительно Марсом…
— И даже совершенно необязательно, чтобы там были кислород или вода, — взволнованно заметил Сервисс. — Да на нашей собственной планете живут существа, например анаэробные бактерии, не нуждающиеся в кислороде. Таким образом, число планет, пригодных для жизни, удваивается. Я бы сказал, что на более чем ста тысячах из них может существовать цивилизация, более развитая, чем наша, Джордж. И я уверен, что грядущие поколения обнаружат изобильную и необычайную жизнь на таких планетах и в конце концов смиренно признают — правда, мы уже этого не застанем, — что они не единственные и наверняка не самые древние носители разума в космосе.
— Согласен, — отозвался Уэллс, — но тоже уверен, что эта «жизнь» не будет иметь ничего общего с нашим представлением о жизни. Нам будет так же трудно постичь ее, как собаке — устройство паровоза. Быть может, их мировоззрение, к примеру, даже не предполагает желания исследовать Вселенную, в то время как мы, земляне, не перестаем смотреть на небо и спрашивать себя, одиноки мы или нет во Вселенной. Сам Галилей задавался этим вопросом.
— Да, но только он не формулировал его слишком громко, чтобы не раздражать церковь, — пошутил Сервисс.
Слабая, как бабочка, улыбка затрепетала на губах Уэллса, почувствовавшего, что алкоголь смягчил черты его лица в достаточной степени, чтобы не прогонять ее, вновь изображая неприязнь, как в начале разговора. К собственному удивлению, ему этого и не хотелось. Такую улыбку Сервисс у него честно заработал, и с ней нельзя было расставаться. Согнать ее — все равно что зашивать рану во время дуэли на рапирах.
— Разумеется, мы не можем отрицать, что человек издавна стремился наладить контакт с предполагаемыми обитателями Вселенной, — сказал Сервисс, и Уэллс тотчас увидел, как на столе, словно по волшебству, появились две новые кружки, полные до краев. — Помнишь немецкого математика, который пытался направить отраженный солнечный луч в сторону планет с помощью изобретенного им инструмента под названием гелиотроп? Как его звали? Не Гроув?
— Кажется, Грей. Или Гаусс, — засомневался Уэллс.
— Да-да, Гаусс. Его звали Карл Гаусс.
— Он еще предложил посадить посреди русской степи сосны в виде гигантского прямоугольного треугольника, чтобы наблюдатели из других миров поняли, что на Земле живут существа, способные понять теорему Пифагора.
— Да, помню, — улыбнулся Сервисс. — Он говорил, что никакая геометрическая фигура не может быть истолкована как умышленная конструкция.
— А астроном, которому пришло в голову залить керосин в круговой канал, прорытый в пустыне Сахара, и поджечь его ночью, чтобы обозначить наше присутствие? — вдруг припомнил Уэллс.
— Да, превосходный сигнал!
Уэллс неожиданно для себя рассмеялся. Сервисс отметил это, осушив одним духом свою кружку и предложив собеседнику последовать его примеру. Уэллс не смог отказаться.
— Последнее, что я слышал, — это то, что собираются установить рефлекторы на Эйфелевой башне, чтобы послать солнечный луч на Марс, — сообщил он, пока Сервисс заказывал еще пива.
— Боже правый, какое упорство! — воскликнул американец и придвинул к собеседнику очередную кружку.
— Верно, — подтвердил Уэллс, с удивлением замечая, что слова даются ему с трудом и язык начинает заплетаться. — Похоже, земляне думают, будто обитатели Вселенной способны увидеть все то, что нам приходит в голову.
— Видимо, все свои денежки они тратят на телескопы, — пошутил Сервисс.
Уэллс долго сдерживался, но в конце концов не выдержал и рассмеялся. Его смех заразил Сервисса, который вдобавок начал стучать кулаками по столу, вызвав небольшое смятение в зале и осуждающие взгляды официанта и сидевших поблизости посетителей. Такое внимание публики, однако, не смутило американца, и он с вызывающим видом стал стучать еще сильнее. Уэллс радостно смотрел на него, словно отец, который гордится забавными выходками своего отпрыска.
— Ну ладно… Так ты полагаешь, что никто не станет завоевывать нашу крошечную планету, затерявшуюся в безбрежном космосе? — подытожил Сервисс, когда немного успокоился.
— Именно. Заметь, что ничто не происходит так, как ты предполагаешь. Это почти математический закон. А потому нам, например, никогда не придется пережить такое марсианское нашествие, каким я его изобразил в своей книге.
— Неужели?
— Никогда! — решительно заявил Уэллс. — Посмотри, сколько появилось книг, посвященных контактам с другими мирами, Гарретт. Кажется, любой может написать такую. Но если бы встречи с инопланетными существами происходили в будущем именно так, как описываем их мы, писатели, то тогда мы могли бы говорить о таком явлении, как литературное предсказание.
Сказав это, он отхлебнул пива с неприятным ощущением, что произнесенная им тирада относится к разряду всего лишь экстравагантных предположений.
— Да, — согласился американец, который, похоже, не счел его рассуждения сумасбродными. — И возможно, наши наивные правители в конце концов все-таки заподозрят, что злокозненные обитатели космоса ввели в наше подсознание все эти образы посредством ультразвуковых лучей или гипноза, дабы подготовить человечество к будущему вторжению.
— Правдоподобно! — захохотал Уэллс.
Сервисс присоединился к нему и снова забарабанил по столу, к недовольству официанта и сидевших неподалеку клиентов.
— Стало быть, как я тебе сказал, — продолжил Уэллс, когда Сервисс немного успокоился, — пусть даже жизнь на Марсе либо на какой-то другой планете нашей обширной Солнечной системы существует… — Величественным жестом он указал на небо и был явно недоволен, что не может его увидеть сквозь поддерживаемый балками потолок. Несколько секунд он разочарованно глядел на него. — Черт… О чем я сейчас говорил?
— По-моему, ты собирался что-то сказать… о жизни на Марсе, — подсказал Сервисс, тоже разглядывавший потолок с некоторым подозрением.
— Ах да, на Марсе… — с трудом вспомнил Уэллс. — Я хотел сказать, что даже если бы там существовала жизнь, она никак не могла бы сравниться с нашей, а потому изображать звездные корабли, построенные на марсианских заводах, не только нелепо, но и смешно.
— Хорошо. Ну а если бы я тебе сказал… — Сервисс постарался сделать серьезное лицо, — что ты ошибаешься?
— Ошибаюсь? Ты не можешь сказать мне, Гарретт, что я ошибаюсь.
— Ну, если бы я доказал тебе обратное, мой дорогой Джордж? — Сервисс нагнулся к нему, загадочно улыбаясь. — Знаешь ли ты, что в юности я какое-то время был одержим идеей существования жизни на других планетах?
— В самом деле? — произнес Уэллс с глупой усмешкой, ощущая приятное возбуждение под влиянием алкогольных паров.
— Да, и я рылся в газетах, в старинных трактатах и эссе в поисках… сигналов. Знал ли ты, например, что в тысяча пятьсот восемнадцатом году нечто, названное «подобием звезды», появилось в небе над кораблем конкистадора Хуана де Грихальвы, а затем удалилось, извергая огонь и направив световой луч на землю?
— Черт подери, а я и понятия не имел! — прикинулся удивленным Уэллс.
Сервисс снисходительно улыбнулся в ответ на его иронию.
— Я мог бы привести тебе десятки собранных мною подобных примеров, и все они свидетельствуют о посещении Земли в прошлом инопланетными летательными аппаратами, — заверил он, не переставая улыбаться. — Однако уверен я в том, что обитатели других миров уже посещали Землю, не поэтому.
— Правда? Так почему же?
Сервисс наклонился над столом и, драматически понизив голос, сообщил:
— Потому что я своими глазами видел одного марсианина.
— Ха-ха-ха… И где же ты его видел, в театре или на улице? А может, это новый талисман королевы?
— Я не шучу, Джордж, — сказал Сервисс, снова выпрямившись и ласково глядя на Уэллса. — Я видел одного из них.
— Ты пьян! — воскликнул Уэллс.
— Я не пьян. А если и пьян, то не настолько, чтобы не понимать того, что говорю. Повторяю: я видел этого треклятого марсианина. Собственными глазами видел. Я даже дотронулся до него вот этими руками, — настаивал американец, выставив перед собой руки, словно Ирод в ожидании таза с водой.
Некоторое время Уэллс смотрел на него с серьезным лицом, а затем громко расхохотался, чем привлек внимание едва ли не половины посетителей.
— Ты очень забавный тип, Гарретт, — проговорил он, отсмеявшись. — Я даже готов простить тебе твой роман, который ты использовал, чтобы…
— Это произошло лет десять назад или даже больше, я точно не помню, — сказал Сервисс, проигнорировав его слова. — Я тогда приехал на несколько дней в Лондон и занимался в Музее естествознания, подбирая материалы для серии статей, над которой я работал.
Поняв, что Сервисс не шутит, Уэллс выпрямился на стуле и попытался вслушаться в то, что он говорил, чувствуя, как пол трактира легонько покачивается у него под ногами, словно они пили пиво в лодке, плывущей по реке.
— Если мне не изменяет память, музей, который, как ты знаешь, был построен для хранения постоянно растущего количества окаменелостей и скелетов, уже не помещавшихся в Британском музее, тогда только что распахнул свои двери, — мечтательно продолжил Сервисс. — Все там казалось новым и в высшей степени поучительным, словно посетителям и в самом деле хотели дать представление о мире в упорядоченной и занимательной форме. Сознавая, что многочисленные исследователи рисковали жизнью или, по крайней мере, здоровьем, для того чтобы дамочки из Вест-Энда замирали от страха, разглядывая цепочку муравьев марабунта[4], я бродил по залам и галереям музея как благодарный зевака. Из застекленных витрин на меня в изобилии глядели разнообразные диковинки, разжигавшие в душе мощное желание приключений, стремление узнать дальние страны, которое, к счастью, в конце концов гасилось моей привязанностью к благам цивилизации. Стоило ли жертвовать театральным сезоном для того, чтобы увидеть, как какой-нибудь гиббон прыгает с ветки на ветку? Для чего ехать так далеко, когда другие готовы доставить чуть ли не к порогу твоего дома всю экзотику мира, невзирая на затяжные дожди, зверские морозы и диковинные болезни? Поэтому я ограничивался созерцанием разнообразного содержания музейных витрин как истинный профан и невежда. Впрочем, то, что действительно привлекло мое внимание, не было выставлено ни в одном из залов.
Уэллс слушал его, храня почтительное молчание и не желая перебивать до тех пор, пока не станет ясен конец этой истории. Он сам ощутил нечто похожее, когда впервые посетил этот музей, а потому воспоминания Сервисса не удивили его.
— На второй или третий день я заметил, что директор музея время от времени незаметно проводит группу посетителей в подвалы здания. И должен сказать, в составе этих групп я часто видел некоторых видных ученых, а иной раз даже министров. Помимо директора их всегда сопровождали двое агентов Скотленд-Ярда. Как ты догадываешься, эти странные регулярные экскурсии в подвалы возбудили во мне любопытство, и как-то раз я оставил свои занятия и решил последовать за ними. Процессия прошла сквозь лабиринт подземных коридоров и остановилась перед загадочной дверью, которая была постоянно заперта. Старший по возрасту агент, приземистый толстячок с экстравагантной повязкой на одном глазу, отдал распоряжение своему коллеге, совсем еще молоденькому. Тот деловито снял с шеи ключ, открыл замок и пригласил всех зайти внутрь, чтобы тут же запереть за ними дверь. Мне достаточно было услышать вопросы, которыми обменивались между собой сотрудники музея, чтобы понять, что никто из них толком не знал, что находится в этом помещении, получившем название Палаты чудес. Когда я осведомился у директора, что там, его ответ меня огорошил. Вещи, о существовании которых человечество никогда даже не заподозрит, сказал он мне с высокомерной усмешкой и посоветовал продолжать любоваться растениями и насекомыми в витринах, ибо существуют границы, которые не всякому дано переступить. Как ты понимаешь, его слова взбесили меня, равно как и тот факт, что я никогда не обрету достоинств, которые позволили бы мне присоединиться к одной из групп, что с завидной регулярностью получали доступ к неведомому. Видимо, я не был столь важной шишкой, как эти корифеи науки, удостоившиеся особой экскурсии. Так что я проглотил обиду и свыкся с мыслью, что вернусь в Соединенные Штаты, познав лишь ту часть мира, которую захочет мне показать кучка бессердечных заправил. Однако, в отличие от директора музея, Провидение почему-то сочло важным, чтобы я ознакомился с коллекциями Палаты. Иначе совершенно непонятна та легкость, с которой я туда попал.
— Как же тебе это удалось? — удивился Уэллс.
— В последний день моего пребывания в Лондоне я очутился в одном лифте с агентом Скотленд-Ярда, тем, что помоложе, и попытался выудить у него хоть какие-то сведения о том, что находится в охраняемом им помещении. Но тщетно, так как юноша оказался непреклонным. Он не клюнул даже на мое приглашение выпить пива в ближайшем пабе, сказав, что ничего не пьет, кроме сассапариля. Ну кто в наше время пьет сассапариль? Ладно, не буду отвлекаться: когда мы вышли из лифта, он вежливо попрощался и устремился к галерее, которая вела к выходу, не замечая моего взгляда, полного затаенной злости. И тут, к своему удивлению, я увидел, как он вдруг остановился посреди коридора, словно не знал, куда идти дальше, потом зашатался и рухнул на пол, как марионетка, у которой вдруг обрезали все нитки. Я, конечно, перепугался, потому что подумал, что он на моих глазах умер от внезапного сердечного приступа или чего-то в этом роде. Я быстро подбежал, расстегнул ему рубашку, чтобы проверить пульс, и с облегчением обнаружил, что он жив. Просто он упал в обморок, как какая-нибудь барышня из-за чересчур затянутого корсета. Лицо у него было испачкано в крови, но, как я заметил, виной тому была всего лишь разбитая при падении бровь, которая сильно кровоточила.
— Наверное, у него упало давление, — предположил Уэллс.
— Может быть, может быть, — рассеянно повторил Сервисс. — И тогда…
— Или понизилось содержание сахара в крови. А возможно, тепловой удар. Хотя я склоняюсь к тому, что…
— Какая, к чертям, разница, Джордж! Он упал в обморок, и точка! — рассерженно проговорил Сервисс, которому не терпелось продолжить свою историю.
— Извини, Гарретт, — сконфуженно произнес Уэллс. — Продолжай.
— А на чем я остановился? — проворчал американец. — Ах да… В общем, я пребывал в растерянности. Но это состояние длилось недолго и почти сразу сменилось чем-то более похожим на алчность, когда я увидел на шее агента необычный ключ. Он был позолочен и украшен парой изящных ангельских крылышек. Я тут же смекнул, что именно этим красивым ключом отпиралась дверь Палаты чудес.
— И ты украл его! — возмутился Уэллс.
— Ну…
Сервисс пожал плечами и расстегнул свою рубашку, показав цепочку, на которой висел описанный им ключ.
— Я не смог удержаться, Джордж, — начал оправдываться он и изобразил на лице глубокую печаль. — И это все же было не то, что снять сапоги с покойника. У агента был всего лишь обморок. Об-мо-рок.
Уэллс осуждающе покачал головой, что было крайне неосмотрительно, учитывая количество столь беспечно потребленного алкоголя, потому что голова закружилась еще сильнее и у него возникло ощущение, будто он сидит верхом на мчащейся по кругу карусельной лошадке. Сервисс продолжал:
— Вот так я и проник в зал, скрывающий все то, что по той или иной причине решено не показывать людям. Ты не представляешь себе, что они там прячут, Джордж. Если бы ты это увидел, то перестал бы писать фантастику, уверяю тебя.
Уэллс недоверчиво покосился на американца.
— Но все это так, цветочки, — продолжал тот. — Самое же главное находилось в углу зала. Там на пьедестале стояла впечатляющая летательная машина, а рядом с ней, в чем-то вроде деревянной урны, находился ее пилот.
Он остановился и одарил Уэллса нежной, почти материнской улыбкой, как бы извиняясь за то, что вынужден рассказывать такие пугающие вещи.
— Машина производит поистине грандиозное впечатление. Хотя то, что она способна летать, вывели они сами, судя по тому, что написано в многочисленных тетрадях и бумагах, заполнявших соседний стол, где сообщались все подробности открытия. В отличие от «Альбатроса», описанного Верном в «Робуре-завоевателе», этот летательный аппарат не имел ни крыльев, ни винтов. Не был он прикреплен и ни к какому воздушному шару или аэростату. Более всего он напоминал тарелку.
— Тарелку? — удивленно переспросил Уэллс.
В свое время описанный Жюлем Верном летательный аппарат, снабженный многочисленными винтами и сооруженный из прессованной бумажной массы, который породил в Соединенных Штатах настоящую лихорадку строительства подобных машин, вызвал у Уэллса лишь скептическое движение бровей, хотя он должен был признать, что подобная реакция объяснялась, видимо, скорее завистью к успехам француза, чем сомнительностью придуманной им конструкции. Но тарелка?
— Ну да, тарелку. Но не простую, а такую, какие используют в оркестрах, — уточнил Сервисс, то сближая, то раздвигая ладони, словно хотел прибить муху.
— Летающая тарелка, — подытожил Уэллс.
— Именно так. В тетрадках я прочел, что эта машина была найдена во льдах Антарктиды недавней экспедицией к Южному полюсу. Похоже, она потерпела аварию, что давало основание предположить, что она летала. Однако проникнуть внутрь они не смогли, поскольку не обнаружили ни люка, ни какого-либо похожего приспособления.
— Но почему они решили, что она прилетела с другой планеты? — спросил Уэллс. — Ведь это мог быть, например, аппарат германского производства. Немцы проводят постоянные эксперименты, связанные…
— Нет, — решительно возразил Сервисс. — Достаточно было взглянуть на нее, чтобы понять, что при ее строительстве была использована гораздо более передовая техника, чем та, которой предположительно могут обладать немцы. Гораздо более передовая, чем у любой страны на нашей планете. Например, нет никаких признаков того, что ее приводит в движение паровой двигатель. Но в любом случае, как ты понимаешь, они сделали вывод о ее неземном происхождении не только по внешнему виду. Они обнаружили машину в Антарктиде, неподалеку от «Аннавана», пропавшего без вести судна, которое отплыло из Нью-Йорка пятнадцатого октября тысяча восемьсот двадцать девятого года с целью отыскать проход к центру Земли. Тогда многие полагали, что наша планета внутри полая. И ведь это было еще до того, как Жюль Верн опубликовал свой роман[5]. Но не будем отвлекаться. «Аннаван» сгорел, а его экипаж погиб. Останки моряков были разбросаны вокруг корабля, словно они пытались убежать от пожара. Судя по описаниям участников экспедиции, зрелище было поистине Дантово. Но главное открытие они сделали несколько дней спустя, обнаружив поблизости от этого места вероятного пилота летательной машины, погребенного подо льдом. И поверь мне, Джордж, это был не немец — я понял это, едва открыл урну.
Он сделал паузу и ласково улыбнулся Уэллсу, который был явно поражен, насколько ему позволяло его нетрезвое состояние.
— И как он выглядел? — прошептал он.
— Разумеется, он не похож на марсиан, какими ты изобразил их в своем романе, Джордж. На самом деле он напомнил мне Джека Прыгуна, только еще более жуткого и уродливого. Ты слышал про Джека Прыгуна, загадочного прыгающего субъекта, который терроризировал Лондон шестьдесят лет тому назад?
Уэллс кивнул, не понимая, что общего могло быть между одним и другим.
— Да, еще ходили слухи, будто у него пружины на ногах, потому что он мог совершать большие прыжки, верно?
— И будто он возникал ниоткуда перед девушками, жадно ласкал их и снова исчезал. Многие пострадавшие отмечали его дьявольские черты, остроконечные уши и острые когти.
— Думаю, все это мерещилось им со страху, — заявил Уэллс. — Это был всего лишь цирковой акробат, использовавший свое искусство для удовлетворения собственных желаний.
— Возможно, Джордж, весьма возможно. Но то, что я обнаружил в музее, напомнило мне жуткие изображения Джека Прыгуна, сделанные самыми отчаянными иллюстраторами газет и журналов. Ребенком я видел их в старых газетах, и у меня, кровь леденела в жилах. Они до сих пор присутствуют в самых страшных моих кошмарах. Впрочем, может, это сходство существует только для меня, и всему виной тогдашняя моя травма.
— Значит, ты хочешь сказать, что в Музее естествознания находится… марсианин?
— Да. Только, разумеется, мертвый, — подтвердил Сервисс, словно речь шла о забавной истории. — На самом деле это просто засушенный гуманоид, ничего особо интересного. Единственное, что может стать для нас любопытной неожиданностью, так это то, что находится внутри машины. Возможно, там обнаружится какой-нибудь след, позволяющий определить ее происхождение, карты неба или что-нибудь в этом роде, кто знает. К тому же мы не должны забывать, какой огромный рывок совершит земная наука, если удастся разгадать, как эта штуковина функционирует. К сожалению, они бессильны открыть ее. Не знаю, продолжают ли они еще свои попытки или им это надоело, и машина с марсианином тихо покрываются пылью в подвале музея. Одно несомненно, мой дорогой Джордж: эта штука не земного происхождения.
— Марсианин! — воскликнул Уэллс, уже не сдерживая удивления, когда понял, что Сервисс закончил свой рассказ. — Боже правый… марсианин!
— Да, Джордж. Уродливый и чудовищный марсианин, — подтвердил американец. — И этот ключ ведет к нему. Хотя я видел его всего один раз. С тех пор я не пользовался ключом. Я просто ношу его на шее как талисман, чье единственное предназначение — напоминать мне, что мы живем в мире, где существует больше невероятных вещей, чем мы, сочинители историй, можем себе вообразить.
Он снял с себя цепочку и торжественно, словно святыню, протянул ключ Уэллсу. Тот внимательно осмотрел его, заразившись настроением Сервисса.
— Я убежден, что подлинная история нашего времени — это не то, о чем пишут газетчики и историки, — между тем разглагольствовал американец. — Подлинная история почти незаметна, она струится подобно подземному роднику. Свершается во тьме и в тишине, Джордж. И только немногие избранные знают, какова она.
Легким движением он отобрал ключ у Уэллса и спрятал его в карман пиджака.
— Хочешь увидеть марсианина? — спросил он с коварной ухмылкой.
— Сейчас?
— Почему бы и нет? Не думаю, что у тебя будет другая возможность, Джордж. Как я сказал, нас, писателей, ставят ниже ученых, хотя наша фантазия часто опережает их изобретения.
Уэллс беспокойно взглянул на него. Нужно было время, чтобы переварить то, что поведал ему Сервисс. Точнее, требовалось не менее двух часов, чтобы голова у него перестала кружиться и прояснилась настолько, что он сможет разумно рассуждать об этой истории. Возможно, тогда он поймет, что все это неправда, потому что совершенно ясно: теперь, когда его так приятно убаюкивает алкоголь, чертовски соблазнительно признать, что невероятное является частью окружающего мира. Если честно, то, пребывая в состоянии безмятежной эйфории, он даже хотел, чтобы так было, чтобы действительность, в которой он был осужден жить, имела двойное дно, чтобы границы, установленные человеческим разумом для обозначения ее, вдруг рухнули, и то, что находилось снаружи, смешалось бы с нею, создавая новую, гораздо более отрадную действительность, где магия была бы растворена в самом воздухе, а фантастические сюжеты книг были бы всего лишь точным описанием событий, пережитых их авторами. Не об этом ли толковал ему Сервисс? Подобно Белому Кролику, приведшему Алису в Страну чудес он хотел привести его к собственной норе, чтобы через нее попасть в мир, где все возможно. Этим миром управлял бы некий бог, обладающий неуемной фантазией шута. Но мир не был таким, он не мог быть таким, пусть даже сейчас подобное казалось ему вполне естественным.
— Боишься? — удивился Сервисс. — А, понимаю. Видимо, все это для тебя слишком, Джордж. Видимо, ты предпочитаешь, чтобы монстры продолжали находиться на безопасном расстоянии, в клетке твоего воображения, откуда не могли бы ничем угрожать нам, разве что заставляли бы вздрагивать при чтении. Видимо, тебе не хватает отваги, чтобы встретиться с ними в действительности, а не на бумаге.
— Я способен встретиться с ними в действительности, — возразил Уэллс, обиженный последними словами Сервисса. — Но речь не об этом…
— Да ты не волнуйся, Джордж, все в порядке. Я понимаю тебя, понимаю, — успокаивал американец.
— Я способен встретиться с ними в действительности, черт побери! — крикнул Уэллс и поднялся со стула с неуклюжей грацией шимпанзе. — Мы сейчас же отправляемся туда, Гарретт! Покажи мне этого марсианина!
Сервисс радостно посмотрел на него и тоже резво вскочил со стула.
— Хорошо, Джордж, как скажешь! — рявкнул он, с трудом пытаясь сохранить равновесие. — Официант, счет! И побыстрее, а то я тороплюсь показать моему другу звездного пришельца!
Уэллс пытался его утихомирить, но Сервисс уже повернулся лицом к залу.
— Кто-нибудь еще хочет пойти с нами? Кто-нибудь еще хочет посмотреть на марсианина? — обратился он к онемевшим от неожиданности посетителям и широко распростер руки. — Присоединяйтесь к нам, и я покажу вам настоящего обитателя планеты Марс!
— Замолчи, пьянчуга! — крикнул кто-то из глубины зала.
— Иди проспись и не мешай нам есть! — подхватил другой голос.
— Ты видишь, Джордж? — разочарованно произнес Сервисс, высыпал горсть монет на стол и заплетающейся походкой, но с гордо поднятой головой направился к выходу. — Никто не хочет знать, никто. Люди предпочитают и дальше пребывать в неведении. Да на здоровье! — Он остановился у двери и, стараясь не упасть, показал пальцем на посетителей трактира. — Живите и дальше как жалкие идиоты! Наслаждайтесь своей вонючей действительностью!
Уэллс заметил, что некоторые мужчины довольно крепкого сложения начали подниматься с явно недружественными намерениями, а потому подбежал к Сервиссу и, обхватив его хилое тело, постарался выволочь наружу, одновременно успокаивая окружающих жестом руки. Оказавшись на улице, он остановил первый попавшийся кэб, втолкнул в него Сервисса и прокричал адрес кучеру. Американец упал на боковое сиденье и некоторое время сидел неподвижно, уперевшись головой в окошко и глупо улыбаясь Уэллсу, который примостился напротив в немногим более удобной позе. На повороте к Грин-парк кэб затрясло, и это привело их в чувство. Оба со смехом вспомнили достойную сожаления сцену в трактире и остаток пути сочиняли нелепые теории о цели визитов инопланетян. Когда кэб остановился на Кромвель-роуд, перед внушительным зданием в неоготическом стиле, чей фасад был украшен скульптурными изображениями растений и животных, в том числе вымерших, Уэллс и Сервисс вышли и, покачиваясь, зашагали к входному портику, а кучер провожал их испуганным взглядом. Его звали Нейл Гамильтон, он прожил на свете сорок лет, и отныне его жизнь не могла оставаться прежней, потому что он только что услышал, как два почтенных и высокообразованных джентльмена наперебой уверяли, что жизнь была завезена на Землю из космического пространства в огромных летательных аппаратах разумными существами, в задачу которых входило опылить всю Вселенную и заселить ее, поскольку существуют бесспорные следы этого в любом памятнике древних цивилизаций, а также в огромном разнообразии рас, оттенков кожи, строения и прочих физических характеристик обитателей нашей планеты. Нейл щелкнул кнутом и отправился домой, где спустя несколько часов, внимательно разглядывая звездное небо со стаканом вина в руке, впервые в своей жизни задался вопросом, кто он и откуда появился и даже почему избрал ремесло кучера. К сожалению, Уэллс и Сервисс сейчас перешагнут порог колоссального здания Музея естествознания и смешаются с толпой посетителей, а потому у меня нет времени заниматься историей Нейла Гамильтона.
XIV
Окутанный липким туманом, Уэллс следовал за Сервиссом по залам музея. Он находился в таком состоянии, что едва отдавал себе отчет в происходящем. Мир приобрел ирреальную структуру, вещи потеряли свое значение, все было одновременно знакомым и неизвестным. У него появилось мимолетное ощущение, что они вошли в знаменитый зал китов, наполненный скелетами и изображениями китообразных, а в какой-то момент он с удивлением обнаружил, что стоит на коленях рядом с Сервиссом в окружении группы приматов, среди которых они хотели затеряться, дабы их не заметили смотрители. В конце концов он понял, что идет пошатываясь за американцем уже по подземным коридорам и они подходят к заветной двери, о которой тот ему рассказывал в трактире. Сервисс торжественно извлек украденный ключ из кармана, открыл дверь и, отвесив Уэллсу неуклюжий поклон, пригласил его войти в царство невозможного.
Есть вещи, которые он предпочел бы рассматривать в ином состоянии, с сожалением подумал Уэллс, входя внутрь неверной походкой. Как и рассказывал американец, Палата чудес представляла собой обширный зал, где в ослепительном беспорядке бесформенной кучей, словно пиратская добыча, громоздились удивительнейшие вещи. Повсюду было разбросано столько диковинок, что Уэллс не знал, на чем остановить взгляд, и хотя Сервисс больно толкал его в спину, чтобы он шел дальше, это мало помогало делу. Правда, он заметил, что многие хранящиеся здесь предметы снабжены этикетками, объясняющими, что они собой представляют. Не переставая удивляться, он успел увидеть плавник лох-несского чудовища; нечто похожее на котенка, свернувшегося в клубочек в стеклянной банке, чья этикетка гласила, что это клок шерсти снежного человека; скелет предполагаемой сирены; десятки фотографий с изображениями миниатюрных светящихся фей; венок из перьев птицы феникс; гигантскую бычью голову, принадлежавшую Минотавру, и сотни других диковинных экспонатов, не опознанных им и промелькнувших мимо фантастической каруселью, которая вдруг остановилась, и он изумленно замер перед картиной, изображавшей уродливого и жутко дряхлого старика. Надпись под ней гласила: «Портрет Дориана Грея».
Еще не оправившись от потрясения, он заметил рядом предметы, показавшиеся ему достаточно обычными. Это был градуированный стакан, наполненный красноватой жидкостью, и маленький пакетик, в котором находилось что-то вроде кристаллической соли белого цвета. На этикетке стояло: «Последняя бракованная партия, полученная со склада химических продуктов господ May и необходимая для получения напитка доктора Генри Джекила». Уэллс недоверчиво взял в руку стакан, повинуясь какому-то рефлексу: ему необходимо было потрогать что-то из хранившихся там предметов, чтобы убедиться, что все эти чудеса — не плод фантазии его разгоряченного алкоголем и рассказом Сервисса разума. Ему нужно было констатировать, что все это существует на самом деле, а не только в книгах. Сжимая в руке стакан с жидкостью кроваво-красного цвета, распространявшей вокруг резкий запах, он вспомнил, что в повести Стивенсона эта не полностью очищенная соль, разведенная в жидкости, давала напиток, который превращал воспитаннейшего доктора Джекила в жуткого мистера Хайда. Во что превратился бы он сам, выпив эту смесь, подумал писатель, как проявились бы его дурные стороны? Резко уменьшился бы в росте, приобрел бы силу дюжины мужчин, блестящий ум и безудержную склонность к порочным удовольствиям, как описанный Стивенсоном мистер Хайд, историю которого он всегда считал чистой фантазией?
— Пошли, Джордж, у нас не так много времени! — потянул его за руку американец.
От неожиданного рывка Уэллс неудачно дернулся, злополучный стакан выскользнул у него из рук и разбился. Словно зачарованный смотрел он, как красная жидкость растекается по плиткам пола. Потом встал на колени и попытался исправить свою оплошность, но только порезал правую руку осколком стекла.
— Он разбился, Гарретт! — печально констатировал он. — Стакан с напитком доктора Джекила разбился!
— Да забудь об этом и иди за мной, — откликнулся Сервисс, делая приглашающий жест. — Это всего лишь фантастическая бижутерия по сравнению с тем, что я собираюсь тебе показать.
Уэллс последовал за ним через нагромождения разнообразных предметов, неловко зажимая пальцами ранку на правой руке. Сервисс привел его в самый угол обширного зала, где их поджидала летающая тарелка. Она располагалась на постаменте горизонтально, поскольку иначе, ввиду своих грандиозных размеров, не уместилась бы под потолком. Как и говорил Сервисс, машина имела форму огромного диска, плоского по краям и увенчанного куполом посередине. В общем, она напоминала глубокую тарелку, сделанную словно для того, чтобы некий титан мог есть из нее суп, если мне будет позволено столь экстравагантное сравнение.
— Очевидно, что пока им не удалось ее открыть. Нигде не заметно отверстий, — заметил Сервисс. — Не похоже также, что она снабжена каким-нибудь двигателем, хотя, судя по ее виду, нетрудно предположить, что она должна отличаться фантастической маневренностью в воздухе и, вероятно, потрясающей скоростью.
Уэллс боязливо приблизился к аппарату, пораженный его размерами и странным блестящим материалом, из которого он был сделан, создававшим ощущение прочности и одновременно легкости. Ему бросились в глаза непонятные рельефные значки, вкрапленные в поверхность аппарата и отливавшие медью. Они напоминали буквы восточных алфавитов, только были, пожалуй, посложнее, и ему захотелось подольше задержаться возле них и, может быть, даже прикоснуться к ним, но Сервисс не дал ему на это времени.
— Самое интересное спрятано в этой урне, Джордж, — объявил он, направившись к деревянному сундуку с медными заклепками, к которому был присоединен небольшой холодильник. Сервисс торжественно положил руки на крышку и, обернувшись к Уэллсу, спросил с озорной усмешкой: — Ты готов увидеть марсианина?
Уэллс кивнул, сглотнув слюну, и Сервисс принялся открывать сундук, действуя с раздражающей медлительностью и сопровождая каждое свое движение интригующими жестами. Из-под крышки вырвалась белесая струя холодного воздуха. Когда сундук был открыт, американец отошел в сторонку, давая Уэллсу возможность разглядеть его содержимое. Тот с преувеличенной осторожностью нагнулся. Пробегали минуты, а он никак не мог понять, что перед ним. В свое время, не в силах описать то, что не поддается описанию, он поместил марсиан из своего романа где-то между амебами и рептилиями. Он изобразил их в виде липких бесформенных пузырей, имевших некоторое сходство с семейством земных спрутов, то есть понятных человеческому разуму. Странное существо, занимавшее саркофаг, исключало всяческие попытки классифицировать его с зоологической точки зрения, дать словесное определение, что, очевидно, было невозможно. Тем не менее Уэллс попытался это сделать, заранее зная, что, каким бы точным ни старался он быть, ему даже отдаленно не удастся передать истинный облик марсианина. Он был светло-серого цвета моли, а в некоторых местах, насколько позволяло видеть тусклое освещение зала, немного потемнее. Роста в нем было около трех метров, и он обладал удлиненным и узким, как вечерние тени, телом, закутанным в пленку наподобие кокона. Этот своеобразный плащ, похоже, являлся частью его облика, поскольку начинался там, где, должно быть, располагались плечи, и закрывал все тело с головы до ног, очень тонких и разделенных на три части, как у богомола. Из-под накидки виднелись также верхние конечности, такие же тонкие, как ноги, но заканчивавшиеся, как показалось Уэллсу, парой острых жал. Однако наиболее примечательной частью была его голова, покрытая капюшоном, который состоял из такой же рифленой и хрящевидной оболочки, что и накидка. Хотя ее почти не было видно за складками капюшона, Уэллс все же разглядел, что она имела треугольную форму и привычные для нас черты лица на ней отсутствовали, если не считать пары отверстий по бокам, возможно соответствующих глазам. Так называемое лицо, мрачное и отталкивающее, было покрыто наростами, а на уровне челюстей он заметил пучок щупалец, среди которых выделялось нечто вроде заостренного хоботка, как у мухи, безжизненно свисавшего на длинную шею марсианина. «Вообще он похож на что угодно, но только не на пресловутого Джека Прыгуна», — подумал Уэллс. И, не силах удержаться, протянул руку и погладил одну из верхних конечностей марсианина, желая выяснить, какова на ощупь его в высшей степени странная кожа. Однако так и не распознал, мягкая она или шершавая, влажная или сухая, отталкивающая или приятная. Казалось, что она одновременно всякая, как ни странно это звучит. Но хотя бы одно он может сказать с уверенностью, подумал Уэллс: по застывшему лицу, по отсутствию блеска в предполагаемых глазах совершенно очевидно, что ужасное существо мертво.
— Нам пора уходить, Джордж, — предупредил Сервисс и закрыл крышку урны. — Не стоит больше здесь задерживаться.
Уэллс машинально кивнул, все еще находясь под воздействием какого-то дурмана, и позволил американцу отбуксировать себя к двери, стараясь по пути не задеть ни одну из наполнявших зал диковинок.
— Запомни все, что ты здесь увидел, Джордж, — сказал Сервисс, — и, в зависимости от смелости твоего ума, считай это собранием подлинных чудес или фальшивых репродукций. Но только не рассказывай никому о существовании этого зала, разве только тем, кому доверяешь.
Сервисс открыл дверь и, убедившись, что в коридоре никого нет, велел Уэллсу выходить. Они долго шли нескончаемыми коридорами подвала, прежде чем осторожно поднялись наверх и смешались с посетителями, не ведая о том, что в это время прямо под ними в деревянном ковчеге кожа звездного пришельца впитывала капельки крови, оставленные на его руке, и, подобно глиняной фигурке под дождем, его силуэт начинал оплывать, принимая облик очень худого и бледного молодого джентльмена с птичьим лицом, того самого, кто в тот самый момент покидал музей вместе с другими посетителями.
Выйдя на улицу, Сервисс предложил Уэллсу пойти поужинать, но писатель отклонил приглашение под тем предлогом, что путь до Уокинга не близкий и он хочет отправиться туда сразу же. Он уже убедился в том, что совместные трапезы с Сервиссом отличаются как раз отсутствием еды, а продолжать пить не хотел. Кроме того, он стремился поскорее остаться один, чтобы спокойно поразмышлять над тем, что увидел. Они распрощались, выразив слабую надежду на новую встречу в очередной приезд Сервисса в Лондон, и Уэллс запрыгнул в первый попавшийся кэб. Сообщив адрес кучеру, он попытался встряхнуться и вспомнить безумные события сегодняшнего дня, но алкогольные пары оказались сильнее, и вскоре он заснул.
В тот самый момент, когда усталый и обескураженный Уэллс закрывал глаза, в сундуке, спрятанном в подвале лондонского Музея естествознания, другой Уэллс их открыл.
Часть вторая
Ты по-прежнему весело улыбаешься, отважный читатель, или, быть может, дрожишь в своем кресле после ужасных событий, случившихся в антарктических льдах?Если же этого испытания тебе оказалось недостаточно, сейчас ты имеешь шанс пережить самое настоящее вторжение марсиан. Не упусти его и смело переходи к последующим страницам. На этот раз я не стану предупреждать тебя о призраках, подстерегающих твою бедную душу. Скажу только, что если ты не отведешь глаз, то сумеешь разглядеть все самое лучшее и самое худшее в человеческой натуре.
Особо впечатлительные читатели, возможно, предпочтут для себя какое-нибудь другое, более безобидное чтение.
— Нелепо думать, будто я имею какое-то отношение к марсианам, потому что написал роман, где предсказал их нашествие! — вдруг проговорил Уэллс как бы для самого себя.Внезапная реплика писателя заставила Клейтона вздрогнуть.
— Не менее нелепо, чем намерение воспроизвести марсианское вторжение, чтобы завоевать расположение дамы, — ухмыльнулся он.
XV
Эмме Харлоу хотелось бы, чтобы Луна оказалась обитаемой. Тогда она могла бы гладить шелковистые гривы единорогов, пасущихся на лунных лугах, наблюдать за тем, как двуногие бобры строят свои хатки, или летать в объятиях Человека-летучей мыши, любуясь с высоты лунной поверхностью, украшенной густыми лесами, внутренними морями и остроконечными пирамидами из бледно-фиолетового кварца. Но Луна не была обитаема — это обнаружили новые мощные телескопы, лишив мир, как и многие другие научные достижения, магии, которой он до этого был пропитан. Потому что вот уже более шестидесяти лет Луну населяли самые невероятные фантастические существа, какие только можно себе вообразить.
А все дело в том, что жарким летом 1835 года, когда Эмма еще даже не родилась, некий джентльмен наблюдал Луну, и ему пришло в голову, что именно ее можно было бы сделать хранилищем магии, в которой так нуждался человек, чтобы облегчить себе существование; той самой магии, которую столь последовательно и безжалостно вытеснял прогресс. Да, это было идеальное место для хранения грез — мощного укрепляющего средства, поскольку никто не сможет сунуть на Луну свой нос, чтобы что-то опровергнуть. Кто же был сей защитник мечтаний? Его звали Ричард Адамс Локк, и он был англичанином, переселившимся после окончания Кембриджского университета в Нью-Йорк, где стал главным редактором газеты «Нью-Йорк сан». Что касается его внешности, то лицо у него было обезображено оспой, на что, впрочем, дамы мало обращали внимания, ибо был он высок и строен, как тополь. К тому же его глаза излучали свет, они светились спокойствием, свидетельствуя о принадлежности их обладателя к возвышенным душам, которые обычно становятся для остальных маяками. Хотя в данном случае все было не так, поскольку Локк сильно отличался от подобного типа людей. В груди этого английского джентльмена с внешностью доброжелательного проповедника таился поистине язвительный дух. Локк внимательно вглядывался в окружающий мир, и что же он видел? Одну лишь глупость, удручающую неспособность человека учиться на своих ошибках, нелепую действительность, которую он выстроил вокруг себя, а главное — его непомерную страсть придавать значение самым ничтожным вещам на свете. С одной стороны, все это вызывало у него тайное злорадство, но с другой — коллективная глупость раздражала его, ибо выставляла в не слишком выгодном свете биологический вид, к которому он, на свое несчастье, принадлежал.
Он бежал из Англии в Америку, движимый уверенностью, что после трудных родов и первых неверных и робких шагов Соединенным Штатам удалось сплотиться в единую нацию под знаменами разума и всеобщих свобод. Он надеялся, что эта страна осуществила все то, чего не сумела осуществить старая, надоевшая самой себе Европа, даже несмотря на благоприятный поворот руля, чем явились для нее Век просвещения и Французская революция. Но, к своему удивлению, он оказался в стране, зараженной религиозным духом, где столь хорошо знакомые европейские предрассудки сосуществовали с новыми, местными. «Разве для этого была открыта Америка? — растерянно вопрошал себя Локк. — Чтобы сделаться плохой копией Англии?» Ведь подобно старой Европе, молодое американское общество было убеждено: все то, что простирается вокруг нас, есть результат божественного творения. И скорый прилет кометы Галлея, к примеру, не составляет исключения. Кто, если не Создатель, смог бы оркестровать подобный пиротехнический спектакль на сентябрьском небосклоне? Именно поэтому в парках Нью-Йорка были установлены многочисленные телескопы — чтобы все могли наблюдать за этой демонстрацией силы, которой Господь подтверждает свое присутствие, к вящей радости его благочестивых чад. Однако, как ни парадоксально, подобная убежденность уживалась со слепой верой в прогресс и ученых, и вследствие этой фанатической жажды человек, сочинивший любой вздор, зачастую пользовался полным доверием своих сограждан. Таким был, к примеру, преподобный Томас Дик, чьи книги уже завоевали громадную популярность в Соединенных Штатах, когда Локк туда приехал. В одной из них преподобный подсчитал, что Солнечную систему населяют в общей сложности 21 891 974 404 480 жителей — цифра, которая может показаться вам чересчур преувеличенной, хотя это не так, если учесть, что, согласно тем же подсчетам, одно только население Луны составляет 4200 миллионов. Благодаря этим и другим примерам крайнего простодушия американцы казались Локку народом, нуждавшимся в том, чтобы его срочно проучили. А кто же мог это сделать, если не он? Так что на первых порах Локк вовсе не заботился о мечтах человечества, он избрал далеко не возвышенную цель — преподать хороший урок своим новым соотечественникам, а заодно и повеселиться от души. Он решил сочинить сенсационную историю, в которой были бы выставлены в смешном виде вышеназванная и прочие экстравагантные астрономические теории, опубликованные до настоящего времени. Это заставит американский народ задуматься над непрочностью своих верований и в то же время поднимет тираж «Сан» — лучшей трибуны для осуществления такого замысла, массовой газеты, которая впервые распространялась не по подписке, ее продавали на улицах мальчишки, громко перечислявшие самые поразительные новости, о которых можно прочесть всего за один цент.
Какая же это могла быть история? — спросите вы. Все очень просто. Локк знал о том, что ученый Джон Гершель, сын Уильяма Гершеля, знаменитого придворного астронома Георга IV, находится в Южной Африке, где производит астрономические наблюдения. Вооружившись оптическими инструментами, британский астроном отплыл из Англии к мысу Доброй Надежды с целью создать там обсерваторию и составить атлас звезд, видимых в Южном полушарии. Тем самым он завершил бы работу по классификации звездных скоплений, начатую его отцом в Северном полушарии. Однако в последние два года никаких известий об астрономе не поступало, а вообще депеши из того места, где он находился, шли до Нью-Йорка не менее двух недель, и этого было более чем достаточно, чтобы Локк успел обрушить на американцев цикл статей, в которых перечислялись бы мнимые открытия Гершеля, причем астроном об этом бы и не подозревал, а посему не мог бы их и опровергнуть.
Не теряя времени даром, с игривой улыбочкой на лице, изгнавшей его всегдашнюю серьезность, Локк принялся за дело, и 21 августа опубликовал первый из репортажей. В статье, вышедшей под заголовком «Крупные астрономические открытия», сообщалось о том, что находившийся с визитом в Нью-Йорке некий шотландский ученый якобы предоставил редакции «Сан» экземпляр «Edinburg Journal of Science», где был напечатан отрывок из дневника доктора Эндрю Гранта, мнимого сотрудника Гершеля. В первой части статьи описывался мощный телескоп, построенный астрономом и обладающий колоссальным объективом, что позволяет различать на поверхности Луны предметы размером до восемнадцати дюймов и проецировать их изображения на одной из стен обсерватории. Благодаря этому исключительному изобретению они смогли исследовать каждую из планет Солнечной системы, а также многие планеты соседних систем, создали четкую теорию такого явления, как кометы, и разрешили почти все проблемы математической астрономии. После того как почва была удобрена, в следующей статье был сделан упор на Луну, которую ученые внимательно исследовали с помощью чудо-телескопа, обнаружив на ее поверхности участок с темно-зеленой породой и нечто похожее на вкрапления розовых маков. Изучив Mare Nubium Риччоли[6], они открыли там изумительные пляжи из белого песка, обрамленные неизвестными деревьями, а также пирамиды из светло-фиолетового кварца высотой свыше двадцати метров. Затем они неожиданно обнаружили на нашем спутнике небывалое бурление жизни. На лунных равнинах паслись многочисленные стада зверей, похожих на бизонов, а на вершинах округлых холмов заметили нескольких грациозных единорогов, словно нарисованных бледно-голубыми мазками. В следующей статье совершенно распоясавшийся Локк продолжил описание животного мира Луны. Он заставил Гершеля и Гранта восхищенно созерцать представителей семейства карликовых оленей, рогатого медведя и даже семью симпатичных двуногих бобров, строивших деревянные хижины с высокими трубами, откуда шел дым. Все годилось. Благодаря этим трем статьям они уже обогнали по тиражу лондонскую «Таймс». Однако Локк не собирался сбавлять темпы. Совсем наоборот. В четвертом репортаже читателя ждало ошеломительное открытие: астрономы обнаружили жителей Луны, окрестив их род homo vespertilio, то есть человек — летучая мышь. Речь шла о существах ростом чуть выше метра, полностью покрытых шерстью медного оттенка и снабженных перепончатыми крыльями, которые начинались у плеч и доходили до щиколоток. Со сложенными крыльями они ходили так же уверенно и спокойно, как люди, а когда раскрывали их, то взлетали в небо и устраивали там невероятные танцы. Своими лицами с выдающимися вперед губами, которые двигались так, словно произносили слова, они напоминали орангутанов, но глаза их светились недюжинным умом. В телескоп было видно, как они блаженствуют, развалившись на травке, хотя их позы на Земле сочли бы не совсем приличными. После этого сногсшибательного открытия, взбудоражившего читателей «Сан», Локк приготовился к решающему удару. В последней статье рассказывалось, что Гершель обнаружил в этом первобытном Эдеме здание из полированного сапфира с крышей из желтого металла, которое, без сомнения, являлось огромным храмом. Какому же богу поклонялись тамошние жители? Интерес читателей был подогрет до невозможности, как вдруг «Сан» сообщила, что, к сожалению, в результате досадной небрежности, допущенной астрономами, их чудо-телескоп в течение какого-то времени оказался направлен на Солнце, и солнечные лучи, сфокусированные гигантским объективом, прожгли семиметровую дыру в полу обсерватории, практически выведя ее из строя.
Произведя фурор в Соединенных Штатах, эта история была перепечатана газетами почти всего мира, причем многие из них утверждали, что якобы имели доступ к оригинальным статьям «Edinburgh Journal». Это побудило членов ученого совета Йельского университета нанести визит в редакцию «Сан» с наивным намерением посмотреть сами материалы. И хотя им несколько дней морочили голову сотрудники газеты, посылая из одного отдела в другой, и в конце концов они возвратились в Нью-Хейвен несолоно хлебавши, ученым и в голову не пришло, что их просто-напросто дурачат. Правда, нашлись газеты, занявшие куда более скептическую позицию, обвинив «Сан» в обмане читателей. «Герольд» даже выяснила, что «Edinburgh Journal of Science» уже несколько лет как не существует. Попав под сильное давление, газета Локка опубликовала спустя несколько дней колонку, в которой рассматривала возможность того, что напечатанная история — розыгрыш, хотя окончательно утверждать что-либо можно будет только после соответствующих подтверждений английской прессы. Сам Локк никогда не признавал публично, что это был обман. Его испугали масштабы последствий дерзкой затеи. Он никогда не думал, что дело примет такой оборот. Он только хотел, чтобы американцы задумались над тем, сколь хрупки основы любых верований, однако большинство читателей оказались невосприимчивы к его иронии и продолжали считать, что все напечатанное правда, что на Луне действительно обитает вся эта бредовая фауна и что наш спутник — то ли имитация рая, то ли место отдыха персонажей волшебных сказок. Кое-кто из священнослужителей даже рассматривал возможность издания Библии для людей — летучих мышей, а группа баптистов начала сбор средств для отправки на Луну миссионеров, дабы они занялись там спасением душ ее погрязших в пороке жителей. И несмотря на то, что со временем с помощью куда более совершенных телескопов, таких как телескоп Джона Дрейпера, были сделаны дагеротипы, продемонстрировавшие абсолютно нетронутую, необитаемую поверхность Луны, многие ньюйоркцы по-прежнему пребывали в уверенности, что рано или поздно наука докажет, что все рассказанное доктором Грантом правда. И если кто-нибудь из вас спросит, какова же была реакция Гершеля на все это, могу сообщить, что астроном долгое время ни сном ни духом не ведал об обмане, в который был втянут, поскольку, как совершенно правильно говорилось в статье, находился в это время в Капштадте, где производил астрономические наблюдения. Когда же до него в конце концов дошла эта история, он воспринял ее с юмором, быть может, потому, что знал: его собственные исследования никогда не приведут к столь ошеломительным результатам. Однако, когда те, кто верил в правдивость этой истории, забросали его вопросами, желая узнать все подробности, вплоть до самых нелепых, относящихся, например, к сексуальной жизни homo vespertilio, улыбка постепенно исчезла с его лица.
Таковы были неожиданные последствия для американского общества, к которым привел розыгрыш Локка, и тогда он, победивший недоверчивость американцев, извлек из этой истории следующий урок: человек нуждается в мечте. И Локк сделался достаточно искусным портным, выкраивавшим мечту точно по мерке этого разочарованного человека. Вначале неожиданный успех помог ему притушить огонь критики и оскорблений со стороны противников, но по мере того как шло время, буря возмущения стихала и его розыгрыш начинал восприниматься как забавный анекдот, Локк все больше гордился своим подвигом: нет, не зря он открыл главную человеческую потребность и способ ее удовлетворения. Люди нуждались в мечте, и он приглашал их помечтать, показывая, что мир гораздо прекраснее, чем они его воспринимают. Если вдуматься, он давал им все то, что могла дать религия, но ничего не лишал взамен. Он подарил им рай, где можно было мечтать, куда можно было убежать от земных горестей, но при этом не покушался на их свободный выбор, заставляя выполнять бессмысленные правила, и не угрожал адскими муками. И все упреки казались Локку столь же несправедливыми, как наказание поводыря за то, что тот описывает слепцу невероятный заход солнца, когда разные цвета сливаются в единую музыку, а облака источают запахи фруктов. Учить людей мечтать должны не только религии или искусство. Нет, в каждом правительстве должно быть министерство, ответственное за то, чтобы граждане мечтали о лучшем мире, с многочисленными кабинетами, где такие мечтатели, как он, могли бы утешать людей, даря им надежду. Да, это был бы мир если не рациональный, то по меньшей мере разумный… Начиная думать о таких вещах, Локк всякий раз все больше радовался своим достижениям, но все больше огорчался из-за того, что никто не сумел их по достоинству оценить. Как он убедился, широкомасштабные иллюзии имели свои недостатки и, как бы ему ни хотелось представить человечество в виде маленькой девочки, дожидающейся очередной сказки на ночь, не все люди были одинаковы. Многие предпочитали принимать действительность такой, какая она есть, не лакируя ее посредством фантазии. Иные же попросту не выносили, чтобы кто-то обладал большей властью, чем они. Единственное, что он был в состоянии сделать, это подарить немного волшебного напитка, случайно открытого им, тем, кто действительно этого заслуживает. Работа требовала, так сказать, индивидуального подхода. Вот только если человечество в целом казалось ему достойным его зелья, то ни один из людей в отдельности ничего подобного не заслуживал.
Все изменилось, однако, в тот день, когда он взял на руки свою первую дочь, всматривавшуюся в него пытливым взглядом новорожденного младенца. Локк тогда понял, что наконец-то нашел того, кто по праву заслуживает подарка в виде более прекрасного мира. И вот, когда Элеоноре исполнилось десять лет, отец преподнес ей нечто необычное. Он подарил ей возможность мечтать, заключенную в бумажном рулоне, перевязанном алой ленточкой. Развернув его, девочка увидела карту Вселенной, собственноручно нарисованную Локком. Он уже не мог населить диковинными зверями Луну, ученые ему это запретили, зато остальная Вселенная еще ждала своего открытия. Конечно, спустя десятилетия телескопы постепенно раскроют ее тайны, а впоследствии и человек сможет бороздить ее просторы на крылатых машинах тяжелее воздуха, но до этого еще далеко, возможно, столетия. Пока же Вселенная могла побыть такой, какой ее изобразил на бумажном свитке Локк.
И, разумеется, его дочка никогда не сомневалась, что Вселенная выглядит именно так, потому что Элеонора выросла такой же мечтательницей, как и ее отец. Но это было не единственное ее свойство. С раннего детства проявился импульсивный характер девочки — она принадлежала к натурам, у которых смех и плач идут рука об руку. Солнечный луч, робко выглянувший после грозы из-за туч, мог привести ее в неописуемый восторг, точно так же как увядший букет, которому забыли поменять воду, мог вызвать безутешный плач, причем никогда нельзя было предугадать, сколько он продлится. Хотя, к всеобщему удивлению, наиболее действенным средством от плача оказывалась подаренная отцом карта неба. Иной раз ей достаточно было развернуть ее и погладить кончиками пальцев изображенные там чудеса, чтобы улыбка вновь засияла на личике девочки. И это было очень кстати, поскольку, как вы можете себе представить, коль скоро ее душу с раннего детства обуревали сильные страсти, связанные в том числе с неизбежными разочарованиями, то, по мере того как девочка росла, причин для слез становилось все больше. К счастью, карте всегда удавалось успокоить ее, рассеять огорчение или гнев, вызванные тем, что один из щенков в последнем приплоде родился мертвым, или тем, что один из ее кавалеров поздоровался с ней тоном, в котором явно проглядывало равнодушие. Какой бы ни была очередная драма, стоило ей выйти в сад и взглянуть на ночное небо, как она сразу начинала слышать далекую мелодию, что-то похожее на радостную суету ярмарки, обещавшую невообразимые удовольствия, что-то напоминавшее о звучании истинной Вселенной, незримо пульсировавшей за темной завесой, которую были не в силах преодолеть телескопы. Вселенной, о существовании которой знали только они с отцом.
Когда ее собственной дочери Кэтрин исполнилось десять, она не придумала ничего лучшего, чем подарить ей карту неба. К сожалению, мечтательность, казавшаяся их фамильной чертой, дочке не передалась. Незнакомы ей были и бурные страсти, управлявшие жизнью ее матери, которая не переставала поражаться, что произвела на свет дитя, в котором не может узнать себя. Кэтрин оказалась слишком простой девочкой, чтобы осложнить ей жизнь, и Элеонора, полагавшая, что, для того чтобы жить полной жизнью, необходимо преодолевать тревоги и беды, сразу расценила это как недостаток. Она не уставала повторять своему мужу, тому самому кавалеру, которого столько раз упрекала в равнодушии: безмятежная улыбка, приклеенная к губам дочери, словно бессмысленная брошка, не выдавала в ней ни малейшего стремления к счастью, а свидетельствовала лишь об абсолютном непонимании того, что это такое. Однако, что бы там ни считала мать, Кэтрин далеко не все было безразлично. Просто все ей казалось совершенным и правильным. И ничто — настолько неприятным, чтобы нарушить спокойствие ее души, хотя, с другой стороны, ничто не очаровывало ее настолько, чтобы она трепетала от счастья. Если кто-то из ухажеров, к примеру, не оказывал ей должного внимания, она не терзала себе душу бесполезными огорчениями, не злилась, а просто вычеркивала его из своего списка. При таком положении вещей, как вам нетрудно догадаться, карта Локка-деда никогда не была для Кэтрин ни убежищем от бурь, ни волшебным талисманом, позволяющим вновь обрести радость жизни. Скорее карта служила для девушки подтверждением того, что она и вправду живет в лучшем из возможных миров, ибо даже неведомое межзвездное пространство излучало доброжелательность, покой и гармонию. Не было ни единой ноты, диссонирующей с действительностью, в которой она жила.
Зато ее дочь Эмма с самого своего рождения ясно дала понять окружающему миру, что недовольна им. И, похоже, также его обитателями, которые должны были стать ее попутчиками — как только кто-нибудь подходил к ее колыбельке, чтобы полюбоваться самой невинностью, воплощенной в беззащитной крошечной фигурке, он, к своему удивлению, наталкивался на пылающий взгляд, готовый прожечь его насквозь. С покрасневшим от гнева личиком девочка плакала, когда каша оказывалась чуть холодней или чуть горячей нормы, когда ее надолго оставляли одну или когда не слишком усердно баюкали. А в тех редких случаях, когда она не плакала, было еще хуже, поскольку она принималась разглядывать все вокруг с такой серьезностью, от которой душа переворачивалась. Расслаблялась Эмма, только когда ее одолевал сон, давая родителям передышку, которую мать использовала, разглядывая дочь, восхищаясь изящной и экзотической красотой, ставшей первым неудобством в ее жизни, на которое Кэтрин не могла закрыть глаза.
Когда Эмме исполнилось десять лет, Кэтрин, следуя семейной традиции, подарила ей карту неба, как в свое время сделала ее мать. В глубине души она надеялась, что этот рисунок как-то повлияет на дочь и в первую очередь примирит с действительностью, в которой она живет. Вселенная гораздо совершеннее и прекраснее, чем можно судить по окружающему. И вначале это вроде бы сработало, Эмма не только часами восторженно рассматривала карту, как в свое время делали ее мать и бабушка, но также взяла в привычку повсюду носить свиток с собой: клала рядом со столовыми приборами, брала в парк, когда гуляла там с воспитательницей, прятала под подушку каждый вечер… Она вела себя так, будто карта заменяла ей скафандр, который нужно надеть, чтобы воздух стал пригодным для дыхания. Даже настроение у нее немного улучшилось, и хотя улыбка на ее лице по-прежнему была таким же редким гостем, как солнечный день в нью-йоркскую зиму, контакт с бумажным свитком сделал более снисходительным ее взгляд, на что благодарно откликнулись даже розы, которые все эти годы зацветали раньше, чем обычно.
К сожалению, по мере того как Эмма росла, она начала понимать некоторые разговоры, которые взрослые вели вполголоса и в которых они до сих пор, как она думала, использовали особый язык. Ей только что исполнилось двенадцать, когда она узнала о мошенничестве своего прадеда Локка, автора карты. Это случилось поздно вечером, она спустилась в гостиную из-за мигрени, не дававшей ей спать, и через приоткрытую дверь услышала, как мать напоминала эту историю отцу, сидя у камина, словно рассказывала сказку. Стараясь сдержать участившееся дыхание, девочка слушала, как этот высокий почтенный джентльмен, чей портрет венчал лестницу, обманул всю страну, выдумав, будто на Луне полным-полно единорогов, бобров, бизонов и даже людей-летучих мышей, торжественно бороздящих лунное небо. Когда разговор закончился, Эмма вернулась в свою комнату, со слезами на глазах схватила карту и в последний раз с горечью взглянула на нее, прежде чем похоронить в глубине одного из ящиков. Все оказалось обманом, выдумкой ее прадеда, того самого сурового на вид джентльмена, в чьих глазах Эмма, движимая любовью к нему, потому что он был автором карты, научилась различать насмешливый блеск, который совершенно не вязался с его кажущейся серьезностью. Но теперь она обнаружила, что смеялся-то он над нею, как ранее посмеялся над ее матерью, бабкой и всей страной. Она свернулась клубочком в постели, словно раненая газель. Отныне она не могла ждать от мира ничего, кроме разочарований. Все, что видели вокруг ее глаза, было ужасно тоскливым, грубым, несовершенным, но и там, вдали, тоже не было ничего, что могло бы от всего этого избавить.
Со временем Нью-Йорк стал казаться ей все более грязным и шумным, пропитанным несправедливостью и безобразиями городом. Местное лето было для нее слишком жарким, а суровые зимы — непереносимыми. Она питала отвращение к беднякам, ютившимся в своих тесных каморках, которых ожесточила нищета, но также презирала и представителей собственного класса за то, что они жили, затянутые в корсет строгих и нелепых обычаев. Артисты казались ей людьми, исполненными тщеславия и эгоизма, интеллектуалы — чересчур скучными. У нее не было ни одной подруги, достойной так называться, поскольку ей всегда недоставало терпения, чтобы вести нудные разговоры о платьях, балах и кавалерах, мужчины же представлялись самыми примитивными и управляемыми существами на свете. Ей было скучно сидеть дома и скучно гулять в Центральном парке. Она ненавидела лицемерие, терпеть не могла сладкое и с отвращением надевала корсет. Ничем она не бывала довольна. Собственная жизнь представлялась ей нелепой пантомимой. Говорят, что человек ко всему привыкает, и в этом Эмма не отличалась от других: по мере того как шли годы, она постепенно смирялась с существующим положением вещей и, словно сказочная принцесса в своей высокой башне, жила, ожидая неизвестно чего, то ли невообразимого чуда, которое наконец посадит ростки мечты в ее иссохшейся душе, то ли просто-напросто кого-то, кто заставит ее рассмеяться. Между тем далекая от девичьих невзгод природа брала свое, и красота, которую предвещали черты Эммы в детстве, расцвела полным цветом, так что даже вечно недовольная гримаска на губах девушки не могла ее поколебать. Тем не менее вас не должно удивлять то, что в двадцать один год, возраст, в котором многие сверстницы были уже помолвлены или даже вышли замуж, Эмма еще не встретила человека, способного переубедить ее в том, что Создатель был, по-видимому, изрядно рассеян, когда творил наш мир. Иногда она вспоминала с грустью годы, когда карта неба служила ей утешением, лучиком надежды. Но теперь она не могла уже обращаться к ней, потому что знала, что ее прадед был обманщик. Однако, к своему удивлению, Эмма так и не смогла его возненавидеть. Скорее даже наоборот, с годами она восхищалась им все больше и больше и, когда пропустила это восхищение через сито отроческого пыла, получила ожидаемый результат: она ценила своего прадеда Локка как единственный образец человека, к которому могла что-то испытывать. Отважный, изобретательный, умный, он настолько превосходил остальных людей, что сумел без труда обмануть их, а заодно позабавить себя. Движимая столь свойственным юности романтизмом, Эмма часто воображала себе прадеда и то, как этот серьезный джентльмен весело хохотал всякий раз, когда его очередная безумная статья будоражила общество. И тотчас на ее лице тоже появлялась улыбка, и оно неожиданно приобретало ласковое выражение. Однако, как мы уже сказали, Эмма не знала никого, кто был бы способен на такие же подвиги, как прадед. Проходили годы, ее сердце покрывалось пылью, а карта неба по-прежнему тихо лежала в ящике, вспоминая, как, наверное, могут вспоминать только вещи, о прикосновении дрожащих пальчиков трех девочек, которые некогда исследовали всю ее поверхность в мечтах о чудесных звездных мирах.
Однако в то утро, о котором мы ведем речь, Эмма, разыскивая что-то в своем письменном столе, наткнулась на бумажный свиток, столько раз будивший ее фантазию, когда она была маленькая. Она решила было засунуть его обратно, но вместо этого взяла в руку, глядя на него с глубокой нежностью. Она уже не злилась на прадеда, из-за чего когда-то заперла карту в ящик, и хотя знала, что это всего лишь никчемный рисунок, он не переставал быть прекрасным, а потому она развязала ленточку и улыбнулась, вспомнив, какое волнение охватывало ее в прошлом, когда она это делала. Она расстелила карту на столе и взглянула на нее со взрослой ностальгией, какую чувствуешь по вещам, делавшим нас счастливыми в детстве, и сожалеешь, что время сделало нас невосприимчивыми к их чарам.
Сама карта — видимо, уже пришла пора описать ее — представляла собой изображение Вселенной, словно бы заключенной в подобие деревянной, украшенной богатой резьбой рамки. Поверхность синего цвета с голубоватыми прожилками больше походила на океан, чем на небо, и в центре ее располагалось солнце в виде растрепанного в нескольких местах клубка, откуда высовывалась огненная бахрома. Вокруг этого золотистого клубка была рассеяна горстка туманностей в форме грибов, небесные тела, источавшие слабые серебряные лучи, и звезды, сделанные, казалось, из крошечных алмазов. В промежутках между этими мирами плавали разноцветные межпланетные шары, в чьих корзинах находились люди, много людей. Космические пассажиры были очень тепло одеты и, как правило, прикрывали рот платками и придерживали руками шляпы, чтобы их ненароком не сорвал порыв космического ветра. Корзины были снабжены маленькими рулями и подзорными трубами, а по бокам, среди небольших баулов и саквояжей, висели многочисленные клетки с мышами, которых путешественники выпускали после приземления на незнакомой планете, чтобы проверить, можно ли дышать в ее атмосфере. Некоторые шары на рисунке удирали во всю прыть от гигантских ос, но в целом там царили мир и гармония, как это было отражено в одной из любимых Эмминых сценок. Она помещалась в нижнем правом углу и изображала пассажиров шара, снявших шляпы, чтобы приветствовать небольшой парад существ из других миров, восседавших на оранжевых цаплях и очень похожих на людей, если не считать остроконечных ушей и длинных раздвоенных хвостов.
Рассматривая карту, она не могла не заметить разницу между волшебными ощущениями, которые в детстве вызывала каждая деталь, и теми, что она испытывала сейчас, ощущениями, пропущенными через фильтр разочарования — а он в ее случае предшествовал фильтру разума. Потому что волшебство ушло из жизни Эммы чересчур резко и несвоевременно, а не исчезало постепенно, с годами, с той плавной естественностью, с какой на землю спускаются сумерки. Хотя на самом деле это и означает вырасти, подумала она, щеголяя своей взрослостью, — заболеть прогрессирующей слепотой, которая все больше и больше мешает нам различить остатки магии, рассеянной по свету и доступной лишь детям да мечтателям.
С грустной улыбкой Эмма скатала карту и снова положила в ящик своего стола. Несмотря на то, что теперь карта была для нее лишь досадной помехой, она не могла избавиться от нее, потому что должна была передать своей дочери, когда та достигнет нужного возраста. Так требовала нелепая семейная традиция. А Эмма дала обет следовать ей, хотя этот акт не имел для нее никакого смысла, да к тому же она была уверена, что у нее никогда не будет потомства, поскольку она ни в кого не влюблена и не влюбится никогда, а потому вряд ли будет оплодотворена мужским семенем, если, конечно, его не занесет к ней ветром, как споры.
XVI
«Сегодня ты в последний раз прислуживаешь в этом доме», — решила про себя Эмма, пока новая камеристка грубо затягивала шнуровку на ее платье. Откуда у тщедушной девицы такая бычья силища? Эмма даже не успела запомнить ее имя, да теперь это и не важно. Как бы ту ни звали, она попросит мать поскорее избавиться от недотепы. Когда служанка закончила одевать Эмму, та поблагодарила ее улыбкой, велела убрать постель и спустилась к завтраку. Мать уже ждала на террасе, где по случаю хорошей погоды был накрыт завтрак. Слабый ветерок, прирученный, словно домашний пес, осторожно играл с занавесками, с украшавшими стол цветами и волосами матери, еще не собранными в классический пучок.
— Я хочу, мама, чтобы ты выгнала эту новую камеристку, — сказала она, едва поздоровавшись.
— Как, опять? Дай ты ей хоть немного привыкнуть. Она пришла к нам с рекомендацией от Кунисов.
— Тем не менее у нее ужасные манеры: чуть не задушила меня, когда затягивала шнуровку! — пожаловалась Эмма, садясь за стол.
— Думаю, ты преувеличиваешь, — попыталась ее успокоить мать. — Я уверена, что, когда она пообвыкнет…
— Не желаю ее больше видеть! — перебила Эмма.
— Хорошо, дочка, — покорно согласилась мать. — Я рассчитаю Дейзи.
— Дейзи… Эту неотесанную девчонку зовут Дейзи… — пробормотала Эмма и отпила немного апельсинового сока. — Разве такое имя запомнишь?
— Что?
— Ничего, мама.
Пока они завтракали, служанки вносили и показывали Эмме привычный набор подарков, присланных ее поклонниками этим утром: Роберт Каллен подарил ей чудесное изумрудное ожерелье, Гилберт Харди — прекрасную камею из белого перламутра, Айртон Коулман — два билета в театр плюс дюжину пирожных со взбитыми сливками, а Уолтер Мазгров, верный себе, пожелал ей доброго утра букетом диких ирисов. Мать наблюдала за тем, как Эмма равнодушно кивала головой при виде очередного подарка. Все это у нее уже есть, думала она про дочку. Единственный ребенок в одной из самых богатых семей Нью-Йорка, Эмма выросла в окружении такой роскоши, что ее трудно было чем-либо удивить. Это заставляло ее поклонников проявлять максимум изобретательности, но чем угодить девушке, которая жила в особняке, где был собственный танцевальный зал, и попасть туда можно было, миновав множество других богато драпированных залов, буквально набитых произведениями искусства.
— Ох, Эмма… — вздохнула мать. — Что нужно сделать, чтобы завоевать твое сердце? Мне бы очень хотелось это узнать. Тогда бы я могла надоумить кого-нибудь из этих молодых людей. Ты же знаешь, как мне хочется, чтобы ты подарила мне внучку.
— Да, мама, я знаю, — с досадой ответила девушка. — Ты говоришь мне это каждый день. Каждый божий день с тех пор, как мне исполнилось двадцать лет.
Мать помолчала, грустно уставившись куда-то вдаль, словно что-то там заметила.
— Как было бы весело, если бы здесь бегала маленькая хорошенькая девочка, тебе не кажется? — мечтательно произнесла она, продолжая гнуть свою линию.
Эмма фыркнула.
— Почему ты так уверена, что это непременно была бы девочка?
— Я не уверена, Эмма. Как я могу быть в этом уверена? — защищалась мать. — Просто мне хотелось бы, чтобы так было. Разумеется, только Господь наделяет ребеночка тем или иным полом, какой он сочтет нужным.
— Понятно…
Эмма прекрасно знала, почему мать так говорит. До сих пор все, кто наследовал карту, были женщинами: бабушка Элеонора, мать Кэтрин и она сама. Казалось, будто карта по неизвестной Эмме причине оказывает какое-то влияние на пол эмбриона того, кто в будущем должен будет получить ее. Таким образом, если она когда-нибудь полюбит, что с каждым разом казалось ей все более невероятным, то у нее тоже родится девочка. А потом ее утроба загадочным образом ссохнется, как это случилось с бабушкой и матерью, которые, зачав дочерей, впоследствии оказались не способными повторить это чудо, несмотря на энергичные усилия мужей.
— А в десять лет ты отдала бы ей карту неба, да? — насмешливо спросила Эмма.
Лицо у матери просветлело.
— Да, это будет для нее волшебным мгновением, как было и для тебя, Эмма, — мечтательно сказала она. — До сих пор не могу забыть твоего восторженного личика, когда я развернула перед тобой карту прадедушки.
Эмма вздохнула. Ее мать не воспринимала иронию. Просто Кэтрин не приходило в голову, что кто-то способен сказать что-либо с иным намерением, нежели доставить ей радость, а если случайно начинала это подозревать, то немедленно переставала слушать. Никто и ничто не могло вывести из себя Кэтрин Харлоу. Хотя ее дочь не оставляла подобных попыток, подумала Эмма, с тоской глядя на приближающуюся к террасе служанку с почтой на небольшом подносе. После не слишком выразительного парада подарков наступал черед приглашений на ужины, балы и прочие развлечения ближайшей недели. Она надеялась, что в их числе не окажется обязательных встреч, от которых невозможно отказаться, сославшись на легкое недомогание. Она была по горло сыта этими праздниками и ужинами, на которых злословить было так же естественно, как безукоризненно вести себя за столом. К счастью, на этот раз на подносе лежал всего один запечатанный сургучом конверт. Эмма распечатала его с обычной неохотой и прочла то, что аккуратным и изящным почерком было написано на находившейся внутри карточке:
Дорогая мисс Харлоу!Я не знаю Ваших желаний, но уверен, что могу их выполнить, даже если это невозможно.
Монтгомери Гилмор
Досадливо поморщившись, Эмма засунула карточку обратно в конверт. Гилмор был последним из ее поклонников, он позже всех присоединился к хору обожателей, людей столь же богатых, сколь невыносимо банальных. Это был несуразно высокий мужчина с круглым и каким-то расплывчатым лицом, как у снеговика, когда он начинает таять на солнце, но не менее состоятельный, чем остальные. Однако Эмму он отталкивал так же или даже больше, чем другие, поскольку не только не обладал приятной внешностью, но казался еще самодовольнее, чем его соперники. Точнее было бы сказать, что он становился особенно неуклюжим именно тогда, когда требовалось обуздать свою природную самоуверенность. Другие были, как правило, опытными сердцеедами, тот же, кому недоставало опыта, по крайней мере вел себя так, словно проштудировал учебник идеального поклонника, где рекомендация скрывать высокомерие под элегантной маской скромности была столько раз подчеркнута, что бумага в этом месте даже порвалась. Гилмор же, похоже, впервые сталкивался с разновидностью разумных существ, известных под названием женщин, и вел себя с ними с такой же поразительной развязностью, с какой, наверное, действовал в мире бизнеса, где изначально правили такие неотесанные мужланы, как он. Однако Эмма не была ни чьей-то собственностью, которую требовалось приобрести, ни выгодным контрактом и, если считала ухаживание нудной, но неизбежной процедурой, то, по крайней мере, могла ее вытерпеть, когда ухажер действовал умело. Поэтому она требовала от своих поклонников соблюдения минимальных правил, которые Гилмор вызывающе нарушал.
Ей хватило всего двух встреч с ним, чтобы понять: если со временем она сможет почувствовать к кому-нибудь из поклонников нечто похожее на слабую симпатию, то к Гилмору она будет испытывать лишь растущее отвращение. Обе встречи проходили у нее дома и под присмотром матери, что было непременным условием, когда речь шла о серьезном ухажере. Во время первой из них Гилмор лишь представился, не преминув похвастаться своими владениями и капиталовложениями, дабы у Кэтрин Харлоу не осталось ни малейшего сомнения в том, что он принадлежит к самым состоятельным жителям Нью-Йорка. Кроме этого, он успел продемонстрировать свои весьма заурядные вкусы и высказать довольно-таки банальное мнение по поводу политики и некоего социального вопроса, на который его навела мать Эммы, чтобы выяснить моральный облик кавалера. Тут уж он расстарался, проявив чудовищную самоуверенность. Не утерял он ее и на второй встрече, на которой, к удивлению Эммы, мать появилась в сопровождении отца, хотя обычно он не снисходил до знакомства с поклонниками дочери. Но, когда родители оставили молодых людей наедине, чтобы те могли совершить романтическую прогулку по Центральному парку, Гилмор вдруг утратил всю свою обескураживающую самоуверенность, какую демонстрировал, описывая принадлежавшую ему маленькую империю, и отвечал на ее вопросы невнятными и неуклюжими фразами. Затем в отчаянной, как ей показалось, попытке вновь выглядеть перед ней достойным представителем мыслящих существ, он вдруг сделался самонадеянным и заносчивым, но ни разу не прибег к любовной лексике, как всегда поступает мужчина, оставшись наедине с женщиной, которую он любит. И Эмма не поняла, вызвана ли его душевная неуклюжесть тем, что Гилмор не способен воспринимать любовь иначе, чем коммерческую сделку, или же тем, что необоримая робость лишает его способности беседовать с женщинами на сокровенные темы. По правде говоря, ей это было все равно, поскольку мужчина, столь резко переходивший от безоговорочной застенчивости к раздражающей самоуверенности, не пробуждал в ней ни малейших чувств, и она была убеждена, что никогда не пробудит. Поэтому, когда они проходили по одному из многочисленных мостиков парка, направляясь к выходу, Эмма попросила его оставить бесполезные ухаживания. Удивительно, но он ничуть не взволновался. Только покачал своей большой головой, улыбаясь самому себе так, словно ее слова ничего не значили. Затем сказал, забавляясь собственным остроумием: если я перестану за вами ухаживать, мисс Харлоу, это будет первый случай в моей жизни, когда я не добьюсь того, чего хочу. Услышав эти слова, Эмма покинула его посреди парка, взбешенная самонадеянностью этого одержимого, который не знал элементарных норм вежливости при общении с дамами и к тому же, похоже, гордился этим. В течение следующей недели Эмма не имела от него никаких известий, из чего сделала вывод: Гилмор, хорошенько подумав, решил, что подобное ухаживание потребует от него чрезмерных усилий при весьма невысоком вознаграждении. Гораздо лучше будет направить их на менее сложные предприятия.
Но она ошиблась, как о том свидетельствовала неожиданная карточка, исписанная каллиграфическим почерком, с обещаниями невозможного. По-видимому, Гилмор решил прикинуться глухим и продолжить ухаживания, одновременно доказав ей, что можно добиться своего и самым неуклюжим образом. То, что он, например, даже не побеспокоился выбрать для нее украшения или цветы, скрыв нерасторопность за противным бахвальством, вывело ее из себя: было гораздо легче купить ей то, что она желала, нежели предвосхитить ее капризы. Гилмор больше, чем кто-либо другой, заслуживал ответа, который поставил бы его на место и, если повезет, окончательно убедил бы отказаться от дальнейших ухаживаний. Если чего и было в Нью-Йорке в избытке, так это девушек на выданье из хороших семейств. Гилмор вполне может начать докучать другой девушке, более покладистой, чем она.
После четырехчасового чая Эмма поднялась к себе в комнату, чтобы потратить остаток дня на такую нудную работу, как сочинение благодарностей свите своих поклонников за присланные сегодня подарки. Она поблагодарила за ожерелье юного Роберта, которого его богатый папаша обучал коммерции с той же строгостью, с какой натаскивал своих легавых, готовя их к охоте. Поблагодарила за камею Гилберта, состоятельного молодого человека, который любил провоцировать ее, нарушая условности, но всякий раз пугался, когда она притворялась, будто готова пойти дальше. Поблагодарила за билеты и сласти мистера Коулмана, чрезвычайно образованного джентльмена, задавшегося целью провести ее по всем театрам и галереям города, чтобы соприкосновение с искусством возвысило и без того прекрасную душу девушки. И наконец, поблагодарила за цветы Уолтера, многообещающего адвоката, утомлявшего ее своими политическими амбициями, светскими сплетнями и описанием их совместного будущего, которое рисовалось Эмме витриной, уставленной роскошными вещами, где для нее было приготовлено свое отдельное местечко. Прежде всего она старалась выглядеть одинаково любезной и в меру приветливой со всеми, поскольку знала, что ее поклонники имели обыкновение сравнивать присланные им открытки, пытаясь разгадать, к кому она больше расположена. В это неблагодарное занятие были вовлечены также служанки — до самого вечера они только и делали, что разносили по разным адресам ее конвертики. На самый конец она оставила ответ Гилмору, который мало того что не стал долго размышлять над ее вкусами, но еще и осмелился бросить ей вызов, предлагая просить то, чего он не в силах достать. Эмма помедлила несколько секунд, прежде чем пустить в дело свое новейшее вечное перо и написать несколько фраз на белоснежной карточке, адресованной этому толстяку, который, вероятно, ждет, что она попросит у него что-нибудь в пределах его состояния. В конце концов она написала:
Вы очень любезны, мистер Гилмор. Однако то, чего я желаю, мне никто не сможет предоставить. Боюсь, что для меня было бы невозможно желать того, что Вы в состоянии мне достать.
Этот ответ Эмму полностью удовлетворил, поскольку не только демонстрировал ее талант играть словами и рисовал как девушку, для которой важны вовсе не материальные ценности, но и предупреждал Гилмора, что ей совершенно неинтересно участвовать в предлагаемой им игре, и, самое главное, показывал полное пренебрежение всем тем, что исходит от него. На сей раз в письме все выражено четко и ясно. Гилмор не сможет ни неправильно истолковать его, ни игнорировать. Она положила карточку в конверт и отдала последней из служанок — недотепе Дейзи, которую мать еще не успела прогнать.
Служанка легкой походкой направилась к особняку Гилмора, где ее встретил дворецкий, сдержанный и в высшей степени невозмутимый молодой человек, неприветливым жестом предложивший ей подождать у дверей, после чего на серебряном подносе доставил записку в кабинет хозяина.
Гилмор рассеянно взял конверт, но, увидев, что письмо от Эммы, напрягся в своем кресле. Эмма, милая Эмма удостоила его ответа! Он прочитал записку, затаив дыхание, словно делал это под водой. Похоже, Эмма обладала завидным даром иронии, и это ему понравилось, хотя он-то как раз и был ее объектом. Все указывало на то, что ему не будет скучно с ней, когда она наконец согласится связать с ним свою жизнь. Но не только это: хотя тайны ухаживания были ему неведомы, Гилмор слышал в клубах от многих джентльменов, что женщины — весьма капризные существа и почему-то не способны выразить то, что чувствуют, иначе как с помощью запутанных головоломок, которые мужчинам приходится разгадывать, понапрасну тратя на это силы и терпение. В противоположность безыскусной простоте мужчин, женщинам, возможно, для того, чтобы чувствовать себя самыми утонченными из млекопитающих, нравится скрывать свои истинные желания под вуалью иронии. И записка Эммы источала иронию, так что Гилмор смог лишь заключить, что хотя ее подлинный смысл был, к сожалению, скрыт от него за семью печатями, по крайней мере, одно было ясно: написанные слова могли означать что угодно, но только не то, что они на самом деле означали. Он несколько раз перечитал записку в надежде, что ее настоящий смысл случайно откроется ему, но чуда не произошло. Тогда он с величайшей осторожностью положил карточку на стол, словно резкое движение могло нарушить порядок букв и сделать слова окончательно непонятными. Хорошо, подумал он, разглядывая записку, а что же он сможет ей ответить? Он решил играть наверняка и принять откровенный вызов, содержавшийся во второй фразе. А потому, воспользовавшись своим правом на ответ, чтобы сделать комплимент, на который никогда не осмелился бы, пока они гуляли по Центральному парку, написал:
Не стоит превращать в невозможное что бы то ни было, лишая меня шанса сделать его возможным, мисс Харлоу. Уверяю Вас, что могу исполнить любое Ваше желание, за исключением одного: сделать Вас прекраснее, чем Вы есть.
Довольный, он передал записку Элмеру, молодому дворецкому, а тот вручил ее маявшейся возле дверей Дейзи. Спустя четверть часа служанка доставила ответ своей госпоже. Эмма вскрыла конверт в полной уверенности, что наконец-то прочтет о вежливой капитуляции Гилмора. И презрительно фыркнула, убедившись, что это не так. Что же нужно сделать, чтобы он перестал надеяться, задумалась она. Любой другой кавалер давно бы сложил оружие, поняв, что он ей неинтересен и, более того, ее начинают раздражать его ухаживания, как она продемонстрировала это в своем последнем письме. Но только не Гилмор. Гилмор бросил ей вызов. Это было уже не ухаживание, а борьба двух сил. Не удовлетворившись этим, он сопроводил свой вызов комплиментом, столь же неуместным, сколь нелепым. Эмма взяла листок и, кусая губы, чтобы не смутить служанку вертевшимися на языке бранными выражениями, написала:
К сожалению, должна Вас разочаровать, но вовсе не этого я желаю, мистер Гилмор. Моя красота сделала бы счастливее Вас, а не меня, поскольку красота вообще всегда делает счастливым не того, кто ею обладает, а того, кто способен любить ее и почитать. Желаю Вам большей меткости в том, что касается Ваших комплиментов, когда вы вознамеритесь покорить кого-нибудь еще, поскольку совершенно ясно, что я оказалась для вас неприступной крепостью.
Она объявляла о конце их отношений. Вначале Эмма хотела действовать как воспитанная барышня, но Гилмор оказался невосприимчив к тонкостям, и потому не оставалось ничего другого, как прибегнуть к резкому тону. Довольная своим посланием, она отдала конверт Дейзи, и спустя двадцать минут та уже положила его на знакомый серебряный поднос Элмера. Взглянув на ее раскрасневшиеся щеки, дворецкий голосом справедливого, но непреклонного генерала приказал, чтобы девушке принесли с кухни стакан воды. Затем, бросив на нее пристальный взгляд, показавшийся Дейзи немного нескромным, он отправился наверх и вручил конверт своему господину, который с небывалой прытью схватил его с подноса.
Новое послание порадовало Гилмора, ведь Эмма продолжала с ним кокетничать. Теперь она называла себя неприступной крепостью, что в переводе на странный язык, которым пользуются женщины, должно означать что-то вроде… доступного цветника? Или источника, в котором он мог бы освежиться после долгого пути? Хорошо, теперь снова была его очередь. Он взял новую карточку и несколько минут сидел с отсутствующим взглядом, обдумывая ответ. Должен ли он тоже прятаться за завесой двойного смысла? Нет, как настоящий мужчина он должен предстать таким, каков он есть, мужественно выставить себя напоказ, сразу взять быка за рога. Чего он хочет добиться, обмениваясь этими записками? — подумал Гилмор. Вновь увидеть ее, чтобы попытаться выразить свои чувства, не прибегая к высокопарным фразам или косноязычным оборотам. Да, именно к этому он стремился. Но нужно было, чтобы свидание проходило в самых благоприятных, насколько возможно, условиях. Существовало одно-единственное место, где, по крайней мере, был шанс сохранить хотя бы внешне спокойствие. Он взял ручку и написал, сделав вид, будто поверил, что ее недовольство искреннее:
Сожалею, что обидел Вас, Эмма. Позвольте попросить у Вас прощения и пригласить на чай ко мне домой завтра, в любое подходящее для Вас время. Так я смогу посмотреть Вам в глаза и увидеть, насколько сильно Вы желаете того, что никто не может Вам предоставить. Убежден, что Ваше желание придаст мне сил и я смогу положить желаемое к Вашим ногам, пусть даже для этого мне придется спуститься в глубины ада.
Он подул на чернила и, прежде чем положить записку в конверт, перечитал ее. Предложение показалось ему рискованным. А если Эмма откажется? Если она отвергнет приглашение, то в дальнейших ухаживаниях не будет никакого смысла. Хотя в глубине души это его мало волновало, поскольку он твердо знал, что в любом случае продолжит добиваться своей цели до тех пор, пока смерть одного из них не положит этому конец.
Элмер передал письмо служанке, и ровно через двадцать восемь минут, когда Эмма уже полагала, что ей наконец удалось окончательно избавиться от Гилмора, ей принесли конверт, украшенный причудливой монограммой «Г». Она вскрыла его и с негодованием прочла записку. Что за назойливый самовлюбленный тип! — воскликнула она. Ее возмущению не было предела: Гилмор не только позволил себе оставить без внимания ее слова, но осмелился зайти еще дальше, назвав ее по имени и пригласив к себе домой. Неужели никто не обучал его правилам хорошего тона? Партия уже завершена, его король на доске повержен, так почему же он не признает своего поражения? Любые отношения, даже не связанные с чувствами, требуют определенного ритма, выверенного темпа, своей литургии, но прежде всего — соблюдения установленных правил. А Гилмор, похоже, обо всем этом даже не подозревает. Она взяла новую карточку и долго вертела в руках ручку, обдумывая ответ. Было очевидно, что Гилмор и не думает снимать осаду. Он привык всегда добиваться своего, как сам ей об этом сказал, и подобная самоуверенность заслуживала хорошего урока, какого никто не смог преподать ему в мире бизнеса. Но сейчас они находятся совершенно в другом мире, на ее территории, в мире, который ему чужд, и потому у нее есть прекрасная возможность продемонстрировать, что он не может все время выигрывать, сбить с него спесь. Эмма в задумчивости покусывала костяшки пальцев на левой руке и постукивала по полу своей маленькой ножкой. Значит, Гилмор полагает, что может добиться всего, чего ни пожелает… Ладно, это мы еще посмотрим, подумала она, начиная приближаться к решению задачи. Что, если она попросит у него чего-то абсолютно невозможного? Да, именно так она и поступит, ведь он оставил ей только два варианта: со смущенным взором сдаться на милость победителя или выставить его на посмешище, заставив выполнять ее желание. Потому что то, что она ему предложит, будет таить в себе некоторую надежду на достижение цели, чтобы его поражение оказалось еще более унизительным. Да, это единственное, что она может сделать: поддержать его игру, принять вызов. Она отправится к нему домой и попросит у него что-нибудь такое, чего никто не в состоянии достать! Она сжала в пальцах ручку и написала:
Я согласна, мистер Гилмор. Как по-Вашему, пять часов вечера подходящее время для того, чтобы обнаружить Вашу неспособность исполнить любое желание?
С этим вопросом Дейзи отправилась в особняк Гилмора. Подойдя к входной двери, она поправила на голове шляпку и позвонила в колокольчик, призвавший дворецкого соловьиной трелью. Элмер встретил ее заговорщической улыбкой, что порадовало девушку, которой становилось не по себе от его мрачной серьезности. После привычной церемонии размещения письма на подносе, сопровождавшейся театральными жестами обоих, Элмер понес его наверх и исчез, не забыв перед этим угостить девушку бисквитами, которые распорядился разложить на маленьком столике.
Взяв конверт в руки, Гилмор не сразу его вскрыл. Как знать, может, в письме и не содержится отказа, подбадривал он себя. Потом глубоко вздохнул и извлек записку. Ему пришлось несколько раз прочесть ее, чтобы убедиться, что он не ошибся: Эмма приняла приглашение! Радостная улыбка заиграла на его губах. Догадки оказались верными, он правильно истолковал ее поведение: Эмма хотела вновь с ним увидеться. Он был уверен, что ей понравилось его обращение к ней по имени. Мнимый поединок оказался на самом деле всего лишь предлогом, забавной и удобной игрой, позволяющей скрыть свои истинные желания. Опытная в искусстве обольщения, Эмма притворилась, будто охвачена духом соперничества, обязывающим ее поднять перчатку. Она поистине восхитительна, признал бесконечно влюбленный Гилмор. Он с мечтательным вздохом взял новую карточку. Снова наступила его очередь, но теперь ему нужно было всего лишь продолжать начатую Эммой игру, а для этого даже не требовалось притворяться. Разве есть в мире что-то, чего он не может достичь? Наверное, нет. Он наклонился над карточкой и написал, стараясь выглядеть самонадеянным, как того требовала ситуация:
Боюсь, это Вы обнаружите, что недостаточно изобретательны для того, чтобы победить влюбленного человека, Эмма. Пять часов — прекрасное время. Только смерть помешает мне принять Вас у себя завтра.
Он положил записку в конверт и отдал Элмеру, стремглав спустившемуся вниз по лестнице. В холле его ждала благодарная Дейзи, с удовольствием полакомившаяся бисквитами, почти такими же вкусными, как пирожные с начинкой из черничного джема в кондитерской Грейзера — она покупала их себе в дни, когда получала жалованье. Спустя тридцать минут она предстала перед своей хозяйкой в усеянном крошками платье, которые не успел сдуть по дороге встречный ветер, и вручила ей очередное послание.
Схватив конверт, Эмма разорвала его и прочла ответ Гилмора, сжав зубы, чтобы не закричать от возмущения. Как он осмелился сомневаться в ее воображении, в честолюбивости ее желаний? Послание не требовало ответа, однако Эмма не могла удержаться, чтобы не написать хоть строчку, вооружившись все той же иронией. Не стоило тратить чернила на споры, которые сами собой прекратятся завтра, как только выяснится, каково ее желание. Лучше прибегнуть к юмору:
В таком случае не занимайтесь никаким опасным спортом до завтрашнего дня, мистер Гилмор.
Она сунула записку в конверт и отдала его служанке. Дейзи поплелась к Гилмору, где ее ожидала дюжина бисквитов с начинкой из черничного джема. Не дав девушке опомниться от удивления, Элмер с любезной улыбкой протянул ей поднос, и она, ошеломленная и растроганная, положила конверт на его сверкающую поверхность. Когда он успел сходить в кондитерскую Грейзера и вернуться, ведь путь туда неблизкий, подумала она. Элмер церемонно попрощался с ней и быстро поднялся в кабинет к своему хозяину, а Дейзи все повторяла слова благодарности, грозившей перерасти в любовь.
Увидев дворецкого, Гилмор схватил с подноса конверт и нетерпеливо разорвал. Эмма не стала затевать спор, к которому приглашала первая фраза его послания, и, вновь обратившись к иронии, теперь беспокоилась о его здоровье. Приятно удивленный, Гилмор улыбнулся. Ну разве она не восхитительна? Он взял новую карточку и написал на ней, решив прибегнуть к юмору:
Будьте спокойны, Эмма, опасные виды спорта меня совершенно не привлекают, если не считать ухаживания за вами.
Эх, если бы ему удалось продемонстрировать подобное остроумие при встрече с глазу на глаз! Элмер вихрем пронесся вниз по ступенькам и, передавая конверт Дейзи, осмелился дотронуться до ее пальцев, отчего на лице девушки появилась смущенная улыбка. Стараясь, чтобы ее не сморило из-за внезапно нахлынувшей жаркой волны, она поблагодарила за бисквиты и, желая разрушить неудобное молчание, воцарившееся между ними, высказала удивление по поводу того, что ему так быстро удалось их доставить. Элмер откашлялся и совершенно бесстрастным голосом, словно ребенок, декламирующий наизусть Шекспира, ответил: я могу достать все, чего бы вы ни пожелали, разве что не могу изменить к лучшему мою внешность, как бы вам хотелось. Дейзи ошеломленно посмотрела на него, не понимая, почему он считает, будто он для нее не слишком привлекателен. Элмер снова откашлялся, повернулся к ней спиной, справился, что написано у него на ладони, снова обернулся к ней и тем же бесстрастным тоном произнес: я могу исполнить любое ваше желание, за исключением одного: сделать вас прекраснее, чем вы есть. Дейзи зарделась, смущенно попрощалась и, не чуя под собой ног, отправилась восвояси, сожалея, что не владеет тайной письма, чтобы выразить с каждым разом все более приятному молодому дворецкому то, что она сейчас чувствует, и не зная, что он уже прочел все в ее взгляде.
Спустя сорок минут она вручила послание Эмме, которая с тоской удостоверилась, что Гилмор тоже не может удержаться от того, чтобы оставить за собой последнее слово. С досадой она вскрыла конверт. Как может человек быть таким наглым? — спросила она себя, прочитав его ответ. Неужели у Гилмора нет никаких сдерживающих рамок? Эмма глубоко вдохнула и медленно выпустила воздух, чтобы успокоиться. Ей бы хотелось ответить ему, но служанка переминалась с ноги на ногу, словно они у нее болели, и снова посылать ее к Гилмору показалось Эмме слишком жестоким. Она утешилась, подумав, что, как говорил Уайльд, если и есть что-то более приятное, чем оставить за собой последнее слово, так это возможность сделать его предпоследним.
XVII
Монтгомери Гилмор жил в особняке, выстроенном в парижском стиле рядом с огромным Центральным парком, который был разбит для отдыха ньюйоркцев, для чего на эту громадную территорию пришлось завозить тонны песка из Нью-Джерси. Во времена детства его матери этот район еще оставался пустошью, где немногочисленные особняки богачей торчали, словно островки роскоши в океане грязи, которую частые снегопады украшали пятнами снега, постепенно таявшими на солнце. А теперь эти великолепные дома жались между старавшимися выглядеть элегантными зданиями и магазинами, в тени вознесенной над ними железнодорожной линии, по которой с задумчивым перестуком проносились поезда. Эмма позвонила в колокольчик на двери в десять минут шестого — именно настолько воспитанной девушке рекомендовалось опаздывать на свидание. Ее сопровождала Дейзи, чье увольнение было милостиво отменено в обмен на обещание держать язык за зубами по поводу этого визита. Было совершенно невообразимо, чтобы девушка из социального круга, к которому принадлежала Эмма, появилась в доме холостого мужчины одна, без сопровождающих, ибо подобное безответственное и безрассудное поведение навсегда запятнало бы ее репутацию, более того, репутацию всех ее потомков, по крайней мере в двух поколениях, но Эмма не хотела, чтобы ее мать присутствовала при встрече: то, что она собиралась предложить Гилмору, должно было остаться между ними двумя, матери же все это показалось бы настолько абсурдным, что она не колеблясь сразу же отвезла бы ее к доктору Бриджленду, уверенная, что девушка подхватила непонятную лихорадку, которая может довести ее до помешательства. Таким образом Эмме пришлось солгать ей и предложить упомянутую сделку служанке, которая приняла предложение с радостной улыбкой, что, как вы догадываетесь, объяснялось не только восстановлением на службе. Не успел стихнуть колокольчик, как Эмма услышала приближающиеся шаги. Кто-то шел к двери четкой размеренной походкой, словно маршируя, и она машинально поправила шляпку, выбранную в тон к алому платью, и с удивлением заметила, что Дейзи сделала то же самое. Наградив служанку недовольным взглядом, она подождала, пока дверь откроется, и на ее губах заиграла лицемерная улыбка.
Обладателем столь звучной походки оказался худощавый дворецкий, приветствовавший их легким наклоном головы, словно желал указать на что-то своим носом, после чего он повел их в библиотеку, предварительно проведя по всему обширному дому, что было, вероятно, сделано по распоряжению самого Гилмора, не упускавшего ни единой возможности произвести на Эмму впечатление. Она следовала за дворецким с равнодушным видом, стараясь ничем не выдать восхищения обилием роскошных экзотических предметов, в то время как Дейзи тяжело дышала у нее за спиной, словно они все это время бежали, а не шествовали почти церемониальным шагом. Когда наконец они добрались до библиотеки, снизу доверху заставленной полками из ореха и изящными витринами, заполненными инкунабулами, Эмма увидела, что это помещение соседствует с небольшим внутренним двориком, прохладным и тенистым, куда вынесли маленький столик для чая. Здесь рос огромный дуб с раскидистыми ветвями, защищавшими от вечернего солнца, отчего дворик показался ей восхитительным оазисом. Впрочем, она не успела как следует рассмотреть его, потому что тут же появился Гилмор. Он вошел в элегантном коричневом костюме, сопровождаемый собакой, которая тщательно обнюхала обеих дам и, убедившись, что они пахнут должным образом, плюхнулась в углу дворика, откуда лениво поглядывала на них.
— Мисс Харлоу! — без всякой нужды объявил дворецкий.
— Спасибо, Элмер, ты можешь идти. Я сам налью чай, — распорядился Гилмор и недовольно посмотрел на служанку.
— Дейзи! — Эмма не взглянула на девушку, ее глаза были прикованы к хозяину дома, который принялся изучать носки своих сапог. — Иди с Элмером в помещение для слуг и жди там, пока я тебя не позову.
— Да, мисс, — удивленно прошептала служанка.
Когда слуги ушли, миллионер отвлекся от созерцания своей обуви и, заметно волнуясь, шагнул навстречу Эмме.
— Спасибо, что приняли мое приглашение, мисс Харлоу, — начал он вместо приветствия, не осмелившись обратиться к ней по имени.
Придерживаясь правил хорошего тона, Эмма протянула ему руку, и миллионер, неуклюже нагнувшись, запечатлел на ней робкий поцелуй. Затем, спохватившись, что она все еще стоит перед ним, предложил девушке сесть.
— Вы не подумали о том, что дерзость вашего предложения может испугать меня? — спросила Эмма с любезной и в то же время вызывающей улыбкой, когда уселась в кресло.
— Конечно же нет. И я рад, что этого не произошло, — радостно заметил Гилмор и после небольшой паузы добавил, хитро улыбаясь: — Хотя ваш ответ может означать только одно: что вы не считаете меня опасным.
Эмма молча глядела на назойливого поклонника, которым решила наказать ее судьба, стараясь отыскать в его лице хоть какую-нибудь привлекательную черту. Но ничего похожего не находила: его щеки казались ей чересчур пухлыми и румяными, нос — слишком маленьким в сравнении с глазами или ушами, а куцые усы и рыжая бородка выглядели нелепыми украшениями.
— Вы упустили из виду другую возможность, мистер Гилмор, — холодно ответила она.
— В самом деле? — заинтересовался он, наливая чай в ее чашку и изо всех сил стараясь, чтобы у него не дрогнула рука. — Какую же?
— Что я сама способна защитить себя от всего, что могло бы произойти со мной в этих стенах.
Гилмор поставил чайник на стол и состроил веселую улыбку, воздавая должное ее остроумию.
— Не сомневаюсь в этом, мисс Харлоу, нисколько не сомневаюсь. Однако не бойтесь, как видите, все мы здесь ужасно безобидны. — С этими словами он указал на собаку, дремавшую в своем уголке, в отблесках лимонного света, просачивавшегося сквозь густые ветви. — Мой пес уже слишком стар и потому давно демонстрирует не свирепость, а, скорее, абсолютное безразличие ко всему. — Затем он показал на дверь, за которой несколько минут назад скрылись дворецкий и служанка. — А что вам сказать о моем услужливом дворецком? Элмер слишком хорошо сознает свое предназначение в жизни, чтобы нарушить правила поведения, которым обязан следовать человек его положения. — Наконец, сделав эффектную паузу, он произнес, глядя ей прямо в глаза: — А я влюблен в вас и потому никогда не мог бы причинить вам вреда.
Эмме пришлось скрыть, что она удивлена тем, сколь искусно построил Гилмор свою речь, завершив ее неожиданным страстным объяснением. Приготовил ее заранее? Сочинял с самого утра? Эмма отпила немного чая, чтобы выиграть время.
— Так, значит, вы никогда не причинили бы мне вреда… — повторила она веселым голосом. — И даже если бы я сказала, что никогда не смогу ответить на вашу любовь?
Он изумленно уставился на нее.
— Какова была бы ваша реакция, если бы я объявила вам об этом, мистер Гилмор? — продолжала Эмма. — Разве не в таких случаях совершаются убийства из ревности? Не потому ли, что некто не может получить то, что желает, и предпочитает, чтобы тогда уж оно не досталось никому?
— Да, это так… — признал Гилмор, явно сбитый с толку.
— Следовательно, вы могли бы наброситься на меня прямо сейчас, чтобы удушить своими сильными руками, — сказала она, скорчив при этом гримасу, — а мне было бы нечем защищаться, кроме моего жалкого зонтика.
Произнеся эти слова, Эмма в душе отругала себя за ненужное кокетство. Для чего лишний раз мучить его, если она пришла сюда только затем, чтобы избавиться от этого человека? В ней проснулась жалость, когда она увидела перед собой погрустневшие глаза Гилмора. Было очевидно, что, несмотря на свою кажущуюся раскованность, он изо всех сил старался сдержать терзавшую его жажду, которая требовала, чтобы он встал и, не тратя лишних слов, утолил ее раз и навсегда. Эмма представила, как он обнимает ее своими мощными руками и, в соответствии со своей экстравагантной манерой ухаживать, с настойчивостью маленького щенка жадно целует ее предплечья, волосы, колени и другие части тела, на которых опытный любовник не стал бы задерживаться, потому что никто пока еще не научил Гилмора, как усмирить свое желание и какие зоны женской анатомии сулят большее наслаждение.
— Нет-нет, — ответил Гилмор неожиданно мелодичным голосом, — я никогда так не поступлю, мисс Харлоу, уверяю вас.
Его поспешность немного огорчила Эмму, но она пришла сюда не для того, чтобы поддаваться жалости.
— Понимаю: вы не из тех импульсивных мужчин, которых страсть увлекает за собой, как ветер опавшие листья, — заговорила она, не дав ему опомниться. — Уверена, если бы я отвергла вашу любовь, вы предпочли бы думать обо мне с фатальной холодностью романтических героев и после короткого траура начали бы поиски другой девушки, на которую могли бы излить свои чувства.
Гилмор неожиданно посерьезнел.
— Ты ошибаешься, Эмма, — произнес он с неуклюжей торжественностью. — Я продолжал бы любить тебя всю жизнь, надеясь, что ты изменишь свое мнение.
Эмма сделала вид, будто не заметила, что он назвал ее по имени.
— Вы поставили бы на карту свою жизнь ради столь хрупкой надежды? — спросила она, не зная, чувствовать себя польщенной или пугаться. — Например, никогда бы не женились, да?
— Никогда, — подтвердил он тем же торжественным тоном. — Я бы только ждал вашего возможного возвращения и освободил бы свою жизнь от всех препятствий, которые могли бы помешать мне любить вас, когда наступит такой момент. Единственное, о чем бы я позаботился, это о том, чтобы оставаться в живых.
— Ради чего? — спросила Эмма, стараясь скрыть непонятное волнение, вызванное его словами. — В Нью-Йорке полно таких же или еще более красивых девушек, чем я. Любая могла бы…
— Если бы даже я располагал вечностью для того, чтобы объехать весь земной шар, — перебил ее Гилмор, — и осмотрел бы все картины и скульптуры в музеях, а также самые прекрасные пейзажи, созданные природой, все равно я не нашел бы более высокой красоты, которая потрясла бы меня больше, чем вы, Эмма.
Это не было похоже на заготовленную речь опытного обольстителя, это было признание человека, искренне верящего в то, что он говорит. Человека, который впервые в жизни влюбился и не может выразить переполняющее его чувство иначе, как в высокопарных, нелепых, откровенных фразах. Он разглядывал ее с почтительной искренностью, лишенной даже намека на желание обладать ею или попытку обольщения. И он намеревался положить к ее ногам свою щедрую любовь, готовый посвятить ей свою жизнь, ничего не ожидая взамен, кроме надежды на то, что когда-нибудь она его полюбит…
— Должна признать, что язык у вас хорошо подвешен, мистер Гилмор, — сказала она. — Вы способны любого убедить в чем угодно.
Он смиренно улыбнулся.
— Преувеличиваешь, Эмма: я, например, не могу убедить тебя выйти за меня замуж.
— Потому что меня нельзя обольстить словами, все это лишь пустое сотрясение воздуха, — возразила она. — Покорить меня можно только делами.
Потому что дела говорят сами за себя, без всякого обмана, хотела она добавить, но прикусила язык. Гилмор уселся в свое кресло и долго играл чайной ложкой, прежде чем осмелился спросить:
— Значит, если я добуду то, что вы желаете, вы выйдете за меня?
Эмма помедлила с ответом. Ни за что на свете она не вышла бы замуж за такого человека, как Гилмор, но то, что она собиралась попросить у него, не мог бы достать никто, в том числе и он.
— Да, — ответила она с отнюдь не показной уверенностью в голосе.
— Даете слово?
— Да, — сказала она. — Даю вам слово, мистер Гилмор.
— М-м-м… Это может означать только две вещи: либо вы уверены, что ваше задание окажется мне не по зубам, либо так сильно хотите чего-то, что готовы платить за него столь высокую цену, — заключил Гилмор. — Или существует третий вариант, который я упустил из виду?
— Нет, на сей раз иного варианта не существует, — равнодушно ответила Эмма.
— Хорошо, — произнес Гилмор с нетерпением в голосе, — давайте же наконец раскроем тайну: о чем идет речь? Чего я не сумею исполнить?
Эмма откашлялась. Гилмор ожидает, что она попросит у него какую-нибудь невероятную драгоценность, скаковую лошадь, которая не проиграет ни одного забега, или, возможно, плавучий либо летающий дом, удерживаемый в воздухе усилиями десятков птиц. Так вот, ничего подобного она не попросит. А попросит то, чего он не сможет исполнить. Нечто такое, чего добился лишь тот удивительный человек, чья кровь струится и в ее жилах. Она попросит, чтобы он научил человечество мечтать.
— Шестьдесят три года назад, в тысяча восемьсот тридцать пятом году, — начала она, — некий репортер газеты «Сан» заставил мир поверить в то, что на Луне обитают единороги, бизоны и люди-летучие мыши. Вы слышали об этом?
— Конечно. Кто не слышал об этом мошенничестве? — ответил Гилмор. Он был явно заинтригован. — Это была одна из самых нашумевших историй, журналистский обман века.
— Так вот, этого человека звали Ричард Локк, и он — мой прадед.
— Ваш прадед?
Эмма кивнула.
— Тогда вы знаете и то, что после разоблачения обмана многие люди продолжали верить, что все описанное им — правда.
— Это меня не удивляет, мисс Харлоу. Людям необходимо истово верить во что-то, — сказал Гилмор. — Но я надеюсь, вы не хотите, чтобы я повторил все это? Сегодня мы точно знаем, что Луна необитаема. В иное уже никто не поверит. Телескопы…
— Разумеется, никто не поверит, мистер Гилмор, — перебила его она. — Зато многие думают, что жизнь есть на Марсе.
— На Марсе?
— Да, на Марсе. Вы слышали про его каналы? Некоторые ученые утверждают, что это явный признак того, что на соседней с нами планете существует разумная жизнь.
— Да, я читал что-то об этом, — ответил Гилмор, заметно сбитый с толку. — Так вы хотите, чтобы…
Эмма вновь прервала его, неожиданно выложив на стол книгу. Это был роман в светло-коричневом переплете, вышедший в издательстве «Хайнеманн».
— Вам известна эта книга, мистер Гилмор? — спросила она.
Гилмор бережно взял книгу в свои большие руки и прочел название:
— «Война миров»… Герберт Джордж Уэллс.
— Она написана известным английским писателем, — уточнила Эмма, — и повествует о вторжении марсиан на Землю.
— Герберт Джордж Уэллс… — повторил Гилмор как бы для себя.
— Марсиане прибыли на нашу планету в огромных цилиндрах, запущенных с Марса. Первый из них обнаруживают на общественном пастбище Хорселла, близ Лондона. В воронке, образовавшейся при падении снаряда, марсиане строят летающую машину в форме ската и отправляются на ней в ближайший город.
— Герберт Джордж Уэллс…
— Марсианам понадобилось всего две недели, чтобы завоевать Землю. — Она сделала паузу и улыбнулась. — Я хочу, чтобы вы воспроизвели это вторжение.
Гилмор поднял глаза от книги и оторопело уставился на нее.
— Что вы сказали?
— То, что вы слышали: я хочу, чтобы вы заставили весь мир поверить в то, что на Землю прилетели марсиане.
— Вы сошли с ума? — возмутился Гилмор.
— Разумеется, не нужно доводить дело до конца, — объяснила она. — Мне достаточно будет, что нашествие начнется.
— Что нашествие начнется?.. Но, мисс Харлоу, это ведь…
— Невозможно?
— Я не это хотел сказать… — пробормотал он.
— Тем лучше для вас, мистер Гилмор, значит, вам нетрудно будет это устроить. Сделайте так, чтобы цилиндр внеземного происхождения появился в Хорселле, чтобы из него вылез марсианин и чтобы на следующий день газеты всего мира заговорили о прибытии наших соседей по Солнечной системе. Если в них появятся подобные заголовки, я соглашусь стать вашей женой.
— Нашествие марсиан… — промямлил Гилмор. — Вы хотите, чтобы я имитировал нашествие марсиан…
— Да, именно этого я хочу, — подтвердила Эмма. — Пусть это будет данью уважения моему прадедушке, который убедил весь мир, что на Луне обитают единороги и люди-летучие мыши.
Гилмор нагнулся над столом и несколько мгновений рассматривал книгу, недоверчиво качая при этом головой.
— Если вы чувствуете, что вам это не по зубам, мистер Гилмор, признайте свое поражение, — предложила она. — И прошу вас, перестаньте присылать мне свои нелепые записки, заверяя, что готовы выполнить невозможное.
Он посмотрел ей в глаза и вызывающе улыбнулся.
— Марсиане появятся в Хорселле, мисс Харлоу, — произнес он торжественным тоном, каким объясняются в любви. — Они появятся там, даю вам слово. Прилетят с Марса, чтобы вы стали моей женой.
— Когда? — также с вызовом спросила она.
Казалось, Гилмор раздумывает.
— Когда? М-м-м… дайте-ка прикинуть. Сейчас начало мая. За неделю я мог бы подготовить поездку в Англию и прибыл бы туда через пятнадцать дней. Затем мне понадобилась бы по меньшей мере пара месяцев, чтобы ответить на ваш вызов… Это переносит нас в август. Да, полагаю, времени достаточно… Хорошо, мисс Харлоу, вас устроит, чтобы марсиане вторглись на Землю первого августа?
Эмма кивнула.
— Вполне устроит, мистер Гилмор. Обещаю, что в этот день я буду находиться на Хорселлском пастбище, — сказала она, вставая и протягивая ему руку. — До встречи там, мистер Гилмор.
Он тоже поднялся, удивленный, что она так внезапно уходит, и поспешил позвонить в колокольчик для слуг, после чего поцеловал ей руку.
— До встречи там, мисс Харлоу, — повторил он ее слова.
Вежливо сделав реверанс, Эмма направилась к дверям библиотеки, а оттуда, снова в сопровождении дворецкого, к выходу, размышляя по дороге над тем, как удачно все прошло. Но оставим ее, пока она идет бесчисленными комнатами дома, и вернемся в маленький внутренний дворик, потому что самое главное сейчас — это не то, что думает Эмма, и тем более не то, о чем могут думать дворецкий или восторженная Дейзи, которая поджидает свою юную госпожу в просторном холле и еще не знает, что через считанные недели ей уже не придется дрожать за свое место, поскольку она получит неуклюжее, но вполне серьезное предложение в виде кольца, спрятанного в черничном бисквите и лишь чудом ею не проглоченного. По-настоящему важно то, о чем думает пребывающий в замешательстве Монтгомери Гилмор. Проводив Эмму, он снова уселся в кресло и сейчас с задумчивым видом поглаживал книгу, которую она ему оставила. Он провел толстыми пальцами по выпуклым буквам, составлявшим фамилию автора и напечатанным под названием, и покачал головой то ли недоверчиво, то ли восхищаясь тем, на какие неожиданные повороты, достойные циркового акробата, способна жизнь. Он должен сделать так, чтобы Англия поверила, что марсиане прилетели на Землю с намерением завоевать ее.
— Герберт Джордж Уэллс… — вновь прошептал он. Затем глубоко вздохнул, покорно улыбнулся и, с симпатией посмотрев на своего пса, воскликнул: — Ты можешь в такое поверить, Этерно?
Золотистый ретривер бросил на него взгляд, который он оценил как сочувствующий.
XVIII
Монтгомери Гилмор вернулся в Англию спустя два года после своей смерти. Приехав в Лондон, он первым делом отправился на некую маленькую площадь в Сохо, в центре которой стояла бронзовая скульптура человека, вошедшего в историю под именем Властелина времени. Далеко не всякий обладает привилегией созерцать статую, поставленную по случаю его смерти. Монтгомери Гилмор, известный в другие времена как Гиллиам Мюррей, внимательно сравнил себя с ней, как будто стоял перед зеркалом. Хотя, по правде сказать, после всех изменений, какие претерпела его внешность, было трудно обнаружить в бронзовой фигуре родственные черты. Когда ты весишь сто двадцать килограммов, тебе достаточно совсем немного похудеть, чтобы превратиться в другого человека, хотя он на всякий случай вдобавок еще отпустил бороду и усы, стал носить короткую стрижку и даже одеваться приучил себя гораздо скромнее. С довольной улыбкой оценил он и позу, в которой застыла его копия, поднявшая руку в восторженном жесте, столь свойственном мошенникам. Понравилось ему и то, как скульптор изобразил его верного Этерно, оставленного в Нью-Йорке на попечение Элмера, ибо Гилмор посчитал, что присутствие пса выдаст его.
Кучка голубиного помета, упавшая на голову статуи, заставила его недовольно поморщиться. Он уже побаловал себя созерцанием скульптуры, и незачем было дольше оставаться здесь, чтобы из первых рук узнать обо всех невзгодах, поджидавших статую до тех пор, пока кто-нибудь не распорядится ее снести: медленное, но смертоносное воздействие дождя, ветра и времени, художества и атаки вандалов, нещадный обстрел со стороны бесчисленных поколений голубей, этих милых птичек. Да, этот позор был более чем достаточной приметой будущего. Мюррей сочувственно улыбнулся статуе и не спеша зашагал в сторону Грик-стрит, здороваясь с попадавшимися навстречу прохожими вежливым кивком головы. Он довольно усмехнулся, убедившись, что его никто не узнает. Правда, это его особенно и не волновало, поскольку даже если бы кто-то его признал, то, вероятно, решил бы, учитывая увлечение англичан спиритизмом, что перед ними призрак Гиллиама Мюррея. Ведь в призрак легче поверить, чем в то, что кто-то способен с таким мастерством симулировать свою собственную смерть.
Дойдя до Грик-стрит, он остановился перед зданием своей фирмы, чья деятельность стоила ему жизни. Она размещалась в бывшем театре, который Мюррей распорядился переделать, украсив фасад мотивами, связанными со временем, Так, например, на фризе появились резные изображения песочных часов, а на фронтоне можно было увидеть Хроноса, с ехидным видом вращавшего зодиакальный круг. Чуть ниже фигуры бога помпезные буквы, выбитые в розовом мраморе, гласили: «Путешествия во времени Мюррея». Мюррей поднялся по ступенькам и с грустью взглянул на висевший у входа плакат, приглашавший прохожих побывать в 2000 году. На рисунке был изображен эпизод из войны будущего: бравый капитан Шеклтон яростно атаковал своего заклятого врага, предводителя автоматов Соломона. Мюррей дождался, пока на улице не осталось ни одного пешехода, вынул из кармана ключ и прошмыгнул в здание. Внутри пахло прошлым, запустением, потускневшими воспоминаниями. Мюррей остановился в просторном вестибюле и прислушался к поселившейся там тишине, потому что это было единственным, что сейчас производили полчища часов, которые два года назад оглашали все вокруг неутомимым тиканьем. Возвышавшаяся в центре вестибюля скульптура, иллюстрировавшая ход времени с помощью гигантских песочных часов, которые переворачивали механические руки, тоже застыла без движения и покрылась плотным коконом паутины. Та же самая пыль, что забила ее зубчатый механизм, лежала также на шестеренках и колесиках старинных механических часов, выставленных с одной стороны вестибюля, и на футлярах бесконечных настенных часов, занимавших все стены. Ни одним из этих часов не нужно было ничего измерять, потому что время внутри здания остановилось. Тишина была такой плотной, что Мюррею показалось, будто, навострив уши, он сможет услышать возбужденные голоса жителей города, осаждавших его фирму два года назад, чтобы отправиться в будущее. Не став подниматься по лестнице, ведущей в его кабинет, он направился на склад, где его, словно старый и усталый зверь, лишившийся приюта, ожидал «Хронотилус». Это был трамвай, опутанный трубами из хромированного железа, к которому его инженеры сзади приделали паровой двигатель, а спереди — нос, похожий на ледокольный. Все это плюс кабина на крыше, своего рода сторожевая вышка, из которой было удобно вести обстрел, наводило на мысль, что транспортное средство специально оборудовано для путешествий в опасные места, что было правдой, так как «Хронотилус» путешествовал в будущее, пересекая четвертое измерение, таинственную территорию, где его и подстерегла смерть.
Превращение во Властелина времени сделало Мюррея миллионером. Но когда он посчитал, что уже достаточно богат и продолжать накапливать деньги бессмысленно, поскольку это не сулит ему ничего нового, то не нашел иного способа прикрыть свое предприятие, кроме как симулировать собственную смерть. Впрочем, другого способа и не существовало. Никто не позволил бы ему просто так закрыть двери «Путешествий во времени Мюррея», лишив людей возможности побывать в будущем, а передать свою фирму кому-нибудь, словно речь шла о магазине фарфора или баре, он тоже не мог. Смерть решала проблему на удивление просто и в то же время наводила на воспоминания о нем превосходный трагический глянец. Он так и сделал — умер, придумал себе жестокую и прекрасную смерть, потрясшую весь мир. Да, Гиллиам Мюррей умер великой смертью, какой удостаиваются лишь герои, и унес с собой секрет путешествий во времени. И пока человечество осознавало, что вновь безнадежно застряло в настоящем, он пересекал Атлантику с карманами, набитыми деньгами, чтобы начать новую жизнь в современном Нью-Йорке под именем Монтгомери Гилмора.
Его приезд произвел небольшое волнение в спокойном океане привилегированного нью-йоркского общества. Город жестко опирался на систему ценностей, где во главу угла был поставлен культ семьи и традиций, что показалось Мюррею неприятно знакомым, однако он решил не нарушать правил, дабы не привлекать к себе внимания. Он сразу же понял, что попал на столь же двусмысленную и скользкую территорию, как и та, которую он покинул, поскольку под ее безукоризненно чистой поверхностью, где жизнь текла спокойной рекой, никогда благодаря ряду архаичных правил не выходившей из берегов, пульсировал мир, замешенный на страстях и слабостях, тщательно регистрируемых жителями этого особого царства видимостей. Равнодушный к этой лицемерной механике, Мюррей наблюдал, как после обеда всегда находился кто-нибудь, кто подавал на стол десерт в виде слуха, что называется с пылу с жару, о чьем-нибудь тайном романе или недавней женитьбе, которую с высоты своего трона благословила сама глава клана, чтобы соединить два состоятельных семейства. Когда все это ему надоело и его присутствие утратило блеск новизны, он начал сокращать свое появление на публике. Скоро его можно было увидеть лишь на обязательных деловых обедах, и его скромный, почти монашеский образ жизни, закрытый для светских гиен, заставил последних изо всех сил выискивать падаль, ибо, по их мнению, жизнь без искушений, свойственных всем смертным, навевала скуку. Так Мюррей гармонично вписался в панораму нью-йоркского высшего общества как загадочный магнат и мизантроп, не представляющий никакой угрозы такой деликатной конструкции, как его обычаи.
Однако подобное существование, которое он первый называл жалким, было не добровольным, а неизбежным. Если бы даже он захотел жить по-другому, ему бы это не удалось: разнообразные спектакли и выставки в городе утомляли его и наводили тоску, так как подобный всплеск эстетических эмоций помогал не столько развить его душу, сколько обнажить его прискорбную неотесанность, а званые ужины, балы и прочие развлечения, в которых он соглашался участвовать, лишь обнаруживали его способность заблудиться на тропинках светской жизни. Не умеющий наслаждаться удовольствиями, доступными его кошельку, и не знающий, за что взяться после того, как осуществилась мечта, служившая ему путеводной звездой и состоявшая в том, чтобы создать фирму путешествий во времени, миллионер Мюррей обвел унылым взглядом свои обширные владения и ощутил необходимость существовать как какое-то наказание. Что в этой жизни могло увлечь его, очаровать, обворожить, что могло избавить от тоскливого одиночества, обступавшего его со всех сторон, которое не заглушали даже посылки с книгами, ежемесячно приходившие из Англии? По сути, единственной стоявшей перед ним задачей была необходимость оставаться богатым, чем он и занимался каждый день безо всяких усилий, как, впрочем, и безо всякого энтузиазма, встречаясь с предпринимателями и вкладывая деньги то в одно, то в другое предприятие, потому что если у Мюррея и было какое-то выдающееся достоинство, так это его завидное шестое чувство, позволявшее ему безошибочно определять выгодность тех или иных капиталовложений, буквально не выходя из дома. Так, однажды его сначала рассеянный, а потом заинтересованный взгляд через окно упал на проложенные на высоте железнодорожные пути, по которым время от времени циркулировал маленький пыхтящий паровозик, с трудом тащивший за собой несколько вагончиков. Его проезд сопровождался дождем из обломков досок и кусков угля, иной раз приправленных какой-нибудь выпавшей деталью, и все это валилось на головы несчастных прохожих, и без того вынужденных мириться с огромными железными конструкциями, которые загораживали им солнечный свет. Было очевидно, что такой поезд, который сейчас позволял своим пассажирам подглядывать в окошки близлежащих домов и иногда попадал в не лишенные зрелищности аварии, должен ходить под землей, и потому Мюррей инвестировал часть своих капиталов в экспериментальную модель подземного поезда, сразу же доказавшую свою рентабельность. Вкладывал он деньги также в горные разработки, судостроение, гостиницы и некоторые другие отрасли, где отсутствовал риск, и даже, чтобы его богатые соседи не заподозрили, что он человек без мечты, ибо, как некоторые говаривали, люди без иллюзий представляют собой неприступную крепость, занялся коллекционированием древностей, которые его торговые агенты приобретали на аукционах и распродажах по всей Европе, а он потом размещал в многочисленных комнатах своего особняка, к отчаянию Элмера, питавшего инстинктивную ненависть к любому предмету, способному собирать пыль.
Так бы все и продолжалось, если бы не своевременный порыв ветра, изменивший его жизнь, причем тоже в буквальном смысле слова. Я имею в виду реальный порыв ветра. Ведь что такое ветер на самом деле? До сих пор он был для Мюррея тем же, что и для любого человека: воздушными массами, перемещающимися в атмосфере. Но после того, что случилось в то воскресное утро, ему стало казаться, что ветер — это что-то гораздо более глубокое, определяющее и значительное, возможно, дыхание самого Творца. Не таким ли образом передвигал он свои фигуры на доске — дуя на них? Событие имело место, как я уже сказал, в воскресенье, и это было такое светлое воскресенье, что оставаться дома было бы непростительным грехом, и весь Нью-Йорк вышел на улицы, чтобы как следует провести этот день, окунуться в него, насладиться им, почти беззастенчиво упиться его светом и ароматом. Даже Мюррей не удержался и, нарушив свое затворничество, подарил себе прогулку в сопровождении пса по Центральному парку, который выглядел особенно красиво, словно кто-то тщательно промыл листву на его экзотических деревьях и траву на бесконечных зеленых лужайках.
Не успев войти, он обнаружил, что в парке полным-полно людей, которым пришла в голову та же мысль, что и ему. Многие гуляли парами или компаниями, читали на скамейках, устраивали пикники на газонах или учили детей запускать воздушных змеев, и хотя Мюррей расхаживал между ними совсем иной походкой, словно слышал не такую музыку, как все остальные, не способный слиться с веселым и громкоголосым окружением, Этерно радостно носился вокруг, совершая беспечные прыжки и повороты. К удивлению хозяина, пес был готов приносить ему брошенные им предметы как обычная собака. Причем даже те вещи, которые он не бросал: принеся сперва веточку и камень, Этерно вдруг положил к его ногам красивый розовый зонтик. Мюррей поднял голову в поисках владелицы изящной вещицы. Вдалеке, на берегу искусственного озера он увидел нескольких девушек, сидящих на траве. Одна из них встала и теперь делала ему знаки, чтобы он подошел. У нее единственной не было зонтика, так что Мюррею было нетрудно догадаться, что порыв ветра вырвал его у нее из рук, и тот покатился по траве, став неудержимым искушением для Этерно. Мюррей выругался. Из-за этого зловредного заговора между ветром и его псом он должен будет подойти к девушке, чтобы вернуть зонтик, и, вероятно, даже заговорить с ней, что привело его в панику. Взволнованный, он зашагал по направлению к незнакомке, прочищая на ходу горло и лихорадочно перебирая в уме возможные вежливые фразы, чтобы не ударить в грязь лицом, когда дело дойдет до неизбежного разговора.
И по мере того как расстояние между ними сокращалось, а Мюррей нарочно шел медленно по мягкой траве, он вдруг начал подозревать, что девушка, чьи черты становились все более четкими, по-видимому, красива, хотя он и не мог сказать насколько, пока не приблизился. Только тогда он понял, что незнакомка не просто красива: в том, что она красива, не было сомнения, но в то же время было в ней что-то совершенно другое, такое, что, взглянув на нее, ты рисковал навсегда подпасть под чары ее загадочной красоты. Если приглядеться, в каждой из черт по отдельности не было ничего особенного — ни одна не соответствовала канонам эпохи: нос был слишком велик, глаза узковаты, да и цвет кожи был какой-то необычный, — однако в целом получался результат, от которого у любого дух захватывало. И тут с ним произошло то, что, как он думал, никогда не могло случиться: он влюбился. Или, по крайней мере, испытал, один за другим, все признаки, о которых столько раз читал в романах, рассказывающих о любви с первого взгляда, что всегда заставляло его с отвращением захлопывать подобные книги. У него болезненно заколотилось сердце, готовое выскочить из ставшей вдруг тесной груди, о стенки которой оно билось, как угодивший в капкан зверь; показалось, что собственное тело становится совсем легким и он уже не идет, а летит над лужайкой; цвета окружающих предметов сделались блестящими и яркими; даже ветер вроде бы треплет его волосы чрезвычайно осторожно и нежно… А когда Мюррей преодолел последние разделявшие их метры, он уже нисколько не сомневался, что в мире нет девушки прекрасней, чем владелица розового зонтика. Эта иррациональная преданность красоте незнакомки показалась ему первым симптомом — как внезапный насморк и слезящиеся глаза у аллергика — того, что его только что настигла внезапная любовь. Он остановился перед девушкой и застыл, словно в столбняке, забыв, что человек — это высшее существо, умеющее не только говорить, а еще ходить на двух ногах, и строить грандиозные сооружения, и открывать континенты, и возводить города, потому что в тот момент для Мюррея существовала одна-единственная способность человека: благоговейно восхищаться этой девушкой, следить за каждым ее вздохом — словом, пребывать в упоении оттого, что она существует на свете.
Но была ли Эмма на самом деле ангелом, сошедшим с небес на землю? — с понятным недоверием спросите вы, а кое-кто еще иронически улыбнется при этом. Ну что я могу вам ответить, кроме того, что красота женщины всегда подлинна, если ее оценивает мужчина, который эту женщину любит? Поэтому в тот погожий весенний день Эмма была, несомненно, самой прекрасной женщиной во Вселенной. Если этого недостаточно, то позвольте высказать вам мое мнение, скромное, как и пристало человеку, не склонному к категорическим суждениям, и беспристрастное, какое должно быть у всякого хорошего рассказчика. Как мне представляется, девушка, вероятно, не была ослепительной красавицей, но, похоже, ее слепил гончар, знавший вкусы Мюррея лучше, чем он сам. Все, что казалось ему привлекательным в женщине, и то, что бессознательно притягивало, гармонично сочеталось в девушке, стоявшей сейчас перед ним, невесомой и изящной, как лебединое перо, если позволите мне столь прихотливое сравнение. Ее легкий костяк был обтянут круглящейся плотью, кожа была не привычно бледной, а словно обсыпанной корицей, а на лице, обрамленном длинными черными волосами, которые будто нежно поглаживали лоб, выделялись восхитительные глаза, которые, казалось, не просто видят, но и согревают то, что видят, погружают в приятную теплоту, как если бы эта вещь была выставлена на солнце зимним днем. И в качестве особой пометки мать-природа в своей бесконечной мудрости разместила родинку в единственном месте, где она не могла бы испортить лицо девушки: над краем верхней губы, как отметину для поцелуя. Но все это не имело бы для Мюррея никакой ценности, кроме чисто эстетической, если бы его не околдовала душа, проявлявшаяся во всех ее чертах, в некой симфонии обворожительных жестов, которыми сопровождалось чудо превращения того, что он считал опасным обаянием, в восхитительную красоту.
Однако в какой-то момент его благоговейного созерцания эта ненаглядная краса начала хмурить брови, что мгновенно вывело Мюррея из глубокой задумчивости. Зонтик, вспомнил он, ты подошел к ней, чтобы вернуть зонтик. Он поспешно протянул его девушке и только тут заметил, что вкладывает в ее руки комок грязной и разорванной ткани. Он ужасно смутился, и разговор, состоявшийся у него после этого, получился поэтому коротким и банальным. Настолько, что он сейчас даже не мог его вспомнить. Единственным, что осталось в памяти, был бархатистый голос девушки, который, казалось, одевал в кружева каждое слово, на что Мюррей отзывался невразумительным мычанием.
Возвращаясь домой вместе с Этерно, благопристойно трусившим рядом, Мюррей вдруг обнаружил, что мысленно рисует себе картину счастья: он удобно устроился с книгой у пылающего камина, а она сидит за фортепьяно, и по комнате разносятся берущие за душу звуки, в то время как на верхнем этаже кормилица укладывает спать двух или даже трех — впрочем, почему не четырех? — очаровательных ангелочков, плоды их любви. Он не знал; было ли то, что он чувствовал, любовью, потому что никогда не ощущал подобного раньше, однако это, несомненно, было чувство, придавшее новое направление его жизни и впервые сместившее его из ее центра, так как теперь, к удивлению Мюррея, все крутилось вокруг прекрасной незнакомки. Какой была его жизнь до того, как он столкнулся с ней в парке? Он уже этого не помнил. Неужели он когда-то жил не воспоминанием о ее улыбке, а чем-то другим? Да как он мог? Теперь он хотел лишь вновь увидеть ее, подчинить все свое существование этой цели. Впрочем, не только: ему было необходимо познакомиться с нею, выяснить, кто она такая на самом деле, узнать, каков вкус ее любимого чая, каково самое ужасное детское воспоминание и самое большое желание. Ему нужно было, наконец, развернуть ее душу, как развертывают бумажного голубя, чтобы понять, как она стала такой, какая есть. Это и называется любовью? — спросил он себя. Мюррей не знал ответа, но был уверен, что не успокоится, пока не выяснит. Он, Гиллиам Мюррей, завладеет этой таинственной территорией, как завладел четвертым измерением. Никогда еще он не желал чего-либо сильнее. Никогда. А потому, придя домой, послал Элмера в парк, наказав ему проследить до самого дома за единственной девушкой, у которой не было зонтика. И на следующий день послал по адресу, добытому дворецким, целый набор зонтов, сопроводив карточкой с посланием, над которым корпел всю ночь:
Уважаемая мисс Харлоу!Поскольку я не знаю, какие зонты Вы предпочитаете, посылаю Вам все, что были выставлены в витрине магазина. Пользуясь случаем, хочу признаться, что Вы сделали бы меня самым счастливым человеком на свете, если бы позволили мне узнать Вас до такой степени, что в следующий раз я мог бы прислать вам один-единственный зонт.
Монтгомери Гилмор,невинный хозяин бессовестной собаки
Она поблагодарила его за подарок, в тот же день прислав ответную записку, в которой говорилось:
Большое спасибо за тридцать семь зонтиков, мистер Гилмор. Должна признать, что это весьма эффективный способ заставить меня не бояться, что какая-нибудь собака изорвет мой зонтик в будущем. Моя мать и я будем очень рады лично поблагодарить Вас за это, если вы соблаговолите пожаловать к нам завтра на чай.
Эмма Харлоу
Мюррею понравилась ирония, которой щеголяла девушка, даже больше, чем само приглашение. В последнем отсутствовала какая-либо непосредственность, свидетельствующая об искренности ее желания: Эмма всего лишь следовала правилам приличия, наверняка под влиянием матери, не хотевшей, чтобы ее дочь фигурировала в черном списке цивилизованного нью-йоркского общества как девушка, не сумевшая правильно отблагодарить за присылку тридцати семи зонтиков. Несмотря ни на что, Мюррей появился в их доме, намереваясь извлечь из ситуации наибольшую пользу. Он понятия не имел, как нужно ухаживать за дамой, но предполагал, что эта наука не слишком отличается от заключения выгодной сделки. Он ошеломил мать размерами своего состояния и размахом капиталовложений, так что почтенной хозяйке дома должно было показаться, что ее собеседнику принадлежит вся планета и часть Вселенной в придачу, а потому не успели они как следует полакомиться всеми сластями, как она уже дала ему разрешение на то, чтобы он, если желает, поухаживал за ее дочерью. Материнское разрешение наполнило Мюррея неописуемой радостью, пока он не обнаружил, что для того, чтобы ухаживать за девушкой, он должен быть включен в список поклонников с амбициями по меньшей мере членов приходского совета. Эта орда пошлых и развязных конкурентов повергла его в уныние. В какой-то миг он даже собирался выбросить на ринг полотенце, но затем передумал. Капитуляция не была выходом. Поэтому он схлестнется с этими барчуками и одолеет их во что бы то ни стало. Можно нанять кого-нибудь, кто расправится с ними по очереди, пришло ему в голову. Правда, такое решение вопроса, быстрое и простое, могло в итоге возбудить серьезные подозрения. Вереница смертей неизбежно укажет на него, единственного оставшегося в живых поклонника девушки. Полиция не так глупа, как это порой кажется. К тому же он предпочитает победить их в честной борьбе. На самом деле речь шла о том, чтобы напрячь свою находчивость, которой ему было не занимать.
Итак, Мюррей отправился на второе свидание, вооружившись оптимизмом, но, к сожалению, это ему не помогло. Он очаровал мать и даже самого мистера Харлоу, который обычно не проявлял ни малейшего интереса к личному знакомству с поклонниками своей непредсказуемой дочери, но в тот день появился в чайной комнате, заинтригованный восторженным рассказом жены о Мюррее, и так увлекся беседой с ним, что впервые опоздал на занятия по стрельбе. В общем, Мюррей околдовал обоих родителей рассказами о своих капиталовложениях в Африке, во враждебных землях, куда осмеливались пробраться лишь немногие храбрецы. На Африканском континенте опасности поджидали на каждом шагу, и в качестве примера он приводил зловещие ритуалы вуду, малярию, нападения львов, крокодилов, горилл и других зверей, которых он не советовал использовать в качестве амулетов. Но когда он остался наедине с Эммой, то не знал, что ей сказать. Во время прогулки по Центральному парку, которой мать предложила увенчать их встречу, он почти все время молчал и лишь искоса поглядывал на нее с обожанием. Она шагала рядом мелкими шажками, укрываясь зонтиком от солнечных стрел, пробивавшихся сквозь ветви деревьев, и казалась Мюррею такой чувствительной, что даже вращение Земли было способно вызвать у нее головокружение. Чем больше он исподтишка следил за ней, тем больше тайных достоинств обнаруживал. Он заметил, что в ее глазах блеск невинности сочетался с едва заметным выражением жестокости, как будто в ее жилах струилась кровь пантеры, а за высокомерием, похоже, как некий подземный родник, скрывался источник нежности. Возможно, красота Эммы была несколько экзотичной, что так сильно отличало ее от остальных девушек, делая уникальным созданием и заставляя противостоять окружающему миру с помощью высокомерия. Но, подмечая все это и окончательно запутавшись в паутине ее красоты, Мюррей хранил молчание. Поглощенный собственным счастьем, он не заметил, какой скучной прогулка оказалась для Эммы, пока она сама этого не продемонстрировала, весьма ненатурально зевнув и обратившись к нему с вопросом, ответ на который вряд ли ее интересовал.
— Послушайте, мистер Гилмор… — произнесла она нарочито холодным тоном. — Вам нравится Америка? Догадываюсь, что вам, привыкшему к старой доброй Англии, мы должны казаться чуть ли не варварами.
— Очень, — поторопился ответить Мюррей.
Эмма взглянула на него с удивлением, граничащим с возмущением.
— Нет, я не то хотел сказать… — смущенно оправдывался миллионер, который искал точный ответ на ее вопрос и пропустил мимо ушей последовавшее за ним рассуждение. — Я хотел сказать, что мне нравится Америка. Очень нравится. Очень-очень. Нет, правда. Это великая нация! И конечно же американцы вовсе не кажутся мне варварами. А уж вы-то меньше, чем кто бы то ни было.
— Значит, моя мать кажется вам большим варваром, чем я? — нежным голоском упрекнула его девушка и принялась вращать свой зонтик, отчего на ее лице закружились тени.
— Конечно же нет, мисс Харлоу. Ни она, ни вы… Позвольте мне… — забормотал сбитый с толку Мюррей, полностью сознавая, что девушка смеется над ним. — Я хочу сказать, что ни вы, ни ваша очаровательная матушка не заслуживают подобного названия. Я имею в виду варваров. И никто из вашего славного семейства, разумеется… Ни соседи, ни знакомые…
После столь путаных извинений снова наступило молчание. Оно становилось все более напряженным, и Мюррей лихорадочно подыскивал тему для разговора, одну из множества тем, которые с блеском развил бы любой из ее франтоватых ухажеров. И снова именно Эмма нарушила молчание:
— Полагаю, что у столь занятого человека, как вы, который целыми днями напролет только и делает, что поглощает предприятия, дабы увеличить свое состояние, остается очень мало времени на светские развлечения… Уверена, что в данный момент ваш мозг находится далеко отсюда, погрузившись в многочисленные дела, и пытается скрыть, что считает эту прогулку пустой тратой времени. Я не ошиблась, мистер Гилмор?
— Если мое неловкое молчание заставило вас так подумать, то примите мои самые искренние извинения, мисс Харлоу, — поспешил объяснить Мюррей, все больше смущаясь. — В мои намерения вовсе не входило создать у вас столь ошибочное впечатление, поверьте.
— Ах, так, значит, я должна понимать, что ошиблась и вам просто нравится такое здоровое занятие, как ходьба, и вы не любите сочетать его с чем-либо, что могло бы отвлечь вас от столь сложной задачи, как переставлять по очереди ноги?
— Я… в общем, мне действительно нравится движение. Я не из тех, кто любит ничего не делать, мисс Харлоу. Ходьба вселяет в меня… бодрость. И я согласен с вами, что это здоровая привычка.
— Тогда давайте в соответствии с вашими желаниями продолжим прогулку, погрузившись в здоровое и бодрое молчание.
Мюррей открыл было рот, чтобы ответить, но тут же закрыл, так как не знал, что на это возразить. Шедшая рядом Эмма с обреченным видом поигрывала зонтиком и время от времени поддавала ногой камешки, которыми была усеяна дорожка, явно демонстрируя растущее раздражение. Мюррей старался скрыть свое отчаяние. В мире бизнеса он чувствовал себя как рыба в воде, но не требовалось нового свидания, чтобы понять: он собирался завоевать ее сердце, а сам все время совершал промахи и пропускал удары, словно слепой боксер. Казалось, его любовь к Эмме была скорее помехой, чем преимуществом в беседе. Он сделал новую попытку.
— Могу ли я полюбопытствовать, каковы ваши увлечения, мисс Харлоу? — робко спросил он.
Эмма высокомерно взглянула на него.
— Очевидно, вы не привыкли общаться с образованными и хорошо воспитанными девушками, иначе не задали бы этот вопрос. Все мы занимаемся примерно одним и тем же. Поэтому, как любая барышня, я серьезно занимаюсь музыкой, пением и танцами и стараюсь развить свой ум и обогатить знания с помощью постоянного чтения книг как на родном языке, так и на французском, которым я, mon cher petit imbécile[7], владею в совершенстве. Кроме того, я исправно посещаю театры, балет и оперу, а еще ежедневно стараюсь получить новый заряд… бодрости, совершая здоровые прогулки по Центральному парку. Как видите, моя жизнь состоит из развлечений.
— Вы так считаете? Так позвольте вам сказать, что, по-моему, вы не находите свою жизнь очень веселой, мисс Харлоу, — не удержался от комментария Мюррей.
— В самом деле? — Девушка посмотрела на него с любопытством. — И что же заставляет вас так думать?
— Ну… — замялся Мюррей. — Я до сих пор не имел удовольствия слышать… чудесное звучание вашего смеха.
— А, понимаю! Тогда позвольте попросить у вас прощения, многоуважаемый мистер Гилмор, за то, что я недостаточно старалась доставить вам удовольствие и не хихикала как дурочка по любому поводу. Но не думайте, что если вы не слышали моего смеха, то это означает, что я никогда не смеюсь. Просто причины, по которым я смеюсь, далеко не те же самые, что вызывают смех у большинства людей, а потому я привыкла смеяться наедине с собой или про себя.
— Невеселая привычка… — пробормотал себе под нос Мюррей.
— Вы думаете? — резким тоном произнесла девушка. — Может быть, не спорю. Но когда непроходимая тупость людей служит единственной причиной твоего смеха, тогда смеяться про себя — самая приличная форма смеха, вы не находите?
— Должен ли я сделать вывод, что вы без умолку смеялись во время нашей прогулки? — миролюбиво пошутил Мюррей.
— Мое воспитание не позволяет ответить на этот вопрос, мистер Гилмор, а моя мораль — обманывать вас. Делайте вывод сами.
— Я уже сделал его, мисс Харлоу, — смиренно произнес Мюррей. — И горжусь тем, что дал вам возможность посмеяться. Но разве ваш смех способна вызвать лишь человеческая тупость? Вы никогда не смеялись по какой-нибудь другой причине или даже без причины? Просто потому, что сегодня чудесный день, что кухарка приготовила ваше любимое лакомство…
— Разумеется, нет, — оборвала его девушка. — Не понимаю, почему тот факт, что все происходит как надо, должен стать причиной для радости.
— …или потому, что вы влюбились.
Эмма удивленно подняла брови:
— По-вашему, любовь может служить причиной для смеха?
— Не для смеха, а для радости, — поправил миллионер. — Вы никогда не влюблялись, мисс Харлоу? Никогда не ощущали в себе столько жизненных сил, столько энергии, что начинали смеяться, чтобы не взорваться от счастья?
— Боюсь, это слишком дерзкий вопрос с вашей стороны, мистер Гилмор.
— Таков мог бы быть ответ скромной барышни, но также и того, кто боится признаться в своей неспособности влюбиться, — парировал он.
— Вы намекаете на то, что я не способна влюбиться, исходя из того, что я не упала к вашим ногам? — взорвалась Эмма.
— Мое воспитание не позволяет мне ответить на этот вопрос, а моя мораль — обманывать вас. Делайте вывод сами, — улыбнулся Мюррей.
— Мистер Гилмор, вы не вправе делать столь бесцеремонные замечания в разговоре с дамой. Ни одна дама не позволит, чтобы…
— Мне не важно, как поступают другие! — воскликнул Мюррей с таким пылом, что девушка смущенно остановилась посреди мостика, по которому они в тот момент проходили. — Мне не важно, что правильно, а что нет. Я устал от этой игры! Единственно, что мне важно, мисс Харлоу, это знать, что в действительности вам нужно, чтобы быть счастливой. Скажите, Эмма, что делает вас счастливой? Это очень простой вопрос, и я рассчитываю на такой же простой ответ, и ничего больше.
— Что делает меня счастливой? — Эмма слегка запнулась. — Я ведь уже вам говорила раньше…
— Нет, не говорили, Эмма. А я прежде всего должен узнать, чего именно вы желаете, — настаивал Мюррей с такой же непреклонностью в голосе, к какой он прибегал при обсуждении условий любого контракта, поскольку уже устал от этого ритуала, чьи абсурдные правила были ему неизвестны.
Эмма пристально посмотрела на него, смущенная и в то же время задетая столь резким изменением тона разговора. И тут произошло нечто необыкновенное: в темных зрачках девушки словно появилась щелка, сквозь которую Мюррей, как сквозь трещину в стене, увидел маленькую потерявшуюся девочку, умоляюще смотревшую на него. Это продолжалось какое-то мгновение, она не успела даже моргнуть. У этой девочки с недовольным и грустным выражением лица были черные локоны, она была одета в желтое платьице и крепко прижимала к груди странный бумажный свиток, перевязанный красной ленточкой. Обескураженный миллионер раздумывал над тем, что предстало его взору. Этой девочкой была Эмма? Но как он мог ее увидеть? Или он просто представил себе, какой она была в детстве? Но если это так, откуда возникли столь точные и выразительные детали? Прическа, платье, непонятный свиток… Или же он видел образ, который от частого смотрения в зеркало отпечатался на сетчатке глаз девушки? Он этого не знал, но каким-то образом почувствовал, что получил доступ к душе Эммы, что между ними происходит что-то вроде чуда или волшебства, когда случается невероятное: он получает возможность увидеть, какая она на самом деле. Видение было мимолетным, но прежде чем девочка исчезла, Мюррей успел все про нее понять: он узнал, что она не была счастлива, не помнила, чтобы когда-нибудь испытывала это чувство, и не ведала, обретет ли счастье в будущем. А прежде всего он узнал, что эта девочка испытывает страх, очень сильный страх, потому что та, внутри которой она теперь заключена, постепенно удушает ее, и очень скоро от нее не останется даже следа. Когда девочка исчезла и в глазах Эммы вновь появился надменный блеск, Мюррей отвел от нее взгляд, чувствуя, что все у него в душе перевернулось. Девочка взывала о помощи, и он понял, что обязан ее спасти, в этом не было ни малейшего сомнения. Только он мог помешать ей исчезнуть навсегда.
— Хорошо, мистер Гилмор, — услышал он голос Эммы, доносившийся откуда-то издалека, — коль скоро вы так озабочены тем, каковы мои желания, назову вам их четко и ясно, и надеюсь, что вы постараетесь их исполнить, как обещали.
Мюррей медленно поднял голову, еще не опомнившись от ощущения странного и неожиданного родства, установившегося у него с девочкой, к которому Эмма, похоже, не имела никакого отношения. Он должен был заставить улыбнуться эту мельком увиденную девочку. Должен был показать ей, как прекрасен мир и сколько причин для счастья у его обитателей.
— Я желаю, чтобы вы перестали за мной ухаживать, — резко заявила Эмма. — Именно таково мое желание. Я никогда не смогу ответить ни на одно из ваших чувств и, боюсь, не смогу также изображать то, чего не испытываю, как это делают многие женщины. Так что возвращаю вам ваше время, мистер Гилмор, чтобы вы могли употребить его на что-нибудь более полезное, нежели попытка достичь невозможного для вас, пусть даже ваша гордость мешает вам это признать.
Мюррей с улыбкой глядел на нее, чуть покачивая головой.
— Если я перестану ухаживать за вами, мисс Харлоу, это будет первый случай в моей жизни, когда я не добьюсь того, чего хочу. И… depuis notre rencontre, vous êtes mon unique désir[8], — закончил он.
Взбешенная такой неслыханной наглостью, Эмма лить фыркнула, повернулась и быстрыми шагами пошла прочь, оставив Мюррея стоять на маленьком нелепом мостике, готовом вот-вот рухнуть под его весом. Несмотря на ее реакцию, Мюррей продолжал улыбаться и с нежностью смотрел ей вслед. Он знал, что негодование Эммы было вызвано не только тем, что он заговорил на безукоризненном французском, но и тем, что она не поняла истинного смысла его ответа, хотя Мюррей был уверен: когда-нибудь она его поймет. Потому что, хотя он действительно всегда добивался того, чего хотел, на сей раз его желание, впервые в жизни, имело отношение не к его собственному, а к ее счастью. Поэтому ему вдруг уже не надо было никуда спешить, торопиться удовлетворить свое отчаянное и эгоистичное желание. В этом заключалось его преимущество над остальными поклонниками: он мог посвятить свою жизнь ожиданию, потому что его жизнь больше ему не принадлежала. Он принадлежал ей. И Эмма будет принадлежать ему, ведь он располагает бесконечным запасом времени. Запасом длиною в его жизнь. Он будет любить ее столько лет, сколько потребуется, любить без устали, и его любовь никогда не ослабеет. Он будет любить ее, не прикасаясь к ней, издали восхищаясь ею, как восхищаются звездой на небосводе или витражами в соборе. Он будет любить ее, глядя, как разматывается клубок ее жизни, с противоположного берега, застыв там, будто тысячелетнее дерево, от которого отступилось бессильное время, в ожидании, что она глянет на него и, разочарованная, любопытная, овдовевшая, озлобленная, капризная или какая угодно, откроет ему наконец свои объятия. И тогда он покажет этой потерявшейся девочке, что такое счастье.
Эта уверенность помогла ему пережить поражение при втором свидании, вспомнил Мюррей, шагая по заброшенному складу, словно по лабиринту своей памяти. Благодаря ей быстро возродился его оптимизм, но он все же решил сделать небольшую передышку в своих атаках. Это позволило бы Эмме оправиться от замешательства, в которое привели ее экстравагантные манеры горе-ухажера, а ему — серьезно поразмыслить о дальнейших шагах. Требовалось найти более эффективную тактику и такую стратегию, которая не опиралась бы исключительно на его действия наедине с ней. В конце концов миллионер пришел к очевидному выводу: зачем продолжать двигаться вслепую, надеясь едва ли не случайно найти такую манеру ухаживания, которая придется Эмме по вкусу, если можно прямо спросить ее об этом? Как видите, Мюррей обнаружил ключик к пониманию женщин, которым остальное человечество пользовалось с незапамятных времен, возможно, с тех пор, как Создатель вынул ребро у Адама, чтобы совершить свою последнюю шалость. Довольный таким решением, Мюррей взял карточку и, хитроумно прикрывшись покровом изысканности, вложил ее в руку девушке, заверяя, что может исполнить любое ее желание.
Эта маленькая карточка положила начало забавному обмену посланиями, продолжавшемуся почти всю вторую половину дня. И только когда он завершился, окончательно потерявший голову Мюррей осознал, что на следующий день должен принять Эмму в своем доме. Он резко встал из-за письменного стола и принялся кружить по кабинету. Итак, ему удалось заманить ее на свою территорию. Это было самым трудным. Теперь он должен решить, в какой части дома ее лучше принять. В оранжерее? В саду? Во внутреннем дворике перед библиотекой? Он выбрал последнее, потому что это было самое укромное и тихое место во всем доме. Элмер проводит ее прямо туда, он сам укажет ему, через какие залы дворецкий должен будет провести девушку. Стол можно будет поставить под огромным дубом, дававшим прохладную тень как раз в эти часы, как он подсчитал. Да, место, конечно, идеальное.
Ночью на него напала бессонница, и он почти не спал, однако утренняя ванна помогла ему встряхнуться настолько, что к моменту свидания он подошел с посвежевшей головой и робкой верой в свои силы. Во время бессонницы он воображал себе возможные сценарии их беседы и готовил нужные ответы на любой вопрос, который она могла бы ему задать, но в конце концов пришел к заключению, что все равно не сумеет предугадать ход их разговора. Часовая стрелка так долго добиралась до цифры пять, что, когда это наконец произошло, Мюррей успел пережить все возможные и невозможные состояния души: оптимизм, покорность судьбе, апатию, надежду, тоску, страх — а теперь и тошноту, поскольку нервное напряжение сказалось и на желудке, нарушив спокойное переваривание жаркого, поданного Элмером на обед. Бледный, трясущийся словно в лихорадке, он услышал звуки дверного колокольчика, возвестившего о прибытии Эммы, и вслед за этим знакомую рысцу Элмера. Не дожидаясь, пока дворецкий придет сообщить о визите, Мюррей спустился во внутренний дворик, беспрестанно утирая платком холодный пот со лба. Вслед за ним плелся Этерно, похоже, желавший выяснить, по крайней мере настолько, насколько это доступно собаке, причину, по которой хозяин весь день пребывает в страшном беспокойстве. Однако, несмотря на тренировку ума, которой целый день занимался Мюррей, когда они вошли в библиотеку, Этерно среагировал быстрее, чем он, и подбежал к Эмме и ее служанке, чтобы обнюхать их. Убедившись, что обе пахнут должным образом, а следовательно, возможность того, что Эмма послала вместо себя на свидание автомат, исключена, пес отправился в свой любимый угол и плюхнулся там, наблюдая, способен ли хозяин преодолеть замешательство, вызванное его незапланированным приветствием. Но планка оказалась чересчур высока. Гилмор не сразу догадался отослать дворецкого и поцеловать руку, протянутую ему девушкой, что он сделал чрезвычайно неуклюже, после чего пригласил ее садиться, не осмелившись поднять на нее глаза.
«Столь катастрофическое начало предвещает самое худшее», — подумал он. И не ошибся. Гилмор приступил к беседе, находясь в хорошем настроении, однако Эмма реагировала на его шутки с такой холодностью, что он засомневался, правильно ли оценил их переписку. Растерявшись, он отдал инициативу девушке, отбиваясь, как только мог, от ее выпадов, но, когда понял, что, вероятнее всего, за этим свиданием ничего больше не последует, постарался использовать любую возможность, чтобы ясно выразить ей свои чувства. В конце концов, это и было его целью. Однако разговор сразу же принял такое направление, которого невозможно было вообразить и за тысячу ночей бессонницы. Эмма явно пришла к нему в гости с единственным намерением — победить его в его же собственной игре и избавиться от него приличным и в то же время элегантным образом: попросив то, чего он не смог бы достать. И Мюррей принял вызов, сделав вид, будто им движет эгоистичное желание добиться ее либо горделивое стремление выйти победителем, — он докажет, что для Монтгомери Гилмора нет ничего невозможного. Эмма ясно дала понять: единственное, что она еще как-то ценит, это поступки. Значит, он должен забыть про слова и завоевывать ее с помощью поступков. И только женившись на ней, он докажет, что его жизнь превратилась в неустанные поиски счастья для нее, Эммы… Но для того чтобы жениться, он должен воспроизвести эпизод из романа Уэллса.
Герберт Джордж Уэллс, именно он. Автор «Машины времени».
Снова он.
Человек, которого он ненавидел, как никого на свете.
И вот теперь Мюррей должен воссоздать нашествие марсиан, описанное в его романе. Но у него уже есть опыт в подобных делах, подумал он, рассматривая трамвай времени, и его охватила почти болезненная радость оттого, что первого августа Эмма Харлоу, самая прекрасная женщина в мире, согласится стать его женой. А потом она полюбит его. В этом нет никакого сомнения. Ведь он не кто-нибудь, а Гиллиам Мюррей, Властелин времени.
И он может достичь невозможного.
XIX
Однако хватило двух недель, чтобы превратить счастливейшего из людей в отчаявшегося человека. Он приехал в Лондон в начале июня и немедленно приступил к делу, но лишь убедился в том, что воспроизвести вторжение марсиан — не такая легкая задача, как он думал. Сейчас, утром пятнадцатого дня, Мюррей направлялся в свою фирму, чтобы присутствовать при новой репетиции, хотя подозревал, что увиденное понравится ему так же мало, как предыдущие попытки. Он не сумел собрать ту же команду, с которой работал два года назад, когда отправлял своих современников в 2000 год, и хотя Мартин уверял, что нанятые им люди столь же компетентны, это утверждение свидетельствовало лишь об его склонности к преувеличениям. В самом дурном настроении Мюррей шел по залитой по-летнему ярким светом улице, с досадой наблюдая, как солнечные лучи придают окружающим предметам необыкновенную законченность, неоспоримое правдоподобие.
Выйдя на Грик-стрит, он незамеченным проскользнул внутрь старого театра. Мартин, рыжеволосый детина почти таких же размеров, как он сам, встретил его в вестибюле.
— Все уже готово, мистер Мюррей, — объявил он.
— Я же сказал, чтобы ты называл меня мистер Гилмор. Не забывай, что бедняга Мюррей умер два года назад.
— Извините, мистер Гилмор, это я по привычке.
Мюррей рассеянно кивнул.
— Ладно, не важно… Посмотрим, чего вы добились на этот раз.
Мартин провел его на склад, где должен был состояться показ. Там, задвинутый в самый дальний угол обширного помещения, стоял «Хронотилус», единственное сохранившееся свидетельство его золотого прошлого. Мюррей любовно посмотрел на него, прежде чем перевести взгляд на марсианский цилиндр, занимавший теперь центральную часть склада. Как и в прошлые разы, он остановился примерно в пяти-шести метрах от него, соблюдая расстояние, на которое, по его расчетам, смогут подойти пораженные зрители. Что касается самого цилиндра, то надо было признать, что бригада Мартина потрудилась на славу, создав в точности такую же машину, какую описал Уэллс: пепельного цвета, примерно тридцати ярдов в диаметре. В романе, служившем ему руководством, марсианская машина, которая была запущена с Марса, словно огромный снаряд преодолела шестьдесят миллионов километров непроглядной тьмы, вторглась в атмосферу Земли, прочертила небосвод в восточном направлении над Винчестером и в конце концов приземлилась на общественных пастбищах Хорселла, пробив в земле гигантскую воронку, где и покоилась наполовину погребенная, в окружении щепок от разбитой ею при падении сосны, в кольце из дерна и обугленного гравия. Но это, разумеется, превышало возможности Мюррея, и потому он был вынужден ограничиться тем, чтобы под покровом ночной темноты перевезти цилиндр в Хорселл, со всеми предосторожностями разместить его на пастбище и сжечь вокруг него некоторое количество травы, чтобы, как только рассветет, продемонстрировать его миру так, словно он действительно преодолел межпланетное пространство.
Но, к сожалению, одной только машины было недостаточно. Мюррей вздохнул и подал знак рукой Мартину, который крикнул, обращаясь к цилиндру:
— Давайте, ребята, начинайте представление!
И цилиндр стал развинчиваться. Это происходило медленно, позволяя видеть тонкий кружок блестящего металла между крышкой и корпусом, и сопровождалось негромким свистом. В романе Уэллса капсула развинчивалась целый день, и крышка отвалилась, когда вечер окрашивал в лимонно-желтые тона спокойное английское небо. К тому времени огромная толпа зевак и репортеров окружала цилиндр. Мюррей рассчитал, что люди, прятавшиеся внутри, должны открывать крышку в таком же темпе, чтобы за время долгого ожидания известие о прибытии марсиан успело распространиться по стране и, что особенно важно, появиться в газетах. Наверное, придется проделать в корпусе несколько хорошо замаскированных отверстий для вентиляции, если он не хочет потерять никого из команды. И еще необходимо будет нагреть каким-то образом поверхность цилиндра — не столько для того, чтобы придать видимость прохождения сквозь атмосферу Земли, сколько с целью помешать какому-нибудь любопытному приблизиться к нему слишком близко. Он прервал свои размышления, заметив, что блестящая резьба обнажилась уже почти на полметра. Секунду спустя крышка отвалилась с тревожным грохотом. Мюррей затаил дыхание, как это сделали в романе многочисленные свидетели, столпившиеся вокруг цилиндра, готовясь увидеть то, что скрывалось внутри. Все ожидали, что оттуда появится человек, может быть, отличный от нас, но все же человек. Человек с Марса. Однако то, что копошилось в темноте, совсем не походило на человека. Испуганные зеваки увидели нечто серое, волнистое, увенчанное двумя блестящими дисками, которые не могли быть ничем иным, как глазами, а вслед за этим из отверстия показалась пара щупалец. Они развернулись в воздухе и вцепились в борт цилиндра, вызвав бурю тревожных криков. Затем из аппарата, медленно и неуклюже, ввиду большей силы притяжения на Земле, выползла сероватая округлая масса размером с медведя. Согласно описанию Уэллса, тело существа лоснилось словно мокрое, а на лице выделялся тяжело дышащий треугольный рот, из которого капала густая неприятная слюна. Через несколько секунд марсианин должен был спуститься в яму, чтобы вдали от посторонних глаз построить летательную машину в форме ската, с помощью которой собирался атаковать города землян. Но прежде из его импровизированного укрытия высунется нечто вроде мачты, заканчивающейся параболическим зеркалом. После зловещих покачиваний в течение нескольких секунд с его полированной поверхности вырывался тепловой луч, безжалостно превращавший в угли то, что попадалось ему на пути, будь то деревья, кустарники или люди. Разумеется, Мюррей не собирался убивать мирных жителей, собравшихся вокруг цилиндра, среди которых должна была находиться мисс Харлоу. Поэтому надо было напугать их одним лишь появлением марсианина. Этого будет достаточно, чтобы породить газетные заголовки, которые отдадут Мюррею сердце Эммы или, по крайней мере, позволят ему жениться на ней.
Мюррей набрал полную грудь воздуха и стал ждать, когда фигура марсианина, сработанная его людьми, появится из цилиндра. Он приготовился пережить вселенский страх и тут же почувствовал, как им действительно овладевает ужас. Хотя то, что выползло из цилиндра, не испугало бы даже ребенка. Это было что-то вроде тряпичной куклы, к которой прикрепили несколько щупалец из раскрашенного картона, а на голове установили две электрические лампочки — над прорехой, изображавшей рот, из которого вылезало нечто похожее на гороховое пюре, смешанное с еще более густой дрянью. В течение нескольких секунд воображаемый марсианин смешно дергался из стороны в сторону, якобы испытывая силу земного притяжения, а затем чьи-то руки сбросили его с цилиндра. Он с глухим стуком ударился о землю. Когда представление закончилось, Мартин с готовностью зааплодировал. После чего выжидающе посмотрел на своего патрона.
— Ну как вам понравилось?
— Оставьте меня одного, — приказал Мюррей.
— Как вы сказали?
— Оставьте меня одного!
Смущенный Мартин постучал по корпусу цилиндра. Открылась маленькая дверка, почти незаметная снаружи, и оттуда на четвереньках вылезли двое рабочих.
— Ну как, Мартин, на этот раз ему понравилось? — с надеждой в голосе спросил первый.
— Патрону нужно подумать в одиночестве, Пол, — ответил Мартин и жестом показал, что все должны покинуть помещение.
Оставшись наконец один, Мюррей сокрушенно вздохнул, и бывший склад тут же отозвался эхом. Последний вариант оказался еще хуже. Поначалу они решили нарядить марсианином кого-нибудь из помощников, однако сделанный из раскрашенного картона и шерсти костюм не передавал ощущения, будто перед тобой обитатель другой планеты, а скорее вызывал в памяти образ овцы, остриженной слепым стригалем. Потом Мюррей договорился с двумя сотрудниками Музея мадам Тюссо, чтобы они отлили марсианина из воска, однако, хотя получившаяся фигура и выглядела более правдоподобно, чем переодетый человек, она напоминала веселого снеговика и, разумеется, не могла двигаться, а потому вскоре перестала бы производить жуткое впечатление. Но то, что появилось из цилиндра на этот раз, огорчило его еще больше. Он подошел к тряпичному марсианину, лежавшему на полу возле аппарата. Это нелепое чучело было единственным препятствием, мешавшим его браку с Эммой. Не в силах сдержаться, он отшвырнул его ногой в другой конец помещения. Кукла покатилась по полу, потеряв по дороге одну из лампочек Робертсона, заменявших ей глаза. Мюррей тряхнул головой. Ему требовалось хорошенько подумать и поскорее найти единственно правильное решение, ибо сроки уже поджимали.
Он покинул склад и поднялся по лестнице, ведущей в его кабинет. Там он налил себе рюмку бренди. Уселся в кресло и не спеша смаковал его, стараясь успокоиться. Он не хотел поддаваться одному из своих неизбежных и бесплодных приступов бешенства, которые, после того как он влюбился, считал делом прошлого. Правильнее было все спокойно обдумать. Еще не все потеряно, еще есть время. Он взял со стола лист ватмана, на котором им самим был сделан карандашный эскиз марсианина на основе описания Уэллса, чтобы его люди могли взять рисунок за образец и воплотить его в действительность. Если бы писатель изобразил что-нибудь попроще… Но нет, это чертово подобие осьминога невозможно скопировать. Мюррей приехал в Лондон, думая, что заказ Эммы будет нетрудно осуществить, чистая формальность, которую нужно исполнить, прежде чем девушка навсегда окажется в его объятиях, но создание марсианина превратилось в сложнейшую задачу. Порой казалось, что легче слетать на Марс и пленить там одного из его обитателей. Приходилось признать: его фантазия, в которую он всегда верил, на сей раз подкачала. Он, организовавший для всей Англии путешествия в 2000 год, был неспособен воссоздать это дурацкое марсианское вторжение. Слишком уж он понадеялся на себя. Возомнил себя Великим Мюрреем, магом невозможного. Но жизнь только что продемонстрировала ему, что он всего-навсего Монти Гилмор, унылый кукловод. Он яростно скомкал рисунок и швырнул в корзину.
— Ну почему? — взревел он, вставая из кресла и подняв искаженное лицо к потолку, словно требовал ответа. — Почему ты создаешь мне такие трудности именно сейчас, будь оно все проклято? Я ведь не хочу нажиться на этом! Я всего лишь хочу, чтобы меня полюбила эта женщина!
Создатель пребывал в молчании, как это вошло у него в обычай с незапамятных времен. Мюррей издал жалобный вой, словно волк, угодивший лапой в капкан, и, не придумав более изощренного способа выразить свое недовольство, одним движением руки сбросил со стола все, что там лежало. Бумаги и книги тотчас разлетелись по полу. После этой выходки он глубоко вздохнул, немного успокоившись. Потом что-то смущенно пробормотал сквозь зубы. Тут нужна помощь. Да, помощь, причем быстрая. Но от кого? Мюррей раздраженно выглянул в окно и увидел то же солнечное утро, что час тому назад. Ему почудилось, что если он будет долго смотреть, погоде в конце концов передастся его дурное настроение: небо заволокут тучи, и разразится гроза.
Тут Мюррей увидел его. И сначала не поверил своим глазам. Действительно ли это он? Да, вне всякого сомнения: он! На противоположном тротуаре стоял, с явной досадой разглядывая фасад здания, Герберт Джордж Уэллс. И хотя он, конечно, не мог увидеть Мюррея из-за солнечных бликов на стеклах, тот поспешно спрятался за гардиной и стал с любопытством следить за писателем. Какого дьявола делает здесь Уэллс? Да, он внимательно изучал здание, но с какой целью? Разумеется, он не подозревал, что внутри находится Мюррей. Наверняка считал, что тот поселился в какой-нибудь другой части света, где благополучно проматывает свое состояние, укрывшись под фальшивым именем, что, кстати, соответствовало действительности. Но было ясно: старый театр по-прежнему служил для писателя воплощением ненавистной мечты Гиллиама Мюррея, так как на его птичьем лице застыло выражение, какое свойственно человеку, пришедшему на могилу заклятого врага, сожалея, что не он его прикончил. Но почему он появился именно сейчас? Почему он так организовал свой день, свою жизнь, чтобы в определенный момент занять именно ту часть пространства, куда упадет взгляд Мюррея? Подобная синхронность не могла быть случайной. Не было ли это знаком Создателя, большого любителя общаться со своими чадами с помощью таких хитроумных указаний? Спустя несколько минут Уэллс взглянул на карманные часы, бросил последний взгляд на здание театра и зашагал по Чаринг-кросс-роуд, покидая Сохо и направляясь в сторону Стрэнда. Похоже, он торопился.
Тогда Мюррей вновь уселся за стол, достал бумагу и несколько секунд крутил в руке свое новейшее вечное перо. Осмелится ли он сделать это? Нет. Да, конечно, да, у него не осталось другого выхода. Он относился к числу людей, умеющих распознавать знаки. А главное, он был отчаявшимся человеком. А отчаявшийся человек способен на все. Он наклонился над бумагой и приготовился написать самое унизительное письмо в своей жизни:
Дорогой Джордж!Полагаю, ты не удивишься, когда получишь письмо от мертвеца, поскольку ты единственный во всей Англии знаешь, что я жив. Зато тебя наверняка удивит причина, по которой я решил тебе написать, а она заключается в том, что я хочу попросить тебя о помощи. Да-да, ты все правильно прочел: я пишу тебе это письмо, потому что нуждаюсь в твоей помощи.
Позволь мне прежде всего не тратить время на то, чтобы приукрасить действительное положение вещей. Я знаю, что ты питаешь ко мне лютую ненависть, такую же, какую испытываю к тебе я. Это факт, и мы оба о нем знаем. Поэтому тебе нетрудно будет понять, какое унижение для меня — обратиться к тебе с этим письмом. Но я решил пережить унижение ради возможности получить твою помощь, что даст тебе достаточное представление о моем отчаянии. Вообрази, что я стою перед тобой на коленях и слезно умоляю, если это доставит тебе удовольствие. Мне все равно. Мое достоинство не стоит того, чтобы нельзя было им пожертвовать. Я знаю, что умолять о помощи того, кого считаешь своим заклятым врагом, абсурдно, но, с другой стороны, разве это не свидетельствует об уважении, о признании собственной неполноценности? И я признаю ее: я всегда хвастался своей фантазией, ты это знаешь. Но теперь я нуждаюсь в помощи человека с более богатой фантазией, чем у меня. Не знаю никого, чье воображение могло бы сравниться с твоим, Джордж. Это же так просто. Если ты мне поможешь, я постараюсь перестать тебя ненавидеть. Хотя понимаю, что это не может служить для тебя стимулом. Тогда подумай о том, что я останусь у тебя в долгу, а ведь я, как тебе известно, миллионер. Возможно, хоть это станет для тебя стимулом. Если ты согласишься мне помочь, ты сам укажешь цену своей помощи. Какую захочешь. Даю тебе слово, Джордж.
В какой же помощи я нуждаюсь, спросишь ты. Возможно, май ответ вновь обострит твою ненависть ко мне, потому что дело опять связано с одним из твоих романов, на этот раз с «Войной миров». Благодаря своему блестящему уму ты наверняка догадался, что я должен воспроизвести вторжение марсиан. Но заверяю тебя: на сей раз я не собираюсь ничего тебе доказывать и не пытаюсь извлечь из этого выгоду. Ты должен мне поверить. Я уже не нуждаюсь в подобных вещах. На сей раз мною движет то, в чем я прежде всего нуждаюсь и без чего погибну: любовь, Джордж, любовь к самой прекрасной женщине, какую я только видел. Если ты когда-нибудь был влюблен, то поймешь, о чем я говорю. Думаю, тебе будет очень трудно, даже, наверное, невозможно представить, что такой человек, как я, способен влюбиться, но если бы ты был с нею знаком, то удивлялся бы как раз тому, как можно в нее не влюбиться. Ох, Джордж, ее чары сокрушили меня, и уверяю тебя, что ее огромное состояние не имеет к этому никакого отношения, ибо, как я уже сказал, у меня больше денег, чем я мог бы истратить в нескольких воплощениях. Нет, Джордж, я имею в виду ее обворожительную улыбку, золотистую кожу, удивительную нежность взгляда и даже очаровательную привычку крутить в руке зонтик, когда она нервничает… Ни один мужчина не может остаться равнодушным к ее красоте.
Но для того, чтобы добиться ее, Джордж, я должен устроить так, чтобы первого августа на общественном пастбище Хорселла обнаружился марсианский цилиндр и чтобы из него вышел марсианин, точно такой же, какой описан в твоем романе. И я не знаю, как это сделать! Я уже все перепробовал, но, как уже говорил, моя фантазия не безгранична. Я нуждаюсь в твоей, Джордж. Пожалуйста, помоги мне. Если у меня все получится, эта девушка выйдет за меня замуж. И я уверяю: если это произойдет, я перестану быть твоим врагом, потому что тогда Гиллиам Мюррей умрет окончательно. Прошу, умоляю тебя помочь бедному влюбленному.
С уважением
Г. М.
Мюррей наклонился и вперился глазами в письмо, в эти кривые строчки, выведенные еще не просохшими чернилами на белой бумаге, за которые ему было так стыдно. Возымеют ли действие его слова? Тут ему пришло в голову, что, пожалуй, разумнее было бы угрожать Уэллсу, припугнуть его тем, что, например, Джейн может попасть в аварию на велосипеде, но он сразу же отбросил эту идею. Возможно, человек, каким он был раньше, так бы и поступил, но не теперешний влюбленный. Он был почти убежден: Уэллс ему поможет по той простой причине, что считает себя лучше него, Мюррея, и не замедлит это продемонстрировать. Такого рода трюки всегда проходили с морально цельными людьми, а Уэллсу, несомненно, хотелось считать себя одним из таких. Мюррей же всего-навсего потеряет свое достоинство, а это для него мало что значит. Рядом с Эммой он вновь перестроится и возродится как более достойный человек, как совершенно иная, незапятнанная личность, освобожденная любовью. Он подул на чернила, вложил листок в конверт и запечатал его.
На следующий день он отправил письмо. И стал ждать.
Он ждал и ждал.
И снова ждал.
Так продолжалось до тех пор, пока он не понял, что Уэллс ему никогда не ответит. Похоже, писатель не собирался ему помогать. Ненависть оказалась сильнее, чем думал Мюррей, она ослепляла и отравляла его. Некоторое время Мюррей подумывал о том, чтобы послать Уэллсу новое письмо, еще более раболепное, или даже самому отправиться к писателю, упасть к его ногам и обнять тощие коленки, после чего у того не останется другого выхода, если он хочет продлить Мюррею жизнь, кроме как помочь ему. Но в конце концов он отбросил оба варианта, поскольку в глубине души знал, что они бесполезны. Уэллс не станет ему помогать, если только Мюррей не похитит его и не заставит делать это под пыткой, а потом, разумеется, прикончит, чтобы тот не выдвинул против него вполне обоснованное обвинение. Но мы уже поняли, что подобные методы для Мюррея ушли в прошлое. Таким образом ему придется действовать самому, в одиночку. И закончить работу как можно раньше, не то первого августа Эмма Харлоу взглянет с торжествующей улыбкой на общественное пастбище в Хорселле, где от легкого летнего ветерка чуть колышется высокая трава, но нет никаких следов вторжения чужой цивилизации в восхитительный земной покой.
XX
Но почему Уэллс не ответил на его письмо ни на следующий день, ни через два или три дня, позволив, чтобы их печальная череда растянулась на целый месяц? Может быть, он его не получил? Или же решил попросту проигнорировать, совершенно не собираясь доказывать Мюррею, что он лучше него? Все эти вопросы беспокойно кружились в голове у отчаявшегося Мюррея, словно мухи, пытающиеся выбраться из его черепа наружу. Но нам нет нужды пребывать в неизвестности, поскольку достаточно проникнуть в мысли самого Уэллса с помощью небольшого сюжетного отклонения, чтобы разрешить все сомнения. Так что позвольте мне покинуть старый театр и полететь вместе с душами умерших в эту ночь над самым большим городом мира — к теперешнему местонахождению упомянутого Уэллса.
Но постойте! Скоро рассвет, и зрелище, открывающееся с высоты, немного напоминает заранее поставленный спектакль: трубы тысяч фабрик, теснящихся вдоль улиц, выбрасывают дым, который смешивается с поднимающейся над Темзой густой пеленой, чтобы образовать знаменитый лондонский туман, в то время как в разных местах начинает слышаться металлический перезвон лопат дворников, убирающих с улиц конский навоз. Это словно первые аккорды мелодии, которым тотчас вторит поскрипывание множества тележек, направляющихся на рынок Ковент-Гарден и расцвечивающих все вокруг, словно вспыхнувшая радуга, пестрыми красками своей поклажи: моркови, тюльпанов, капусты и черешни. Присмотримся к последней. Разве не кажется, что она хранит под своей красноватой кожурой утреннюю прохладу? Так и хочется дотронуться до ягод, погрузить руки в гору свежести. Но у нас нет на это времени. Если мы устремим свои взоры на Ист-Энд, самую заброшенную часть города, куда, как любят повторять остряки из Вест-Энда, даже агентство «Томас Кук и сын», способное отправить вас в Тибет или в самую что ни на есть черную Африку, не сумеет доставить, то увидим, как в его не самых нищих кварталах устало начинают очередной рабочий день ремесленники, из последних сил борющиеся с бедностью. Наиболее любопытные из вас наверняка не смогут удержаться и тайком заглянут в окна наемных комнат, где ютятся семьи с четырьмя или пятью детьми, причем кто-нибудь из них непременно болен чахоткой, и ему не слишком полезно вдыхать чад керосиновых ламп либо зловоние, исходящее от ящиков с наполовину сгнившими фруктами, которые бродячим торговцам некуда девать, и они складывают их тут же, в комнате. Бедные люди, рожденные для несчастий! Даже смерть не дает им покинуть их тесный ад, потому что, когда они умирают, их обряжают в саван и не выносят из комнаты, а перетаскивают со стола на кровать и обратно в зависимости от того, собирается семейство обедать или спать, до тех пор пока не появляется возможность их похоронить. А за этими кварталами с домами из закопченного кирпича, после улиц, заполненных торговцами скобяными изделиями, истребителями крыс, продавщицами спичек и старьевщиками, мы попадаем в Уайтчепел или Олдгейт, где собираются люди, в которых общество не нуждается, юноши, готовые тупо убить за несколько шиллингов, девушки с разрушенными от долголетнего чесания льна легкими, чья красота медленно угасает на утопающих в грязи тротуарах, и орды бледных и чахлых ребятишек, слоняющихся по улицам в поисках чего-нибудь похожего на детство. Однако, если мы глянем в противоположном направлении, поверх длинных и тоскливых очередей нищих, начинающих собираться возле ночлежек, этих изможденных и голодных людей, что всю ночь прятались от полицейских с фонариками, которым приказано не разрешать им ночевать на скамейках и площадях столицы, то окажемся на чистеньких улицах Вест-Энда. Там город просыпается более энергично и активно, поскольку обитатели этой его части, видимо, считают, что жизнь — стоящая вещь. Взгляните на море цилиндров и зонтов, переполняющее Стрэнд и близлежащие улицы, на ряды магазинов, торгующих отечественными и заморскими товарами. По его превосходно вымощенным улицам снуют двухэтажные омнибусы, двуколки и даже трубочисты на велосипедах с перепачканным сажей лицом, вооруженные огромным ершом на цепочке для чистки дымоходов, словно направляются на средневековый турнир, и на каждом углу радостно приветствуют служанок в безукоризненно белых фартуках, а симпатичный полицейский следит за гармонией в этом мире, об изнанке которого ничего не знает либо не хочет знать.
Но не дадим себя отвлечь картинам медленно пробуждающегося города и продолжим свой путь к небольшому дому в окрестностях Лондона, а точнее — в Вустер-парке. Там, в просторной комнате на первом этаже, через полтора месяца после того, как Мюррей отправил ему свое отчаянное письмо, то есть как раз в тот день, который был назначен для прибытия марсиан, Герберт Джордж Уэллс спокойно спал, полагая, что новое утро, ожидавшее его за занавесом восхода, ничем не будет отличаться от других.
Исходя из того, что мы знаем о нем, мы ждем встречи с образчиком поистине счастливого человека: любящая жена безмятежно спит у него под боком, да и слава, к которой он стремился многие годы, наконец пришла, и он может купаться в ее лучах. Да, судьба улыбается Уэллсу, успех начинает согревать его озябшую плоть. Однако обстоятельства никогда не сделают счастливым того, кто по своей натуре не предрасположен к счастью, а Уэллс был рациональным, стоическим и опасливым человеком и потому склонным скорее не наслаждаться счастьем, а относиться к нему с недоверием. Воспользуемся тем, что он сейчас спит, чтобы попробовать разгадать, словно речь идет о не поддающемся расшифровке папирусе, его бедную и противоречивую душу, и попытаемся понять, почему, в отличие от своей жены, мирно спящей сном младенца, он беспокойно крутится в постели, словно расшатанный зуб во рту у ребенка.
Первым, что привлекало внимание среди многочисленных свойств и извивов его души, была удивительная коллекция комплексов, которые он старательно культивировал в себе и считал, что они превращают его в низшее существо по сравнению с прочими смертными. Уэллс был помешан на недостатках своей личности, и они внушали чувство, будто он попадает в невыгодное положение, когда приходит пора вступать в отношения с окружающими. В этом букете небольших и незаметных аномалий выделялись прежде всего две: разное фокусное расстояние в его глазах и, самое главное, странный дефект мозга, который мог казаться проницательным и дальновидным, когда того требовали обстоятельства, но не только был не способен удержать в памяти даты, цифры и имена людей или вдруг переставал работать, словно засорившийся водопровод, когда сталкивался с житейскими проблемами, которые мог решить буквально любой, но также приводил своего обладателя к мысли, что его впечатления об окружающей действительности не столь полны и ярки, как у других людей. Его мозг был поврежденным ситом золотоискателя, задерживающим речной песок и пропускающим крупинки золота. В итоге Уэллс выглядел слегка рассеянным и часто впадал в задумчивость, из-за чего казался неискренним или неестественным, когда проявлял интерес к другим людям. Короче, его способность ощущать эмпатию к ближнему равнялась нулю. Мы могли бы даже утверждать без боязни впасть в преувеличение, что ему не удавалось ощущать эмпатию даже к себе самому. И, наверное, для того, чтобы не стать для самого себя неразрешимой головоломкой, Уэллс отыскал физическое объяснение указанным изъянам. В частности, он подозревал, что дефекты его мозга объясняются тем, что размер его черепа меньше нормального, — достаточно было вспомнить насмешки друзей, когда они обменивались шапками во время игры, — а потому сонная артерия не снабжает серое вещество кровью столь щедро, как должна бы была. Однако что могли значить все эти комплексы для человека, осуществившего свою мечту и попавшего в число немногих избранных? Действительно, превращение в писателя следовало считать компенсацией за все его предполагаемые слабости. К сожалению, Уэллс был убежден в верности распространенного изречения «не согрешишь — не покаешься», ибо подозревал, что из всех населяющих нашу планету людей писатели — самые несчастливые.
Однако меланхолия овладевала им, разумеется, не всегда. Временами его целиком охватывало ощущение счастья. И захлестывало восхитительное чувство полноты жизни, пока рассудок все не портил. Сейчас, например, когда Уэллс проснулся и увидел рядом доверчиво прижавшуюся к нему во сне Джейн, его наполнило яркое ощущение благополучия. В самом деле, все, что у него было, все, чем он был, опиралось на столп с женским именем: Эми Кэтрин Роббинс, то есть Джейн, его Джейн. Эту женщину четырьмя быстрыми росчерками пера он превращал в симпатичную фигурку, героиню рисунков, с помощью которых они скрашивали серые домашние будни, потешались над самими собой и очищали от налета рутины свои любовные отношения, а потом складывали эти листочки в отдельный ящик, возможно, для того, чтобы в старости, когда ценность времени возрастает, их рассматривать.
Уэллс стал писателем благодаря ей, в этом не было никакого сомнения, потому что все сомнения улетучились с годами, он изгнал их, возможно, бессознательно, движимый необходимостью признать, что Джейн играет ключевую роль в его судьбе, став необходимейшим человеком, и без нее он не мыслил свою жизнь. Она перестала занимать эфемерное положение, на которое он с такой легкостью определил ее в первые дни их знакомства, когда относился к ней как к своему капризу. Да, резцы судьбы немало потрудились, чтобы изваять фигуру писателя, однако именно жена, приложив своевременно руку, придала скульптуре законченность. Без нее все усилия его ангела-хранителя ввести его в литературу ни к чему бы не привели.
Позвольте теперь коротко суммировать подробности происшедших с ним изменений, и тогда мы еще четче сможем представить себе его исстрадавшуюся душу. В возрасте всего семи лет в нее было заронено семя литературы, что произошло, возможно, довольно стремительным, но зато чрезвычайно эффективным способом: волей судьбы этот ребенок сломал ногу и таким образом получил превосходный предлог, чтобы в течение долгого времени без помех предаваться такому пагубному — с точки зрения его родителей, разумеется, — занятию, как чтение, ибо среди игрушек, тетрадок и прочих подарков, коими его осыпали соседи и родственники, были также и книги. Да, множество книг, и они навсегда отравили его, научили искусству убегать от самого себя, уноситься вдаль, летать над горами, островами и дальними морями, в то время как телесная оболочка, в которую он был заключен, оставалась лежать в кровати. К сожалению, его мать не стала тем человеком, который взялся бы поливать это семечко, чтобы из него выросло таящееся в нем дерево. Наоборот: Сара Уэллс была убеждена, что профессия торговца галантереей — это лучшее, о чем может мечтать мужчина, а потому все отрочество Уэллс провел в лавках, торгующих сукном, хотя он всячески стремился оградить от несправедливостей судьбы свое призвание, так рано проснувшееся и тайно развивавшееся в нем. В знаменитой мануфактурной лавке «Роджерс и Деньер», а также во многих других, куда устраивали нашего бунтаря, он то и дело впадал в задумчивость и потому ошибался со сдачей, когда его ставили на кассу, но чаще подросток приводил в порядок витрины, выбивал ковры и продавал свернутое в рулоны серое полотно, льняные и хлопчатобумажные ткани, разные виды кретона, скатерти и прочие вещи, на которые удивительным, с его точки зрения, образом находился покупатель и которые, казалось, существовали лишь для того, чтобы занять его, заставить прилагать титанические усилия, дабы в итоге он не оставил никакого следа в мире, если не считать того, что сотня домов обзавелась благодаря ему приличными гардинами. Когда вечером его усталое тело валилось на тюфяк в зловонном подвале, где ютились служащие магазина, Уэллс не мог избавиться от ощущения, словно он один из тех скворцов, выписывающих круги в небе, что думают, будто летают по собственному почину, в то время как они лишь следуют за стаей. Тогда он решил возмутиться, восстать, взбунтоваться против судьбы, к которой подталкивала его мать. Ничто не спасает от головокружения лучше, чем вращение в обратную сторону, сказал Шекспир. И Уэллс попробовал вращаться в ином кругу, а впоследствии, после многолетней изнурительной борьбы с матерью, добился того, что его жизнь вообще вошла в иное русло — русло учебы и протекала теперь в гораздо более приятной и стимулирующей среде, где к нему пришло утешительное ощущение: он тратит себя не напрасно, словно одинокая свеча, догорающая посреди бескрайней пустыни. Ему удалось устроиться помощником учителя в средней школе Мидхерста, а спустя некоторое время, благодаря своевременной стипендии, поступить в Лондонский педагогический колледж, где преподавал профессор Гексли, знаменитый физиолог, ярый сторонник теории Дарвина. Именно он открыл Уэллсу мир как неиссякаемый источник всяческих знаний, из которого каждый должен напиться. Под его руководством Уэллс научился препарировать кроликов и мастерить барометры, участвовал в дебатах по проблемам физики, которые разожгли его воображение, а самое главное — попутно снабдили его материалом и идеями на будущее.
Тогда-то он и начал писать, убежденный в том, что в нем живет потенциальный писатель, который должен научиться делать первые шажки на бумаге, а сводить пока концы с концами ему поможет преподавание. Однако его начальные опыты были всего лишь пародией на литературу, в них не чувствовалось ни таланта, ни воображения, причем он не искал применения научным или общим знаниям, постепенно без всякой системы накапливавшимся в его мозгу, словно старая рухлядь на чердаке. К счастью, судьба снова устроила ему передышку, чтобы он смог поразмышлять над своей неудачей, причем сделала это с той же категоричностью, что и в прошлый раз: он повредил почку во время футбольного матча в Холтовской академии в Рексхэме, где преподавал. Осмотревший его после этой травмы местный врач без колебаний нашел у него туберкулез, а это в те времена было равносильно тому, чтобы одарить его романтической аурой как человека, отмеченного печатью смерти. Вначале потрясенный диагнозом Уэллс воспринял свое новое состояние безнадежно больного мужественно — он ощутил себя персонажем сентиментального романа, хрупким и милым созданием, осужденным на неожиданную и преждевременную смерть, над чьей судьбой дамы проливали столько слез. Но затем он опомнился, решив восстать против зловещей болезни, которая столь самонадеянно сулила ему близкий конец, но не только потому, что она ставила крест на его желании жить и стремлении доказать миру, на что он способен, но и по другой, гораздо более простой и серьезной причине: он не хотел умереть девственником. Вот что заставило его отчаянно уцепиться за жизнь. Можно сказать, это было сексуальное восстание: неизбежность смерти превратила соитие с женщиной в такой необходимый и до безумия желанный опыт, что мысль о том, что он будет похоронен, не изведав его, была для него невыносимой.
Но, как мы говорили, болезнь подарила ему еще одну передышку в его жизненной борьбе, поскольку слово «туберкулез» послужило ему бессрочным пропуском в Аппарк, роскошное имение, раскинувшееся за холмом Картинг-Даун, в котором его мать была экономкой. Там, в уютной солнечной комнате, Уэллс пережил многочисленные перепады в состоянии здоровья, но зато вновь встретился с книгами. За четыре месяца, проведенные в Аппарке, он прочел множество стихов, романов и другой литературы, попадавшей ему в руки, но уже не как ненасытный читатель, а как внимательный новичок в писательском деле, как упорный претендент на место на литературном Парнасе. Он внимательно читал прозу, обращая внимание на гибкость фраз, внутреннюю музыку каждого абзаца, повороты и извивы сюжета, своевременно воскрешенные и извлеченные из недр словаря эпитеты. Он читал, впервые осознавая, что перед ним произведение искусства. Читал глазами исследователя, убежденного, что если внимательно препарировать каждую страницу текста и покопаться в его недрах подобно тому, как он проделывал это с кроликами в педагогическом колледже, то он сумеет воспроизвести любой стиль. Читал с уверенностью, что если будет писать с тем же усердием и использует те же средства, какими пользуются авторы, чьи имена стоят на обложках этих книг, а не те бесцветные и невыразительные приемы, к которым он до сих пор прибегал, то может стать одним из них. Там, в тиши своей уютной комнаты, Уэллс испытал спасительное откровение, своего рода смену перспективы, и это в конце концов спасло ему жизнь. Он понял, что обладает необходимым оружием, чтобы писать, что, к счастью, он с ним родился. И теперь нужно было лишь заточить его и научиться с ним управляться, применить на практике те же уловки и выпады, что и прочие мастера, фехтующие словом. Гораздо яснее сознавая теперь, что такое литературное произведение и чего он может достичь, если вооружится терпением, Уэллс перечитал до сих пор им написанное, ужаснулся и все сжег. Он с удивлением обнаружил, что у него почти полностью отсутствуют элементарные понятия о том, что такое ремесло писателя и какой силой обладают слова. Выходит, до сих пор он по-настоящему и не писал. На самом деле он лишь исписывал листок за листком своими каракулями, считая себя писателем просто потому, что умел сочинять. Но литературой тут и не пахло. Он долго размышлял над этим, бродя среди окружавших Аппарк холмов, поросших тисами, и неожиданно почувствовал непреодолимое желание выздороветь и вернуться в мир, откуда он недостойно сбежал, готовым ко второму раунду благодаря своим новым перчаткам. В общем, можно сказать, что он возродился, подобно птице Феникс, среди вересковых лугов Аппарка.
Обновленный, чувствовавший себя на подъеме, Уэллс решил устроиться на приличную работу в Лондоне на то время, пока он овладеет тайнами писательского мастерства. К сожалению, нескольких месяцев хватило, чтобы угасли надежды, что когда-нибудь его книги станут для него источником дохода. Несмотря на все усилия и жертвы, несмотря на то, что он злоупотреблял работой в ущерб своему хрупкому здоровью, — в тот период денег ему хватало лишь на то, чтобы питаться одним хлебом с сыром да иногда вареными яйцами — единственным, что удалось вырвать тогда у жизни, стали публикация нескольких очерков, которых никто не понимал, диплом по зоологии и неудачный брак с собственной кузиной Изабеллой. Свое тогдашнее существование он грустно сравнивал с греблей в болоте, но тут появилась Джейн, которая помогла ему расчистить путь к его истинной цели.
Джейн, его Джейн появилась в жизни Уэллса одним ничем не примечательным утром, принеся с собой скромную нежность рассвета: Уэллс вошел в класс, чтобы начать занятия по биологии, как вдруг среди леса голов опостылевших студентов приметил хрупкую светловолосую девушку с глазами цвета мокрой земли, которая восторженно улыбалась ему с дальнего ряда. Эта студентка не переставая бомбардировала его умными вопросами, и потому столь естественным показалось ему приставить свободный табурет к своему столу, чтобы просветить ее в области сравнительной анатомии. Вскоре обычных занятий стало им не хватать, и они начали удлинять их, беседуя в пустом классе или прогуливаясь до вокзала Чаринг-кросс. Уэллс и сам не заметил, как интерес к отважному уму девушки перерос в сердечную привязанность к ее личности в целом. По мере того как шло время, он все четче видел в ней тип подруги, в которой нуждался, рядом с которой он сможет побороть внутреннее одиночество и достичь равновесия, необходимого для того, чтобы активно противостоять жизни. В итоге, как это обычно случается, их крепнувшая день ото дня дружба привела к распаду его брака. В действительности, несмотря на сложную подоплеку, какую Уэллс хотел придать этому событию, все произошло ужасно просто: ему пришлось выбирать между двумя противоположными личностями — своей бесцветной и холодной кузиной и начитанной и веселой Джейн. Конечно, он выбрал ту, в которой больше нуждался. Они сочли себя уникальной парой, и это помогло им превознести свои чувства, назвать страстью то, что на самом деле было интеллектуальным родством, единством жизненных интересов, далеким от всякой пылкости. То, что случилось с ними, это небывалое доселе событие, сказали они друг другу, это любовь, отличная от той, что испытывают прочие смертные, это повелительная страсть, если воспользоваться терминологией Шелли. И она давала им право делать что угодно во имя своей любви, от которой у них конечно же не мог не помутиться разум, — например, отбрасывать мораль, принятую в каждой сфере жизни. Устав от общественного осуждения их отношений, они поженились, как только Уэллс получил развод, несмотря на то что отрицали брак, и такое презрительное отношение к этому институту якобы было еще одним свидетельством просвещенного и возвышенного духа, который они считали необходимым культивировать. И Уэллс сразу же понял, что не ошибся, потому что Джейн немедленно взяла на себя роль образцовой подруги: она перепечатывала на машинке его рукописи, правила статьи и даже давала советы, как улучшить текст, ведала финансами, заполняла его налоговые декларации — в общем, освобождала мужа от всех рутинных дел, которые заставили бы его спуститься на землю из волшебного края грез, где он пребывал большую часть дня. Да, такова была Джейн, его Джейн, удобная союзница, сообщница во всех преступлениях, жрица, занятая защитой урожая от холода и града, и только изредка она уединялась в своем крохотном кабинете, где могла освободиться от образа, в котором с таким удовольствием и пользой представала перед ним, и поработать над своей скромной и утонченной прозой. С умиротворенной улыбкой Уэллс допускал существование этого островка личной жизни жены и даже поощрял ее, зная, что она счастлива посоперничать с Эдит Ситуэл, сидя в своей комнатушке и следуя за полетом изысканной фантазии, которая его оставляла равнодушным. В конце концов им удалось сконструировать идеально работающую машину, наладить спокойную и активную жизнь, чья гармония происходила из обоюдного желания понять и извинить недостатки другого, создать нерушимый союз, опирающийся на первоначальное влечение, которое оба негласно замаскировали под страстную любовь.
Ареной, которую случай избрал для последнего акта превращения Уэллса в писателя, стала комната на Морнингтон-роуд. В этой каморке, где приходилось совершать рискованные па, чтобы не столкнуться друг с другом во время умывания, Джейн убедила его, что ему незачем подражать другим писателям, ибо его происхождение и образование придают свежесть и оригинальность всему, что он пишет. Упрямый от природы, Уэллс не сразу с этим согласился, но когда попробовал последовать совету Джейн, то с удивлением обнаружил, что она права. Его текстам пошла на пользу раскованность — теперь он оставался на бумаге самим собой, со всем, что пережил и чему научился, со всем, что нес на своих плечах, такой как он есть. Все, что выходило из-под его пера под влиянием Джейн, оказывалось новым, оригинальным, невероятно смелым. Она привила ему уверенность в себе, и благодаря этому Уэллс скоро приобрел большую сноровку, сочиняя истории, выросшие из научных анекдотов. Большинство лондонских журналов и газет не смогли устоять перед этими статьями и рассказами — они поражали игрой воображения и заставляли всю Англию мечтать. И тогда Уэллс понял, что превращение состоялось. Да, скульптура наконец-то была завершена благодаря спасительному содействию Джейн, которая таким образом навсегда приковала его к себе. Он уже не просто любил ее — он был обязан ей своей жизнью и даже своим будущим, то есть всем тем, что пока еще не произошло.
Таким было его второе рождение, окончательная смена перспективы, и в результате появился его первый роман — «Машина времени». Эта книга не только принесла ему сто пятьдесят фунтов, но и позволила перейти в разряд авторов с именем. Неожиданный и все возрастающий успех его последующих романов позволил им переехать в Уокинг, где они сняли домик на улице Мэйбери-роуд и где чистый сельский воздух оказался поистине благословенным бальзамом для больных легких писателя. Именно там, за кухонным столом, под убаюкивающие звуки проходящих мимо поездов, он написал «Человека-невидимку» и «Машину времени». Именно там он колесил по окрестным вересковым пустошам на своем сверкающем велосипеде, выбирая места, которые впоследствии будут разрушены марсианами. Затем новый поток денег позволил им переселиться в Уорчестер-парк, где они сейчас и жили.
Он тихо встал, стараясь не разбудить Джейн, чье дыхание напоминало о мерном ропоте морских волн. Вышел из спальни, быстро умылся и начал свой обычный обход дома, который в эти минуты был погружен в глухое безмолвие. Уэллсу нравилось подниматься до рассвета, когда мир еще не до конца выстроен, и звуком своих шагов вторгаться в этот час, предшествующий началу его рабочего дня, когда он мог беззаботно блуждать там, где хотел. Подобно полководцу, с гордостью объезжающему поле битвы, которое усеяно вражескими останками, он обходил каждую комнату, чтобы убедиться, что в течение ночи никто не посягнул на территорию, завоевать которую ему стоило стольких трудов. Похоже, все было в порядке: мебель не сдвинулась со своего места, первые лучи света, просачивающиеся сквозь окна, имели тот же наклон, стены сохраняли прежний цвет. Этот дом был не так уж роскошен, но гораздо просторнее, чем их жилище в Уокинге, и уж конечно неизмеримо больше, чем конура, которую они занимали на Морнингтон-роуд. Такое последовательное расширение площади их жилищ лучше всего отражало рост его успеха. Однако не только за это он когда-нибудь будет благодарить Создателя. Видно, судьба считала себя в долгу перед ним, ибо не только утешила славой, но и избавила от нависшей над ним словно дамоклов меч угрозы — от туберкулеза. Его легкие, конечно, пострадали, однако в них не обнаруживалось очагов туберкулеза, а потому задетая легочная ткань в конце концов зарубцевалась, и, несмотря на пророчества докторишки из Рексхэма, увлекавшегося сентиментальными романами, он продолжал жить. Хотя, вероятно, и утратил свой романтический ореол. Но он по-прежнему жил, занимал определенное пространство, потреблял кислород, отбрасывал тень! И думал продолжать в таком же духе еще несколько десятков лет, тем более сейчас, когда жизнь, кажется, готова дарить ему одну лишь радость.
На книжных полках в гостиной стояли различные издания пяти романов, которые он опубликовал к этому времени, — весомые свидетельства его труда и воображения. Эти несколько книг принесли ему признание в Англии, а позднее и в Америке, хотя, как я вам уже говорил, он не был полностью удовлетворен ни одной из них. К открывавшей парад «Машине времени» он питал особые чувства, не столько из-за ее достоинств, которых теперь, два года спустя, он почти не находил, сколько потому, что благодаря своему относительному успеху она позволила ему жить писательским трудом. Этот первый роман объемом чуть больше сорока тысяч слов стал для Уэллса счастливым завершением долгого и извилистого пути. Он взял завершавший парад томик «Войны миров», который недавно вышел в издательстве «Хайнеманн», и с величайшей осторожностью подержал в руках, словно речь шла о корзинке с яйцами. Этот роман он тоже любил, хотя в данном случае это объяснялось тем, что он только что вышел в свет, а потому Уэллс еще не успел накопить к нему отвращение, которое со временем неизбежно возникнет, поскольку над ним висело проклятие, чаще всего атакующее именно писателей: его терзало постоянное желание добиться того, что превосходило его возможности. Но надо было признать: как ни крути, ни один его роман нельзя назвать исключительным. То был всего лишь скромный и упорный результат более или менее тяжких, более или менее неблагодарных усилий.
Было очевидно, что он появился в благоприятную эпоху, в период, когда тени Диккенса и Теккерея начали понемногу рассеиваться и привычка к чтению стала распространяться среди новых социальных слоев со своими запросами. Издатели стремились удовлетворить потребности этого читателя, публикуя более молодых авторов, сочинявших романы, которые казались современными, но сохраняли определенную связь с литературой предыдущего поколения. Смена караула происходила под абсолютным контролем: все они были представлены как достойные наследники своих предшественников и часто должны были носить ярлык, характеризующий их как чьих-то продолжателей. Уэллса, скажем, приветствовали как второго Диккенса или нового Жюля Верна. Но несмотря на благожелательное отношение критики и читателей, что во многом объяснялось известной стратегией, его романы могли считаться какими угодно, но только не исключительными. И эта внутренняя убежденность подводила его к неудобному вопросу: они не были исключительными потому, что он не способен сочинить исключительный роман, или потому, что лишен нужных условий? Как вы понимаете, Уэллс предпочитал думать, что причина кроется во втором, и иногда, во время велосипедных прогулок или в качестве развлечения перед сном, забавлялся тем, что составлял в уме перечень условий, которые, по его мнению, были совершенно необходимы, чтобы мог родиться поистине исключительный роман.
Какое-то время он считал, что главное из них связано с местом, где творит писатель. Это должна быть хорошо проветренная и освещенная комната, изолированная от любого источника шума и с красивым видом из окна, который по возможности должен ежедневно меняться. Иной раз Уэллс даже обдумывал, какое время года наиболее благоприятно для писательского труда. Какая погода должна стоять за окном этого идиллического кабинета? Весенний день, придающий его писаниям веселый и радостный оптимизм? Осенний вечер, насыщающий слова приятной меланхолией? Или, возможно, зима, укутывающая все снежным покрывалом и словно бритвой прохаживающаяся по прилагательным? Но этого он худо-бедно уже достиг в последнем доме, где с согласия Джейн завладел одной из комнат, чтобы превратить ее в свою творческую крепость, в лабораторию слов. Мог ли он создать здесь исключительный роман? Вряд ли, но не потому, что вид из окна оказался чересчур заурядным или комната была слишком тесной, а потому, что он понял: никакие материальные условия не помогут, если они не дополняются неким душевным спокойствием, особым состоянием, которое он не мог определить иначе как благополучие души. Он был уверен, что это желанное и возвышенное спокойствие помешает ему писать как прежде, когда его романы получались из-за спешки неряшливыми и плохо отредактированными. Но как достичь этого прекрасного покоя? Как избежать умственной усталости и каждодневных забот, всякий раз отравлявших его мозг, когда он садился за стол, чтобы писать? Уэллс был убежден, что писатель, так же как художник, скульптор, ученый и любой человек, производящий плоды интеллектуального характера, которые способствуют прогрессу человечества или помогают развитию чувства прекрасного, не может жить нормальной жизнью, поскольку попросту не является нормальным человеком. И чтобы творить, необходимо создать себе вторую жизнь, отменяя требования другой, обычной, когда они мешают более возвышенным интересам жизни главной. Но даже если бы он, подобно некоторым своим коллегам, вел беспечное существование, ютился в мансардах, беззастенчиво брал деньги в долг, позволял, чтобы его содержали женщины или меценаты, все равно ему не удалось бы полностью исключить отвлечения и требования, порождаемые самим фактом его существования. Уэллс слишком хорошо это знал, и, как бы ни старалась Джейн освободить его от большинства повседневных обязанностей, он не мог побороть своих тревог, а они оборачивались тяжелым бременем для души, не давая ей устремиться ввысь.
Он мог убежать от самого себя и своих обстоятельств только куда-то за пределы нашего мира. Возможно, в замок, расположенный в стране грез, или в дом, летящий в пространстве, откуда можно созерцать Землю в уверенности, что никакие земные заботы не затронут и не отвлекут его. Однако он подозревал, что в конечном счете и этого будет мало, если только он не получит в дар бессмертие. Это окончательно освободило бы его от всякой срочности, накладываемой эфемерной природой самой жизни, от мучительной спешки, в которой человек обречен жить, любить, принимать решения и, разумеется, писать. Только тогда, в этих до смешного невозможных условиях, он сумел бы произвести на свет божий роман, который носил в себе; роман, который позволил бы ему занять место среди классиков; роман, в котором полностью отразился бы он сам, его способ мыслить и строить отношения с окружающими, его сознание, ибо каждая страница была бы написана путем исключения всех иных способов, с помощью которых могла бы появиться. Однако мысль о таких фантастических условиях, разумеется, не способна была его утешить, и прежде всего потому, что история литературы отмечена множеством исключительных романов, написанных авторами, которые, как известно, не получали в дар бессмертие и не парили под небесами. Причем многие из них жили в жутких условиях, их преследовали долги и всякие редкие болезни.
«Война миров» — торжественно произнес он в полутемной гостиной. Ему нравилось проговаривать вслух названия своих книг, словно от этого они становились более значительными. Сколько бы книг ни издавал Уэллс, у него всякий раз дух захватывало, когда он начинал воображать различные судьбы своего романа, те души, которые он затронет, людей, у которых вызовет скуку, в которых его слова вызовут восхищенный отклик или неприятие. Еще он никак не мог привыкнуть к бренности своего физического тела, ибо, хотя его слова и могли жить во времени, сам их источник оставался обреченным на непродолжительную жизнь. Благодаря чуду книгопечатания его книги не перестанут распространяться по свету, достигая уголков, о которых он и не подозревал, где, возможно, их с замиранием сердца будут читать прекрасные дамы, будут подчеркивать в нужных местах суровые мужчины, будут портить дети, и они состарятся на неведомых полках, пожелтеют, как листья деревьев осенью, переживут своих хозяев, сваленные на чердаке, и в конце концов тихо истлеют, истекут напоследок словами, что так долго держали в себе. Существует ли какая-нибудь другая вещь на свете, которая, имея хозяина, одновременно принадлежит многим другим людям?
Тут он обратил внимание на письмо, торчавшее из книги. Он вытянул его за уголок, словно бы с отвращением. Пришло оно около месяца назад, может, чуть раньше, и было подписано Гиллиамом Мюрреем, самым ненавистным для него человеком на земле. Да, он испытывал к нему глубокую и непреходящую злобу, что было настоящим подвигом для Уэллса, который с самого рождения демонстрировал примеры непостоянства, когда дело касалось любого чувства, включая ненависть. Он вспомнил, как вздрогнул, обнаружив в почтовом ящике письмо от Мюррея, подобно тому, как в былые времена вздрагивал, обнаруживая его приглашения совершить путешествие в будущее. Дрожащими пальцами он вскрыл конверт, и его мозг успел вообразить сотни причин, по которым Мюррей обращался к нему, одна тревожнее другой, пока глаза пожирали содержание. Прочитав письмо, он облегченно вздохнул. И когда страх исчез, на смену ему пришел гнев. Похоже, Мюррей вернулся в Лондон, покинув свое убежище, и имел наглость просить Уэллса о помощи в воссоздании сцены вторжения марсиан, описанной в его романе. В письме он не раз признавал бедность своей фантазии, намекал на возможное вознаграждение в случае согласия и даже взывал к его сердцу, сообщая, что теперь им движут не низменные интересы, а самое благородное чувство, какое только может испытывать человек: любовь. Если он добьется того, что первого августа на Хорселлском пастбище появится цилиндр марсиан, дама, в которую он влюблен, выйдет за него замуж. Почему она поставила столь сумасбродные условия? — задумался Уэллс. Не потому ли, что подозревала: Мюррею это не под силу? Уж не бросила ли загадочная возлюбленная ему вызов с единственной целью: чтобы он проиграл? Но возникал и еще более важный вопрос: а существует ли вообще такая женщина или же все это лишь хитроумный замысел Мюррея, чтобы заручиться его помощью? Так или иначе, Уэллс решил ему отказать. Он сунул письмо меж страниц своего романа и не вспоминал о нем до сегодняшнего утра. Поставив книгу обратно на полку, Уэллс вдруг сообразил, что сегодня как раз тот день, когда истекает срок. Удалось ли? — подумал он. Удалось ли Мюррею сделать так, чтобы на Хорселлской пустоши приземлился марсианский цилиндр? Не верится. Такие вещи не под силу даже Мюррею, для которого, кажется, нет ничего невозможного.
Он отправился на кухню сварить кофе, с чего обычно начинался его день, чувствуя, как один вопрос не дает ему покоя: отказал ли он в помощи Мюррею просто потому, что тот его враг? Нет, признал он, были и другие мотивы, не менее важные, разумеется. Например, тот факт, что где-то полтора месяца назад он, Уэллс, стал другим человеком. Человеком смятенным и напуганным. Человеком, который каждый день стремился укрепить свой разум, угрожавший помрачением с тех пор, как он побывал в Палате чудес, одном из подвалов лондонского Музея естествознания, где хранилось невероятное, поистине чудеса, принадлежавшие ушедшему удивительному миру, диковинки, о существовании которых никто даже не подозревал. И вот он увидел их. Но как же можно теперь жить? Много дней Уэллс пребывал в смятении. Его охватила растерянность, подобная той, какую он испытал ребенком, когда открыл, что наша планета продолжается и за пределами британской географии, единственной, какую изучали в школе. Казалось поистине невероятным, что мир не кончался английскими берегами, за которыми его поджидали Колизей, Тадж-Махал и пирамиды. Это открытие позволило ему установить пространственные границы планеты, точно так же, как благодаря визиту на выставку в Хрустальном дворце, посвященную доисторической эпохе, где экспонировались гипсовые реконструкции мегатерия и различных динозавров, он сумел установить их возраст, временную границу прошлого, за которой жизнь уже была чистой условностью. Поэтому Уэллс всегда верил, что живет в мире, чьи пространственно-временные координаты давным-давно заботливо очерчены наукой. Но теперь он знал: эти рамки ошибочны, мир существует и по ту сторону фальшивых границ, которые горстка правителей, решавшая, что люди должны знать и чего не должны, старалась провести. Выходя из музея, Сервисс сказал: только от него, Уэллса, зависит, верить ли в то, что экспонаты Палаты чудес поистине чудесны, или же считать их подделкой. И Уэллс поверил в существование сверхъестественного, прибегнув к логике: ведь если все эти экспонаты — фальшивка, то какой смысл прятать их под замком? Благодаря этому решению теперь он ощущал, что окружен удивительными вещами, что его обступают чудеса. Теперь писатель знал, что в один прекрасный день, когда он выйдет в сад обрезать розы, его могут ожидать там крошечные феи, водящие хороводы. Было ощущение, словно из всех существующих на свете книг вдруг улетучилась фантазия и разлетелась по миру таким образом, что стало невозможно отличить действительность от вымысла.
Однако со временем Уэллс сумел побороть свою растерянность, ибо, в конце концов, от того, что ты знаешь о существовании невероятного, ничего не меняется, так как, возможно, эти самые феи водят хороводы в саду, только когда он спит. Его настоящее оставалось все тем же, его жизнь должна была по-прежнему основываться на действительности, которую можно потрогать, на банальной, неприятной, размеренной реальности. Все прочее относилось к области снов, легенд, бабушкиных сказок. Но, хотя ему и удалось избавиться от смятения, в душе остался горький осадок, неприятное ощущение, будто ты участвуешь в фарсе, двигаешься на крошечной сцене, сооруженной горсткой заправил, которые и решают, что должно находиться между занавесами. Какое право имеют эти люди так сужать мир? Мир, который и так представляет собой не более чем песчинку во Вселенной, мимолетное ощущение во времени, один миг для загадочного космического сознания, приведшего в движение космос. Однако, как сказал Сервиссу директор музея, есть границы, через которые не все готовы переступить. И он, Уэллс, заплатил за свое знание, ибо ему стало ясно: он никогда больше не напишет фантастических произведений. Можно ли писать подобное, зная, что на свете существуют такие невероятные вещи, перед которыми бледнеет воображение? Он написал роман, где действуют марсиане, только потому, что до той поры не дотрагивался до одного из них собственной рукой. Но теперь положение изменилось: он дотронулся до руки настоящего марсианина, который пересек межпланетное пространство на летающей тарелке и был похож скорее на гигантскую моль, чем на осьминога. Так какой же смысл помогать Мюррею в воссоздании нелепейшей картины марсианского нашествия, которую он описал?
Он налил себе кофе и уселся за кухонный стол, возле окна, выходящего в сад. За стеклами нежный оранжевый свет не спеша открывал глазам окружающий мир. Уэллс любовался возникшим перед ним видом со сладкой грустью, зная, что это всего лишь верхушка айсберга, скрывающего под водой основной свой объем. Он сделал глоток кофе и вздохнул. Хватит. Если он хочет сохранить рассудок, лучше забыть все то, что он видел в Палате чудес. И он попробовал сосредоточиться на сюжетных ходах реалистического романа, который собирался написать под названием «Любовь и мистер Льюисхэм».
И тут что-то ослепило его. Это был солнечный зайчик, появившийся откуда-то снаружи. Уэллс приподнялся и стал всматриваться, пытаясь определить источник отблеска, заставившего его зажмуриться, и, быть может, втайне надеясь увидеть наконец одну из фей, которых он лицезрел на фотографии в Палате чудес. Но с удивлением обнаружил, что речь идет о металлической руке, пытающейся открыть калитку. Протез принадлежал весьма худому молодому человеку, одетому в элегантную темную тройку. Наконец ему удалось это с помощью второй руки. Незваный гость ступил на посыпанную гравием дорожку и направился к входной двери. По гримасе, тронувшей его губы, Уэллс заключил, что молодой человек недоволен тем, как неуклюже действует его искусственная рука. Чего хотел от него этот странный субъект? Уэллс вскочил и бросился к двери, прежде чем зазвучит колокольчик, чтобы он не разбудил Джейн.
— Вы писатель Герберт Джордж Уэллс? — спросил незнакомец.
— Совершенно верно, — осторожно ответил Уэллс. — Чем могу служить?
— Я агент спецподразделения Скотленд-Ярда Корнелиус Клейтон. — Молодой человек помахал жетоном перед носом у Уэллса. — И прибыл, чтобы просить вас отправиться со мной в Уокинг.
Уэллс молчал, внимательно разглядывая незнакомца, который в свою очередь так же молча рассматривал его. И поскольку вы уже прекрасно знаете, как выглядит Уэллс, опишу вам агента Клейтона, ибо он будет сопровождать нас почти до самого конца этой истории. У него было удлиненное живое лицо и копна вьющихся волос, которые ниспадали на лоб черными завитушками. Узкие и пронзительные глаза, густые брови, рот с довольно пухлыми губами, который постоянно кривился, словно до него то и дело доходили волны тошнотворных запахов. В целом его физиономия была столь явно конической формы, что нетрудно было представить ее в жерле пушки, готовой произвести залп, как в известном цирковом номере.
— Зачем? — наконец спросил Уэллс, хотя заранее знал ответ.
Агент окинул его мрачным взглядом, прежде чем ответить:
— Этой ночью на Хорселлском пастбище появился цилиндр марсиан, точно так, как вы описали в своем романе.
XXI
Три часа пути от Уорчестер-парк до Уокинга невозможно сократить, как бы кучер экипажа агента Клейтона ни нахлестывал лошадей, думал Уэллс, делая вид, что дорожная тряска его ничуть не беспокоит. Чопорно сложив руки на коленях, он изо всех сил сохранял невозмутимость, а его взгляд блуждал по окрестным полям, в то время как сам он пытался переварить абсурдную и неприятную ситуацию, в которую угодил из-за любви. Причем чужой любви — собственная была так скучна, что обычно не доставляла ему особых проблем, — потому что, похоже, Мюррей своего добился. И без его помощи. Уэллс не знал как, но миллионер все-таки ухитрился украсить пастбища Хорселла копией марсианского цилиндра, описанного в романе. Видимо, копия была достаточно убедительной, если Скотленд-Ярд поручил специальному агенту Клейтону найти его и вместе с ним приехать на место событий этакой влюбленной парочкой, совершающей свадебное путешествие. Как объяснил Клейтон, сам он еще не видел пресловутого цилиндра, но описание, которое ему дали, точь-в-точь совпадало с содержавшимся в романе, не говоря уже о том, что аппарат появился в том же самом месте. Как он, Уэллс, за год узнал о планах марсиан? — спросил Клейтон как бы между прочим, хотя в этот момент не спускал с писателя глаз. Для шефа специального подразделения, пославшего к нему Клейтона, вопрос был логичный, особенно если он верил в существование марсиан, в чем Уэллс не сомневался, поскольку заметил висевший на шее у агента ключ, украшенный двумя ангельскими крылышками, который был ему хорошо знаком. Не логичнее ли предположить, что, наоборот, кто-то попытался скопировать описанное в его книге? — возразил Уэллс, не пряча раздражения. И не получил никакого ответа. Он перестал смотреть в окошко и повернулся к агенту, который сосредоточенно читал письмо Мюррея, предоставленное Уэллсом в подкрепление своих слов.
— Стало быть, Властелин времени не умер… — как бы для себя проговорил Клейтон, не отрывая глаз от письма, которое он бережно держал в руках, словно голубку.
— Как видите, — холодно отозвался писатель.
Клейтон сложил письмо, но не вернул, а положил в карман своего пиджака.
— Разумеется, это письмо открывает еще одну перспективу, и ее тоже следует иметь в виду, — сдержанно, но любезно пояснил агент.
«Еще одну перспективу? — возмутился про себя Уэллс. — А разве была какая-нибудь другая?»
— Извините меня, агент, — сказал он, — но я никак не возьму в толк, какое другое объяснение могло бы быть проще и логичнее, чем то, что содержится в этом письме.
— Не стану с вами спорить, мистер Уэллс, — усмехнулся молодой человек, — но меня учили перебирать все возможности. Абсолютно все, не позволяя логике или простоте, кстати сказать, весьма субъективным понятиям, их как-то ограничивать. Моя работа состоит не в том, чтобы сокращать возможности, а в том, чтобы расширять их. Вот почему я до поры до времени не придаю какому бы то ни было факту значение решающего. Чтобы не ходить далеко, скажу: существование этого письма наводит меня на мысль о множестве иных вариантов: к примеру, вы сами его написали и, чтобы затруднить расследование, возложили вину на покойника…
— Но тогда… — пробормотал Уэллс. — Тогда должен ли я считать, что абсурдная вероятность того, что я за год предсказал нашествие марсиан, причем во всех деталях, продолжает оставаться для вас достойной рассмотрения? Вы что, полагаете, я поддерживаю некую связь с марсианами и моя книга — не игра воображения, а что-то вроде предупреждения? Думаете, что я их пишущая машинка или глашатай?
— Успокойтесь, мистер Уэллс, у вас нет причин волноваться, — посоветовал агент. — Мы с вами всего лишь два джентльмена, ведущие дружескую беседу, разве не так? И в ходе этой интереснейшей беседы я просто приобщил вас к моим скучным рабочим методам. Вот и все. Никто вас ни в чем не обвиняет.
— Одного лишь факта, что вы считаете необходимым успокаивать меня в связи с предполагаемым обвинением в мой адрес, достаточно, чтобы вселить в меня тревогу, уверяю вас.
Клейтон едва заметно усмехнулся.
— Несмотря на это, позвольте еще раз настоятельно просить вас не волноваться. Вы едете со мной не в качестве подозреваемого и тем более не как задержанный. По крайней мере на данный момент, — уточнил он, буквально сверля писателя взглядом, явно не сочетавшимся с его любезным и деликатным тоном. — Я просто попросил вас отправиться со мною в Уокинг в надежде, что ваше присутствие может оказать помощь в разъяснении загадки, затрагивающей вас явными намеками на ваш роман. И вы любезно согласились, за что я вам бесконечно благодарен.
— Все это верно, агент, но я также настоятельно прошу вас обратить внимание на то, что я уже оказал помощь, передав вам письмо, которое, на мой взгляд, способно разъяснить любую загадку, какая только может возникнуть в этом неприятном деле, — напомнил Уэллс, не удержавшись от некоторой иронии в голосе.
— Будем надеяться на это, мистер Уэллс. В таком случае мы с вами вернемся к себе домой еще до ужина, и вы сможете рассказать забавнейшую историю вашей очаровательной супруге.
После этих слов Клейтон углубился в созерцание пейзажа, дав понять, что разговор закончен. Уэллс покорно вздохнул и последовал его примеру, пока ему молчание не показалось невыносимым:
— А скажите-ка мне, агент Клейтон, чем занимается то особое подразделение Скотленд-Ярда, к которому вы принадлежите?
— Боюсь, что не смогу подробно рассказать вам об этом, мистер Уэллс, — вежливо ответил тот, глядя в окошко.
— О, вы меня неправильно поняли. Я не прошу, чтобы вы раскрыли мне содержание какого-нибудь секретного дела или чего-то подобного… На самом деле я больше, чем вы думаете, осведомлен о характере информации, которую люди, управляющие нашей страной, скрывают от своих граждан, — сказал Уэллс, не в силах удержаться, чтобы не излить на агента негодование, накопившееся с тех пор, как он побывал в Палате чудес.
Словно судорога пробежала по телу Клейтона. Он оторвал взгляд от окошка и уставился на Уэллса.
— На что вы намекаете, мистер Уэллс?
— Ни на что, агент, — сбавил тон писатель под буравящим взглядом Клейтона. — Я только поинтересовался, какого типа делами занимается ваше подразделение… Ведь я писатель и использую любую возможность, чтобы запастись материалом для будущих романов. И делаю это почти машинально.
— Понимаю, — с недоверием в голосе проговорил агент.
— А теперь не могли бы вы мне все-таки сказать, какие дела вы расследуете? Убийства, политические преступления, шпионаж? Интриги марсиан против нашей планеты? — спросил Уэллс с вымученной улыбкой.
Агент несколько секунд раздумывал. Затем вновь повернулся к Уэллсу, сложив губы в характерную для него гримасу, сознательную или непроизвольную, но в любом случае свидетельствующую о высокомерии.
— Скажем так: мы занимаемся всеми случаями, не поддающимися сразу рациональному объяснению, если можно так выразиться, — наконец приоткрыл он завесу. — Все то, что человек, а следовательно Скотленд-Ярд, не в силах объяснить с помощью разума, направляется в наше спецподразделение. Можно сказать, мистер Уэллс, что мы являемся, так сказать, свалкой, где скапливается все необъяснимое.
Писатель покачал головой, делая вид, что поражен. Значит, это правда, подумал он, и все, что он увидел в Палате чудес, подлинное?
— Только поймите меня правильно, — добавил агент. — В большинстве случаев наша работа состоит в том, чтобы обнаружить не столько необычайное, сколько рожденное фантазией некоторых криминальных умов. Почти все расследуемые нами загадки имеют до того простое объяснение, что вы были бы разочарованы точно так же, как если бы обнаружили кролика за подкладкой шляпы у фокусника.
— То есть вы занимаетесь тем, что отсеиваете ложь в нашем мире, отделяете реальность от чистой фантазии, — подытожил Уэллс.
— Прекрасно сказано. Достойный образ для писателя вашего масштаба, — улыбнулся Клейтон.
— Ну хорошо, а как же другие случаи? — не успокаивался Уэллс, не клюнувший на лесть. — Те, что были проанализированы вашими выдающимися умами, но тем не менее все еще не поддаются разумному объяснению?
Клейтон откинулся на своем сиденье и с симпатией посмотрел на писателя, пытавшегося отделить зерна от плевел.
— В общем… — Он немного поколебался, прежде чем продолжить. — Я бы сказал, что эти случаи вынуждают нас принять невозможное. Поверить, что магия на свете существует.
— Однако все это не становится достоянием общества, разве не так? Никто и никогда об этом не узнает, об этих случаях никому не известно… — сказал Уэллс и сразу же прикусил язык, чтобы не выложить все, что он знал.
— Учтите, что в большинстве своем такие дела никогда не закрываются, мистер Уэллс. И когда мы с вами станем кормом для червей, грядущие поколения будут продолжать их расследование. И я уверен, что они в конце концов отыщут логичные и человеческие ответы на многое из того, что сейчас кажется нам… скажем, сверхъестественным. Вы никогда не думали о магии как о науке, которую мы пока не познали и не постигли? Я думал. А потому зачем пугать народ неведомыми ужасами, если многие из этих загадок будут разгаданы наукой, которая ждет нас за завесой времен?
— Я вижу, вы относитесь к народу, как к ребенку, которого надо любой ценой защитить от обитающих в темноте чудовищ в надежде, что он вырастет и перестанет в них верить, — раздраженно возразил Уэллс.
— Или в надежде на то, что свет, которым мы пока не обладаем, озарит эту темноту, скрывающую такие ужасы, что, знай вы о них, вы бы не на шутку перепугались… — подхватил агент и добавил: — Я просто продолжил ваше замечательное сравнение, мистер Уэллс.
— Или, возможно, придется перестать относиться к согражданам как к малым детям и понять, что среди них встречаются умные головы, которые желали бы самостоятельно решать, что они хотят и чего не хотят знать! — взорвался Уэллс, не выдержав снисходительного тона своего спутника.
— Гм… Это безусловно была бы интересная тема для дебатов, мистер Уэллс, — невозмутимо произнес Клейтон. — Но позвольте напомнить вам, что я простой агент, исполняющий приказы, и, разумеется, не участвую в принятии решений — будь то на уровне моего подразделения или моего правительства, — касающихся информационной политики в отношении граждан. Моя работа — расследовать дела, и в данном конкретном случае я намереваюсь выяснить, что стоит за появлением цилиндра, который вы описали год назад, указав, что он прибыл с Марса. Вот и все.
— Тогда должен ли я понять это так, что у вас есть доказательства существования марсиан и что это не первое свидетельство их посещений Земли… Или я ошибаюсь? — перешел в наступление Уэллс, не без удовольствия отметив, что его слова впервые стерли выражение невозмутимости с лица агента.
— Почему вы так решили? — подозрительно вглядываясь в писателя, спросил он.
— Простая логика, агент Клейтон, — ответил Уэллс, позаимствовав у своего собеседника самодовольную улыбку. — Если никогда не существовало чего-то, что убеждает в существовании марсиан, то, обнаружив цилиндр как бы из моего романа в том же самом месте, какое я указал, вы посчитали бы это глупой шуткой, и никто не стал бы привлекать ваше подразделение… Я угадал?
Клейтон весело хихикнул, видимо, успокоенный его ответом.
— Вы были бы великим следователем, мистер Уэллс, в этом нет никакого сомнения. Не будь я горячим поклонником ваших книг, сказал бы даже, что вы ошиблись с выбором профессии. Боюсь только, в событии, на которое вы намекаете, нет никакой надобности. Уверен, что автору «Войны миров» как никому другому понятно, что считать, будто мы единственные обитатели бескрайней Вселенной, слишком самонадеянно, да к тому же нелогично, разве не так?
Уэллс недовольно кивнул. Было ясно, что выудить побольше сведений у этого молодого наглеца не удастся, если не признаться, что он, Уэллс, побывал в Палате чудес и своими глазами видел и даже касался рукой марсианина, упрятанного там вместе с летательной машиной. Но пока он предпочитал сохранить свой визит в тайне, чтобы не дать агенту повод арестовать его: ведь он без разрешения вторгся в чужие владения, не говоря уже о том, что вдобавок повредил ценный, по-видимому, экспонат, принадлежащий музею, или правительству, или Скотленд-Ярду, или какому-то иному владельцу этой безумной коллекции то ли чудес, то ли мошеннических подделок, он уж и не знал, как их называть. Ссориться с агентом — не самая умная линия поведения, подумал он.
— Извините мою бестактность, агент, я действительно вел себя бесцеремонно, — начал оправдываться он. — Я прекрасно понимаю, что вы не вправе рассказывать о своей работе, и тем более незнакомому человеку. Но должен сказать в порядке оправдания: эта моя бестактность вызвана тем, что я считаю вашу работу по-настоящему увлекательной. Хотя боюсь, что одновременно это и весьма рискованная работа, — сказал он, указывая на искусственную руку. — Или вы потеряли ее, когда нарезали индейку?
Клейтон грустно улыбнулся и посмотрел на металлический придаток, торчавший из рукава его пиджака.
— Угадали, мистер Уэллс, — признался он. — Я потерял ее в одной… операции.
— Надеюсь, эта жертва была не напрасна, — сочувственно проговорил Уэллс, которому ампутация чего бы то ни было казалась непереносимым, ужасным несчастьем, способным привести человека к самоубийству.
— Скажем так, она сыграла решающую роль, — подытожил агент, не пожелав вдаваться в подробности.
Уэллс кивнул в ответ, давая понять, что больше не станет задавать вопросов на эту тему.
— Превосходная работа, — вежливо заметил он.
— Именно так. — Клейтон улыбнулся с нескрываемой гордостью и поднес протез к его лицу, чтобы он мог его как следует рассмотреть. — Руку изготовили вдвоем один хирург и французский оружейник.
Демонстрируя больший интерес, чем он на самом деле испытывал, Уэллс подержал протез в руках, обращаясь с ним, как с драгоценной реликвией. Агент со скучающим видом позволил ему все хорошенько рассмотреть и объяснил, что протез отвинчивается, а кроме того, к нему могут быть присоединены многочисленные приспособления для различных целей — от столовых приборов до орудий убийства. Уэллсу вспомнился его дядя Уильямс, потерявший правую руку и демонстрировавший культю, к которой привинчивался крючок, весело заменявшийся во время обеда на вилку. Однако рядом с изощренным протезом Клейтона он смотрелся бы как неумелая ученическая работа. Исчерпав эту тему, они вновь погрузились в созерцание ландшафта, и внутри экипажа опять воцарилось молчание.
— Нелепо думать, будто я имею какое-то отношение к марсианам, потому что написал роман, где предсказал их нашествие! — вдруг проговорил Уэллс как бы для самого себя.
Внезапная реплика писателя заставила Клейтона вздрогнуть.
— Не менее нелепо, чем намерение воспроизвести марсианское вторжение, чтобы завоевать расположение дамы, — ухмыльнулся он.
— Ничего, скоро наши сомнения рассеются, — пробормотал Уэллс.
Клейтон кивнул и снова уставился в окошко, посчитав вопрос закрытым. Однако вскоре он откашлялся и, к удивлению Уэллса, произнес:
— Я ведь вам уже говорил, что восхищаюсь вашими книгами? С большим удовольствием прочел все ваши романы.
Уэллс равнодушно покивал. Меньше всего ему хотелось сейчас произносить слова благодарности в адрес очередного поклонника.
— Знаете, я тоже пишу, — признался наконец Клейтон с преувеличенной застенчивостью дебютанта. Потом опять откашлялся и добавил: — Я мог бы прислать вам какую-нибудь свою рукопись, чтобы вы высказали ваше мнение? Для меня это было бы чрезвычайно важно.
— Конечно, Клейтон. С удовольствием почитаю. Пришлите рукопись на мой адрес на Марсе, — ответил Уэллс.
XXII
Еще пара миль молчания, и экипаж покатил по общественным пастбищам Хорселла. После того как они проехали мост Оттершоу и направились в сторону песчаных карьеров, им стали попадаться группы любопытствующих, пришедших из Уокинга или Чертей, чтобы увидеть то же, что хотели увидеть они. Но эти маленькие отряды превратились в настоящее людское половодье ближе к месту, где предположительно приземлился марсианский цилиндр. Глядя в окошко, Уэллс мог удостовериться, что там царит полный беспорядок. Зеваки заполнили все пастбища, тут и там сновали мальчишки, продававшие свежеиспеченные газеты, и их звонкие голоса сливались в единый хор, выкрикивая заголовки: «Нашествие с Марса?», «Странные машины в Уокинге», «Фантастика становится реальностью», «Мы не одиноки!», «Марсианин ли Г. Дж. Уэллс?»… Экипаж остановился около дюжины кэбов и кабриолетов, сгрудившихся в начале пастбищ, среди них выделялся роскошный экипаж — его не преминул заметить Уэллс. Они с Клейтоном спустились на землю и, прокладывая себе путь среди велосипедистов, тележек торговцев яблоками и лотков с имбирным пивом, направились в сторону поднимавшихся кверху струек дыма, указывающих местоположение цилиндра, почти неразличимого за толпой зевак, которые, казалось, пришли поклониться некоему божеству. По мере того как они приближались, стало видно, что цилиндр наполовину зарылся в песок. При ударе его о землю образовалась огромная воронка, песок и камни разлетелись в разные стороны, а окрестный вереск загорелся. Они сумели пробиться в первые ряды, и Уэллс смог убедиться, что Мюррей в конце концов блестяще справился с задачей. Так называемый марсианский цилиндр был почти идентичен описанному в «Войне миров»: округлый, громадный, с серебристой обшивкой, от которой в данный момент отскакивали камни, брошенные мальчишками, что расселись по краям воронки. И люди тоже реагировали точно так, как он предсказал, создав обстановку загородного пикника вокруг смертоносной машины. Некоторые даже фотографировались на фоне цилиндра, словно это был памятник.
— Согласитесь, впечатление такое, будто мы находимся внутри вашего романа, — сказал Клейтон, словно прочитав его мысли.
— Да, идеальная реконструкция, — восхищенно согласился Уэллс. — Мюррей — лучший аферист в мире.
— Не сомневаюсь в этом, мистер Уэллс, ничуть не сомневаюсь. Он даже добился, чтобы и погода была такой, как в вашем романе: жарища, и ни малейшего ветерка, — съязвил Клейтон. Затем извлек из кармашка часы и добавил, изображая разочарование: — Хотя ему не удалось сделать так, чтобы наши часы остановились, а, насколько я помню, у вас в романе они останавливались, и стрелки на всех компасах начинали показывать на то место, где упал цилиндр.
— Я бы выкинул эту часть, если бы писал роман заново, — пробормотал в рассеянности Уэллс.
Его взгляд задержался на хорошо одетой девушке, которая рассматривала цилиндр, стоя немного в стороне от всеобщей суматохи. Словно вдовья вуаль, тень от маленького зонтика закрывала часть ее лица, но поскольку никакой другой богатой дамы в окрестностях не наблюдалось, Уэллс подумал, что, должно быть, это и есть возлюбленная Мюррея, прибывшая сюда в роскошном экипаже, который он видел раньше. Его предположения подтвердились, когда девушка нервным движением начала вращать свой зонтик. Стало быть, женщина существовала. Мюррей ее не выдумал, хотя и расписал в своем письме в весьма идиллических красках. Уэллс внимательно рассмотрел ее, пока девушка разглядывала цилиндр с мрачным видом, резко контрастировавшим с безудержной радостью, что была написана на лицах всех собравшихся. И не мог не посочувствовать ей, ведь девушке предстояло выйти замуж за Мюррея, если тому удастся жестом фокусника вытащить марсианина из металлического цилиндра, специально доставленного сюда. Значит, подумал он, миллионер тоже где-то неподалеку, возможно, скрывается в толпе зрителей и потихоньку радуется ажиотажу, вызванному его игрушкой. Воспользовавшись тем, что Клейтон отошел поговорить с капитаном полиции, пытавшимся не подпускать зевак слишком близко к яме, Уэллс быстро обвел глазами шумную толпу, но Мюррея не обнаружил. Неужели он так изменил свою внешность, что его невозможно узнать?
Писатель вынул свои карманные часы и взглянул на циферблат. Наверное, в этот самый миг Джейн садится в поезд, который отвезет ее в Лондон, где она договорилась пообедать с Гарфилдами. Перед тем как уехать вместе с агентом, Уэллс оставил ей на кухне записку, в общих чертах обрисовав ситуацию и посоветовав не менять своих планов, поскольку он будет занят всю первую половину дня. Скорее всего, она вернется из Лондона под вечер, примерно в то же время, что и он, ибо Мюррей не замедлит сделать следующий ход и выведет из цилиндра марсианина, или кто там у него приготовлен, и тогда наконец-то обнаружится, что все это было лишь спектаклем. Клейтон принесет ему извинения за нелепые подозрения, и он сможет вернуться в Уорчестер-парк, чтобы жить прежней жизнью, по крайней мере до тех пор, пока Мюррею не вздумается воплотить в действительность «Человека-невидимку».
Побеседовав с полицейским капитаном, который, видимо, отвечал здесь за порядок, и с раздражением раздвигая по пути зевак, Клейтон вернулся к Уэллсу.
— Несколько армейских рот направляются сюда, мистер Уэллс, — сообщил он. — Не пройдет и часа, как цилиндр будет окружен. Кардиффский полк развертывается от Олдершота. Еще одна рота займется эвакуацией жителей Хорселла ввиду возможных опасных последствий. Ожидается также прибытие орудий «Максим»… Как видите, ваш роман — замечательное руководство, позволяющее нам предупредить события.
Уэллс устало вздохнул.
— Не думаю, чтобы присутствие армии было в данном случае необходимо, — сказал он.
Клейтон усмехнулся.
— Вы по-прежнему убеждены, что это дело рук Гиллиама Мюррея, верно?
— Разумеется.
— Тогда он должен располагать поистине неисчерпаемыми средствами для своих ухажерских штучек, поскольку до капитана Вайсера дошли слухи, будто другие цилиндры упали на поле для гольфа в Байфлите и около Севеноукса.
— Упали? Вам сообщили, что кто-то видел, как они падали с неба? Такое не могло бы пройти незамеченным для любой обсерватории, вам не кажется? — с иронией в голосе спросил Уэллс.
— Нет, мне никто ничего не сообщал, — с досадой признал Клейтон.
— Тогда с тем же успехом можно предположить, что некто расставил их там, как шахматные фигуры на доске, не правда ли?
Агент собирался ответить, как вдруг что-то привлекло его внимание.
— Что за чертовщина! — воскликнул он, глядя куда-то за спину Уэллсу.
Обернувшись в сторону цилиндра, писатель понял причину его удивления. Что-то вроде металлического щупальца высунулось из недр снаряда и теперь раскачивалось в воздухе, извиваясь, словно кобра. На конце его виднелось странное приспособление, похожее на перископ, которое вполне могло оказаться каким-то оружием. Клейтон среагировал мгновенно.
— Помогите мне отодвинуть назад этих идиотов! Похоже, никто не читал вашего романа.
Уэллс покачал головой.
— Успокойтесь, Клейтон! — повелительным тоном произнес он, схватив агента за руку. — Уверяю вас, ничего не произойдет. Единственное, чего Мюррей хочет, это напугать нас. И если ему это удастся…
Клейтон не отвечал. Его взгляд был прикован к гипнотизирующему покачиванию щупальца.
— Вы меня слышите? — твердил Уэллс, тряся его за плечо. — Не бойтесь, эта штука не выстрелит никаким тепловым лучом.
В это мгновение щупальце едва заметно задвигалось, словно прицеливаясь, и в следующую секунду тепловой луч с оглушительным свистом вырвался из венчавшего щупальце приспособления. И словно поток раскаленной лавы обрушился на кольцо зевак, окружавших цилиндр, серьезно задев четыре или пять человек, которые вмиг оказались объятыми пламенем, так и не поняв, что происходит. Горение длилось считанные секунды. Потом будто кто-то убрал огненную завесу, чтобы продемонстрировать несколько вычурных статуй из пепла, которые тут же развалились, тихо рассеявшись по траве. Вся толпа, как один человек, в ужасе наблюдала за жутким спектаклем, а затем повернулась к щупальцу, снова пришедшему в движение, чтобы произвести следующий выстрел. Началось беспорядочное бегство. Люди летели во всех направлениях, словно игральные кости, брошенные на стол рукою паники.
Не понимая, как Мюррей мог отдать приказ стрелять по невинным людям, Уэллс кинулся в поисках укрытия к ближайшим деревьям, до которых было около ста метров. Бежавший рядом Клейтон крикнул, чтобы он не передвигался по прямой, а петлял, дабы не стать легкой мишенью для щупальца. Он постарался следовать этому совету, и холодок страха прочно поселился у него в желудке. Тут снова раздался свист, еще один луч сверкнул метрах в пяти слева от него, и нескольких человек подбросило в воздух, словно на одеяле. Прежде чем он успел загородиться, ком земли угодил ему прямо в лицо, ошеломив настолько, что он забыл, в какую сторону ему бежать. Это заставило его остановиться и оглядеться по сторонам, чтобы как-то сориентироваться. Когда дым рассеялся, он в ужасе увидел справа от себя, буквально в считанных метрах, несколько обугленных трупов, живописно разбросанных по траве. А чуть поодаль заметил девушку, про которую раньше решил, что она возлюбленная Мюррея. Она не пострадала от выстрела, который прошел совсем рядом, но ударная волна сбила ее с ног, и теперь она стояла на коленях в траве, слишком потрясенная, чтобы отдать своим ногам приказ подниматься. Щупальце вновь заколебалось в воздухе, выбирая новую цель, и Уэллс воспользовался кратким промежутком между выстрелами, чтобы броситься на помощь девушке. Минуя обугленные тела и провалы в почве, он добежал до нее и взял за руки, чтобы помочь подняться. Девушка не сопротивлялась.
— Я не хотела этого… Не хотела… Я сказала ему, что достаточно будет… — всхлипывала она в полной панике.
— Я знаю, мисс, — успокоил ее Уэллс. — Но сейчас для нас главное — выбраться отсюда.
Спотыкаясь на каждом шагу, они бросились бежать к спасительным деревьям и слышали, как щупальце вело беспорядочный обстрел перепуганной толпы. Уэллс не смог удержаться от искушения обернуться и посмотреть через плечо. Он увидел, как смертоносные лучи рассекают воздух и обрушиваются на оставленные на краю пастбищ экипажи, создавая некое подобие ада, из которого вырвалась пара объятых пламенем лошадей. Наряженные смертью в золоченые блестки, животные неслись рысью неведомо куда, придавая этому кошмару известную изысканность. Как в его романе, луч быстро и безжалостно уничтожал поля, сея смерть, разрушая все вокруг с холодной непочтительностью. Он увидел обуглившиеся деревья, дымящуюся израненную землю, бегущих в панике мужчин и женщин, перевернутые повозки и понял, что наступил давно предсказанный день Страшного суда. Но возможно ли, чтобы Мюррей?.. Его мозг не успел до конца сформулировать вопрос, потому что луч ударил всего в паре метров от него и сбил их с ног. Оглохший, с обожженной кожей, словно его коснулось дыхание дракона, Уэллс поискал глазами девушку и с облегчением обнаружил, что она лежит на траве рядом с ним. Глаза у нее были плотно закрыты, хотя непохоже было, чтобы она как-то пострадала. Однако чем больше времени они здесь находились, тем большим был риск стать жертвой следующего выстрела или оказаться затоптанными обезумевшей толпой. Он глубоко вдохнул, готовясь вновь встать и продолжить свой отчаянный бег, как вдруг услышал голос агента Клейтона.
— Луч уничтожил все экипажи! — крикнул он, появившись рядом с ними. — Нам нужно бежать через поле! Следуйте за мной!
Уэллс помог девушке встать, и они побежали вслед за агентом, однако Клейтон, похоже, тоже не имел ясного представления о том, где можно укрыться, поскольку тепловые лучи были способны достичь любой цели. Наконец они оторвались от основной массы зевак, но по-прежнему находились внутри прямоугольника, обозначенного языками пламени, где их ждала гибель. Одну из сторон этой импровизированной огненной клетки составляли дома, которые полыхали, словно погребальный костер, другую — аллея деревьев вдоль дороги, также превратившаяся в огненную завесу. Единственная возможность выскочить из этой мышеловки находилась впереди, нужно было пересечь соседние пастбища в направлении Мэйбери, правда, тогда они становились чрезвычайно заманчивой мишенью для цилиндра. Но тут из-за деревьев вылетел роскошный экипаж с нарисованной на дверце вычурной буквой «Г» и направился к ним. Кучер остановил экипаж рядом с ними, и кто-то открыл изнутри дверцу. Они с удивлением увидели громадного мужчину, протягивавшего руку девушке.
— Едем со мной, если хочешь жить! — выкрикнул он.
Но девушка не двинулась с места. Она застыла, не понимая, что происходит. Недолго думая, Клейтон подтолкнул ее к экипажу и вместе с нею забрался внутрь. Уэллс последовал их примеру, слыша, как за спиной включился новый луч. Град камней и песка обрушился на экипаж, стекла в окошках разлетелись вдребезги. Когда снаружи все немного стихло, писатель попытался встать с тел своих попутчиков, которые тоже зашевелились, видимо, не вполне понимая, на каком свете они находятся. Уэллс увидел огромную яму, проделанную лучом в земле, совсем рядом с экипажем, который в это время вновь пустился в путь. Уэллс занял свободное место, радуясь, что после такого камнепада их кучер уцелел. А тот яростно хлестал кнутом по спинам лошадей, стремясь побыстрее покинуть опасную зону. И тут писатель внезапно узнал спасшего их человека, который сидел как раз напротив него. Тот заметно похудел, но это был несомненно он, Властелин времени. Человек, которого он ненавидел как никого на свете.
— Джордж… — приветствовал его Мюррей легким наклоном головы и смущенной улыбкой.
— Проклятый сукин сын! — вскричал Уэллс и бросился на миллионера, стараясь схватить его за горло. — Да как ты осмелился!
— Это не я, Джордж! — оправдывался Мюррей. — Я тут ни при чем!
— Что здесь происходит? — закричал Клейтон, стараясь разнять их.
— Не узнаете его? — задыхаясь проговорил писатель. — Это же Гиллиам Мюррей!
— Гиллиам Мюррей? — пролепетала девушка, с испугом наблюдавшая из своего угла за развитием событий, так напоминавших заурядную кабацкую ссору.
— Я тебе все объясню, Эмма… — торопливо проговорил Мюррей.
— Тебе придется многое объяснять, треклятый безумец! — взревел Уэллс, пытаясь высвободиться из объятий Клейтона.
— Успокойтесь, мистер Уэллс, — приказал агент, вытащил из-за пояса пистолет и направил его на писателя. — И вернитесь, пожалуйста, на свое место.
Уэллс неохотно подчинился.
— Хорошо, а теперь давайте все успокоимся, — сказал Клейтон, старавшийся контролировать ситуацию, разговаривая с присутствующими четкими и неторопливыми фразами. — Я специальный агент Корнелиус Клейтон из Скотленд-Ярда. — Затем он с вежливой улыбкой обратился к Мюррею: — А вы, полагаю, Гиллиам Мюррей, Властелин времени. Хотя официально вы уже два года как умерли.
— Да, это я, — раздраженно ответил миллионер. — Воскрес, как видите.
— Ладно, поговорим об этом в другой раз, — холодно заметил Клейтон, стараясь сохранять прямую осанку, несмотря на дорожную тряску. — Сейчас же мы должны решить гораздо более срочный вопрос. Скажите, вы несете ответственность за все происходящее?
— Конечно же нет! — воскликнул Мюррей. — Я же не убийца, в конце концов!
Клейтон жестом попросил его успокоиться.
— Ладно, ладно. Однако я располагаю вашим письмом, адресованным мистеру Уэллсу, что сидит слева от меня, где вы сообщаете, что должны воспроизвести марсианское нашествие из его романа как раз сегодня, чтобы завоевать сердце женщины, которую любите и которой, предполагаю, являетесь вы, мисс…
— Харлоу… — едва слышно отозвалась девушка. — Меня зовут Эмма Харлоу.
— Рад познакомиться с вами, мисс Харлоу. — Как истинный джентльмен Клейтон улыбнулся ей и прикоснулся кончиками пальцев к своей шляпе, после чего вновь уставился на миллионера: — Итак, мистер Мюррей, вы писали это письмо?
— Да, да, будь оно проклято! — выкрикнул тот. — И все, что в нем написано, правда. Я просил помощи у мистера Уэллса, но он мне в ней отказал, что может сам удостоверить. Я же продолжил попытки воссоздать нашествие самостоятельно, но не добился ничего правдоподобного и в конце концов отказался от своего плана. А сюда я приехал сегодня, прочитав в газетах, что кому-то удалось этого добиться.
— Вы думаете, у людей нет других забот, кроме как пытаться воспроизвести нашествие из моего романа? — гневно перебил его Уэллс.
— Разве я стал бы подвергать опасности жизнь мисс Харлоу? — воскликнул Мюррей и тяжело вздохнул.
— Полагаю, стали бы, чтобы потом спасти, что вы только что и продемонстрировали, — с неприязнью в голосе ответил Уэллс. — Кто знает, на что способен столь извращенный ум, как ваш.
— Я никогда бы не подверг жизнь мисс Харлоу опасности! — возмущенно заявил Мюррей.
Клейтон поднял свою искусственную руку, призывая к тишине.
— Хорошо, — сказал он, — но пока мы не обнаружим, что находится внутри цилиндра, боюсь, мне придется арестовать вас, мистер Мюррей. И вас тоже, мистер Уэллс.
— Что? — возмутился писатель.
— Весьма сожалею, джентльмены, но ситуация такова: странный аппарат убивает десятки людей, как вы сами описали это год назад, мистер Уэллс. И существует письмо за вашей подписью, мистер Мюррей, в котором вы признаетесь, что задумали воссоздать картину нашествия, сочиненную мистером Уэллсом. В любом случае кто-то из вас двоих должен будет дать некоторые разъяснения. — Он сделал паузу, чтобы оба лучше усвоили его мысль. — А сейчас, мистер Мюррей, прикажите вашему кучеру отвезти нас в Уокинг на железнодорожную станцию, прошу вас. Я должен связаться по телеграфу с моим начальством.
Мюррей неохотно отодвинул шторку в крыше и отдал соответствующее распоряжение.
— Превосходно, — обрадовался Клейтон. — Как только прибудем, сразу сообщу наверх, что везу обоих главных подозреваемых. И мисс Харлоу наверняка захочет телеграфировать своим родным, что не пострадала. И не пострадает в дальнейшем. — Клейтон состроил улыбку, которая должна была стать обворожительной, но всем показалась весьма зловещей. — Уверяю вас, вы находитесь в самых надежных руках, какие только существуют.
Экипаж миновал мэйберийский виадук, оставил позади вереницу домов в месте, известном как Восточная терраса, и, негромко поскрипывая, направился к станции Уокинг, а в это время вечер уже зашторивал сияние дня и погружал мир в ложное спокойствие. Кто бы мог подумать, что в нескольких милях отсюда марсиане начинают захват планеты?
XXIII
Слабость и страшная усталость, близость смерти, тревога за Джейн, душевное смятение… Было это подстроено Мюрреем или нет, но, убегая от марсианского цилиндра, Уэллс испытывал то же самое, что и герой его романа. А сейчас, пока он рассматривал в окошко, как неспешно опускается на землю вечер, у него возникло ощущение, будто все случившееся с ним всего лишь несколько минут назад есть не что иное, как сон. Речь шла о столь типичном впечатлении, что он никогда не использовал бы его в своем романе, однако же именно это он чувствовал. Жить — значит подтверждать прописные истины, подумал он. Правда, к этому ощущению нереальности происходящего добавлялось еще одно, гораздо более знакомое: будто он отделился от собственного тела, что позволило ему увидеть самого себя и свое окружение извне, из некой необыкновенной ложи на берегу пространства-времени, по ту сторону самой что ни на есть достоверной действительности, которая внезапно теряла достоверность и драматизм и в которую его могла вернуть только концентрация, а еще, возможно, физическая боль, хотя, к счастью, до сих пор у него не было возможности проверить последнее. Это резкое отдаление от собственной жизни случалось с ним регулярно и могло настичь в любой момент. Не зная, случается ли подобное с другими людьми, поскольку такими вещами никогда не делятся, он решил заразить этой особенностью героя своего последнего романа, втайне надеясь, что какой-нибудь читатель признается ему, неизвестно, в какой форме и в какой ситуации, что также испытывает подобный разрыв с действительностью, превращающий его существование в мираж. Чтобы вновь стать участником происходящих событий и воспринимать их как нечто важное и затрагивающее его, Уэллс избрал самый простой метод: вонзил ногти в свою ладонь, что было предпочтительней, нежели просить Клейтона выстрелить ему в ногу. Щекочущая боль пробудила его. Затем, в качестве следующего шага в процессе выхода из оцепенения, он вонзил ногти в кожу своего сиденья и таким образом, убедившись в физической природе мира и собственного тела, сумел преодолеть неприятное отчуждение. Все это происходило в реальности и происходило с ним: он ехал в переполненном экипаже, спасаясь от марсиан. В любой момент он мог погибнуть, и спасение было главной их задачей, хотя его затуманенный разум до конца не понимал почему, так как не знал, что именно кончается со смертью.
К тому времени, когда они приехали на станцию Уокинг, Уэллс уже полностью вернулся в действительность и мог трезво оценить ситуацию. Он, как и его спутники, очень удивился, обнаружив, что на станции царит все та же повседневная рутина. Люди беззаботно сновали взад и вперед, а составы неторопливо осуществляли свои обычные маневры, напоминая животных во время случки. Пораженные, они наблюдали за прибытием поезда с севера, когда он быстренько высадил пассажиров на перрон, втянул в себя других и как ни в чем не бывало продолжил свой путь. Только над горизонтом нежными красноватыми фестонами поднималось зарево, а тонкая дымовая завеса скрывала звезды на небосводе. То были ужасы войны, трансформировавшиеся на расстоянии в изящные декоративные детали. Даже если известие о кровавой бойне, которую им удалось пережить, дошло до здешних мест, непохоже было, что оно сильно встревожило местных жителей. Вероятно, это объяснялось тем, что они слепо верили в мощь британской армии, которая боевым маршем уже направлялась к месту падения цилиндров, исполненная решимости в считанные часы уничтожить марсиан или кем бы они ни оказались, как всегда поступала с любым врагом, осмелившимся угрожать империи.
— Похоже, страх еще не успел здесь поселиться, — заметил Клейтон. — Это к лучшему, ибо теперь мы сможем полностью сосредоточиться на осуществлении нашего плана.
Стараясь, чтобы его пистолет не привлекал особого внимания, он отвел их в служебное помещение вокзала. Там он представился дежурному, наскоро обрисовал ему ситуацию, не сгущая слишком краски, и добился, чтобы тот уступил ему маленький склад, дабы временно поместить туда подозреваемых.
— Постарайтесь вести себя как джентльмены, — напутствовал их Клейтон, перед тем как запереть там и отправиться с девушкой телеграфировать своему начальству.
Уэллс и Мюррей были вынуждены стоять на ногах посреди каморки, битком набитой рядами ящиков, запасами продовольствия и инструментами, но там не было ничего, что могло бы послужить им сиденьем во время вынужденного ожидания. В первые минуты они с опаской поглядывали друг на друга и были явно недовольны тем, что не было внутри тесного помещения ничего интересного, на что можно перевести взгляд, оторвав его от соперника.
— Я не имею никакого отношения к вторжению, Джордж, — наконец сказал Мюррей едва ли не умоляющим тоном.
Писатель скорчил в ответ скептическую гримасу, негодуя, что обстоятельства вынуждают его беседовать с миллионером. Поначалу, на протяжении многих месяцев, он мечтал, чтобы жизнь предоставила ему возможность выплеснуть накопившуюся ненависть на Мюррея, и сейчас должен был признать, что тесная, изолированная от внешнего мира каморка как нельзя лучше подходила для того, чтобы обрушить на него шквал упреков. Однако время охладило его пыл, спрятав под ледяной коркой презрения, отчего задуманное отчасти потеряло свой смысл. Речь шла о том, что они не успели обсудить когда-то, и теперь было уже слишком поздно ворошить старое, тем более что оба находились в довольно-таки тревожных обстоятельствах, требовавших отбросить личные разногласия. А потому Уэллс постарался сосредоточиться на настоящем и выяснить, кто стоял за сегодняшними событиями.
— Думаешь, мы поверим, что речь идет о нашествии настоящих марсиан? — холодно осведомился он.
— Я понятия не имею, во что мы должны верить, Джордж… Все это абсолютное безумие! — воскликнул Мюррей и, не в силах справиться с волнением, начал было нервно кружить по комнате, но она оказалась для этого чересчур мала. — Такого просто не может быть!
— Но оно есть, Гиллиам. Описанное в моем романе вторжение происходит на самом деле, причем именно так, как ты задумывал. Хочу тебе напомнить, что имеется письмо, в котором ты прямо просишь помочь тебе в осуществлении этого замысла, — безжалостно парировал Уэллс.
— Но разве я писал, что собираюсь убить сотни людей? — с отчаянием в голосе возразил миллионер. — Ведь нет же, Джордж! Я всего лишь хотел построить цилиндр, откуда появился бы этот твой злосчастный эволюционировавший осьминог, да добиться пары газетных заголовков, чтобы завоевать любовь самой прекрасной женщины на свете! Я никогда бы не совершил ничего такого, что могло бы нанести вред Эмме. Никогда! — Мюррей сопроводил свои слова страшным ударом кулака по одному из ящиков, тут же разлетевшемуся на куски. К счастью, эта вспышка, похоже, успокоила Мюррея, который оперся обеими ручищами на остатки разбитого ящика, вобрал голову в плечи и прошептал: — Я люблю ее, Джордж, люблю больше, чем самого себя…
Уэллс недовольно отодвинулся от него. Все это казалось ему непристойным и ненужным. И не верилось, что происходит на самом деле, что он заперт вместе с Мюрреем, который в совершенно детских выражениях рассказывает ему о своей любви, в то время как снаружи кто-то или что-то уничтожает невинных людей, следуя сюжету его романа. И тогда, с некоторым смущением слушая жалобы миллионера и его нелепую оду любви, Уэллс понял, что не может больше упорствовать в отрицании очевидного: Мюррей не имел никакого отношения к нашествию. То, что цилиндр преспокойно выстрелил по многим свидетелям, и прежде всего по девушке, в которую Мюррей был влюблен, служило почти неопровержимым доказательством его невиновности. И к удивлению Уэллса, его нежданно-негаданно захлестнула волна жалости. Жалости! Да, жалости к Гиллиаму Мюррею! Ибо ему предстояло не только защищаться от ложных обвинений, но в какой-то момент признать в присутствии своей возлюбленной, что он потерпел поражение и недостоин ее любви. Более того, по тому, как развивались события, казалось, что миллионер обречен в компании этой девушки пережить одну из тех печальных ситуаций, в которых, хочешь ты того или нет, ты в конце концов показываешь себя либо героем, либо трусом. И это будет для него самым неудобным и неприятным, ибо для Эммы он останется единственным виновником того, что ей придется бежать, спасая свою жизнь, вдали от родины, вместе с шустрым обладателем механической руки и писателем, автором развлекательных романов, в том числе и «Войны миров». Да, логично было испытывать жалость к Мюррею. Но и к девушке тоже, подумалось ему. И даже к себе самому. Из-за нелепой и прискорбной истории, в которую он угодил против своей воли. Но главным образом из-за того, что он не способен испытывать по отношению к Джейн ничего, кроме обычной здоровой тревоги, весьма далекой от отчаяния, приводящего в неистовство Мюррея.
Джейн, его Джейн. Угрожает ли ей опасность? Он этого не знал, но пока предпочитал воображать ее целой и невредимой в Лондоне, в доме Гарфилдов, которые наверняка, если известие о том, что произошло в Хорселле, уже докатилось до столицы, сейчас стараются успокоить ее, уверяя, что с ним все в порядке. Он вздохнул. Сейчас не время предаваться сомнениям. Его жизнь в опасности, и он должен направить всю свою энергию на то, чтобы выяснить, что же, черт возьми, происходит, а главное, найти способ оставаться в живых, пока не станет ясно, что погибнет все человечество и выжить в таких условиях — самое худшее, что только может быть.
— Хорошо, Гиллиам, — сказал он с нарочитым спокойствием. — Согласимся, что ты не имеешь никакого отношения к вторжению. Но кто же тогда стоит за ним? Германия?
Миллионер удивленно взглянул на него.
— Германия? Может быть… — ответил он после паузы, стараясь говорить твердо. — Но мне трудно поверить, чтобы какая-то страна располагала столь изощренной техникой, позволившей изобрести смертоносные лучи, которые нас чуть не убили.
— Ты так считаешь? А я не вижу, почему бы что-нибудь в таком духе не могло быть втихомолку разработано…
— Возможно… — сказал миллионер, по-видимому вновь обретавший душевное равновесие. — Одно несомненно, Джордж: они копируют сюжет твоего романа.
Да, это несомненно, подумал писатель. Все происходило примерно так, как он написал. Тогда следующим шагом должно было стать создание летающих машин в форме скатов, которые будут совершать облет территории в направлении Лондона, готовые оставить после себя одни развалины. Быть может, в этот самый миг над разоренными пастбищами Хорселла раздается не слышный никому, но неутомимый стук молотков, сопровождающий их постройку. Но пока, заключил про себя писатель, невозможно выяснить, кто ответствен за происходящее. И поскольку ни один марсианин до сих пор не высунул свою студенистую голову из цилиндра, можно утверждать лишь то, что они столкнулись с некими смертоносными машинами, которыми мог управлять кто угодно и даже вообще никто, внезапно решил он, задумавшись, нельзя ли приводить в действие эти штуки на расстоянии, с помощью какого-либо сигнала или чего-то в этом роде. Уэллс удивился, что не испытывает ни малейшего страха, хотя и подозревал, что его демонстративное хладнокровие объясняется тем, что он пока не уяснил для себя, чего именно они должны бояться. Нужно еще посмотреть, сохранит ли он спокойствие, когда атакующие сделают второй ход на доске и все обретет некий смысл. Только тогда выяснится, кто он на самом деле: герой или трус.
В это мгновение они услышали громкие возбужденные голоса, доносившиеся снаружи, и повернулись к окошку, но не смогли ничего разобрать. Однако, судя по всему, на станции, которая до сих пор была погружена в пугающую тишину, начался переполох. Похоже, люди метались по перрону, и, хотя их крики пока еще нельзя было назвать паническими, было очевидно: снаружи происходит что-то странное. В последующие минуты сумятица нарастала: было слышно, как со скрежетом то здесь, то там запираются двери, как падают наземь какие-то предметы, как волокут по земле тюки и узлы и как время от времени кто-то лающим голосом отдает невразумительные приказания или отчаянно проклинает все на свете. Уэллс и Мюррей уже начали нервничать, но тут дверь их импровизированной камеры отворилась, и они увидели агента Клейтона и мисс Харлоу, чей взволнованный вид не предвещал ничего хорошего.
— Рад видеть вас целыми и невредимыми, — с язвительной улыбкой проговорил агент и быстро захлопнул за собой дверь, словно доносившийся снаружи шум был чем-то постыдным. — А я принес вам две новости: одну хорошую, другую плохую.
Узники выжидающе смотрели на него.
— Хорошая — это то, что организаторы всей этой катавасии, оказывается, не столь ярые поклонники вашего романа, как мы думали, мистер Уэллс, — сообщил Клейтон, глядя на писателя с преувеличенным любопытством. — Похоже, марсиане не стали строить летательных машин в форме ската, чтобы атаковать нас с воздуха. Помнится, вы объясняли в своем романе, что они летали благодаря лучам, создающим магнитный поток над землей…
— Да-да, продолжайте, — попросил Уэллс.
— Так вот, в любом случае это по-настоящему хитроумное изобретение, — пробормотал агент как бы для себя, после чего резко продолжил: — но похоже, что пока оно для них недоступно, потому что так называемые марсиане перемещаются по земле.
— Они ходят? — изумился писатель.
— Именно так. По сообщениям моих информаторов, у этих треклятых существ выросли ноги… Да, длинные и тонкие ноги, как у болотных птиц, высотой около двадцати метров… Во время движения они сметают с лица земли деревья, фермы и все, что встречают на своем пути, не переставая направлять смертоносные лучи на обезумевшую от страха толпу. — Агент говорил с досадными остановками, державшими всех в напряжении, и Уэллс понял: сообщая им о происходящем, Клейтон сам пытается осознать то, что говорит. — Поэтому сходство между началом вашего романа и началом вторжения можно, по-видимому, считать случайностью, не знаю… — Он сделал еще одну неожиданную паузу, во время которой его губы то сжимались, то разжимались, как бы в унисон с его мыслями, а затем вновь быстро заговорил: — Дело в том, что сейчас события развиваются совершенно не так, как у вас, мистер Уэллс, и это снимает все подозрения относительно вашего в них участия.
— Рад это услышать, — сухо ответил Уэллс.
— То же самое и насчет вас, мистер Мюррей, — продолжал агент, обращаясь к миллионеру. — Как я только что вам сообщил, мы столкнулись с самым настоящим нашествием, треножники обнаружились повсюду, и я полагаю, что инсценировка подобного масштаба превосходила бы ваши финансовые возможности, сколько бы денег у вас ни было… Но в любом случае боюсь, что вам придется остаться под арестом, потому что мое мнение значения не имеет, по меньшей мере пока. Начальство предпочитает расследовать все возможности, а ведь именно оно отдает приказы. Я же единственное что могу сделать…
— Ну а какова же тогда плохая новость? — спросил Мюррей, которого ничуть не тронул извинительный монолог Клейтона.
Агент непонимающе уставился на него.
— Плохая новость? Ах да! Плохая новость состоит в том, что хорселлский треножник направляется сюда, разрушая все на своем пути.
— Что же мы будем делать? — спросил миллионер.
Агент Клейтон вскинул вверх руки, призывая к спокойствию, затем сжал губы, чуть прикрыл глаза и даже какого crop-бился. Эта почти театральная поза заставила Уэллса задуматься, перебирает ли в данный момент агент всю гамму возможностей, развернувшуюся в его мозгу благодаря вопросу Мюррея, или же ему просто жмут ботинки. В конце концов Клейтон резко вскинул голову, словно вынырнул из-под воды, и заговорил:
— Так. Мы направимся в Лондон, в штаб-квартиру Скотленд-Ярда, вот что мы сделаем… И не только потому, что именно там я должен вас допросить, но и потому, что, судя по развитию ситуации, через несколько часов Лондон, вероятно, станет самым безопасным местом в Англии. Мое начальство сообщило мне, что армия выстраивает кордоны вокруг столицы, готовясь отразить атаки захватчиков. Мы должны добраться до Лондона раньше, чем кольцо сомкнется. Остаться вне периметра — самое опасное для нас: многочисленные батальоны выступили навстречу цилиндрам, и если мы задержимся здесь, то попадем под перекрестный огонь.
— Звучит разумно, — сказал Уэллс, внезапно вспомнив про Джейн.
— Разумно? — возмутился Мюррей. — Направиться в место, которое марсиане собираются стереть с лица земли, кажется тебе разумным, Джордж?
— Ну да, Гиллиам, — ответил писатель. — Если же мы отправимся в противоположном Лондону направлении, то наверняка…
— Я не приглашал вас обсуждать со мною план действий, джентльмены, — прервал их Клейтон. — Я лишь сообщил вам, что мы будем делать, нравится вам это или нет.
— Так вот мне это не нравится, — возмущенно ответил Мюррей. — И ни я, ни мисс Харлоу не собираемся…
Его слова заглушило пронзительное завывание где-то вдалеке, заставившее задрожать стены маленького склада.
— Это еще что за дьявольщина? — испуганно воскликнул Мюррей.
— Тепловой луч… — мрачно ответил Уэллс. — И очень близко.
— О боже! — вскрикнула девушка.
— Успокойтесь, — обратился к ним Клейтон. — Как я уже говорил мисс Харлоу, вы попали в самые надежные руки, какие только существуют. Я, Корнелиус Льюис Клейтон, — агент специального подразделения Скотленд-Ярда и обучен действовать в подобных ситуациях.
— Таких, как вторжение марсиан? — пробормотала девушка.
— Да, хотя вам и трудно в это поверить, — ответил Клейтон и искоса взглянул на нее. — То, что на нашу планету могли вторгнуться марсиане или другие инопланетные жители, укладывалось в рамки возможного, и мое подразделение было к этому готово.
Слова агента были подкреплены новым оглушительным раскатом. Все испуганно переглянулись. На сей раз взрыв произошел гораздо ближе.
Клейтон уставился в потолок и снова словно впал в столбняк, что, похоже, было характерным для него состоянием, когда он задумывался.
— Да, именно так мы поступим, — произнес он спустя несколько секунд, выйдя из транса. — Мы возьмем экипаж и как можно быстрее отправимся в Лондон. Постараемся не привлекать к себе внимания и избегать встреч с цилиндрами в том невероятном случае, если наткнемся на них по дороге. Вторжение исчисляется не часами… Нет-нет, — повторил он внезапно как бы про себя и энергично встряхнул головой. — Чтобы завоевать целую планету, требуется время, много времени. Происходит ли подобное нашествие по всему миру? Не начало ли это краха всей цивилизации? Думаю, скоро мы обо всем узнаем… А пока что они здесь, дома. У нас дома. Очевидно, марсиане оценили стратегическое значение Британских островов… Но мы готовы к этому, конечно же готовы! — Теперь он обращался ко всем и старательно состроил успокаивающую улыбку. — Мы не можем поддаваться панике. Существует оборонный план, который в настоящее время приводится в действие в Лондоне. Правда, мы находимся в районе, который расположен вне зоны действий моего подразделения, но вы со мной и потому не должны ничего бояться. Я доставлю вас в Лондон целыми и невредимыми. Даю слово.
Сказав это, он закатил глаза и рухнул на пол. Остальные сперва удивленно переглянулись, а затем стали с любопытством рассматривать свернувшееся в клубок тело агента Клейтона, не зная, является ли его поведение тоже частью плана или же это одно из испытаний, которому он подвергает себя, дабы показать свою сноровку.
— Какого черта… — не выдержал наконец Мюррей, видя, что агент не поднимается.
И хотел уже было пнуть лежавшего, но Уэллс опередил его и склонился над телом агента.
— Он жив, — сообщил писатель, пощупав у него пульс.
— Так что же тогда с ним стряслось? — недоумевал миллионер. — Заснул, что ли?
— По-видимому, это что-то похожее на обморок, — ответил Уэллс, смутно припоминая рассказ Сервисса. — Возможно, упало давление или содержание сахара в крови, хотя я склоняюсь к тому, что…
— Называется, попали в хорошие руки! — перебил его Мюррей с отчаянием в голосе. — И вдобавок одна из них металлическая!
— Что же нам теперь делать? — едва слышно проговорила девушка.
— Полагаю, нужно следовать плану и отправляться в Лондон, — сказал Уэллс, которому не терпелось очутиться в столице и разыскать Джейн.
— Я не намерен везти мисс Харлоу в Лондон, Джордж, — возмущенно возразил миллионер.
— Если вы не против, мистер Гилмор, Мюррей или как вас там, то я хотела бы сама решить, куда мне ехать, — холодно произнесла девушка. — Я хочу ехать в Лондон.
— Что? Но почему, Эмма? — разочарованно спросил Мюррей. — Ведь это все равно что по собственной воле направиться прямехонько к вратам ада…
— Потому что все нужно делать строго по правилам, — возразила Эмма, похоже, вновь обретшая свое высокомерие, которое, по мнению Мюррея, было сейчас абсолютно неуместным. Он собирался возразить, но Эмма не позволила, буквально испепелив его взглядом. — И разрешите сообщить вам, мистер Мюррей, коль скоро сами вы не удосужились меня об этом спросить, что именно в этом городе я остановилась. А конкретно в доме моей тетушки Дороти в Саутуорке, который я покинула сегодня утром, никого не предупредив, ибо надеялась присутствовать на вашем спектакле, завершить досадный и жалкий эпизод с вашей капитуляцией и вернуться обратно к обеду, чтобы никто не заметил моего отсутствия. Но все вышло по-другому, все вышло по-другому… — прошептала она и растерянно обвела глазами маленький склад с видом человека, пробудившегося от глубокого сна. Но тут же опомнилась и решительно продолжила: — Если известие о вторжении достигло Лондона, то моя бедная тетушка, которая к этому времени конечно же обнаружила, что моя комната пуста, ужасно за меня тревожится, а потому я должна вернуться и успокоить ее. Кроме того, там остались все мои вещи, все баулы с моими платьями, а также обе служанки, сопровождавшие меня в пути из Нью-Йорка, за чью безопасность я несу ответственность… Неужели вы хотите, чтобы я бежала с вами неизвестно куда в одном-единственном платье, забыв про все остальное?
— Послушайте меня, Эмма. — Мюррей обратился к ней с плохо скрытым раздражением, как будто уговаривал капризную девочку. — На страну напала целая армия машин неизвестного происхождения, готовая нас уничтожить, и вряд ли кто будет думать о нарядах, когда на него наведут тепловой луч… Вам не кажется, что если вы и должны о чем-то беспокоиться в такой ситуации, то только не о своих баулах?
— Я беспокоюсь не только о своих баулах! Расслышали ли вы хотя бы одно слово из того, что я вам сказала? — воскликнула Эмма и сердито поджала губы. — У меня родственники в Лондоне, и я хочу как можно скорее вернуться к ним. Кроме того, именно на адрес тетушки придет ответ на телеграмму, которую я отправила родителям, ведь им наверняка захочется узнать, что мы держимся вместе и находимся вне опасности. Я ощущаю свою ответственность, это вам понятно? Хотя что может знать об ответственности человек, который притворился, будто он умер, украв у людей возможность путешествовать во времени, то есть лишив его величайшего открытия в истории из собственного эгоизма, потому что он уже достаточно разбогател и хочет спокойно наслаждаться своим состоянием? Вы по-прежнему думаете, что я когда-нибудь свяжу свою жизнь с вашей, мистер Мюррей? Если я здесь, в гуще этого ужасного безумия, то только по вашей вине!
— По моей вине? — вскричал миллионер, возмущенный несправедливостью обвинения. — Напоминаю, что именно вы предложили мне попробовать воссоздать марсианское нашествие в качестве условия, при котором вы выйдете за меня замуж, хотя и не любите… Но я-то люблю вас, Эмма. И заверяю, что если бы знал, что случится нечто подобное, то не позволил бы вам приехать в Лондон. Я принял ваш вызов только для того, чтобы получить возможность сделать вас счастливой, Эмма, однако вы собирались лишь унизить меня! Так кто из нас двоих больший эгоист?
— Я запрещаю вам называть меня по имени, мистер Мюррей! — воскликнула девушка. Затем несколько раз глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, и добавила невозмутимым, но язвительным тоном: — И хочу довести до вашего сведения, перед тем как выехать в Лондон, следующее: вы не только последний человек на земле, за которого я вышла бы замуж, но также последний из людей, с кем я хотела бы пережить разрушение нашей планеты.
Мюррей воспринял последние слова девушки как неожиданный удар под дых. Его лицо так побагровело, что, казалось, он вот-вот взорвется, но потом он опустил голову, слишком подавленный, чтобы вынести гневный взгляд Эммы, чьи глаза, похоже, были готовы испепелить его собственным тепловым лучом не хуже марсианских машин.
— Понимаю, мисс Харлоу… — пробормотал он. — Полагаю, что этим все сказано.
К своему сожалению, Уэллс не смог удержаться от сочувственной улыбки в адрес миллионера.
— Будет тебе, Гиллиам. Образумься, — услышал он свой подбадривающий голос. — Скажи на милость, куда, по-твоему, мы должны поехать?
Мюррей обреченно вздохнул, по-прежнему уставившись на свои башмаки. Он направился было к двери, но его остановил голос девушки.
— А что будем делать с ним? — спросила она, указывая на неподвижное тело агента.
— Ради всего святого! — вскричал Мюррей, уже совершенно отчаявшись. — Что вы предлагаете делать с ним, мисс Харлоу?
— Мы не можем оставить его здесь, — вмешался Уэллс. — Если эта машина разрушит здание станции, он погибнет под обломками… Мы должны взять его с собой.
— Что? — возмутился миллионер. — Ты в своем уме, Джордж? Ведь он же собирался заключить нас под стражу по приезде в Лондон…
— Ты предлагаешь бросить его на произвол судьбы? — с негодованием проговорил писатель.
— Ну что вы, мистер Уэллс. Разумеется, мистер Мюррей не собирается его здесь оставлять. Он же не настолько эгоистичен. Верно, мистер Мюррей? — с ехидной улыбкой спросила Эмма.
Тот не знал, что ответить, и лишь ошеломленно глядел на девушку.
— Я так и думал, — пошутил Уэллс. И, ухватив агента под мышки, обратился к Мюррею: — Не будь злопамятным, Гиллиам. Возьми его за ноги и помоги вытащить отсюда.
На станции тишина, встретившая их совсем недавно, сменилась диким хаосом. Как они и догадывались по звукам и крикам, долетавшим до их каморки, люди нервно сновали взад-вперед или сбивались в растерянные группы, внутри которых зрела паника. «Марсиане идут! — кричали многие, волоча свои чемоданы непонятно куда, словно внезапно все существующие убежища стали для них недостаточно надежными перед лицом угрозы таких масштабов. — Марсиане идут!» Толпы отчаявшихся людей старались влезть в единственный стоявший на станции поезд, кто-то разбивал стекла в окнах, чтобы проникнуть внутрь. Некоторые пытались штурмовать состав, расталкивая соседей, не разбирая, кто рядом с ними, а потому многие женщины и дети были грубо оттеснены от дверей, а то и безжалостно сброшены на рельсы. Со стороны эти толпы представляли собой столь же умопомрачительное, сколь притягательное зрелище, то была демонстрация дикости, идеальная иллюстрация того, как страх может лишить людей разума и даже превратить их просто в животных, движимых лишь эгоистическим стремлением выжить.
— Пойдемте к моему экипажу, — сказал Мюррей с тихой грустью, словно стоял перед клеткой с обезьянами и смотрел, как они стараются подражать людям, пуская в ход разнообразные ужимки.
Мужчины несли бесчувственного агента, а девушка расчищала им дорогу в толпе с помощью зонтика. Но, приблизившись к площади, предназначенной для стоянки экипажей, они столкнулись с такой же обезумевшей толпой, что и на станции. Роскошный экипаж Мюррея в числе других был окружен возбужденными людьми. Как раз в этот момент им удалось сбросить кучера с козел, и они принялись избивать несчастного, пытавшегося от них уползти. Воспользовавшись тем, что большинство участвовало в этом жестоком развлечении, Уэллс опустил тело Клейтона на землю в нескольких метрах от экипажа, оставив его на попечение миллионера, и помог девушке подойти к экипажу с противоположной стороны от места схватки. Но едва Эмма поставила ногу на ступеньку, как какой-то тип схватил ее за руку и не раздумывая швырнул на землю. Повинуясь ответному рефлексу, писатель ухватил нападавшего за пиджак. И только потом с досадой понял, что соперник ему достался гораздо крупнее, чем он сам.
— С женщиной так обращаться…
Удар в лицо кулаком помешал ему докончить фразу. Уэллс пошатнулся и свалился рядом с колесом экипажа. Наполовину оглушенный, ощущая, что его рот наполняется кровью, он увидел, как двое верзил встали возле дверцы, в то время как девушка с трудом пыталась подняться в каком-нибудь метре от него. Оба молодчика, тот, кто сбил Уэллса с ног, и его приятель, были одеты в униформу вокзальных носильщиков. А ведь еще какой-нибудь час назад, подумал Уэллс, оба услужливо переносили чемоданы, надеясь получить чаевые и тем самым заработать себе на ужин. Теперь же марсиане ввели особое положение, иной порядок, при котором правила одна лишь грубая сила, и в течение какого-то времени, если нашествие успешно продолжится, именно такие люди, как эти двое, получат власть и станут распоряжаться жизнями других по своему усмотрению. Хорошенько не зная, чем можно помочь девушке и как вернуть экипаж, Уэллс выплюнул скопившуюся во рту кровь и встал на ноги, опираясь на колесо, чем немало позабавил ударившего его типа.
— Что, мало получил? — буркнул тот, снова поворачиваясь к нему с угрожающе поднятым кулаком. — Хочешь добавки?
Уэллс, естественно, не хотел. Но было ясно, что сражаться за экипаж придется не на словесной дуэли, а потому он сжал кулаки и поднял руки, приняв нелепую позу боксера, готовый отразить удар соперника по мере своих возможностей, которые были невелики. Он знал это. И его противник тоже. Но в любом случае отступать нельзя, обреченно подумал он. Однако тут раздался выстрел. Все, кто стоял вокруг экипажа, удивленно повернули головы в ту сторону, откуда он прозвучал, и Уэллс в их числе. Его глаза задержались на Мюррее, целившемся в звезды из пистолета Клейтона. Сам агент по-прежнему неподвижно лежал у широко расставленных ног миллионера, который, все так же спокойно улыбаясь, произвел второй выстрел, заставивший толпу немного отодвинуться от экипажа. Уэллс вдруг ни с того ни с сего задумался, что станет с этой пулей, выпущенной в небо, и где она упадет, когда скорость, дававшая ей жизнь, иссякнет и она вновь вернется на землю. Тем временем Мюррей стал целиться в толпу, и его рука медленно поползла вниз, словно ветка дерева, клонящаяся к земле под тяжестью снега.
— Этот экипаж — моя собственность, джентльмены. Никто не должен приближаться к нему или же это станет его последним шагом, — сурово объявил он и упругой походкой двинулся к группе, возглавляемой двумя носильщиками. Не переставая целиться в них, он протянул руку девушке. — Разрешите вам помочь, мисс Харлоу, — галантно проговорил он.
Та несколько секунд раздумывала, но в конце концов ухватилась за его руку и встала. С отрешенным видом она зашла за спину Мюррею и принялась отряхивать от грязи свое платье. По-прежнему наставив пистолет на носильщиков, Мюррей сделал другой рукой знак девушке и Уэллсу, чтобы они садились в экипаж.
— Минутку, Гиллиам… — прошептал Уэллс за его спиной. — Похоже, ты забыл про агента Клейтона.
Не опуская оружия, Мюррей взглянул через плечо на тело агента, распростертое на земле. Не сдержавшись, он выругался сквозь зубы. Потом вновь окинул взглядом группу нападавших, перевел глаза на попутчиков и нерешительно остановил свой взор на девушке, которая все так же отрешенно стояла рядом.
— Хорошо, — решил он что-то для себя и, протянув оружие Эмме, мягко спросил ее: — Мисс Харлоу, не будете ли вы так любезны присмотреть за этими джентльменами, пока мы с мистером Уэллсом будем затаскивать агента в экипаж? Извините, что обращаюсь к вам с такой просьбой, вот только сможете ли вы ее выполнить?
Эмма немного растерянно взглянула сначала на оружие, которое протягивал ей Мюррей, потом на него самого.
— Смогу ли я? Разумеется, мистер Мюррей, — ответила она, беря пистолет в свои изящные руки. — Не думаю, что это будет чересчур сложно. Попробовали бы вы поносить корсет.
Носильщик, напавший на Эмму, встретил передачу ей оружия презрительным смехом и сделал шаг в ее сторону. Девушка наставила на него револьвер.
— Советую вам не приближаться, приятель, потому что я не ограничусь тем, что столкну вас в грязь, — процедила она сквозь зубы.
— Ой, как страшно, — ухмыльнулся он, обращаясь к своим товарищам. — Дамочка хочет убедить нас, что она способна…
Закончить фразу он не успел, потому что Эмма быстрым движением опустила дуло чуть ниже и выстрелила ему в ногу. Пуля прострелила носок его сапога, откуда фонтанчиком брызнула кровь. Носильщик упал на колени и с искаженным от боли лицом схватился за ногу.
— Шлюха поганая… — простонал он.
— Вот так, — сказала девушка, обращаясь к остальным. — Следующему я выстрелю в голову.
Не ожидавший от Эммы такой отваги, Мюррей не мог оторвать от нее восхищенных глаз. Уэллсу пришлось подтолкнуть его, чтобы он помог поднять Клейтона. Наконец они втащили агента в экипаж. Затем миллионер подошел к девушке и с довольной улыбкой попросил вернуть оружие.
— Хорошая работа, мисс Харлоу, — поздравил он ее. — Надеюсь, вы простите мне, что я поставил вас в рискованное положение.
— Вы очень любезны, мистер Мюррей, — ответила она с иронией, возвращая пистолет, — хотя на самом деле рисковали вы, доверив мне оружие. Вы наверняка боялись, что эти негодяи могут отнять его у меня.
— О, я был уверен, что такого не случится.
— Гм… — покашлял Уэллс из экипажа. — Сожалею, что прерываю вас, но хочу напомнить: марсиане вот-вот будут здесь.
— Да, конечно… — произнес Мюррей и помог девушке усесться. Затем обернулся к толпе и продолжил с поклоном: — Спасибо, джентльмены, все вы были очень любезны. К сожалению, этот экипаж чересчур роскошен для ваших задниц.
Сказав это, он спокойно залез на козлы, уселся поудобнее и взмахнул кнутом.
— Какая самоуверенность, — пробормотал Уэллс, когда экипаж тронулся.
— Да, вы правы. Он самый самоуверенный человек на свете. Хотя благодаря ему мы вернули экипаж… — неохотно признала девушка.
Что верно, то верно, подумал про себя Уэллс. В конце концов, если нашествие марсиан или кого бы то ни было будет остановлено и все вернутся к нормальной жизни, человечество только порадуется, что ему придется хоронить тех двоих безмозглых негодяев, а не их, чей вклад в жизнь, как он надеялся, будет поважнее…
Они ехали по Чертсийской дороге в сторону Лондона почти галопом, из-за чего тело Клейтона, которого они усадили перед собой, постепенно съезжало вниз, пока он окончательно не разлегся поперек сиденья. Из-за дикой тряски его руки подпрыгивали на груди, а голова моталась из стороны в сторону, что делало его похожим на потерявшего остатки рассудка пьяного.
Бросив взгляд в окошко, Уэллс обнаружил, что большая часть пейзажа погрузилась во тьму. На горизонте он различил темно-красное свечение и облако дыма, лениво поднимавшееся к усыпанному звездами небу. Из далеких лесов в стороне Аддлстона до них долетала тревожная канонада, глухая и беспорядочная, что наводило на мысль о том, что где-то армия вступила в бой с треножниками.
— Боже мой… — прошептала Эмма.
Встревоженный выражением откровенного ужаса на ее лице, Уэллс повернулся к ней и вгляделся во мрак. Вначале он ничего не увидел, кроме соснового леса, но потом, скользя взором по этой компактной мгле, обнаружил исполинскую фигуру, которая быстро спускалась по склону, следуя в том же направлении, что и их экипаж. Когда ему удалось отделить ее от густых теней, он рассмотрел, что это гигантская машина, установленная на треножнике и передвигающаяся большими прыжками благодаря тонким сочлененным ногам, придававшим ей сходство с пауком. Производя оглушительный металлический скрежет и зловеще покачиваясь из стороны в сторону, эта ходячая машина из блестящего металла неуклюже, но решительно продвигалась сквозь лес, без видимых усилий ломая сосны, встречавшиеся ей на пути. Уэллс заметил, что верхняя часть машины очень напоминала марсианский цилиндр, описанный им в романе, но основная структура сильно отличалась и походила скорее на громадный ящик с закругленными краями, покрытый сложным кружевом пластинок вроде панциря рака-отшельника. Он разглядел также пучок тонких и гибких щупалец, которые отходили от живота и непрестанно шевелились, словно жили своей отдельной жизнью. Луна отражалась от металлической поверхности махины, превосходившей размерами многие дома.
Машина слегка повернула свой колпак в сторону экипажа, и у писателя возникло тревожное ощущение, что эта штука их рассматривает. Его подозрения подтвердились, когда через какую-то секунду машина слегка изменила курс, чтобы приблизиться к шоссе. По резкому толчку, сотрясшему экипаж, он понял, что Мюррей тоже все видел и теперь пытался добиться преимущества, еще сильнее нахлестывая лошадей. Уэллс проглотил слюну и, так же как Эмма, вцепился в сиденье, чтобы не вывалиться на дорогу из-за ужасной тряски. Через заднее окошко он увидел, как одна из ног треножника показалась из кювета и встала на шоссе. Затем, волоча за собой куски расщепленных сосен, к ней присоединились остальные две. Прочно утвердившись на трех ногах, машина начала преследовать экипаж. Ее скачки раздавались в ночи как раскаты грома. У Уэллса бешено забилось сердце, когда он увидел, как в верхней части машины странный аппарат, испускавший тепловой луч, начал знакомые движения кобры, прицеливаясь.
— Эта штуковина собирается выстрелить в нас! — крикнул он и, схватив за плечи девушку, заставил ее лечь на пол экипажа. — Пригнитесь!
В это мгновение в паре метров от них, с правой стороны, раздался мощный взрыв, и ударная волна подбросила их с такой силой, что колеса экипажа отделились от земли, а затем с треском опустились на дорогу, едва не развалившись. Стараясь удержать равновесие, что было нелегко, так как экипаж мотало из стороны в сторону, Уэллс задался вопросом, сидит ли Мюррей по-прежнему на козлах или же свалился оттуда и теперь они едут в экипаже, которым никто не управляет. Через окошко он увидел небольшой кратер, образовавшийся после взрыва на обочине шоссе, причем большая часть вереска, росшего в кювете, была объята пламенем. Треножник продолжал приближаться зловещими прыжками, так что расстояние между ними сократилось. В это мгновение экипаж резко остановился, и Уэллс по инерции опрокинулся спиной на неподвижное тело Клейтона. Он заметил, что экипаж меняет курс. В недоумении Уэллс высунул голову в окошко и обнаружил, что Мюррей направил лошадей прямо на треножник.
— Какого черта ты затеял? — крикнул он ему.
Ответом стало щелканье кнута, и лошади помчались.
— Ты сошел с ума, Гиллиам! — вновь крикнул писатель.
— Я уверен, что эта штуковина не способна поворачивать так быстро, как мы! — услышал он ответ миллионера сквозь жуткое громыханье колес.
Уэллс понял, что Мюррей собирается проскочить под исполинским механизмом, как под мостом.
— О боже… Да он спятил… — прошептал писатель, видя, что треножник остановился, чтобы прицелиться в упор. — Уэллс втянул голову внутрь и с силой обнял девушку. — Он хочет проехать между ногами… — объяснил он ей сдавленным от страха голосом.
— Что? — шепотом переспросила она.
— Это безумие…
Эмма в отчаянии прильнула к нему, и Уэллс в полной мере ощутил ее хрупкость, ее тепло, ее аромат, ее формы, отпечатавшиеся на его податливом теле, и пожалел, что единственная возможность для такого человека, как он, обнять такую женщину, как она, связана с их бегством от марсиан. Правда, это была лишь мимолетная мысль, совершенно неуместная сейчас. Но пока смерть не приходила, в течение этой горстки секунд, на которую их жизни продлились вопреки всякой логике, у Уэллса оставалось время, чтобы признать, что ситуация, в которой они находились, могла превратить человека не только в героя или труса, но и в безумца.
XXIV
И пока сердце этого Уэллса замирало от страха, сердце другого Уэллса, о существовании которого первый даже не подозревал, билось спокойно, словно исполняло нежную мелодию на ксилофоне, потому что руководимое им вторжение развивалось согласно намеченному плану. Через пару часов треножники подойдут к воротам Лондона, где их поджидает британская армия, храбро и решительно выстроившаяся вместе со своими орудиями «Максим» только для того, чтобы погибнуть от могучей и невообразимой силы, которая уничтожит ее солдат как тараканов. И другой Уэллс улыбнулся при мысли о грядущей бойне и взглянул на карту планеты, висевшую на стене его кабинета.
Надеюсь, что, несмотря на прошедшее с тех пор время, вы не забыли о существе, которое приняло черты Уэллса и сейчас, словно дирижер, управляет вторжением из своего убежища. Как оно там оказалось? — спросите вы. Хорошо, вернемся на несколько недель назад, к той точке, в которой мы прервали нашу историю, чтобы начать разматывать клубок другой жизни — жизни мисс Харлоу, и бросим взгляд на деревянный гроб с медными заклепками, который забыли в подвале Музея естествознания. Что происходит внутри него, скрытое от чужого взора, но только не от моего? Там с хрустом, сопровождающим перемещение тканей и сухожилий, существо из другого мира воссоздается заново с физиономией писателя Герберта Джорджа Уэллса, который только что бегом покинул Палату чудес, увлекаемый другим писателем по имени Гарретт П. Сервисс, не столь блестящим, но, однако, игравшим сейчас руководящую роль. Оба, успешный автор и автор посредственный, покинули здание музея, не ведая о роковых последствиях своих действий, в особенности поступка Уэллса, погладившего руку инопланетянина. Этот восхищенный жест оставил на его коже самый лучший подарок, какой только возможно было преподнести: крошечную, ничтожную капельку крови. Тем не менее в ней содержалось все то, чем он был. И все то, в чем нуждалось существо, чтобы вернуться к жизни.
И вот в тишине, царившей внутри гроба, инопланетное существо подобно гусенице в коконе силилось принять человеческий облик, и кровь Уэллса взбадривала и направляла его в этом старании. Позвоночник уменьшился в размерах, чтобы достичь длины, предписанной кровью, и пока череп занимал свое место в верхней части тела, к нижней его части прикреплялся узкий таз, из которого вырастали, хрупкие как ветки, две не слишком длинные бедренные кости, которые были немедленно присоединены к большим берцовым костям с помощью коленных чашек. И таким образом, действуя с неспешностью сталактита, существо провело сборку хрупкого скелета, который тут же был покрыт волнистой накидкой, состоявшей из мышечной ткани, нервов и сухожилий. За решеткой грудной клетки появились губчатые легкие, выпустившие через трубку только что образовавшейся трахеи струю воздуха, впервые познакомив свое обиталище с теплым дыханием. И пока одна рука, казалось, забавлявшаяся с глиной, лепила печень и растягивала сумку желудка, к костям скелета прикреплялись дельтовидная мышца, трицепсы, бицепсы и прочие мышцы, сквозь которые пробивались вены и артерии. По этой запутанной системе тайно циркулировала кровь, которую качало сердце. Из бесформенной массы, какую представляло собой вначале лицо, возникла наконец птичья физиономия писателя, точная копия Уэллса на кальке, где некогда появлялись силуэты некоторых моряков с «Аннавана» и даже лицо еще одного писателя, Эдгара Аллана По. На только что вылепленных губах заиграла победная и одновременно кровожадная улыбка, отражавшая желание отомстить, что вызревало на протяжении десятилетий, а вполне человеческие руки вцепились в связывавшие его цепи и с поистине нечеловеческой силой разорвали их на мелкие кусочки. Затем крышка гроба приподнялась изнутри, издав жуткий скрежет, нарушивший плотную тишину помещения. Но если бы здесь случайно оказался какой-нибудь желающий присутствовать при чуде воскрешения, он увидел бы перед собой не восставшее из мертвых зловещее космическое существо, а Уэллса, пришедшего в себя после попойки, которая завершилась тем, что он, неизвестно почему, оказался в этом гробу. Однако, несмотря на свой вполне земной облик, из гроба восстало жуткое и грозное существо, и я бы сказал, само Зло в чистом виде, во всем своем блеске, в очередной раз вторгнувшееся в мир разумного человека, как уже делало это раньше под видом чудовища Франкенштейна, князя Дракулы и любого другого монстра, в одежды которого человек хотел бы нарядить абстрактный ужас, преследовавший его с самого рождения, эту неприятную темноту, которая начинала обволакивать его несчастную душу, как только кормилица задувала свечу, оберегавшую колыбель.
Подобно слепому, внезапно обретшему зрение, фальшивый Уэллс оглядел место, где находился, заполненное всяким хламом, который ничего ему не говорил, образчиками фантастического фольклора, принадлежащего исключительно землянам. И почувствовал огромное облегчение, увидев среди всего этого бессмысленного мусора знакомый предмет: свой корабль, стоявший на особом пьедестале и, видимо, тоже отнесенный к разряду чудес, как и все находившееся там. Похоже, машина была цела и невредима, какой он покинул ее, и, разумеется, с тех пор пребывала в бездействии: понятно, что земляне не сумели ее даже открыть. Он приблизился к ней и, остановившись в паре метров от пьедестала, слегка прикрыл глаза и сосредоточился. И тогда в разбухшем корпусе корабля появилась небольшая щель. Фальшивый Уэллс вошел в нее и вскоре вернулся с цилиндрической коробочкой цвета слоновой кости, гладко отполированной — за исключением тех мест на крышке, где виднелись ряды крошечных значков, от которых исходило слабое красноватое свечение. Внутри коробочки находилось то, что заставило его проделать долгий путь до Земли, этой затерявшейся в одном из спиралевидных рукавов Галактики планеты — на расстоянии более тридцати тысяч световых лет от ее центра, которая была выбрана Советом в качестве нового обиталища его расы. И хотя он запаздывал больше, чем это предусматривалось, в конце концов ничто не мешало ему продолжить свою миссию.
Он открыл дверь зала и покинул музей как обычный человек, смешавшись с последней группой сегодняшних посетителей. Очутившись на улице, он глубоко вздохнул и оглянулся по сторонам, пробуя органы чувств своего нового тела и одновременно пытаясь не обращать внимания на непрестанное жужжание, словно в пчелином улье, производимое мозгом человека, которого он имитировал. Его удивил этот шум, порождаемый мыслями, гораздо более интенсивный, нежели тот, что производили земляне, в которых он перевоплощался, будучи в Антарктиде. Но ему было некогда погружаться в исследование этих живописных размышлений, а потому он решил игнорировать их и сосредоточиться на изучении мира с помощью своих органов восприятия, а не рудиментарных чувств землянина. И тогда внезапно его охватило ощущение бесконечного благополучия, тихой и волнующей ностальгии, похожей на ту, что испытывает человек, вспоминая каникулы своего детства. Он обнаружил, что находится в месте, где была основана колония. Да, последним, что он в свое время увидел, был лед, смыкающийся над его головой, а вот теперь, проплавав в течение многих лет под водой и избежав смерти благодаря тому, что он успел ограничить свои энергетические уровни необходимыми вибрациями, чтобы его тело вошло в состояние спячки, он проснулся в Лондоне, как раз там, куда направлялся, когда его аппарат потерпел аварию над Антарктидой.
Он поднялся на одну из башен Музея естествознания, достаточно высокую, и там сосредоточился, прикрыл глаза и заставил свой мозг послать другой сигнал. И этот призыв, который не мог услышать никто из людей, полетел сквозь вечерние сумерки и, оседлав слабый бриз, распространился по всей столице. И почти мгновенно в шумной таверне в районе Сохо Джейкоб Хэлси перестал вытирать стаканы, задрал голову к потолку и стоял так несколько минут, не реагируя на призывы клиентов, пока внезапно по его лицу не побежали слезы. То же самое произошло с санитаром Брюсом Лэрдом, который вдруг неизвестно почему остановился посреди коридора в больнице имени Гая, словно внезапно забыл, где находится, и заплакал от счастья. Примерно так же поступили булочник с улицы Холборн по имени Сэм Делани, некий Томас Кобб, владелец портняжной мастерской рядом с Вестминстерским аббатством, гувернантка, присматривавшая за детьми, что играли в парке Мейфэр, старик, медленно ковылявший по одной из улочек в Блумсбери, супружеская чета Коннеллов, кормившая белок в Гайд-парке, и некий ростовщик, чья контора располагалась на Кингли-стрит. Все они подняли глаза к небу и застыли в благоговейном молчании, словно слышали какую-то мелодию, которую никто, кроме них, не мог услышать. Бросив то, чем они до этого занимались, они покинули свои дома и рабочие места и вышли на улицу, где в их ряды неспешно вливались учителя, лавочники, библиотекари, грузчики, секретари, члены парламента, трубочисты, клерки, проститутки, ювелиры, возчики угля, отставные военные, кучера и полицейские, и весь этот поток организованно двигался к месту, которое указал голос, прозвучавший у них в мозгу. Это был долгожданный сигнал, о котором так мечтали их родители и родители их родителей: он свидетельствовал о прибытии того, кто рано или поздно должен был появиться, того, кого они давно ждали, — Посланника.
Священник Джероне Бреннер, возглавлявший небольшой приход в Мэрилебоне, озабоченно глянул на себя в зеркало, висевшее в ризнице. Он уже тщательно побрился, с помощью туалетной воды пригладил свою непокорную седую шевелюру, выверенным до миллиметра движением поправил брыжи, на совесть почистил щеткой сутану, действуя медленно и торжественно, словно служил литургию, которую ему никто не заказывал, но которой требовала сама торжественность ситуации. Он облегченно вздохнул, убедившись, что морщины, избороздившие его иссохшее лицо, придают ему скорее величественный, нежели дряхлый вид, и что хотя присвоенное им тело выглядело весьма изношенным и тщедушным, зато пара темно-голубых глаз вызывала восхищение у ему подобных, в особенности у дам. В ваших глазах заключено небо, которое вы обещаете, святой отец, сказала однажды его прихожанка, не ведавшая, какие существа населяли его небо, хотя, к сожалению, ни одно из них не имело ранга божества, как бы ни хотелось ему иногда думать, что его раса воплощает собой богов, которым молятся земляне. Но будь так, они не собирались бы истреблять землян, подумал он. Никакой бог не обращается подобным образом со своими поклонниками. Он закончил причесываться и направился ко входу в ризницу, надеясь, что его вид удовлетворит Посланника.
— Добрый день, отец Бреннер. Или вы предпочтете наконец-то вновь носить древнее имя вашего рода?
Голос долетел к нему от двери, где вырисовывался силуэт человека, который рассматривал его, засунув руки в карманы брюк. Облик, который избрал для себя Посланник, обескуражил его, потому что речь шла не о каком-то безымянном типе, а о личности, которую любой образованный читатель, к каковым он принадлежал, мог узнать.
— Должен признаться, господин, что по прошествии пяти поколений, мы, потомки первых колонистов, даже между собой пользуемся земными языком и именами. Боюсь, что, когда настанет счастливый момент, нам будет трудновато снова привыкнуть к нашему древнему и любимому языку, несмотря на то, что мы торжественно передавали его от родителей к детям, так же как древние и мудрые знания нашей расы, — ответил священник.
Но я должен предупредить вас, что отец Бреннер не просто произнес эти слова, наклонив голову и сложив ладони над макушкой в виде треугольника, что могло показаться нам смешным, однако так представители его расы издавна выражали свое уважение. Он к тому же говорил на своем собственном древнем языке, и если бы в этот момент в ризнице находился кто-нибудь из людей, он услышал бы всего лишь хаотическую симфонию, состоящую из каркающих, свистящих и воющих звуков, которые я из боязни ранить ваш слух решил не воспроизводить.
— Я знаю, как трудно голосовым связкам людей справиться со звуками нашего языка, отец, — великодушно заметил Посланник. — Если не возражаете, мы можем общаться на языке землян, и на этом же языке я произнесу приветственную речь для наших братьев.
— Большое спасибо за ваше понимание, господин, — ответил священник, стараясь, чтобы его голос не дрогнул от волнения и тем более от страха. Он изменил свою позу и пошел навстречу Посланнику, с некоторым смущением протягивая ему руку, ибо понимал, что такой обычай здороваться может показаться тому экстравагантным и чересчур интимным. — Добро пожаловать на Землю, господин.
Посланник молча разглядывал его, насмешливо улыбаясь.
— Спасибо, святой отец, — сказал он после паузы и сделал шаг навстречу священнику, чтобы пожать протянутую руку. — Боюсь, что я еще не привык к земным обычаям. Хотя теперь это не так важно, поскольку изучать их уже нет никакого резона, вы не находите?
На протяжении нескольких секунд Посланник не выпускал руку священника из своей и продолжал вглядываться в него, словно призывая оспорить свое последнее утверждение. А когда наконец отпустил ее, отец Бреннер, немного обеспокоенный тоном высокомерного превосходства, что прозвучал в речи Посланника, откашлялся и постарался следовать плану, который он наметил как гостеприимный британец.
— Не хотите ли чашку чаю? — предложил он. — Этот напиток здесь очень распространен, и я уверяю вас, что телу, которое вы занимаете, он придаст заряд бодрости.
— Разумеется, святой отец, — с улыбкой ответил Посланник. — Почему бы не насладиться местными привычками перед тем, как их уничтожить?
От его слов по спине священника пробежал холодок. Похоже, Посланник был намерен постоянно напоминать ему, что все, что было ему знакомо, все, что его окружало и что он любил больше, чем собственный мир, в считанные дни перестанет существовать. Да, тому, кто находился перед ним, было поручено уничтожить единственный мир, который Бреннер хранил в своей памяти, более того, он имел наглость презирать этот мир, заранее исключая, что он стоит того, чтобы оплакивать его разрушение.
— Идите за мной, — сказал он, стараясь не показать своей удрученности, ибо, по сути дела, находился здесь для того, чтобы облегчить работу Посланнику.
Священник подвел гостя к маленькому столику, накрытому возле стеклянной двери, которая выходила на задний двор, где благодаря его заботливому уходу благоухал небольшой садик. День клонился к вечеру, и оранжевый свет заливал горстку растений, которым он посвящал свой редкий досуг и чей аромат приносил с собой в ризницу вечерний ветер. Его охватила тоска при мысли, что этот садик исчезнет вместе со всей планетой, а значит, и покой, всякий раз нисходивший на него, когда он, вооруженный перчатками и садовыми инструментами, возился там, спрашивая себя, испытывают ли то же чувство люди, когда занимаются этим почти непроизводительным трудом. Он постарался скрыть всепоглощающую грусть и с почтительной улыбкой принялся разливать чай, а тем временем куранты на галерее беспечно вызванивали свои ноты, как делали каждый день, потому что никто не сказал им, что этот день может стать последним.
— Вы правы, превосходное питье, — похвалил Посланник, отпив глоток из своей чашки и осторожно поставив ее на блюдце. — Вот только не знаю, заслуга это напитка или совокупности органов, которыми обладают земляне, чтобы его оценить: обоняние, нёбо, горло… Вот сейчас, например, я чувствую теплый след, оставленный там чаем, который медленно достиг моего желудка.
Священник с улыбкой наблюдал, как Посланник с явным удовольствием поглаживает свой живот. Он напоминал ребенка, получившего новую игрушку. Его манера брать чашку; словно это была пробирка для опытов, или вытираться салфеткой выдавала недостаток практики во владении новым телом, что и выражалось в особой деликатности, которая сотрется лишь по прошествии лет.
— Хорошие у них тела, — искренне похвалил отец Бреннер. — Ограниченные в восприятии окружающего мира вследствие своих рудиментарных чувств, но зато способные вовсю наслаждаться теми немногими удовольствиями, что могут от него получить. А цейлонский чай просто восхитителен. К тому же теперь его можно пить, ничего не опасаясь. А ведь еще несколько лет назад, когда фекальные воды спускали непосредственно в реку, одной такой безобидной на вид фарфоровой чашечки было достаточно, чтобы заразиться тифом, гепатитом или холерой. Конечно, для нас эти болезни не представляют смертельной опасности, но, уверяю вас, находиться внутри тела, страдающего каким-нибудь заболеванием, довольно неприятно.
Посланник рассеянно кивнул и невозмутимо огляделся по сторонам, разглядывая церковные чаши, требники, шкаф, где висели ризы и сутаны.
— Однако, независимо от болезни, которой вы страдали, похоже, вы ухитрились занять хорошее положение в структуре земного общества, — заключил он после осмотра и обвел небольшое помещение рукой. — Взгляните, чего вы достигли. Вы возглавляете приход, относящийся к Англиканской церкви, основной государственной религии в Англии и Уэльсе. Или информация, хранящаяся в мозгу моего хозяина, ошибочна?
— Нет, господин, она верна, — подтвердил священник, не зная, как воспринять замечание Посланника: как упрек или одобрение.
Тут он вспомнил день своего «земного» рождения, как о нем рассказывали его родители, жившие в облике скромных торговцев из Мэрилебона. Спустя неделю после того, как его мать родила, — с помощью акушерки, имевшей такое же отношение к землянам, как и его родители, которая объявила соседям, что ребенок родился мертвым, — его отец узнал о приезде в местный приход молодого священника и тут же сообразил, что это идеальное тело для новорожденного зародыша, которого они тайком держали в спальне на чердаке. Он исхитрился заманить священника к себе домой, сказав, что его мать при смерти и нуждается в соборовании. «Что скажешь, дорогая: тело молодое и здоровое, и к тому же он занимает такое место в обществе, которое нам очень пригодится», — сказал он жене, приведя в замешательство священника, пожелавшего узнать, что они имеют в виду. «Ничего важного для вас, святой отец», — ответила жена и предложила ему подняться по лестнице в спальню, где, по ее словам, лежала при смерти ее престарелая свекровь. Но, разумеется, поджидал его там не кто иной, как новорожденный, пока что в своей подлинной форме зародыша, стремившегося обрести тело, в котором ему придется вести свое земное существование. Молодой священник успел лишь поднять брови, увидев столь неожиданное и жуткое явление, и тут же нож по самую рукоятку вонзился ему в спину. Умело использовав кровь, они похоронили его в саду, и спустя какой-нибудь час, немного освоившись в новом теле, новоявленный отец Бреннер занял свое место в церкви, предоставив колонии инопланетян пункт для сбора, но не забывая и о своих обязанностях приходского священника. Последнее было предметом его особой гордости, ибо речь шла о далеко не легкой работе, что он и хотел внушить Посланнику, воспользовавшись тем, что тот снова погрузился в выжидательное молчание.
— Но должен признаться, что в последнее время положение осложнилось, — пояснил он назидательным тоном, наливая гостю новую чашку чаю. — Существует католическое меньшинство, причем довольно значительное, и оно растет в местах проживания ирландских иммигрантов. Но самая главная угроза, с которой мы сталкиваемся, это кризис веры: все труднее становится буквально интерпретировать Библию, книгу, где собраны их верования, поскольку она не обладает исторической точностью.
— В самом деле? — улыбнулся Посланник со скучающим видом и поднес чашку к губам.
— Да. Согласно Библии этот мир существует всего каких-нибудь шесть тысяч лет, что может опровергнуть любой геолог. Но главный удар по самим основам христианской доктрины нанесла теория эволюции, выдвинутая землянином по имени Дарвин, которая лишила сакрального смысла акт творения. — Посланник глядел на него, не говоря ни слова, и только самодовольная улыбка играла на его губах, а потому после секундного колебания священник решил продолжить изложение своих мыслей: — Теологи нашей церкви стремятся выглядеть более восприимчивыми к достижениям науки и даже требуют переосмысления библейских текстов. Но все это бесполезно: ущерб уже нанесен. Неуклонная секуляризация общества — свершившийся факт, и мы должны это принять. С каждым днем возможностей для досуга становится все больше, и они отбирают у нас прихожан. Знаете, что такое велосипед? Даже этот нелепый драндулет превратился в нашего врага. Когда наступает воскресенье, люди предпочитают съездить на природу, а не посещать мои проповеди.
Посланник поставил чашку на блюдечко так, будто она весила целую тонну, и повернул голову к священнику, забавляясь его расстроенным видом.
— Вы воспринимаете это так, словно и в самом деле являетесь священником, — заметил он, делая вид, что удивлен.
— А разве нет? — парировал тот и тут же пожалел о своей дерзости. — Я хочу сказать, что… ну, в общем, я не знаю другого мира, кроме этого, господин. Если бы мой прапрадед родился на этой планете, я бы мог считаться землянином… — Улыбка исчезла с его лица, когда он заметил, как посуровел Посланник. Он постарался подобрать наиболее разумные слова. Когда он вновь заговорил, голос его сделался вдвойне почтительным. — Наверное, вам трудно, господин, представить себе ситуацию, но наше ожидание было ужасным и томительным, нам пришлось смешаться с ними до такой степени, что теперь трудно продолжать оставаться… инопланетянами.
— Инопланетянами… — понимающе ухмыльнулся Посланник.
— Так они именуют нас… — начал было объяснять священник.
— Знаю, — прервал его Посланник раздраженным тоном, словно внезапно его перестали забавлять нелепые перемены в жизни землян, равно как и отношение к ним священника. — И должен сказать вам, что самомнение этой расы не перестает меня удивлять.
Произнеся эти слова, он прикрыл глаза, словно собирался помолиться. Священник понял, что его гость уловил приближение членов колонии, которые начали появляться в церкви.
— Наши братья начинают собираться, — заметил он, хотя в этом не было нужды.
— Да, я различаю возбужденный гул от работы их мозга, святой отец.
— Это не удивительно, — постарался оправдать их священник, который, несмотря на ужасную робость, вызванную поведением Посланника, не мог не выступить на защиту своих братьев. — Слишком долго дожидались мы Посланника. Если быть точными, то начиная с шестнадцатого века по календарю землян, когда наши предки прилетели на Землю.
— И это, по-вашему, долго? — спросил Посланник.
По его тону священник не понял, кроется ли за словами Посланника искренний интерес или угроза, хотя подозревал, что скорее второе. Тем не менее он не мог удержаться и не высказать свои упреки, но постарался, чтобы его голос звучал как можно уважительнее.
— Так получается, господин. Мы принадлежим к пятому поколению, а потому вам нетрудно будет понять, что для нас планета, с которой прибыли наши прапрадеды, это почти легенда. Мой отец умер, прожив на Земле жизнь, лишенную смысла, и та же участь постигла моего деда… Нам же повезло, — поспешил он добавить, — потому что мы сможем осуществить их мечту: познакомиться с Посланником и встретить нашу настоящую расу.
Посланник только ехидно улыбнулся, словно чужие горести и радости его совершенно не волновали. Это привело к тому, что священник утратил все свое благоразумие.
— Мой прапрадед убил землянина, носившего брыжи, и принял его облик! — выпалил он, словно эта деталь одежды, плоеный воротник, которую в прошлом носили люди, как нельзя лучше иллюстрировала их долгое ожидание. — С тех пор мы тайно жили среди них, производя на свет свое потомство, чтобы сохраниться, и присматривая за боевыми машинами, которые наши предки спрятали под землей.
— Отец Бреннер, — заговорил Посланник примирительным тоном, — уверяю вас, что нет необходимости перечислять дальше все ваши злоключения. Я прекрасно сознаю, какую огромную работу проделала земная колония, поскольку именно мне было поручено оценить ряд докладов об условиях жизни на планете, которые вы с такой пунктуальностью направляли нам. И можете не сомневаться в том, — добавил он, зловеще уставившись на священника, — что если бы я остался недоволен вашей работой, то предложил бы Совету уничтожить эту колонию и прислать новых исследователей.
— Да-да, разумеется, — заторопился с ответом священник, испуганный последними словами Посланника. — Периодически, в условленное время мы собираемся в моей церкви и объединяем усилия наших мозгов, чтобы отправить очередное послание в космос. Это наш долг, господин, и мы его выполняем. — Он остановился, прикидывая, своевременно ли и уместно ли добавить кое-что еще, и в конце концов, с сомнением поглаживая чашку и немного нервничая, произнес: — Хотя признаюсь вам, что нас вдохновляла тайная надежда на то, что когда-нибудь мы получим ответ с нашей родной планеты. Но мы так его и не получили. И все же продолжали посылать доклады об этой планете в мир, который хотя и оставался по-прежнему немым, но предположительно продолжал существовать и вылавливал бутылки с посланиями, которые мы пунктуально бросали в океан Вселенной. Вот это и означает верить, вы не находите?
— Но вы же знаете, что в исследователи идут добровольцы. Они принимают свою судьбу как службу на благо расы со всеми вытекающими последствиями, — ответил Посланник. — И они сами должны воспитывать сознательность в своих потомках, дабы в них не накапливалось недовольство, которое я так явственно ощущаю в вас и, однако, готов вас извинить, поскольку, как вы только что сказали, вы принадлежите к пятому поколению.
— Благодарю вас за понимание, — покорно отозвался священник, посчитав, что не следует дальше так рисковать. Кто он такой, в конце концов? Один из волонтеров пятого поколения, то есть никто. Поэтому он заговорил самым униженным тоном, на какой был способен: — Я не хотел, чтобы у вас создалось такое впечатление, уверяю вас, господин. Однако в своих последних посланиях мы информировали также о нашей ситуации. Мы вымираем. Нам стало трудно размножаться, и с каждым разом мы умираем все более молодыми. В воздухе этой планеты содержится что-то губительное для нас, но мы не знаем, что это, ибо не обладаем необходимыми научными знаниями, чтобы выяснить…
— Я могу понять ваше отчаяние, — прервал его Посланник и сделал жест, означавший, что он сыт по горло беседой и намеревается внести окончательную ясность в этот вопрос. — Но вы проявляете огромную наивность, думая, будто драматическая ситуация, сложившаяся в одной колонии, может поколебать положение на нашей планете-матери. Что такое кучка жизней в сравнении с судьбой целой расы? В любом случае вы знаете: наши перемещения обусловлены процессом отбора. Преимущество отдается оптимальным планетам, и Земля никогда не находилась в их числе.
— Значит, дела совсем плохи, если теперь ее считают наилучшим вариантом, — грустно размышлял священник. — Что, уже не осталось ни одной оптимальной планеты, куда могла бы перебраться наша раса?
— Боюсь, что так, — признался Посланник не без горечи. — С каждым разом мы все быстрее расходуем их ресурсы. Наша непрерывная эволюция приводит к тому, что это становится почти неизбежным.
— Но самое главное, что вы прибыли в самый нужный момент, — умиротворяющим тоном подвел итог священник. — И не только для того, чтобы спасти нашу колонию. Земная наука развивается весьма быстро. Еще несколько столетий, и покорить эту планету станет гораздо труднее.
— Не преувеличивайте, святой отец. То, что они называют промышленной революцией, на деле — лишь громкие слова. Судя по тому, что я успел увидеть, мы легко их раздавим, — решительно изрек Посланник. — Но в любом случае я должен был прибыть гораздо раньше, как вы наверняка знаете.
— Да, мы получили ваш сигнал шестьдесят восемь лет назад, — подтвердил священник. — Мне тогда было всего несколько месяцев от роду… Но потом сигнал от вас исчез. Мы так и не узнали, что произошло.
— Дело в том, что мое путешествие оказалось достаточно непростым, — объяснил Посланник. — При входе в земную атмосферу вышел из строя один из двигателей корабля, и мне пришлось совершить вынужденную посадку в Антарктиде. Там я попытался проникнуть на некое судно, чтобы на нем добраться до цивилизации, однако проклятый землянин по имени Рейнольдс разрушил мои планы, и я оказался вмерзшим в лед. Потому-то вы и перестали слышать мой сигнал.
— Да, последнее, что мы услышали, был ваш крик о помощи, — напомнил священник, в глубине души потрясенный известием о том, что какой-то землянин сумел вывести из строя, по крайней мере на несколько десятилетий, самого Посланника.
— То был крик ярости, святой отец, — угрюмо поправил гость. — Некий Рейнольдс пытался договориться со мной… Самонадеянный землянин. Он не знал, что требуется еще несколько тысячелетий, чтобы он мог понять наши мысли. Разве они беседуют со своими тараканами перед тем, как раздавить их? Конечно нет! — внезапно выкрикнул Посланник и ударил кулаком по столу. Затем громко фыркнул и успокоился. — Но забудем об этом прискорбном инциденте. Нашлись другие люди, которые спасли меня и привезли сюда вместе с моим летательным аппаратом. Поэтому мне удалось вернуть вот это.
Он вынул из кармана небольшой цилиндр цвета слоновой кости, положил на стол и мысленно слегка погладил его. Исписанная символами крышка откинулась, открыв взору нечто похожее на маленькие самоцветы голубовато-зеленого цвета.
— Это то, что приводит в действие боевые машины?
Посланник с театральной торжественностью кивнул.
— Стало быть, скоро небеса обрушатся на их головы, — пробормотал священник с оттенком горечи.
— Именно так и случится, святой отец, именно так.
Они взглянули друг на друга, словно два загадочных сфинкса, и в помещении воцарилось неловкое молчание.
— Мне вот что любопытно, святой отец, — наконец произнес Посланник, в котором покорность священника разбудила желание продолжить разговор. — Земляне догадываются о существовании жизни во Вселенной или же это одна из рас, ослепленных собственной мегаломанией?
Священник горько усмехнулся, прежде чем ответить.
— Этот вопрос меня по-настоящему интересовал, учитывая нашу ситуацию. И могу сказать вам, что человек подозревает о существовании других обитаемых с древнейших времен планет, хотя стремление исследовать космос появилось у него, в общем-то, недавно. Еще несколько веков назад люди лишь мечтали об этом, но теперь, с развитием техники, они начинают лелеять эту мечту уже как возможность, что находит отражение в многочисленных книгах о межпланетных путешествиях разных авторов, которые, как вы понимаете, я не мог не прочесть. — Он встал, подошел к полке, заполненной книгами, которые Посланник принял за требники, отобрал несколько экземпляров и разложил их на столе. — Вот одна из первых книг, где повествуется о космических устремлениях человека. Это история создания гигантской пушки — она выстреливает снаряд, внутри которого находятся люди, в сторону Луны.
Посланник взял в руки протянутую ему книгу и без особого интереса осмотрел ее.
— «С Земли на Луну», Жюль Верн, — прочел он.
Священник кивнул и указал на другие книги:
— Как вы можете убедиться, я хочу быть в курсе дела относительно планов землян, и в первую очередь стараюсь понять, какими они видят и воображают нас. Многие из этих романов вас немало бы повеселили, ручаюсь.
— Не сомневаюсь в этом, — со скептическим видом ответил Посланник.
— И возможно, вам будет любопытно узнать, что наше вторжение не застигнет их врасплох, — улыбнулся священник. Затем помолчал, пожевал губами и продолжил: — Да, не исключено, что о нем уже известно. Да-да, похоже, они уже знают об этом.
— Вот как? А почему вы так считаете?
— Возможность вторжения ныне учитывают многие люди благодаря человеку, чье имя должно вам быть знакомо, — сказал священник и протянул гостю еще одну книгу из стопки.
— «Война миров», Герберт Джордж Уэллс, — прочитал Посланник, не понимая, что имеет в виду его собеседник.
— Не узнаете книгу? Ее написал человек, чей облик вы приняли! — объяснил тот.
— Я автор этой книги?
— Автор — человек, в которого вы воплотились, — не замедлил уточнить священник. — Герберт Джордж Уэллс. Очень известный и уважаемый в Англии писатель. Разве в его мозгу не содержится эта информация?
— Должен признаться, мозг этого землянина представляет собой для меня большое… м-м-м… беспокойство, — с некоторым смущением сознался Посланник. — Это нечто достаточно странное, я не сталкивался с подобным во время предыдущих перевоплощений. По правде говоря, я стараюсь не слишком углубляться в его воспоминания, к тому же они не очень меня интересуют, — надменно добавил он.
— Это действительно странно… Хотя я знаю случаи, когда братья оказывались несовместимыми с телом, в которое вселились, и даже были вынуждены поменять свое пристанище, — успокоил гостя священник. — В таком случае вы, конечно, не знаете, что вселились в тело первого землянина, осмелившегося перевернуть укоренившееся общее мнение.
— Что вы хотите сказать?
— Что в его романе, в отличие от книг большинства его коллег-писателей, не земляне прилетают как захватчики в другие миры, непременно населенные примитивными существами, не способными соревноваться с ними в техническом смысле. Нет, в «Войне миров» именно Земля переживает нашествие марсиан, обитателей соседней планеты.
— Марса? — засмеялся Посланник. — Но Марс необитаем.
— Но они этого не знают… пока, — ответил священник. — Их примитивные телескопы обнаружили недавно на его поверхности непонятные полосы, которые назвали каналами. Некоторые астрономы полагают, что марсиане — это вымирающий народ, и он использует каналы для транспортировки воды с полюсов в пустыни экватора.
— Разве они не знают, что средняя температура на этой планете слишком низка и вода там не может не замерзнуть? — поразился Посланник.
Священник только пожал плечами. Его гость покачал головой, то ли от удивления, то ли разочарованно, и принялся листать книгу, которую держал в руках наподобие веера. Спустя несколько секунд он спросил:
— И какими же нас описывает этот Уэллс? Он хоть немного приблизился к пониманию нашей природы?
— Нет, разумеется… — ответил священник и с некоторым смущением добавил: — Он описывает нас как уродливых чудовищ, похожих на одно морское животное, что водится на Земле…
— Но они могут увидеть нас такими, каковы мы в действительности, как вы считаете?
— Сильно сомневаюсь в этом, господин. Боюсь, что наш облик для них непостижим. Мы не животные, не растения, не минералы и даже не сочетание всего этого: нет, мы для них нечто новое… Просто-напросто мы находимся вне параметров их понимания.
— И все-таки каким-то образом они должны нас воспринимать? Ведь мы занимаем некое пространство, производим звуки, имеем запах… — рассуждал Посланник.
Священник пожал плечами.
— Думаю, их мозг, дабы не впасть в безумие, станет сравнивать нас с чем-то, на что мы больше всего похожи, — размышлял он. — И я предполагаю, что нас ждут не слишком приятные сравнения. Наш портрет, скорее всего, будет чудовищным. Они наградят нас когтями, щупальцами, клыками… Получится безобразная смесь всего, чего они боятся. А возможно, каждый из них будет видеть нас по-своему, в зависимости от того, чего он больше всего страшится. Разнообразие страхов, поселяющихся в сердце человека, поистине поразительно: одни боятся пауков, другие рептилий, третьи драконов… Они могут бояться даже овощного пюре, если в детстве нянька заставляла его есть. Так устроен их мозг.
— Возможности неисчерпаемы, — пробормотал Посланник, — хотя всегда чудовищны.
— Конечно. Поэтому наши ученые подготовили нас к тому, чтобы мы могли принимать внешность любого из них, черпая информацию из его крови.
Посланника, похоже, позабавил тот факт, что земляне воспринимают его как нечто самое ужасное, что они только могут себе представить, поскольку ему обитатели этой планеты тоже казались страшными в своей ужасной и самодовольной наглости.
— И им это удается, святой отец? Марсианам удается завоевать Землю в этом романе? — полюбопытствовал он, показывая на книгу Уэллса.
— Да, — ответил священник. — Их техника значительно превосходит земную. Они захватывают Землю в считанные дни.
— Тогда этот самый Уэллс — самый здравомыслящий землянин из всех, кого я до сих пор встречал, — восхитился Посланник. — В том, что я принял его внешность, есть что-то романтическое.
— И это еще не все, господин. Уэллс также угадал, где закопаны наши машины, — сообщил священник. — Можете себе представить, что я почувствовал, когда читал роман и обнаружил, что какой-то землянин правильно указал местоположение большинства из них.
— Однако вы лучше кого бы то ни было должны знать, святой отец, что земляне еще не научились использовать свой мозг с максимальной пользой. Пока у них эффективно действует лишь ничтожная часть мозга, и потому потребуются тысячелетия эволюции для того, чтобы эта раса сравнялась с нами. Только мы им этого, разумеется, не позволим. Но я подозреваю, что это не мешает отдельным человеческим умам, несколько более развитым, абсолютно непроизвольно улавливать часть вселенской энергии, которой мы совершенно естественно пользуемся на протяжении тысячелетий. Умение направлять в нужном направлении энергию космоса стало неотъемлемым свойством нашей расы. Как иначе мы смогли бы сообщаться через бескрайнюю Вселенную или создавать умственные проекции, чтобы принимать тот или иной вид в их глазах? Люди же, разумеется, не владеют этим знанием, хотя, как я уже сказал, возможно, что отдельные человеческие умы способны время от времени принимать утерянные волны нашей энергии непостижимым для них образом.
— Вы хотите сказать, что они могли бы, например, перехватывать наши послания? — удивленно спросил священник.
— Не исключено. Хотя абсолютно неосознанно, причем восприняли бы их как совершенно иной тип информации: предчувствия, навязчивые идеи, собственные мысли… Или в виде случайной добычи, которую они называют вдохновением.
— Кажется, я понимаю, что вы имеете в виду, — сказал священник, уже не скрывая воодушевления, которое всегда его охватывало, когда появлялась возможность поговорить о неких удивительных вещах или особенностях, которые он подмечал в своих любимых землянах. — Весьма любопытно, например, что зачастую одно и то же направление в философии, один и тот же литературный жанр или одна и та же научная идея возникают в разных точках планеты одновременно, причем их авторы и основоположники никогда до этого не общались друг с другом. Чтобы не идти далеко, вспомним Томаса Эдисона, великого американского изобретателя. Он сказал однажды, когда его поздравляли с выдающимися открытиями, что идеи носятся в воздухе, что он брал их из некоего распространяющего их источника, и если бы этого не сделал, то на его месте мог бы оказаться любой другой… Идеи носятся в воздухе… Весьма поэтичное описание космической энергии, не правда ли?
— Пожалуй, хотя наш дорогой Уэллс, похоже, не демонстрирует особой симпатии к этому Эдисону… — заметил Посланник и сосредоточился, став невосприимчивым к энтузиазму священника. — У этого человека, в чьем теле я сейчас обитаю, поистине странный мозг… И слишком любопытный, чтобы принадлежать простому землянину… Очевидно, Уэллс перехватил некоторые из наших сообщений, как и многие другие авторы, которых именуют мечтателями, и так возникла идея романа.
— Вы думаете? Мне не верится, что Уэллс всего лишь простой медиум. Это умный и талантливый человек, который…
— В любом случае, — перебил его Посланник, — не надо быть семи пядей во лбу, чтобы обнаружить, где спрятаны наши машины. Это свидетельствует лишь о том, что Уэллс хороший стратег. Где же еще их спрятать, как не вокруг крупнейшего города планеты, которую мы собираемся покорить?
— Полагаю, вы правы… — покорно согласился священник.
— Однако я надеюсь, что он не догадается, где находится наше убежище, которое, вероятно, уже достроено?
— Конечно, господин, — поспешно ответил священник. — Времени для этого у нас было предостаточно.
— Превосходно, святой отец. Оттуда я буду руководить атакой. А потом, на развалинах, мы заново выстроим Лондон по нашему вкусу, и он станет столицей новой империи. Этот роскошный Лондон будет ждать прибытия нашего Императора.
Отец Бреннер грустно кивнул. Потом немного помолчал и спросил, стараясь не выдать тревоги:
— Вы убили его?
— Кого?
— Уэллса. Вы его убили?
— Нет, я не мог… — ответил Посланник и небрежно махнул рукой. — Я случайно получил его кровь.
— Я очень рад, — с облегчением сказал священник. — Как вы заметили, это один из самых… уникальных умов на Земле.
— Верно, хотя и не в том смысле, в каком вы это воображаете, — загадочно произнес Посланник.
— Что вы имеете в виду?
— Не знаю, как вам это объяснить… — Посланник задумчиво погладил усы. — Есть нечто странное в его мозге. Что-то такое, чего не было у других людей, чей облик я принимал. Как будто его мозг обладает некой дополнительной функцией. Кнопкой, на которую он пока не нажимал. Понятия не имею, для чего она. Однако испытываю неуютное ощущение, которое мешает мне проникнуть в самые дальние закоулки его мозга. Я бы даже рискнул назвать это ощущением угрозы, если бы не знал, что ни один землянин не может представлять для нас опасности.
Священник с любопытством взглянул на него, не зная, что ответить.
— А в общем-то завтра это не будет иметь никакого значения, — наконец заключил он, встал и принялся собирать книги. — Возможно, он погибнет во время вторжения, как большая часть человечества, несмотря на свой таинственный мозг.
Посланник с некоторым сожалением следил за тем, как священник снова расставляет книги на полке. И уважительно улыбнулся ему, когда тот опять занял свое место за столом.
— Советую вам изменить угол зрения, святой отец, — сказал он. — Нами движет инстинкт выживания, целой расой. Не забывайте об этом.
— Я не забываю, — пробормотал священник.
Посланник строго кивнул в ответ.
— Одновременно мы не позволим землянам распространиться по космосу, как опасный вирус, — усмехнулся Посланник.
— Полагаю, точно так же они думали бы про нас, если бы знали о нашем существовании: как о вирусе, скрыто присутствующем в их организме, — сказал отец Бреннер.
— По-моему, вы испытываете чересчур сильную любовь к землянам, — укоряюще посмотрел на него Посланник.
— Это неизбежно, — негромко проговорил священник тоном ребенка, которому после долгой нотации не терпится высказать все, что скопилось у него в душе. — Мы родились и выросли среди них. И несмотря на свою ограниченность, они такие… уникальные. Это моя паства.
— Как я успел заметить, они очень выносливы, — сказал Посланник, оставив без внимания слова священника. — Из них выйдут превосходные рабы. И их мозг полон энергии. Они станут для нас еще полезнее, чем могут себе представить. И не нужно лить по ним слезы, святой отец. Сколько веков осталось до того момента, когда их ресурсы иссякнут и они начнут истреблять друг друга? Три, четыре? Что это в сравнении с возрастом Вселенной?
— Возможно, в такой перспективе это лишь один миг, но в их масштабе это жизни, поколения, история, — упрямо возразил тот.
— Они могли бы спастись только бегством на другую планету, как это делаем мы… — ответил Посланник, стараясь скрыть свое нетерпение. — Думаете, к тому времени их наука достиг нет такого развития, что они смогут выходить в космос? Будь даже так, что, по-вашему, они там найдут? Только жалкие остатки, исчерпанные планеты, миры, выжатые до последней капли. Объедки после пиршества. Другие космические расы поступают точно так же, как мы, вы же это знаете. На самом деле вопрос стоит очень просто: мы или они. И нет никакого бога, который мог бы решить, кто достоин победы.
— Мы или они, — прошептал священник.
— Именно так, святой отец. Мы или они, — подтвердил Посланник и добавил: — Или вы считаете их образцовой цивилизацией, гибель которой станет невосполнимой потерей?
Священник на несколько секунд задумался.
— Нет, — признал он с болью в голосе. — Они ведут между собой войны, совершают жестокости, именем абсурдных идеологий практикуют убийства и выдумывают себе мстительных богов, чтобы так сильно не страдать от одиночества.
— Хорошо, — похвалил его Посланник и встал. — Следовательно, на их месте должны быть мы. Вы прекрасно знаете, что мы в любом случае завоюем Землю.
— Стало быть, устроим им кровавую бойню, — заключил священник, почтительно склонив голову и соединив ладони над макушкой в знак глубокого уважения.
— Нет, святой отец, — возразил Посланник едва ли не сладким голосом и, повернувшись к нему спиной, медленно зашагал к арке, где находился вход в церковь. Потом остановился и снова закрыл глаза, вслушиваясь. Когда он опять заговорил, его голос сделался далеким и слабым, словно его принес ветер. — Не забывайте, что кровавой бойней это будет лишь с их точки зрения. Нелепая земная мораль в космосе не действует. Что знают они о добре и зле?
Священник опустил руки и с унылым видом сложил их на коленях. Что он мог на это возразить? Ничего, был вынужден он признать, абсолютно ничего. Посланник продолжал стоять с закрытыми глазами, вслушиваясь, и вялая улыбка играла на его взятых взаймы губах.
— Все уже собрались, господин, — робко объявил священник. — И с нетерпением ожидают вас.
Посланник кивнул, повернулся к нему и открыл глаза.
— В таком случае не будем заставлять их больше ждать. Они и так уже слишком заждались, не правда ли?
Священник тоже встал из-за стола и повел гостя в церковь. Он сделал жест рукой, пропуская Посланника вперед. Тот поднял голову и, отодвинув занавеску, отделявшую ризницу от церкви, зашагал, стараясь держаться с достоинством, насколько это позволяла его земная оболочка. По помещению пробежал шепот, вырвавшийся из уст сотен людей, что заполнили церковь. На скамьях и в проходах между ними его поджидали мужчины и женщины, весьма различные между собой, но объединенные общей преданностью во взгляде. Посланник медленно поднял руку, приветствуя их, и красноватый свет, проникавший внутрь сквозь витражи, добавил этому жесту торжественности. Затем он церемонно подошел к кафедре, возложил на нее руки и обратился к членам колонии:
— Прежде всего, братья, простите за почти семидесятилетнее опоздание. Нелегко было добираться сюда, но в конце концов мне это удалось. А вам выпало осуществить заветную мечту ваших предков: завтра мы захватим Лондон.
XXV
Вернемся теперь к настоящему Уэллсу, которого мы оставили, когда он крепко обнял мисс Харлоу внутри экипажа с вычурной буквой «Г» на дверце, который мчался навстречу треножнику с безумным намерением проскочить между его ногами. Надеюсь, вы простите меня за то, что я покинул своего героя в столь рискованной ситуации: сочтите это за мое скромное напоминание об уловках романа с продолжением той эпохи, заставлявших читателей приобретать следующую главу, чтобы узнать, чем кончилась та или иная сцена, о чем я немедленно вам расскажу в качестве компенсации за ваше терпение. Итак, чувствуя, как сокращается расстояние, отделявшее его от смертоносной машины, Уэллс ожидал, что всех их вот-вот поразит тепловой луч. Перед этим он еще успел прикинуть, почувствуют ли они боль или же их тела сгорят так стремительно, что им будет некогда разбираться, умирают они либо уже умерли. Смерть, однако, запаздывала со своими ласками. Удивленный писатель открыл глаза и приник к боковому окошку, сознавая, что любое его движение может оказаться последним. И в этот же самый момент увидел, как снаружи мелькнула одна из ног треножника, причем так близко от экипажа, что с корнем вырвала один из фонарей с левой стороны. В следующую секунду сзади раздался оглушительный взрыв, от которого экипаж подскочил и мелко затрясся, а вслед за ним — громкий победный клич Мюррея. Уэллс посмотрел через плечо: луч проделал на шоссе громадную воронку. Он понял, что щупальце сильно запоздало с выстрелом. Скорость, с которой миллионер погнал лошадей, оказалась для машины неожиданностью, и она не успела как следует прицелиться. По мере того как машина уменьшалась в заднем окошке, явно сокращались и ее возможности произвести второй выстрел, поскольку она не могла маневрировать так же быстро, как они. Машина пыталась повернуть посреди дороги, словно неумелый танцор, но, когда это ей удастся, подумал Уэллс, экипаж уже скроется с ее глаз. Он осторожно приподнял голову девушки, продолжавшую покоиться на его груди.
— Нам это удалось, мисс Харлоу, нам это удалось… — бормотал он, прерывисто дыша.
Эмма с испуганным видом глянула в окошко и убедилась в правоте его слов. Они проскочили между ног у машины, которая бросила их преследовать и в данный момент удалялась в направлении Уокинга.
— Как вы там? — послышался голос Мюррея.
— Все в порядке, несчастный безумец! — крикнул Уэллс, не зная, рассердиться ему или дать волю истерическому смеху, так и рвавшемуся из его глотки.
В результате он не сделал ни того, ни другого. А просто откинулся на сиденье и попытался успокоиться. Они были на волосок от смерти, подумал он, но не погибли. Это ли не причина для ликования? По крайней мере, должно быть причиной. Однако Уэллс чувствовал себя слишком измученным и подавленным. Он посмотрел на агента Клейтона, который по-прежнему лежал напротив с безмятежным лицом человека, погрузившегося в сладкий сон.
Несмотря на темноту, они скоро убедились, что путь, которым проследовал треножник, стал ареной беспорядочных разрушений. Превращенные в угли сосновые рощи чередовались с не до конца сгоревшими лесами, которые до сих пор были охвачены дрожащими языками пламени, словно в разных местах одновременно полыхало множество маленьких костров, насыщая воздух смолистым запахом. Вдоль шоссе виднелась череда разрушенных дымящихся домов, среди которых вдруг мелькало совершенно не пострадавшее жилище, по непонятному капризу треножника оставленное целым. Спустя несколько минут довольно однообразная картина всеобщего разорения изменилась, и они поравнялись с сошедшим с рельсов железнодорожным составом, сцепленные вагоны которого, по большей части выпотрошенные и объятые пламенем, напоминали гигантскую змею, притаившуюся в траве. Вокруг поезда виднелись дымящиеся воронки, и им не понадобилось дополнительного света, чтобы понять, что разбросанные вдоль состава предметы — это пассажиры, уничтоженные, когда они пытались бежать. Там и сям из темноты вырастали маленькие костры, словно лоскутки сверкающего платья, которые оставила некая фея, продираясь сквозь колючий кустарник. Вскоре до них начала доноситься далекая канонада. Видно, преследовавший их треножник наткнулся на одну из артиллерийских батарей.
Проехали Чобхэм и снова взяли курс на Лондон, когда в бледных отсветах зари стал проступать окружающий мир. Вдоль этих дорог следов разрушений не было, пока здесь не проходил ни один треножник, с облегчением подумал Уэллс, а это означало, что Лондон все еще цел и невредим. Через какое-то время рядом с Аддлстонской дорогой обозначилась одинокая ферма, и Мюррей предложил сделать там остановку, чтобы дать лошадям отдохнуть, иначе в самый неподходящий момент они могут рухнуть от изнеможения прямо на шоссе. Да и им самим необходимо немного поспать. Все согласились, и миллионер остановил экипаж возле небольшого дома. Они тут же поняли, что ферма покинута хозяевами: под навесом стояли две повозки без лошадей, а у самого входа в дом валялось множество личных вещей и хозяйственной утвари, как то: башмаки, чайные ложки, настенные часы и смятая шляпа, что свидетельствовало о поспешном бегстве. Оставив Эмму охранять такой несвоевременный сон Клейтона, Уэллс и Мюррей вошли внутрь с намерением осмотреть дом. Это было довольно скромное жилище из двух этажей, небогато обставленное, с тремя спальными комнатами на втором этаже. Они проверили все помещения, но никого там не обнаружили, что освобождало их от хлопотной обязанности договариваться с хозяевами о ночлеге и сосуществовать в одном доме с семьей, которая наверняка жаждала бы поделиться с ними слухами о вторжении и собственными страхами, чего Уэллс в его теперешнем состоянии не смог бы вынести. После осмотра фермы они напоили лошадей и перетащили Клейтона в главную спальню — ту, где стояла самая большая кровать. Было решено, что Уэллс ляжет рядом с ним на тот случай, если агент вдруг проснется, а Эмма и Мюррей поделят между собой две другие комнаты. Устроившись, они спустились на кухню, чтобы утолить голод, который уже давал о себе знать. Оказалось, что отсутствие хозяев имеет и свою отрицательную сторону: кладовка была основательно разграблена. Общими усилиями после долгих поисков им удалось найти немного черствого хлеба и остатки заплесневелого сыра, который никто не снизошел попробовать, тем самым как бы не желая признать, что они находятся в отчаянном положении. Пережив это разочарование, они разбрелись по своим комнатам.
Уэллс вошел в предназначенную ему спальню, снова пощупал пульс у Клейтона и, убедившись, что тот по-прежнему жив, плюхнулся рядом с ним. Резкий свет струился из окна, потому что он не сообразил задернуть занавески. В ожидании сна он оглядел немногие вещи, которые пришлось оставить хозяевам фермы: рассохшийся шкаф, убогий комод, усеянное пятнами зеркало, ночник со свечами у изголовья. Все это настолько отличалось от предметов, украшавших его жизнь, что ему было странно, как они могли вселять в кого-то приятное ощущение надежности, какое всегда возникает благодаря окружающим тебя вещам. Уэллс изо всех сил старался занимать как можно меньше места на доставшемся ему уголке матраса, для чего прижал руки к телу, не желая без крайней нужды дотрагиваться до простыней, ибо был убежден, что при прикосновении к ним, равно как и к остальным внезапно осиротевшим вещам, его пальцы ощутят неприятное крапивное жжение. Охваченный внезапной тревогой, он был вынужден признать, что одно дело — представлять себе в целом, почти абстрактно, лишения низших классов, и совсем другое — самому столкнуться с их вопиюще уродливой жизнью, о чем он никогда не упоминал в своих многочисленных статьях, посвященных защите их прав.
Он вгляделся в стоявший на комоде снимок: супружеская пара вместе с двумя ее маленькими детьми, застывшая с выражением недоверия в глазах, словно они до сих пор не исключали участия дьявола в процессе фотографирования. С простоватыми лицами, скромно одетые, супруги держали детей за плечи, будто демонстрировали лучшие плоды из своего сада. Эти несчастные дети могли бы родиться в любом другом месте, но рулетка жизни сделала так, что они появились на свет именно в этой семье, обреченные растратить свою жизнь на то, чтобы обрабатывать те же земли, что и их родители, с чем, впрочем, они примирятся без звука, поскольку в их душах никогда не зажжется огонек желания изменить установившийся порядок вещей. Однако, если присмотреться повнимательнее, подумал Уэллс, это отсутствие стремлений может послужить прекрасным барьером, который защитит их от многих жизненных огорчений, ибо им, к счастью, их не придется испытать. Если бы они удовлетворились тем, что имеют, то не захотели бы переселиться в столицу, где, несомненно, влачили бы еще более жалкое существование, потому что в сельской местности хотя бы воздух чистый и солнышко греет. В городе им пришлось бы ютиться вместе с такими же, как они, в тесной комнатенке на какой-нибудь пропахшей нечистотами улочке в Ист-Энде, где их подкарауливали бы туберкулез, бронхит и тиф, в то время как здоровый и живой цвет лица, привезенный с фермы, постепенно потускнел бы на одной из фабрик, а там в них быстро угасло бы желание существовать на убогое жалованье, позволявшее, в качестве единственного удовольствия, лишь время от времени напиваться в грязной таверне. Уэллс отвел глаза от фотографии, размышляя, какие причины вынудили это семейство покинуть свой дом. Возможно, они были напуганы долетавшими до них слухами и поддались уговорам соседей. Любопытно, как их убогие мозги восприняли известие о том, что враги, атакующие их родину, прилетели из межпланетного пространства, с усеянного звездами неба, которое они всегда считали чем-то декоративным, вроде задника в театре.
Заснул Уэллс с мыслями о Джейн.
Когда он проснулся, агент Клейтон все так же посапывал у него под боком. Уэллс медленно встал, преодолевая боль в онемевших мышцах, и взглянул на свои карманные часы. Он проспал около трех часов, но не ощущал себя отдохнувшим, возможно, из-за того, что ему не приснилось ничего приятного. С другой стороны, естественно, что пережитые недавно события отразились на его сне, превратив его в карусель тревожных образов, которые могло расшифровать лишь подсознание. Он не помнил ни одного из них, хотя знакомое и грустное ощущение падения до сих пор омрачало его душу. Тем не менее он вспомнил, как сквозь лихорадочный сон словно с порывом ветра донесся до него голос агента Клейтона, велевшего ему просыпаться. Потому-то его и удивило, что юноша продолжает мирно спать рядом с ним. Постепенно возвращаясь в состояние бодрствования, писатель наблюдал за ним со смешанным чувством сожаления и досады, задаваясь вопросом, долго ли им еще придется возиться с агентом, и даже обдумал возможность разбудить его принудительно, но в конце концов счел это неблагоразумным. Если агент страдал каким-то заболеванием, приводившим к приступам внезапного сна, не стоило искусственно прерывать их. Уэллс оставил его в покое, пригладил непокорные волосы перед замызганным зеркалом и вышел в коридор, невольно подражая решительной и энергичной походке фермеров.
Двери двух других комнат были распахнуты, и это означало, что его товарищи по несчастью уже проснулись и вышли, а потому писатель спустился по лестнице на первый этаж, но никого не обнаружил и в гостиной. Он отправился на кухню, но и там никого не встретил. В какой-то момент он испугался, что зловредный миллионер каким-то образом сумел уговорить девушку оставить его с Клейтоном здесь. Но страх мгновенно покинул его чувствительную душу, когда он увидел через окно экипаж Мюррея возле поилки для лошадей. Украшенный вычурной буквой «Г» и лишившийся в пути одного из фонарей, экипаж стоял на том же месте, где они поставили его по приезде. Похоже, их спутники были где-то поблизости, если, конечно, не вздумали продолжать путь пешком. Уэллс осудил себя за подобные подозрения: миллионер, безусловно, был подлым и коварным человеком, однако все последнее время он, похоже, был готов забыть об их разногласиях, чтобы в нужных случаях они могли прикрывать друг друга. Теперь, хочешь не хочешь, они были единой командой. Писатель вышел из дома и окунулся в жаркое утро. Все вокруг выглядело таким же спокойным, как в любой другой день, и лишь канонада, глухо доносившаяся с юго-востока, свидетельствовала, что где-то британская артиллерия вступила в бой с треножником. В противоположной стороне он разглядел косичку плотного дыма, взвивавшегося ввысь из-за далеких холмов, за которыми скрывался Эпсом. Сколько же треножников может быть сосредоточено вокруг Лондона? Клейтон говорил ему, что помимо хорселлского цилиндра были обнаружены и другие на поле для гольфа в Байфлите и неподалеку от Севеноукса, но если речь идет о настоящем вторжении, то их наверняка больше.
В эту минуту он услышал голоса своих спутников, доносившиеся из-под навеса, что находился в нескольких метрах от дома. Уэллс направился туда. Им следовало продолжить путь к Лондону как можно скорее, так как, если его подозрения верны, то треножники занимают позиции, чтобы строем начать наступление на Лондон, как только им удастся избавиться от маленькой неприятности в виде рассеянных по всей зоне британских батарей. И к тому времени, как это произойдет, подумал писатель, хорошо бы максимально воспользоваться своим преимуществом. В противном случае Лондон станет для них поистине труднодостижимой целью, так как придется пробираться сквозь вражеские позиции.
— Это труднее, чем я полагала! — услышал он по пути к навесу отчаявшийся голос Эммы.
— Думаю, все дело в ритме, мисс Харлоу, — спокойно отвечал Мюррей. — Попробуйте делать более короткие и энергичные движения.
Уэллс остановился как вкопанный, пораженный этим диалогом и более всего советом миллионера. «Чего он добивался подобными инструкциями?» — думал он, а воображение рисовало ему столь же красноречивые, сколь непристойные образы.
— Вы уверены? — спросила Эмма. — Я не причиню боли?
— Такие нежные ручки, как у вас, не способны причинить даже малейшую боль, — последовал льстивый ответ миллионера.
— Хорошо, попробую сделать так, как вы говорите… — капризным тоном произнесла девушка.
Несколько секунд под навесом царило молчание, во время которого заинтригованный Уэллс не двигался с места, выжидая.
— Ну как? — снова раздался голос Мюррея.
— Так тоже ничего не получается, — немного разочарованно откликнулась девушка.
— Видимо, вы делаете это чересчур резко, — осмелился покритиковать ее Мюррей.
— Вот как? — рассердилась Эмма. — Тогда почему бы вам не заняться этим самому, вместо того чтобы командовать мною?
— Я вовсе не собирался командовать вами, мисс Харлоу, я хотел лишь предложить, чтобы… — попытался оправдаться Мюррей, оставив фразу неоконченной, словно последние слова застряли у него в глотке.
За этим снова последовало молчание. И Уэллс не знал, идти ему дальше или обождать. Не может быть, чтобы они там…
— Наверное, следовало бы посоветоваться с мистером Уэллсом, — предложила Эмма. — Возможно, у него в этом деле более богатый опыт, чем у нас.
Услышав свое имя, Уэллс внезапно покраснел. Она хотела посоветоваться с ним? Посоветоваться с ним!
— Очень сомневаюсь, мисс Харлоу, — поспешил ответить Мюррей.
Уэллса сильно задело то, что миллионер был так уверен в отсутствии у него опыта, правда, непонятно в чем.
— Почему бы вам не попробовать взяться рукой повыше? — услышал он.
— Все, хватит! — гневно воскликнула Эмма. — Делайте все сами!
— Хорошо, хорошо, — пытался успокоить ее Мюррей. — Вы только не обижайтесь, мисс Харлоу, но я предложил это, полагая, что вам нравится пробовать что-то новое…
Затем опять наступило молчание, на сей раз более продолжительное, и Уэллс, сочтя, что нелепо и дальше торчать посреди дороги, как столб, решил в открытую направиться к навесу. Он добрался до двери и бросил осторожный взгляд внутрь, боясь увидеть что-нибудь такое, что останется у него в памяти на всю жизнь. Однако сцена, происходившая под навесом, заставила его вздохнуть с облегчением. Ее участники находились спиной к двери, а потому не заметили его появления. Мюррей сидел на табурете для дойки, слегка наклонившись вперед, и своими ручищами перебирал соски огромной коровы, которая терпела это с явным неудовольствием, в то время как девушка стояла рядом, сложив на груди руки, и, похоже, весьма критически взирала на его жалкие попытки получить от животного хотя бы каплю молока.
— Ну как, мистер Мюррей? — насмешливо спрашивала она. — Есть успехи? Не попробовать ли вам делать более короткие и энергичные движения?
Уэллс не удержался от улыбки при виде этой забавной сцены, но решил не прерывать ее. Он ограничился тем, что тихо встал за дверью, наблюдая за неуклюжими попытками миллионера выглядеть в глазах любимой девушки многоопытным даже в самых неожиданных сторонах жизни.
— Коровы — щедрые животные, мисс Харлоу, — с важным видом поучал Мюррей. — К примеру, этот экземпляр только и мечтает, как бы утолить нашу жажду своим молочком, и тут в дело вступает сноровка человека, который должен обращаться с его выменем почтительно и осторожно, как это делаю я, и тогда…
В этот момент миллионер, видимо, слишком сильно, чтобы не сказать непристойно сильно, надавил на вымя, потому что корова так резко дернулась, что сбросила Мюррея с табуретки. И тут Эмма засмеялась таким волшебным смехом, какого Уэллс никогда не слыхивал. Это был смех, который он не преминул сравнить с мелодичным журчанием горного ручья, со звуками задорной флейты, медленно тающими в воздухе, с нежным позвякиванием на ласковом ветру связки серебряных колокольчиков и вообще с любыми другими мелодичными напевами, что способны производить природа или человеческая изобретательность. И такое впечатление возникло не только у него, поскольку с пола ритмичным раскатам смеха восхищенно внимал Мюррей. На его лице застыла восторженная улыбка святого, увидевшего чудо в своей келье.
— Ладно, теперь вы обнаружили то, что удается мне так же плохо, как воспроизведение марсианского вторжения… — пробормотал миллионер, сконфуженно поднимаясь на ноги.
Эмма опять залилась смехом. Засмеялся и Мюррей, и на какое-то время, показавшееся Уэллсу волшебным, оба, похоже, забыли, что только недавно чудом избежали смерти, и, вероятно, ощущали себя бессмертными благодаря неожиданно захлестнувшему их счастью. Прежде чем кто-то из них успел обернуться, писатель беззвучно отошел от двери и отправился в обратный путь. Это время принадлежало только им двоим, и ему не хотелось бы, чтобы они обнаружили, что он шпионит за ними. Возвращаясь в дом, он слышал их смех и завидовал миллионеру, так как знал, что лучший способ завоевать сердце девушки — рассмешить ее. Куда более эффективный, нежели инсценировать вторжение марсиан. Любой это знает.
Зайдя в кухню, он стал терпеливо дожидаться их возвращения и лишь время от времени поглядывал через окошко на дверь навеса. Как только они появятся, он сразу же выйдет из дома, сделав вид, что только сейчас отправился на их поиски, и в конце концов они смогут продолжить свой путь в Лондон. Он надеялся, что за их дружным смехом не последуют проникновенные взгляды, обычно предшествующие поцелуям, так как не знал, достанет ли у него терпения сохранять спокойствие, пока его спутники будут разыгрывать любовную интерлюдию под навесом, в то время как Джейн ждет не дождется его в Лондоне. Он прислонился к кухонному столу, засунул руки в карманы и, уставившись в окно, стал ждать.
Внезапно, к своему изумлению, он увидел, что к навесу направляются двое незнакомых мужчин. Оба были бедно одеты и приближались к месту, где находились его товарищи, так же осторожно, как и он несколькими минутами раньше, хотя явно с куда более недобрыми намерениями, ибо тот и другой сжимали в кулаках что-то похожее на лезвия. После некоторых колебаний, оценив ситуацию, Уэллс выпрямился и нерешительно сделал несколько шагов по кухне. Может, вернулись хозяева фермы, подумал он, но тут же отбросил это предположение, поскольку незнакомцы были одеты не как фермеры, а как городские жители из низов. Это могли быть только грабители, представители того сорта людишек, что используют любое нарушение привычного порядка вещей в стране, чтобы извлечь для себя выгоду. Они явно собираются застать врасплох его товарищей, не подозревая, что он тоже за ними наблюдает. Это давало ему нужное преимущество, которое любой более решительный и смелый человек, чем он, постарался бы использовать. Но, увы, Уэллс не принадлежал к таким людям. Сердце сразу забилось у него в бешеном ритме, а внутреннее напряжение достигло таких пределов, что он вдруг ни с того ни с сего вышел из дома, совершенно не таясь, более того, шумно, с намерением громко закричать, чтобы предупредить Эмму и Мюррея, но главное — чтобы освободиться от ответственности, которую накладывала на него ситуация, ибо ее разрешение зависело уже не только от него. Тем не менее писатель так и не издал ни звука, ни громкого, ни тихого, потому что, когда он уже открыл рот, чтобы сделать это, что-то холодное и острое вдруг уперлось ему в шею.
— Спокойно, дружище, — раздался чей-то тягучий голос возле его уха. — Ты же не хочешь оставить своих приятелей без сюрприза.
XXVI
Их было не двое, а трое, с горечью констатировал Уэллс, пока его пинками заталкивали в дом, словно отбившуюся от стада овцу. Двое мужчин, захватившие его товарищей под навесом, — один из них вышел оттуда, обхватив рукой нежную шею девушки, в то время как другой презрительно толкал перед собой миллионера, — сразу показались ему смутно знакомыми, но он не догадывался, кто они, до тех пор пока пленивший его тип не завел писателя в угол гостиной и Уэллс смог увидеть его лицо: грубое, бородатое, на котором выделялись узкие, как прорезь в копилке, глаза, полыхавшие первобытной, животной яростью. Но окончательно признать его помогла самодельная повязка на левой ноге — грязная тряпка, покрытая красноватыми и бурыми пятнами. После того как один из сообщников, обезьяньего вида тип с резкими движениями, передал хромому пистолет, отобранный у Мюррея, тот обвел пленников недобрым взглядом. В течение нескольких секунд он молчал, давая им возможность прочувствовать ситуацию и понять, как все изменилось с момента их встречи на станции и стычки, оставившей ему незабываемое воспоминание в виде пули в левой ноге. Затем он грозно улыбнулся, довольный, что судьба предоставила им возможность посмеяться над теми, кому они обычно прислуживали. Уэллс искоса взглянул на Мюррея, который стоял со стиснутыми зубами и досадливо кривил губы, словно его беспокоила не столько возможность умереть, сколько то, что у этих мужланов может оказаться больше власти, чем у него. Однако по его позе было нетрудно догадаться, что его куда больше занимает судьба Эммы, чем собственная: он придвинулся к девушке, насколько это было возможно, словно готовился в случае малейшей опасности встать перед ней и заслонить ее своей медвежьей тушей.
— Так-так… — заговорил наконец хромой. — Какой приятный сюрприз, не правда ли? Для путешественника нет ничего лучше, чем встретиться со старыми друзьями и приятно провести с ними время. Вы согласны, парни?
Его сообщники с готовностью загоготали и усердствовали до тех пор, пока их гогот не перешел в ослиный рев. Мюррей незаметно сделал шаг в сторону Эммы.
— Да, жизнь таит сюрпризы за каждым поворотом, — продолжал философствовать хромой. — Разве я не говорил вам, парни? Если пойдем по шоссе в сторону Чобхэма, то в конце концов догоним наших добрых друзей. Так оно и вышло. Правда, мы могли бы пройти мимо, если бы не увидели экипаж с большой буквой «Г», а это было бы чрезвычайно жалко, верно ведь? — обратился он к своим сообщникам, скорчив жалобную гримасу, что вызвало новый взрыв хохота. — Но нет, наши друзья оказались настолько деликатны, что оставили экипаж на виду, и это доказывает, что они тоже хотели снова с нами повидаться. Разве не так, барышня? Ведь вы хотели меня снова увидеть? Ясное дело! Все женщины, которых судьба сводит с добрым малым по имени Рой Боуэн, хотят от него продолжения. Ни одной никогда не бывает достаточно. А старому Рою не хочется разочаровывать даму. Не хочется, и все тут. Хотя должен предупредить вас, что ваши манеры оставляют желать лучшего. И если хотите, чтобы старый Рой доставил вам удовольствие, то должны сперва научиться хорошим манерам.
Последние слова он произнес, пристально глядя на девушку, которая дрожала как осиновый лист, возможно, жалея, что щеголяла своей отвагой и без особой нужды прострелила ему ногу. Теперь ее хвастовство выйдет им всем боком, подумал Уэллс, который, несмотря на страх, с любопытством антрополога наблюдал за этим субъектом с примитивной душой: желание отомстить за уязвленную гордость заставило его преследовать их, невзирая на то, что вокруг рушился весь мир. Не беспокоило это, по-видимому, и его сообщников, типа с обезьяньей физиономией и того, кто помогал ему удерживать экипаж на вокзале, рыжего малого, демонстрировавшего, когда он улыбался, целый частокол почерневших зубов, словно перед этим объелся шелковицей.
— Попробуем найти выход из этой неприятной ситуации, — продолжал хромой, не сводя глаз с Эммы. — Я толкнул вас в грязь, а вы в ответ прострелили мне ногу. Чем же я теперь вам отвечу, мисс? — Он обвел нарочито откровенным взглядом фигуру девушки. — Гм… кажется, я знаю. И убежден, что любой из ваших друзей легко догадается, что мне пришло в голову, ибо мы, мужчины, понимаем друг друга без слов, не так ли, джентльмены? — Он одарил Мюррея и Уэллса ехидной улыбкой и вновь повернулся к девушке, вонзив в нее хищный взгляд. — Если она добровольно поднимется со мной наверх и не станет сопротивляться, обещаю, что вас обоих будет ожидать недурная участь.
— Если ты тронешь хоть волосок на ее голове, я тебя прикончу, — ледяным голосом перебил его Мюррей.
По его тону Уэллс понял, что миллионер не шутит. Он действительно так поступит. Вот только в сложившейся ситуации у него, к сожалению, было немного шансов выполнить свою угрозу.
— Ха-ха… — гнусно засмеялся хромой. — Говоришь, прикончишь меня? Боюсь, что ты хорошенько не понял, как обстоят дела, толстяк. У кого теперь пистолет?
— Это совершенно не важно, Рой, — невозмутимо ответил Мюррей, неожиданно назвав хромого по имени, чтобы дать ему понять, что он, Мюррей, не испытывает по отношению к нему ни уважения, ни страха. — Давай, убей меня, а потом я убью тебя.
— Вот как? И как же ты это сделаешь? Ты что, умеешь на лету останавливать пули? — Сказав это, хромой обратился к своим сообщникам, ища их поддержки. Те снова принялись хохотать. — Похоже, рядом с нами истинный герой, ребятки. — Хромой повернулся к Мюррею и на сей раз поглядел на него с некоторой симпатией. — Значит, ты убьешь меня, если хотя бы волосок упадет с головы барышни, так, что ли?
— Ты все правильно понял, Рой, — сказал миллионер таким тоном, каким обращаются к несмышленому ребенку.
— Стало быть, очень скоро все выяснится, — процедил сквозь зубы хромой, — потому что я собираюсь еще много чего сделать.
Он умолк, глядя на Мюррея со злобой, к которой примешивалось любопытство. Тот бесстрастно выдержал его взгляд, и тогда хромой презрительно ухмыльнулся, сделав вид, что эта дуэль кажется ему глупой или скучной. Он обвел глазами комнату, а затем стал вновь по очереди рассматривать пленников с недовольной миной, словно сержант, устроивший смотр своим солдатам. Внезапно его взгляд медленно пополз вниз, и он нахмурил брови, как будто что-то подсчитывая.
— Постой-ка, — сказал он, — а где еще один тип?
— Под навесом больше никого не было, Рой, — поспешил ответить его сообщник с обезьяньей физиономией. — Только эти голубки.
Хромой медленно покачал головой, словно не был удовлетворен ответом.
— Эти тащили пьяного, вы что, не помните? Поищи его наверху, Джосс, — приказал он рыжему, указав кивком на потолок.
Словно послушный пес, здоровяк, которого хромой назвал Джоссом, направился к лестнице. У Уэллса забилось сердце, когда он увидел, как тот медленно поднимается по ступеням, тщетно стараясь, чтобы они не скрипели под его внушительным весом, и крепко сжимая в руке на уровне поясницы заточенное шило, готовый воткнуть его в живот любому пьянице, который осмелится на него напасть. Наконец он добрался до самого верха и тут же, бесшумно ступая, скрылся в коридоре. Задрав головы, все с нетерпением ожидали отчета рыжего. Но прошло несколько минут, прежде чем они вновь увидели Джосса, спускающегося по ступенькам самоуверенной рысцой.
— Там никого нет, Рой.
Хромой был явно озадачен, точно так же как и Уэллс. Клейтон проснулся? Да, проснулся и, похоже, даже успел где-то затаиться. Значит, еще не все потеряно. Специальный агент Скотленд-Ярда, чтобы наверняка действовать в подобных ситуациях, прятался на втором этаже, вероятно, разрабатывая план их освобождения. Уэллс постарался не показывать охватившую его радость, а тем временем хромой недоверчиво допрашивал рыжего:
— Ты уверен, Джосс? Ты все комнаты проверил?
— Да, и там никого нет, — заверил тот.
Хромой задумался, недоверчиво покачивая головой. Внезапно он повернулся к Мюррею.
— Где еще один тип? — осведомился он.
— С ним была одна морока, — с невозмутимым видом отвечал миллионер. — Он то и дело напивался, и в конце концов мы решили оставить его в кювете. Наверняка он еще не проспался.
Несколько секунд хромой подозрительно вглядывался в лицо Мюррея. Через какое-то время, длившееся, как показалось Уэллсу, бесконечно, хромой рассмеялся.
— Не слишком-то вы церемонитесь со своими друзьями… — заметил он. — А еще воспитанные люди. Но хватит болтать. На чем мы остановились? Ах да: у нас с барышней одно неулаженное дельце. Что-то связанное с местью, если не ошибаюсь.
Не отводя от пленников злобного взгляда, он жестом аристократа, вручающего свои перчатки мажордому, передал пистолет типу с обезьяньим лицом.
— Будь так добр, Майк, — произнес он заискивающим тоном, — посторожи ее спутников, пока мы с дамой побудем наверху.
Майк кивнул с серьезностью ребенка, который больше всего на свете жаждет отцовской похвалы, и, зажав в руке оружие, враждебно взглянул на пленников. Хромой же без лишних слов сделал шаг к Эмме, которая задрожала и побледнела, и с шутовским поклоном протянул ей руку.
— Прошу вас, мисс, не будете ли вы так любезны потанцевать со мной наедине в моих покоях?
Не успел он закончить фразу, как Мюррей сделал попытку встать между ними, но не сводивший с него глаз Майк остановил его, приставив ему пистолет к виску.
— Спокойно, толстяк, — приказал он хриплым голосом. — Не заставляй меня попусту тратить на тебя пулю.
Миллионер смерил его взглядом, но в конце концов повиновался и вернулся на прежнее место, понимая, что мертвым не сможет помочь Эмме. Хромой довольно ухмыльнулся, решив, что Мюррей смалодушничал, и грубо дернул перепуганную девушку к себе.
— Превосходно, вот это мне нравится, джентльмены, — похвалил он, угрожающе держа шило в нескольких сантиметрах от горла девушки. Затем обратился к Мюррею: — Предпочитаешь, чтобы я оставил дверь открытой, толстяк, дабы ты смог услышать, как она стонет от наслаждения?
Мюррей ничего не ответил. И лишь посмотрел на хромого с удивительным спокойствием, но от Уэллса не укрылась холодная решимость его взгляда. Это был взгляд человека, понявшего, что смысл его жизни изменился, и уже не важно, ни чем он занимался до сих пор, ни что собирался делать в будущем, потому что сейчас его единственным предназначением была месть. И он понял, что, как и пообещал, миллионер убьет хромого, что если даже в ходе всей этой заварухи Мюррей будет убит или погибнет случайно, он все равно вернется с того света, чтобы прикончить его, поскольку ярость, охватившая его душу, станет мостом между двумя мирами и позволит ему вернуться.
В этот момент через окно, расположенное рядом с лестницей, Уэллс заметил темный силуэт, который поднялся во весь рост и тут же пропал из виду. Это мог быть только Клейтон. К счастью, никто из злоумышленников его не увидел, поскольку они стояли спиной к окну, а потому агент мог по-прежнему рассчитывать на фактор неожиданности. Уэллс искоса глянул на Мюррея, желая понять, заметил ли тот Клейтона, но миллионер не сводил глаз с хромого, тащившего перепуганную девушку наверх. Когда они скрылись на втором этаже, Мюррей печально прикрыл глаза, словно собирался молиться, готовясь услышать, как его любимая женщина кричит от боли и ярости, опозоренная носильщиком с вокзала, который вследствие превратностей судьбы превратился в человека, способного нанести ему самый большой ущерб в его жизни.
— Так-так, не делайте грустные лица, джентльмены, — издевательски сказал Майк, притворяясь, будто хочет разрядить обстановку. — Чем бы мы могли заняться, чтобы немножко развлечься и забыть о том, что происходит наверху?
— Мы можем заставить их поплясать, Майк, — предложил рыжий, обнажив в улыбке свои гнилые зубы. — Сам знаешь как: постреляв по ногам.
Майк презрительно поморщился.
— Сколько, по-твоему, зарядов в револьвере, Джосс?
— Не знаю, Майк.
— Шесть, всего шесть чертовых пуль. Хочешь, чтобы мы вот так зазря их потратили?
Шесть пуль. До сих пор Уэллсу не приходило в голову, что револьвер может оказаться без зарядов, но, сделав быстрый подсчет, он убедился, что пока этого не произошло: в стычке на вокзале было произведено три выстрела, два в воздух и один в ногу носильщика, так что, к сожалению, оставалось еще три пули — достаточно, чтобы их прикончить. В это мгновение из кухни донесся какой-то шум. Уэллс подумал, что это, должно быть, Клейтон проник туда через окно и теперь привлекает внимание злоумышленников, что входит в его план освобождения пленников. Вернее, ему хотелось так думать, и потому он изгнал из головы образ неуклюжего агента, некстати споткнувшегося обо что-то. Злоумышленники посмотрели в направлении кухни, то же самое сделал Уэллс, инстинктивно напрягший мышцы, готовясь действовать, если это понадобится. И только Мюррей остался безразличен к происходящему и по-прежнему не сводил глаз с верхней части лестницы.
— Что это было? — проговорил Майк, продолжая держать пленников под прицелом. — Сходи посмотри, Джосс.
— Почему я? — возмутился рыжий.
— Потому что я должен оставаться здесь и караулить этих двух болванов!
Джосс открыл было свою пасть, чтобы возразить, но, наткнувшись на суровый взгляд напарника, передумал. Недовольно вздохнув, он взял на изготовку шило и стал подкрадываться к двери кухни. Добравшись до нее, он заглянул внутрь и внимательно осмотрел помещение, но, похоже, не обнаружил ничего подозрительного. В конце концов он проскользнул туда. Уэллс подумал, что агенту Клейтону нелегко придется в схватке со столь жилистым соперником, который хотя и не блистал умом, но, по-видимому, имел немалый опыт уличных драк. Прошло несколько минут, но все было тихо. Майк, который не отличался особым терпением, уже готовился окликнуть напарника, как вдруг послышались новые звуки: глухая мелодия ударов, тяжелое дыхание, стук кастрюль об пол, и не нужно было быть особо проницательным, чтобы понять, что на кухне шла драка.
— Джосс, что там, к дьяволу, творится? — захотел узнать Майк.
Не получив ответа, тип с обезьяньей физиономией, не переставая целиться в пленников, начал медленно двигаться к кухне спиной с намерением понять, что же происходит там внутри. Уэллс проглотил слюну и сжался как пружина. Этот самый Майк был примерно одинакового с ним телосложения, вследствие чего у него появлялся некоторый шанс вырвать у соперника оружие, напав на него внезапно и действуя быстро. Не успев подумать это, он понял всю абсурдность подобной мысли, поскольку не имел никакого опыта драк. Но скорее всего, Клейтону понадобится помощь, пусть даже небольшая, и совершенно очевидно, что миллионер, продолжавший безмолвно созерцать верх лестницы, не в состоянии ее оказать. Если существует какая-то возможность изменить ситуацию, то наверняка потребуется его вмешательство, и потому писатель глубоко вздохнул и незаметно повернулся в сторону Майка, словно бегун на старте. В этот миг из глубины кухни показались два сцепившихся тела, они с грохотом упали на пол и прокатились по нему несколько метров, чтобы остановиться у самых ног Майка. Уэллс узнал агента Клейтона, который в этот момент поднимался на ноги, позволяя увидеть мясницкий нож, вогнанный по самую рукоятку в грудь его противника. Но он тут же понял, что агент не успеет встать, чтобы схватиться с Майком, потому что тот, не потеряв головы, уже наводил на него пистолет. Множество мыслей промелькнуло в голове у Уэллса: он подумал, что у него не будет лучшего случая наброситься на Майка, чем сейчас, когда тот переключил свое внимание на Клейтона; он подумал, что если преступник убьет агента, ему придется покончить и с остальными пленниками как с невольными свидетелями, а главное, он подумал, что хотя не имеет опыта уличных потасовок, тем не менее играл в футбол, когда преподавал в Рексхэме, а потому знал, как сбить с ног соперника. Он сжал кулаки и бросился к Майку в тот самый момент, когда тот выстрелил в Клейтона. Пуля отбросила агента назад, он повалился навзничь, и его голова с глухим звуком ударилась о пол. Однако, как и рассчитывал писатель, у Майка не было времени оглянуться и выстрелить в него. Уэллс прыгнул на него, прежде чем он успел опомниться, и, использовав энергию прыжка, прижал его к стене. Удар заставил Майка выронить пистолет, который покатился по полу. Оба смотрели, как он медленно скользит по доскам и останавливается посреди комнаты, слишком далеко от них, но не от миллионера, который с некоторым любопытством взглянул на него, словно пробуждаясь от глубокого сна. Чувствуя, как Майк изо всех сил извивается под его весом и пытается сцепить руки у него на шее, Уэллс успел увидеть, что Мюррей вновь обрел способность двигаться и медленно направился к пистолету. Он поднял его с пола с непонимающим видом, затем взглянул на лестницу и, поколебавшись секунду, начал взбегать по ступенькам. Его лицо исказила гримаса роковой решимости.
— Гиллиам, помоги мне! — крикнул Уэллс, из последних сил не давая Майку себя задушить.
Но Мюррей уже исчез наверху, и от его тяжелой поступи содрогался весь дом. Он спешил туда, где развертывалась сцена, зрителем которой он бы не хотел оказаться. Он знал, что увиденное разрушит его изнутри, навсегда отпечатается в его мозгу, что его сердце сгниет, как гниют со временем упавшие с дерева фрукты. Несмотря на это, он продолжал бежать к Эмме, метр за метром преодолевая длинный коридор, чтобы остановить то, что могло быть остановлено только физически, то, что уже и так омрачило душу женщины, которую он любил, то, что не должно было произойти никогда, но тем не менее происходило. И он все бежал и бежал, потому что, помимо всего прочего, должен был исполнить обещание. Он должен был убить хромого. Он влетел в комнату, тяжело дыша, его глаза горели ненавистью и бессилием. Но увидел там совсем не то, что ожидал. Хромой корчился на полу, держась руками за пах, и с искаженным от боли лицом громко подвывал. В другом углу комнаты находилась Эмма, свирепо сжимавшая в руке шило, которое ей удалось вырвать у хромого. Воротник ее платья был разорван. Увидев Мюррея, она вздохнула с облегчением.
— Здравствуйте, мистер Мюррей, — приветствовала она его чуть ли не веселым голосом. — Как вы можете видеть, здесь все под контролем. Он успел лишь немного порвать мне платье. Нет ничего лучше, чем изобразить, будто ты дрожишь от страха, чтобы мужчины поверили в себя.
Мюррей недоверчиво глядел на нее, радуясь, что нашел ее поистине целой и невредимой. Того, что он себе воображал, не произошло, и теперь он стоял перед женщиной, у которой был всего-навсего разорван воротник, что могло бы произойти и в других обстоятельствах, например, она могла зацепиться за ветку. Перед женщиной, которая желала жить, а не умирать. Перед женщиной спокойной и неукротимой, которая улыбалась ему, и лишь на ее губах запеклось немного крови.
— А что это за кровь? — ласково спросил он.
— Ах, это… — небрежно сказала Эмма. — Он успел залепить мне затрещину, прежде чем удалось…
Мюррей повернулся к хромому, который перестал выть и, съежившись в углу комнаты, смотрел на них перепуганными глазами.
— Ты ударил ее, Рой? — осведомился Мюррей.
— Что вы, мистер, я ее не бил, конечно же не бил… — поспешил ответить хромой.
Мюррей брезгливо поморщился.
— Ты же не станешь обвинять во лжи даму, верно, Рой?
Хромой молчал, прикидывая про себя, что ему выгоднее: продолжать лгать или признать правду. В конце концов он пожал плечами, давая понять, что у него нет ни желания, ни сил выносить этот допрос, в ходе которого он все равно окажется проигравшей стороной.
— Значит, ты ударил девушку… — проговорил миллионер, наводя на него пистолет. Хромой в тревоге вскинул голову.
— Что вы делаете? — воскликнул он, сразу побледнев как полотно. — Вы же не выстрелите в безоружного человека, правда?
— В других обстоятельствах я бы никогда так не проступил, Рой, уверяю тебя, — ответил миллионер спокойным голосом, даже с оттенком немного театрального смирения. — Но я дал тебе слово, помнишь? Я сказал, что убью тебя, если хоть один волосок упадет с головы девушки. А мое слово — это слово джентльмена.
Эмма отвернулась, когда прозвучал выстрел. А когда снова взглянула, хромой валялся на полу с дыркой во лбу, показавшейся ей чересчур маленькой, из которой начала вытекать кровь.
— Сожалею, мисс Харлоу, — смущенно извинился Мюррей, — но я не смог бы жить на одной земле с тем, кто вас ударил.
Эмма прикусила нижнюю губу и, пока рассматривала распростертое на полу тело, ощутила во рту металлический и солоноватый привкус собственной крови. Обычно она могла четко оценить любую ситуацию, потому что ясно представляла себе, что правильно, а что нет, и, когда нужно было определить тот или иной поступок или человека, ее мнение не вызывало возражений. Как все вы уже знаете, она считала, что устройство мира оставляет желать лучшего, но по крайней мере этот мир, предсказуемый и унылый, было легко понять. Теперь же все изменилось. Похоже, мир освободился от былой логики и стал не тем, чем казался, а потому она не знала, что думать об убийствах из мести, о любви с первого взгляда и тем более — об этом великане, которого еще несколько дней назад она презирала, но сейчас уже не ощущала в себе этого чувства. Однако, к ее удивлению, и беспорядок, и анархический вихрь, разметавший ее принципы и верования, не производили сугубо неприятного ощущения. Скорее это можно было назвать… освобождением. Мюррей наклонил голову, делая вид, будто внимательно рассматривает пистолет, но его косой взгляд, следивший за реакцией Эммы, был настолько бесхитростен, что девушка почувствовала, как гнев и тоска, только что безраздельно царившие в ее душе, постепенно рассеиваются и робкая улыбка появляется на ее губах, словно маленький зверек, высунувшийся из своей норки после бушевавшей всю ночь грозы.
— Должна признать, что ваша манера ухаживать за дамой в высшей степени оригинальна, мистер Мюррей. Но я вам уже говорила: меня нелегко в себя влюбить, — сказала она весело. — Вам придется еще постараться.
Мюррей заулыбался, радость разлилась по всему его телу, словно животворный бальзам.
— То, что вы позволяете мне еще раз попытаться, большая честь для меня, мисс Харлоу, — поблагодарил он.
— Думаю, вы уже можете называть меня Эммой и, по крайней мере, не бояться, что вам придется выносить мой очередной приступ раздражения.
— О, ваше раздражение… то есть я хочу сказать, твое раздражение, Эмма, мне никогда не мешало…
— А как там остальные? — перебила его Эмма, встревоженная доносившимся с нижнего этажа шумом борьбы.
— Остальные? — пробормотал Мюррей, словно не понимал, о чем идет речь, но тут же встрепенулся: — Черт побери, Уэллс!
Он торопливо повел девушку вниз, где Уэллс, лежа на полу, из последних сил сопротивляется одному из злоумышленников. Правда, Мюррей сразу же понял, что равенство сил и обоюдная усталость превратили схватку скорее в детскую драку: тот, кого звали Майком, без особого успеха пытался задушить писателя, а Уэллс защищался как мог, нанося противнику беспорядочные удары по лицу, выкручивая ему уши или дергая за волосы. Девушка же по-настоящему пришла в ужас, когда обнаружила лежащее неподалеку от них тело рыжего с ножом в груди. Рядом с ним лежал агент Клейтон. Сначала она задалась вопросом, как он здесь очутился, и только потом — жив он или мертв. Судя по его позе — он лежал, неестественно выгнувшись, уткнувшись лицом в пол, словно обнюхивал его, — второе было вероятнее. Это, конечно, ему предназначался выстрел, который был слышен наверху и отвлек хромого настолько, что она успела ударить его коленом в пах.
— Мне пришлось стрелять в хромого, Джордж, — сообщил Мюррей.
Услышав его голос, Уэллс с Майком перестали драться и, словно застигнутые за чем-то непристойным, быстро вскочили на ноги и обернулись к миллионеру и девушке. Уэллс заметил, что на платье Эммы разорван воротник.
— Мисс Харлоу… Этот тип… Я хочу сказать… Как вы себя чувствуете? — смущенно спросил он.
— Превосходно, мистер Уэллс, — весело ответила девушка. — Думаю, с вашей стороны было большим упущением не предупредить этого беднягу о характере нью-йоркских девушек.
— Вы не представляете, как я рад, — облегченно вздохнул Уэллс и резко повернулся к миллионеру. — А ты поступил неблагородно, Гиллиам! Этот тип мог меня задушить… — И он обиженно указал на человека с обезьяньей внешностью.
— Мне показалось, что мисс Харлоу больше нуждалась в помощи, чем ты, Джордж, — парировал Мюррей.
— Однако вы должны признать, что он и без вас не смог нанести мне особого ущерба, мистер Мюррей, — возразила девушка и пригладила морщины на своей юбке.
— Да, разумеется, мисс Харлоу, ваше мужество достойно всяческой похвалы… Но вы тоже… гм… должны признать, что, когда я вошел в комнату, ситуация, скажем так, дошла до такой точки, что необходимость защиты вашего достоинства… вынудила меня выстрелить в этого негодяя.
— О да, безусловно… — поспешила подтвердить девушка. — Ваше вмешательство было абсолютно необходимым, мистер Мюррей. Не появись вы, я бы не смогла удерживать этого бесноватого в рамках ни секундой дольше.
— Моя дорогая мисс Харлоу, этого мы никогда не узнаем. Если же я решил вмешаться, то просто-напросто потому, что мне не показалось целесообразным дожидаться, чтобы проверить это… — любезно откликнулся Мюррей, покосившись на Уэллса, который, в свою очередь, недоверчиво переводил взгляд с одного на другую. Затем миллионер кивнул в сторону Майка. — Но не будем спорить в присутствии нашего гостя, мисс Харлоу. Что он о нас подумает?
— Я… — нерешительно начал Майк.
Миллионер дружелюбно улыбнулся ему.
— Как видишь, теперь пистолет у меня. Забавно, какую власть сразу дает оружие, правда, Майк? Ты-то это хорошо знаешь, — произнес он нарочито приветливым тоном. — Это не что-нибудь, а револьвер «веблей» с ударно-спусковым механизмом двойного действия, если не ошибаюсь. Уверен, что, пока ты держал его в руке, ты чувствовал себя всемогущим, способным распоряжаться нашими жизнями по своему усмотрению, не так ли, Майк? Ты ведь даже захотел, чтобы мы для тебя танцевали.
— Гиллиам, ты полагаешь, все это нужно? — вмешался Уэллс.
— А ты так не считаешь, Джордж? Ты не думаешь, что Майк должен извлечь из всего этого по крайней мере моральный урок?
Уэллс тяжело вздохнул.
— Ладно, продолжай прикидываться злодеем, — проговорил он.
Миллионер одарил его любезной улыбкой и перевел взгляд на Майка.
— Ну что, приятель, — обратился он к нему, — что бы нам такое сделать, чтобы развлечься?
— Не знаю я, — пробормотал тот. — Я ведь не хотел вам сделать ничего плохого, честно. Это все Рой, это он заставил Джосса и меня…
— Ты корову доить умеешь? — перебил его Мюррей, на которого словно бы внезапно снизошло озарение.
— Умею… — растерянно ответил Майк.
— Точно?
— Да.
— Замечательно! Вы согласны, мисс Харлоу? — осведомился Мюррей, который, похоже, не мог скрыть радости, оттого что девушка стояла рядом с ним в целости и сохранности. — Пойдемте в хлев и проверим!
— Что? — пробормотал сбитый с толку Уэллс.
Но никто ему не ответил, потому что и Мюррей, и девушка в сопровождении Майка двинулись по направлению к хлеву. Уэллс покачал головой, не веря, что все это происходит не во сне, а наяву. Не зная, что делать, он обвел взглядом комнату, оглядел два распростертых на полу тела, а затем перевел глаза не лестницу, ведущую в спальню, где находился труп хромого, стараясь угадать, что же произошло в эти последние минуты. Только что их ожидала смерть или по меньшей мере жестокие побои и, возможно, увечья, хотя это и не идет ни в какое сравнение с тем, что мерзавцы хотели сделать с девушкой, но прошло несколько минут, и они остались в живых благодаря вмешательству незадачливого агента Клейтона. Он поздравил себя с чудесным спасением и мысленно поблагодарил за это Клейтона. Но нужно ли везти тело агента в Лондон или следует похоронить его где-нибудь здесь по христианскому обычаю? Он устало вздохнул: было очевидно, что решение придется принимать ему, поскольку Мюррей чересчур занят дойкой. В это мгновение Клейтон поднял голову.
— Вы живы! — воскликнул Уэллс, оправившись от испуга.
— Эта рука, обошедшаяся мне так дорого, сумела спасти меня, — объяснил агент, продемонстрировав, в какое плачевное состояние пришел его протез, в который попала пуля. Он медленно встал и, поглаживая затылок, добавил, словно для себя: — Должно быть, я ударился об пол и потерял сознание.
— Я рад, что по крайней мере один из нас способен остановить пулю, — сказал Уэллс, недоверчиво разглядывая протез.
— Все возможно в этой жизни, мистер Уэллс, и вы в этом постепенно убедитесь.
Надменный ответ агента разозлил Уэллса, но он все равно был рад, что тот жив, не только потому, что Клейтон жертвовал своей жизнью, чтобы спасти их, не потому, что сами собой исчезали сомнения относительно того, хоронить его или везти в Лондон, но также и потому, что агент наверняка возьмет бразды правления в свои руки и избавит его, Уэллса, от задачи убедить спутников как можно быстрее продолжить путь к столице.
— Какова ситуация? — спросил Клейтон, словно подслушав его мысли. Агент был удивлен тем, что в гостиной находился всего один труп.
— Ну… можно сказать, что для нас все окончилось довольно удачно, — сообщил Уэллс. — Хромой находится наверху… мертвый, по-моему.
— Хорошо. А тип, который стрелял в меня? — допытывался агент.
— Этот тип… — замялся Уэллс. — Он сейчас в хлеву доит корову.
Клейтон оторопел.
— Вы шутите?
— Нет, агент, не шучу, уверяю вас… — раздраженно ответил писатель. — Мюррей взял его в плен, и вот… Давайте лучше сходим туда.
Они вышли из дома и пошли к навесу, любуясь по дороге изумительным небом, распростершимся над миром и заставляющим забыть о марсианском нашествии.
— Я думал, что для людей, находящихся на страже закона, убийство — это крайнее средство, — заметил Уэллс, вспомнив о смерти рыжего.
— Так оно и есть, — с мрачным видом подтвердил Клейтон, не оставляя места для сомнений в том, что использование им ножа было вызвано крайней необходимостью.
— Понимаю, — пробормотал писатель, начиная чувствовать себя в явно невыгодном положении из-за того, что никого не прикончил в ходе стычки.
Зайдя в хлев, они убедились, что Майк не обманул относительно своих способностей и теперь выжидал, не осмеливаясь помешать миллионеру и девушке насладиться надоенным молоком, как будет решена его судьба.
— Агент Клейтон, вы живы! — в один голос удивленно воскликнули Мюррей и Эмма.
— Совершенно верно, — без особой нужды подтвердил Клейтон, а затем, внимательно оглядев присутствующих, добавил: — Я рад, что с вами все в порядке, и прежде всего рад за вас, мисс Харлоу.
— Мисс Харлоу чувствует себя замечательно, — сухо заявил Мюррей и протянул агенту миску с молоком. — Выпейте тоже.
— Спасибо, — поблагодарил агент и поднес миску к губам. Напившись, он передал ее Уэллсу и произнес, ни на кого конкретно не глядя: — Подозреваю, что я потерял сознание на станции.
— Именно так, — подтвердил Мюррей, насмешливо улыбаясь. — Но, как видите, мы не бросили вас там, хотя были вашими пленниками.
— И благодаря этому мы остались живы, Гиллиам, — вмешалась Эмма и укоризненно взглянула на миллионера.
Мюррей пожал плечами и воздержался от дальнейших комментариев. Тогда Клейтон подошел к двери, возле которой вперемешку с инструментами валялись обрывки веревок, выбрал какой-то и, понимая, что одной рукой ему пленника не связать, протянул веревку писателю.
— Вам нетрудно, мистер Уэллс?
Писатель неохотно взял веревку и принялся связывать пленника, покорно подставившего ему руки.
— Кто-нибудь может сказать мне, где мы находимся? — спросил Клейтон.
— На брошенной ферме по пути к Аддлстону, — услужливо сообщил все тот же пленник.
— Хорошо, — сказал Клейтон и, протянув здоровую руку к миллионеру, попросил: — Будьте любезны вернуть мне мой револьвер, мистер Мюррей.
— Не понимаю, почему я должен… — начал кипятиться миллионер.
— Гиллиам… — с ласковой материнской укоризной произнесла Эмма и поднесла к губам оставленную Уэллсом миску, чтобы сделать еще один жадный глоток.
— Разумеется, агент, — тут же исправился Мюррей и отдал оружие Клейтону.
Тот первым делом проверил барабан.
— Гм… осталась всего одна пуля. Надеюсь, нам не придется никого больше убивать до самого Лондона, куда мы должны немедленно отправиться, если вы достаточно отдохнули, — говорил он, подталкивая пленника к экипажу. Обернувшись на ходу через плечо, он прибавил: — Да, и спасибо всем за то, что не бросили меня на станции.
XXVII
На Аддлстонском шоссе царило тревожное спокойствие. Вокруг не было видно никаких следов разрушений, из чего путники вывели, что треножники еще не сорганизовались настолько, чтобы наступать на Лондон единым строем. Возможно, они не замедлят это сделать, но пока что нетрудно было вообще забыть про них, поскольку не только прекратилась канонада, но вдобавок в воздухе распространился знакомый по детству запах сена, как будто кто-то, возможно сам Создатель, старался успокоить своих перепуганных чад и внушить им, что все идет как надо. В таком случае пассажиров экипажа можно было бы принять за компанию друзей, решивших провести день за городом. Вот только отсутствовала непременная корзинка, без которой не обходится ни один пикник, да руки одного из пассажиров были крепко связаны.
Уэллс с неприязнью поглядывал на сидевшего напротив них с агентом Клейтоном Майка, чьи пальцы отпечатались на его горле. Клейтон держал револьвер на коленях, словно непослушного котенка, но это не слишком успокаивало Уэллса. Все знали, что в револьвере остался последний заряд, неизвестно пока кому предназначенный, однако писателя беспокоило, что по прошествии какого-то времени Клейтон ослабит бдительность, хотя, по правде говоря, пленник, похоже, и не помышлял о бегстве. Для чего бежать, если помимо всего прочего экипаж направляется в единственное место, где ему не угрожала опасность? Лучше добраться до Лондона в экипаже, чем пешком, должно быть, рассудил он. Злоумышленник рассказал им, что после неудачной попытки завладеть экипажем миллионера их шайке удалось захватить другой экипаж и покинуть Уокинг всего за несколько минут до того, как он был стерт с лица земли треножником. Никто из шайки не видел марсианской машины, но все они слышали за спиной ужасающую симфонию, сопровождавшую действия теплового луча, а с окрестного холма наблюдали за полыхающей свалкой, в которую в считанные минуты превратилась станция, где они перетаскали столько тюков и чемоданов. Внеся этим рассказом свой вклад в общую беседу, злоумышленник предался скорби романтического страдальца, раздражая Уэллса. К чему это? Почему он вел себя так, будто его смерть стала бы великой потерей для человечества, хотя этот неотесанный мужлан явился на свет единственно для того, чтобы увязывать багаж? В глубине души писателя возмущало то, что оба они должны были бежать от смерти, что захватчики не делали различий между своими врагами, что они не принимали во внимание то, что одинаково стреляют и по тем, кто появился на свет, чтобы причинить ему вред, и по тем, кто был призван сделать этот свет краше. Он прикрыл глаза, не в силах более созерцать обезьянью физиономию, искаженную нелепыми страданиями.
И тут сквозь поскрипывание экипажа он услышал оживленный разговор Мюррея с девушкой на козлах. Ему не было слышно, что они говорили, но тон их беседы был такой радостный, что он был вынужден признать, каким бы невероятным это ни казалось: в этой ненормальной обстановке миллионеру гораздо быстрее удалось привлечь к себе внимание Эммы, нежели традиционными ухаживаниями. И, как признавался Мюррей в письме, которое послал Уэллсу, он был действительно влюблен. Писатель вспомнил описание Эммы в этом письме и должен был признать, что оно в целом соответствует действительности. Девушка была очень красива, и если бы не его всегдашняя робость перед красивыми женщинами, он, наверное, тоже потерял бы из-за нее голову. Какие сомнения относительно чувств Мюррея могли у него остаться после того, как тот готов был заслонить Эмму даже от пуль? Доказывая самому себе, что он слишком устал, писатель не стал размышлять о том, сделал бы он то же самое для Джейн или его любовь была всего лишь видимостью, горячим, но мелким чувством, которое она, тем не менее, оценила достаточно высоко и вышла за него замуж, высказав ему чуть ли не в первом же их разговоре, что романтические чувства, свойственные героиням романов, никогда не найдут отклика в ее практичном сердце.
Погруженный в свои размышления, Уэллс не заметил, как они добрались до Вейбриджа, где обнаружил, что в городке проходит эвакуация, которой руководят десятка два гусаров. Спешившись или продолжая находиться в седле, солдаты призывали жителей забирать наиболее ценные вещи и как можно скорее покидать этот район. Нашим героям пришлось пробиваться через скопление экипажей, повозок, маленьких кабриолетов и прочих средств передвижения, среди которых бродили мужчины в костюмах для гольфа или прогулок на лодке и так же, как их разряженные жены, не скрывали недовольства этой нелепой эвакуацией. Однако же все были готовы подчиниться требованиям военных и даже грузили свои пожитки в специально доставленный сюда омнибус.
Их экипаж потратил немало времени на то, чтобы пересечь городок из конца в конец, а затем, миновав Санбери, они окончательно увязли в плотном потоке повозок и людей, которые, словно в библейском Исходе, медленно продвигались к Лондону. Люди несли тюки и чемоданы, толкали перед собой тележки или даже детские коляски, нагруженные пожитками. Большинство шагали с озабоченными лицами, не зная, что происходит, но подозревая, что случилось нечто серьезное, если этими перемещениями руководит сама армия. Только дети радовались необычной ситуации и весело смеялись, взгромоздившись на горы свернутых матрасов и мелкой мебели, словно дозорные беды. Несмотря на все это, никто не сомневался, что могучая британская армия покончит с неизвестными захватчиками и в считанные дни положит конец этой неожиданной войне, которая причиняет всем столько неудобств. «Да это всего лишь кастрюли на ходулях!» — возмущался старик, везший на тележке целую кучу ненужного хлама, не подозревая о разверзшемся на Земле аде. И пока экипаж с вычурной буквой «Г» на дверце пробирался сквозь толпу, Уэллс только головой качал, восхищаясь все новыми подробностями развертывавшегося спектакля. Он очень жалел, что у него нет под рукой блокнота, куда бы он мог заносить свои наблюдения, поскольку в его романе марсиане построили летающие корабли и отправились на них покорять столицу, а потому ему не пришлось описывать эти трагические массовые перемещения людей. Однако теперь, оценив их драматический потенциал, он подумал, что, если бы у него была возможность переписать роман заново, он заменил бы свирепые летающие машины в форме морского ската, которые включил единственно для того, чтобы превратить корабль верновского Робура в невинную игрушку, вот такими треножниками, которые, передвигаясь по бездорожью с неспешностью пауков, не только плодили бы слухи среди обитателей окрестных мест, но и вселяли бы куда больший ужас в каждого, ибо этим треножникам предстояло не быстро промелькнуть где-нибудь в небе, а пройти через принадлежавшие местным жителям сады. Хотя, судя по непрерывной канонаде, доносящейся со всех сторон, число треножников столь велико, что ему очень повезет, если после завершения вторжения он сможет продолжать писать как ни в чем не бывало.
Они добрались до Хэмптон-Корта, погруженного в странную спокойную тишину, оставили в стороне Буши-парк с его оленями, скачущими под каштанами столь же беззаботно, что и в любой другой день, и, перебравшись через реку, выехали на Ричмондское шоссе. Наконец они разглядели на горизонте холмы, возвышавшиеся вокруг города, и все как один вздохнули с облегчением, потому что агент говорил им, что именно там проходит одна из оборонительных линий, опоясывающих Лондон.
— Десятки орудий установлены там в ожидании противника, — успокаивал их Клейтон. — Треножникам будет весьма трудно прорвать такую оборону.
— Вы по-прежнему думаете, что это марсиане? — спросил его Уэллс. — Мюррей тоже не верит, что это могут быть немцы, однако я…
— Бога ради, мистер Уэллс, что вы имеете против немцев? — перебил его агент. — Уверяю вас, они не виноваты во всех бедах на свете. В любом случае мы не должны, по-моему, терять время на пустые рассуждения о том, кем может оказаться наш враг. Еще несколько миль, и все сомнения исчезнут, как только наша артиллерия уничтожит первый треножник.
— Хорошо бы вы оказались правы, — мрачно произнес писатель.
— Верьте в нашу армию, мистер Уэллс, — был веский ответ агента.
— Хочу напомнить вам, Клейтон, что вы не видели ни единого треножника, в отличие от нас. Мы проехали у него под ногами, пока вы сладко спали.
— Ах, мистер Уэллс, иногда самым жутким оказывается не то, что мы видели, а то, что бываем вынуждены вообразить, — мечтательным голосом возразил агент.
Уэллс раздраженно вздохнул, на мгновение подумав, что было бы совсем неплохо оставить в близлежащем кювете этот неиссякаемый источник бессмертных фраз.
— Так я вас уверяю, агент, что это далеко не то же самое, что побывать на кукольном спектакле, — ответил он, начиная сердиться. — И, разумеется, эти машины вовсе не напоминают кастрюли на ходулях, как сказал тот старик.
— Вы меня убедили, мистер Уэллс, — снисходительно улыбнулся Клейтон. — И должен признаться, что мне не терпится увидеть одну из этих машин. На что же, по-вашему, они похожи?
— Ну… Я бы сказал, что они как…
— Как табуретка для дойки? — неожиданно спросил пленник.
— Можно так сказать, — согласился Уэллс, недовольный вмешательством человека с обезьяньей физиономией.
— А из его верхней части торчит что-то похожее на… на щупальце? — продолжал допытываться тот.
— Ну да, оттуда он выстреливает свой смертоносный луч, — раздраженно ответил Уэллс.
— Тогда плохи наши дела, — заявил Майк, кивая на заднее окошко.
Уэллс и агент одновременно обернулись. И увидели то, что уже некоторое время рассматривал их пленник. За ними, по тому же шоссе, с неуклюжестью паука, которому ребенок оторвал почти все ноги, следовал треножник.
— Вот вам один из них, агент, — буркнул Уэллс.
— Боже правый! — воскликнул Клейтон. На какое-то мгновение агента, казалось, загипнотизировало страшное зрелище.
— Не думаю, что на этот раз вам поможет ваш револьвер… — обреченно заметил Майк.
Не обратив внимания на эту реплику, Клейтон открыл люк в крыше экипажа и крикнул:
— Вы видите, кто следует по пятам за нами, Мюррей? Погоняйте же лошадей! Сделайте так, чтобы они летели во весь опор, черт побери!
Спустя несколько секунд пассажиры почувствовали сильный толчок, заставивший их ухватиться за свои сиденья: это миллионер принялся вовсю нахлестывать лошадей, пытаясь отправить их в полет с помощью кнута. Романтическая прогулка закончилась. Началась отчаянная скачка, чтобы успеть добраться до спасительных холмов прежде, чем их настигнет треножник. Зажатый между Клейтоном и пленником, Уэллс с тоской наблюдал, как треножник длинными прыжками постепенно сокращал дистанцию между ними, и только песок и камни летели в разные стороны всякий раз, когда его могучие лапы погружались в землю. Встретился ли ему на пути караван беженцев? Даже думать не хотелось о том, какая могла произойти бойня, случись эта встреча.
— Быстрее, Мюррей! — завопил Клейтон.
Последовал новый прыжок, от которого задрожало все вокруг, и треножник оказался всего в каких-нибудь двадцати метрах от экипажа. Уэллс смотрел, как раскачивается в воздухе щупальце, и плотная завеса паники начала обволакивать его: он знал, что означает это знакомое покачивание. Писатель обреченно следил, как целится в них щупальце, и готовился умереть в ближайшие секунды вместе с пленником и самым высокомерным агентом Скотленд-Ярда. С такого расстояния треножник вряд ли промахнется. В этот момент послышался сильный взрыв. Но, к удивлению Уэллса, жертвой его стал треножник. Жуткая голова твари заметно задрожала, и часть ее разлетелась на десятки металлических кусков разного размера, засыпавших все вокруг, словно смертоносным градом. Один из осколков угодил в заднюю часть экипажа, от чего тот сразу потерял направление, но Мюррей мгновенно выправил положение. После неожиданной атаки треножник зашатался, но не рухнул. Тут послышался второй разрыв, на сей раз с другой стороны, и треножник вновь затрясся, хотя выстрел лишь слегка задел его правый бок. Уэллс заметил, что щупальце оставило их в покое и переключилось на атакующих — вероятно, это были те самые орудия, о которых говорил Клейтон. Должно быть, они располагались среди деревьев, куда как раз и направлялся экипаж, получивший теперь известное преимущество над своим грозным преследователем. Щупальце произвело выстрел, мощный тепловой луч с тревожным свистом прочертил огненную полосу слева от них, и десятки деревьев взлетели на воздух. У писателя было ощущение, что треножник стрелял наугад, и это позволяло надеяться на благоприятный исход поединка. И тут экипаж, видимо, пересек оборонительный рубеж, потому что они вдруг ощутили, что находятся в зоне боевых действий: вокруг них там и сям стояли десятки тяжелых орудий «Максим», возле которых суетились артиллеристы, и многочисленные повозки с боеприпасами, а за деревьями и утесами пряталось множество солдат, в том числе кавалеристов. Все это производило впечатление беспорядочной суматохи, но Уэллс надеялся, что за ней стоит определенный порядок, поддерживаемый, несомненно, лицом, которое руководит операцией. Миновав последнюю батарею, Мюррей резко остановил лошадей. С удивительной ловкостью он спрыгнул с козел и помог спуститься девушке.
— Как вы там? Все в порядке? — спросил он, стараясь перекричать оглушительную канонаду.
Уэллс, а за ним Клейтон и пленник ответили утвердительно, но из экипажа не вышли, продолжая следить за ходом боя через заднее окошко. Находясь на достаточном удалении от треножника и потому чувствуя себя в относительной безопасности, они наблюдали за тем, как щупальце выстрелило снова, на этот раз гораздо точнее. Под воздействием мощного излучения с полдюжины тяжелых орудий взлетело в воздух вместе с артиллеристами. Многие из них разбились, ударившись о деревья, которые моментально превратились в обугленные столбы, и оттуда повеяло сильным запахом горелого мяса. Но тут тот, кто командовал стрельбой, а возможно, один из артиллеристов, которого вдруг осенило, выстрелил по ногам машины и попал в одну из них, которая тут же с глухим скрежетом разлетелась на куски. Треножник принял позу, напоминавшую коленопреклонение, а затем стал медленно клониться вперед и зарылся своей колоссальной головой в землю всего в нескольких метрах от перепуганных солдат батареи.
— Если бы Создатель счел целесообразным, он населил бы нашу планету трехногими существами, но совершенно очевидно, что такая модель не слишком удачна, — со своей обычной самоуверенностью заявил Клейтон.
Как только треножник был повержен, канонада смолкла, и вокруг воцарилась такая плотная тишина, что было как-то неловко ее нарушить. И тут в каком-то месте дымящейся и покореженной головы треножника открылась дверца, и оттуда появился его водитель.
В первое мгновение то, что вылезло из треножника, напомнило Мюррею ложку горохового пюре. Но потом, по мере того как его глаза привыкали к тому, что видели перед собой, пришелец показался ему чудовищным червяком с членистым телом, у которого, судя по тому, как гибко он извивался, едва ли не разливаясь по земле, отсутствовали кости и вообще какой-либо скелет, поддерживающий его изнутри. Размером он был примерно с носорога, а кожа, гладкая и неприятно бледная, напоминала некоторые ядовитые грибы. Мюррею показалось, что на одном из участков аморфного тела он различает островки отверстий и щелей, не более четких, чем дырочки, которые проделывает ребенок на лице снеговика, из чего он сделал вывод, что это, должно быть, голова червяка. Еще ему показалось, что в различных частях мягкого тела он видит пучки тонких щупалец, испускающих голубоватое сияние и время от времени искрящихся словно электрический разряд. Туша проползла несколько метров и, перевернувшись на спину, остановилась, а через несколько секунд перестала извиваться и обрела тревожную неподвижность. Было очевидно, что у них на глазах загадочная тварь испустила дух.
— Я же говорил вам, мистер Уэллс… — проворчал миллионер, с отвращением вспоминая тошнотворное пюре, которое в детстве его заставляла есть большими ложками бонна. — Это не немцы.
— Не немцы, — признал Уэллс, разглядывая валявшееся перед машиной тело, чей вид зловещей моли был ему так знаком.
— Я понимаю, что это чарующее зрелище, джентльмены, — вмешался Клейтон, — однако, если вы переведете взгляд повыше, то увидите нечто куда более страшное.
Уэллс и Мюррей подняли головы. На фоне от взрывов были хорошо видны силуэты по меньшей мере дюжины треножников, огромными шагами приближавшихся к разорванной линии обороны.
— Боже мой! — воскликнул Уэллс. — Вывози нас отсюда, Гиллиам!
Миллионер тут же послушно схватился за вожжи и погнал лошадей. Спустя несколько секунд экипаж, подпрыгивая на ухабах, уже мчался по дороге в направлении Шина. Проехав Патни, наши беглецы вновь услышали канонаду, означавшую, что треножники добрались до холмов. А вскоре, словно подтверждая это, послышался резкий свист марсианского луча. Начинало темнеть, когда экипаж промчался по мосту через Темзу и, выехав на Кингс-роуд, направился в сторону Скотленд-Ярда. Потрясенные увиденным по дороге к Лондону, они в скорбном молчании пересекали темные улицы города, наивно надеявшегося разгромить марсиан.
XXVIII
Казалось, Лондон затаил дыхание. И в Фулхэме, и в Челси экипажу с буквой «Г» на дверце пришлось пробивать себе дорогу среди кучек людей, высыпавших на улицу. Лондонцы вели обычные разговоры или сосредоточенно курили трубки, внимательно разглядывая небо, которое стало совсем темным, словно надеялись обнаружить на нем комету или что-нибудь в этом роде. Никто из них не хотел упустить на своем посту ни единой мелочи, связанной с вторжением. Даже те, кто, следуя рекомендациям полиции, оставался дома, то и дело подбегали к окну в ожидании, что битва, развернувшаяся в окрестностях города, наконец-то завершится и они смогут вернуться к своим делам. Через окошки кареты были видны по-настоящему озабоченные лица, сразу воскресившие в памяти процессию несчастных людей, которых они повстречали возле Санбери, однако, словно в доказательство непредсказуемости человеческой природы, встречались также люди, что как ни в чем не бывало пили, пели или играли в карты в кабачках, отказываясь верить, что происходящее может прервать их привычные занятия. Никто из них, разумеется, не видел треножники. А те немногие, кто их видел и остался в живых, еще не успели сюда добраться и все рассказать, как не дошло сюда известие о том, что атакующие — марсиане, а потому они не знали, кто на самом деле напал на всесильную Британскую империю. Им сказали, чтобы они оставались здесь, внутри защищенных границ города, и никто, по-видимому, и в мыслях не держал, что подвергается реальной опасности. Эти простые души излучали доверчивость, и, по мнению Уэллса, их стоило пожалеть. Только что он мог сделать? Рассказать им об ужасных разрушениях, свидетелем которых стал? Нет, это привело бы только к панике, а она, как огонь по сухому хворосту, мгновенно распространилась бы по городу. То единственное, что они могли сделать, как раз и предлагал Клейтон: ехать в Скотленд-Ярд, передать арестованного и узнать последние новости.
Но прежде они остановились на маленькой улочке, граничившей с участком, на котором шло строительство Вестминстерского собора. Это было по дороге к комиссариату. Тут жили друзья, у которых Джейн гостила накануне, так что Уэллс поблагодарил Клейтона за то, что тот разрешил сделать здесь остановку, чтобы отыскать его супругу, однако чувствовал себя немного неловко, поскольку задерживал Эмму, которой тоже не терпелось увидеть своих, а Саутуорк находился достаточно в стороне от их маршрута. Он выпрыгнул из экипажа, вошел в здание и быстро взбежал по ступенькам наверх, где находилась квартира Гарфилдов, молясь, чтобы Джейн все еще была здесь. Но он не успел даже постучать в дверь, потому что увидел на ней адресованную ему записку. И быстро сорвал ее, узнав почерк Джейн. Она писала, что у нее все в порядке, но они покидают дом, чтобы разузнать, что происходит вне города, так как имеющиеся сведения весьма скудны, а она за него волнуется. Джейн писала также, что, надеется, он доберется до Лондона целым и невредимым и прочтет эту записку, а в конце сообщала, что в любом случае будет ждать его на следующий день на рассвете в Примроуз-Хилл. Уэллс положил записку в карман и с досады пнул дверь, недовольный тем, что жена покинула дом, чтобы попытаться выяснить, жив ли он. Куда они отправились? Ему не приходило в голову ничего определенного, а бродить по улицам, выкрикивая ее имя, было, конечно, весьма романтично, но малопродуктивно. Он вернулся к спутникам в дурном настроении и пересказал им содержание записки.
— Хорошо, — сказал Клейтон, — тогда мы продолжим действовать по нашему плану вплоть до самой вашей встречи. И не волнуйтесь, мистер Уэллс, я не думаю, что треножникам удастся войти в город прежде, чем рассветет. С вашей супругой будет все в порядке.
Уэллс кивнул. Он хотел поблагодарить Клейтона за ободряющие слова, но агент уже отвернулся от него и теперь с любопытством разглядывал происходящее в конце улицы, где четверо или пятеро человек вломились в магазин велосипедов. Это был первый случай нарушения общественного порядка, происходивший у них на глазах, и, наверное, не последний, однако внимание Клейтона привлек не столько сам этот акт вандализма, кстати, довольно робкий, сколько поведение троих полицейских, наблюдавших за ним с противоположного угла улицы, не решаясь вмешаться. Один из них, бледный и тщедушный юноша, показался Клейтону знакомым. Он попросил своих спутников подождать и направился туда.
— Инспектор Гарретт?
Юноша обернулся и с удивлением посмотрел на агента. Потом молча кивнул ему с таким видом, словно не узнал.
— Агент Клейтон… — выдавил он наконец, как будто извлек это имя из самых дальних уголков памяти, хотя они ежедневно виделись в коридорах Скотленд-Ярда.
После этого он вновь замолчал и бесстрастно уставился на обескураженного Клейтона, ожидавшего совсем иного приема. Ну, например, оживленного обмена впечатлениями по поводу ситуации или возможности объединить усилия и выработать план совместных действий, словом, чего угодно, но только не этого тревожного безразличия. Коллеги юноши, двое полицейских, одетых, в отличие от него, в форму, стояли в нескольких шагах от агента и разглядывали его с таким же холодным интересом. Не зная, что сказать, Клейтон кивнул в сторону грабителей на противоположной стороне улицы.
— Может, нужна помощь, инспектор? — предложил он.
Гарретт рассеянно взглянул на взломанный вандалами магазин.
— Нет-нет, у нас здесь все под контролем, — заверил он.
— Хорошо… — с сомнением в голосе произнес Клейтон, в то время как инспектор продолжал изучать его все с тем же возмутительным безразличием. — Ну, тогда я продолжу свой путь в Скотленд-Ярд.
— Зачем вы туда едете? — внезапно спросил юноша.
— Я должен доставить арестованного, — ответил Клейтон, недоумевая, чем вызван такой неожиданный интерес.
Гарретт медленно кивнул, и печальная усмешка искривила его губы. Затем, посчитав разговор законченным, он сделал знак своим товарищам, и они все вместе направились к велосипедному магазину походкой сомнамбул. Грабители остановились и следили за их приближением. Затем состоялся обмен репликами, и этого оказалось достаточно, чтобы злоумышленники бросили велосипеды и кинулись наутек. После этого инспектор Гарретт взглянул через плечо, чтобы убедиться, что Клейтон еще не уехал, и обнаружил, что агент за ним наблюдает. Раздраженный Клейтон отвернулся и поспешил к своему экипажу, полицейские начали подбирать разбросанные велосипеды и вносить их в магазин с таким же недовольным видом, с каким они ранее следили за действиями грабителей. Удаляясь от места происшествия, Клейтон пытался понять, чем было вызвано странное поведение полицейских и особенно молодого инспектора. Он был едва знаком с Гарреттом, но знал, что это одна из самых светлых голов в Скотленд-Ярде. Число раскрытых им преступлений, причем, как утверждала молва, делал он это, не покидая своего кабинета, поражало, равно как и его отвращение к крови. Видимо, глубокая задумчивость была единственно возможной для такой исключительно чувствительной души реакцией на вторжение, подумал Клейтон. Ситуация вывела его из себя, разрушив скрупулезные логические схемы, которые он применял, чтобы разгадать неизменно казавшиеся ему банальными преступления, и вот теперь он превратился в своего рода потерпевшего кораблекрушение, не способного ни действовать самостоятельно, ни отдавать распоряжения своим товарищам.
Пожав плечами, Клейтон сел в экипаж. Они направились прямиком в Скотленд-Ярд. Добравшись до Грейт-Джордж-стрит, они оставили экипаж напротив здания и вошли в полицейское управление, являя собой довольно странное зрелище. Впереди шел агент Клейтон, тянувший за собой человека с обезьяньей физиономией своей здоровой рукой, в то время как другая рука, наполовину раздробленная, беспомощно свисала из рукава. За ним шагал усталый и угрюмый Уэллс, обуреваемый тяжелыми мыслями о Джейн, а замыкали процессию Мюррей с Эммой, обменивавшиеся восхищенными взглядами, время от времени они затевали оживленные споры, словно шли выбирать свадебные подарки. К всеобщему удивлению, все помещения оказались пусты. Никого не было ни в главном зале, ни в примыкавших к нему кабинетах, и царившая вокруг тишина подсказывала, что во всем здании не осталось ни единой живой души. Они с опаской обошли зал, повсюду натыкаясь на вызывающие тревогу следы насилия: перевернутый стол, разбитая ударом об стену пишущая машинка, опрокинутая картотека. Но больше всего их пугали брызги крови на стенах и на полу.
— Что за дьявольщина тут приключилась? — воскликнул наконец Мюррей, растерянно рассматривая огромное пятно на стене, напоминавшее своими очертаниями Австралийский континент.
— Не знаю… — тихо проговорил Клейтон.
— А что это за запах? — спросила вдруг Эмма.
— Действительно, — подтвердил Уэллс, принюхавшись. — Пахнет чем-то мерзким.
— Похоже, запах идет сверху… — Клейтон указал на лестницу, ведущую на верхний этаж, где находились кабинеты инспекторов.
Все обменялись тревожными взглядами, понимая, что надо подняться наверх, если они хотят узнать, что там произошло. Передав пленника Мюррею, Клейтон вытащил револьвер и возглавил процессию. Они опасливо шли гуськом, и с каждой новой ступенью омерзительный запах становился все сильнее. А когда поднялись на верхний этаж, тоже совершенно пустынный, он сделался просто невыносимым. Брезгливо скривившись, Клейтон, за которым последовали остальные, прошел по коридору. По случайности смрад привел его в самый его конец, к последнему кабинету, принадлежавшему инспектору Колину Гарретту. Дверь в кабинет была закрыта, но тяжелый запах явно шел изнутри. Агент проглотил слюну, положил искореженный протез на ручку двери и окинул спутников суровым взглядом, таким образом призывая их быть готовыми ко всему. Те понимающе закивали и стали наблюдать за тем, как он пытается повернуть ручку своей искусственной рукой, поскольку его здоровая рука сжимала револьвер. Некоторое время Клейтон сражался с непокорной ручкой, истощив всеобщее терпение, но в конце концов все-таки открыл дверь. Волна жуткой вони тут же распространилась по коридору, угрожая вывернуть желудки присутствующих наизнанку. Вслед за Клейтоном они шагнули в кабинет, однако кровавое зрелище, ожидавшее их внутри, превосходило любую жестокость, с какой только приходилось им сталкиваться в жизни.
Комната была превращена в подобие бойни. Посередине они увидели наваленные друг на друга, словно мешки с мукой, более дюжины обезображенных трупов. В этой страшной куче лежали вперемешку, с искаженными лицами и выпотрошенными телами, элегантно одетые инспекторы, агенты в униформе и даже, судя по галунам, кое-кто из начальства. Бросались в глаза многочисленные раны, из которых сочилась кровь — красные ниточки, медленно сливавшиеся воедино, стекали вниз, на пол, где превращались в самый настоящий ручей, только темного цвета. Все они погибли насильственной смертью, о чем свидетельствовали перерезанные горла, раздробленные кости и зверски распоротые животы, став жертвами кого-то, кто не знал, что означает слово «жалость», зато ему было прекрасно известно слово «жестокость». У некоторых были оторваны руки или ноги и теперь в беспорядке валялись вокруг жуткой груды, наводя на мысль, что тот, кто это сделал, спрятал здесь тела убитых им в разных концах здания, причем был настолько аккуратен, что собрал все до единой части тел вплоть до крошечного кусочка легкого.
— Боже правый… — пробормотал Клейтон. — Кто мог это сделать?
— Не знаю… — сказал Уэллс, сдерживаясь, чтобы его не вырвало. — Но эти раны… Они напоминают следы от когтей какого-то зверя.
— Зверя, который потом прячет свидетельства своего преступления? — с сомнением произнес агент.
— Да вы сами взгляните, — пожал плечами писатель.
Стараясь не наступить на прилипший к полу кусок печени, Клейтон наклонился над одним из трупов, чье лицо, от лба до подбородка, пересекали три глубокие бороздки. Как и говорил Уэллс, это было похоже на удар мощной лапы, в результате которого не только пострадала кожа несчастного, но вдобавок он лишился глаза и половины носа. Агент осмотрел еще несколько похожих ран, покачал головой и беспомощно огляделся вокруг. Уэллс наклонился над штабелем трупов, разглядывая многочисленные царапины и раны с неким научным интересом, а Мюррей вывел Эмму в коридор и открыл окно, чтобы ветерок взбодрил ее, в то время как пленник застыл у дверей с бледным, изменившимся лицом. Тут Клейтон обратил внимание на труп, занимавший кресло Гарретта. Его тело наклонилось назад, голова же была повернута к находившейся за ним стене под невозможным углом, как будто убийца свернул несчастному шею, вращая голову, словно юлу. Кроме того, он выпустил своей жертве кишки, свисавшие у нее с колен, как спущенные помочи, причем было очевидно, что убийца позаботился о том, чтобы усадить труп в кресло и не смешивать его с прочими убитыми. Заинтригованный личностью полицейского, удостоившегося особого отношения со стороны убийцы, Клейтон повернул голову мертвеца к себе.
— Что за чертовщина! — испуганно воскликнул он.
— В чем дело? — спросил Уэллс и подошел к агенту, стараясь не поскользнуться на внутренностях, усеивавших пол.
— Это Колин Гарретт, — растерянно объяснил Клейтон. — Инспектор, с которым я разговаривал пять минут назад возле магазина велосипедов.
Пошатываясь, он вышел в коридор: голова у него шла кругом как от смрада, так и от изумления. Писатель последовал за ним.
— Вы уверены, что это тот самый юноша? — спросил Мюррей.
Клейтон собирался ответить, но внезапно в коридоре раздался леденящий душу голос:
— Вас не учили уважать покой усопших, агент Клейтон?
Все повернулись туда и увидели в начале коридора фигуру человека, внимательно разглядывающего их. Когда бесцеремонный незнакомец сделал несколько шагов и оказался в кружке света одной из ламп, они убедились в том, что перед ними стоит тот самый бледный и тщедушный юноша, который только что сидел в своем кабинете со свернутой шеей и обезображенным лицом.
— Это невозможно… — прошептал агент.
— А мне казалось, для вас нет ничего невозможного, Клейтон, — заметил фальшивый Гарретт голосом, лишенным всего человеческого.
В ответ на этот выпад агент вышел вперед и прицелился в говорившего.
— Стой на месте! Кто бы ты ни был, ни шагу вперед! — приказал он в излишне театральном стиле.
Фальшивый Гарретт несколько мгновений смотрел на него с видом сомнамбулы, а потом чуть ли не равнодушно ответил:
— Успокойтесь, Клейтон. Я и не собирался никуда идти.
Неожиданно он смешно разинул рот, и оттуда выскочил невероятно длинный красноватый язык, какой бывает у жаб или хамелеонов, который молниеносно преодолел коридор и обкрутился вокруг руки Клейтона. Но как только тот почувствовал на своем запястье этот омерзительный придаток, грянул выстрел, хотя агент не мог бы с уверенностью сказать, что нажал на курок сознательно. Он даже не успел прицелиться, но благодаря какому-то чуду пуля попала лже-Гарретту в голову, и клещи, стискивающие запястье, сразу ослабли. Инспектор рухнул на пол, а его чудовищный язык мгновенно спрятался во рту, превратившись в мясистый клубок. Никто и слова не успел сказать, как лежащее посреди коридора тело забилось в страшных судорогах.
И тогда агент специального подразделения Скотленд-Ярда Корнелиус Клейтон, стоявший между бьющимся в конвульсиях телом и остальными, увидел, как сквозь внешность инспектора начинают проступать черты того самого существа, которое вылезло из подбитого треножника в окрестностях Лондона и испустило дух у них на глазах. Голова злополучного Гарретта сплющилась, словно от внезапного удара молота, а челюсти вытянулись в крокодилью пасть. Одновременно руки у него удлинились, превратившись в страшные лапы, чьи пальцы были соединены между собой гибкими перепонками, а кожа стала медленно покрываться зеленоватой чешуей. Росло в разные стороны и тело, принимая чудовищные размеры. И тут, прежде чем эти страшные превращения завершились, существо, все еще смутно напоминавшее инспектора Гарретта, быстро вскочило на ноги, словно подброшенное пружиной, и его липкий язык вновь выстрелил в направлении Клейтона, который по-прежнему направлял на него револьвер, хотя в барабане уже не осталось ни одной пули. Агент с трудом сумел уклониться, бросившись на пол. Оттуда он с ужасом наблюдал за тем, как клейкий отросток ударил в грудь пленнику с такой силой, что тот зашатался. Затем язык потянул несчастного к себе, оторвал его от пола и поднес к своей громадной пасти, усеянной клыками. Сделав отчаянное усилие, пленник как-то извернулся и изо всех сил вцепился в раму открытого окна. Это на какое-то время затормозило действия существа, по-прежнему погруженного в трудоемкий процесс превращения, и даже вывело его из равновесия. Тогда объятый ужасом человек с обезьяньим лицом попытался вылезти в окно и уцепиться за оконную раму снаружи, после чего повис над пропастью и с завидным упорством держался там, пока страшный язык старался оторвать его от окна и втянуть обратно в коридор. Клейтон поднялся с пола и вновь занял свое место перед перепуганной группой. В этот момент с поспешностью, удивившей всех, Мюррей отделился от группы и, движимый дикой решимостью, подошел к окну, чтобы безжалостно наступить на руки несчастного Майка, который после этого выпустил раму и со сдавленным криком ужаса сорвался вниз. Тотчас же все увидели, как натянулся язык существа, которое не успело среагировать и под тяжестью своей жертвы было подтянуто к окну. Придя в замешательство, существо попыталось ухватиться вначале за миллионера, который, вскрикнув от боли, сумел-таки вырваться, а потом за оконную раму, но, к счастью, его лапы еще не обрели нужную форму, а потому оно рухнуло вниз вслед за пленником, с которым его, подобно карикатурной пуповине, связывал пресловутый отросток.
Все произошло невероятно быстро. Ошеломленные вмешательством миллионера, благодаря которому они снова оказались вне опасности, наши герои медленно приходили в себя.
— Сожалею, что пришлось пожертвовать им, — смущенно проговорил Мюррей. — Но его смерть спасла нам жизнь.
— Не извиняйтесь, мистер Мюррей, — сказала Эмма, стараясь, чтобы ее голос не дрожал и все видели, что она совершенно спокойна. — Если бы эта тварь успела закончить свои превращения, она бы всех нас уничтожила.
— Да, Гиллиам, тебе незачем извиняться, — вступил в разговор Уэллс, все еще бледный, но не отказавшийся от ироничного тона. — И вам, мисс Харлоу, нет необходимости его извинять.
Они подошли к окну и посмотрели вниз. Окно выходило на заднюю улочку, засыпанную мусором, среди которого застыл в странной позе тот, кого звали Майком. Возле него, по-прежнему соединенная с пленником своим чудовищным языком, в луже зеленоватой крови лежала загадочная тварь.
Они выбежали из здания и направились к улочке, куда упало странное существо. Однако, когда пришли туда, обнаружили только труп человека с обезьяньим лицом. Существо исчезло, оставив после себя единственный след в виде большого зеленоватого пятна на мостовой.
— Проклятье! Куда же он подевался? — недоумевал Мюррей, потирая плечо, где сквозь разорванную ткань пиджака можно было разглядеть небольшую ранку.
— Понятия не имею. Тем более что дальше, похоже, тупик, — откликнулся Клейтон, непрестанно круживший вокруг группы. — Но ведь еще мгновение назад он был тут!
Он в гневе со всего маху наступил в зеленую лужу, и во все стороны полетели мелкие брызги. Уэллс обреченно посмотрел на запачканные брюки.
— Вы думаете, он успел выскочить на улицу? — спросил миллионер.
— Может быть, — задумчиво произнес агент.
— Сомневаюсь, — возразил Уэллс. — Не видно следов крови, или что там выливается из этой твари, которые вели бы…
Он не окончил фразу, увидев, что агент, не слушая его, бросился в сторону улицы. При этом он низко нагнул голову и поворачивал ее то направо, то налево, словно подметальщик улиц метлу. Внезапно он резко остановился, вернулся назад, подбоченился и озабоченно вперился в фасады домов, выходивших на улочку, не переставая при этом машинально прищелкивать языком. Уэллс громко вздохнул. Неизвестно, что было для него невыносимей: невозмутимое высокомерие агента, проявлявшееся в спокойной обстановке, или театральные жесты, которыми тот сопровождал свои умозаключения в напряженные моменты.
— Может быть, эта штука способна перелезать через здания или… летать, как вы полагаете? — спросил Клейтон.
— Если бы она умела летать, то применила бы это умение, прежде чем разбиться о землю, вы не находите? — возразил Уэллс.
— Вероятно, ей помешал это сделать вес пленника.
— Вы серьезно? — усмехнулся писатель. — Эта тварь весила в несколько раз больше, чем…
— Замолчите же наконец! — крикнула вдруг Эмма, которая до этого момента, несмотря на бледность и озноб, справлялась со своими нервами. Теперь же она была на грани обморока. Мюррей заботливо предложил ей руку, и девушка с деликатностью пичужки оперлась на нее, чтобы не упасть. — Боже мой, разве вы не видели эту… эту? Инспектор начал превращаться в… О боже, это напоминало… — Голос ее внезапно дрогнул, и она разразилась громкими рыданиями.
— Успокойся, Эмма, — снова зашептал Мюррей. — Я не допущу, чтобы с тобой что-нибудь случилось, понимаешь? Клянусь тебе. Жизнью своей клянусь.
Девушка смотрела на него заплаканными глазами, ее губы дрожали, по лицу блуждала страдальческая гримаса, но было видно, что она вслушивается в этот утешающий шелестящий голос, старавшийся не дать ей окончательно погрузиться в колодец отчаяния, откуда она могла бы и не выкарабкаться.
— Жизнью своей клянусь, — повторил миллионер. — Ты мне веришь, Эмма?
Он ласково гладил ее своими огромными руками. Но вот выражение ужаса исчезло с ее лица, вдруг упорхнуло, словно вспугнутая стайка птиц, а взгляд посветлел. Она несколько раз сглотнула и тихо сказала, стараясь воскресить свою былую иронию:
— Но, Гиллиам… Как я могу поверить человеку, который клянется своей жизнью, но уже два года, как умер?
— Гм… — недовольно покашлял Клейтон. — Ясно, что мы ничего не выиграем, если поддадимся панике. Мы должны сохранять хладнокровие… Попробуем найти положительную сторону в данной ситуации, — предложил он и с воодушевлением вскинул руки. — Положительная сторона всегда есть! Всегда! — Он замолчал и погладил подбородок. — Это означает, что непременно существует и отрицательная сторона… но, в конечном счете, это не важно. Главное, что теперь мы лучше осведомлены, чем раньше. Мы знаем, что марсиане способны перевоплотиться в любого из нас. И я уверен, что благодаря этому знанию мы получаем большое преимущество над ними…
— И еще мы знаем, что они находятся не только снаружи, пытаясь проникнуть в Лондон, — прибавил Уэллс, словно не замечая нелепой позы, которую принял агент, изображая глубокую задумчивость, — но и просочились внутрь и действуют среди нас…
— Среди нас… — пробормотал Мюррей, стараясь прочувствовать весь ужас этой мысли.
— …неизвестно с какого времени, — докончил писатель, вспомнив труп, около двух десятилетий пролежавший в подвале Музея естествознания, и многозначительно посмотрел на агента.
— Ладно… — подытожил Клейтон. — Не будем тратить время на предположения. Теперь мы уже знаем, как обстоят дела… по крайней мере, в какой-то степени. И должны направиться в безопасное место, чтобы обсудить наши дальнейшие действия, привести в порядок сведения, которыми мы располагаем, и наметить план…
— Не вы ли уверяли нас, что ваше подразделение готово к такого рода событиям? — язвительно осведомился писатель. — Я-то думал, у вас уже есть план…
— Моя тетушка… — вдруг вспомнила Эмма. — Она совсем старенькая и беззащитная… Мы должны отыскать ее! И двух моих служанок тоже! Надо же рассказать им то, что мы знаем… Чтобы они никому не доверяли…
— Успокойтесь, мисс Харлоу, — поспешил отозваться агент, не обращая внимания на писателя. — Конечно же, мы немедленно отыщем вашу почтенную тетушку и уважаемых служанок. Это будет первое, что мы сделаем, а потом… Впрочем, не станем терять время на бесполезные разговоры, я все вам расскажу по дороге. Итак, в путь! — Он возглавил процессию, бросив раздраженный взгляд на Уэллса.
— У человека тысячи планов, у судьбы же всего лишь по одному на каждого человека, — пробормотал он.
Выйдя на улицу, они увидели вдали яркое зарево и клубы дыма, поднимавшиеся к небу над крышами домов в районе Челси. Этого было вполне достаточно, чтобы понять, что происходит, однако ветер принес им дополнительное свидетельство — уже хорошо знакомые звуки взрывов в местах попадания теплового луча. Эмма ухватилась за Мюррея, который крепко сжал ей руку.
— Похоже, они уже вступили в Лондон, — скорбным тоном произнес Уэллс, стараясь не выдать своего страха за судьбу Джейн.
XXIX
Эмма подождала немного, пока не убедилась, что с ее лица полностью исчезло выражение стыда, охватившего ее в последние минуты. Стараясь выглядеть по возможности спокойной, она повернулась к троим мужчинам, стоявшим за ее спиной посреди роскошной гостиной, куда они только что вошли, и улыбнулась им со светским равнодушием.
— Совершенно ясно, что дом пуст! — заявила она, пожав плечами. — Мы осмотрели его весь, начиная с помещений для прислуги и кончая самой дальней комнатой… Тетя Дороти и все остальные, включая двух моих служанок, исчезли… Наверняка они покинули дом, чтобы укрыться в более надежном месте… — Она сделала вид, будто поправляет манжеты на платье, в то время как старалась скрыть горечь, зазвучавшую в ее голосе. — И совершенно ясно, что они сделали это, не подумав обо мне… Даже паршивой записки не оставили, чтобы сообщить о своем местонахождении…
— Не думайте так, Эмма… — бросился утешать ее Мюррей, расстроенный состоянием девушки, заставившей их тащиться до самого Саутуорка, потому что она была охвачена тревогой, которая, похоже, не нашла отклика у обитателей дома. — Сами подумайте, какой ужас, должно быть, испытывала ваша тетушка, услыхав о вторжении, эта дама почтенных лет…
— Моя тетушка так же похожа на даму почтенных лет, как вы на миссионера, мистер Мюррей, — прервала его Эмма, наконец-то дав волю своей злости. — Вернее будет сказать, что это эгоистичная старая дева, которой всегда было на всех и на все наплевать, в том числе, как вы могли убедиться, и на свою единственную племянницу… — Она грустно улыбнулась. — А вы знаете, что моя мать пугала меня ее судьбой всякий раз, когда я отвергала очередного поклонника? «Ты кончишь так же, как сестра твоего отца, Эмма, — обычно говорила она, — и станешь такой же старой, одинокой и мрачной!» Впрочем, меня никогда не страшила подобная участь. Напротив, я всегда приводила в отчаяние мать, когда отвечала, что именно такое будущее мне больше всего по вкусу. Но теперь… теперь… — Девушка внезапно почувствовала, как при воспоминании о матери ее глаза наполняются слезами. Она вдруг представила, как та сидит в залитом светом музыкальном салоне, поглядывая на дочь поверх очков в позолоченной оправе с тем самым смущенным выражением, с каким обычно глядела на нее в том мире, который теперь оказался таким далеким и нереальным, в мире без марсиан, где кончить так же, как старая тетка Дороти, было худшей угрозой. — Теперь я бы все на свете отдала, лишь бы не сердить ее так часто, — заключила она и с грустью взглянула в окно, за которым вырисовывался стройный саутуоркский собор.
— Не беспокойся, Эмма, — сказал Мюррей и сделал неверный шаг по направлению к ней. — Обещаю, что ты еще не раз рассердишь свою обожаемую матушку. И даже батюшку. Пока не знаю как, но я привезу тебя обратно в Нью-Йорк живой и здоровой. Говорю это совершенно серьезно, Эмма.
Краем глаза Уэллс заметил, как Клейтон скорчил недоверчивую гримасу, что еще больше усилило антипатию, которую он питал к агенту. Пока что Мюррей, как бы ни было тяжело это признавать, проявил себя куда более надежным товарищем в противостоянии марсианам, нежели спесивый агент спецподразделения Скотленд-Ярда. По сути дела, если не считать его своевременного вмешательства тогда на ферме, Клейтон пока что не доказал, что они не зря возились с ним, перевозя с одного места на другое. К счастью, его грубая гримаса осталась незамеченной. Все были чересчур сосредоточены на драматической сцене, главными героями которой они являлись и которая была достойна быть запечатленной на витражах церкви напротив, украшенных сценками из произведений Шекспира. Эмма повернулась к Мюррею и улыбнулась ему сквозь слезы.
— Я знаю, что ты говоришь это всерьез, Гиллиам, — сказала она, и миллионер подтвердил ее слова энергичным кивком.
— Не хотите ли расспросить про вашу тетушку соседей, мисс Харлоу? — предложил Уэллс, воспользовавшись короткой паузой. — Возможно, они что-нибудь знают…
— У нас нет на это времени, мистер Уэллс, — недовольно перебил его Клейтон, чье недолгое терпение, видимо, лопнуло. — Слышите залпы со стороны Ламбета? Я уверен, что треножники входят в город и с той стороны тоже. Мы должны как можно скорее уходить отсюда, не то…
Словно в подтверждение его слов два взрыва, последовавшие один за другим, озарили горизонт за окном. Они прозвучали гораздо ближе, чем хотелось бы нашим беглецам.
— Я не собираюсь рыскать по всему Лондону в поисках тетушки, джентльмены. Мне кажется, я полностью выполнила перед ней свой долг, — твердо заявила Эмма. — Но если вы не возражаете, агент Клейтон, то я бы хотела подняться в свои комнаты и переодеться во что-нибудь более подходящее. У меня есть легкий костюм для верховой езды, в котором мне будет удобнее бегать от марсиан… Я задержу вас всего на несколько минут.
— Хорошо, мисс Харлоу, идите переодеваться, — с покорным видом разрешил агент. — Но прошу вас поторопиться.
Девушка слегка поклонилась ему и быстро покинула гостиную в сопровождении своего могучего и верного стража.
— Вы позволите мне вас проводить, мисс Харлоу? — осведомился при этом Мюррей. — Разумеется, только до двери.
— Конечно, мистер Мюррей, — ответила девушка. — И если какой-нибудь марсианин вдруг выскочит из одного из моих сундуков, вы сможете быстро вбежать и выбросить нас обоих в окно.
— Ну что вы, я бы никогда так с вами не поступил, мисс… С Уэллсом или агентом — другое дело, но только не с вами…
Писатель и агент с трудом расслышали ответ миллионера, которому предшествовала целая симфония, исполненная скрипучими ступеньками. Клейтон с силой ударил по плечу Уэллса, заставив того подпрыгнуть.
— Прекрасно! Помогите мне найти бумагу и карандаш, мистер Уэллс, — попросил агент и принялся открывать ящики и рыться в их содержимом, словно намеревался похитить драгоценности старушки. — Используем полученные минуты, чтобы наметить самый надежный путь из этого района в место, куда я собираюсь отвести вас. Попробуем предугадать, какой дорогой двинутся треножники, хотя в любом случае нам придется опираться на логику военных достижений землян. Само собой, мы должны учесть огромные размеры этих машин. Нам нужны переулки и узкие улочки, удаленные от линии… Проклятье! Что, в этом доме никто не пишет? Возможно, в библиотеке… Кстати, мистер Уэллс, вы знаете этот район?
— Разве я похож на кучера? — ответил писатель с явным раздражением и не спеша подошел к изящному секретеру, стоявшему в углу комнаты, в котором, естественно, нашел то, что искал. — Вот бумага и чернила, агент. Вам не придется буравить стены и вскрывать половицы.
— Хорошо, хорошо. Это уже кое-что… — произнес Клейтон и вырвал из рук Уэллса письменные принадлежности. Затем он направился к столу, стоявшему посреди гостиной, и, недолго думая, одним движением руки сбросил на пол пару украшавших его подсвечников. — Так, если собор находится здесь, то мост Ватерлоо должен быть…
— Клейтон! — сердито перебил его Уэллс. — Вы же не верите, что мы выйдем живыми из этой переделки, верно?
— С чего вы это взяли? Если нам немножко повезет и…
— Бросьте, агент. Я видел, как вы скривились, когда Мюррей сказал мисс Харлоу, что доставит ее целой и невредимой в Нью-Йорк…
— Не путайте разные вещи, — улыбнулся Клейтон. — Я скептически отнесся не к возможности выбраться живыми из Лондона, а к тому, что Нью-Йорк останется надежным местом, где можно будет укрыться.
От неожиданности Уэллс остолбенел. Но тут же был вынужден согласиться, что подобный зловещий вариант подспудно давно присутствовал в его мыслях, а также в мыслях его товарищей, хотя никто из них не решился бы заговорить об этом вслух или даже признаться в существовании такой возможности самому себе, ибо это означало бы, что им некуда бежать. И только агент Клейтон осмелился признать подобное положение вещей.
— Вы хотите сказать… Боже мой… Ведь не исключено, что марсиане в данный момент уже захватывают и Нью-Йорк… а возможно, и другие города…
— Такая вероятность существует, — ответил Клейтон и вновь уставился в бумагу, которую прижимал к столу своим изуродованным протезом. — И мы должны ее учитывать… Нет, мост находится выше…
— Но тогда… — забормотал Уэллс, невзирая на явное нежелание агента продолжать разговор, потому что ему самому было необходимо выговориться. — Тогда бессмысленно все, что бы мы ни делали…
Клейтон оторвался от карты и взглянул на писателя. Его узкие глаза поблескивали из-под черной челки.
— Каждая секунда жизни имеет смысл. С каждой выигранной секундой мы умножаем возможность выиграть следующую. Советую вам ни о чем другом не думать, — торжественно произнес он и снова сосредоточился на своей карте. — Где же должен быть этот треклятый мост Ватерлоо?
Пока Мюррей нес караул возле двери, Эмма переоделась, причем с поразительной быстротой, поскольку в отсутствие горничной решила проблему раздевания просто: разрезала свое платье серебряными ножницами. Результаты этой операции она спрятала, сама не зная почему, под кроватью и переоделась в костюм для верховой езды, привезенный из Парижа и состоявший из легкого приталенного жакета и юбки, разделенной на две широкие штанины, с бледно-зеленым поясом. Затем она собрала волосы в пучок и, став похожей на хрупкого подростка, встала перед зеркалом, гадая, какое впечатление произведет на Мюррея ее наряд. Она уже собиралась выйти в коридор, как вдруг ее внимание привлек какой-то предмет, торчавший из одного из сундуков.
Она сразу узнала его, но еще несколько мгновений колебалась, держа руку на дверной щеколде, а потом со всех ног бросилась к сундуку и схватила этот предмет, словно боялась, что он растворится в воздухе. Сначала она прижимала его к себе, стоя на коленях возле сундука, затем развязала красную ленточку, которой он был перевязан, и с торжественной осторожностью развернула. Карта звездного неба, которую ее прадед нарисовал для своей дочери Элеоноры, раскрывалась, не оказывая сопротивления, и лишь уютно и мелодично потрескивала, словно дрова в камине. Похоже, она совсем не сердилась на Эмму за то, что по ее милости все последние годы пребывала в заточении. Тут Эмме вспомнился момент, это было века и века назад, когда она решила включить карту в число вещей, которые собиралась захватить с собой в Лондон. Почему она это сделала, если уже много лет относилась к карте как к забавному пустячку? Какую пользу могла принести ей карта в путешествии, единственной целью которого было унизить самого несносного человека на свете? У нее не было ответов на эти вопросы. Но сейчас девушка была рада, что захватила карту с собой и может снова любоваться ею — наверное, в последний раз.
Расстелив ее на полу, Эмма принялась обследовать давно знакомый чертеж с помощью пальцев, как делала это еще маленькой девочкой, рассматривая на темно-синей поверхности каждую из прожилок, придававших такой красивый вид звездному океану. Она дошла до солнца и почти почувствовала, как приятно нагревается подушечка указательного пальца и к ней доходит мягкое, уютное тепло, подобное тому, что исходило от спины ее кошки; затем она перевела пальцы на поверхность какой-то туманности, почувствовав прикосновение чего-то липкого, напоминавшего сладкую вату, и в конце концов попала на скопление звезд, от чьего ледяного свечения пальцам стало щекотно. Уклонившись от столкновения с несколькими воздушными шарами, перевозившими пассажиров, которые с изумлением разглядывали ее гигантский палец, что вызвало у Эммы улыбку, девушка добралась до одного из уголков карты, где симпатичные человечки с острыми ушками и раздвоенными хвостиками бороздили пространство верхом на оранжевых цаплях, направляясь к границе чертежа, за которой наверняка находился их чудесный дом. Их чудесный дом… Девушка застыла, уперев палец в угол карты и красиво изогнув шею, словно девочка из сказки, что искала свое отражение на дне реки. Бежали одна за другой секунды, а она все не меняла позы. Ей хотелось свернуть карту и встать, но что-то заставляло продолжать стоять перед ней на коленях, тихо и завороженно, растворившись во времени. И тут в самой глубине ее души постепенно начали зарождаться, словно воздушные пузырьки в горячей патоке, пока еще сдавленные рыдания. Эмма перенесла свой вес на руки, наклонив тело к полу. Она глубоко вдохнула воздух, жадно вдохнув вместе с ним всю боль, что плавала вокруг, все разочарование, весь страх, всю бессмыслицу жизни. И когда она почувствовала, что уже полна, когда ее сердце на миг перестало биться, переполнившись тоской и отчаянием, Эмма рухнула на карту как срезанный цветок, и рыдания сотрясли ее тело. Страшный приступ безудержного плача раздирал ей грудь, унося куда-то далеко, словно сама она вырывалась из своего безвольного, бьющегося в конвульсиях тела.
Тут дверь резко распахнулась, и в комнату вбежал встревоженный Мюррей.
— Что, черт побери, происходит? С тобой все в порядке, Эмма? — с озабоченным видом спросил он и огляделся по сторонам в поисках противника.
Убедившись, что в комнате никого нет, Мюррей подошел к девушке, опустился рядом с ней на колени и робко дотронулся своей ручищей до дрожащей спины. Эмма продолжала плакать, хотя теперь уже тише, словно убаюкивая себя собственными всхлипываниями. Мюррей осторожно поднял ее, так что голова девушки легла ему на плечо, и заключил в крепкие спасительные объятия. Теперь они оба смотрели на карту, расстеленную на полу, словно скатерть на пикнике.
— Что это за рисунок, Эмма? — спросил наконец Мюррей как можно мягче, ибо опасался, что его любопытство вызовет новые рыдания.
Девушка вздохнула и провела рукой по мокрым щекам.
— Это карта неба, — тихо сказала она. — Чертеж Вселенной, сделанный моим прадедом Адамом Локком. Он подарил его моей бабушке, та — моей маме, а мама — мне. Все женщины в нашем роду росли, думая, что Вселенная такова…
— Из-за этого ты плакала? Н-да… — сказал Мюррей. — Мечты — прекрасная штука.
Эмма подняла голову и заглянула ему в глаза. Их лица оказались так близко друг к другу, что Мюррей мог вдыхать соленый аромат ее слез и даже ощущать влажность ее кожи.
— Да, теперь я это знаю. Разве не ужасно, Гиллиам? Теперь… — сказала она, и он ощутил ее сладковатое, чуть резкое дыхание, как у только что проснувшегося ребенка, то есть абсолютно незнакомое доселе миллионеру, но окончательно смутившее его душу. — Я плакала не потому, что ушло время, когда я считала, что Вселенная такова… И не потому, что несколько часов назад все земные мечты были навсегда похоронены. Нет, я плакала из-за своей глупой безответственности. Ведь если бы я знала, что наступит день, когда мечтать станет невозможно, то ни за что не рассталась бы с мечтой… Ни за что на свете. Я бы все решила по-другому. А теперь я не знаю, как вернуть утраченное время. Вот что я оплакивала. Утраченное время, утраченные мечты… Куда деваются мечты, с которыми ты расстаешься? Куда, Гиллиам? Есть ли во Вселенной для них особое место?
Мюррей заметил, что радужная оболочка глаз у девушки не была целиком черной, как казалось издали. Тонкие прожилки, одни цвета меда, другие почти золотые, рождались в ее зрачках, как изящные драгоценные нити, плавающие в бездонной темноте пространства.
— Никуда они не деваются. Думаю, они остаются в нас, — ответил он. Затем вздохнул, нежно улыбнулся девушке и добавил: — Я ведь тебя видел, Эмма. Видел тебя маленькой.
— Маленькой? Что ты имеешь в виду?
— Что я тебя видел. Только не спрашивай, как это могло быть, потому что я и сам не знаю. Но мне это удалось, Эмма, — настаивал он. — Я знаю, что это похоже на безумие, но в день нашей второй встречи, когда мы гуляли в Центральном парке, перед тем как ты рассердилась и ушла, бросив меня посреди моста, был такой момент, когда я посмотрел тебе в глаза… и увидел тебя. Тебе было, наверно, лет десять или одиннадцать. Ты была в желтом платьице…
— Насколько я помню, у меня никогда не было желтого платьица.
— Ты тогда носила локоны…
— Боже мой, Гиллиам, да не было у меня никаких локонов…
— И ты прижимала к груди вот эту свернутую карту, — закончил Мюррей и кивнул на рисунок Локка.
Она замолчала и посмотрела ему в глаза, пытаясь распознать, не лжет ли он. Но поняла, что он говорит правду. Гиллиам видел ее.
И тогда, если только возможно упасть вверх, если сила тяготения на какой-то миг забудет о своих обязанностях и перестанет пригвождать нас к земле, словно пресс-папье, если такое возможно, то с Эммой это самое и произошло. Да-да, она упала вверх, сорвалась в небо. Подобно капле, неизбежно скатывающейся по зеленому листку, Эмма соскользнула к лицу Мюррея, глядевшего на нее с такой пугающей серьезностью, с такой пламенной напряженностью, что она подумала, будто уже достигла Солнца и запылает при первом же прикосновении его губ. Но они не успели проверить способность их кожи к возгоранию, поскольку в этот миг из коридора до них донесся голос Уэллса:
— Мисс Харлоу, Гиллиам! Где вы?
— Мы здесь! В последней по коридору комнате! — громко отозвалась девушка и, мгновенно вытерев слезы, вскочила на ноги, в то время как Мюррей продолжал стоять на коленях, точно ожидал, что она посвятит его в рыцари. — Пошли, Гиллиам, вставай… — шепнула ему Эмма.
Уэллс вошел в комнату в сопровождении Клейтона. Оба остановились на пороге, пораженные странной сценой, что предстала их взору: Эмма стояла посреди комнаты с покрасневшими и опухшими глазами, а у ее ног в комичной позе застыл коленопреклоненный Мюррей.
— Вы что, упали, Мюррей? — изумленно осведомился Клейтон.
— Не говорите ерунды, агент… — проворчал миллионер и встал на ноги. — Что тут, черт побери, происходит?
— Как это что происходит? — взорвался Клейтон. — Взгляните в окно. Видите пожары на горизонте? Треножники наступают со стороны Ламбета. Нужно уходить!
Мюррей рассеянно посмотрел в окно, словно происходящее его не касалось, и агент даже фыркнул от возмущения.
— Вы успели переодеться, мисс Харлоу? — обратился он к Эмме.
Девушка расставила в стороны руки, не считая нужным отвечать.
— Вижу, — сказал Клейтон, с легким смущением окинув ее с головы до ног. — Хорошо, тогда отправляемся в путь. Я проведу вас в безопасное место, где можно будет переночевать. Там мы дождемся рассвета, чтобы отправиться вместе с мистером Уэллсом на свидание в Примроуз-Хилл, — торжественно закончил он.
— Подождите, агент! Я не собираюсь никуда вести мисс Харлоу до тех пор, пока вы не скажете нам, куда мы направляемся, — возмутился Мюррей. Он был сильно раздражен. — Разве в Лондоне еще остались безопасные места? Надеюсь, вы не имеете в виду какую-нибудь церковь? Вы что, верите, что Господь нас защитит?
— Подозреваю, что сегодня Господь будет слишком занят, чтобы заниматься нами, мистер Мюррей. Мы отправимся в место, которое не подпадает под Его юрисдикцию, — ответил Клейтон и большими шагами пошел по коридору к выходу.
Уэллс последовал за ним. Мюррей тоже собрался идти и пропустил вперед Эмму, которая, уходя, бросила через плечо быстрый взгляд на карту неба, по-прежнему развернутую на полу, демонстрируя добродушную, но явно ошибочную Вселенную.
XXX
— Это вы называете безопасным местом? — спросил Мюррей, разочарованно оглядываясь по сторонам. — По-моему, вы слишком высокого мнения о своем жилище, Клейтон.
Речь шла о скромной квартире на Юстон-роуд, состоявшей из гостиной и маленького кабинета на первом этаже и нескольких спален на последующих, причем их размеры уменьшались с каждым этажом, так как дом, устремляясь к небу, одновременно сужался. К сожалению, Уэллсу были прекрасно знакомы эти убогие конурки, беспорядочными рядами теснившиеся в северной части Блумсбери, потому что сам он в студенческие годы жил в одной из таких, и подобные жилища всегда казались ему наиболее точным воплощением того, насколько иррационально, без всякого плана, велась застройка города. Они пробрались сюда, перейдя через Темзу по мосту Блэкфрайерс, затем обошли стороной набережную Виктории и пересекли Ковент-Гарден и Блумсбери. При этом они выбирали самые глухие улочки, лишь в крайних случаях выходя на главные магистрали, заполненные не на шутку перепуганными людьми, которые беспрестанно сновали взад и вперед. Было очевидно, что лондонцы наконец-то поняли: город уже не является неприступной крепостью, как их в этом уверяли. Никто из них еще не видел треножники, но все они бежали со всех ног, убежденные, что это нечто ужасное, самое ужасное, что только можно себе вообразить. На самом деле, подумал Уэллс, несчастные бежали от страхов, порожденных их воображением, которое разыгрывалось при громовых раскатах взрывов. Как сказал ему Клейтон тогда в экипаже, иной раз воображаемое гораздо страшнее, чем действительность. Когда марсианские машины показались на фоне крыш и принялись разрушать дома с помощью мощного теплового луча, их злодейства даже как-то разочаровали. Но пока экипаж с вычурной буквой «Г» на дверце пробивался сквозь людское море и писатель всматривался в толпу, наивно надеясь разглядеть Джейн, у них было время собрать богатый урожай слухов. Так, например, они услышали, что королева убита. Кто-то ворвался в Виндзорский замок и зверски расправился со всей охраной и прислугой, не оставив в живых ни единого человека. Похоже, нечто подобное произошло также в пожарном депо, в парламенте, в Королевском госпитале в Челси и других учреждениях города. Еще они узнали, что кто-то освободил заключенных в Пентонвильской и Ньюгейтской тюрьмах. Никто не мог взять в толк, как в такой ситуации нашлись люди, способные совершить эти преступления, которые не имели, по-видимому, иной цели, кроме как причинить бессмысленное зло, будь то безумная затея с освобождением заключенных или убийства министров. Но пассажиры экипажа, разумеется, понимали, в чем тут дело. Они знали, что эти атаки не были ни произвольными, ни тем более человеческими. Эти безжалостные нападения осуществляли существа, подобные тому, с каким они столкнулись в Скотленд-Ярде, следуя четкому плану, тщательно намеченной стратегии, направленной на то, чтобы дестабилизировать оборону города изнутри. На самом деле треножники были штурмовыми частями, вестниками разрушений, символом наиболее грубой фазы вторжения, которое имело и свою более тонкую сторону. Именно существа, которые жили среди них в человечьем обличье, были ответственны за вторжение боевых машин в расчлененный город, не способный не только выстроить против них надежную оборону, но даже воспринять связный приказ.
И вот теперь они слышали оглушительные залпы треножников, доносившиеся как будто со всех сторон сразу. Как они подозревали, захватчики из космоса не только прорвали оборонительную линию у Ричмонда, но обнаружили и другие прорехи в выстроенном армией кольце обороны и в данный момент вступали в город с разных направлений, если не со всех одновременно. Скоро весь Лондон окажется в руках марсиан, и в целом городе не останется ни одного места, где они смогли бы спрятаться, а если даже и найдется такое, то это будет, разумеется, не картонный, как им казалось, домик Клейтона. Тем не менее у агента было на сей счет иное мнение. Он лишь загадочно улыбнулся в ответ на реплику миллионера и попросил своих спутников следовать за ним. Он привел их в подвал здания, тускло освещенное и весьма душное помещение под землей, где стояла плита и имелись запасы угля. Не переставая улыбаться, Клейтон принялся манипулировать с плитой.
— Какого черта? — возмутился Мюррей. — Вы что, собираетесь приготовить нам чай? Мы, конечно, благодарны вам, Клейтон, но вряд ли кто-нибудь из нас сможет спокойно им насладиться…
Миллионер не окончил фразу, потому что в этот момент Клейтон нажал на небольшой рычаг, скрытый внутри топки, и одна из стенок плиты начала перемещаться. Все удивленно наблюдали за тем, как благодаря какому-то потайному механизму стенка сдвигается в сторону, подобно театральному занавесу, открывая взору совсем небольшое пространство размером с платяной шкаф, где обнаружился люк в полу. С любезной улыбкой Клейтон пригласил всех проходить внутрь, и, когда они с трудом разместились там, тесно прижавшись друг к другу, дождался, пока стена вернулась в прежнее положение, после чего открыл люк. А затем по узкой лесенке начал спускаться в угадываемый внизу полумрак.
— Следуйте за мной, — распорядился он. — Последнего попрошу закрыть люк.
Ко всеобщему удивлению, лесенка привела их в огромную комнату, отделанную камнем. Те, кто обставлял и украшал ее, явно не скупились на роскошные вещи, способные удовлетворить самый экзотический вкус, словно это убежище создавалось для какого-нибудь короля. Вдоль стен располагались шкафы, заполненные книгами с корешками тисненой кожи; пол покрывали мягкие персидские ковры из шелка; по углам стояли синие китайские вазы, а в закрытых витринах поблескивали бокалы венецианского стекла. Был здесь даже величественный мраморный камин, чей дымоход, должно быть, пронзал насквозь располагавшийся над ним домик или же обходил его зигзагами под землей и выплевывал свой дым неизвестно где, чтобы самые набожные прихожане приняли его за одни из многочисленных ворот ада. Клейтон зажигал одну за другой лампы, разбросанные по роскошному залу, а остальные с восхищением, смешанным с недоверием, разглядывали убежище. Похоже, его выкопали специально для таких случаев и снабдили всем необходимым для того, чтобы находиться здесь достаточно продолжительное время, ибо рядом с огромным залом располагалась небольшая кладовка, судя по всему, до отказа набитая разнообразными продуктами и утварью.
— Как видите, до рассвета мы будем тут в безопасности, — сказал Клейтон, закончив зажигать лампы.
— Да сюда можно на каникулы приезжать, — весело отозвался Мюррей, с любопытством разглядывавший стоявшие на деревянной полочке и исправно тикавшие изысканные часы в стиле Людовика XIV.
Агент горделиво усмехнулся.
— Этот дом выстроил не я, — объяснил он. — Он был конфискован у бывшего хозяина, которого я арестовал при расследовании одного из самых громких моих дел. Начальство проявило чуткость, подарив его мне в знак признания моих заслуг.
— А кто был его хозяин? — осведомился писатель, изумившись про себя, что существуют на свете занятия, способные обеспечить кого-то подобным логовом.
— О, боюсь, что я не уполномочен раскрыть его имя, мистер Уэллс.
Уэллс ожидал похожего ответа, а потому покорно кивнул и продолжил рассматривать уютное убежище. Кто бы ни был построивший его человек, здесь они смогут спокойно отдохнуть, хотя писатель был уверен, что всю ночь не сомкнет глаз, представляя, как Джейн в это время бежит по улице в обезумевшей от ужаса толпе. Однако, ввиду того что пока он ничего не может для нее сделать, разумнее было бы, воспользовавшись случаем, отдохнуть и немного подкрепиться. Да, им необходимо восстановить силы, чтобы во всеоружии встретить то, что им готовит грядущий день. Кстати, девушка уже рылась в кладовке, измученная невольным постом. Однако, к его разочарованию, когда Эмма вернулась в зал, то единственным, что она принесла, была маленькая аптечка, содержавшая, похоже, все необходимое, чтобы обработать рану на плече у Мюррея, нанесенную лапой существа, которую Уэллс даже не заметил. Девушка попросила у агента разрешения воспользоваться аптечкой.
— Конечно, мисс Харлоу. Располагайтесь поудобнее, — сказал Клейтон, указывая на кресла. Потом посмотрел на писателя и добавил: — А вас я приглашаю пойти со мной, мистер Уэллс. Хочу показать вам кое-что весьма для вас любопытное.
Уэллс неохотно последовал за ним, недовольный тем, что теперь ему придется не только скрывать от возвышенных умов такую низменную потребность, как утоление голода, но и преодолевать еще одно испытание, связанное с невозможностью дать покой своим костям в одном из этих мягких кресел. Клейтон шел впереди по коридору, минуя разные двери, пока не остановился перед небольшой железной дверцей, запертой на висячий замок. Агент принялся вертеть его так и этак своей искусственной рукой, отыскивая отверстие для ключа, но тут у Уэллса лопнуло терпение. Он выхватил ключ и, поборов сопротивление замка, открыл дверь. После чего театральным жестом швейцара в гостинице пропустил вперед Клейтона. С немного недовольным видом агент вступил в полумрак комнаты. Когда оба скрылись из виду, Мюррей втайне поблагодарил судьбу за возможность остаться наедине с девушкой в таком уютном месте. Эмма попросила его сесть в одно из кресел, что он с удовольствием выполнил. Мюррей со снисходительной улыбкой следил, как она открывает аптечку, вынимает бинты, марлю, ножницы и кладет их на соседний столик, и делал вид, что его совершенно не тревожит рана на плече.
— Нет нужды беспокоиться, Эмма, нет, правда, — ласково произнес он. — У меня уже почти не болит.
— А мне кажется, это очень нехорошая рана, — в шутку возразила она.
— Как это нехорошая? — всполошился Мюррей.
Эмма весело рассмеялась.
— Не бойся, это всего лишь царапина, — успокоила она. — Не думаю, что она тебя убьет.
— У меня просто гора с плеч свалилась, — игриво улыбаясь, ответил миллионер.
— Я имела в виду, вторично не убьет, — объяснила девушка, внезапно посерьезнев, и стала дезинфицировать рану.
Мюррей прикусил губу. Вот проклятье, подумал он.
— Я должен тебе кое-что объяснить, — признал он, жалея, что эти спокойные мгновения нельзя использовать на что-то более душевное, нежели ненужные препирательства.
— Да, было бы неплохо, — ответила она, продолжая перевязывать рану. — По крайней мере, я умру, избавившись от многих сомнений.
— Что ты хочешь сказать? Дьявол, да я же Властелин времени! — громко возмутился Мюррей. — Мы с тобой только-только познакомились! У нас вся жизнь впереди!
— Вся жизнь впереди? Напоминаю тебе, Гиллиам, что в эту минуту Землю захватывают марсиане, — заметила девушка, поражаясь его наивности. — Тебе не приходит в голову, что это может слегка нарушить наши планы?
— Может быть, может быть… — раздраженно признал Мюррей. — И именно сейчас, будь они прокляты…
Разумеется, Мюррей знал, что марсиане захватывают планету, но до сих пор это как бы… не имело ни малейшего значения. Как будто вторжение к ним не относилось. Он был настолько воодушевлен отношениями, сложившимися у него с Эммой, что марсиане казались ему досадной помехой, с которой он со временем разберется. Но тут вдруг он понял, что она принимала все его обещания спасти ее с улыбкой не потому, что верила в них, а с единственной целью — чтобы сделать ему приятное, и это взволновало его и одновременно расстроило.
— Действительно, как некстати, правда? — сказала Эмма, а потом, глядя на него так же ласково, как смотрит мать на своего избавившегося от иллюзий сына, добавила: — Ты даже влюбиться в меня не успеешь.
— Ты уверена? — спросил Мюррей. — Сколько же времени, по-твоему, мне понадобится?
— Не знаю. Я была бы рада сказать, но сама еще никогда не влюблялась, — грустно созналась она, пожимая плечами. — И боюсь, что так и умру, ни разу не влюбившись…
Сказав это, она замолчала, потрясенная собственными словами. Впервые в жизни она демонстрировала мужчине свою уязвимость. Более того, она вообще впервые в жизни демонстрировала кому бы то ни было, что уязвима. Уязвима, как маленькая девочка. И не жалела об этом. Наоборот, она внезапно почувствовала приятное облегчение. Больше не имело смысла бравировать своей неуязвимостью, но она сбросила маску, с помощью которой защищалась от мира, не только потому, что та потеряла значение в мире, который будет разрушен. Просто сидевший перед ней громадный мужчина доказал, что любит ее, и он любил ее, только ее и несмотря на нее. Да, этот мужчина, относившийся ко всем с пренебрежением и высокомерием, даже безжалостно, но который, однако, разговаривал с ней с бесконечной деликатностью, этот мужчина, пытавшийся подоить корову, чтобы Эмма могла утолить жажду, завоевал это право. Ей уже не хотелось с ним притворяться. Она скоро умрет, возможно ужасной смертью, так зачем же отправляться на тот свет, выдавая себя не за того, кем она была. Пусть хотя бы один человек на Земле знает, какая она в действительности. Мюррей собирался было вновь повторить, что не допустит ее гибели, но передумал. Нет, сказал он себе, я не должен ей лгать. Да и чем может помочь ложь, когда очевидно, что все они обречены. В это мгновение, словно подтверждая его мысли, оглушительный залп грянул у них над головами. Они испуганно посмотрели на потолок. Взрыв прогремел совсем близко, и это могло означать лишь то, что треножники вступили в Блумсбери. Возможно, как раз в эту минуту они победным маршем проходили по Юстон-роуд и, покачиваясь на своих трех ногах, бессмысленно палили по зданиям, ибо нет лучшего способа показать свою власть, чем применять ее необоснованно.
— Что мне сделать, чтобы ты меня полюбила? — мягко спросил миллионер, когда стихло эхо от взрыва. — Может, я еще успею этого добиться, прежде чем мы умрем…
Эмма улыбнулась, благодарная Мюррею за то, что он не стал напоследок лгать и говорить, что они как-нибудь выпутаются из этой переделки, как сделал бы на его месте любой. Ей было приятно, что и в этом непокорный гигант оказался не похож на других.
— Я уже убедилась, что ты способен убить из-за меня и даже выбросить из окна монстра, — сказала она. — Но мне нужно нечто большее, хотя я и не знаю, что именно. В любом случае вряд ли у тебя будет время сделать что-нибудь еще. — Она взглянула на него с нежностью, смешанной со смирением, и взяла его руки в свои. И вдруг ее глаза загорелись. — Ты должен влюбить меня в себя с помощью чего-то, что ты уже совершил! Да, именно так! Что ты сделал в своей жизни такого, что заставило бы меня влюбиться, Гиллиам?
Мюррей вздохнул. Ему было приятно, что она называет его по имени, которое в ее устах звучало так вкусно, словно это был кусочек торта или долька апельсина.
— Боюсь, что ничего, — ответил он с горечью. — Если бы я знал, что надо влюбить тебя своими поступками, то моя жизнь была бы совершенно другой, уверяю тебя.
Он выпрямился в кресле и грустно посмотрел на нее. Он любил ее и, вероятно, поэтому хорошо знал, не успев как следует познакомиться. Он продолжал бы ее любить и в том случае, если бы она призналась, что в прошлом убивала или грабила. Его любовь была настолько сильной и безрассудной, что не позволяла судить ее. Он любил ее за то, что она такая как есть. Он любил ее за ее красоту, хотя это явно недостаточное объяснение. Наверное, вернее будет сказать, что он любил ее за ее способ существования в мире, за ее глаза, улыбку, жесты, за нежность, с которой она убивала бы или грабила. Однако она не любила его. Что же здесь можно поделать? — спрашивал он себя, глядя на неуклюжего верзилу, отражавшегося в зеркале напротив.
— Что должен сделать мужчина, чтобы ты в него влюбилась? — спросил он больше из любопытства, потому что уже не сомневался: ему такого не сделать даже по ошибке. — Кто-нибудь хоть раз заставил тебя почувствовать, что ты могла бы его полюбить?
Эмма чуть прикрыла глаза, и ее лицо приняло сосредоточенно-мечтательное выражение. Мюррей пожалел, что не владеет трудным ремеслом живописца и не может увековечить этот взгляд на холсте. И поскольку навыки рисования у него, мягко говоря, отсутствовали, ему оставалось лишь запечатлеть каждую деталь ее лица в своей памяти и бережно хранить среди мягкой соломы прочих воспоминаний.
— Мой прадед, — сказала наконец девушка.
— Ричард Локк? Этот обманщик?
— Не называй его так! — возмутилась Эмма. — Я знаю, что он обманул весь мир, обманул меня и всех нас. — Она сделала паузу и задумчиво улыбнулась. — Раньше мне даже нравилось, что он оказался хитрее всех, понимаешь? Да, я гордилась тем, что моя кровь выше доверчивой и глупой крови всех прочих. Но это только одна сторона медали. Теперь я смотрю на него иначе. И думаю, что смогла бы полюбить человека, который сделал бы то же, что он… А ведь он просто учил людей мечтать.
Несколько мгновений Мюррей молчал, уставившись на Эмму. А затем на его губах медленно расцвела улыбка. Учить людей мечтать… Ну да, почему бы и нет? Как сказала девушка, на все можно посмотреть иначе. Весь вопрос в угле зрения.
— Тогда я расскажу тебе одну историю, Эмма. Ее никто не знает. И тебе не останется ничего другого, как влюбиться в меня. Что ты знаешь о «Путешествиях во времени Мюррея»?
— Ну, в общем, то, что смогла прочесть в газетах, — недоуменно ответила она. — И, в частности, то, что компания закрылась именно в тот момент, когда мне удалось убедить мать отправиться в Лондон и принять участие в третьей экспедиции в двухтысячный год. Было сказано, что фирма прекращает работу по причине твоей смерти.
— Ну, значит, сейчас ты удивишься… — начал Мюррей.
Прошу извинить меня за то, что прерываю повествование на самом интересном месте, но, хотя начавшийся выше разговор представляется весьма любопытным, мне, так же как и вам, не терпится узнать, что в это время происходит в маленькой комнатке, куда зашли Уэллс и Клейтон. «Хочу показать вам кое-что весьма для вас любопытное», сказал агент Уэллсу. Что это, просто предлог, чтобы оставить наших голубков наедине? Зная, насколько тактичен агент в подобных вопросах, позвольте мне усомниться. Тогда, может быть, это тонкий способ увести Уэллса, не обидев остальных? Гораздо более вероятно. Но зачем агент хотел уединиться с писателем? А если то, что происходит там, внутри, важнее для нашей истории, чем происходящее в гостиной? Хотел бы я обладать умением пересказать оба разговора одновременно, но, к сожалению, это качество не принадлежит к числу моих скудных достоинств, так что я должен пожертвовать разговором в гостиной ради беседы в комнатке и молиться, чтобы Уэллс с Клейтоном не обсуждали преимуществ бабочки перед обычным галстуком и не спорили, когда лучше убирать фасоль. Комнатушка была не такой просторной, как гостиная, но, конечно, больше кладовки, и с первого взгляда Уэллс не сумел понять, использовал ли Клейтон это помещение как арсенал, лабораторию или просто как склад всякой всячины, ибо здесь без малейшего порядка громоздились странные аппараты в соседстве со всевозможным оружием и предметами, имеющими отношение к оккультизму, колдовству, некромантии и прочим темным ремеслам, которые всегда казались писателю чистым мошенничеством.
Клейтон направился к подобию витрины в углу комнаты, в которой Уэллс различил по меньшей мере дюжину искусственных рук. Здесь были аккуратно разложены протезы из самых различных материалов, хотя преобладали дерево и металл, и если одни старательно воспроизводили потерянную агентом конечность со всем возможным правдоподобием — вероятно, это были те протезы, которые он привинчивал, когда должен был присутствовать на званом ужине или ином торжестве, где рука нужна была ему только для того, чтобы управляться с приборами, держать сигару или, если повезет, сжимать руку женщины, — то другие выглядели смертоносными орудиями: была среди них одна с заостренными пальцами, похожими на стилеты; другая казалась гибридом руки с перечницей, а еще одна парочка представляла собой такие диковинные механизмы, что Уэллс не сумел догадаться, для чего они нужны. Клейтон отвинтил поврежденный протез, аккуратно отставил его в сторонку и стал внимательно разглядывать свою коллекцию искусственных рук, уложенных так, что они опирались на пальцы и потому напоминали безволосых тарантулов, прикидывая, какая больше подходит в нынешней ситуации.
Пока он выбирал, Уэллс рассеянно бродил по необычной выставке, устроенной агентом в этой комнате. На одном из столов, рядом со средневековым бестиарием, украшенным великолепными изображениями грифонов, гарпий, василисков, драконов и прочих фантастических животных, на полях которого Клейтон мелким почерком оставил множество замечаний, он обнаружил доску уийа.
— Не знал, что вы увлекаетесь спиритизмом, агент, — сказал он, поглаживая буквы алфавита, вырезанные на изящной деревянной доске.
— Не стоит слишком удивляться, — ответил Клейтон, не поворачиваясь к нему. — Духи — лучшие осведомители, о каких только может мечтать полиция: они все видят и не требуют платы, хотя иной раз обращаются с какой-нибудь нелепой просьбой относительно того, что не успели доделать на этом свете.
— Понимаю… — осторожно произнес Уэллс, не зная, разыгрывает его агент или говорит всерьез.
После этого он осмотрел с полдюжины непонятных аппаратов, стоявших возле стола. Особенно его привлек тот, что представлял собой помесь граммофона с пишущей машинкой. Аппарат, ощетинившийся шатунами и рычажками, которые торчали из него, как колючки из кактуса, был снабжен четырьмя маленькими колесами и увенчан подобием рога изобилия, сделанного из хромированной меди.
— Что это такое?
— О, это метафон, — сказал агент, бросив на него рассеянный взгляд.
Уэллс ждал, что он что-нибудь еще добавит, но, поскольку продолжения не последовало, ему пришлось задать следующий вопрос:
— И для какого дьявола он нужен?
— Теоретически он служит для того, чтобы записывать голоса и схожие с ними звуки, но, учитывая, что полученные результаты оказались весьма скудными, можно смело сказать, что он ни для чего не нужен. — Клейтон по-прежнему стоял в нерешительности возле своей коллекции протезов. — Я использую его, пытаясь разыскать паренька по имени Оуэн Сперлинг, который пропал прошлой зимой в городке близ Стаффорда. Мать послала его за водой к колодцу, и он не вернулся. Парня пошли искать и с удивлением обнаружили, что его следы на снегу резко обрываются в нескольких метрах от колодца, как будто его унес орел или еще какая-нибудь крупная птица. Обыскали все окрестности, но безрезультатно. Никто не мог взять в толк, что же случилось, тем более что мать все время наблюдала за ним из окна и всего лишь раз отвлеклась на несколько секунд. Паренек в буквальном смысле слова улетучился. Наиболее вероятно, что он перешел в другое измерение и теперь не может вернуться обратно. Надеюсь, метафон поможет мне услышать его и передать ему инструкции, если, конечно, мне когда-нибудь удастся записать что-то помимо щебетанья стаффордских птичек.
— Но почему вы хотите вернуть его? Может, этот ваш Оуэн чувствует себя куда более счастливо в другом мире, когда играет там с пятилапыми собаками? — пошутил писатель.
Агент ничего не ответил и взял наконец один из протезов, довольно точно копировавший человеческую руку и, похоже, не имевший никаких дополнительных приспособлений, которые превращали бы его в оружие, хотя в районе запястья Уэллс приметил что-то, напоминавшее штырь или пружину.
— Наверно, пришло время испытать тебя, старый друг, — прошептал агент, поглаживая протез с грустной улыбкой. — Затем стал осторожно его привинчивать. Закончив, обернулся к писателю и медленно покачал головой. — Я понимаю, что за вашими недомолвками, мистер Уэллс, стоит неверие в подобные вещи, — сказал он. — Я сам десятки раз обнаруживал такую же скептическую гримасу на лице, когда смотрелся в зеркало, но со временем она исчезла. Человек ко всему привыкает, мистер Уэллс, уж вы поверьте мне. И когда вы это примете, когда согласитесь с тем, что не все поддается объяснению в нашем мире, тогда и сможете поверить, что невозможное возможно. Да, тогда вы сможете поверить в магию.
Клейтон немного помолчал, с симпатией поглядывая на писателя, а потом сказал:
— Позвольте, я расскажу вам о том времени, когда я был таким же, как вы, и числился не специальным агентом, а просто агентом Корнелиусом Клейтоном. Еще двенадцать лет назад я был такой же, как все, понимаете? И полагал, что мир таков, какой он есть.
Клейтон произнес последние слова шутливым тоном, но Уэллсу показалось, что голос агента, словно осенний ветер, взметающий палую листву, взбудоражил что-то в его душе, будто то, что он собирался вспомнить, было ему приятно, но одновременно он по-прежнему чувствовал, что его заставили пожертвовать чересчур многими вещами на этом пути, и отказывался подсчитывать накопившиеся потери из боязни, что результат окажется не в пользу решения, которое он принял уже слишком давно, чтобы продолжать узнавать себя в этом молодом мужчине, столь беззаботно определившем его будущее.
— Мой отец был полицейским, и, следуя его примеру, я поступил в Скотленд-Ярд, чтобы бороться с преступностью. Мое усердие вкупе с советами и опекой отца не замедлило воплотиться в превосходный послужной список, который, с учетом моей вызывающей молодости, вскоре начал вызывать восторг у начальства, не упускавшего случая одобрительно похлопать меня по спине. Один из них, старший инспектор Томас Арнольд, вызвал меня к себе в кабинет, когда я еще и двух лет не проработал в Скотленд-Ярде. Кажется, кое-кто очень хочет познакомиться с тобой, сказал он. В кабинете меня поджидал субъект, страннее которого я в жизни не встречал, по крайней мере до того момента.
Это был толстяк лет пятидесяти с энергичными манерами и странной повязкой на правом глазу. Вначале я не мог понять: то ли он потерял его, то ли глаз был спрятан под другим, искусственным, глазом — круглой линзой с рельефными краями, которая крепилась с помощью пересекавшего лоб кожаного ремешка. В середине линзы, которая, похоже, могла регулироваться, располагался маленький кружок, излучавший слабый красноватый свет. Не обращая внимания на мою растерянность, толстяк протянул мне пухлую, но могучую руку, унизанную кольцами с непонятными символами, и представился Энгусом Синклером, капитаном специального подразделения полиции, о котором я никогда не слыхал. Старший инспектор сразу же ушел, оставив меня наедине с этим странным типом, а тот не раздумывая занял его стол и плавным движением руки пригласил меня садиться. Как только я очутился напротив него, он улыбнулся и удовлетворенно пролистал лежавшие на столе бумаги, в которых я сразу признал свое личное дело.
«У вас блестящий послужной список, агент Клейтон. Поздравляю вас», — произнес он торжественным тоном.
«Спасибо, сэр», — ответил я, разглядывая странный значок на левом лацкане его пиджака, изображавший маленького крылатого дракона.
«Гм… думаю, вы здесь далеко пойдете, учитывая вашу молодость и ум. Да, очень далеко. Уверен, что со временем вы дослужитесь до чина полковника. Ну а в семьдесят или восемьдесят лет вы, такой же толстый, как я, и седовласый, благополучно умрете довольным прожитой жизнью и карьерой, которую иначе как завидной нельзя будет назвать, ибо она будет опираться на раскрытые убийства, аресты преступников и тому подобное».
«Спасибо за ваши ценные предсказания, сэр», — ответил я, оскорбленный презрительным тоном, каким он говорил не только о том, чего я добился в жизни, но и о том, чего мне предстояло добиться.
Капитан ухмыльнулся. Моя дерзкая выходка, свойственная молодости, его, как видно, позабавила.
«Все это славные достижения, юноша, которыми любой мог бы гордиться. Но я уверен, что вы мечтаете о большем, гораздо большем. — Он пристально посмотрел на меня. Красноватое свечение в его механическом глазу усилилось, и мне даже показалось, будто я слышу странное жужжание, исходившее откуда-то из-за линзы. — Но все дело в том, что вы не знаете, что именно могло бы означать это большее. Или я ошибаюсь?»
Он не ошибался, но я предпочел не отвечать, а сам все старался отгадать, что этому типу от меня понадобилось.
«Вы станете полковником или кем-нибудь еще, если захотите. Об этом свидетельствуют ваш острый ум и работоспособность. Тем не менее вы ничего не узнаете о мире, юноша. Абсолютно ничего, сколько бы вы ни считали, что знаете о нем все. — Он перегнулся через стол и вызывающе усмехнулся. — Таково будущее, которое вас ждет. Но я предлагаю вам другое, гораздо более вдохновенное».
«Что вы имеете в виду, сэр?» — спросил я хмуро. Возбужденный тон этого сумасбродного субъекта начал меня раздражать.
«Я предлагаю вам использовать свои способности для расследования дел иного типа. Специальных дел, — пояснил он. — Вот чем мы занимаемся, агент Клейтон, — расследованием специальных дел. Но, к сожалению, для этого недостаточно иметь блестящий послужной список. Тут нужна и известная… гм… предрасположенность».
«Не понимаю вас, сэр».
«Необходимо иметь живой ум, агент Клейтон. У вас такой ум?» Я заколебался, не зная, что ответить. Затем решительно кивнул: я никогда не задумывался над этим, но, пока мне не докажут обратное, будем считать, что у меня живой ум.
«Посмотрим, так ли это! — воскликнул он с наигранным энтузиазмом, извлек из своей папки газетную вырезку и положил ее на стол передо мной. — Внимательно прочтите и сообщите мне о своих выводах, любых, какие только придут вам в голову, даже самых невероятных. От чего, по-вашему, он умер?»
Вырезка была примерно двухлетней давности и сообщала о смерти какого-то нищего. Его труп был обнаружен на свалке в окрестностях города наполовину обезображенным, со следами укусов бродячих собак, хотя причина смерти осталась загадкой, поскольку вскрытие ровным счетом ничего не выявило. Журналист, который, по-видимому, не отличался смелостью, закончил заметку, сообщив, что преступление произошло ночью в полнолуние и что вокруг трупа на песке были нарисованы кресты, словно жертва в отчаянии пыталась прогнать дьявола. Внимательно прочитав текст дважды, я изложил капитану все возможные причины этой смерти, пришедшие мне в голову. Я сказал, что, поскольку никто не даст растерзать себя собакам, если у него есть хотя бы немного сил, чтобы отогнать их, да и сами они вряд ли набросятся вот так на живого человека, то, вероятнее всего, его отравили и притащили туда, а убийца непонятно почему начертил на песке кресты, прежде чем удалиться. Еще я сказал, что речь может идти и о случайном убийстве, которое его виновник попытался представить как самоубийство, и привел еще несколько соображений в таком же духе.
«Вы кончили? — осведомился капитан Синклер, преувеличенно демонстрируя свое разочарование. — Я же просил вас привести все возможные варианты, какие придут вам в голову и какими бы невероятными они ни казались».
Тогда я ехидно улыбнулся и сказал:
«Еще это мог бы совершить оборотень. Было полнолуние, время, когда они обретают способность перевоплощаться. Именно оборотень напал на нищего на свалке, а не собаки, и пока он приближался к своей жертве в обличье волка, расхаживающего на двух ногах, нищий успел начертить вокруг себя несколько крестов, дабы оборотень убрался обратно в ад, откуда он и пришел».
Капитан Синклер опять спросил с таким же разочарованием в голосе:
«Вы кончили?»
«Нет еще, — улыбнулся я. — Это мог быть и вампир, поскольку преступление было совершено ночью, и именно поэтому жертва рисовала кресты на песке. Или вампир, выдавший себя за оборотня, чтобы переложить вину на своих стародавних врагов, с которыми вампиры борются, наверно, с начала времен за господство на планете. Вот теперь я кончил, капитан. Ну как, я угадал?»
«Вы пока не готовы это знать. — Он откинулся в кресле и с холодным любопытством наблюдал за мной. — Но скажите, вам хотелось бы стать сотрудником подразделения, где подобные ответы вполне приемлемы? В моем подразделении иной раз невозможное оказывается единственным решением. Мы не ставим препон нашему воображению и продолжаем искать доказательства далеко за границами нормального разума».
Я глядел на него, не зная, что ответить, и с облегчением вздохнул, когда Синклер сказал, что я могу несколько дней подумать, предупредив: все, о чем говорилось в этом кабинете, должно держаться в строжайшей тайне, и в случае, если мое решение окажется отрицательным, самым разумным для меня будет попытаться забыть, что наша беседа вообще имела место. Таково было первое, но далеко не последнее и не самое удивительное предостережение, полученное мною. Затем он дал мне бумажку с адресом Специального подразделения, куда я должен был явиться на следующей неделе, если принимал его предложение. Я покинул кабинет и вернулся домой. Всего одна бессонная ночь понадобилась мне, чтобы понять: как бы я ни старался, мне никогда не удастся забыть наш разговор. На самом деле, с того момента как я переступил порог этого кабинета, я уже был обречен. Я был честолюбивым и самонадеянным юношей и теперь, узнав, что некоторые имеют доступ к информации, закрытой для остальных смертных, не мог спокойно жить, не стремясь познакомиться с ней. Я всегда хотел узнать больше, по-настоящему познать мир, проникнуть в его кровеносную систему, добраться до самых его недр… И вот теперь, похоже, мне представилась такая возможность. Разве мог я довольствоваться тем, что до этого имел? Я не стал дожидаться будущей недели. На следующее же утро я явился по адресу, указанному в бумажке, и попросил провести меня в кабинет капитана Синклера, который, похоже, меня выделил. И там мой исполненный решимости взгляд навсегда определил мою судьбу.
Агент завершил свой рассказ печальной улыбкой и посмотрел на Уэллса в ожидании его реакции.
— Поздравляю вас, Клейтон, вы, оказывается, верите в оборотней и вампиров, — произнес писатель чуть ли не сочувственно.
— О нет, мистер Уэллс, вы ошибаетесь: я в них не верил. Просто я сказал капитану то, что он хотел услышать. Этот тип возглавлял элитную группу агентов, отобранных среди самых опытных сотрудников Скотленд-Ярда. Чем бы они ни занимались, я хотел попасть в это подразделение, потому что продолжать распутывать преступления и ловить вульгарных убийц мне уже было невмоготу. Если бы потребовалось, я сказал бы, что того нищего убил эльф. — Он горько усмехнулся. — Впрочем, с тех пор прошло двенадцать лет, мистер Уэллс. Двенадцать лет. И теперь я могу только признаться вам, что верю в гораздо большее число вещей, чем мне бы этого хотелось.
— Вот как? И что же, например, вампиры существуют на самом деле? — спросил Уэллс, пользуясь случаем.
Клейтон улыбнулся улыбкой отца, умиленного любознательностью сынишки.
— Этот дом принадлежал одному типу, — сообщил он. — Звали его лорд Рейлсберг, и он страдал от аномальной пигментации, вызывавшей покраснение кожи, если он продолжительное время находился на солнце, не переносил чеснока и отличался удлиненной крестцовой костью, то есть обладал всеми признаками, по которым, согласно легендам и романам, можно безошибочно определить вампира. Как вы можете убедиться, произведения Полидори, Прескетта, Шеридана Ле Фаню и в особенности пользующийся огромным успехом роман Стокера сделали настолько популярным миф о вампирах, что к ним легко причислят любого человека, в ком обнаружится какое-нибудь из перечисленных свойств. По распоряжению лорда Рейлсберга был выстроен этот дом, где он жил вместе с группой приспешников — те, как и он, боялись солнечного света. Наружу они выходили только затем, чтобы похищать девушек, которых они потом безжалостно убивали и выпивали их кровь или даже купались в ней, как, говорят, делала венгерская графиня Эржебет Батори. Когда мы обнаружили их логово, оно было пропитано смрадом, исходившим от трупов, и заполнено людьми, спавшими в гробах. Но могу вас заверить, что никому из этих предполагаемых вампиров, включая самого лорда Рейлсберга, не удалось убежать из тюрьмы, где они сейчас и пребывают, превратившись в летучую мышь. Так что не знаю, существуют вампиры или нет, но если существуют, то, скорее, они больше похожи на жалких зверьков из славянских легенд, чем на обаятельных аристократов, какими изобразили их вы, писатели.
— Понимаю, — сказал Уэллс, не приняв намек на свой счет.
— Хотя мы общаемся, конечно, не только с безумцами, — добавил Клейтон. — Иногда мы сталкиваемся с невероятным, как я вам уже говорил.
И он бросил страдальческий взгляд на картину, висевшую на стене. Уэллс проследил за его глазами и обнаружил в изящной резной раме красного дерева портрет красивой и, по-видимому, богатой молодой женщины. Она взирала на мир с грустью и в то же время надменно. У нее были темные блестящие глаза, а на губах, словно капля росы на лепестке розы, застыла загадочная улыбка, показавшаяся Уэллсу немного порочной.
— Кто это? — спросил он.
— Графиня Валери де Бомпар, — ответил агент, тщетно стараясь, чтобы при произнесении этого имени его голос не дрогнул.
— Красивая женщина, — похвалил писатель, хотя, возможно, это было не самое подходящее для нее определение.
— Да, Валери всегда производила такое впечатление на мужчин: любого, на кого падал ее взор, она заставляла поверить, что перед ним самая красивая женщина на свете… — подтвердил Клейтон каким-то странным голосом, слабым и усталым, словно находился под воздействием снотворного.
— Она умерла? — спросил Уэллс, заметив, что агент говорит о ней в прошедшем времени.
— Я убил ее, — мрачно произнес Клейтон. — Это было мое первое дело, — добавил агент. — И единственное, в котором я действовал обеими руками.
Он вновь перевел глаза на портрет, и Уэллс последовал его примеру, озадаченный словами агента. Не потерял ли тот руку по вине этой женщины? Уэллс внимательно вгляделся в ее лицо, и ему снова показалось, что слово «красивая» здесь не самое подходящее. Спору нет, она была недурна собой, однако ее глаза излучали какой-то тусклый, животный свет, вызывавший тревогу. Казалось, будто в зрачках заключено нечто большее, чем она сама, нечто необъятное — так в стакане вина сохраняется вкус земли, солнца и прошедшего дождя. Вряд ли ему бы удалось вести себя естественно в ее присутствии, если бы они были знакомы, подумал Уэллс. И уж тем более он не осмелился бы за ней ухаживать. Он не ведал, что произошло между этой женщиной и агентом, но в любом случае Клейтон до сих пор не оправился и, возможно, не оправится никогда. Уэллс ясно видел это, поскольку агент сохранял в своей внешности, в выражении лица, вообще во всем память о том, что с ним тогда случилось, как покачивание ключа на гвозде выдает, что до него кто-то миг назад дотрагивался. Писатель даже подумал, что можно было бы расспросить Клейтона и тот, наверное, этого даже ждал. Да, возможно, он мечтал поговорить с кем-нибудь о женщине, чей портрет прятал в своем подвале, особенно сейчас, когда весь мир рушился, и его слова были неуклюжей попыткой начать такой разговор. Однако Уэллс отбросил идею, так как не хотел, чтобы Клейтон вновь унижал его, то и дело твердя, что в мире есть такие вещи, о которых не всем можно знать. Тут он вспомнил, как по дороге в Хорселл побоялся рассказать о своем визите в Палату чудес, потому что агент мог обвинить его в проникновении в запретное место. Но с того далекого утра все настолько изменилось, что ему вдруг захотелось признаться. Это будет идеальное отвлекающее средство, которое поможет покончить с раздражающей скрытностью агента и позволит писателю сразу возвыситься до его уровня и повести разговор на равных. Ему не терпелось поговорить с Клейтоном о множестве вещей и выявить наконец границы этого мира — мира, который, возможно, превратится в пепел, прежде чем он успеет постичь его.
— Да, мы живем в мире, полном загадок… — сказал он, улыбаясь портрету. — Но вам-то все они известны, не правда ли, Клейтон? Вы даже знали, как выглядят марсиане, еще до того как мы столкнулись с одним из них в Скотленд-Ярде, ведь так?
Агент перестал разглядывать портрет и, словно пробудившись от спячки, ошеломленно уставился на писателя.
— Не понимаю, о чем вы говорите, — холодно ответил он после некоторой заминки.
— Да будет вам, я ведь не идиот. Я прекрасно знаю, что открывает ключик, висящий у вас на шее.
— Правда? — удивился агент и инстинктивно дотронулся до ключа.
— Ну разумеется, — подтвердил Уэллс и с вызовом посмотрел на собеседника. — Я побывал там, внутри. И видел Палату чудес.
Готово. Он это сказал. Больше между ними не было различий, разве что у одного из них было две руки, а у другого всего одна.
— Вы поистине удивительная личность, мистер Уэллс. — Клейтон расплылся в улыбке. — Значит, вы видели марсианина и его корабль…
— И остальное тоже. Все эти диковинки, которые скрывают от людей, — продолжал писатель, торопясь высказать то, что накопилось у него в душе.
— Прежде чем ваш праведный гнев достигнет такой степени, что вы просто-напросто наброситесь на меня и расстроите нашу цивилизованную беседу, позвольте напомнить то, что я сказал вам в день нашего знакомства: все эти плоды фантазии находятся на карантине, если можно так выразиться. Не имеет никакого смысла знакомить народ с этими диковинками, большинство которых — чистое надувательство.
— Вот как? А мне марсианин и его корабль показались достаточно реальными.
— В этом отдельном случае, — начал оправдываться Клейтон, — правительство сочло чересчур опасным…
— Если бы они не приняли такого решения, вторжение не застало бы нас врасплох, — перебил его Уэллс.
— Вы полагаете? Я в этом не уверен… Мне неизвестно, как вам удалось проникнуть в Палату чудес, мистер Уэллс, но зато я знаю, что вы побывали там за несколько дней до того, как я появился в вашем доме, ибо в противном случае вы не смогли бы увидеть марсианина, так как за два дня до начала вторжения он был похищен.
— Что? Похищен?
— Именно так, мистер Уэллс. Я зашел тогда к вам, потому что подозревал, что это вы могли его похитить.
— Боже милостивый… Да для какой надобности мне мертвый марсианин?
— Как знать, мистер Уэллс… Ведь в моей работе все априори подозреваемые, — засмеялся Клейтон. — Впрочем, признаюсь, потом я рассматривал и другую версию, согласно которой марсианина похитил мистер Мюррей, чтобы поместить его в свой цилиндр.
— Можете не сомневаться: если бы он знал, что в подвале музея находится настоящий марсианин, то похитил бы его, — не удержался от реплики Уэллс.
— Однако очевидно, что оба вы тут ни при чем. Хотя я убежден: похищение марсианина и вторжение связаны между собой. Вряд ли это случайное совпадение.
— Очень рад, что вы пришли к такому заключению, агент. Возможно, если бы вы не скрывали все это от меня, я бы сумел вам помочь в расследовании, однако ваша отвратительная привычка ни с кем не делиться сведениями…
— Мне кажется, не я один отличаюсь дурными привычками, мистер Уэллс. Если бы вы не скрыли от меня, что побывали в Палате чудес… Ладно, теперь уже все равно. Не будем терять время на пустые споры. Нам предстоит обсудить гораздо более важное дело, и я должен признать, что вы сильно облегчите мою задачу, как только поймете то, что я собираюсь сказать.
— Еще одна тайна? — сухо осведомился писатель. — По-моему, на сегодня уже хватит.
— Она прежде всего касается вас, мистер Уэллс. Хорошо бы вам успокоиться и выслушать меня. Напоминаю, если вы забыли: теперь мы находимся в одном лагере.
Уэллс пожал плечами, но ничего не сказал.
— Итак… — начал агент. — Предполагаю, что вы задаетесь вопросом, почему я позволил вам все это увидеть и даже кое-что рассказал о своей работе, хотя не имею права говорить о ней с кем бы то ни было — это запрещено моим этическим кодексом. Однако я только что нарушил его, мистер Уэллс. Догадываетесь почему?
— В любом случае не из симпатии ко мне. Остается одно: мы скоро умрем, и уже ничто для вас не имеет значения.
Клейтон рассмеялся, оценив остроумие Уэллса, а затем сказал:
— Уверяю вас, что даже в таких обстоятельствах я бы не нарушил мой кодекс. Мы вправе не следовать ему только в случае, если сталкиваемся с каким-нибудь магическим существом.
Сказав это, он замолчал и только поглядывал на Уэллса.
— Что вы хотите этим сказать, черт побери? — воскликнул тот.
— Я пытаюсь объяснить вам, что вы… особенный.
Уэллс ошарашенно взглянул на агента.
— Вы намекаете на то, что я вампир? — Писатель язвительно усмехнулся. — Уверяю вас, моя крестцовая кость совершенно нормальна. Не заставляйте меня раздеваться и демонстрировать ее.
— Я не нуждаюсь в доказательствах, — с серьезным видом ответил агент. — Я видел ваше отражение в зеркале гостиной.
— Ясно. Тогда… кто же я такой, по-вашему?
— Вы… путешественник во времени, — торжественно объявил Клейтон.
Уэллс расхохотался.
— С чего вы это взяли? Потому что я написал «Машину времени»? По-моему, вы слишком увлеклись моими романами, агент.
Клейтон холодно улыбнулся.
— Как я вам уже сказал, мне в моей работе приходится сталкиваться с невозможным.
— И вы встречались с людьми, прибывшими из будущего благодаря машинам, подобным той, что я изобрел в романе? — рассмеялся Уэллс.
— И да, и нет, — загадочно произнес Клейтон. — Я действительно сталкивался с некоторыми путешественниками во времени. Правда, боюсь, что они предпочитают путешествовать иным способом. Описанная вами машина вполне правдоподобна, но в будущем все попытки перемещаться во времени с помощью науки закончатся неудачно, — сообщил он. — В будущем путешествия во времени станут осуществляться с помощью мозга.
— С помощью мозга?
— Именно так. У меня уже был, так сказать… определенный контакт кое с кем из этих путешественников. По крайней мере достаточный, чтобы узнать об открытии в человеческом мозгу своего рода кнопки, нажав на которую можно переместиться в любом направлении по временному потоку, хотя, к сожалению, нельзя заранее определить конечную точку этого путешествия.
Писатель слушал с недоверчивым выражением на лице.
— Как вы понимаете, это весьма упрощенное объяснение, — добавил Клейтон. — Но по сути все обстоит именно так.
— Допустим, то, что вы говорите, верно… — начал Уэллс. — Но почему вы думаете, что я способен на это?
— Потому что я видел, как вы это делали, мистер Уэллс.
— Неостроумно, агент Клейтон! — рассердился писатель.
— Вы помните наше злополучное пребывание на ферме?
— Разумеется, — проворчал Уэллс. — Такое не скоро забудешь.
— Хорошо. Как вам известно, я пришел в себя в решающий для всех момент. Но зато вам неизвестно, что, пока я, находясь в верхней комнате, прислушивался, пытаясь понять, что происходит внизу, вы преспокойно спали в постели, но в то же время находились в плену у незнакомых людей на первом этаже. Иными словами, вы одновременно находились в двух разных местах.
— Что вы говорите… — прошептал Уэллс.
Клейтон жестом попросил разрешения продолжить.
— Как вы понимаете, я буквально остолбенел, увидев, как вы ворочаетесь в кровати. Вы спали, и, очевидно, вам снились кошмары. Так продолжалось минуты две, и этого времени оказалось достаточно, чтобы я понял, что происходит. Вы совершали путешествие во времени! Прямо там, у меня под носом! Я подошел к кровати и окликнул вас, пытаясь разбудить. Однако тут же сообразил, что если вы размножились и находитесь внизу, это означает, что второй Уэллс, лежащий передо мной, не замедлит вернуться в свое прошлое, на несколько часов назад, так как было ясно, что в какой-то момент он встанет, чтобы спуститься вниз и попасть в руки злоумышленников. И я оказался прав: спустя несколько секунд вы исчезли. И теперь в доме остался всего один Уэллс.
— Не понимаю, — признался писатель, замотав головой.
— Ваше смущение вполне оправданно, мистер Уэллс, но все очень просто. Насколько мне известно, путешественники во времени могут случайно нажать на кнопку, о которой я вам рассказывал, в моменты сильнейшего напряжения. Обычно таким способом они, как правило, и обнаруживают свой… гм… интересный талант. Вы нажали на кнопку во время тревожного сна и переместились в будущее по меньшей мере на четыре часа, потому что появились в комнате, в то время как я притаился у двери, умирая от страха. Затем, таким же случайным образом, вы снова привели в действие механизм, на сей раз переместившись в прошлое, и вернулись в ту же самую постель, после чего продолжали спать, а когда проснулись, то не сознавали, что совершили путешествие во времени, потому что оно происходило, пока вы спали. Но я ручаюсь, что вы его совершили. Как я сказал, оно было вызвано напряжением. Будущим путешественникам во времени, с которыми я встречался, разумеется, не было необходимости переживать крайнее напряжение для того, чтобы отправиться в путь, поскольку они усовершенствовали свою технику путем тренировок и могли перемещаться во времени по своему желанию. В будущем была создана правительственная программа с целью обучить путешественников применять свой талант. К сожалению, у вас нет никого, кто бы научил им пользоваться. На самом деле из всех известных мне путешественников во времени вы самый старый… Но, по сути дела, это логично, ну конечно…
Писатель открыл было рот, чтобы задать сотни вопросов, вертевшихся у него в голове, но это означало бы признать: существуют путешественники во времени и он один из них.
— Я вам не верю, — сказал он.
— Хорошо. — Клейтон пожал плечами, словно ему было совершенно не важно, во что верит или не верит Уэллс. — Вы и не обязаны верить. Ну а я выполнил то, что должен был сделать: ввести вас в курс дела. Причем тайно.
После этих слов агент вышел из комнаты и направился в гостиную. Уэллс следовал за ним, с одной стороны, сбитый с толку признанием Клейтона, — которое превратило его собственное признание о визите в Палату чудес в пустой театральный номер, — с другой, раздраженный высокомерным безразличием агента, но тут ему вспомнился кошмар, приснившийся тогда на ферме. Проснувшись, он ничего не помнил. Единственным, что осталось у него в голове, был голос Клейтона: «Проснитесь, мистер Уэллс, проснитесь». Но Клейтон не приходил в себя еще часа четыре по меньшей мере. Как же тогда он мог слышать его голос? Ему вспомнились слова начальника Клейтона, капитана Синклера: «Внимательно подумайте и сообщите мне о своих выводах, любых, какие только придут вам в голову, даже самых невероятных». Уэллс вздохнул. Оставалось признать, что такая возможность, какой бы невероятной она ни казалась, могла стать объяснением, в том числе единственным… Что там еще говорил этот Синклер? «Иной раз невозможное оказывается единственным решением». Уэллс потер переносицу, стараясь спугнуть головную боль, угнездившуюся где-то за глазами. Ради всего святого, как в такое можно поверить? Он написал «Машину времени» и обнаружил, что может путешествовать во времени. Написал «Войну миров» и теперь вот улепетывает от марсиан. Что дальше — он станет невидимкой?
К счастью, эти мысли, грозившие ему безумием, исчезли, как только он вернулся в гостиную. Там писатель стал свидетелем сцены, к которой не был готов. Если бы ему довелось беседовать с капитаном Синклером, он привел бы ее в качестве примера одной из невероятных возможностей. Но, конечно, и любовь была тем волшебным фоном, на котором может произойти невозможное: втиснутый в кресло миллионер с повязкой на раненом плече, слегка нагнув голову, тянулся к губам девушки, сидевшей в другом кресле с полузакрытыми глазами и ожидавшей прикосновения его губ. Появление Клейтона и Уэллса разрушило сцену. Мюррей резко выпрямился, закашлялся и несколько раздраженно приветствовал их, пытаясь скрыть замешательство; девушка тоже была смущена. Неужели Уэллсу суждено всякий раз мешать их свиданиям? Видимо, такова его месть — сохранить их целомудрие, сберечь невинность?
Не обратив никакого внимания на романтическую сцену, прервавшуюся по его милости, агент взглянул на часы и объявил:
— Скоро рассвет, так что мы с мистером Уэллсом отправимся сейчас в Примроуз-Хилл на поиски его супруги. Думаю, лучше будет пойти через Риджентс-парк.
— М-м-м… совершенно незачем меня сопровождать, Клейтон, — сказал Уэллс, не привыкший вмешивать посторонних в свои дела, тем более сугубо личные.
— Вы шутите? — возмутился агент. — Бог знает, что ждет нас снаружи. Я не позволю вам идти одному.
— Мы все пойдем с тобой, Джордж, — заявил Мюррей и поднялся на ноги. — Правда, Эмма?
— Конечно, мистер Уэллс, — сказала девушка. — Мы все поможем вам отыскать вашу любовь.
Уэллс удивленно смотрел на них. Не часто в жизни ему приходилось сталкиваться с проявлениями такого трогательного и бескорыстного участия, да и сам он, честно говоря, редко к кому так относился. Значит, правда, что в критических ситуациях в человеке проявляется все лучшее, что в нем есть? Нет, сказал он себе, эти чувства не могут быть подлинными. Если немного покопаться, наверняка обнаружишь истинную причину того, почему каждый из его спутников решил пойти с ним, рискуя собственной жизнью. Но что, если они действительно хотят мне помочь? Уэллс оглядел их по очереди. Вот надменный специальный агент Корнелиус Клейтон, готовый защищать своих подопечных ценой собственной жизни. Вот Эмма Харлоу, отважно переносившая все невзгоды, чьи глаза, похоже, сияют еще сильнее, подобно росинкам на лепестках цветов, которые терпеливо ждут, когда солнце заставит их блестеть. Вот, наконец, Гиллиам Мюррей, Властелин времени, человек, которого Уэллс ненавидел больше всех на свете и которого любовь к женщине изменила до такой степени, что он предлагает ему свою помощь. Возможно, он ошибается. Возможно, никому из них на самом деле не важно, найдет он Джейн или нет, но как приятно думать о них иначе.
— Спасибо, — пробормотал он дрожащим от волнения голосом.
В это мгновение специальный агент Корнелиус Клейтон рухнул на пол. Все с тоской смотрели на лежащее возле их ног тело.
— Ненавижу, когда он так делает, — сказал Мюррей.
XXXI
Заря с раздражающей медлительностью захватывала небо. Растерянный и уязвленный, как пес, которого впервые побил хозяин, из сумерек начал проступать Лондон. Треножники промаршировали по Юстон-роуд, разрушив на своем пути несколько зданий, в том числе домик Клейтона, но, к счастью, его обломки не помешали нашим героям открыть люк. Вокруг них расстилалась неутешительная панорама: многие дома превратились в груды дымящихся головешек, и повсюду лежали перевернутые или разбитые экипажи. И лишь экипаж Мюррея чудесным образом не пострадал, и его лошади услужливо дожидались хозяина на том самом месте, где их привязали. Но по-настоящему понять, что они присутствуют при начале конца, их заставили разбросанные повсюду трупы, которые в основном можно было разделить на две группы: погибшие случайно, включая всех тех, кто был раздавлен обломками, и те, кто погиб от марсианского луча, — эти обугленные куклы, в которых с трудом угадывались человеческие очертания, уже начавшие распадаться под напором ветра. Таких было больше всего, они заполняли все мостовые и тротуары, так что нашим героям приходилось обходить их, пока они шли к экипажу с витиеватой буквой «Г» на дверце, волоча за собой Клейтона, чье тело с большим трудом сумели протащить через люк.
Споры о том, что делать с агентом, довольно быстро прекратились из-за близости рассвета. Поскольку они пока не решили, как поступят после того, как побывают в Примроуз-Хилл и выяснят, стал Уэллс вдовцом или нет, — самым правильным было бы оставить Клейтона в его надежном логове, удобно разместив на диване и положив записку у изголовья на случай, если он проснется, с обещанием за ним вернуться. Однако время, проведенное ими вместе, когда каждая минута сулила неожиданность, снова и снова нарушая выработанную линию поведения и превращая ее в сплошные зигзаги, научило их не слишком доверять самым правильным идеям. Они не знали, что их ждет во время похода к холму и удастся ли им потом вернуться в подвал к Клейтону, а потому в конце концов рассудили, что нельзя оставлять его одного. Как уже многократно было доказано, они всегда и во всем должны быть вместе. Таким образом, вопреки логике, на основе которой они выстраивали свою жизнь до прихода марсиан, мужчины выволокли агента из его тайного убежища, не забыв прихватить и его шляпу.
Мюррей вновь занял место на козлах, и они отправились по направлению к Риджентс-парку. Уэллс горько вздохнул. Через несколько минут, за которые они успеют пересечь парк из конца в конец, он узнает, пережила Джейн вторжение или нет. Эмма, сидевшая напротив и державшая голову Клейтона у себя на коленях, словно усталая земная Мадонна, посылала ему ободряющие взгляды, когда их глаза встречались, но было очевидно: она, так же как он, знала, насколько мала вероятность того, что Джейн жива. Быть может, думал Уэллс, Джейн уже несколько часов как мертва и покоится под обломками или превратилась в одну из этих ужасных обуглившихся кукол, что заполняют Юстон-роуд, а он еще не пролил по ней ни слезинки. Да-да, быть может, она уже мертва, а он продолжает считать ее живой. Но возможно ли, чтобы это произошло и не существовало способа убедиться в этом? Возможно ли, чтобы он не воспринял ее смерть в виде какого-либо физического ощущения, или у Вселенной нет способа сообщить ему об этом? Значит, священная любовь вовсе не подобна паутине, которая не только обволакивает, но и посредством вибрации своих нитей сигнализирует одному из партнеров, что второй покинул сеть? Писатель глубоко вздохнул и закрыл глаза, стараясь не замечать стука колес и сосредоточиться на внутренней мелодии своего тела, чтобы по какому-нибудь фальшивому аккорду догадаться, что его организм уже давно пытается сообщить ему: Джейн умерла. Но его тело, похоже, никак не среагировало на ее смерть, и, наверное, это было самое неопровержимое доказательство того, что она жива. Он никак не мог поверить в возможность того, что человек, которого он любил больше всего на свете, умер, а он неспособен почувствовать это и не умер сам секунду спустя от остановки сердца, продемонстрировав еще более изощренную синхронность, нежели та, что устанавливается между близнецами. С той самой минуты, как он обнаружил ее записку на двери квартиры Гарфилдов, он испытывал опасения, что Джейн погибла или была тяжело ранена во время вторжения, но старался отгонять от себя эти мысли. И теперь должен был и дальше следовать этой стратегии и держать наглухо закрытой плотину своего горя, пока ее гибель не будет реально подтверждена, пока через три или четыре часа напрасного ожидания на холме его товарищи не вздохнут огорченно и не скажут, что они очень сожалеют. Но он знал: даже тогда его сердце не согласится с ее смертью. Только когда он возьмет на руки ее холодное тело, лишившееся жара души, он поверит в смерть Джейн, а пока он все еще надеялся, что она доберется до вершины Примроуз-Хилл с парой царапин и ликующей улыбкой человека, избегнувшего тысячи опасностей, чтобы встретиться с ним.
Завеса тревожной тишины, окутавшая Юстон-роуд, распространилась и на Риджентс-парк. Никого не было вокруг, и в самом парке все оставалось по-прежнему. Каждое дерево, камень, травинка были целы и невредимы и, казалось, насупившись, отважно взирали на планету. Если какой-то треножник и прошел здесь, то этот кусочек природы в центре Лондона произвел на врага достаточное впечатление, чтобы тот пощадил его. Пока экипаж, поскрипывая, катился по дорожкам парка, Уэллс грустно разглядывал освещенный рассветными лучами великолепный пейзаж, безразличный к тому, что творилось вокруг, с ощущением, что очень скоро на этой сцене будут разыгрываться иные спектакли с иными актерами. Когда вторжение завершится, здесь уже не появятся вновь влюбленные и не будут медленно прогуливаться по дорожкам родители с детьми, да и обычай вырезать сердца на коре деревьев вряд ли в ходу у марсиан. И все же тишина кругом была настолько абсолютной, что единственным свидетельством, заставившим его вспомнить о нашествии марсиан, была собака — она пробежала перед экипажем, держа в зубах предмет, напоминавший человеческую руку. По крайней мере, хоть кто-то извлек из этого выгоду, подумал Уэллс. Эмма же с брезгливой гримаской отвернулась. Тем не менее, если не считать этого зловещего эпизода, поездка прошла без происшествий, и вскоре перед ними замаячили округлые очертания Примроуз-Хилл.
Они вышли из экипажа у подножия холма и, побоявшись оставить в нем Клейтона, потащили его вверх по склону, пока не добрались до гребня горы, где усадили агента, прислонив его к дереву. Там они смогли наконец получить достаточно точное представление о разрушениях, происходивших по всему городу, массовых и бесспорных. Раненый, дымящийся Лондон умирал у их ног. В северной стороне, в кварталах Килберна и Хампстеда, на месте домов высились груды развалин, среди которых праздно бродили три или четыре треножника. Теперь, когда никто не оказывал им сопротивления, они вяло постреливали в разные стороны, разрушая здания на выбор. В южной стороне, за зелеными волнами Риджентс-парка, полыхал Сохо, а по его улицам с неуклюжей грацией цапель тоже расхаживали несколько треножников, время от времени открывавших огонь. Вдалеке виднелись громадные особняки Бромптон-роуд, почти все разрушенные, и Вестминстерское аббатство, буквально стертое с лица земли. Еще дальше сквозь дымную завесу угадывались неясные очертания собора Святого Павла, который, по счастью, не был уничтожен, хотя в его куполе зияла пробоина от марсианского выстрела. И то, что ему был нанесен всего лишь минимальный ущерб, приводило в еще большую ярость, чем если бы собор был честно разрушен до основания, потому что выдавало наглое пренебрежение, с которым марсиане захватывали планету, как видно, не считая, что это предприятие потребует больших усилий, нежели равнодушный обстрел территории. Рассматривая сверху картину разрушений, Уэллс испытывал скорее унижение, чем страх. Сколько времени понадобилось, чтобы построить этот громадный город, этот муравейник, где тысячи и тысячи душ вели свое существование, не ведая, что оно не представляет никакой ценности для Вселенной, и всего лишь один день, чтобы его разрушить.
И тут вдруг женский голос ворвался в это скорбное безмолвие:
— Берти!
Уэллс повернулся в сторону голоса. И увидел ее, бегущую к нему по холму, взволнованную, растрепанную, неистовую и живую, главное, живую. Джейн сумела избегнуть смерти, и хотя, наверное, скоро погибнет, как и он, тем не менее сейчас она была жива. Глядя, как она бежит к нему, Уэллс подумал, что мог бы броситься ей навстречу, чтобы слиться в пылком объятии, отдав дань романтизму, которого требовала сцена. Его практический ум всякий раз восставал против подобных жестов, особенно, когда жена требовала их от него в повседневной жизни, где, как ему казалось, такие изъявления чувств, свойственные любовным романам, в целом выглядят совершенно нелепо, как фальшивый аккорд в прозаической партитуре домашней рутины. Но сейчас наступал, быть может, единственный момент в его жизни, когда такой жест был полностью оправдан, более того, необходим, не говоря уже о том, что эта сцена происходила в присутствии публики, которая почувствовала бы себя обманутой, завершись она как-то иначе. Не желая разочаровывать зрителей, Уэллс через силу побежал мелкой рысцой навстречу ей, своей жене, самому дорогому для него человеку на свете, а Джейн кричала от счастья, в то время как разделявшее их расстояние все сокращалось, она буквально летела над травой, счастливая оттого, что он жив. А ведь это и есть любовь, понял писатель, эта бескорыстная и неудержимая радость, неожиданное осознание, что ты кому-то дороже собственной жизни и что тебе кто-то так же дорог. Уэллс и Джейн, муж и жена, писатель и его муза обнялись посреди чудовищных разрушений, поставивших планету на колени в ожидании последнего удара.
— Ты жив, Берти! Ты жив! — восклицала она сквозь слезы.
— Да, Джейн, — отвечал он. — Мы живы.
— Мелвин и Нора погибли, Берти, — сообщила она, переводя дух. — Это было ужасно.
И Уэллс узнал, что за плечами у Джейн была такая же, как у него, история, полная опасностей, которую он выслушал, нежно улыбаясь и испытывая облегчение при мысли, что, несмотря на все обстоятельства, временами казавшиеся роковыми, ее скитания завершились счастливым финалом, и теперь он мог сжать ее в своих объятиях. А рядом с ними радостно улыбались Мюррей и Эмма, взволнованные этой казавшейся невероятной встречей, и солнце щедро изливало на траву свое утреннее мягкое тепло, и все вокруг было таким прекрасным, так переливалось и сияло, что Уэллс вдруг почувствовал прилив сил, ощутил себя бессмертным и могучим, способным в одиночку прогнать марсиан пинками. Хотя достаточно было беглого взгляда на город, стонавший у их ног, чтобы понять, что они обречены, что это только вопрос времени, и марсиане нанесут последний решающий удар огромному кирпичному дракону, после чего спешатся и начнут убивать всех тех, кому удалось убежать от треножников.
И тут кто-то захлопал в ладоши. Все удивленно повернулись на звук и обнаружили в нескольких метрах от себя молодого человека, который стоял, прислонившись к дереву, и был явно взволнован сценой.
— Я начинаю верить, что любовь — это лучшее, что изобрели люди, — сказал он. — По крайней мере, это лучше, чем наши пушки.
Все молча смотрели на незнакомца, направившегося к ним.
— Мистер и миссис Уэллс, как я рад, что вы живы, — произнес он и поднес руку к шляпе в виде приветствия. — Вы меня помните? Я Чарльз Уинслоу.
Уэллс сразу же узнал его. Это был тот самый богатый юноша, что пару лет назад вломился к нему в дом в Уокинге с пистолетом в руке, потому что думал, что у Уэллса есть машина времени, которую он описал в своем романе. И хотя сейчас у него был весьма неприглядный вид — волосы разлохмачены, пиджак весь в пыли и порван в нескольких местах, — писатель должен был признать, что обаяния у юноши ничуть не убавилось.
— Конечно, мистер Уинслоу, — сказал Уэллс, пожимая ему руку.
Поздоровавшись, молодой человек перевел взгляд на миллионера и неожиданно побледнел.
— Похоже, вы увидели перед собой призрак, мистер Уинслоу, — засмеялся Мюррей.
— Но ведь это не так? — осторожно осведомился Чарльз.
— Вам достаточно пожать мне руку, чтобы убедиться в этом. — Миллионер протянул свою руку, которую Чарльз с чувством пожал. — Но о моем воскресении мы поговорим в другой раз. А теперь позвольте познакомить вас с мисс Харлоу.
— Очень рад, мисс, — сказал Чарльз, целуя девушке руку и пытаясь ошеломить ее улыбкой порочного архангела. — В иных обстоятельствах я пригласил бы вас поужинать со мною, но, боюсь, во всем Лондоне не отыскать сейчас открытого ресторана.
— Приятно видеть вас в таком веселом настроении, несмотря на нашествие, — вмешался писатель, прежде чем Мюррей успел произнести какую-нибудь резкость.
— Не думаю, что это должно нас слишком занимать, мистер Уэллс, — ответил Чарльз, обводя рукой расстилавшиеся вокруг развалины. — Очевидно, что мы это переживем.
— Вот как? — откликнулся писатель, не скрывая своего скептицизма.
— Ну разумеется, — заверил Чарльз. — Вы же знаете, что в двухтысячном году у нас будут проблемы с автоматами, а не с марсианами. Поэтому ясно, что все это в конце концов разрешится.
— Понимаю. — Уэллс смиренно вздохнул. — И что же мы в таком случае должны делать?
— Дать поработать героям, конечно, — ответил молодой человек.
— Героям? — вмешался Мюррей. — Вы себя имеете в виду?
— Нет, что вы, мистер Мюррей. Мне лестно это слышать, но я имел в виду не себя. Речь шла об одном из истинных героев, — объяснил Чарльз и сделал знак стоявшему в нескольких метрах от них человеку, чтобы тот подошел. — О том, кто прибыл из будущего именно затем, чтобы спасти нас.
Незнакомец робко приблизился с улыбкой на устах, которой он хотел всех успокоить.
— Джентльмены, представляю вам отважного капитана Дерека Шеклтона.
Часть третья
Уважаемый читатель, вот мы и добрались до заключительных страниц нашего захватывающего романа!Как ты думаешь, наши герои смогут победить марсиан или, по-твоему, это так же невозможно, как завоевать сердце надменной дамы? Здесь ты получишь ответ на оба вопроса.
Спасибо за то, что вы сопровождали меня в этом долгом путешествии, любезные джентльмены и чувствительные дамы. Надеюсь, вы получили удовольствие от этой необычайной истории, хотя ввиду встречающихся в ней многочисленных событий, лежащих за гранью человеческого опыта, вам, должно быть, не раз приходилось морщить лоб. Я вас не виню, хотя очень опасаюсь, что, к несчастью, бег времени в конце концов лишит эти события их исключительных свойств.
Шеклтон перехватил мой взгляд и, скептически подняв брови, раскинул руки, чтобы полностью объять картину разорения.— Как видите, мистер Уинслоу, отправиться в двухтысячный год невозможно.
Я беспечно пожал плечами, давая понять, что столь незначительная помеха нас не остановит.
— Боюсь, что тогда нам придется побеждать марсиан самим, капитан, — сказал я с улыбкой.
XXXII
Чарльзу Уинслоу хотелось бы, чтобы время было подобно реке, чьи берега украшал бы один и тот же неизменный пейзаж с великолепными, словно высеченными резцом скульптора горами, с озерами, поблескивающими в ласковых лучах заходящего солнца, с чувственно круглящимися холмами или чем-нибудь еще. Из чего состоял этот пейзаж, было не важно, во всяком случае, не так важно, как его неизменность, ибо он должен был присутствовать не только тогда, когда ты останавливался у берега, чтобы полюбоваться им, но и когда ты решал плыть на своей лодочке дальше, вверх по течению или, отложив весла, в противоположном направлении. Куда бы ты ни отправлялся, пейзаж должен оставаться на месте, неподвижный и безмятежный, словно узор, намертво пришитый к берегу реки. Но, как оказалось, время вовсе не было похоже на реку. И если, уезжая, ты полагал, что все останется таким же, когда ты вернешься, то ты ошибался. Благодаря «Путешествиям во времени Мюррея» он побывал в 2000 году, стал свидетелем безжалостной войны будущего, в которой люди сражались со злобными автоматами за господство на планете, а потом возвратился в свое время, в эпоху, когда автоматы считались всего лишь игрушками и их использование еще не вошло в моду. Это настоящее несло в себе, словно скрытую болезнь, зародыш будущего. Но то, что произошло два года спустя, столь существенно изменило настоящее, что оно уже никак не могло привести к тому будущему, которое Чарльз считал неизменным. Мир, в котором он жил, выбрал другую дорогу, он уже не направлялся в тот 2000 год, который продемонстрировал им Мюррей. Чарльз не знал, куда он направлялся, но, разумеется, не туда, сказал он себе, поднялся с матраса и, дрожа от холода, заковылял к выходу из своей камеры. В это утро ему опять не удалось избавиться от преследовавшего его кошмара, в котором, похоже, он обречен теперь жить. И, словно для того, чтобы лишний раз проверить это, его пальцы коснулись железного ошейника.
Еще не рассвело, но на горизонте темнота начала отступать, и слабый, чуть красноватый свет медленно распространялся по равнине, где высилась гигантская железная конструкция, которую они возводили для марсиан. Все теперь уже знали, что захватчики прилетели не с Марса, но, поскольку было неизвестно, откуда они прибыли, большинство продолжало называть их марсианами, вкладывая в это слово, как им казалось, презрительный оттенок. Чарльз уставился на башню со всей своей жалкой ненавистью, на какую только было способно его изможденное тело. Усталость так прочно угнездилась в его костях, что стала частью его самого. Говорили, что строящаяся пирамида — это машина для изменения состава воздуха на Земле, чтобы сделать его не столь вредным для захватчиков, каким он был до сих пор. Воздух был одним из многочисленных пунктов среди переделок, которым марсиане подвергли планету, готовя ее к долгожданному прибытию Императора. Он прибудет вместе со всеми своими подданными на гигантских межпланетных кораблях, в трюмах которых будет аккуратно перевезен весь их мир. Горстка захватчиков, без труда завоевавшая Землю, была, оказывается, всего лишь небольшим авангардом.
В глубине, рядом с руинами того, что два года назад было самым большим городом на свете, располагался лагерь марсиан — странное нагромождение хижин в виде серебристых луковиц, в нем поселился немногочисленный отряд при трудовом лагере, узником которого он был. Чарльз не знал, где находится резиденция инопланетянина, руководившего вторжением, но ему было известно, что подобные лагеря разбросаны по всей Англии и по всему миру. Превратив Лондон в груды развалин, захватчики сделали то же самое с остальными британскими городами, в то время как их сородичи орудовали в Европе и на других континентах, не встречая на своем пути сопротивления, если не считать жалких попыток, предпринятых армией могущественной Британской империи. В результате пали Париж, Барселона, Рим, Афины… Теперь вся планета была покорена, миллионы землян погибли в великой войне, а те немногие, кто, как Чарльз, имел сомнительное счастье выжить, были превращены в рабов, в бесплатную рабочую силу, которую можно загонять до смерти, чему он не раз и не два был свидетелем. А в общем, он жил в том самом будущем, которое описал в своем романе Уэллс.
Но как все это могло произойти? — снова задавал он себе вопрос. Такого не могло, не должно было случиться в действительности, твердил он про себя, чувствуя, как в душе вновь поднимается волна бессилия и недоверия. Он побывал в будущем, которое очевидно уже не наступит. Но было во всем этом что-то странное, неправильное. Правда, кроме него, никто так не считал, даже капитан Шеклтон, который находился в том же лагере, что и Чарльз, навещавший капитана в его камере всякий раз, как только выдавалась такая возможность, как будто тот мог ответить на все его вопросы. В большинстве случаев Шеклтон лишь пожимал плечами или с жалостью смотрел на него, когда он заводил разговор на эту тему и настаивал, что такого не могло произойти. Так ведь уже два года как происходит, черт побери! — мрачно восклицал капитан, когда от назойливых вопросов Чарльза у него лопалось терпение. На этом обычно разговор заканчивался.
Чарльз тряхнул головой, стараясь отогнать назойливые мысли. Глупо снова и снова корить себя за то, что он живет неправильной жизнью, особенно сегодня, когда ему нельзя терять ни минуты из своего скудного времени. Как только рассветет, марсиане станут выгонять их из камер на работу — строительство очистительной машины. В его распоряжении оставался всего час, а потому Чарльз поспешил к маленькому столику в углу камеры, сел и вынул почтовую бумагу и ручку, за которые отдал пять своих наименее пораженных кариесом зубов. Он не знал, для чего они понадобились Эштону, заключенному, который мог достать все что угодно, но ему самому эти зубы скоро станут без надобности. Он попросил раздобыть ему письменные принадлежности, чтобы начать писать то, что пока еще не знал, как назвать. Наверное, это можно считать дневником, хотя в его намерения входило описывать не столько день за днем — для этого хватило бы пары строк, — сколько события, которые привели их к такому состоянию. Впрочем, так или иначе, одно было ясно: он должен успеть написать то, что хочет, до смерти, а она уже на пороге. И, словно в подтверждение этого, на Чарльза напал очередной приступ кашля, не отпускавшего его в последние недели. Когда приступ прошел, оставив о себе память в виде раздраженного горла и болезненного ощущения в легких, Чарльз безуспешно попытался ослабить проклятый ошейник тем же рефлекторным движением, каким он в иные, теперь уже далекие, времена ослаблял узел галстука. Затем сосредоточился, стараясь привести в порядок мысли, и через пару минут начал писать:
12 февраля 1900 г.
Меня зовут Чарльз Леонард Уинслоу, мне 29 лет, и я являюсь заключенным трудового лагеря марсиан в Луишеме. Но не стану терять драгоценного времени, рассказывая о себе. Достаточно будет сказать, что до нашествия у меня было все: положение в обществе, очаровательная жена и прекрасное сочетание цинизма и железного здоровья, необходимого, чтобы в полной мере наслаждаться удовольствиями, которые дарил мне каждый день. Теперь же я потерял все, как физически, так и духовно, в том числе и веру в себя. Ничего у меня не осталось, кроме уверенности, что не пройдет и недели, как я умру. Для того я и завел этот дневник — чтобы все, что я знаю о захватчиках, не исчезло вместе со мною. Потому что я знаю о них кое-что такое, что не каждому известно, и хотя там, куда я скоро отправлюсь, эти знания не понадобятся, возможно, они окажутся полезными другим. Между тем я отдаю себе отчет в том, что скорее всего ни один человек никогда не прочтет этих строк. Мне достаточно посмотреть вокруг, чтобы это понять. Но, хотя голос разума велит думать именно так, что-то в моей душе, какая-то крупица совсем хрупкой надежды заставляет поверить, что рано или поздно мы победим марсиан. И если такое случится, то, возможно, сведения, которые я собираюсь здесь изложить, тоже послужат победе. Если же я ошибаюсь, если моя интуиция на деле окажется лишь глупой мечтой несчастного безумца и человеческий род будет в конце концов полностью истреблен, то тогда, быть может, мой дневник станет единственным свидетельством, напоминающим, что Земля не всегда принадлежала марсианам или кто они там такие. Нет, на протяжении необъятного океана столетий Земля была обителью Человека, который возомнил себя хозяином и владыкой Вселенной.
Только отдельные выдающиеся умы, такие как писатель Герберт Джордж Уэллс, памяти которого я посвящаю эти страницы, сумели взглянуть на космос в правильной перспективе. Это помогло им понять, что мы не только не единственные его обитатели, но, вероятно, даже не самые могущественные. Уэллс во всеуслышание объявил об этом в своем романе «Война миров», который его современники, движимые своим обычным высокомерием, восприняли как наивную фантастику. Никто не подумал, что нечто подобное может произойти на самом деле. Никто. Должен признаться, что и я тоже, но не потому, что верил, будто мы единственные и всемогущие, а потому что побывал в будущем, которое ожидало наших внуков. Да, я побывал в 2000 году, и там не было никаких следов марсиан.
Поэтому в день, когда началось вторжение, я находился в публичном доме мадам М***, изысканном святилище наслаждений, которое имел обыкновение посещать по крайней мере раз в неделю. «Сент-Джеймс газетт» в нескольких экстренных выпусках сообщила о появлении странных машин в Хорселле, на поле для гольфа в Байфлите и неподалеку от Севеноукса, Энфилда и Бексли, если мне не изменяет память. Затем мы узнали, что это боевые машины, так как некоторые из них открыли огонь по зевакам, столпившимся вокруг, словно речь шла о каком-то аттракционе, и что они каким-то образом встали на ноги, больше напоминавшие ходули, и направились в сторону Лондона, сметая все на своем пути с помощью жуткого испепеляющего луча. Однако опасаться нечего, уверяли последние сообщения, так как в Лондоне им готовится оказать теплый прием могучая британская армия, в небывало короткие сроки развернувшая свои боевые порядки. Вокруг города установлена полевая артиллерия, сотни орудий привезены из Вулиджа, Олдершотта и Чатема; срочно производятся и доставляются по назначению мощные взрывчатые вещества; кроме того, в Темзу зашли миноносцы и броненосцы, которым не терпится вступить в сражение. Все это вызывало у населения не столько страх, сколько большое любопытство. Многие горожане отправились в окрестности Лондона, чтобы оттуда наблюдать за обещанным грандиозным сражением. Они желали увидеть, как армия разгромит врагов, которыми, по мнению многих, были прилетевшие из космоса марсиане, хотя до той поры никто еще не видел ни одного из водителей странных треножников. Однако толпы любопытных были немедленно оттеснены обратно в город войсками. По соображениям безопасности никто не мог покинуть Лондон, и даже железнодорожные станции по приказу правительства были закрыты. В город можно было только войти, что и делали беженцы из Моулси, Уолтона, Вейбриджа и других близлежащих мест, закупорив улицы лавиной повозок и экипажей, набитых чемоданами и ценными вещами. Похоже, соседние городки подверглись страшным разрушениям, однако никто все равно не думал, что мы можем проиграть приближающуюся битву. В последнем выпуске «Сент-Джеймс газетт» было объявлено о повреждении телеграфной линии, и в отсутствие новостей нам оставалось только ждать дальнейших событий.
Как нетрудно понять, это вызвало некоторое беспокойство у людей, хотя до серьезной паники дело не дошло. Что касается лично меня, то должен признаться: даже легкой озабоченности из-за последних сообщений у меня не возникло. Марсиане, или кто там они на самом деле, будут разгромлены, тут даже сомнений не возникало. Иначе и быть не могло, причем не потому, что они наступали на нас пешком, на смешных ходулях, вместо того чтобы передвигаться по воздуху, как это описано у Уэллса, и тем самым демонстрировать свое неоспоримое превосходство. Нет, они будут побеждены, потому что так показывало будущее. Потому что так им было на роду написано. Какими бы страшными и сильными они нам ни казались, я уже знал конец истории. Поэтому я решил не менять свой привычный образ жизни. К сожалению, Виктория, моя супруга, не разделяла мое спокойствие, хотя совершила вместе со мной путешествие в 2000 год. К моему отчаянию, она решила переселиться в особняк моего дядюшки в Квинс-Гейт и там дождаться итогов битвы в компании моего кузена Эндрю, своей сестры и нескольких наших друзей.
Я чувствовал бы себя нелепо, если бы стал прятаться вместе с ними, а потому, покинув наш дом, направился в противоположную сторону. Я шел куда глаза глядят и в какой-то момент наткнулся на группу горожан, обступивших повозку одного из беженцев. Мужчина, который вез свою жену, многочисленное потомство и кое-какую мебель, начал сбивчиво рассказывать о разрушениях и жертвах и о том, как ему чудом удалось спастись. Рассказ вызвал испуг на лицах слушателей. Я же решил направить свои стопы в заведение мадам М***, о котором уже упоминал и которому отдавал предпочтение благодаря экзотичности его товара. Лучшее место для того, чтобы скрасить ожидание, пока захватчики не будут уничтожены, трудно было придумать.
Войдя в публичный дом, я пересек обширный, обильно заставленный мебелью зал, на дальней стене которого висела копия «Рождения Венеры», не столь одухотворенной, но явно более чувственной, чем та, которую изобразила кисть Боттичелли. Пропитанная духами уютная гостиная выглядела необычно пустынной. Почти все кресла и столики, где проститутки обычно беседовали, шутили или покуривали с клиентами опиум из длинных трубок, пустовали. И за занавесками, сквозь которые иной раз можно было подсмотреть за неким известным лицом, барахтавшимся среди округлых форм и диванных подушек, я тоже не заметил подозрительного движения. Даже женщины в этот день не расхаживали вразвалочку по залу, с заученной вялостью демонстрируя свои прелести, закутанные в прозрачный газ. Большинство сидели с похоронным видом, и если бы не их украшенные перьями диадемы, можно было бы подумать, что ты попал на поминки. Меня неприятно поразила царившая здесь атмосфера, но я решил не падать духом и, воспользовавшись моментом, прибегнуть к услугам двух самых востребованных девушек, которые не понимали, как я могу испытывать желание в такой ситуации. Я же лишь усмехался. Если уж умирать, то в ваших объятиях, пошутил я. Получив свое, я взял яблоко из вазы с фруктами, стоявшей возле кровати, и надкусил его, не скрывая недовольства. Девушки старались мне угодить, но я не мог не заметить, что их мысли были заняты совсем другим.
В это время послышался первый взрыв. Он прозвучал со стороны Челси. Девушки перепугались и принялись быстро одеваться. Тут последовал новый раскат. Не похоже было, что стреляли в окрестностях города, а это могло означать только одно: треножники прорвали линию обороны и вступили в Лондон. Третий взрыв, раздавшийся так близко, что здание немного задрожало, подтвердил это. Оттолкнув впавших в истерику девушек, я подскочил к окну. По улице бежали перепуганные люди, но в небе над крышами ничего не было видно, за исключением непонятных красноватых вспышек, озарявших спустившуюся на город ночь. Я быстренько оделся и вместе с немногочисленными клиентами покинул публичный дом как раз тогда, когда забили колокола. Похоже, звонили во всех церквах Лондона. Очутившись на улице, я первым делом уставился в небо — это было глупо, но я не знал, куда мне еще смотреть в этом районе высоченных зданий. Кто-то крикнул, что это марсиане и что один из них был подбит нашей артиллерией в Ричмонде. Было смешно такое слышать. Но, по-видимому, из последних сил совершив сей подвиг, наша доблестная армия была просто сметена с лица земли. Из противоречивых слухов, распространявшихся в толпе, я вывел, что марсиане по меньшей мере взломали оборону возле Ричмонда и Кингстона. В других местах нас ждало то же самое, и, видимо, это уже случилось, судя по усилившимся вдалеке взрывам. «Но ведь такого не может быть! — подумал я, окончательно сбитый с толку, и едва успел увернуться от повозки, битком набитой беженцами. — Не может быть! Неужели эти машины такие грозные?»
Пока я силился понять, почему все пошло не так, как надо, взбудораженная толпа швыряла меня из стороны в сторону, и мне с трудом удалось присесть на встретившуюся на пути скамейку. Что греха таить, я весь дрожал и был не на шутку испуган. Мне нужно было подумать. Точно узнать, что происходит, не представлялось возможным, но ужасные взрывы слышались все чаще и гораздо ближе. Из раза в раз все повторялось: сначала раздавался резкий свист, затем гремел залп, а в конце воздух начинал дрожать от грохота — рушилось очередное здание. Но самое скверное заключалось в том, что эта мрачная симфония, похоже, звучала по всему Лондону, от Илинга до Ист-Хэма.
Стараясь взять себя в руки, я извлек папиросу из портсигара и с холодным спокойствием самоубийцы закурил под удивленными взглядами пробегавших мимо людей. Я надменно поглядывал на них, хотя паника, которой я сопротивлялся из последних сил, уже сдавила мое пересохшее горло, придав моему табаку резкий металлический вкус. Я медленно выпустил дым, стараясь отвлечься от царившей вокруг суматохи и вникнуть в ситуацию: почему до сих пор не случилось то, что должно было в любом случае воспрепятствовать успеху нашествия? Все равно что: вдохновенный приказ какого-нибудь министра, мощное секретное оружие, непредвиденное природное явление, действия отряда солдат, подготовленных для такого рода случаев, или, быть может, одного человека, который вернет все в прежнее положение мановением руки. Я с любопытством вглядывался в пробегавших мимо меня людей: трактирщиков, не успевших снять свои фартуки, горничных в форменных платьях, детей, крепко сжимавших руку матери, нищих, банкиров и даже какого-то всадника. Их растерянность и страх были так безмерны, что не оставалось сомнений в том, что ни одной из этих несчастных душ не уготовано спасти Лондон, а тем более планету. Наша армия, похоже, также не была на такое способна. Однако я знал, что кто-то должен был это сделать. Причем уже сейчас. «А что, если роль спасителя уготована мне? — вдруг подумал я. — И я должен вмешаться в события и направить их в правильное русло?» Но эта мысль тут же показалась мне столь же эгоистичной, сколь нелепой. В конце концов, что я мог сделать, чтобы исправить настоящее? Ничего или почти ничего, сказал я себе. Я вовсе не был героем.
И тут с близлежащей улицы послышался зловещий свист, и возникло то, что я могу определить только как молнию, укрощенную волей какого-то божества, ибо она рассекла пространство не зигзагообразно, а по прямой и параллельно земле, словно свет фонаря. Странный луч пересек площадь, мимоходом поджег верхушки нескольких деревьев и ударил в одно из зданий в глубине, которое моментально разлетелось на куски. При этом он безжалостно смел стоявших вокруг людей и экипажи, словно хлебные крошки со стола. И тотчас все мы, находившиеся на площади и словно загипнотизированные происходящим, услышали сзади металлический перестук. Клинк-клинк-клинк. Земля задрожала, и мы в испуге повернулись в сторону улицы, откуда появился луч, зная, что на нас надвигается один из треножников, о которых рассказывали беженцы. Сквозь плотное облако пыли, образовавшееся на месте рухнувшего здания, мы с трудом разглядели зловещий силуэт машины, отдаленно напоминавшей паука. В сторону площади двигалось нечто громадное, просто гигантское. Через несколько секунд оно застыло напротив нас, надежно уперевшись в землю тремя своими мощными лапами. Многие кинулись бежать, но некоторые, в том числе и я, остались стоять посреди площади, словно зачарованные. Я впервые встретил марсианский треножник и до сих пор не могу без содрогания вспоминать эту встречу. Он показался мне мощнее не только любой созданной человеком машины, но и любой машины, которую когда-либо сумеет создать человек. Спереди у него свисало подобие щупальца, сделанного, по-видимому, из такого же блестящего материала, что вся машина, только более гибкого. Бич грациозно раскачивался в воздухе, словно хоботок мухи, и заканчивался непонятным устройством, напоминавшим оружие. В этот момент, словно в подтверждение моих подозрений, оттуда вырвался второй луч. Он ушел в землю возле его лап, но по мере того как машина поднимала щупальце, луч начал разрезать площадь по диагонали, словно это был свадебный торт. Жестокая огненная коса закончила свою жатву, разрезав пополам здание на углу, которое тут же со вздохом рухнуло, превратившись в груду щебня.
Все это случилось метрах в пятнадцати от того места, где я находился, тем не менее я своей кожей почувствовал обжигающий жар, исходивший от теплового луча, и это помогло мне прийти в себя. И теперь я понял, что моя жизнь в опасности, что я могу погибнуть в любой момент. Это была уже не та пьеса, чей финал мне был известен. Кто-то подал неправильную реплику, и смысл действия резко изменился. Впрочем, было все равно, чем обернется нашествие, поскольку я был слишком незначительным персонажем и мог погибнуть от самых разных причин — сожженный лучом, погребенный под обломками, сбитый шальным экипажем, но моя смерть ничего бы не изменила. И тогда я как никогда ясно осознал свою чудовищную уязвимость. Наблюдая за тем, как машина готовится дать новый залп по зданиям, я вдруг вспомнил о Виктории, моем кузене и его жене, которые тоже могли погибнуть, когда треножники доберутся до Квинс-Гейт, потому что они так же хрупки и смертны. Я должен действовать, должен бежать отсюда и как можно скорее присоединиться к ним!
Рухнувшее здание превратилось в дымящуюся баррикаду из обломков, перегородившую проход к улицам, что вели в Квинс-Гейт, а потому, отчасти по собственной воле, отчасти увлекаемый обезумевшей толпой, я бросился бежать в сторону боковой улочки, удаляясь от застывшего посреди площади треножника, на помощь которому уже спешил второй. Толпа несла меня неизвестно куда по лабиринту маленьких улиц и переулков, сзади гремели взрывы, а я все бежал и бежал, стараясь не упасть, чтобы меня не затоптали, как это уже случилось со многими. Вскоре у меня возникло смутное ощущение, что я бегу по хорошо знакомым местам: распознавал отдельные детали — афиша, лавка, перекресток, — но не мог привязать их к определенной улице. Казалось, знакомая панорама вдруг изменилась по той простой причине, что я рассматривал ее на бегу, пробиваясь сквозь охваченную паникой людскую массу. Я видел над головой небо, озарявшееся красноватыми вспышками, вдыхал дым пожарищ и слышал оглушительную какофонию, где смешались крики людей, рев земных орудий и назойливый свист треножников, доносившийся, казалось, одновременно со всех сторон. Только выйдя к набережной Челси, я понял, что бежал в противоположном направлении, удаляясь от Южного Кенсингтона, куда мне как раз и надо было попасть. Сейчас я находился у пристани, тяжело отдуваясь и кашляя, зажатый среди десятков людей с покрытыми слоем пыли, как и у меня, лицами. Мы напоминали группу загримированных оперных сопрано, внезапно эвакуированных полицией из театра. Тут меня вдруг замутило, и я наклонился, уперев руки в колени. В такой позе я пробыл несколько секунд, изучая носки своих ботинок и прилагая усилия, чтобы меня не вырвало. Мне вовсе не хотелось выглядеть в глазах окружающих чересчур впечатлительным молодым человеком. Когда я наконец смог поднять голову, мне бросилось в глаза, что у причала столпилось множество лодок и баркасов, переполненных людьми, которые хотели то ли переплыть на другой берег, то ли высадиться на этом. Я медленно выпрямился, мне стала понятна причина этой паники. Прямо передо мной поблескивала Темза, чье русло было словно оправлено в череду мостов. Ближайшим оказался внушительный Альберт-бридж, опиравшийся посередине на два мощных бетонных устоя, однако эта конструкция, которую я всегда воспринимал как наглядный пример могущества человека, сейчас показалась мне на удивление жалкой родом со зловещей шайкой треножников, продвигавшихся по южному берегу. Полчище темных фантасмагорических фигур четко вырисовывалось на фоне полыхающей ночи, поскольку треножники пересекли Бэттерси, оставив после себя руины зданий, охваченные пожаром, и приближались к Темзе, явно намереваясь перейти ее вброд на своих длинных ходулях. Но прежде чем хоть один из них успел подойти к воде, на сцену вступил отважный миноносец. Дерзко промчавшись по реке, подобно Левиафану, он встал между треножниками и скопившейся на пристани толпой. Пытаясь что-то разглядеть сквозь лес окружавших меня голов, я обнаружил, что нечто похожее происходит вдоль всей реки, усеянной военными кораблями, которые пытались сдержать орды треножников, ворвавшихся в столицу с юга и сровнявших с землей Ламбет и прилегавшие к нему районы. Весь южный берег Темзы кишел марсианскими машинами, напомнившими мне издалека кипящих в кастрюле раков. Некоторые миноносцы уже даже открыли огонь по пришельцам, судя по доносившейся с той стороны канонаде. Со смутным ощущением защищенности, похожим на то, какое испытывает сидящий в ложе человек, следя за горящей сценой и тревожно прикидывая, дойдет ли пожар до него, все мы, столпившись на берегу, приготовились наблюдать за поединком, так как в этот момент загораживавший нас миноносец принялся яростно палить по марсианам. Оглушительные залпы следовали один за другим, с легкостью разрушая дома на том берегу, словно они были из бумаги, но не нанося урона треножникам, которые лениво уклонялись от выстрелов, переминаясь с ноги на ногу. Не открывая ответный огонь, они лишь продолжали продвижение к реке. Наконец очередной снаряд попал в цель, панцирь треножника разлетелся на куски, а вслед за этим и сам он рухнул на дом, как срубленное дерево. Мы приветствовали эту потерю в стане врага радостными криками, но веселье продолжалось каких-нибудь несколько секунд, после чего мы стали свидетелями жестокого ответа треножников. По крайней мере три мощных огненных луча, выпущенных ближайшими к берегу треножниками, настигли миноносец, который сразу завилял и затрясся на волнах, и хотя непроницаемое облако дыма и пара некоторое время скрывало от нас происходящее, мы слышали последующие разрывы и даже видели внезапно вылетевшие из тумана многочисленные металлические обломки, в том числе кусок одной из двух пароходных труб-близнецов. Внезапно пальба прекратилась, дым вскоре рассеялся, и нашим взорам предстал разбитый дымящийся миноносец, крутившийся на воде, словно убитая птица. После этого два треножника выстрелили по мосту Альберта, срезав его своими огненными ножами и сбросив в Темзу, словно виноградины из бумажного кулька, вереницу людей, бежавших в сторону Челси, а теперь смешавшихся с пылающими кусками щебня. Остатки моста образовали что-то вроде баррикады, отделившей эту сцену от кровопролитной битвы, развернувшейся вдоль реки. Тут мы увидели, что треножники входят в кипящую воду походкой дряхлых стариков. Было очевидно, что, несмотря на неуверенность, с которой они ступали по дну, добраться до нас они сумеют очень скоро, и уже ни один корабль не сможет преградить им дорогу.
Самый нетерпеливый из них выстрелил по нашему берегу. Залп разрушил набережную в пятнадцати метрах от того места, где я стоял. И снова толпа повлекла меня неизвестно куда. В нескольких метрах передо мной упала девочка и была тут же затоптана слепой толпой, и я чувствовал, как ее косточки хрустят под моими ногами, бессильными остановить свой бег. Этот инцидент побудил меня сделать все возможное, чтобы отделиться от человеческого потока, частью которого я невольно оказался. Желая вернуть свою волю, я прижался к стене и пропускал мимо обезумевшую орду до тех пор, пока на опустевшей улице не осталось лишь несколько раздавленных тел. После этого я попытался сориентироваться. Мне это удалось, и я побежал в направлении Южного Кенсингтона. Мне удалось избегнуть встречи с треножниками и даже с потоками людей, убегавших от них, и в итоге я осторожно, как правило по безлюдным улочкам, пересек район и вышел к Кромвель-роуд. Не знаю, сколько времени мне для этого потребовалось, по-моему, целая вечность. В конце я чувствовал себя совершенно обессиленным и дрожал как в лихорадке. Меня утешало лишь то, что в Квинс-Гейт пока еще царила тишина и роскошные местные особняки были целы и невредимы. Но треножники не замедлят вскоре здесь появиться, определил я по еще далекой канонаде. В запасе у меня было от силы двадцать — тридцать минут, если только они не задержатся, чтобы как следует, на совесть отутюжить Южный Кенсингтон.
Я бросился к дому дяди и ворвался внутрь. К моему удивлению, на первом этаже никого не оказалось, а потому я, еле волоча ноги, поднялся по роскошной мраморной лестнице на второй этаж, но и там не встретил ни души. Прежде чем спуститься обратно, я подошел к огромным окнам: ужасающая панорама Челси и Бромптона позволила мне составить более общее представление о жестоких разрушениях в городе. А дальше, на другом берегу Темзы, колыхался огненный занавес. Треножники распространялись по городу, словно неостановимая эпидемия. Я пришел в уныние, но тут же заставил себя приободриться, мысленно повторяя, что не все еще потеряно. Многие города в прошлом подвергались чуть ли не полному разрушению, но возникали из пепла еще великолепнее, чем прежде. Рано или поздно, кто-то начнет действовать, кто-то повернет ход нашествия вспять. Сейчас он, вероятно, скрывается где-то, выжидая подходящего момента.
Наконец я спустился на первый этаж и принялся кричать во всю глотку, возвещая о своем присутствии, но мой голос тонул в грохоте взрывов и колокольном звоне. И тут мой взгляд случайно упал на одно из зеркал, украшавших большую гостиную. Я был поражен, увидев свое отражение, грязного и взъерошенного Чарльза с совершенно безумными глазами. Шляпу я потерял, волосы торчали в разные стороны, а у белесого от пыли пиджака был почти оторван рукав. Никогда не думал, что в таком виде вернусь из публичного дома, чтобы пригласить Викторию на ужин. Я оторвался от зеркала и прошелся по этажу, недоумевая, куда подевались мой кузен и его гости. Может, выскочили на улицу, побуждаемые страхом или любопытством? Вряд ли.
Внезапно я вспомнил, что еще не осмотрел несомненно самое надежное место в доме на случай нашествия на город марсиан или иной катастрофы — подвал, где располагались хозяйственные помещения. Очень может быть, что они решили укрыться там. Я часто навещал своего дядю, но во время этих визитов ни разу не решался проникнуть в мир, чье биение я ощущал подметками ботинок, хотя знал, что туда ведет неприметная дверца возле кухни. Я спустился по ступенькам, чувствуя себя нарушителем всех правил приличия, и начал уже было сомневаться в верности моих предположений, как вдруг услышал чей-то голос. Я пошел на его звук по мрачным коридорам и вскоре уже мог различить отдельные слова. Голос этот, без сомнения, принадлежал уже пожилому человеку, который говорил в высшей степени спокойным и безукоризненно вежливым тоном, словно привык именно так общаться с окружающими. Я предположил, что это Гарольд, услужливый кучер моего дядюшки.
— И тут я понял, что, для того чтобы вспугнуть хорька, нужно взять грабли, а это было совсем нелегко сделать, потому что, как я вам уже рассказывал, я в тот момент был без штанов, — рассказывал он.
Эти слова вызвали взрыв откровенного смеха, из чего я заключил, что Гарольд рассказывает свою историю слушателям столь же многочисленным, сколь невзыскательным. И я не ошибся, что подтвердилось, едва я отворил дверь, из-за которой слышался добродушный смех. Моим глазам открылась комната, должно быть, служившая слугам гостиной, где стулья были расставлены так, что составляли один большой круг, в середине которого стоял кучер, воздев кверху руки, словно колдун, застигнутый во время заклинаний. Среди сидевших вместе со слугами я с облегчением заметил мою жену Викторию, ее сестру Мадлен и мужа последней, моего кузена Эндрю, — единственных действующих хозяев на тот момент, поскольку дядю с тетушкой нашествие застало в Греции, куда они поехали вместе с моими родителями. Заметил я и высоких гостей, коими были лучшие подруги наших жен Люси Нельсон и Клер Хаггерти. Супруг первой, инспектор Скотленд-Ярда по фамилии Гарретт, отсутствовал — нетрудно было предположить, что он находится на службе, восстанавливая порядок на улицах, если такое возможно, — зато Клер явилась в сопровождении мужа, Джона Пичи, с которым я еще не имел удовольствия быть знакомым. Я обратил внимание, что у всех в руках были бокалы, а кое-кто уже задумчиво улыбался, успев принять не одну порцию. Для поднятия настроения в углу стоял граммофон, из которого лилась веселая музыка, немного приглушавшая звуки взрывов. Похоже, Виктория обрадовалась, что я жив, хотя гнев помешал ей выразить это как-то иначе, нежели победной улыбкой: мой плачевный вид бесспорно подтверждал, что нашествие успешно продолжается, как она и предсказывала в споре со мной. Я же вопреки всему, что видел, продолжал считать, что марсиане так или иначе вскоре будут разбиты. Непримиримость наших позиций привела к тому, что мы не сделали даже попытки подойти друг к другу и обняться, как того оба бы желали, ибо, как хорошо известно: уязвленная гордость — главный узурпатор любви. Но тут кузен Эндрю встал со своего места и поспешил мне навстречу, разрушив неподвижность сценки, участниками которой они все оказались.
— Боже мой, Чарльз, как хорошо, что ты объявился! — воскликнул он, обрадованный, что видит меня целым и невредимым. — Мы не знали, что происходит наверху, и боялись за тебя.
— Со мной все в порядке, Эндрю, — ответил я, с досадой заметив, что служанки шушукаются по поводу жалкого состояния моей одежды.
— Мы слышали взрывы, и это так действовало всем на нервы, что мы спустились сюда, — объяснил кузен и обвел рукой, в которой был зажат бокал, помещение. — Гарольд даже начал рассказывать забавную историю, чтобы отвлечь нас от того, что творится снаружи.
Кучер сделал неопределенный жест, давая понять, что мое появление нисколько ему не помешало.
— Ничего страшного, сэр, расскажу ее в следующий раз, — сказал он.
Услужливый дворецкий поспешно протянул мне бокал, взяв его с подноса на столике.
— Прошу вас, сэр. Судя по вашему виду, немного бренди вам не повредит.
Я рассеянно поблагодарил его, пытаясь совместить виденные мною наверху ужасные картины с умиротворяющей обстановкой подвала.
— Что происходит, Чарльз? — спросил Эндрю, дождавшись, пока я отхлебну из бокала. — Нас что… оккупировали?
Все выжидающе уставились на меня.
— Боюсь, что это так. Марсиане вступили в Лондон и… — Я сделал паузу, не зная, как помягче определить то опустошение, свидетелем которого я оказался. — В общем… они разрушают город. Наша армия уничтожена, и теперь никто нас не защитит, мы целиком и полностью отданы на милость победителей.
Кое-кто из служанок заплакал. Моя жена обняла свою сестру, а мистер Пичи — свою супругу, которая прижалась лицом к его груди, словно маленькая испуганная девочка. Кузен тяжело вздохнул.
— Боже всемогущий… нас захватывают марсиане… — прошептал он едва слышно.
Похоже, до моего появления он отказывался в это верить, несмотря на непрекращающиеся взрывы. Теперь же мой двоюродный брат был не столько испуган, сколько разочарован, как будто я, ошибившись в своих предсказаниях, предал его. Я оглядел остальных: все они, похоже, восприняли мои слова как приказ, которого ждали, чтобы наконец начать дрожать от страха. «Боже мой», — нервно причитали слуги и беспомощно переглядывались.
— Все уладится, я уверен, — успокоил я их, хотя мне самому было трудно в это поверить.
Виктория покачала головой, и ее губы сложились в гримасу, выражавшую одновременно грусть и насмешку. И когда только я признаю свое поражение?
— Почему вы это говорите, мистер Уинслоу? — с надеждой в голосе спросила Клер, оторвав голову от груди своего мужа.
Прежде чем ответить, я набрал побольше воздуху в легкие и постарался изложить свои предположения как можно яснее, игнорируя укоризненный взгляд жены:
— Как вам известно, миссис Пичи, некоторые из присутствующих здесь, в том числе и вы, совершили путешествие в двухтысячный год, побывали в будущем, где единственную угрозу человеку представляли автоматы. Уже одно это, очевидно, может означать, что вторжение, которое мы в данный момент переживаем, не будет иметь успеха. Я убежден: в ближайшее время произойдет нечто такое, что положит ему конец, хотя пока не знаю, что это может быть. Будущее на это указывает.
— Я бы не стал уделять такое внимание будущему, поскольку, как явствует из самого слова, это то, что еще не произошло, — вмешался ее муж, Джон Пичи.
Недовольный, что меня прервали, я адресовал ему недоуменный взгляд, нарочито подняв при этом брови, и Клер поспешила представить мне его, ибо даже в такой обстановке не следовало забывать о правилах хорошего тона, принятых с давних времен.
— Чарльз, это мой муж Джон Пичи, — сказала она.
Услышав свое имя, ее супруг быстро протянул мне руку, словно боялся, что нарушит правила вежливости, если запоздает хотя бы на несколько секунд, тем не менее я все равно пожал ее с выражением досады на лице. Здесь я должен признаться, что мое первое впечатление от этого Пичи не было благоприятным, причем не только потому, что он осмелился мне перечить. Я всегда чувствовал неодолимую неприязнь к людям, которые не сознают своих возможностей и потому не могут их правильно использовать, а он как раз принадлежал к подобным типам, причем выделялся даже среди них. Это был рослый и крепкий молодой человек с правильными чертами лица, на котором обращали на себя внимание выразительные глаза и волевой подбородок, но казалось, что утренний туалет Пичи состоял в том, чтобы замаскировать все его достоинства, чтобы в результате этого добросовестного вредительства он предстал невзрачным, робким и жалким человечком с прилипшими ко лбу волосами и в огромных очках. Казалось, не хватало личности, соответствующей таким физическим данным, той решительности, которая позволила бы извлечь выгоду из столь выигрышной внешности. Все в нем выглядело банальным, благоразумным, противным его природе. Хотя официально мы не были знакомы, я знал, что Пичи занимает пост почетного директора банка «Барклайс», где одним из главных акционеров был отец Клер, и мне хватило беглого взгляда, чтобы понять: он занимает высокий кабинет на Ломбард-стрит не из-за способности принимать быстрые и дерзкие решения. Завидный пост достался ему, очевидно, в силу совсем других причин.
— Ну а теперь, мистер Пичи, когда мы с вами наконец познакомились, могу ли я спросить, на что именно вы намекали? — поинтересовался я, стараясь, чтобы мой вопрос прозвучал как можно деликатнее.
— На то, что будущее еще не наступило, мистер Уинслоу, — быстро ответил он. — Оно пока не существует, его нельзя осязать. Поэтому строить свои предположения на том, что еще не произошло, кажется мне…
— О, я вижу, вы много знаете о будущем, мистер Пичи! — перебил я его тоном, в котором ирония смешивалась с почтительностью в той единственно верной пропорции, какую способен соблюсти лишь аристократ. — Вы побывали в двухтысячном году? Я был там, и, уверяю вас, он показался мне вполне осязаемым, хотя не припоминаю вас среди участников той экспедиции. Вы в которой из них участвовали?
Пичи испуганно взглянул на меня, видимо, не зная, как реагировать на утонченную двусмысленность моего тона.
— Да нет… Я вообще в этом не участвовал… — неохотно признался он.
— Не участвовали? Какая досада, мой дорогой мистер Пичи. Тогда, полагаю, вы согласитесь со мной, что человек, рассуждающий о том, чего он не видел, рискует — причем, на мой взгляд, очень сильно рискует, — ошибиться и прослыть среди окружающих невеждой, — сообщил я ему с любезной улыбкой. — Поэтому, прежде чем вы продолжите развивать вашу мысль, позвольте уведомить вас, и Клер конечно же сможет подтвердить мои слова, что будущее существует. Да, в каком-то месте потока времени это будущее происходит сию минуту, и оно так же реально, как и миг, в который мы с вами беседуем. В чем я совершенно уверен, потому что, в отличие от вас, я действительно побывал в двухтысячном году. Это год, когда человеческая раса находилась на грани уничтожения по вине злобных автоматов, а вовсе не марсиан, хотя благодаря одному человеку по имени Дерек Шеклтон нам удастся их победить.
— Нам бы сейчас этого Шеклтона… — пробормотал Гарольд за моей спиной.
Пичи взглянул на него с неожиданным любопытством.
— Не думаю, чтобы один человек смог бы что-либо сделать, — категорично изрек он.
Эта реплика банкира разозлила меня еще больше, чем предыдущая. На него не только не произвел никакого впечатления мой презрительный тон и он проигнорировал мои замечания, чтобы ответить какому-то кучеру, но к тому же он осмелился рассуждать о том, что может и чего не может сделать Шеклтон.
— Капитан Шеклтон — не простой человек, мистер Пичи, — произнес я, стараясь, чтобы мой гнев не вылился наружу. — Капитан Шеклтон — герой. Он герой, вы понимаете?
— Пусть так, но я все равно очень сомневаюсь, что он мог бы что-нибудь сделать в этой ситуации…
— Боюсь, мой дорогой Пичи, что мое мнение расходится с вашим, — вновь перебил я его. — Но, к несчастью, у нас нет времени на то, чтобы затеять увлекательную дискуссию по этому вопросу, в которую в другое время и при других обстоятельствах я бы с удовольствием вступил, ибо нет ничего на свете, что привлекает меня больше, чем возможность обменяться мнениями, столь же умными, сколь бесполезными. Поэтому скажу только, что если бы вы побывали в будущем, то знали бы, что такое настоящий герой и на что он способен. — Я учтиво улыбнулся ему и не смог удержаться, чтобы не одарить его язвительной репликой: — Впрочем, кажется, я поступил ужасно невежливо по отношению к вам, мистер Пичи, заострив внимание на этом факте. Подозреваю, что два года назад ваше материальное положение было не столь безоблачным, как сегодня, и потому цена билета была для вас, очевидно, недоступна.
Пичи поджал губы, чтобы ненароком не ответить мне какой-нибудь резкостью, что сразу бы свело на нет его вымученную корректность. Справившись с этим порывом, он слегка наклонил голову, ища наиболее подходящий, но столь же язвительный ответ, и я понял, что мы, сами того не желая, начали словесную дуэль — вид спорта, в котором ты должен продемонстрировать свое мастерство в том, что касается иронии и дерзких реплик. Впрочем, это меня ничуть не испугало, поскольку, могу сказать без хвастовства, мой острый язык был известен всему Лондону. Напротив, было очевидно, что у Пичи, как бы он ни хорохорился, отсутствуют и талант, и опыт. Естественно, я отдавал себе отчет в том, что ситуация для полемических битв была не самой идеальной, но я никогда не мог побороть известные искушения. Воспользовавшись замешательством банкира, я быстро огляделся. Все прекратили разговоры и обратили свои взоры на нас: слуги держались подальше, возможно, не понимая, о чем мы спорим, за исключением Гарольда, стоявшего чуть ближе, рядом с Люси, Мадлен и моей женой, которые поднялись со своих мест, встревоженные опасным направлением, какое принял наш разговор, а в шаге от нас находились Клер и Эндрю, напряженные, как натянутые скрипичные струны. Я улыбнулся Пичи, вдвойне возбужденный присутствием столь внимательных слушателей. Граммофон подчеркивал всеобщее молчание своей бодрой мелодией.
— Что вы знаете о том, как я жил два года назад? — произнес наконец мой соперник, с трудом сдерживая волнение.
Я медленно покачал головой, разочарованный его ответом. Неудачнее он не мог выразиться. Пичи совершил ошибку новичка: тот, кто отвечает вопросом, неизбежно дает оппоненту лишний шанс проявить свое остроумие. Это даже ребенок знает.
— Только самое необходимое, мистер Пичи, — спокойно ответил я, поигрывая бокалом. — То, что вы возникли буквально ниоткуда, не имея ни имени, ни состояния, чтобы жениться на дочери одного из самых богатых людей в Лондоне.
— На что ты намекаешь, Чарльз? — тотчас вступила в разговор Клер.
Я повернул к ней голову, что вышло несколько театрально, но изящно.
— Намекаю? Боже меня упаси намекать на что бы то ни было, Клер! — ответил я и одарил ее своей самой обворожительной улыбкой. — Намеки, как правило, выходят боком тому, кто их делает, поскольку вынуждают невиновного защищаться, в то время как виновник может преспокойно игнорировать их, и это не будет выглядеть подозрительным. Поэтому я всегда предпочитаю слыть наглецом, нежели лицемером, дорогая. Не потому, что меня беспокоит мнение обо мне окружающих, а потому, что мне хочется, чтобы им стало известно мое мнение.
— Ох, всем нам слишком хорошо известно, как ты обычно высказываешь свое мнение, Чарльз. Но позволь тебе напомнить, что на этот раз ты судишь о человеке, которого абсолютно не знаешь, — возразила Клер, заметно расстроенная. — А ведь ты же сам несколько минут назад предупреждал Джона, что человек, рассуждающий о том, чего он не знает, рискует, причем рискует очень сильно, ошибиться и прослыть невеждой.
Моя улыбка сделалась еще шире.
— Так я же первый признаю свое невежество, Клер! — воскликнул я, всплеснув руками, и с невинным видом посмотрел по сторонам. — Я не скрываю его и ничего не жажду так сильно, как просветиться. Моя дорогая Клер, разгадывать, откуда возник твой таинственный супруг, было излюбленным развлечением всего Лондона на протяжении этих двух лет! Без преувеличения могу сказать, что этот вопрос был самым обсуждаемым в салонах и клубах после смерти несчастного мистера Мюррея.
— Чарльз, я думаю, все присутствующие согласятся со мной, что между дерзостью и грубостью существует тонкая черта, которую ты сегодня, похоже, вознамерился перейти, — услышал я голос жены.
— Милая, совершенно невозможно интересоваться чьей-нибудь жизнью и не впасть при этом в грубость. Иначе можно впасть в фальшь, — сказал я, обернувшись к ней. — Уж тебе ли этого не знать! Или же ты хочешь, чтобы я взял на себя неблагодарный труд напомнить тебе перед всеми присутствующими, сколь остер бывал твой язычок, когда ты обсуждала свою любимую подругу за ее спиной?
Признаюсь, в этом уколе было больше яда, чем требовалось, но далеко не всегда удается точно рассчитать необходимую дозу. Виктория прикусила губу, стараясь справиться со злостью, и, должен сознаться, во мне шевельнулась жалость, но в то время я считал, что жалость — это роскошь, которую я не могу себе позволить.
— Вы кичитесь своим утонченным воспитанием, мистер Уинслоу, — вновь вступил в разговор Пичи, выбравшийся наконец из-под опеки жены, чтобы отважно и открыто ринуться в бой, — однако, похоже, не знаете, как обращаться с собственной супругой, более того — как сделать ее счастливой, подобно тому, как мне удалось сделать счастливой мою дорогую Клер.
Я обернулся, готовый отразить атаку, однако его точный выпад застал меня врасплох, а, как известно, ошибиться может даже самый умелый фехтовальщик. Ошибся и я, ответив ему вопросом:
— Как же ваш острый ум пришел к такому заключению, мистер Пичи?
Он очень ловко использовал мой промах. Изобразив любезную улыбку, казавшуюся зеркальным отражением моей, Пичи ответил:
— Как все мы могли заметить, вы оставили ее здесь одну, а сами занялись делами, представлявшимися вам более важными.
Я сжал кулаки, чтобы не показать, как сильно задели меня его слова, и, признаться, мне трудно было сохранить при ответе свое всегдашнее спокойствие:
— Не думаю, что вы наиболее подходящий человек для того, чтобы оценить важность моих дел, мистер Пичи. Но, по крайней мере, то, что я делаю или чего не делаю, определяется моей любовью к Виктории, а не страхом рассердить некую персону, которой я обязан своим положением.
Улыбка исчезла с лица Пичи.
— Вы осмеливаетесь сомневаться в моей любви к миссис Пичи? — произнес он с нескрываемой яростью.
Я усмехнулся: пришло время нанести ему решающий удар.
— Нет, так как этим я унизил бы одну из самых красивых и интересных женщин нашего общества, мой дорогой мистер Пичи. Речь о другом. Если я осмелился поставить под сомнение вашу любовь к нашей очаровательной Клер, то по причине, не имеющей никакого отношения к ее многочисленным добродетелям, ибо на самом-то деле усомнился я в вашей порядочности.
Пичи стиснул зубы, едва сдерживая гнев.
— Чарльз, ты сам не знаешь, что говоришь… — возмущенно произнесла Клер за моей спиной.
— Моя дорогая Клер, вы, женщины, обладаете свойством верить в то, что больше вам подходит, — ответил я, повернувшись к ней и одновременно краем глаза наблюдая за тем, как Пичи снимает очки, складывает их и прячет в карман пиджака, причем проделывал он это с таким невозмутимым видом, словно служил литургию.
— Не смейте так разговаривать с моей женой, мистер Уинслоу, — спокойным тоном произнес он, убедившись, что его очки надежно убраны.
То, что он не удосужился взглянуть на меня, взбесило меня еще больше, чем его слова.
— Ты мне приказываешь, Джон? — усмехнулся я и развел руками, как бы желая продемонстрировать свою растерянность.
— Надеюсь, я достаточно ясно выразился, чтобы у тебя не осталось ни малейших сомнений, мой дорогой и наглый Чарльз, — сказал он.
То, что произошло потом, случилось так быстро, что я не в состоянии описать это во всех подробностях. Помню только, что Пичи с невероятной быстротой ухватил меня за кисть, и спустя секунду моя правая рука оказалась завернутой за спину. Далее чья-то нога отделила мою ногу от пола, и, еще не успев понять, что происходит, я увидел, как комната накренилась, словно идущий ко дну корабль, после чего мое лицо уткнулось в ковер. Пичи прижимал меня к полу ногой и с помощью какого-то особого приема не давал вырваться. Резкая боль в руке вспыхивала, если я пытался пошевелиться, практически не давая дышать.
— Довольно, Джон, — услышал я твердый и четкий голос Клер. Подобно пантере, внезапно укрощенной голосом девушки, Пичи выпустил свою добычу. Я почувствовал, что он встает, в то время как я по-прежнему лежал, уткнувшись в ковер и пряча ото всех унизительную гримасу боли, вызванной судорогами в руке.
— Чарльз… — вновь заговорила Клер, и в ее голосе прозвучала почти материнская нежность. — Из всего, что ты тут сказал, я соглашусь только с одним: капитан Шеклтон — действительно герой, исключительный человек, способный спасти нашу планету от автоматов…
— Клер, прошу тебя… — услышал я умоляющий шепот ее мужа, недовольно переминавшегося с ноги на ногу в опасной близости от моего лица.
— Нет, Джон, — прервала его она. — Мистер Уинслоу — старый друг, и он должен осознать свои заблуждения, чтобы получить возможность извиниться, к чему, без сомнения, его призовет честь джентльмена.
— Но ведь… — робко выдавил из себя ее муж.
— Однако, Чарльз, — продолжила Клер, снова обращаясь ко мне. Но я не повернулся к ней. Я по-прежнему лежал, уткнувшись лицом в ковер, — есть еще одна вещь, которую ты должен знать о капитане. Дерек Шеклтон — не только великий герой. Он еще и человек, способный отказаться от славы ради любимой женщины и преодолеть время, чтобы жить рядом с нею… хотя и в обличье обычного директора банка.
Я оторвал голову от ковра и, стараясь сохранить хоть какое-то достоинство, спросил, обращаясь к ее туфлям:
— Черт побери, что ты хочешь этим сказать, Клер?
Ее голос плавно спустился ко мне, словно перышко.
— Что перед тобой стоит твой замечательный капитан Шеклтон.
— Что? — недоверчиво пробормотал я.
Мой взгляд медленно вскарабкался по сильным ногам банкира, по его талии, по свисавшим вниз огромным рукам, по мощной груди и в конце концов остановился на лице, где, уже не защищенные очками, сверкали большие бездонные глаза. Некоторое время, показавшееся мне вечностью, я ошарашенно рассматривал это спокойное и решительное лицо, при взгляде снизу напоминавшее лицо одного из богов-олимпийцев. И тут, подобно отражению, постепенно возникающему в отпотевающем зеркале, на этого человека, которого я несколько минут назад пытался унизить, наложились мои воспоминания о бравом капитане Шеклтоне, герое, спасшем будущее нашей расы. Никто не знал его в лицо, поскольку из-под шлема был виден только подбородок, но должен сказать, это был такой же мужественный подбородок, как у Пичи. Так, значит, Клер сказала правду? Этот робкий и заурядный банкирчик — действительно капитан Шеклтон? Пичи протянул мне ту самую руку, которой несколько мгновений назад прижимал меня к полу, чтобы помочь подняться. Я ухватился за нее, все еще не веря, что она принадлежит Шеклтону, и встал на ноги.
— Вы шутите… — сказал я. — Вы не можете быть капитаном Шеклтоном…
— Да он это, он, — убеждала меня Клер. — Мы с Дереком познакомились два года назад… впрочем, на самом деле наша встреча еще не состоялась, поскольку произошла в двухтысячном году… Все началось во время одной из экспедиций в будущее, организованных фирмой «Путешествия во времени Мюррея», хотя потом потребовалось, чтобы он отправился в наше время, для того…
— Подожди, подожди, Клер… — в полном замешательстве пытался я прервать ее.
— Впрочем, сейчас это не имеет значения. Я объясню тебе все в другой раз, — сказала она. — Главное, что мы полюбили друг друга, Чарльз. И что он решил бросить все и остаться в нашей эпохе, со мной, женщиной, которую полюбил.
— Но… этого не может быть, Клер… — пробормотал я, не зная, как реагировать на услышанное.
— Может, Чарльз. Зачем нам тебя обманывать? — сказала она, с искренним сочувствием наблюдая за моим замешательством. — Мой муж — капитан Дерек Шеклтон, герой будущего, спаситель человечества.
Я перевел глаза на Пичи, и тот смущенно улыбнулся в ответ. Стало быть, это капитан Шеклтон? Я пожирал глазами могучую фигуру банкира, представляя его в доспехах Шеклтона и убеждаясь, что они были бы ему впору. Я быстро прикинул, что Пичи появился ниоткуда в лондонском обществе, как раз когда фирма Мюррея закрылась, и такое совпадение выглядело довольно странным… К этому следовало прибавить, что даже завзятым лондонским кумушкам не удалось ничего разнюхать о его прошлом. Значит, вот как все объясняется? У этого человека не было прошлого лишь потому, что оно принадлежало нашему будущему? Мои глаза обратились к Клер и встретили такой открытый, такой искренний взгляд, что последние сомнения исчезли. Я вдруг понял, что она меня не обманывает, что ей незачем это делать. Передо мной стоял капитан Шеклтон, герой 2000 года собственной персоной. Да, сказал себе я, сильно волнуясь, Шеклтон находится здесь, в нашем настоящем, каким бы невероятным мне это ни казалось. Его привела сюда любовь.
— Боже мой… Простите мне мою грубость, капитан, я… ваш облик был… — Я остановился, откашлялся и, сделав нелепый поклон, продолжил уже твердым голосом: — Для меня большая радость познакомиться с вами, капитан Шеклтон. И позвольте мне, воспользовавшись случаем, поблагодарить вас от имени всего человечества за спасение нашей планеты от злокозненных автоматов.
— Спасибо, мистер Уинслоу, — смущенно ответил Шеклтон. — Но на моем месте любой сделал бы то же самое.
— О нет, не любой… — улыбнулся я. Меня позабавила его скромность. — Взять хотя бы меня.
Я замолчал и продолжал восторженно рассматривать его, не обращая внимания на растерянные реплики, все громче звучавшие за моей спиной. По-моему, даже Эндрю что-то сказал мне, но я не расслышал, потому что мое внимание было полностью сосредоточено на капитане. Я никак не мог до конца поверить, что это Шеклтон и что он уже два года живет среди нас, в нашей эпохе, прячась под маской заурядного человека, который должен ежедневно скрывать, что он спаситель рода человеческого, и притворяться, будто не ведает, что нам уготовило будущее. Потому что он прибыл оттуда, из времени, которое для нас еще не наступило, пролетев сквозь годы, чтобы любить Клер Хаггерти. Неожиданно все части головоломки сложились в такое четкое и неопровержимое целое, что я от волнения чуть было не лишился чувств.
— Значит, тот факт, что вы находитесь в нашей эпохе, — сказал я, чувствуя, как меня переполняет восторг, — означает только то, что вы… нас спасете… не позволите, чтобы нашествие увенчалось успехом. Да, иначе и быть не может: именно поэтому вы здесь.
Пичи отрицательно покачал головой в ответ на мою догадку.
— Нет, Чарльз, Дерек находится здесь из-за любви, — вмешалась Клер.
Если мужчина когда-то любил женщину, он все сделает для нее, кроме только одного: продолжать любить ее, написал Оскар Уайльд для потомков. Любой мужчина, сведущий в любовных делах, может это подтвердить. Нет, Шеклтон находился здесь не из-за любви. Он находился здесь, потому что такова была его судьба. Да, именно он оказался недостающим членом моего уравнения, героем, которого мы ждали. Его мужество и ум были слишком хорошо известны, не случайно он уже однажды спасал нашу планету, хотя хронологически этого еще не произошло. Можно сказать, у него был опыт в подобных делах. Только он был способен победить марсиан, как ранее побеждал автоматы. Только он. И поэтому он здесь. Да.
— Ну разумеется, Клер, разумеется, он находится здесь из-за любви, — сказал я. — Но не будем забывать, что капитан Шеклтон — герой, а мы сейчас как никогда нуждаемся в герое.
— Благодарю вас за доверие, мистер Уинслоу, но я уже говорил вам, что в такой ситуации один человек ничего не может сделать, — сказал Шеклтон.
— Но вы же не обычный человек, капитан, — возразил я. — Вы герой!
Шеклтон вздохнул и снова покачал головой. Его скромность меня поражала. Я оглянулся по сторонам в поисках поддержки, но увиденное меня огорчило. Похоже, причина, по которой Шеклтон находился здесь, не казалась остальным такой же ясной, как мне. Слуги тупо глядели на нас, подавленные быстрой сменой невероятных событий: вторжение марсиан, разгром могущественной империи, появление в их маленькой гостиной героя из будущего, который согласно нашему календарю еще не родился… Впрочем, я и не ждал ничего иного от этих простодушных людей. Гораздо сильнее разочаровала меня собственная жена, всем своим видом дававшая понять, что для нее нет большего наказания, включая марсианское нашествие, чем терпеть причуды своего супруга. Что уж говорить о моем кузене и его очаровательной жене? Эндрю и Мадлен держались словно бы в стороне и не были готовы меня поддержать. Неужели в этой комнате нет никого, кто глядел бы на вещи так же, как я? В отчаянии я обернулся к Шеклтону:
— Капитан, я видел, как вы сражались на дуэли с королем автоматов и победили его. Вы спаситель человечества. И вы снова должны спасти нас.
— Сожалею, но боюсь, что не смогу этого сделать, — процедил Шеклтон с таким видом, будто никак не мог расстаться со своей маской и продолжал играть роль директора банка, отказывающего в кредите одному из своих клиентов.
— Еще как сможете! — воскликнул я. И повернулся за поддержкой к кузену: — Ты ведь не сомневаешься в этом, Эндрю? Он здесь, с нами, когда мы в нем больше всего нуждаемся. Таких совпадений не бывает! Проклятье, да скажи же хоть что-нибудь!
— Я не совсем… — растерялся кузен, — не совсем понимаю, чего ты добиваешься от мистера Пичи… виноват, я хотел сказать, от капитана Шеклтона…
— Ваш кузен прав, мистер Уинслоу, — сказал капитан. — Когда я победил Соломона, я не был один. Со мною были мои люди. Мы располагали мощным оружием и…
— Так отправимся в двухтысячный год и перевезем все сюда, — предложил я. — Да, отыщем в будущем ваше оружие и ваших людей, которые готовы пойти с вами на смерть, и разгромим проклятых марсиан!
— Каким образом? — пожал плечами Шеклтон.
— Что? — переспросил я.
— Каким образом вы собираетесь отправиться в будущее? — уточнил капитан.
Я остолбенело взглянул на него.
— Не знаю… Я думал, что… А как вы сами прибыли из будущего, капитан?
— В том-то и дело, Чарльз, — вступила в разговор Клер. — Дерек прибыл из будущего на машине, которая потом была разрушена.
Это удивило меня, поскольку я не знал о существовании еще одной, помимо «Хронотилуса», машины для путешествий во времени, хотя должен был понимать, что в будущем, откуда происходил Шеклтон, нечто подобное более чем возможно. В любом случае, если эта машина уничтожена, как уверяла Клер, нам на нее нечего рассчитывать. У нас оставалась единственная возможность совершить такое путешествие.
— Тогда мы отправимся в «Путешествия во времени Мюррея» и используем «Хронотилус» для поездки в двухтысячный год, — с торжеством в голосе заявил я.
— Но эта фирма закрылась два года назад, мистер Уинслоу, после смерти Гиллиама Мюррея, — напомнил мне Шеклтон.
— Я знаю… Но как вы полагаете, что сталось с окном, ведущим в двухтысячный год через четвертое измерение? Оно по-прежнему открыто?
— Не думаю, — ответил Шеклтон с поразившей меня уверенностью.
Я уставился на него, прикидывая, как его переубедить.
— А я думаю, что открыто. И через него мы наверняка сумеем попасть в будущее. В будущем, откуда вы прибыли, нет никаких следов марсиан, и это означает, что в какой-то момент и каким-то пока неизвестным нам образом мы с ними покончим. — Я снова окинул всех взглядом, и мне почудилось, что на лицах моего двоюродного брата, Мадлен и даже Гарольда и кое-кого из слуг мелькнуло нечто, похожее на понимание. Это добавило мне воодушевления. — Теперь вы начинаете меня понимать, верно? Ну конечно! Мы отправимся в фирму Мюррея, совершим путешествие в будущее и разгромим марсиан. И знаете, почему мы этого добьемся? Потому что мы уже этого добились!
— Но мы не можем быть уверены в том, что именно мое вмешательство позволит избавиться от нашествия, — упорно твердил Шеклтон. — Возможно, это будет помощь дружественной страны или что-то другое…
Капитан оглянулся, ища поддержки у слушателей, но его слова потонули в гуле всеобщего восхищения. Кое-кто из слуг шагнул к нему, словно под влиянием гипноза: ведь среди них находился герой, который спасет человеческую расу от гибели, а для этого прежде всего победит марсиан, уничтожив мощные машины, разрушавшие их родной город.
— Может быть, он прав, Дерек, — тихо заметила Клер. — Возможно, ты оказался здесь не только потому, что любишь меня. А если твое появление в нашем времени имеет и другую цель, как утверждает Чарльз?
— Но послушай, Клер… — возмутился Шеклтон.
Она нежно погладила его по руке.
— Мне кажется… ты должен попробовать, Дерек, — сказала она и умоляюще взглянула на него.
Шеклтон молча смотрел в ее прекрасные глаза, а мы все с замиранием сердца ожидали его решения.
— Хорошо, Клер, я попытаюсь, — наконец сказал он.
— Прекрасно! — обрадованно воскликнул я, и все начали аплодировать и даже обниматься. — Значит, отправляемся в двухтысячный год!
Я видел, как Гарольд незаметно вытирает слезы, в то время как слуги обнимались и хлопали друг друга по плечу, словно их команда выиграла самый главный матч сезона. И только моя жена сидела насупившись и не принимала участия во всеобщем ликовании.
— Я поеду с вами, — заявил Эндрю. Он был сильно взволнован.
— Нет, братец, — с улыбкой возразил я. — Мы отправимся вдвоем с капитаном. Выходить наружу очень опасно. Не забывай, что капитан Шеклтон играет важную роль в этой истории: именно он должен остановить захватчиков, и будущее подсказывает нам, что он своего добьется, а следовательно, не погибнет, по крайней мере до этого. Однако не факт, что на сопровождающих капитана будет распространяться его иммунитет, так что оставайся здесь и возьми на себя заботу о женщинах. Вряд ли обворожительным сестричкам Келлер улыбается одновременно стать вдовами, — пошутил я. Кузен хотел что-то возразить, но я остановил его примиряющим жестом и повернулся к кучеру: — Гарольд, подготовьте экипаж.
Кучер незаметно переглянулся с Эндрю, и тот кивнул.
— Экипаж будет подан через пять минут, мистер Уинслоу, — сообщил Гарольд.
— Лучше бы через две, — улыбнулся я.
Когда он ушел, мы, участники этого безумного предприятия — которое, тем не менее, должно было увенчаться успехом, — стали прощаться с теми, кто оставался в убежище. Клер умоляла Шеклтона быть осторожнее, а я наказывал Эндрю получше заботиться обо всех. Виктория ко мне не подошла и лишь разочарованно покачала головой, а я в ответ пожал плечами. Так наше прощание вылилось в молчаливый обмен упреками. Она не знала, что я собираюсь спасти планету, а я не знал, что никогда больше ее не увижу. Но если бы даже мы это знали, смогли ли бы мы вести себя по-другому?
XXXIII
Чарльз слегка подул на последний абзац, чтобы чернила побыстрее высохли. Потом захлопнул тетрадь, положил сверху ручку и уставился на нее невидящим взором. Больше двух лет прошло с тех пор, как он в последний раз видел свою жену, и сейчас ощущал такую душевную боль, какой еще никогда не испытывал, оттого что не поступился тогда своей гордостью и не запечатлел на ее губах романтический поцелуй, как того требовала обстановка, или, по крайней мере, не заключил ее в объятия, по возможности нежные и искренние. Но то, чего он желал сейчас, не имело никакого значения, поскольку Чарльз, писавший свой дневник, был не тем Чарльзом, который покинул подвал в Квинс-Гейт, преисполненный уверенности. Да, далеко не тем. Ни один мужчина не может дважды войти в одну и ту же реку, как некогда сказал Гераклит, и два раза обнять одну и ту же женщину, потому что во второй раз все будет другим: мужчина, женщина и река. И Чарльз стал другим не только потому, что время в конце концов поубавило в нем наивного оптимизма, который прежде, казалось, защищал его от любых невзгод. «Если бы это было единственным изменением», — подумал он.
В этот момент он услышал похрустывание, исходившее от закрепленного на нем ошейника, словно туда забралась мышь, и почти сразу же ощутил знакомое щекотание в том месте, где ошейник вонзался в кожу посредством тончайших щупалец, примерно на уровне четвертого шейного позвонка. Через пару секунд щекотка усилилась и распространилась по всему позвоночнику, словно струя расплавленного металла, которая сжигала ему хребет, и, достигнув ног, переходила в болезненные судороги. Чарльз сжал зубы, стараясь контролировать дыхание, в ожидании, когда ежедневная пытка закончится и останутся лишь боль в животе, ватное тело и дрожащие ноги. К счастью, разряд длился не очень долго, всего несколько секунд, и со временем он почти привык к нему. Единственными последствиями этих мощных и пунктуальных разрядов были несколько сломанных друг о друга зубов да известный стыд, который будет преследовать его до смерти, ибо не раз случалось так, что его сфинктер расслаблялся, и ему приходилось являться к месту работы с позорным балластом в потертых брюках. Сейчас он переносил ежедневную процедуру со своего рода выстраданным смирением, радуясь, что она не вызвала особых неприятностей, если не считать остаточной тошноты, проходившей через несколько минут.
Его излишне оптимистичные мысли были прерваны жужжанием ошейника, возвещавшим, что уже можно покинуть камеру. Ни у одной из здешних камер не было дверей, поскольку проклятые ошейники контролировали движения узников гораздо лучше самого хитроумного запора. Однажды ночью, в самом начале плена, Чарльзу привиделись жуткие кошмары. Такое часто с ним случалось, но на сей раз видения были столь явственными, что заставили его, еще не до конца проснувшегося и пребывавшего в зыбком состоянии между сном и бодрствованием, встать и выйти из камеры, не отдавая себе отчета в том, что он делает. Едва он отошел на несколько шагов, как очутился в совершенно пустынной местности, посреди бескрайней ледяной равнины, под небом, из которого, как из открытой раны, сочилась красноватая жидкость и которое освещалось двумя маленькими неприветливыми солнцами, чьи лучи охлаждали, вместо того чтобы нагревать, а над промерзшей землей невесомой вуалью струились зловонные испарения, насыщая атмосферу, в которой, как с ужасом обнаружил Чарльз, почти отсутствовал кислород. Он пытался уловить его судорожно распахнутым ртом, но лишь наполнил легкие ядовитой смесью. Обливаясь потом, он покачнулся и рухнул на эту странную землю, а потом долго и отчаянно балансировал между жизнью и смертью, пока в коротком спасительном просветлении не понял, где на самом деле находится. Тогда он пополз к своей камере, извиваясь как полудохлый червяк, и наконец, собрав последние силы, сунул голову в проем. Он еще успел пару раз вдохнуть чистого воздуха, прежде чем потерял сознание. Так он открыл, почему у камер нет дверей и почему марсиане не охраняют коридоры. Ошейники были гораздо эффективнее.
Когда покалывание в ногах прекратилось, Чарльз спрятал тетрадку под матрас, довольный, что успел вовремя закончить намеченный эпизод. Его камера располагалась на одном из верхних ярусов громадной металлической конструкции, служившей бараком для узников, а потому с узкой платформы, куда стекались полусонные заключенные его этажа, открывался вид на весь лагерь. Чарльз задержался здесь на несколько секунд, смиренно разглядывая место своей скорой смерти, панораму, которая с каждым днем становилась все более чужой, потому что незаметно менялась. Хотя пирамида в центре лагеря была еще не достроена, она уже выглядела гигантской. А в эту минуту, когда восходящее солнце только-только появилось из-за одной ее грани, оставляя оранжевые отблески на хромированной поверхности, она даже казалась красивой. Но Чарльз знал, что это громадное сооружение на самом деле представляет собой ужасное, чудовищное устройство. Несколько месяцев назад на нижних ярусах пирамиды, ближе к ее основанию, начали появляться зеленоватые горизонтальные отблески, сопровождаемые странным гулом. Стороны основания были настолько длинными, что этим вспышкам требовалось несколько часов, чтобы сделать полный круг, и если ты случайно работал рядом с пирамидой в тот момент, когда странное свечение скользило по ее поверхности, напоминая солнечных зайчиков, то ощущал сильную боль в легких, немедленно вызывавшую приступ кашля. Что бы там ни должна была сделать с земной атмосферой эта циклопическая пирамида, она уже начала свою работу.
За пирамидой, в глубине ландшафта, лепились одна к другой уродливые марсианские хижины, напоминавшие бледно-розовые луковицы; с их крыш свисали какие-то трубки, казалось, сделанные из ставшего вдруг гибким стекла, они беспорядочно спускались по стенам, придавая домикам сходство с вывернутыми наизнанку громадными медузами. Далее эти трубки вились по земле и на определенном расстоянии от скопления хижин зарывались в грунт в направлении пирамиды. Время от времени по ним тоже пробегало странное зеленоватое свечение, исходившее от пирамиды, и, когда такое случалось, стадо неподвижных медуз начинало ритмично шевелиться, словно у него открывалось дыхание.
Слева от лагеря, на порядочном удалении от пирамиды и хижин, располагалась огромная яма в виде воронки. Туда сбрасывали трупы людей. Но в этот ужасный колодец попадали не только трупы. Если марсиане считали, что такой-то заключенный должен быть по какой-то причине наказан или же он имел несчастье заболеть и настолько ослабеть, что не мог работать, то тогда обруч на его шее издавал глухой стон, и несчастный начинал шагать в направлении воронки, не в силах изменить свою судьбу, словно марионетка на невидимых ниточках. Чарльз не раз видел, как заключенные сражались с собственными ногами, хватаясь по пути за все, что могло бы их удержать, и тогда сопровождавшие их двое марсиан ломали им руки, заставляя разжаться, или сами волокли узников к воронке, если те цеплялись за землю. Как бы то ни было, все заканчивали тем, что попадали в воронку и, кружась по ее гладким и блестящим стенкам, сначала медленно, потом, по мере снижения, все быстрее, с дикими воплями проваливались в центральное отверстие. Их крики были слышны еще несколько минут, жутким эхом отражаясь от стенок воронки. Содрогнувшись, Чарльз отвел глаза от ямы. Дня не проходило, чтобы проклятая воронка не засасывала кого-нибудь из них, живого или мертвого, и он вновь, как всегда по утрам, подумал, не наступит ли сегодня его черед, когда в разгар рабочего дня ошейник вдруг начнет управлять его ногами, и он обнаружит, что шагает к воронке так спокойно, что со стороны могло бы показаться, что он делает это добровольно, если бы не исказившая лицо гримаса отчаянного страха.
Тогда его взгляд переместился к горизонту. Хотя со стороны казалось, что лагерь не огорожен и любой заключенный может попытать счастья и пуститься наутек через поле, на самом деле они были окружены тем же самым смертоносным ограждением, которое заставляло их каждую ночь сидеть по своим камерам. Никто в точности не знал, где проходит смертельная черта, но если кто-то, набравшись смелости, удалялся от центра лагеря на большее расстояние, чем было позволено, его ошейник внезапно начинал сжиматься, сдавливая горло и заставляя ослушника отступить на прежнее место, если он хотел вновь получить возможность дышать.
Однако это, разумеется, не исключало случаев, когда, в моменты крайнего отчаяния некоторые узники забывали про невидимую ограду или же просто верили, что смогут бежать так быстро, что ошейник не успеет их задушить. Но за два долгих года Чарльз ни разу не видел, чтобы это кому-нибудь удавалось. Между прочим, сам Чарльз бежать не пытался. С него хватило той ночи, когда он вышел из своей камеры, как сомнамбула. К тому же какой смысл бежать? И куда, если весь мир превратился в один огромный лагерь? Насколько ему было известно, нигде уже не осталось скрытых очагов сопротивления марсианам. И достаточно было бросить беглый взгляд на узников, строем шагавших вниз, чтобы понять, что и здесь никогда не появятся подпольные группы.
Чарльз спустился по лестнице и влился в колонну заключенных, удалявшуюся от барака, который снизу напоминал громадный железный ящик, поставленный на попа. Как обычно по утрам, он направился к питающим машинам, расставленным так близко к краям воронки, что, казалось, они вырастают из нее, так что наивно было полагать, будто их расположение — чистая случайность. Человек, не лишенный воображения, мог бы сказать, что эти машины похожи на гигантские грибы высотой в несколько метров. Они были увенчаны подобием шляпки, покрытой блестящими чешуйками, которые отражали свет, переливавшийся в лиловых и желтоватых тонах, а ножку им заменял длинный цилиндр, такой тонкий, что можно было бы без труда обхватить его руками. Сходство с земными растениями усиливали металлические корни, уходившие в песок в нескольких сантиметрах от края ямы, хотя по меньшей мере дюжина таких корней обвивалась вокруг цилиндра на манер вьюнков, только железных. Эти нити, снабженные сотнями сочленений, покачивались в воздухе на небольшой высоте и заканчивались подобием рта, усеянного зубами. Когда узники подносили свои миски к этим карикатурным кранам, напоминавшим растения-хищники, плети начинали легонько подрагивать и вслед за этим выплевывали порцию зеленоватой каши, служившей завтраком.
Отстояв несколько минут в очереди, Чарльз наполнил свою миску и направился к одинокому камню. Усевшись на него, он взял ложку и принялся быстро, не жуя, уничтожать содержимое миски. И если он сейчас ел это, то только потому, что начал свой дневник и не хотел, чтобы смерть помешала его закончить. Заставляя себя глотать отвратительное варево, Чарльз устало посматривал по сторонам, но его взгляд не находил Шеклтона ни среди собравшихся в кружок пленников, ни где-то на отшибе, из чего он заключил, что капитана отправили в женский лагерь, чтобы он излил свое пока еще здоровое семя в лоно еще нескольких женщин. На еду отводилось всего несколько минут, после чего марсиане начинали подгонять их, чтобы они продолжили строительство очистительной машины, а потому Чарльз опустошил миску и бросил ее в соответствующую раковину. Направляясь к пирамиде, он обратил внимание на десяток охранников, наблюдавших за его перемещениями с затаенной злобой, или ему так померещилось. Хотя лица марсиан были частично скрыты разномастными медными масками, крепившимися с помощью ремней — маски закрывали рот и носовую полость и предназначались для очистки земного воздуха, марсиане передвигались по лагерю в основном в человечьем обличье. Вначале это казалось ему добрым знаком с их стороны, пока кто-то не разъяснил, что причина заключалась не в том, что марсиане не хотели пугать их, а в том, чтобы, раздавая приказания, они были уверены, что их понимают.
Чарльз провел этот рабочий день на одном из верхних этажей башни, перетаскивая длинные и тяжелые стальные балки вместе с дюжиной других заключенных. Работал он без отдыха, если не считать моментов, когда приступ кашля заставлял его отойти от своей группы, чтобы выплюнуть на пол сгусток чуть зеленоватой крови. Остальные узники бросали на него сочувственный или безразличный взгляд, и он не мог избавиться от ощущения, что они испытывают к нему глубокое презрение. Чарльз считал себя отличным от других, но не потому, что принадлежал к более высокому социальному слою, чем так гордился до появления марсиан. Двух лет хватило, чтобы уравнять пленников, уничтожить разницу между богатыми и бедными и превратить их всех в стадо побежденных и дурно пахнущих людей, которые различались между собой лишь своими манерами, да и то не всегда, ибо со временем разговоры и беседы были вытеснены молчанием и односложными репликами, настолько они вымотались и изнемогли. И если Чарльз продолжал себя считать не таким, как другие, то потому, что он не был схвачен на улице, как большинство из них. Нет, прежде чем попасть в плен, он входил в состав группы отважных героев под предводительством храброго капитана Шеклтона, и им едва не удалось убить марсианина, который руководил вторжением, каким бы невероятным это сейчас ни казалось. Но теперь ему приходилось делать огромное усилие, чтобы сосредоточиться и извлечь из глубин своей памяти воспоминание об этих событиях.
Чарльз вернулся в камеру после изнурительного рабочего дня. В его распоряжении был всего лишь один светлый час до захода солнца, так что, невзирая на усталость и головокружение, он достал из-под матраса дневник и продолжил писать с того места, на котором остановился, вновь распутывая цепь воспоминаний, хранившихся в самом потаенном уголке его души.
13 февраля 1900 года.
Когда экипаж выехал на улицу, там было все спокойно, так же как и на Эксибишн-роуд, куда мы не замедлили свернуть. В Квинс-Гейт треножники пока не появились, и я вздохнул с облегчением. Я украдкой наблюдал за капитаном, который, похоже, целиком погрузился в свои мысли. О чем он думал? Может, перебирал все известные ему тактики, чтобы решить, какая из них лучше подходит в сложившейся ситуации? Невероятно, до чего легко мы поддаемся внушению, подумал я, незаметно разглядывая его: сидевший рядом со мной в экипаже человек был тем самым зауряднейшим субъектом, который вызывал у меня такую неприязнь еще несколько минут назад, но теперь, зная, что это сам капитан Шеклтон, я неизбежно глядел на него как на отважного и решительного воина, чье робкое смущение сменилось спокойной уверенностью, внушавшей любому, кто находился рядом, неукротимое желание следовать за ним хоть к самим вратам ада. Этот человек сотворил чудо. Я ехал рядом с живой легендой. Причем с легендой вооруженной, ибо перед отъездом я предусмотрительно позаимствовал три револьвера из коллекции моего дяди: «кольт» для него, «ремингтон» для Гарольда и «смит-и-вессон» для себя, а также многочисленные коробки боеприпасов, оттягивавшие наши карманы. Я, конечно, сознавал свою скромную роль оруженосца, однако, невзирая на страх, от которого у меня тряслись поджилки, во мне крепла уверенность: моя встреча с Шеклтоном была предопределена. Она не могла зависеть от простого нагромождения случайностей. И вообще, я понял, что мы следуем велению нашей судьбы, и все то, что совершаем якобы по своей воле и экспромтом, на самом деле предначертано Творцом задолго до нашего рождения.
Перейдя на размеренную неспешную рысь, лошади обогнули Гайд-парк, и наш экипаж покатил по Пикадилли в направлении Сохо. Пока там все было спокойно. Лондонцы укрылись в своих домах и, должно быть, в страхе гадали о том, что происходит в соседних кварталах, так что почти все улицы были пустынны. Однако уже через несколько минут, въехав на Шафтсбери-авеню, которая выглядела нетронутой, мы начали встречать перепуганных людей, бегущих нам навстречу. Выругавшись сквозь зубы, я попытался отыскать взглядом какую-нибудь боковую улочку, по которой мы смогли бы улизнуть от треножников, но все они были забиты толпами людей. У нас не было другого выхода, кроме как следовать и дальше по Шафтсбери-авеню. Шум все нарастал, я заметил, как напрягся Шеклтон, и тоже выпрямился на сиденье, крепко сжимая в руке рукоятку револьвера. Сердце стучало как бешеное и, казалось, вот-вот выскочит из груди. В отличие от моих спутников, я уже имел случай убедиться в мощи марсиан и сомневался, что мы сможем выжить после встречи с ними, которая неумолимо приближалась.
И вот наконец мы увидели треножник, вызвавший всю эту суматоху. Он стоял посреди улицы, упершись в землю всеми своими тремя ногами, и слегка покачивался, самоуверенный и могучий, а за его спиной, словно ряд гнилых зубов во рту, виднелись полуразрушенные здания, из которых выползали густые клубы дыма. Поднимаясь кверху, они заволакивали небо, словно в порыве чрезмерной стыдливости. Наверное, следовало непременно скрыть этот погром от Вселенной, подумал я и снова переключил внимание на треножник. Похоже, размеры марсианской машины потрясли Шеклтона, как до этого испугали меня. И тут огненный луч вырвался из щупальца и накрыл кучку людей, пытавшихся от него убежать.
— Боже правый… — прошептал рядом со мной Шеклтон.
Убедившись в том, что могут сделать с нами марсиане, Гарольд утратил всю свою храбрость и стал поспешно поворачивать лошадей, чтобы скакать обратно. Однако позади нас образовался затор из экипажей, и мы в него неизбежно угодили. Кареты, коляски, маленькие кабриолеты бились за то, чтобы выбраться из клубка, который сами же создали под воздействием паники, и мы сразу поняли, что все их усилия напрасны. Мы оказались между скоплением экипажей и марсианской машиной. А скоро превратимся в столбики пепла, который ветер разнесет по брусчатке. Гарольд в растерянности слез с козел, вслед за ним покинули экипаж и мы с Шеклтоном, и как раз в этот момент треножник сделал шаг по направлению к нелепому препятствию, загородившему улицу, и мы ощутили, как мостовая изогнулась у нас под ногами, словно спина рассерженного кота. Я схватился было за револьвер, но тут же отказался от своего намерения. Что толку стрелять в такую махину?
— Оставляем экипаж здесь и бежим! — крикнул я Шеклтону, внимательно наблюдавшему за медленным приближением машины.
Капитан отрицательно покачал головой и, к моему удивлению, бросился бежать в противоположном направлении. Я ошеломленно следил за тем, как он быстро приближался к треножнику, который и не заметил, что в потоке людей, улепетывавших от него, кто-то бежит против течения. Только когда толпа рассеялась, капитан оказался на виду у марсианина. Со своего места я пытался понять, какого дьявола он туда ринулся. Его действия я мог объяснить только одним: он собирался проскочить между ногами у треножника и скрыться, забыв про всех нас. Но какой герой может так поступить? Какой герой кинется спасать в первую очередь собственную шкуру, бросив на произвол судьбы своих товарищей? И тут вдруг, когда ему оставалось только прошмыгнуть между длинными ногами, он, похоже, передумал и вместо этого попытался обойти их, метнувшись вправо. Тогда покачивающееся в воздухе щупальце переключило свое внимание на сумбурный бег капитана. Мне было видно, как марсианская машина загнала его в тупик, к зданию с великолепным неоклассическим фасадом, очевидно, административному, вход в которое украшали полдюжины изящных арок, опиравшихся на колонны. Вместе с горсткой любопытных, остановивших свой бег, чтобы стать свидетелями того, что можно было считать безрассудным самоубийством, я видел, как капитан застыл на месте, вероятно, со страху, и зачарованно наблюдал за танцующим щупальцем, словно это кобра. Но вот щупальце замерло в нескольких метрах от него, и я понял, что оно прицелилось. Спустя секунду раздался выстрел. Я посчитал капитана убитым, но в последний момент он сумел выйти из столбняка и ловко отпрыгнул в сторону, так что луч ударил в колонну, перед которой он стоял, и в воздух взметнулась туча смертоносных обломков. Разрушение колонны привело к тому, что фасад сначала задрожал, а потом по нему пошли зигзагообразные трещины. Сквозь пыльную завесу мне удалось разглядеть капитана, поднявшегося на ноги, чтобы возобновить свой бег, но управлявший машиной марсианин не собирался давать ему передышку. Он вновь расставил свои длинные ноги и произвел второй выстрел, заставив Шеклтона опять броситься на землю. Луч обрушился на вторую колонну, вызвав новый фонтан обломков и пыли. Спустя секунду Шеклтон вскочил и побежал, стараясь побыстрее удалиться от треножника, а тот снова пытался накрыть своим лучом ускользающую добычу и рушил одну за другой оставшиеся колонны здания, словно сказочный лесоруб, способный свалить дерево одним ударом топора. Лишившись многих своих опор, здание зашаталось и с оглушительным скрежетом, напоминавшим вой раненого зверя, начало крениться. Остановившийся как раз под последней аркой Шеклтон мог лишь беспомощно наблюдать за тем, как громадный дом рушится на него и на часть улицы. Не успев понять, что происходит, треножник был сильно поколеблен хлынувшим на него водопадом обломков. Он зашатался, а тем временем вышедшее из-под контроля щупальце поливало огнем улицу, отсекая фасады у большинства близлежащих домов. Эти неожиданные и хаотичные действия вызвали смертоносный град камней, кирпичей, обломков балок и деталей самых разнообразных архитектурных орнаментов, низвергнувшийся на нас с самых неожиданных сторон. Мы с Гарольдом укрылись за нашим экипажем, который, к счастью, только однажды сильно тряхнуло, зато другим экипажам повезло куда меньше: на наших глазах невесть откуда прилетевший здоровенный водосточный желоб пробил крышу одного из них и безжалостно обрушился на сидевшую там и дрожавшую от страха супружескую пару, не успевшую даже взяться за руки. В то же время многие из тех, кому не удалось вовремя спрятаться, погибли от снарядов, в которые превратились летающие обломки домов. То было настоящее светопреставление, и как только последний камень пролетел над нашими головами, вокруг установилась гробовая тишина, время от времени нарушаемая лишь неутомимыми колоколами.
Непрерывно кашляя, я пытался что-нибудь разглядеть за плотной завесой пыли, окутывавшей улицу. Когда она стала рассеиваться, мы, немногие уцелевшие счастливчики, с облегчением убедились, что никакой марсианин нашей жизни больше не угрожает: треножник был надежно погребен под горой обломков, так же как, к несчастью, и капитан Шеклтон. Со смешанными чувствами разглядывал я гигантскую дымящуюся могилу, из которой торчали две ноги треножника, составлявшие вместе нечто похожее на чудовищный крест. Здесь покоится будущий спаситель человечества, взволнованно и немного растерянно повторял я про себя, не зная, что и думать об этом происшествии, опровергавшем все мои рассуждения. Кто-то предложил прочесть молитву, но большинство из нас были слишком потрясены, чтобы последовать этому совету. И тут послышался какой-то звук, и с вершины могильного холма скатился вниз камень. Мы обеспокоенно уставились на начавшие подрагивать обломки, опасаясь, что это треножник пытается подняться, но его ноги оставались неподвижными. За первым камнем последовали еще два, потом еще и еще. И наконец чья-то рука сдвинула с места громадный камень, он медленно покатился вниз, потом рука возникла вновь, и вскоре мы увидели, как из каменного чрева медленно вылезает Шеклтон, чудесным образом целый и невредимый. Я с радостью глядел на него, не веря своим глазам. Боже милостивый, разве такое возможно? Он жив! Капитан был жив! Когда потрясение прошло, все разразились ликующими возгласами и аплодисментами. Несколько человек, включая меня, приблизились к холму. Я все никак не мог поверить, что капитан не погиб под развалинами здания, но когда подошел поближе к дымящимся обломкам, то, вглядевшись в них, понял, как ему удалось избежать неминуемой гибели: его спасла арка, под которой образовалось что-то вроде укрытия. Он сидел там, как птичка в клетке, и благополучно пережил обвал здания. Мы окружили холм, и я с удовольствием присоединился к общему ликованию, восхищаясь, как и все, поразительным подвигом капитана — подвигом, который развеял мои последние сомнения относительно его истинной личности. А тем временем он неловко спустился вниз, стряхивая пыль, пропитавшую его костюм. И, слегка пошатываясь, направился к экипажу в сопровождении восторженных почитателей — они старались пожать ему руку и ухитрялись даже в порыве энтузиазма похлопать его по спине, и тогда облачка пыли извергались из его пиджака, как будто под одеждой у него была спрятана паровая машина. Добравшись наконец до экипажа, Шеклтон забрался в него, помахал рукой и решительно уселся на одно из сидений, готовый ехать дальше. Я сел рядом. Как я мог предположить, что он собирается бросить нас на произвол судьбы? Наоборот. Пока все мы в отчаянии искали путь к бегству, Шеклтон успел взвесить ситуацию своим умом человека из будущего: он понял, что треножник неуязвим, обследовал улицу, бросил беглый взгляд на близлежащие здания, обратив особое внимание на одно из них, то, что держалось на шести колоннах, и, наконец, прикинул, возможно ли укрыться под одной из арок. Но Шеклтон обладал не только умом выдающегося стратега, но и необходимой отвагой, чтобы осуществить столь дерзкий план, придуманный им в считанные секунды. Без тени сомнения он продемонстрировал свою сноровку и превосходные физические данные, ибо в том, что поначалу показалось мне неуклюжими прыжками, я обнаруживал теперь рассчитанные движения пантеры.
— Перестаньте смотреть на меня так, мистер Уинслоу, — сказал Шеклтон немного раздраженно, что я приписал его нервному состоянию.
— Капитан, я продолжал бы смотреть на вас, даже если бы мне выкололи глаза. То, что вы совершили, просто поразительно, такого я еще не видел. У вас поистине стратегический ум, а какое хладнокровие! Вы настоящий герой, — восторженно бормотал я. — Ну, а то, что вы в одиночку победили треножник, вселило надежду во всех этих людей. Боже… даже ко мне вернулась надежда!
— Мне просто повезло… — резко ответил он, пожав плечами.
Я покачал головой, тронутый его скромностью, и велел Гарольду снова развернуть экипаж и без всякой боязни следовать в Сохо, поскольку, пока этот необычайный человек с нами, ничего плохого приключиться не может. Кучер бросил на меня скептический взгляд, словно подвиг капитана не произвел на него ни малейшего впечатления, однако же без разговоров забрался на козлы и тронул с места лошадей.
Объехав погребальный костер, где был похоронен треножник, мы выбрались на ту часть улицы, по которой он еще совсем недавно ходил. Окрестные дома лежали в руинах, но еще более ужасная картина, свидетельствовавшая о масштабе презрения, с которым марсиане относились к нашей расе, открылась, когда мы увидели десятки трупов, разбросанных по мостовой, но главное — выживших: какая-то женщина плакала, стоя на коленях над раздавленным в давке телом ребенка лет трех-четырех; один мужчина задумчиво бродил вокруг, осторожно прижимая к себе человеческую голову; другой тщетно взывал о помощи, придавленный своим конем… Даже капитан, похоже, находился под впечатлением от жуткого зрелища, хотя прибыл из будущего, в котором Лондон тоже был превращен в груду развалин. Возможно, он размышлял о тщете наших усилий, поскольку, хотя нам и удастся победить захватчиков и восстановить город, столь же ужасные разрушения его ждут на ином временном отрезке в будущем. По крестам и монументам на кладбищах грядущие поколения узнают о нашей трагедии, но их знания окажутся такими же смутными, как наши представления о том, какие страдания выпали на их долю, полученные благодаря фирме «Путешествия во времени Мюррея». Один лишь отважный капитан Шеклтон станет свидетелем того, как дважды был разрушен самый могущественный город в мире.
Большую часть дороги мы проделали, погрузившись в скорбное молчание, пока не добрались до въезда в Сохо, где Гарольд вдруг резко остановил экипаж. Мы с Шеклтоном прильнули к окошкам, пытаясь определить причину остановки, и метрах в пятидесяти от нас сквозь туманную пелену различили покидающих район, куда мы направлялись, по меньшей мере полдюжины треножников. Мы затаились, чтобы они подумали, что речь идет еще об одном из многочисленных экипажей, брошенных посреди улицы, и только когда треножники удалились в сторону Стрэнда, Гарольд тронул лошадей.
Сохо невозможно было узнать. Банда треножников превратила его в огромную пустошь, покрытую грудами щебня, где с трудом можно было обнаружить уцелевшие дома, которые послужили бы нам точкой отсчета. При виде столь ужасающего опустошения я подумал, что на Земле никогда не существовало разрушительной силы, подобной той, какую демонстрировали марсиане. Среди руин, словно потерпевшие кораблекрушение, копошились кучки жителей. Помогая друг другу, они занимались тем, что переворачивали один за другим найденные трупы, пытаясь отыскать своих родственников. Я долго наблюдал за ними как загипнотизированный, сознавая, что даже если мы сумеем выиграть эту войну, все равно потери уже огромны. Тут экипаж остановился, и мы услышали голос Гарольда.
— Кажется, это номер двенадцать по Грик-стрит, — произнес он с козел, указывая в пустоту.
Мы с Шеклтоном вышли и будто сомнамбулы зашагали среди развалин здания, в котором некогда размещалась фирма «Путешествия во времени Мюррея». Гарольд следовал за нами в некотором отдалении. Где-то посреди этого моря обломков мы наткнулись на «Хронотилус», безжалостно раздавленный тяжелыми балками и частями потолочных перекрытий. Как же мы теперь попадем в будущее? — подумал я, глядя на полуразрушенный трамвай времени. К тому же, даже если бы «Хронотилус» не пострадал, непонятно было, где искать окно в четвертое измерение, хотя, по правде говоря, я совершенно не представлял себе, как может выглядеть эта тропинка в 2000 год. От предчувствия поражения у меня сжалось сердце. Выходит, что не нам предстоит спасать мир? И тут я споткнулся о плакат, приглашавший совершить путешествие в 2000 год, и конкретно — в день, когда произойдет решающая битва за судьбы мира. Пока фирма «Путешествия во времени Мюррея» работала, эта нереальная и в то же время притягательная реклама висела возле входа. На ней был изображен капитан Шеклтон, направляющий свою шпагу на короля автоматов, которого он победил в захватывающем поединке, и благодаря магии Мюррея я был свидетелем этой схватки. Я поискал глазами нашего героя из плоти и крови, и случай распорядился так, что как раз в этот момент он разговаривал с Гарольдом и указывал тому на что-то, привлекшее его внимание наверху стены. Он стоял с вытянутой рукой между двух больших камней, выпятив свою мощную челюсть, придававшую ему непререкаемо властный вид, словно хотел как можно точнее воспроизвести воинственную позу, в которой был изображен на рисунке. Внезапно воодушевившись, я поднял плакат с земли, снова вгляделся в него, а потом перевел глаза на отважного капитана Шеклтона, который был здесь, в нашем времени, и совсем недавно в одиночку расправился с одной из марсианских машин. То, что фирма Мюррея была уничтожена треножниками, ничего не значило, кроме того, что, спасая мир, мы обойдемся без путешествий в будущее. Это произойдет как-то иначе, но мы все равно победим. Шеклтон перехватил мой взгляд и, скептически приподняв брови, раскинул руки, чтобы полностью объять картину разорения.
— Как видите, мистер Уинслоу, отправиться в двухтысячный год невозможно.
Я беспечно пожал плечами, давая понять, что столь незначительная помеха нас не остановит.
— Боюсь, что тогда нам придется побеждать марсиан самим, капитан, — сказал я с улыбкой.
XXXIV
На следующее утро Чарльзу все-таки удалось повидать Шеклтона во время завтрака. Он заметил капитана издали: тот сидел в отдалении на камне и поглощал свое пюре. Как он и опасался, Шеклтон вернулся из лагеря воспроизводства с тем же угрюмым видом, с каким отправился туда. И это могло означать только одно. Чарльз подошел к нему, скорчил подходящую к случаю гримасу и сел рядом на землю, чтобы тоже приняться за тошнотворный завтрак. При этом он постарался оказаться спиной к ужасным металлическим грибам, которые в это пасмурное утро едва проглядывали сквозь туман и виделись гигантскими мрачными акварелями, которые раскачивал ледяной ветер. Чарльз закутался в необъятного размера пальто, которое досталось ему на последнем распределении одежды и, судя по плебейскому покрою и грубой материи, принадлежало какому-нибудь лавочнику, хотя он уже давно перестал обращать внимание на столь несущественные детали. Он молча взглянул на Шеклтона, надеясь, что у его друга появится потребность с ним поговорить.
Обычно каждую неделю марсиане увозили какое-то количество мужчин, выбирая среди них внешне наиболее здоровых, в соседний лагерь, где содержались самые молодые женщины детородных возрастов. Каждый из привезенных был обязан спариться с одной из них под оценивающими взглядами марсиан, а затем его отправляли обратно, и он так и не знал, сумел ли оплодотворить чье-то чрево. Таким образом марсиане гарантировали себе, что никогда не столкнутся с нехваткой рабов для изнурительных работ по переустройству планеты. Первое время Чарльза тоже регулярно выбирали для этих целей, пока он еще являл собой образчик, достойный продолжиться в потомстве, однако невыносимая работа и недоедание так ужасно изменили его облик, что теперь ни один марсианин не верил, что из его семени может вырасти что-то приличное. Напротив, Шеклтона неизменно избирали почти каждую неделю, потому что капитан каким-то образом ухитрялся сохранять свою могучую фигуру, поедая все, что только возможно, — Чарльз не раз видел, как он подъедал остатки в чужих мисках, — и даже занимаясь гимнастикой по вечерам в своей тесной камере. Вначале Чарльз не понимал, зачем это нужно капитану, но потом догадался: сохраняя форму, Шеклтон имел больше шансов попасть в женский лагерь, а значит, и больше возможностей встретиться с Клер, о которой он ничего не знал с тех пор, как Чарльз уговорил его покинуть подвал в Квинс-Гейт.
Они молча завтракали, сидя друг против друга. Чарльзу не требовалось ничего спрашивать, чтобы понять, что капитан и на этот раз не встретил Клер в новой партии женщин. За два последних года у Чарльза было более чем достаточно времени для того, чтобы раскаяться во многих вещах, совершенных им в жизни, но ни в чем он не раскаивался так сильно, как в том, что разлучил Дерека с женой. В первые месяцы заточения капитан возлагал столь чрезмерные надежды на восстание, что Чарльзу поневоле вспоминались его прежние бесчисленные возражения и отговорки, когда он, Чарльз, фактически заставлял капитана чуть ли не под дулом пистолета взять на себя роль спасителя человечества. Конечно, в то время Шеклтон еще верил, что его жена находится в безопасности в Квинс-Гейт, и только и думал, как бы вернуться в тот самый подвал. Он и вообразить себе не мог, чем обернется нашествие, и тем более не подозревал, что ему придется жить вдали от нее, женщины, из любви к которой он преодолел время. Однако это случилось, и в течение первых месяцев, проведенных в лагере пленных, Шеклтон только и делал, что размышлял о способах побега, выдвигая один план за другим. Возможно, это и пробудило бы в Чарльзе новые надежды, не будь идеи капитана такими экстравагантными и отчаянными: то он предлагал сшить вместе простыни с постелей и прыгнуть с ними с вершины пирамиды, чтобы улететь, используя потоки воздуха; то намеревался бежать через отверстие в воронке; то хотел организовать бунт в женском лагере… Эти безумные планы, которые он сбивчиво излагал кучке сообщников, выбранных им почти что наугад, выдавали лишь одно: как страстно хотел он отыскать Клер.
Однако со временем он стал упоминать о своих нелепых планах все реже. Его надежды на побег, на создание групп сопротивления из измученных узников, на захват одного за другим остальных лагерей, на поиски жены во всех разрушенных городах, где еще уцелели жители, а если понадобится, то и по всей планете, постепенно стали сводиться к равнодушным репликам, лишенным прежней убежденности, да и те вскоре прекратились. Больше о побеге он не говорил. Теперь он лишь поджидал очередную партию узниц, пополнявших женский лагерь, цепляясь за последнюю надежду на то, что в один прекрасный день увидит Клер среди женщин, поступивших в бараки воспроизводства с их остроугольными крышами, которые в ясную погоду были видны издалека, напоминая диковинные шипы, поблескивающие под вечерним солнцем. Только зачем, недоумевал Чарльз. Что изменится, если он встретит ее в нынешней ситуации, в эти беспросветные времена, когда у них не останется ни малейшей надежды, одна лишь боль от сознания того, что они еще живы и обречены на страдания? Однажды, когда они вот так же завтракали неподалеку от фантасмагорических грибов, неукротимая и абсурдная вера капитана всколыхнула в Чарльзе его былой цинизм, и он задал ему жестокий вопрос: что бы ты сказал ей, Дерек, если бы нашел ее? Шеклтон удивленно посмотрел на него и потом долго молчал, отыскивая ответ в скорбных глубинах своей души: я бы попросил у нее прощения. Я бы сказал: прости меня, Клер, за то, что я тебя обманул… Услышав это, Чарльз постарался его приободрить: Клер никогда не станет винить его в том, что он не сумел справиться с нашествием. Как раз наоборот, она наверняка гордится им, ведь он попытался это сделать, как и обещал ей тогда в подвале… Но капитан резким движением руки прервал его неуклюжие попытки утешить друга. Ты не понимаешь, Чарльз, сказал он, сокрушенно покачивая головой. Ты не можешь этого понять. Однако, какими бы ни были намерения капитана — попросить у нее прощения или что-то еще, главным было то, что он ни на миг не переставал ее ждать. Ему и в голову не приходило, что можно жить иначе. Если он еще вставал по утрам, то только потому, что наступающий день мог оказаться днем встречи с нею. И если он еще ел, поддерживал физическую форму и дышал, то потому, что это позволяло ему вставать каждое утро. Чарльз почувствовал к нему жалость. Величайший герой в мире, спаситель человечества механически глотал кашу, на которую не польстились бы и свиньи, низведенный до положения обычного узника, грязного и подавленного. Впрочем, нет. Шеклтон не был таким, как другие. Он еще сохранял надежду. И никто, даже космический монстр, не мог бы эту надежду у него отнять.
— Викторию я тоже не встретил, — неожиданно сказал капитан.
Чарльз промолчал. Он только удивленно посмотрел на него и вдруг с грустью понял, что капитан не сомневается в том, что Чарльз точно так же тоскует, как и он, ибо тоже ничего не знает о своей жене. Но нет, с горечью признал он: судьба Виктории тревожила его не больше, чем собственная. И, желая изменить тему, он указал на поблескивающую вдали пирамиду и сказал:
— Эх, если бы мистер Уэллс это увидел… Уверен, ему бы одного взгляда хватило, чтобы понять, для чего в точности она предназначена.
Шеклтон загадочно хмыкнул, то ли соглашаясь с Чарльзом, то ли, напротив, выражая свое несогласие.
Пошел дождь, один из тех странных дождей, что в последнее время стали весьма частыми. Каждые два или три дня с неба начинали сыпаться мелкие кристаллики зеленого цвета, переливавшиеся, словно драгоценные камешки, и земля мгновенно оказывалась укутанной хрустящим и скользким зеленым покрывалом, напоминавшим кожу гигантского насекомого или рептилии. Эти кристаллики быстро таяли, испуская тонкие струйки ядовитых паров, которые в два последующих дня окрашивали туман в изумрудный цвет, в то время как образовавшаяся в результате таяния зеленоватая вода смешивалась с глиной, порождая что-то вроде мха с мерзким запахом, и из него потом вырастали странные растения — они жадно приклеивались к земле или любой другой поверхности, где продолжали расти в виде отвратительной паутины. Никто из узников никогда не видел ничего похожего на эту омерзительную зелень, постепенно захватывавшую лагерь и покрывавшую камни и деревья темно-зеленым налетом. Вдоль границ лагеря, там, где застаивались зеленоватые талые воды, также проросли эти ужасные растения, которые тут же поползли по земле к деревьям, чтобы украсить их своими зловещими занавесями и превратить окрестности в темные дремучие леса, которые в сказках ведут в логово злой колдуньи. Вначале Чарльз и Шеклтон часами разговаривали о странных изменениях, коснувшихся климата и растительности: зеленые кристаллики были лишь ярким заключительным аккордом, своего рода послесловием к тревожным медно-красным тонам, в которые часто окрашивалось небо, к жестоким торнадо, которые обрушивались по ночам на их каморки, к дождям из мертвых птиц, которыми были усеяны по утрам луга в первые месяцы их пребывания здесь. Они были уверены, что все дело в многочисленных пирамидах, подобных той, что они строили, возведенных в разных местах планеты, и часто спорили о том, станут ли эти аномалии обратимыми, когда произойдет долгожданное восстание и зловещие сооружения будут в числе других разрушены. Однако постепенно они стали относиться ко всему этому равнодушно, как будто пирамиды существовали всегда, как будто с начала времен над Землей простиралось небо цвета старой меди и с него сыпались зеленые кристаллики. Впрочем, в последние месяцы они уже ни о чем долго не разговаривали.
Они поднялись и, закрываясь от зловредных камешков, больно барабанивших по голове, присоединились к остальным заключенным, которым марсиане начали раздавать ежедневные задания. Чарльза назначили на один из ярусов башни, и, как всегда, работа довела его до изнеможения, но он был даже рад этому, потому что, помимо всего прочего, она не давала ему ни о чем думать. Оказавшись снова в камере, он вытащил дневник и продолжил свою историю с того места, на котором остановился.
14 февраля 1900 года.
Когда исчезла возможность доставить подкрепление из будущего, Шеклтон снова завел унылую песню: уверял, что никакой он не герой и ничего не сможет сделать без своего оружия и своих людей, а я всякий раз был вынужден напоминать ему, что он уже уничтожил треножник без чьей бы то ни было помощи, используя лишь свой выдающийся стратегический ум. Кстати, ничего страшного нет в том, что мы не сможем отправиться в 2000 год. Разве он не сумел сформировать в будущем храброе войско чуть ли не из горстки истощенных людей, которым удалось выжить? Так вот, мы сделаем то же самое: отыщем среди развалин способных и мужественных людей, из которых он мог бы вылепить, как из глины, участников сопротивления, воинов, до конца преданных делу, ибо я не сомневался: как только люди узнают, кто он такой, они пойдут за ним хоть в ад. В конце концов, после бесконечных уговоров и заверений, что всеобщее недовольство легко позволит создать целую армию, я добился того, что он вышел из подавленного состояния и проявил известную готовность сражаться, хотя категорически потребовал, чтобы, прежде чем приступить к активным действиям, мы заехали в Квинс-Гейт и убедились, что с нашими женами и друзьями все в порядке. Он сильно беспокоился за Клер, и тут я понял, почему великие герои почти всегда бывают одинокими людьми. Любовь делает их уязвимыми. Я мало что знал о частной жизни капитана Шеклтона в 2000 году, по крайней мере, ничего такого, что не входило бы в его краткую биографию, которой мистер Мюррей угощал путешественников, перед тем как усадить их в «Хронотилус», но похоже было, что в своем времени капитан был человеком угрюмым и одиноким, с сердцем, переполненным гневом и жаждой мести, к тому же навсегда закрытым для любви, не имеющим подруги, которая могла бы разделить с ним ужасное бремя защиты человечества. Однако теперешний Шеклтон, тот Шеклтон, который жил среди нас, был влюбленным человеком, который превыше всего на свете ставил свою Клер. Я смиренно вздохнул, так как не мог ему сказать, что он должен забыть свою жену раз и навсегда и что герою должно быть запрещено влюбляться, пока он исполняет свой долг. Поэтому я согласился как можно скорее вернуться в дом моего дяди, но уговорил его прежде отыскать какую-нибудь возвышенную точку, с которой мы могли бы увидеть панораму Лондона. Это позволило бы нам составить гораздо более точное представление о развитии и масштабах вторжения и понять, как лучше добраться без помех до Квинс-Гейт, а также спланировать наши дальнейшие действия. Мы решили направиться в Примроуз-Хилл, на тот естественный балкон, нависший над городом, где любили проводить воскресные дни лондонцы, для чего им приходилось пересечь Сохо и Юстон-роуд. Это было самым верным решением, так как мы встретили там еще одну группу людей, которым тоже удалось пережить роковую ночь. Перенесенные ими страдания и вид побежденного Лондона, открывавшийся с холма, погрузили их в такое уныние, что они явно нуждались в герое. И я привел им лучшего из лучших.
В группу входили писатель Герберт Джордж Уэллс и его супруга Джейн, с которыми я имел удовольствие познакомиться несколько лет назад при обстоятельствах, не имеющих отношения к этому повествованию; красивая американская девушка по имени Эмма Харлоу; прислонившийся к дереву пьяный молодой человек, впоследствии представившийся нам как агент Скотленд-Ярда Корнелиус Клейтон, и настоящий призрак, мистер Гиллиам Мюррей, которому я, оправившись от изумления, обрадовался не только потому, что восхищался Властелином времени, но и потому, что был уверен: подобная случайность — еще один знак того, что мы на правильном пути к нашей подлинной судьбе. Разве не символической была встреча с человеком, который способствовал тому, чтобы капитан Шеклтон познакомился с Клер и именно поэтому находился сейчас среди нас? Однако, как я уже говорил, эта группа находилась в страшно подавленном состоянии, что неудивительно: с вершины холма было видно, что треножники появились повсюду и с медленной скрупулезностью жука-точильщика уничтожают город. Стремясь как-то приободрить встретившихся нам людей, я немедленно начал объяснять им — и надо признать, делал это чересчур театрально, — кто такой мой загадочный спутник. На случай, если этого окажется недостаточно, я рассказал им, как капитан Шеклтон у меня на глазах уничтожил треножник, снабдив свое повествование столькими захватывающими подробностями и вложив в него столько пыла, что мне позавидовал бы любой трубадур из тех, что в старину забавляли детей на площадях. К сожалению, присутствие капитана Шеклтона не произвело на них того впечатления, на которое я рассчитывал. Когда я закончил рассказ о его подвигах, Мюррей посмотрел на капитана испытующим взглядом, но потом шагнул к нему, протягивая руку.
— Рад познакомиться с вами, капитан Шеклтон, — произнес он.
Я наблюдал за их рукопожатием, показавшимся мне нескончаемым. На лицах обоих появилась особая торжественность, ибо не следует забывать, что Гиллиам проследил за жизнью капитана, причем без его ведома, через окно в будущее, и по этой причине Шеклтон прибыл в эпоху, где все знали о его подвигах, хотя он их еще и не совершил. Можно сказать, что в каком-то смысле они работали вместе, не подозревая об этом и не будучи знакомы друг с другом. Мюррей долго тряс руку капитану, после чего добавил, сопроводив свои слова широкой улыбкой:
— Ваше присутствие здесь для меня — приятный сюрприз. Даже представить себе не мог, что вы окажетесь в нашем мире.
— К сожалению, не могу ответить вам тем же, — на удивление сдержанно откликнулся Шеклтон. — Но думаю, вы поймете, что мне не слишком приятно знакомиться с человеком, превратившим мой поединок с Соломоном в цирковое представление на потребу скучающим аристократам.
Я не ожидал от капитана такого ответа, Мюррей тоже. Миллионер поджал было губы, но в следующее мгновение недовольная гримаса на его лице с поразительной пластичностью сменилась любезной улыбкой.
— Зачем было лишать англичан столь волнующей дуэли? Вы владеете шпагой с исключительным мастерством, капитан. И могу сказать, что в моем лице вы имеете вашего безоговорочного поклонника: мне никогда не надоедало наблюдать за вашей схваткой с Соломоном. Меня всякий раз восхищала ваша победа над столь грозным противником. Вы словно заговорены от смерти, если позволите такой комплимент. Кажется, что вас охраняют какие-то неведомые силы.
— Возможно, это объясняется тем, что мои соперники не так грозны, как вы полагаете, — холодно возразил Шеклтон.
— Вероятно, мы должны отложить этот полезный обмен мнениями до лучших времен, вам не кажется, джентльмены? — несколько раздраженно сказал Уэллс, кивнув на открывавшуюся с холма панораму города. — Боюсь, что нас ждут более важные дела.
— Вы совершенно правы, мистер Уэллс, — поспешно ответил Шеклтон. — По крайней мере у меня есть гораздо более важное дело, нежели вести спор с мистером Мюрреем. Моя жена Клер, женщина, из-за которой я оставил свою эпоху… находится внизу, в Квинс-Гейт, и мне хотелось бы немедленно отправиться за ней… — Затем, буравя писателя взглядом, что показалось мне несколько странным, он пробормотал: — Она верит в меня. И я бы ни за что на свете не хотел ее разочаровать… Вы можете меня понять?
— Ну разумеется, могу… капитан. Мы все вас понимаем, — медленно произнес писатель, взяв свою жену за руку, — и думаю, что выскажу общее мнение, если предложу двинуться туда как можно быстрее. Но после этого, полагаю, учитывая сложившееся положение, мы должны срочно покинуть город, как это делают, по-видимому, все. Пожалуй, стоит попробовать добраться до Ливерпульского порта и оттуда уехать, например, во Францию.
Нет нужды говорить, что этот новый план меня встревожил. Как же мы остановим нашествие, если сбежим из Лондона? Неужели капитан Шеклтон прибыл в нашу эпоху лишь для того, чтобы удирать от марсиан, словно боязливая барышня?
— Боюсь, джентльмены, что не смогу согласиться с таким планом, — заявил я. — Конечно, я благодарен вам за вашу готовность сопровождать нас в Квинс-Гейт и понимаю, что в сложившихся обстоятельствах самым разумным будет покинуть Лондон, но не думаю, что мы должны так поступить.
— Вот как? — удивился писатель. — Но почему?
— По причине, на которую я уже намекал раньше, мистер Уэллс, когда представлял вам капитана. Как мы имели возможность убедиться собственными глазами, в двухтысячном году нашими единственными врагами будут автоматы, а не марсиане, — стал объяснять я в который раз с ощущением, будто рассказываю несмешной анекдот. — И это может означать только то, что нашествие не будет иметь успеха. Кто-нибудь найдет способ разгромить марсиан, и я склоняюсь к мысли, что этим человеком станет капитан Шеклтон. Не верю, что его присутствие в нашем времени случайно. Убежден, что величайший герой всех времен сделает что-нибудь, чтобы изменить положение, и, разумеется, добьется успеха, да, собственно, он уже его добился.
Мюррей и Уэллс обменялись недоверчивыми взглядами, потом посмотрели на капитана, который раздраженно пожал плечами, и наконец взглянули на меня, причем с еще более скептическим выражением, чем моя жена. Это меня удивило, поскольку я был уверен, что такой умный человек, как Уэллс, сочтет мою аргументацию убедительной.
— Даже если ваша теория верна, мистер Уинслоу, — сказал писатель, — и всем нам хорошо известный двухтысячный год есть неизменная величина, поскольку в каком-то смысле, как вы правильно заметили, он уже состоялся, то все равно с нашествием может быть покончено тысячью всевозможных способов, причем даже без нашего вмешательства. Более того, если остановить захватчиков предназначено все-таки нам, то так оно и случится независимо от того, останемся мы в Лондоне или покинем город. А потому я настаиваю: мы должны выбраться из него, после того как побываем в Квинс-Гейт.
— А если бегство — это как раз то, чего мы не должны делать? Что, если в таком случае мы изменим будущее? — Я взглянул на Шеклтона, умоляя его о помощи. — А каково ваше мнение, капитан? Разве ваша главная цель как героя не состоит в том, чтобы спасти человечество?
— Да, мистер Уинслоу, я герой, — сказал Шеклтон и почему-то посмотрел на Мюррея, сделавшего недовольное лицо. — Но в первую очередь я муж, который должен спасти свою жену.
— Понимаю вас, капитан, — ответил я, несколько покоробленный его упрямством, — но я уверен, что и Клер, и моя жена будут в полной безопасности ждать нас в подвале моего дядюшки, пока мы…
— Боюсь, что мистер Уэллс прав, — нетерпеливо перебил меня Мюррей. — Не думаю, что капитан сможет помочь нам в сложившейся ситуации. Очевидно, это выше его сил. — Он хитро улыбнулся капитану. — Надеюсь, вы не обидитесь, если мы, несмотря на вашу знаменитую победу над автоматами, выскажем сомнение в вашей способности разгромить марсиан, капитан, ведь с этими машинами, которыми они управляют, справиться куда труднее, чем с горсткой кукол, оснащенных паровыми двигателями.
— Разумеется, я не обиделся, мистер Мюррей, — ответил Шеклтон, в свою очередь одарив собеседника улыбкой. — Хотя я по крайней мере однажды спас человечество. Вы же до сих пор только опустошали его карманы.
Слова Шеклтона заставили Мюррея побледнеть. Но тут же он громко засмеялся.
— Я учил его мечтать, капитан, мечтать. А мечты, как всем известно, имеют свою цену. Не знаю, каким образом вы оказались в нашей эпохе, но уверяю вас: доставлять подданных империи в будущее через четвертое измерение довольно-таки накладно. Впрочем, оставим эту приятную дискуссию на потом, капитан. — Не переставая улыбаться, Мюррей положил руку ему на плечо и легонько развернул лицом к раскрывающейся с холма панораме. — Как видите, марсиане уже повсюду. Нет района, который бы они не захватили. Как поступит такой герой, как вы, чтобы добраться до Квинс-Гейт, избежав встречи с треножниками? Может ли ваш исключительный стратегический ум решить эту задачу?
С бесконечной печалью наблюдал Шеклтон за тем, как треножники равнодушно и даже лениво уничтожали Лондон. Они напоминали детей, которым наскучило играть со своими кукольными домиками и они решили их сломать.
— Так я и предполагал, — сказал Мюррей, видя, что Шеклтон молчит. — Даже вам это не под силу. — Он отошел от капитана и пожал плечами, демонстрируя свое разочарование. Один я сумел разглядеть улыбку, заигравшую в этот миг на губах у Шеклтона. — Как видите, бывают ситуации, перед которыми бессильны и великие герои, — притворно огорчился он. — Однако я уверен, что мы найдем способ, чтобы…
— Вам бы следовало больше верить в героев, чьими подвигами вы торгуете, мистер Мюррей, — прервал его капитан, все так же внимательно наблюдая за перемещениями марсиан. — Мы пройдем в Квинс-Гейт под треножниками.
— Под треножниками? — удивленно повернулся к нему Мюррей. — Что вы имеете в виду, черт побери?
— Мы воспользуемся канализацией, — бросил Шеклтон, не глядя на него.
— Канализацией? Вы что, спятили, капитан? Хотите, чтобы эти милые создания полезли в зловонные сточные трубы Лондона? — возмутился Мюррей, указывая на Эмму и Джейн. — Я ни в коем случае не позволю, чтобы Эмма…
— Не обращайте на него внимания, капитан, — вмешалась юная американка и, сделав шаг вперед, накрыла ладонью руку миллионера. — У мистера Мюррея есть отвратительная привычка решать, куда я должна или не должна идти, причем он до сих пор не заметил, что, выслушав его совет, я обычно поступаю наоборот.
— Ну, Эмма… — пытался протестовать Мюррей.
— Нет, правда, Гиллиам: по-моему, ты должен дать капитану Шеклтону возможность объяснить свой план, — прервала его девушка восхитительно нежным голоском.
Я взглянул на предпринимателя с еще большим одобрением. Если эта удивительно красивая девушка — его возлюбленная, подумал я, значит, хвастливый толстяк, с которым я познакомился два года назад, сумел как следует воспользоваться своей смертью и последующим воскрешением.
Мюррей недовольно хмыкнул, но тем не менее кивнул капитану, чтобы тот продолжал.
— Это самый надежный способ, — сказал Шеклтон, словно не замечая его и обращаясь к остальным. — Под городом проложены сотни километров канализационных труб, и они достаточно велики в поперечнике, так что любой может по ним перемещаться. К тому же там имеются подвалы, подземные склады, туннели метрополитена… Словом, целый мир.
— Откуда вы так хорошо все это знаете, капитан? — спросил я, заинтригованный.
Казалось, Шеклтона удивил мой вопрос. Он несколько секунд раздумывал, прежде чем ответить:
— Ну… именно там мы скрывались в будущем.
— В самом деле? Скрывались в клоаке? — Мюррей иронически усмехнулся. — Качество британских труб просто невероятно… Никогда не думал, что они продержатся целое столетие.
Юная американка собиралась вновь призвать миллионера к порядку, но кто-то ее опередил:
— Вам бы следовало больше верить в империю, мистер Мюррей. Все мы обернулись на этот исполненный высокомерия голос, принадлежавший молодому человеку, которого я принял за пьяного.
— Капитан Шеклтон, я агент Клейтон из Скотленд-Ярда, — представился он, дотронувшись до своей шляпы. — Из того, что мне удалось услышать, пока я… м-м-м… отдыхал, восстанавливая силы, могу сделать вывод, что вы считаете себя достаточно подготовленным для того, чтобы провести нас по канализационной системе вплоть до Кенсингтона. Я угадал?
Шеклтон кивнул с торжественной решимостью, на которую способны лишь герои, принимая на себя таким образом ответственность за всю нашу группу. Тогда я выступил вперед, немного раздосадованный тем, что этот странный субъект, который в столь сложной ситуации без зазрения совести дрыхнул под деревом, даже не заметил моего присутствия. Я громко откашлялся, стараясь привлечь его внимание, а затем протянул ему руку.
— Агент Клейтон, я Чарльз Уинслоу, тот, кто… — Я умолк в нерешительности. Добавить, как поначалу собирался, «тот, кто открыл капитана Шеклтона», показалось мне вдруг слишком хвастливым, и я закончил так: — В общем, я здесь вроде… вроде верного оруженосца капитана.
— Очень приятно, мистер Уинслоу, — сказал агент, наскоро пожав мне руку, и вновь переключился на Шеклтона: — Итак, капитан, вы говорили…
— На самом деле это я некоторое время назад, когда вы… спали… — вновь перебил я агента, возмущенный его невежливостью, — говорил, что мне не нравится идея покинуть Лондон, поскольку…
— Мистер Уинслоу, уже давно ясно, что все мы хотим выбраться из Лондона, — оборвал меня Уэллс. — И сейчас мы обсуждаем лишь то, каким образом нам сначала добраться до…
— Именно так… — мрачно подтвердил Мюррей. — Но продолжаю настаивать, что абсурдная идея выбраться из Лондона по канализационной системе, как будто мы крысы, не кажется мне наиболее подходящей.
— Если у вас есть идея получше, мистер Мюррей, — прекрасно, поделитесь ею с нами, — с горящими глазами предложил капитан. — Только хочу вам заметить, что при любой катастрофе именно крысы, как правило, первыми находят путь к спасению.
Вскоре мы все уже говорили одновременно, ввязавшись в жаркую дискуссию. Наконец агент Клейтон сумел перекричать остальных.
— Джентльмены, успокойтесь! — обратился он к нам. — Я искренне полагаю, что мы должны доверять капитану Шеклтону и согласиться с его планом. И считаю так не потому, что у капитана безупречная репутация. И не потому, что пока никто не предложил лучшей идеи. А просто-напросто потому, что, боюсь, эта парочка треножников, которая направляется к нам, вовсе не собирается устроить на холме романтический пикничок.
Мы в страхе уставились на треножники, которые, словно праздные гуляки, шли через Риджентс-парк, направляясь к месту, где мы стояли.
XXXV
Медленно приходя в себя после тяжелого рабочего дня, Чарльз смотрел из своей камеры на закат, такой же странный и тревожный, как все закаты последних месяцев, вытеснившие привычный земной заход солнца, и с глубокой печалью думал, что вернейший признак того, что человек лишился своей родины, это как раз закат, когда солнце заходит уже не так, как в его детстве. С презрительной гримасой наблюдал он за тем, как мрачные зеленые и темно-фиолетовые полосы сгущаются вокруг солнца, придавая ему вид заразной опухоли и лишая его былых оранжевых и желтых одежд, и теперь, сквозь отравленную атмосферу, сквозь медную кисею, накрывшую небо, оно напоминало одну из тех стертых и сплющенных монет, что со звоном швыряют на стойку нищие, чтобы им налили стакан вина.
В этот момент Чарльз заметил, как из порта, расположенного в окрестностях лагеря, вылетели три воздушных корабля марсиан: три отполированные до блеска летающие тарелки, которые с мелодичным мурлыканьем поднялись вертикально на несколько метров, на секунду зависли на фоне серебристой полусферы солнца, словно позировали для дагерротипа, а затем на немыслимой скорости ринулись в мутные фиолетово-зеленые волны и исчезли в бездонном мраке воздушного океана. Эти летательные аппараты марсиан, которые столь убедительно демонстрировали пропасть, существовавшую между наукой землян и наукой их тюремщиков, опередили земные, когда пришла пора завоевывать здешние небеса, едва освоенные своевольными аэростатами, хотя сейчас Чарльз равнодушно проводил их глазами. А ведь в первые месяцы было совсем по-другому, подумал он: прилеты и отлеты сверкающих воздушных машин превращались для узников в увлекательное, хотя и страшноватое зрелище. Однако ко всему привыкаешь, даже к самому, казалось бы, невероятному.
Помимо всего прочего, эти воздушные корабли часто привозили марсианских инженеров, которые, по-видимому, не обладали способностью принимать человеческий облик, а потому разгуливали по лагерю в своем истинном виде. Когда Чарльз впервые их встретил, они показались ему удивительно красивыми, напоминая гибрид человека с цаплей, с детства его любимой птицей. Хотя никто узникам ничего не объяснял, нетрудно было догадаться, что в задачу инженеров входит спроектировать башню и напичкать лагерь, а возможно, и весь мир, достижениями своей науки. Почти все время они проводили в грациозном полете, хотя еще очаровательнее выглядели, когда ходили по земле на своих тонких ногах, похожих на ходули и снабженных множеством суставов, что позволяло им принимать самые неожиданные и разнообразные позы, причем невероятно изящные. Чарльз попробовал было описать красоту их движений в своей тетради, сравнив с хрустальными стрекозами и используя другие образы, но в конце концов был вынужден сдаться: обаяние инженеров невозможно было выразить в словах. Какое-то время они находились в лагере, перелетая с одного участка на другой, пока, по-видимому, не раздали все необходимые инструкции по монтажу машины. После этого они исчезли и отныне появлялись раз в три-четыре месяца, чтобы проинспектировать ход строительства. Всякий раз после их отъезда Чарльза неизменно охватывала непонятная тоска, словно бы по ушедшему лету, в источнике которой он не мог разобраться, хотя подозревал, что она как-то связана с успокоением, наступавшим при созерцании невероятной красоты этих существ, в мире, где прекрасное давно стало роскошью.
Однако, хотя Чарльз старался об этом не думать, он знал, что марсианские специалисты на самом деле не такие, какими он их видит. Совершенно не такие. После первого визита инженеров он обсуждал их внешность со своими товарищами и с удивлением обнаружил, что среди арестантов не нашлось двух человек, которые описывали бы их одинаково. Каждый имел свое особое представление и не сомневался, что остальные просто его разыгрывают. Разгорелся спор, переросший в нелепую драку, от которой Чарльз благоразумно уклонился. Вернувшись в камеру, он долго размышлял над этим явлением и со временем пришел к определенному выводу. Ему хотелось бы проверить его на каком-нибудь умном человеке, таком как Уэллс, чтобы понять, абсурдно это предположение или нет, но, к сожалению, его окружали далеко не выдающиеся умы. Ну а вывод заключался вот в чем: инопланетяне, вероятно, настолько отличны от всего знакомого человеку, что он в каком-то смысле не умеет их увидеть. Звучало нелепо, он это сознавал. Но разве не логично предположить, что если ваш взгляд наталкивается на что-то невероятное, то ваш мозг будет отчаянно стараться представить это хотя бы приблизительно? Очевидно, что он находится перед чем-то — перед чем именно, не важно, — и не может это игнорировать. Бедный человеческий ум сравнивает это с тем, что больше всего на него похоже. Вот почему каждый из его товарищей видел марсиан по-своему. Большинству они представлялись отвратительными созданиями, так как вызывали у них ненависть. Но Чарльз всегда был привержен науке, прогрессу, чудесным изобретениям, которые Жюль Верн описывал в своих романах. Да, Чарльз принадлежал к этому братству мечтателей, которые еще до прибытия марсиан грезили о кораблях, способных пересечь Атлантический океан за пять дней, о бороздящих небо летательных машинах, о телефоне без проводов, о путешествиях во времени… И, видимо, поэтому ему марсианские инженеры представлялись очаровательными голенастыми ангелами, способными совершить дюжину чудес в секунду. Правда, теперь он знал, что эти чудеса направлены на то, чтобы превратить его планету в мир кошмаров, однако по-прежнему видел инженеров такими, что помогало ему по крайней мере наметить контуры их морали.
Солнце окончательно спряталось, выпустив напоследок зеленоватые лучи, залившие призрачным светом руины Лондона, что угадывались на горизонте, за угрюмыми лесами, которые таинственным образом сомкнулись и начали со всех сторон подступать к лагерю, словно хотели заключить его в объятия. Эта планета с каждым разом все меньше принадлежала человеку и все больше — захватчикам. Марсиане сумели лишить их даже утешительной красоты закатов. При этой мысли Чарльз ощутил, как в нем вновь зашевелилась уснувшая ярость, но то было лишь подобие, мираж, жалкий отзвук жгучей ненависти, некогда струившейся в его жилах, когда он, сжав зубы, обещал, что человек вернет себе все то, что ему принадлежит, хотя пока и неизвестно, каким образом. Однако долгие месяцы, бессилие и ужасная усталость постепенно превратили клокочущую ярость в безобидную досаду и раздражение. Через несколько лет человеческая раса будет полностью уничтожена. Он должен с этим смириться. А может, оно и к лучшему? — закралась ему в душу предательская мысль. В конце концов, он всегда сурово критиковал Британскую империю. Еще до вторжения Чарльз нападал на нее при малейшей возможности, то прибегая к иронии, то давая выход праведному гневу — в зависимости от того, лил дождь на дворе или светило солнце. Он смотрел на империю как на корабль, идущий ко дну, потому что у штурвала стоят никчемные люди, не способные управлять и сведущие лишь в искусстве расточительности и умении опустошать государственную казну. Их деятельность стала причиной того, что свыше восьми миллионов человек живут и умирают в постыдной нищете. Конечно, он к ним не принадлежал и в целом не мог сказать, что это так уж сильно его тревожит, однако было очевидно, что человеческая цивилизация как таковая потерпела крах. Так стоило ли лить по ней слезы? Наверное, нет. Наверное, лучше, чтобы все шло своим чередом, чтобы человек исчез из Вселенной и чтобы ни о нем, ни о его злополучном образе жизни в космосе не осталось даже воспоминаний.
Чарльз вздохнул и вытащил дневник из-под матраса, в который раз спрашивая себя, для чего он так старается изложить на бумаге свои воспоминания, которые никто не прочтет, почему не уляжется на койку в ожидании смерти, почему не позволит тому немногому, что оставалось в нем от жизни, покинуть его тело, придавленное бесконечной усталостью. Нет, он не мог так поступить. Не мог принять новое поражение. Поэтому он сел за стол, раскрыл тетрадь и, ощущая себя человеком, который уже стал забывать, какие бывают закаты солнца на его планете, начал писать.
15 февраля 1900 года.
До нашествия марсиан Лондон считался самым могущественным городом в мире, но это не означало, что он был и самым чистым. Должен с болью сердца признать сей факт, как в свое время поступил и мой отец, хотя теперь все это не важно. До того как было вскрыто чрево города, чтобы вставить туда искусственные внутренности в виде современной системы канализации, Лондон хранил свои экскременты в выгребных колодцах, которые опорожнялись с регулярностью, зависевшей от материального положения их владельцев. В колодцах часто находили миниатюрные человеческие скелеты, поскольку эти зловонные ямы представляли собой идеальное место, где женщины могли избавиться от плода запретной любви. Каждый день на рассвете караван повозок, груженных нечистотами, покидал Лондон, чтобы доставить удобрения на окрестные поля, но потом в моду вошло импортируемое из Южной Америки гуано, и испражнения лондонцев стали ни на что не нужны. Когда наконец было решено, в качестве нового свидетельства прогресса, запечатать выгребные колодцы и встроить все стоки в зачаточную систему канализации, чтобы нечистоты стекали в Темзу, это привело к эпидемии холеры, унесшей жизни почти пятнадцати тысяч лондонцев, а через пять лет за ней последовала вторая, собрав примерно такой же урожай жертв. Отец часто рассказывал мне, как жарким и сухим летом 1858 года, когда смрад становился невыносимым, приходилось обмазывать известью портьеры в британском парламенте в тщетной попытке нейтрализовать густое зловоние, исходившее от реки, которая превратилась в гнилую клоаку, ибо вбирала в себя экскременты почти двух миллионов человек. Этот год вошел в историю как Год великого смрада. В итоге, невзирая на баснословные расходы, парламент дал инженеру Джозефу Базальгетте разрешение перестроить внутренности Лондона, чтобы создать революционную систему канализации. Помню, как отец описывал мне — с такой гордостью, словно сам приложил к этому руку, — великое детище Базальгетте: систему каналов протяженностью восемьдесят три мили, построенную из кирпича, скрепленного портландцементом, и обеспечивавшую сток как бытовых, так и ливневых вод двадцатью километрами ниже Лондонского моста. Поэтому сейчас под нашими ногами пролегали параллельно Темзе пять главных коллекторов, питавшихся своими притоками — более мелкими каналами, и все вместе это составляло запутанный лабиринт, которому в будущем выпадет честь укрывать последних представителей нашей расы. Моему отцу, вне всякого сомнения, было бы интересно узнать, что это сооружение, которое он считал одним из великих достижений науки, будет исправно служить людям и в 2000 году.
Мы спустились в лондонскую клоаку на удивление просто: подняли крышку ближайшего к Примроуз-Хилл канализационного колодца, а затем слезли вниз по ржавой лестнице, прикрепленной к его стенке. Спуск прошел без происшествий, что уже было настоящим подвигом, учитывая весьма скудное освещение. Очутившись внизу, Шеклтон сразу же взял на себя роль проводника и внимательно огляделся по сторонам. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы сориентироваться, после чего он повел нас по узкому и извилистому туннелю, где нам пришлось передвигаться почти на ощупь, но вскоре мы вышли к другому туннелю, который, как я заключил, исходя из его размеров, был одним из трех больших коллекторов, проложенных севернее Темзы. Первое, что мы почувствовали, был ударивший в нос запах — неописуемое зловоние, заполнившее носовую полость, чтобы потом, подобно гарпуну, вонзиться в мозг и пропитать нечистотами даже самые далекие воспоминания. К счастью, это ответвление освещалось маленькими лампами, через равное расстояние развешанными на кирпичных стенах, что источали весьма неприятную слизь, и этот анемичный свет не только успокаивал дам, но и позволил нам составить приблизительное представление о маршруте, которым мы будем следовать в ближайшие часы, спрятавшись, так сказать, под юбкой у города, прежде чем доберемся до Квинс-Гейт. Коллектор представлял собой нескончаемую галерею со сводчатым потолком, по бокам которой то и дело возникали более узкие туннели, тем не менее казавшиеся такими же длинными, как тот, по которому мы намеревались идти. Я предположил, что по большинству этих труб в главный канал поступают фекальные воды, а некоторые каналы соединяются со складами и пожарными депо, но, для чего служат остальные туннели, так и не сообразил. Они могли вести в самое невообразимое или, напротив, в самое обычное место. Главный коллектор состоял из центрального канала, по которому текла зловонная комковатая тина бурого цвета. Мы старались на нее не смотреть, так как она несла с собой не только всякие отбросы, но и разного рода сюрпризы. Так, например, я приметил в потоке труп кошки. Мертвый зверек проплыл мимо, буравя нас пустыми стеклянными глазами, и течение понесло его дальше, в сторону кошачьего рая, куда, быть может, вела одна из таинственных труб. Я совершенно серьезно подумал, что если случайно опущу туда ногу, то придется ее ампутировать, потому что я не смогу жить, зная, что какая-то часть меня погружалась в столь изысканную мерзость. К счастью, по обе стороны канала шли кирпичные дорожки, достаточно широкие, чтобы мы могли по ним передвигаться, но прежде пришлось отвоевывать их у крыс: они долго сновали у нас под ногами, видимо, в знак приветствия, а потом сгинули во тьме. Страдая от невыносимого смрада, мы встали по двое и пустились в путь, стараясь не поскользнуться на влажном мху, покрывавшем отдельные кирпичи. Нас окружали сырой холод и абсолютная тишина, лишь изредка нарушаемая отдаленными звуками ревущей и бурлящей воды. Как только я понял, что тревожная симфония из отголосков эха и свистящих звуков, разносящаяся по туннелям, — не более чем сопровождение пищеварительного процесса коллекторов, эти звуки показались мне даже успокаивающими. По крайней мере, они были лучше тяжелых разрывов и назойливого боя колоколов, поджидавших нас на поверхности.
Пока я шагал рядом с агентом Клейтоном, замыкая процессию, у меня наконец-то нашлось несколько свободных минут, чтобы поразмыслить над нашим планом. Что бы там ни говорил Уэллс, я по-прежнему был убежден, что нам не следует покидать Лондон. И верил в то, что разношерстное войско, которое составила из нас судьба, а вовсе не капризный случай, имеет определенное предназначение. Неужели такая неоднородная группа собралась лишь затем, чтобы выбраться из города? Не разумнее ли предположить, что каждый из нас очутился здесь, потому что ему была уготована своя роль в разгроме марсиан? Это куда логичнее, подумал я, по очереди оглядывая каждое из звеньев нашей цепи и пытаясь разгадать их предназначение. Я не стал особо задумываться о вкладе капитана Шеклтона, который шагал впереди, не замечая зловония, и с настороженным видом вел нас по лабиринту труб, потому что всем нам было ясно: его участие будет решающим. Вслед за капитаном шли супруги Уэллс, успокоившиеся, оттого что снова были вместе, хотя и удрученные последними событиями. По-моему, когда придет пора остановить марсиан, присутствие единственного писателя, описавшего вторжение инопланетян, будет просто необходимо, и должен признать: несмотря на наш недавний спор, его участие в нашей самодеятельной группе меня радовало и одновременно успокаивало, так как, хотя писатель, похоже, не годился для физических подвигов, он был, по моему мнению, одним из самых умных среди знакомых мне людей. Далее, закрыв лицо изящным платком, следовала американка, чье присутствие было для меня полной загадкой, если только не предположить, что она должна была укрощать не укротимого иначе Гиллиама Мюррея. Предпринимателя называли Властелином времени за то, что он сумел сотворить чудо и перенести нас в 2000 год. Но Мюррей, очевидно, обладает ключом не только от четвертого измерения, но и от потустороннего мира, откуда он, судя по всему, вернулся. Я задумался, какой могла быть роль Мюррея в нашей группе, кроме той, чтобы оберегать мисс Харлоу и высмеивать Шеклтона. За ним шел услужливый Гарольд, должно быть, недоумевая, зачем я заставил его покинуть подвал в Квинс-Гейт, дабы вернуться туда спустя всего несколько часов, причем в обоих случаях с риском для жизни. Из всех нас у кучера, вероятно, была самая незначительная роль. Возможно, она сводилась к тому, чтобы отвезти нас с Шеклтоном к холму. Последним рядом со мной вышагивал агент Клейтон с надменной гримасой на лице, чье присутствие в группе легко объяснит любой читатель. Но был и еще кое-кто, а именно я. В чем же состояла моя задача, если наша группа действительно призвана остановить нашествие? А вдруг, с ужасом догадался я, от меня требовалось всего лишь свести Шеклтона с остальными членами группы? Да, вполне может быть, что на этом моя миссия завершилась, и я, сам того не ведая, освободился, чтобы окончательно поступить в распоряжение смерти, так же как и Гарольд.
Некоторое время я шел, погруженный в эти раздумья, как вдруг, несмотря на то, что все мы передвигались вдоль канала очень осторожно, жена Уэллса наступила на край своей длинной юбки и с грохотом упала, едва не потащив писателя за собой. Мюррей с Эммой бросились ей на помощь, а я отметил про себя, что, когда мы вернемся в Квинс-Гейт, нужно будет предложить всем женщинам последовать примеру американки и переодеться во что-нибудь более подходящее для бегства через канализацию. К счастью, Джейн лишь подвернула левую лодыжку. Мы шли уже довольно долго и, вопреки настойчивым призывам Шеклтона, которому, очевидно, не терпелось вновь оказаться в объятиях Клер, продолжать путь, сообща решили сделать остановку, чтобы жена Уэллса могла немножко прийти в себя. Мы использовали этот перерыв, чтобы рассказать друг другу об ужасах, которые нам пришлось пережить до нашей встречи в Примроуз-Хилл. Я поведал о сражении на Темзе, когда марсиане уничтожили один из наших дредноутов, а Уэллс рассказал капитану, кучеру и мне о том, что выпало на долю их группы. Так, я узнал, что они приехали в Лондон с общественных пастбищ Хорселла и что марсиане буквально наступали им на пятки, но они успели проникнуть в город, пока оборонительное кольцо еще не было прорвано захватчиками. Достаточно будет сказать, что во время этих скитаний произошла действительно поразительная вещь: они столкнулись с марсианином. Они постарались описать его, но, к сожалению, я так толком и не понял, как он выглядел, тем более что они сами никак не могли насчет этого договориться. Одно мне стало ясно: марсиане были настоящими чудовищами, хотя больше всего меня потрясло то, что они могли принимать человеческий облик. Уэллс даже подозревал, что марсиане уже давно, возможно, не один век, жили среди нас, прикидываясь людьми. Я пошутил насчет того, что, пожалуй, знаю кого-нибудь из них, поскольку некоторые мои знакомые отличаются такими сумасбродными поступками, что вполне могут оказаться пришельцами с других планет. Но моя шутка успеха не имела, никто даже не улыбнулся. Впрочем, мне было все равно. Я тогда находился в приподнятом настроении, окончательно уверовав в группу храбрецов, отобранных самой судьбой, чтобы спасти человечество. Правда, должен признать, что этот образ не очень соответствовал действительности, в которой на меня смотрели тревожные либо испуганные глаза моих товарищей, не говоря уже о том, как мы все выглядели: растрепанные волосы, чумазые лица, грязная, дурно пахнущая одежда.
Когда разговор угас, я вынул папиросу и поискал вокруг местечко, где бы мог спокойно покурить. Мне было необходимо хотя бы недолго побыть одному, чтобы обдумать наше положение. Справа от нас, среди уходящих вдаль арок, я обнаружил туннель, который, похоже, вел в самую что ни на есть бесконечность, и вошел в него, не собираясь слишком углубляться. Я рассеянно сделал несколько шагов и тут же наткнулся на приоткрытую дверь. Я с любопытством толкнул ее и увидел перед собой маленький склад, заполненный инструментами и строительными материалами. Я огляделся в надежде отыскать что-нибудь полезное, но ничего не нашел, хотя на самом деле все хранившееся там могло бы пригодиться для наших целей, просто я не имел ни малейшего представления о том, что нам может понадобиться. В конце концов я сел покурить на огромный ящик, стоявший возле двери, представляя себе, как будет поражена Виктория, когда я появлюсь в подвале не с непобедимым войском из будущего, а с живописной группкой оборванных людей и скажу ей, что наш план состоит в том, чтобы бежать из Лондона неизвестно куда через зловонные коллекторы. В этот момент я услышал голоса и звуки шагов в туннеле. Похоже, у кого-то еще возникла потребность в уединении. Я выругался. Даже здесь невозможно побыть одному. Я тряхнул головой, как это делают собаки, попавшие под дождь, чтобы избавиться от выражения досады, наверняка запечатлевшегося на моем лице, и на всякий случай подготовить улыбку, если те, кто приближался сюда, захотят зайти на склад. К счастью, хотя они остановились рядом с дверью, открывать ее они не стали. По голосам я узнал миллионера и юную американку.
— Гиллиам, — заговорила девушка, — я привела тебя сюда, чтобы сказать, что ты несправедлив к капитану Шеклтону. То, что ты знаешь о нем, не дает тебе права так с ним разговаривать.
Этот упрек удивил меня, заставив навострить уши. «Что имела в виду Эмма и что Мюррей знал о капитане?» — подумал я, страшно заинтригованный. Я весь напрягся на своем импровизированном стуле в ожидании следующей фразы и пропустил подходящий момент, чтобы выйти из укрытия и обнаружить свое присутствие, как рекомендуют правила приличия. Мое неодолимое любопытство снова обрекло меня на постыдную роль подслушивающего.
— Я не думаю… — начал оправдываться Мюррей.
— Твои реплики оскорбительны, Гиллиам, а главное, несправедливы, — перебила девушка, не желая слушать оправданий. — В такой момент все мы должны держаться вместе, но больше всего мы нуждаемся в стимуле, чтобы продолжить наше дело, каким бы он ни был.
— Но я не могу отвечать за других и за то, что ими движет в борьбе. Одна ты мне дорога, Эмма, и ты это знаешь.
— Да, Гиллиам, я это знаю, — нежно проговорила девушка. — У тебя есть я. А у Уэллса есть Джейн, у Джейн — Уэллс. У Шеклтона — Клер. Но, хотя я мало знаю мистера Уинслоу, не думаю, чтобы для него любовь служила путеводной звездой. Нет, ни в коем случае. Для этого он слишком влюблен в себя и циничен. Скорее, вера в капитана — его единственная сейчас опора. Как, наверное, и для кучера, а также для тех, кто остался ждать нас в подвале. — Она сделала паузу, после чего добавила: — И то, что все эти люди возлагают надежды на капитана, — исключительно твоя вина.
Сигара выпала у меня из руки на брюки, и без того ужасно грязные, и засыпала их пеплом, заставив меня выйти из ступора, в который меня повергли слова американки, иначе бы я сгорел. Так вот, значит, какое впечатление я производил после нескольких минут ничего не значащей беседы? Самовлюбленный циник? Человек, неуязвимый для любви? Безусловно, такой образ я когда-то старательно культивировал и в других обстоятельствах высокомерно посмеялся бы в душе над тем, кто так обо мне думает. Но по непонятной причине сейчас я почувствовал себя глубоко оскорбленным и едва удержался от того, чтобы не выскочить на защиту своей чести.
— Моя вина? — процедил предприниматель, которому, в отличие от меня, ничто не мешало защищаться, но он по собственной глупости упустил такую возможность. — Не понимаю, что ты хочешь сказать.
— Ты прекрасно все понимаешь, Гиллиам. И знаешь, что именно ты распахнул перед ним двери в наш мир, изменив его судьбу. И если он сейчас находится здесь, то только потому, что ты представил его как героя. Так хорошо ли теперь пытаться низвести его с пьедестала, когда все так в него верят?
— Я не пытаюсь низвести его… Я просто хочу… — За дверью воцарилась тишина. Я представил себе, как они стоят друг против друга, достаточно близко для того, чтобы их голоса не привлекли внимание других. Возможно, девушка скрестила руки на груди, приняв эту воинственную позу, к которой так любят прибегать женщины и которая так их украшает, если, конечно, не ты являешься объектом упреков. — Дьявол! Эмма, ты права! — вдруг взревел Мюррей так, что я чуть было не подскочил. К счастью для моих ушей, после этого неожиданного выкрика он резко сбавил тональность. — Да-да, права, и непонятно, почему я так себя веду… Но капитан не может оправдать их ожиданий, и ты это знаешь. Мы оба знаем…
— Но то, что надежды нет у нас, не дает нам права отнимать ее у других, Гиллиам, — парировала девушка.
«Что вся эта чертовщина означает? — ломал я голову в своем укрытии. — Почему они не возлагают надежд на такого героя из будущего, как Шеклтон? Какие такие известные им факты делают его непригодным для роли знаменосца спасения мира?» Вопросов было много, но мои нежданные осведомители, казалось, не собирались на них отвечать, поскольку вскоре я услышал усталый голос предпринимателя:
— У меня-то надежда есть.
— Рада за тебя, — холодно ответила девушка.
— Следует ли из твоего ответа, что у тебя никакой надежды не осталось? — спросил Мюррей, стараясь скрыть разочарование. — Никакого стимула для того, чтобы бороться?
— Я уже тебе сказала в подвале у Клейтона: я уверена, что все мы погибнем. Но эта уверенность не дает мне права мешать другим мечтать и надеяться на спасение. Пораженческие настроения только осложнили бы жизнь моим товарищам, и это было бы с моей стороны нехорошо, неправильно. — Она глубоко вздохнула. — Хотя я обнаружила, что мир — еще более жалкое место, чем я думала, это не значит, что его нужно покидать столь же жалким способом.
— Но, Эмма, в подвале у Клейтона ты говорила мне и другие вещи, — ласковым голосом напомнил Мюррей.
— Возможно, я что-то лишнее и сболтнула, потому что очень устала и переволновалась.
— Ты и смотрела на меня не так, как сейчас…
— Я смотрю на тебя так же, как всегда, Гиллиам.
— Ты же не обвинишь меня в дерзости, если я скажу, что, не появись Уэллс с Клейтоном в самый неподходящий момент, наши губы…
— Думаю, нам пора возвращаться, — перебила она его.
— Подожди, Эмма, — взмолился Мюррей, и до меня долетел звук, который производит резко натянутая ткань, из чего я заключил, что миллионер, наверное, отчаявшись, схватил ее за руку. — Нам с тобой не удавалось поговорить наедине с тех пор, как мы покинули клейтоновский подвал… А мне необходимо знать, что ты думаешь о том, что я тебе сказал. Похоже, с того самого времени ты… избегаешь меня. Пару раз наши взгляды встречались, но ты сразу отводила глаза…
— Отпусти меня! — потребовала девушка довольно сердито и после недолгого молчания повторила свою просьбу более ласковым, почти умоляющим тоном: — Пожалуйста, Гиллиам, отпусти меня…
— Скажи мне только одну вещь, Эмма, — попросил Мюррей. — Я ошибся, открыв тебе свою тайну, ведь так? И вместо твоей любви заслужил лишь презрение.
— Перестань, Гиллиам, как ты можешь такое говорить… Я тебя вовсе не презираю…
— Не обманывай меня, пожалуйста, — перебил ее Мюррей. — Возможно, твое презрение возникло не сразу. Вначале какая-то часть твоей души, та, что восхищается своим прадедом, была сбита с толку моим рассказом. И я в какой-то момент поверил, что добился своего и ты стала смотреть на меня иначе. Поверил, что добился… А, какая теперь разница. Я больше не вижу твоего прежнего взгляда, Эмма. Не вижу, и все тут.
— Не говори так, Гиллиам, потому что это неправда… — сказала девушка. — И прошу тебя, пойдем, а то все уже, наверное, удивляются, куда мы пропали.
— Очевидно, мое признание произвело обратный эффект, не тот, на который я рассчитывал, — упрямо стоял на своем Мюррей. — И полагаю, что та часть твоей души, которая считает, будто существует всего один способ поступать правильно в таком неправильном мире, как наш, теперь меня презирает. У тебя было время поразмыслить над моей историей, и… вот результат. Я хотел, чтобы ты меня полюбила, а превратился в самого ненавистного для тебя человека на свете. Но коль скоро все уже пропало, позволь мне хотя бы высказать тебе то, что я чувствую…
Я беспокойно задвигался, разочарованный направлением, какое принимал разговор. Я бы предпочел, чтобы они продолжали говорить о капитане Шеклтоне, но вместо этого, похоже, мне предстояло выслушать дурацкое объяснение в любви, то есть тот вид откровений, которые так раздражали меня в театральных спектаклях и которые я пропускал в романах. Потому что любовь — это всегда что угодно, только не любовь, как не уставал на разные лады повторять Уайльд с присущей ему гениальностью.
— Эти последние дни, хотя и прошли как в аду, были самыми счастливыми в моей бесполезной и нелепой жизни, Эмма. Возможность быть рядом с тобой, веселить тебя, видеть, как ты иногда останавливаешь на мне свой взор, говоря мне глазами, что я поступаю правильно и ты гордишься мной… Ты не представляешь, какое огромное счастье ты мне подарила. Ты даже не представляешь… И даже то, что эти прилетевшие из космоса ублюдки решили устроить на нашей планете бойню, кажется мне нормальным и необходимым, лишь бы ты на меня так смотрела.
Вот теперь будет по-настоящему неудобно, если они меня здесь обнаружат, подумал я. Мюррею вряд ли понравится, что я слышал его горячую речь. Поэтому я слез с ящика, служившего мне стулом, и, стараясь как можно меньше шуметь, спрятался за ним. Чтобы не выдать себя дымом, папиросу я погасил о подошву ботинка и затаился, надеясь, что если даже парочка зайдет внутрь в поисках еще большего уединения, им не придет в голову заглянуть за ящик. Иначе мне будет весьма сложно объяснить, что я здесь делаю в полном одиночестве.
— Гиллиам, перестань, прошу тебя… — произнесла девушка на удивление грустным и усталым голосом. — Я не презираю тебя и раньше тоже не… в общем, ничего похожего на то, что ты себе навоображал. Да если бы даже и так, какое значение это бы имело? Сейчас все потеряло смысл, ты не находишь? Никакое чувство уже не важно… даже эта хваленая любовь.
— Как ты можешь так говорить?
— Конечно, это, вероятно, имеет значение для других и, в частности, для тебя. Для меня же это стремление посвятить себя другому, бороться за другого свидетельствует не столько о любви, сколько о трусости. Возможно, кому-то необходимо опереться на другого человека, чтобы убежать от глухого, отчаянного одиночества, но только не мне. Я примирилась со своей смертью, как давным-давно примирилась со своей жизнью, и встречаю то и другое так, как привыкла все на свете делать: в одиночку.
— Но любовь, Эмма, не зависит от нашей воли. Ты не можешь выбирать, будешь ты следовать этому чувству или нет, словно речь идет о том, брать тебе с собой на прогулку зонтик или не брать. Ты можешь отрицать любовь, но это будет лишь одна из форм ее признания…
— Да, я ее отрицаю. Разумеется, отрицаю.
— Следовательно, ты ее признаешь… — Мюррей вдруг замолчал, и в туннеле вновь установилась тишина. — Ясно… Ты меня любишь. Ты любишь меня, Эмма! Но не хочешь это признать, потому что мы с тобой умрем. И, разумеется, совершенная, правильная и скучная, хотя и очаровательная Эмма Кэтрин Харлоу не может признать такое неправильное чувство в столь неподходящей ситуации… Я угадал?
— Ничего даже отдаленно похожего я не говорила, Гиллиам. Боюсь, что ты в эти последние дни чересчур увлекся разными догадками… — заметила девушка, и от ее слов повеяло ужасным холодом. — Возможно, в какой-то момент я почувствовала что-то вроде благодарности за то, что ты так заботился обо мне, не отрицаю, но…
— Вроде благодарности? — вскричал Мюррей громовым голосом. Но тут же сбавил тон, очевидно, подчинившись предостерегающему жесту девушки, и повторил: — Вроде благодарности? Нет, Эмма, и я прошу не лишать меня этих последних дней. Я отказываюсь думать, что их на самом деле не было. Потому что, хотя ты пытаешься все отрицать и тебе почти что удалось обмануть меня своей холодностью в последние часы, я знаю, что в какой-то момент этого нелепого безрассудства ты в меня влюбилась… Не знаю, когда ты что-то почувствовала ко мне, может быть, на ферме, хотя в то время я еще и мечтать не смел о том, что происшедшая в тебе перемена — это что-то реальное, а не галлюцинации, вызванные моими желаниями. А возможно, это началось в доме твоей тетушки, когда ты плакала в моих объятиях, рассказывая о том, какой девочкой ты была когда-то. Не знаю. Зато уверен, что в подвале у Клейтона, когда я поведал тебе мою историю, ты сказала, что я единственный мужчина, который…
— Я прекрасно помню то, что сказала.
— И помнишь также свои слова о том, что, если бы ты узнала, что однажды будет невозможно мечтать, ты все равно не перестала бы это делать и не прожила бы без мечты ни одной минуты?
Наступила тишина.
— Да, — наконец ответила девушка.
— Так ничто не мешает тебе продолжать мечтать! Не трать попусту эти последние мгновения. Давай помечтаем. Представим себе, что мы находимся не в зловонных коллекторах, спасая свою жизнь, а в одном из уголков той восхитительной Вселенной, которую изобразил на карте твой прадедушка… Помечтаем об этом, Эмма. И ответь мне тогда на вопрос, который я сейчас тебе задам. — Снова стало тихо, а затем послышался голос Мюррея, взмывший вверх, словно отпущенный ребенком голубь: — Ты меня любишь?
— Ради бога, Гиллиам! — рассердилась она. — Мы все погибнем! Какая тебе разница, какие чувства я испытываю к тебе сейчас или испытывала раньше? Ты не замечаешь абсурдности всего этого? — пыталась она объяснить, и я кивал ей из своего убежища, признавая ее правоту. — Оглянись вокруг, Гиллиам. Марсиане разрушают Лондон, а ты затеваешь разговоры о любви, как будто мы с тобой присутствуем на балу… Ох, Гиллиам, если бы я даже была в тебя влюблена, это бы ничего не меняло, понимаешь?
— Для меня бы меняло. Еще как бы меняло.
Девушка вздохнула. Потом мрачно произнесла:
— Мы скоро умрем, Гиллиам, и у нас не остается времени на любовь.
— Но если двоим суждено умереть… — пытался он переубедить ее, — разве не лучше для обоих умереть счастливыми, чтобы любовь украсила их последние мгновения?
— Счастливыми? В чем ты видишь счастье, Гиллиам? Я не могу представить себе ничего ужаснее, чем умереть сразу после того, как я влюбилась в первый раз в своей жизни… — призналась девушка.
— А я не могу представить себе ничего ужаснее, чем умереть, не услышав из твоих уст, что ты меня любишь, — упрямо заявил он.
— Боже мой, Гиллиам… — рассердилась она. — Одна надежда, что я умру раньше тебя, потому что не могу представить себе, что возможно пережить нашествие марсиан в компании столь несносного человека.
— А я вижу только одну причину, по которой хотел бы быть единственным выжившим на планете наряду с такой высокомерной, упрямой и невоспитанной девицей, как ты, и эта причина — возможность спокойно целовать тебя, не опасаясь, что, того и гляди, нагрянут знаменитый писатель Уэллс и специальный агент Клейтон.
Через несколько секунд напряженного молчания послышался смех девушки, такой заразительный, что даже я не удержался от улыбки, хотя и не понял шутку Мюррея. Потом вдруг ее звонкий, как колокольчик, голосок прервался. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что вновь воцарившаяся в туннеле тишина объясняется тем, что Мюррей решился ее поцеловать, не дожидаясь, когда они станут последними живыми людьми на планете, и невзирая на угрозу, которую по-прежнему представляли собой Уэллс и агент Клейтон. Еще через несколько мгновений я услышал прерывистое дыхание девушки и шуршание одежды, когда двое медленно, со сладостной неторопливостью отодвинулись друг от друга.
— Я люблю тебя, Гиллиам, — сказала Эмма. — Я влюбилась в тебя так, как, думала, никогда и ни в кого не способна влюбиться.
Как описать здесь трепетный голос, которым это было произнесено? Возможно ли с моими убогими способностями передать словами, что должен был почувствовать Мюррей, когда услышал ее признание, и что почувствовал я сам в своем жалком укрытии? Эмма произнесла эти слова нежно и в то же время торжественно, отдавая себе отчет в том, что говорит о любви впервые в жизни. Много лет ждала она такой возможности и уже не верила, что этот день наступит, и уж точно не ожидала, что все произойдет не в оранжерее или в саду, в окружении прекрасных цветов, столь соответствующих моменту, а в зловонной лондонской клоаке с мерзкими крысами в качестве украшения. Но пора произнести эти слова наконец наступила, вот что главное, и она произнесла их так, как они того заслуживали, отчеканивая каждое слово, точно они составляли древнее заклинание, точно ее голос в силу каких-то замысловатых внутренних связей рождался не в горле, а в сердце. Это были выстраданные слова, те же самые, что я сотни раз слышал от возлюбленных, актеров, друзей, но наполненные таким чистым, идущим из глубины души чувством, что речи других выглядели жалкой пробой, смешными попытками соединять слова и чувства с той же безоговорочной естественностью, с какой Создатель размещал плод на ветке. Но главное, подумал я с тоской, что девушка произнесла их, зная, что, судя по тому, как развиваются события, будущее сулит ей не слишком много возможностей повторить что-то подобное.
— Я рад, что смогу умереть, зная это, — сказал Мюррей.
— Я поняла это в подвале у Клейтона, слушая твое признание, — торопливо продолжила она, — и с тех пор делала все, чтобы скрыть свои чувства. Мне жаль, Гиллиам, действительно жаль… Но когда я обнаружила, что впервые в жизни влюбилась, то не ощутила ничего, кроме огромного огорчения. Что толку влюбляться перед самым концом света? — Голос девушки надломился, как сухая ветка, перейдя в жалобный стон. — Поэтому я попыталась обмануть саму себя, спрятать свою любовь к тебе за ледяной стеной, чтобы ты ее не заметил… Но ты в конце концов разрушил эту стену.
— И не раскаиваюсь в этом, Эмма: ты только что сделала меня самым счастливым человеком в мире.
— В мире, стертом с лица земли, понимаешь? — в отчаянии воскликнула она. — Мы слишком поздно встретились, Гиллиам…
— Слишком поздно? В мечтах времени не существует, Эмма. Часы останавливаются… как на просторах четвертого измерения, помнишь?
Во время долгого молчания, наступившего после слов Мюррея и свидетельствовавшего о новых страстных поцелуях, я постарался избавиться от кома в горле. Я всегда считал, что чужая любовь смешна для остальных, что любой неизбежно скривится, столкнувшись со своего рода кодексом соучастия, далеким и, как правило, постыдным. Даже я, презирающий все это, был вынужден составлять с каждой из моих партнерш наш общий любовный лексикон, хотя, когда приходилось произносить обязательные выспренние фразы, относился к ним иронически, зная, что повторяю их не потому, что в них верю, а потому, что присущий мне дух соперничества требовал быть лучшим во всем, за что я брался, даже в этом. К несчастью, мы живем в мире, где от джентльменов требуется умение нелепо кривляться и произносить всякие романтические бредни, и я благодаря своей способности приспосабливаться к среде в совершенстве овладел этим умением. Но, как читатель может вывести из моих слов, на самом деле я был убежден, что любви как таковой не существует. Я полагал, что все путают ее с более или менее остроумным способом, преувеличенным или высокопарным, облагораживать наш страх одиночества, тоски, нежелание вечно гореть в аду страсти. То, что я испытывал к своей жене Виктории, чтобы далеко не ходить за примерами, было флегматичной привязанностью, тлеющей симпатией, которую то раздувал, то гасил ветер, причем убежден, что она в этом не была виновата, поскольку вряд ли я бы относился к другой женщине лучше. Почему же я женился на ней? Просто потому, что мне хотелось стать женатым, создать семью, перестать растрачивать отцовское состояние на мимолетные удовольствия и наслаждаться на досуге возможностью строить с кем-то иллюзорные планы на будущее. И поскольку я был уверен, что ни одна женщина никогда не сумеет обворожить меня в интеллектуальном или физическом смысле, по меньшей мере настолько, чтобы я искренне в нее влюбился, я выбрал Викторию — просто потому, что зеркала в салонах говорили мне, что мы с ней хорошо смотримся вместе. Виктория была красива, воспитанна и благоразумна, и этого было для меня более чем достаточно. Как легко понять, мое представление о любви, столь убогое, корыстное и неправильное, в корне отличалось от того, что демонстрировал Мюррей, и мне стало ужасно жалко себя. Я покидал наш мир, так никого и не полюбив, более того — с пренебрежением отвергнув любовь всех тех женщин, что когда-либо были в меня влюблены.
Этот мой недостаток — явная неспособность любить — всегда определял мою жизнь. И продолжает ее определять по сей день, ибо, с тех пор как я покинул дом своего дяди, главной моей заботой было придумать, как разгромить марсиан, чтобы спасти человечество, представлявшее собой довольно расплывчатое понятие, поскольку его, это человечество, нельзя было обнять, уложить в свою постель, погладить. Кого конкретно я собирался спасать? Никого, с ужасом и горечью признался я себе. Никого в частности. Разумеется, я хотел, чтобы моя жена не погибла, равно как мой двоюродный брат Эндрю и его жена, но хотел этого для себя, а не для них самих, поскольку сильно переживал бы их безвременную кончину. Поэтому я и хватался за такое абстрактное понятие, как человечество. Я бы все отдал за то, чтобы сейчас, в каком-либо уголке планеты находился кто-нибудь, чья смерть по-настоящему бы взволновала меня, стала бы для меня большим горем, чем моя собственная. Треножники убивают моих близких, но я не могу жалеть каждого из них в отдельности со всеми их мечтами, планами и страданиями, безжалостно скошенными марсианской косой. Нет никого, чье сияние выделило бы его среди других: так сияет Клер для Шеклтона или Эмма для Мюррея. Я же сокрушался по поводу уничтожения того целого, в которое они входили и в котором растворялись без остатка: человеческой расы. Расы, к которой я столь позорно принадлежал.
Мои глаза до сих наполняются слезами, когда я вспоминаю этот момент, несмотря на то, что тогда я всего лишь состроил ироническую гримасу, вдруг обнаружив в себе странную чувствительность. И хотя мой пульс бьется с такой силой, что мне лишь ценой больших усилий удается сохранять четкость почерка, хотелось бы успеть предупредить читателя, что если я излагаю эти факты столь подробно, то не потому, что хочу навсегда обессмертить откровение, каким стало для меня постижение истинного значения слова «любить». Нет, если я делаю это, то затем, чтобы рассказать, какие благородные и высокие чувства способны породить наиболее утонченные представители человеческой расы. Возможно, любовь — чувство, знакомое и другим обитателям Вселенной, однако любовь, которую способен породить человек, — исключительно человеческое чувство, которое умрет вместе с ним. И тогда Вселенная, несмотря на свою бездонную необъятность, несмотря на свою кажущуюся бесконечность, будет уже неполной. И если это случится, пусть мои слова, слова человека, который так и не научился любить, помогут воскресить любовь в сердце того, кто их прочтет.
XXXVI
На следующее утро марсиане послали Чарльза и еще нескольких человек на работу в недрах пирамиды. Он впервые оказался внутри гигантского сооружения. Прежде он всегда работал на его поверхности, перетаскивая и сваривая тяжелые балки, с неторопливостью сталагмитов устремлявшиеся все дальше в небо. И если несколько месяцев назад он испытал бы острое любопытство, получив возможность увидеть внутренности пирамиды, то в это утро Чарльз ощутил лишь легкое беспокойство по поводу возможных последствий пребывания возле ядовитого ядра машины для его хрупкого здоровья. Вероятно, это воздействие убыстрит течение его болезни и не позволит закончить дневник. В глубине души он знал, что потому и был выбран. Те, кто работал в самом сердце машины, умирали в считанные дни, и поэтому марсиане, дабы не транжирить без надобности рабочую силу, прибегали к услугам тех заключенных, в ком уже обнаружились признаки болезни. Если ошейник, который каким-то образом следил за состоянием крови узника через нити, соединявшие его с телом, считал тебя годным для работы во чреве пирамиды, это означало, что ты уже обречен. Но Чарльз и сам знал, что отмечен смертью с того самого раза, когда впервые, закашлявшись, изрыгнул из себя сгусток зеленовато поблескивающей крови.
Они залезли внутрь через круглые люки в земле, рядом с основанием пирамиды, и спустились вниз по лесенкам, привинченным к стенке колодца. Там начинался узкий туннель, стены которого испускали слабое зеленоватое свечение, и они пошли по нему четким строем вслед за шедшим впереди марсианином. Перед Чарльзом шагал Эштон, тот самый, что раздобыл ему драгоценную тетрадь, и несмотря на то, что он изо всех сил старался сохранить бравую походку тех времен, когда прохаживался по улицам своего загаженного района где-нибудь в Ист-Энде, Чарльз заметил, что по его грязной шее стекают капли пота. Сзади шествовал юный Гарвин, паренек, которому только-только стукнуло четырнадцать и который в начале нашествия был совсем ребенком. Услышав, как часто он дышит, Чарльз повернулся к нему и увидел перед собой его детское личико, мертвенно-бледное в тусклом освещении, с потухшим взором и впалыми щеками, мокрыми от слез. Казалось, это призрак ребенка, что тоскливо бродит по коридорам своего прежнего дома, не понимая, что он уже умер. Даже не попытавшись приободрить его словами или улыбкой, Чарльз отвернулся и вновь уставился в грязный затылок Эштона. Да и чем, в конце концов, он мог утешить паренька? Утешение было еще одним из числа многочисленных понятий, искорененных марсианами.
После долгих минут пути по туннелю, благополучно миновав отходившие от него многочисленные ответвления, представлявшие собой тесные галереи, казалось, наполненные тем самым зеленоватым туманом, они подошли к его концу. Вдалеке виднелась арка, за которой угадывался зал, откуда исходило такое же свечение, как со стен, только гораздо ярче. Пока они шли туда, Чарльз пытался сориентироваться, прикидывая, какое расстояние они преодолели. Соответствовал ли зал, куда они направлялись, центру пирамиды? Он не знал, как не знал и того, находятся ли они по-прежнему под землей или, как ему почудилось в какой-то момент, поднялись по небольшому склону на иной, более высокий уровень. Но хотя их шаги звучали так, словно под ними была пустота, у него было такое ощущение, будто он погребен под многометровым слоем земли и вдыхает тяжелый, затхлый воздух, копившийся здесь, видимо, не одну тысячу лет, который раздирал ему горло, словно он глотал усеянные шипами ягоды, и отдавался болью в израненных легких. Однако все эти вопросы постепенно отпали по мере того, как они приближались к арке, соединявшей туннель с помещением, откуда исходило мощное сияние. Теперь в его голове вертелся лишь один вопрос: что там внутри?
Но сколько бы он ни повидал за эти последние два года, каким бы испытаниям ни подвергался его рассудок, сколько бы раз его разум ни оказывался на грани безумия, силясь понять и принять невозможное, все равно, как обнаружил Чарльз, он оказался не готов к восприятию того, что находилось в зале. Все узники робко и нерешительно сгрудились у входа, прижимаясь друг к другу и закрывая рукой глаза, ослепленные ярким зеленым светом, настолько плотным, что его можно было чуть ли не услышать и понюхать. Когда их глаза привыкли, они огляделись вокруг, ошеломленно моргая. И долго не могли понять, что видят перед собой. Взгляд словно уперся в некую страшную головоломку, во что-то такое, на что нужно смотреть веками, чтобы понять его ужас.
Зал был круглый, не более пятнадцати метров в диаметре, и, казалось, с таким же высоким потолком, как в соборе. В середине помещения было пусто, зато вдоль стен теснились ряды резервуаров из прозрачного материала, похожего на стекло, которые, словно трубы органа, уходили в темную высь. Эти прозрачные бочонки были доверху наполнены вязкой зеленой жидкостью, напоминающей сироп, и, похоже, именно она излучала сияние, заливавшее зал и коридор. А внутри резервуаров лениво плавали в жидкости сотни крошечных нежных телец человеческих младенцев, при виде которых лицо Чарльза исказилось от ужаса. Оцепенев, он разглядывал новорожденных, помещенных в дьявольские аквариумы, что высились вдоль стен. Кажется, у них еще не была отрезана пуповина, хотя, приглядевшись, Чарльз обнаружил, что эти трубки не органического происхождения и представляют собой провода из непонятного материала, напоминающего кожу, которые выходили из живота младенца и присоединялись к усеивавшим дно резервуара отверстиям, наподобие сливных, что делало маленькие тельца похожими на жуткие буйки, прикрепленные ко дну желеобразного океана. Младенцы тихо покачивались, в то время как их ручки и ножки непрестанно шевелились, как будто они бежали во сне. Но ужаснее всего было то, что их черепные коробки были вскрыты, обнажая нежный мозг, к которому вело множество тончайших нитей, плававших вокруг головок, словно прядки волос, разлохмаченных по вине несуществующего ветра. От концов этих змеившихся ответвлений через равные промежутки исходило слабое золотистое свечение — оно пронизывало мерзкую жидкость снизу вверх и терялось затем в мутной мгле, словно пугливые падающие звезды. Вспышки были настолько частыми, что казалось, будто целая стая чудовищных светлячков охраняет сон детей.
При виде этой картины всех без исключения узников сразу затошнило на глазах у бесстрастных охранников, которые терпеливо дожидались, пока те извергнут содержимое своих желудков, как, наверно, поступали каждый раз, когда спускались сюда с новой партией. Когда рвота у заключенных прекратилась, марсиане пролаяли им инструкции относительно того, что они должны делать. Их работа состояла в том, чтобы перетаскивать в зал огромные бочки с соседнего склада, точнее перекатывать их по туннелям, а затем подсоединять к машине, которая одним боком упиралась в аквариумы с детьми и чье назначение, по-видимому, состояло в том, чтобы обновлять жидкость, в которой плавали младенцы. Под неусыпным надзором марсиан группа принялась за дело в зловещей тишине, лишь изредка прерываемой испуганными или смущенными репликами. Чарльз то и дело бросал взгляд на злополучные аквариумы, силясь как-то объяснить себе, что он видит. Ему казалось, он обязательно должен понять, что все это означает, и потому, пока он механически перекатывал бочки с одного места на другое, мозг его пытался делать выводы. Похоже, предназначение детей, рожденных в лагерях воспроизводства, состояло не в том, чтобы когда-нибудь заменить их и тем самым обновить рабочую силу, как они всегда думали. Теперь ему было до ужаса ясно, что пирамида будет завершена гораздо раньше, чем эти дети достаточно подрастут и станут выполнять те работы, на которых сейчас заняты они. Нет, марсиане заставляли людей рожать, потому что дети были им нужны для того, чтобы пирамиды, разбросанные по всему миру, исправно действовали. Или он неправильно истолковывает весь этот ужас? Очевидно одно: с помощью змеевидных иголок, воткнутых в мозг, марсиане извлекают из младенцев нечто такое, что устремляется ввысь, напоминая бледно-золотистое сияние, струящееся сквозь зеленую жидкость. Но что это? Их души? Для работы марсианской машины нужны детские души? Кто знает, но факт оставался фактом: что-то такое марсиане у них забирали. И они использовали это что-то, вероятно, как уголь, который, после обработки в какой-то части машины, служил для ее запуска. Тут ему вспомнился известный роман Мэри Шелли, в котором доктор Франкенштейн оживлял залатанный труп, наделяя его энергией молнии. Не содержит ли человеческое тело нечто подобное, что может быть извлечено и применено сходным образом, нечто, способное вдохнуть жизнь во что-то другое? Получалось так: его душа, все то, чем он был, эта абстракция, состоявшая из сочетания его мыслей, грез, желаний и всего того, что смерть в конце концов отбирает у тела, могла быть использована марсианами в качестве топлива.
Небольшой шум прервал ход его мыслей. Он взглянул в другой конец туннеля и увидел, что Гарвин, видимо, потерявший сознание от усталости, упал, причем так неудачно, что бочка, которую он в этот момент катил, наехала ему на ноги, и все услышали хруст костей, ломающихся в нескольких местах. Охранники переглянулись, и через несколько секунд ошейник паренька издал хорошо знакомый всем звук, и Гарвин, еще не пришедший в себя, начал неуклюже подниматься. Он с трудом выпрямился и, хотя голова его свисала на грудь и болталась, словно маятник, а ноги были вывернуты под невероятным углом, поплелся по туннелю к выходу. С искаженным от ужаса лицом Чарльз наблюдал за тем, как он покидал пирамиду, моля Бога, чтобы паренек не очнулся и попал в воронку в бессознательном состоянии.
В тот вечер, сидя в своей камере перед раскрытым дневником, он вспоминал рослого и веселого мальчугана, каким Гарвин был в первые месяцы заключения. Ему вспомнилось, как тот сам вызвался войти в состав группы, которую готовил для побега капитан, потому что гордился тем, что остался цел и невредим после того, как его дом атаковал треножник, и горел желанием отомстить за гибель своих родителей. Чарльз был уверен, что со временем он стал бы надежным помощником отважного капитана Шеклтона. С грустной улыбкой Чарльз вспомнил, конечно, и его мелодичный, как перезвон колокольчиков, смех, которого он уже давно не слышал, — вселяющих надежду звуков, какими наполнен смех ребенка. Однако не только смех Гарвина вспомнился ему в этот вечер.
16 февраля 1900 года.
Мы находились в пути уже не менее двух часов, когда по узкому горлу туннеля, отразившись от его сырых стен, до нас долетел звук, который мы менее всего ожидали здесь услышать: детский смех. Мы недоуменно переглядывались, но с каждым нашим шагом воздух все больше наполнялся смеющимися голосами. Они звенели где-то вдалеке, сплетаясь воедино и пробуждая в нас забытое ощущение домашнего благополучия. Эти дети своим радостным и ломким смехом осмелились бросить вызов марсианам, отрицая конец света. Волнуясь все больше, мы заулыбались и прибавили шагу, ведомые звуками, которые совершенно не сочетались с местом, где мы находились, и, сливаясь с журчанием воды, казалось, превращались в нежную, чарующую и немного загадочную симфонию.
Вскоре мы их увидели: их было не менее дюжины, малышей в возрасте от четырех до восьми лет, которые самозабвенно играли на тесном пространстве между каналом и стенкой, едва заметные в сумрачном свете фонарей. На большинстве была скромная и грязная одежда, хотя трое или четверо были одеты весьма элегантно, словно только что покинули свою гувернантку, дожидающуюся их на скамейке парка. Однако никого из них, как видно, эта разница не беспокоила, поскольку они беззаботно играли, не замечая пока что между собой различий, какие замечаем мы, взрослые, причем даже неосознанно. Разбившись на группки вдоль дорожки, на фоне арок они казались участниками нескольких диорам: самые маленькие, взявшись за руки, водили хоровод и напевали известную детскую песенку; рядом с ними две девочки постарше играли в классики, нарисованные на грязном полу; чуть дальше другие две девочки крутили веревочку, через которую прыгала третья, с длинными косами, взлетавшими вверх при каждом ее движении; из темного туннеля вдруг выбежали несколько мальчиков вслед за обручем, который один из них подгонял палочкой, и, не раздумывая, вклинились в еще одну группу, соревновавшуюся в запуске волчков. Все они были настолько поглощены своими играми, что не обращали на нас внимания, пока мы не приблизились к ним метров на десять. Тогда они прекратили играть и уставились на пришельцев недоверчиво и даже с легкой досадой, потому что эти восемь взрослых, стоявших перед ними, могли помешать их забавам, словно по волшебству появившись в царстве, которое они, наверно, уже считали принадлежавшим только им и где единственными действующими правилами были правила их игр. Однако достаточно было вглядеться в них, чтобы понять, что очень скоро, когда новизна этой неожиданной свободы пройдет, их охватит страх при мысли, что они остались одни, без поддержки взрослых, став вдруг совершенно беззащитными. Спустя несколько секунд, в течение которых обе стороны с явным удивлением рассматривали друг друга, Эмма и Джейн с осторожностью многоопытных нянь подошли к ним и присели на корточки, чтобы находиться с ними на одном уровне.
— Здравствуйте, дети, — сладким голосом произнесла жена Уэллса и улыбнулась. — Меня зовут Джейн, а это моя подруга Эмма…
— Здравствуйте! — нараспев вторила ей Эмма. — Не бойтесь, мы не сделаем вам ничего плохого. Мы хотим только поздороваться с вами, ведь правда? — повернулась она к Джейн, и та энергично закивала, не переставая при этом улыбаться.
Дети продолжали смотреть на них широко открытыми глазами, не двигаясь с места. Но вот один из них вдруг разрушил неподвижность картины, начав яростно чесаться, и это привело к тому, что обруч, который он придерживал ногой, медленно покатился вперед и, покружив немного, оказался возле ног женщин, где и замер, звякнув напоследок своей латунью. Эмма не упустила возможности: она подняла обруч и сделала вид, что восхищена им.
— Какой замечательный обруч, — сказала она. — Когда я была маленькая, у меня был такой же, только из дерева, а этот, кажется… железный?
— Это обруч от бочки, мэм. Они катятся гораздо лучше, чем деревянные, и к тому же прочнее, — объяснил, по-видимому, самый старший из них — худенький парнишка с копной вьющихся волос, падавших ему на глаза.
— В самом деле? — проявила интерес Эмма. — А я не знала. И где ты его раздобыл… э-э-э… кстати, как твое имя, мальчуган?
— Керли, — неохотно пробормотал он.
— Кертис? — притворилась, что не расслышала, Эмма. Стоявшие рядом девочки хихикнули.
— Керли, меня зовут Керли… это из-за моих волос, понимаете[9]… — встряхнул кудрявой шевелюрой паренек и на удивление взрослым жестом протянул девушке руку.
— Рада познакомиться с тобой, Керли, — ответила Эмма и пожала ему руку.
— Я тоже, Керли, — вторила ей Джейн.
Остальные дети сгрудились за спиной у Керли.
— А меня зовут Хобо, — вдруг произнес самый маленький мальчик, похожий на воробушка. Его держала за руку девочка постарше.
Мы неподвижно стояли за женщинами, но не потому, что проход был слишком узок, а из-за нашего скудного опыта общения с детьми и ободряюще заулыбались малышу, что, впрочем, могло ему не понравиться.
— А я Маллори, — назвала себя девочка с косичками, которая прыгала через веревочку.
В конце концов это воодушевило остальных детей, и они начали робко представляться друг за другом. Эмма с Джейн ласково улыбались каждому, кто называл свое имя. Потом женщины представили нас. Дети равнодушно выслушали наши имена и оживились, только когда Джейн произнесла имя Уэллса. Послышались смешки, которые писатель воспринял с каменным выражением лица. Я предположил, что такая реакция была вызвана контрастом, какой являл собой мистер Уэллс в сравнении с остальными мужчинами нашей группы — рослыми, более крепкими и, что там говорить, более привлекательными, чем он.
— Очень хорошо, — сказала Эмма, когда представления были закончены. — А теперь, когда все мы познакомились и подружились, скажите мне: что вы делаете здесь одни?
Мальчуган по имени Керли удивленно уставился на нее.
— Мы играли, — сказал он как нечто само собой разумеющееся.
— А где ваши родители? Они наверху? — задала Эмма вопрос, интересовавший всех нас.
Керли решительно покачал головой.
— Нет? А где же они?
— Рядом, — коротко ответил мальчик.
— Рядом? Ты хочешь сказать, что они… здесь, внизу?
Керли утвердительно кивнул.
— Видимо, здесь прячутся и другие люди… — пробормотал рядом со мной Мюррей.
— Похоже… — откликнулся я.
— Мы должны вступить с ними в контакт, узнать, сколько их, — зашептал нам Клейтон, возбудившийся от возможности объединиться с другими людьми, сформировать более мощный отряд, обменяться сведениями, касающимися вторжения.
Агент отделился от нас и направился к детям, спрятав свою металлическую руку в карман пиджака.
— Прекрасно, дети, прекрасно, — приговаривал он, мягко отодвигая Эмму в сторону. — Стало быть, ваши родители находятся рядом. Вы можете отвести нас к ним?
Дети переглянулись. И Керли сказал:
— Можем.
Обрадованный Клейтон повернулся к нам:
— Они могут.
И с довольной улыбкой вновь перевел взгляд на детей, а те смотрели на него. Наступило молчание.
— Так чего же мы ждем? — осведомился наконец Клейтон с наигранным воодушевлением, словно не было в мире ничего, что могло бы заинтересовать детей больше.
Они с ужасающей серьезностью посовещались между собой, после чего по незаметному сигналу Керли построились и подошли к одному из боковых каналов. Керли пригласил нас следовать за ними кивком головы, который агент Клейтон тут же повторил для нас, как будто был отражением мальчика в зеркале, правда, довольно мутноватым. В течение нескольких минут мы послушно шли за детьми, шагавшими метрах в четырех-пяти от нас. По дороге они непрестанно скакали, прыгали, распевали детские песенки, словно быть проводниками им так надоело, что они должны были хоть как-то развлечься. Их высокие и нежные голоса эхом отзывались от стен туннеля, сливаясь в единый нестройный, но успокоительный гул, как по волшебству переносящий нас в мир, откуда нас изгнали марсиане, в мир, где мы строили свою жизнь, с его улицами, заполненными вечно спешащими экипажами, и парками, заполненными радостными детьми. Мир, который принадлежал нам. Мир, который приглянулся кому-то во Вселенной, о чем мы и не подозревали, и этот кто-то прилетел из космоса, чтобы отнять его у нас. Я попытался подбодрить себя тем, что этого еще не произошло, что многие из нас скрываются в подземельях, готовые к сопротивлению и, возможно, ожидая появления человека, который научит их сражаться. Тут я покосился на Шеклтона, шагавшего рядом с угрюмым лицом.
— Разве не замечательно, капитан? — решил я и его приободрить. — Люди скрываются под землей, как вы тогда… то есть я хочу сказать, как вы поступите в будущем.
Шеклтон равнодушно кивнул, ничего не ответив, и я не стал настаивать. Мы молча прошли еще несколько минут, после чего дети вдруг велели нам остановиться возле выходного отверстия узкой трубы, торчащего из стены туннеля. К нашему неудовольствию, они полезли в трубу, и нам не оставалось ничего другого, как следовать за ними согнувшись, чтобы не удариться головой. Похоже, этим туннелем уже не пользовались, он принадлежал к прежней канализационной системе и своими поворотами под прямым углом напоминал лабиринт. В итоге, когда мы уже начали думать, что этот проход бесконечен, мы вышли к огромному складу, заполненному строительными материалами. В глубине, за какими-то тюками, нас ожидала крутая лестница, ведущая куда-то вниз, в кромешную темень. Дети начали бесстрашно спускаться по ней, весело смеясь и подшучивая друг над другом.
— Куда, черт подери, они нас ведут? — воскликнул я, изнемогая от долгой ходьбы и чувствуя, как моя одежда с каждым мигом становится все более грязной и вонючей.
Но никто не мог ответить мне на этот вопрос. А вскоре мы подошли к просторному помещению со сводчатым потолком, где нас подстерегал, словно дракон из сказки, жуткий сырой холод. Комната была освещена несколькими лампами, подвешенными к стенам и колоннам, но темноту они почти не рассеивали, и потому было трудно понять ее истинные размеры.
— Пришли, — объявил Керли.
Мы изумленно рассматривали в темноте подобие крипты, которая, по-видимому, была пуста.
— Но… где же ваши родители? — спросил я у Керли.
— Здесь, — отвечал мальчик, обводя рукой помещение.
— Но здесь никого нет, Керли, кроме нас… — ласково возразила Эмма, следуя взглядом за его рукой.
— Они здесь, — упрямо настаивал Керли. — Уже давно здесь… Сбитые с толку словами мальчика, мы снова исследовали зал, старательно заглядывая в самые темные углы. Я уже хотел попросить его объяснить нам все по порядку, как вдруг Уэллс с Клейтоном, словно движимые общим предчувствием, сняли с ближайшей колонны светильники и осторожными шагами направились к задней стене. Заинтригованные, все мы пошли за ними, составив нечто похожее на траурный кортеж, в то время как дети остались стоять посередине комнаты. Приблизившись к стене, писатель и агент подняли светильники и стали внимательно обследовать каждый свою сторону. Благодаря направленному на стену свету мы смогли увидеть, что она разделена на квадраты, словно шашечная доска, и каждый из них украшен странными знаками, отдаленно напоминающими восточные. Уэллс провел светильником вдоль стены, дабы убедиться, что вся она покрыта квадратами, внутри которых выбиты непонятные знаки, испускающие красноватые отблески. Клейтон сделал то же самое на своей стороне.
— Боже мой… — сдавленным голосом пробормотал писатель.
— Святый Боже… — эхом вторил ему Клейтон.
— В чем дело? — спросил я, ничего не понимая.
Уэллс обратил к нам свое лицо, а затем опасливо покосился на детей, столпившихся в центре помещения.
— Они привели нас к своим родителям… Вот только родители для них — это их предки, — тихо проговорил писатель.
— Какого дьявола вы хотите сказать, мистер Уэллс? — воскликнул я.
— Смотрите, мистер Уинслоу. — Клейтон сделал знак, чтобы я подошел. — Как вы думаете, что это за квадраты такие?
— Не знаю, — поспешил ответить я, не желая играть в загадки.
— Ах, не знаете… — разочарованно протянул он и повернулся к писателю. — Зато вы, мистер Уэллс, знаете, не правда ли? Да-да, вам знакомы эти знаки, верно?
Писатель мрачно кивнул. Да, они были ему знакомы. Точно такие же он видел на обшивке корабля, спрятанного в Палате чудес.
— Это марсианские знаки, — сказал он. — А квадраты на стене — это могилы, мистер Уинслоу.
Могилы? Слова Уэллса поразили меня, так же как и остальных. Со смешанным чувством волнения и замешательства мы стали медленно поворачиваться вокруг своей оси, чтобы охватить взглядом все стены этого помещения, которые теперь представали перед нами прекрасной и необычной мозаикой мемориальных досок, закрывавших сотни высеченных в камне ниш.
— Выходит, мы попали на марсианское кладбище? — сказал Мюррей.
— Похоже, что так, сэр, — грустно отозвался Гарольд.
Я почти не слышал их. Мой разум пытался переварить эту странную идею, но все еще не был готов признать тот факт, что марсиане прилетели на Землю не только что, как я полагал, а жили среди нас с незапамятных времен. Но если мы находились сейчас в своего рода марсианских катакомбах, это означало, что дети, эта горстка детей были… О Боже… Они сгрудились в центре крипты, в нескольких метрах от нас, и с легким любопытством наблюдали за нашими действиями. Они привели нас туда, куда мы просили, и теперь, похоже, с некоторым равнодушием дожидались очередного нашего каприза, втайне надеясь, что мы позволим им вернуться к своим играм. И до сих пор я воспринимал их как детей с еще гладкой и чистой кожей и младенчески нежными телами. Таких же, как наши дети: хрупких, невинных, человечных. Не тут-то было. Они только с виду были похожи на наших детей. И хотя мне было трудно это переварить, наверное, потому, что до сих пор ни один марсианин не менял свой облик у меня на глазах, все же я заметил, что остальные мои товарищи, в отличие от меня, не ведали колебаний: они смотрели на детей с суровыми лицами, изо всех сил стараясь скрыть страх.
— Не хватает одного ребенка… — услышал я рядом голос Эммы.
— Верно… — подтвердила Джейн.
— Все ясно, — не терпящим возражений тоном заявил Клейтон. — Не будем впадать в панику. Воспользуемся ситуацией. Да, именно так и поступим. И долой испуганные выражения на лицах, не то очаровательные марсианские детишки что-то заподозрят. Не хочу видеть на ваших лицах Ничего, кроме спокойной улыбки.
Последнюю фразу он произнес хриплым шепотом, прозвучавшим как угроза. Затем прочистил горло, словно оперный тенор перед выходом на сцену, и беззаботной походкой направился к детям. К марсианским детям, следовало бы добавить.
— Послушай…. э-э… Керли, — позвал он, присев на корточки. — Вы что же, здесь живете?
Керли повернул к нему кудрявую головку.
— Нет, конечно. Что вы! — возмутился он. — Мы живем наверху. Но сегодня мы не могли играть на поверхности, потому что Он сказал нам, что это опасно, вот мы и спустились сюда.
— Понятно, понятно, чтобы спокойно играть и не бояться, что может произойти что-то плохое, — успокаивающе произнес Клейтон и хитро улыбнулся нам, прежде чем продолжить разговор. — А кто такой Он, Керли? Тот, кто вам это сказал?
— Это Посланник, сэр. Тот, кого мы ждали… Тот, кого ждали также и они, — сказал мальчик, указав на могилы.
— О, понимаю… И долго вы его ждали?
— Да, сэр, долго… Мы уже начали думать, что он не придет.
— Понимаю… — Клейтон облизал губы и обменялся многозначительным взглядом с Уэллсом, словно оба они владели какими-то тайными сведениями. — А Он что, тоже… находится внизу?
— Да, — не задумываясь ответил Керли.
Клейтон проглотил слюну.
— Прекрасно, прекрасно, — заулыбался он. — И вы можете отвести нас к Нему?
— Зачем? — Керли недоверчиво взглянул на агента. — Вы хотите убить Его за то, что он с вами делает?
— Убить? Ну конечно же нет, Керли, — ответил агент и невольно замахал здоровой рукой. — Как тебе только такое в голову пришло?
— Тогда зачем?
— Чтобы поговорить с Ним, Керли. — Агент пожал плечами, показывая, что не придает этому большого значения. — Только для этого.
— Чтобы поговорить о чем?
— Ну… в общем, о взрослых вещах… — заколебался Клейтон. — Вам они в любом случае неинтересны.
— Вы думаете, мы ничего не поймем? — спросил Керли тоном, в котором угадывалась легкая угроза, показавшаяся мне особенно неприятной в сочетании с нежным детским голоском.
— Я этого не сказал, Керли…
— Потому что я думаю, мы прекрасно все поймем…
— Одного ребенка не хватает… — вновь услышал я тихий испуганный голос Эммы за моей спиной.
Я вгляделся в маленькую группку, застывшую на месте и дожидавшуюся окончания разговора между Керли и агентом Клейтоном. В ее сосредоточенности было что-то такое зловещее, такое бесчеловечное, что поневоле становилось жутко.
— Понятно, понятно… — успокаивал Клейтон Керли. — Я уверен, что так оно и есть, однако…
— Мы умнее, чем вы думаете… — негромко твердил мальчик, устремив взгляд своих темных, до ужаса пустых глаз на агента, который вдруг зашатался, едва не потеряв равновесие, — и разбираемся в вещах, которые вы никогда бы не смогли постичь…
— Ради всего святого! Хватит! — вскричал Мюррей. Он сунул руку мне в карман, выхватил оттуда пистолет и, прежде чем я успел среагировать, в два прыжка оказался перед Керли и приставил ему оружие ко лбу. — Слушай меня хорошенько, сопляк: я не знаю, что ты там понимаешь и вообще что ты за птица, но, честно говоря, это меня абсолютно не интересует. Единственное, что я сейчас хочу узнать, это кто несет ответственность за проклятое вторжение и как нам до него добраться. И вы, дорогие детки, поможете нам его найти… Иначе можешь не сомневаться: я выстрелю. Если я что-то и ненавижу больше, чем марсиан, так это детей.
Откуда-то из глубины комнаты послышался смех. Потом чей-то голос произнес:
— Вы способны разрушить самое святое — невинность ребенка? Разве не сказано в вашем Священном Писании: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное»[10]?
Мы вглядывались в окружавшую нас тьму, пытаясь увидеть того, кому принадлежал этот голос. Но тут мрак еще больше сгустился, и мы со страхом обнаружили, что окружены более чем двумя десятками людей. Это были по большей части мужчины среднего возраста, принадлежавшие, судя по их одежде, к самым разным слоям общества. Не успели мы опомниться, как дети мгновенно спрятались за ними, и оказалось, что Мюррей целится в воздух. Тот, кто заговорил с нами, стоял шага на два впереди остальных. Это был величественный старец, носивший черные одежды с брыжами. В отличие от других, поглядывавших на нас с откровенной неприязнью, старый проповедник довольно улыбался. Я заметил, что он держит за руку маленького Хобо, который в какой-то момент, очевидно, побежал предупредить взрослых, пока остальные нас отвлекали. Своими песнями и прыжками эти проклятые дети завели нас в ловушку. Краем глаза я увидел, что Мюррей направил пистолет на говорившего, и тут же Клейтон, Гарольд и Шеклтон последовали его примеру. Я же всего лишь придвинулся к ним поближе, ругая себя за то, что так глупо лишился своего оружия и теперь не мог участвовать в активных действиях.
— Какая трогательная, истинно человеческая жестокость, — похвалил старик, заметив, что все наши пистолеты направлены на него. — Вы что же, всерьез думаете, что чего-нибудь добьетесь, если откроете по нам огонь?
Те из нас, кто был вооружен, переглянулись, не зная, что делать, но пистолеты не опустили. Наше упорство позабавило старика, и он умиротворяюще воздел кверху морщинистые руки.
— Прошу вас, джентльмены… Не вынуждайте нас перейти к вашему уничтожению, вы же знаете, что мы можем это сделать. Предлагаю вам сложить оружие и сдаться, — посоветовал он медоточивым голосом. — Тот, кто это сделает, заслужит Его милосердие: «Остановитесь и познайте, что Я Бог», псалом 46, стих 10[11], — продекламировал он с бесконечно благочестивой улыбкой. — В конце концов, я всего лишь собираюсь отвести вас туда, куда вы желаете попасть: Он так же хочет познать вас, как вы его. Особенно одного из вас… — Он сделал несколько шагов по направлению к нашей группе и протянул вперед руки ладонями вверх. — Отправимся к Нему с миром, братья и сестры: «В Твоей руке дни мои; избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лице Твое рабу Твоему», — отчеканил он, с непонятной нежностью глядя на Уэллса, а в конце шепотом добавил: — Псалом 31, стихи 15 и 16[12].
XXXVII
Проснувшись на следующее утро, Чарльз обнаружил, что лежит лицом в луже крови. Должно быть, ночью произошло носовое кровотечение, догадался он по толстому струпу, образовавшемуся на губах и во рту и имевшему непонятный металлический привкус. Когда он попробовал вытереться рукавом пиджака, два из немногих сохранившихся во рту зубов отделились от десен и прикрепились к ткани диковинными украшениями. Он с трудом поднялся, ощущая холод и одновременно страшную духоту. Обычный процесс дыхания превратился для него в пытку: горло было воспалено, а легкие, казалось, начинены раскаленными углями.
После завтрака марсиане опять повели их в глубины пирамиды. По всем членам его группы было заметно, что накануне они находились под воздействием зеленого излучения. Почти не глядя друг на друга, возможно, потому, что они стеснялись своего плачевного вида, или же оттого, что никто из них не желал убедиться в том, что он такое же страшилище, как и остальные, они шагали по уже знакомому длинному туннелю, хотя в какой-то момент Чарльзу показалось, что они пошли по другому ответвлению, прорытому глубже и ведущему в недра земли. Он чувствовал ужасную слабость и головокружение, но знал, что это связано не только с потерей крови или колющей болью, сотрясавшей время от времени его потрепанные легкие. В воздухе пирамиды было растворено что-то ядовитое не только для тела, но и для души. Оно иссушивало ее и разлагало. Если бы у него хватало сил для поэтических сравнений, он сказал бы, что этот воздух способен заставить увять любую память о счастье, какое могло бы расцвести в нашем мире. Но, возможно, вы сейчас не расположены к поэзии, так что считайте, что вам повезло: жалкие силенки, какие у него еще оставались, он должен был потратить на то, чтобы шагать, по очереди переставлять ноги и не отставать от горстки изнуренных людей, которые едва тащились, словно накрытые мрачным саваном безмолвия. Куда их ведут на сей раз? — подумал он. После ужасного вчерашнего зрелища Чарльзу было трудно поверить, что его глаза могут увидеть что-нибудь более жуткое. Что еще могли продемонстрировать сегодня марсиане? Какие новые кошмары, какие изощренные уродства, какие отвратительные зверства могли изобрести они, чтобы потрясти его и без того израненную и оцепеневшую душу? Никаких, сказал он себе, абсолютно уверенный, что не существует на свете ничего ужаснее зрелища вчерашних новорожденных, погруженных в забвение.
Разумеется, он ошибался.
Как только они вошли в зал, располагавшийся в конце туннеля, заливавшее его зеленое сияние вновь заставило их зажмуриться. Когда же они смогли открыть глаза, прикрывая воспаленные веки ладонями, то увидели резервуары, выстроившиеся вдоль стен. Они уходили вверх, в темноту недостижимого свода, и тоже содержали тела, но не новорожденных.
В этих высившихся ровными рядами резервуарах, из которых, как из кирпичей, состояла стена, плавали тела сотен обнаженных женщин. По большей части они были молоды и располагались очень тесно друг к другу, составляя ужасные ряды, когда их головы почти касались ног женщин из соседней колонны. Казалось, все они спят, впав в тревожное оцепенение, глаза у них были закрыты, и только волосы чуть шевелились, словно водоросли в мутной жидкости, сквозь которую виднелась бледная размягченная плоть. Чарльз заметил, что рот у всех был чуть приоткрыт, но никаких признаков дыхания, свидетельствовавших, что жизнь в них еще теплилась, не обнаружил. Но с еще большей гнусностью он столкнулся, когда увидел провода, начинавшиеся у них между ног. Это были те же самые провода из кожи, которые он видел у новорожденных на месте пуповины и которые сквозь сливные отверстия в дне аквариумов достигали, как теперь он знал, интимных мест женщин, проникая в их спящую утробу. Сотни и сотни проводов спускались сверху, извиваясь в адском океане, словно ужасные морские змеи, и в конце концов скрывались в безмолвном чреве этих уснувших весталок. «Боже, почему ты нас покинул?» — прошептал Чарльз. Неверными шагами подошел он к жуткой витрине, прижался к стеклу, или чем там был странный материал, из которого она была сделана, и стал наблюдать за плавающими внутри неподвижными телами, вытянутыми и белесыми, словно подготовленными для бальзамирования, и рисующими на фоне зеленого потока пустую пентаграмму. Тут он почувствовал, что ноги его не держат, и сделал нечеловеческое усилие, чтобы выправиться и не потерять сознания. Он не допустит, чтобы его отправили в воронку, прежде чем он закончит свой дневник или, по крайней мере, прежде чем взорвется его душа, не в силах вынести столько ужаса. С большим трудом ему удалось унять головокружение, а тем временем в его голове, сквозь шум, производимый стучащей в висках кровью, уже раздавались приказы, отдаваемые охранниками.
Насколько он понял из долетавших до его смятенного сознания слов, работа, которую им надлежало выполнять сегодня, была той же самой, что вчера: менять жидкость в аквариумах. Подстегиваемые окриками марсиан, узники унылой вереницей двинулись в сторону склада, где хранились бочки. Казалось, они шагают под водой, настолько замедленными были их движения. Так же раздражающе медленно тянулось и время. Чарльз работал как автомат в течение всего дня, показавшегося ему нескончаемым. Он был настолько обессилен, потрясен и подавлен, что ему не раз казалось, будто он видит себя со стороны, а в какой-то момент на него напал такой кашель, что глаза у него затуманились, и он подумал, что сейчас потеряет сознание и грохнется наземь. Когда приступ прошел, он заметил на земле, возле своих ног, лужицу зеленоватой крови, в которой плавали еще два зуба.
Один из охранников приказал ему продолжать работу и при этом резко толкнул, так что он чуть не упал. Упершись в свою бочку, Чарльз покатил ее по туннелю, однако после приступа кашля сделался таким слабым и в то же время возбужденным, что его начали одолевать бессвязные мысли, проблески воспоминаний, обрывки снов, абсурдные образы, проносившиеся в его воспаленном мозгу, как это часто бывает в полусне. По прихоти его подсознания один из них перенес его на Всемирную выставку в Чикаго, на которой он побывал семь лет тому назад. Там решился исход так называемой «войны токов» — борьбы за первенство в сфере электроэнергии между эдисоновской «Дженерал электрик», отстаивавшей преимущества постоянного тока, и «Вестингауз электрик», чей основатель ратовал за переменный ток, который впервые применил Никола Тесла. «Вестингауз» представила в два раза меньшую смету расходов по освещению выставки, чем «Дженерал электрик»: в итоге Тесла получил наконец свой главный шанс, и тысячи посетителей, а среди них и зачарованный юный Чарльз, смогли восхититься генераторами, динамо-машинами и двигателями переменного тока, которые в будущем должны были осветить весь мир, навсегда победив царство тьмы.
Электричество, подумал Чарльз, остановившись у аквариумов, это одно из величайших достижений науки, призванных превратить человека в абсолютного владыку Вселенной… Он с грустью посмотрел на провода, начинавшиеся между бедер у несчастных женщин и уходившие к потолку, и прикинул, что они, похоже, находятся под тем, другим, залом, где располагаются аквариумы младенцев. Не подключены ли женщины к своим детям, составляя с ними некую безумную электрическую цепь, передающую заряженные энергией частицы от одного полюса к другому, как в бредовой человеческой динамо-машине? Вот что, стало быть, создали марсиане — огромную человеческую батарею, используя предполагаемую энергию, которую мать и дитя передавали друг другу, энергию их мозга, древней связи, обусловленной материнством, чтобы привести в действие свои машины? Чарльз почувствовал, как к его горлу подступают рыдания, когда понял, что все, что ему привиделось в бреду, может оказаться правдой, и эти паразиты покушаются на саму природу человека. Марсиане заставляли их женщин зачать и родить ребенка, чтобы потом погрузить обоих в зеленоватую жидкость, обрекая на вечную передачу потока частиц, которые, возможно, заражали мир ядом нечеловеческой ненависти. Он молча плакал, двигая рычагами, с помощью которых опорожнял баки и одновременно опустошался сам. Он тихо плакал, не имея больше сил на ярость, не испытывая уже ни страданий, ни страха. Плакал, не зная даже, что слезы, бежавшие по его щекам, были зеленого цвета.
И вдруг в одном из углов аквариума он увидел ее. Охранники в это время отвлеклись, и он смог подойти и рассмотреть женщину вблизи, отделенный от нее лишь на толщину этой прозрачной стенки, о которую сейчас бешено билось его сердце. Это была несомненно она. Он узнал ее, несмотря на то, что длинные черные волосы плавали вокруг лица, словно предвестники мрака. Он смотрел на изящный профиль камеи и вспоминал недовольную гримаску, частенько украшавшую ее лицо при жизни, это строптивое выражение, когда она морщила нос и надувала губки, эту немного угрюмую мину, заставившую его почувствовать неистовый порыв желания, когда он впервые ее увидел: Люси представила ему свою подругу во время второй экспедиции в будущее, как раз перед тем, как они, возбужденные и радостные как дети, поднялись в «Хронотилус», чтобы присутствовать при триумфе капитана Шеклтона. И он вспомнил, какой он видел ее в последний раз в подвале: одетая в изысканное платье из зеленого шелка и еще не ведающая, что такого же цвета будет ее саван, она, встав на цыпочки, обнимала за шею своего мужа и шептала ему на ухо слова прощания, которые должны были остаться с ними навсегда, — последние слова, которые они сказали друг другу… И вот теперь она оказалась здесь, связанная с ребенком, которого зародил в ней незнакомый мужчина. Неизвестно было, сохраняет ли она в этой своеобразной спячке хотя бы остатки сознания, знает ли, где находится, думает ли о ребенке, которого не может обнять, или, возможно, о капитане, надеясь когда-нибудь вновь с ним увидеться. Ему было известно лишь то, что марсиане превратили ее в прекрасную наяду, чьи вечные муки приводили в действие машину. Было очевидно, что на этой стадии смерть могла означать для нее только освобождение.
Вечером, вернувшись в свою камеру, Чарльз понял, что не выдержит еще одного дня в недрах пирамиды. Поэтому он заставил себя взять в руку перо, хотя все последующие страницы оказывались усеянными каплями крови, которые чуть поблескивали зеленым и превращали торопливо написанные им слова в грязные неразборчивые пятна. Он сомневался, что тот, кто найдет дневник, сумеет хоть что-нибудь понять из его последних страниц, однако все равно продолжал писать, стараясь отвлечься от вопроса, терзавшего его всякий раз, как он делал перерыв, погружаясь в воспоминания: сказать или нет? Сказать отважному капитану Шеклтону, что он нашел его Клер?
17 февраля 1900 года.
В течение долгих минут марсиане, возглавляемые стариком в брыжах, вели нас по бесчисленным галереям, пока мы не вышли к своего рода перекрестку, где сходилось несколько коридоров. Сбоку от него виднелась закрытая дверь, и священник направился к ней, не переставая любезно улыбаться нам. Он открыл дверь и пригласил нас внутрь. Мы вошли в просторную комнату, обставленную так, как на нашей планете обставляется кабинет: в ее центре, устланном мягким ковром, возвышался массивный письменный стол, заваленный папками и книгами, среди которых поблескивал острый нож для разрезания бумаг, лежавший рядом с глобусом на золоченом пьедестале и небольшой лампой; стены были увешаны картами земных материков, а в разных местах комнаты стояли кресла в стиле короля Якова, всякие столики и шкафы, набитые бумагами.
— Подождите, пожалуйста, здесь, — вежливо попросил наш проводник. — Он сейчас придет.
После этих слов старик с почтением посмотрел на писателя.
— Рад познакомиться с вами, мистер Уэллс, пусть даже при таких обстоятельствах, — произнес он благовоспитанным тоном. — Я большой почитатель вашего творчества.
Это признание поразило нас почти так же, как писателя, который, тем не менее, тут же оправился от неожиданности и со всей холодностью, на какую только был способен, заметил:
— В таком случае надеюсь, что, когда мои книги будут уничтожены вместе со всем остальным, это огорчит вас так же, как и меня.
Священник немного смутился и не сразу ответил.
— Да, это будет одна из тех вещей, о которых я буду особенно сожалеть, уверяю вас, — признался он наконец, сокрушенно покачивая головой. — Оплакивать утраченную красоту — очень человеческий обычай… Знаете ли вы, мистер Уэллс, что когда звезда погибает, ее свет продолжает распространяться в пространстве еще тысячи и тысячи лет? Вселенная долго помнит о своих утратах… но не оплакивает их. Потери тоже необходимы. Хотя я и буду оплакивать вас, когда вы исчезнете. Да, я буду оплакивать вас за все то прекрасное, что вы способны создавать, иногда неосознанно… — Он огорченно обвел глазами группу. — Мне очень жаль. Я сожалею, что не могу предложить вам иного утешения. Хорошего и справедливого утешения, какое пастырь предлагает своей пастве. Но я не могу… не могу. Все мы подчиняемся законам космоса.
Он грустно улыбнулся нам на прощанье и ушел, осторожно прикрыв за собой дверь, словно перед этим уложил нас всех сонных в кроватки. Мы слышали, как он раздавал распоряжения, вероятно, тем, кто должен был нас охранять, но, сколько всего их было, мы не поняли.
— Полагаю, вы и не мечтали о столь эрудированных читателях, — пошутил Мюррей, когда мы остались одни.
Уэллс даже не улыбнулся в ответ, да, по правде говоря, никто из нас не откликнулся на шутку. Вместо этого все мы, словно сговорившись заранее, глубоко вдохнули в себя воздух, как будто проверяли объем своих легких, а затем одновременно выпустили его, и получился один коллективный вздох. Это, несомненно, свидетельствовало о том, что мы внезапно осознали всю тяжесть ситуации, в которую попали. И любой читатель легко поймет, что мы уже считали наше положение безнадежным: мы были заперты в комнате и ждали появления марсианина, который, похоже, руководил вторжением, и все относились к нему с сугубой почтительностью, едва ли не с благоговением. Мы не знали, зачем он хочет нас видеть, но понимали, что находимся в его власти. Как он будет выглядеть? — подумал я, вспомнив расплывчатые описания марсиан, сделанные моими товарищами. Но тут же понял, что любая попытка представить себе его внешность — пустое занятие, так как он наверняка явится перед нами в земном обличье, особенно если его цель — вступить с нами в контакт. И, наверное, пришла пора признать один факт: то, что все марсиане сновали вокруг нас в человеческой оболочке, сильно мешало мне испытывать по отношению к ним страх, чего они, несомненно, заслуживали. Укрывшиеся под личиной обычных людей, эти инопланетные существа казались мне такими же привычными, как кабинет, где царил невинный бюрократический дух, хотя, похоже, именно отсюда осуществлялось руководство вторжением. Таким образом, мое хладнокровие объяснялось скорее отсутствием воображения, нежели избытком смелости. Я страстно желал увидеть марсианина в его истинном виде, потому что, каким бы странным это ни показалось читателю, мне нужно было его бояться.
— Так вот, значит, где скрываются их лазутчики от боевых действий, происходящих на поверхности… — произнес Уэллс. — Вот почему марсианин, упавший из окна в Скотленд-Ярде, смог бесследно исчезнуть!
— Ну да, потому что он забрался в канализацию, — продолжил Мюррей.
— Прекрасно, значит, мы близки к цели! — неожиданно заявил Клейтон, который, пока Уэллс с Мюрреем вели непонятный для меня разговор, как одержимый мерил кабинет своими длинными шагами. — Лучших условий для осуществления нашего плана не придумать.
— Нашего плана? — переспросил Мюррей. — Какого еще плана? Если мне не изменяет память, мы собирались бежать из Лондона, агент Клейтон.
— Верно, мистер Мюррей, собирались, — ответил он, подняв палец, очевидно довольный тем, с каким вниманием относился к нему миллионер во время нашего бегства. — Но дороги не всегда приводят нас туда, куда мы хотим прийти. Иногда они ведут нас туда, куда мы должны прийти.
— Вы не могли бы перейти к делу, агент? — обратился к нему Уэллс, не дожидаясь, пока все мы потеряем терпение.
Клейтон кивнул с видом человека, которого начали утомлять постоянные требования объяснений.
— Понятно, что я имел в виду план, придуманный мною, когда нас вели сюда эти очаровательные детки, — разъяснил он и жестом подозвал нас к себе, одновременно поглядывая с опаской на дверь. Сгорая от любопытства, мы обступили его, и Клейтон поднял вверх свою металлическую руку, в то время как второй одернул рукав пиджака, словно иллюзионист, желающий продемонстрировать, что не прячет там карту. — Взгляните. Внутри этой руки спрятано мощное взрывчатое вещество. Мне достаточно нажать на маленький контакт, чтобы все это помещение взлетело на воздух.
Мы недоуменно уставились на него, спрашивая себя, уж не собрался ли агент взорвать комнату прямо сейчас, чтобы помочь нам избежать вероятных страданий.
— Не бойтесь. В мой план не входит убить вас, — успокоил он. — Еще в указательный палец моей руки вставлена маленькая дымовая капсула. Когда появится Посланник, я отвинчу ее, и вся комната в считанные секунды наполнится дымом. Вы должны будете воспользоваться этим, чтобы убежать. И только когда я буду уверен, что все вы покинули комнату, я приведу в действие взрывное устройство. И оба мы погибнем.
Изумленное молчание воцарилось в кабинете. Наконец его нарушил Мюррей, выразив все наши беспорядочные мысли в одном вопросе:
— Вы спятили, Клейтон?
— Никоим образом, мистер Мюррей, — невозмутимо ответил агент.
Но завеса молчания была прорвана, и все мы наперебой начали выражать свои сомнения в успехе столь сумасбродного плана.
— Побойтесь Бога…
— Не может быть, чтобы он всерьез такое предлагал, правда, Берти?
— Вы сказали, что устроите какую-то дымовую завесу?
— Ну разумеется, он это не всерьез, Джейн… По-моему, сейчас не время шутить, Клейтон!
— И вы пожертвуете собой, чтобы уничтожить этого марсианина?
— Это самый удачный способ, поскольку от дыма наши глаза… Агент резко вскинул руки.
— Замолчите! Вы слышали, что я сказал. Я взорву устройство, и оба мы, Посланник и я, в тот же миг погибнем, — заявил он, демонстрируя ужасающее безразличие к собственной жизни.
— А как же охранники в коридоре? — полюбопытствовал миллионер, которого будущая судьба Клейтона, похоже, не слишком волновала.
Агент повернулся к Шеклтону.
— Вы сможете заняться ими, не правда ли, капитан? — сказал он. Шеклтон открыл было рот, но так и не нашелся, что сказать в ответ на эту демонстрацию поистине безграничного доверия. — Если вы сумеете достаточно быстро выбежать отсюда и напасть на них, они не успеют перевоплотиться, и вы легко с ними справитесь. В человеческом обличье они не представляют собой ничего особенного, я уж их повидал. Надеюсь, что мистер Мюррей, мистер Уинслоу, кучер… и даже мистер Уэллс смогут вам в этом помочь. После этого вы должны будете вывести всех наверх.
— О боже, Клейтон! — в сердцах воскликнул Уэллс. — Вы забыли своего друга из Скотленд-Ярда? За этой дверью находится не менее пяти-шести монстров… если не больше. Что, по-вашему, может противопоставить им капитан Шеклтон, не важно, с нашей помощью или без нее?
— Ну что же, вам придется действовать побыстрее, — пожал плечами агент с таким видом, будто эта часть плана его совершенно не касалась и он делал нам великое одолжение, растолковывая ее. — Подумайте сами, ведь на вашей стороне будет фактор неожиданности, марсиане не ожидают, что вы выскочите из кабинета… Вы захватите их врасплох. В общем, я не думаю, что самое трудное в плане заключено в этих деталях, вы согласны? Особенно если принять во внимание ту его часть, которая относится ко мне, — несколько раздраженно подытожил он.
Уэллс, Мюррей и Шеклтон, как по команде, вздохнули. Гарольд разочарованно покачал головой, словно агент явился на прием в неподобающем костюме. Дамы, казалось, находились на грани то ли слез, то ли истерического смеха. Я в растерянности уставился на агента. Какая-то часть меня хотела довериться ему: разве не этого я так страстно желал, так упорно защищал наперекор общему скептицизму с того самого момента, как встретился с капитаном в погребе моего дядюшки? Речь шла о плане по уничтожению захватчиков. И вот такой план появился. В конце концов, решалась наша судьба… Однако другая часть меня, по-видимому более разумная и здравомыслящая, буквально кричала мне, что это совсем не тот план, на который я рассчитывал, и что если мы доверимся Клейтону, то попросту попадем под начало сумасшедшего.
— Прошу прощения, агент… — вступил в разговор я, желая как-то прояснить ситуацию и про себя надеясь, что предложенный план только с виду кажется безумным и что стоит лишь хорошенько разобраться в нем, как мы оценим его гениальность. — Но что нам даст уничтожение нескольких марсиан в туннелях, если наверху нас поджидает мощная армия, которая, возможно, к этому моменту уже захватила всю планету?
— Речь идет не просто о нескольких марсианах, мистер Уинслоу. Среди них будет и Посланник. Что вы, в самом деле… Разве вы не слышали, что сказали дети? Никто из вас не обратил на это внимания? Все они ждали его на протяжении поколений… Вторжение не началось, пока он не прибыл на нашу планету. Или пока он… не проснулся, — загадочно добавил он. — Но это сейчас не важно. А важным для нас является то, что его присутствие играет основополагающую роль в успехе вторжения. Поэтому следует предположить, что после его уничтожения марсианское войско станет достаточно дезорганизованным, и любое восстание под вашим руководством, капитан Шеклтон, приведет к разгрому марсиан. — После этих слов агент снова повернулся ко мне с улыбкой, показавшейся мне не совсем нормальной. — Вот каким образом мы одолеем их, мистер Уинслоу. И мы оба знаем, что мой план приведет нас к успеху, хотя бы потому, что он нас к успеху уже приводил.
Я ошеломленно молчал. Что я мог сказать в ответ, если мои собственные слова и доводы в его устах звучали бредом сумасшедшего?
— Агент Клейтон, — обратился к нему Уэллс удивительно мягким тоном, — ваш дух самопожертвования поистине достоин похвалы. Однако я не думаю, что мы можем позволить вам отдать свою жизнь за нас. Я уверен, что если мы внимательно изучим обстановку, то отыщем другой способ, который…
— Мистер Уэллс, — столь же деликатно перебил его Клейтон, — когда мы остановились на ночлег в моем убежище, я мог выбрать там любой из моих протезов. Как вы, наверно, помните, их у меня около дюжины разных, и у каждого свое предназначение. Но выбрал я именно этот, взрывчатую руку, которую заказал года два назад, уже имея за спиной достаточный опыт, чтобы понимать, что рано или поздно какой-нибудь из моих врагов поставит меня в такое положение, когда предпочтительнее будет принести себя в жертву, нежели попасть ему в лапы. Однако сейчас я ясно вижу, для чего заказал такую руку и почему решил использовать ее именно сегодня. Все наши поступки имеют смысл, нет ничего случайного, как верно заметил мистер Уинслоу, — сказал он, показывая на меня обеими руками, словно я был ярмарочный уродец. — По сути дела, он единственный среди нас с самого начала сумел разглядеть наши судьбы. Именно вам, мистер Уинслоу, я обязан своим вдохновением. — Я поежился, опасаясь, что на меня устремятся обвиняющие взгляды моих товарищей. — То, что все мы собрались здесь, не может быть случайным. Я не знаю, что предстоит сделать каждому из вас. Зато я хорошо знаю, что следует сделать мне: безусловно, я должен уничтожить Посланника. И, как в шахматах, партия закончится гибелью короля. Если я этого не сделаю, нашествие продолжится, и, боюсь, тогда уже никто не сможет его сдержать.
С этими словами он указал на одну из стен кабинета, где висели две карты. Мы нерешительно приблизились, чтобы как следует рассмотреть их. Одна из них представляла собой план Лондона, на котором многочисленными красными крестиками были отмечены успехи треножников. Эта карта подтвердила то, о чем мы подозревали еще в Примроуз-Хилл: наша столица уже принадлежала им. Однако вторая карта ужаснула нас еще больше, потому что это была карта мира. Красными оспинами крестов была усеяна вся планета. Австралия, Индия, Канада и Африка, а также и другие страны, не принадлежавшие к колониям Британской империи, над которой никогда не заходит солнце, были теперь захвачены марсианами. Через несколько недель они станут полновластными хозяевами всего нашего мира. И тогда, как сказал Клейтон, уже никто не сможет их остановить. Мы будем искоренены, мы исчезнем с планеты Земля. Да, человеческая раса улетучится, как будто никогда не существовала, как будто все века ее истории ничего не значили в контексте Вселенной.
Клейтон сурово посмотрел на нас. Его план был, конечно, нелеп, но что мы могли предложить взамен? Тут агент обратил наше внимание на странный аппарат в противоположном конце кабинета, и все мы с любопытством приблизились к нему. На столике орехового дерева лежал прямоугольный предмет размером примерно с книгу, над которым поднимался, словно дым над костром, голубоватый туман, приобретавший в воздухе форму парообразного яйца. Как зачарованные глядели мы на дрожащий эллипс в пурпурных и темно-синих тонах, внутри которого перемещались светлые точки и странные фосфоресцирующие каракули, но не понимали, что перед нами.
— Если не ошибаюсь, это карта Вселенной, — сказал Клейтон. Он все еще находился во власти вдохновения, снизошедшего на него, как только он переступил порог кабинета.
Все были поражены, обнаружив, что перед нами не просто прекрасная и одновременно затейливая фигура, сотканная из дыма, но точная копия космоса. Каждая из светящихся крупинок, что усеивали зеленоватое облако, представляла собой отдельную галактику с ее миллиардами звезд, располагавшихся рядами или гроздьями. Галактики эти имели форму изящного сверкающего вихря, поблескивающего цветка розы, светящейся морской раковины и даже шляпы или сигары. Зачарованный Уэллс дотронулся до аппарата, и нерешительное прикосновение его пальцев привело к тому, что масштаб этой газообразной карты увеличился. Внезапно небосвод окутал нас, словно блестящий тюль. Мы с восторгом разглядывали плечи друг у друга, словно расшитые созвездиями, а в это время сквозь нас проносились безвредные стрелы комет. Я заметил на руке у Эммы сверкающую бабочку какой-то туманности, в волосах у Джейн запутались звездные скопления, а на пиджаке Мюррея угнездились Персеиды. Как любознательный ребенок, Уэллс провел рукой в обратном направлении, и карта вдруг стала съеживаться, свертываться, словно от испуга, в кокон, пока не остановилась на среднем размере, позволявшем нам любоваться космосом во всем его великолепии и со всеми подробностями. Я отыскал нашу Солнечную систему с ее планетами, вращающимися вокруг Солнца, которая оказалась сведена к нескольким пылинкам, пляшущим в луче света. И на третьей от Солнца пылинке находились мы, заброшенные на задворки Вселенной и мнящие себя хозяевами пространства, чьи размеры и границы превосходят наше воображение. Признаюсь, я вдруг почувствовал себя ничтожным, убедившись в необъятности небосвода, этого обширнейшего сада, расстилавшегося за моим окном и продолжавшегося там, куда не достигали глаза наших телескопов. Но тут, после новых манипуляций Уэллса, который никак не мог утихомириться, из тумана появилась алая полоска, похожая на драгоценную нить, которая сновала от планеты к планете, и те по очереди окрашивались в красный цвет и уменьшались на наших глазах в тот момент, когда нить совершала прыжок к следующей планете. Мы поняли, что эта линия обозначала путь во Вселенной, проделанный вторгшейся к нам расой, во время которого она захватывала и поглощала планеты, и казалось, этот процесс бесконечен. Это был космический исход, последним пунктом которого, к нашему ужасу, стала маленькая голубая планета Солнечной системы.
Здесь я должен прерваться, чтобы разъяснить читателям, что именно тогда все мы поняли: наши захватчики, судя по тому, сколь долог был их путь сквозь вечную ночь Вселенной, прилетели не с Марса, а из какого-то другого места, куда более отдаленного и невообразимого. Но мы все равно даже сегодня продолжаем именовать пришельцев марсианами, возможно, по привычке или же потому, что чисто по-детски отказываемся признать их бесспорное величие, из последних сил стараясь хоть как-то проявить свою непокорность, или же попросту потому, что человек не в состоянии осознать ужас, пока не установит для него близлежащие и привычные границы. Но как бы то ни было, слово «марсианин» представляет для нас все то, что мы сейчас ненавидим и чего страшимся.
Но вернемся в кабинет, в центре которого пульсировала Вселенная. Наблюдая за тем, как алая линия достигает Земли и окрашивает ее в красный цвет, я, конечно, ощутил страх, смешанный с грустью. Но если быть откровенным, то на самом деле мою душу потрясло нечто похожее на чувство униженности, вызванное, мне кажется, тем, что я могу определить только как космическую безучастность, которой все мы страдаем. Мы живем себе на нашей никчемной планетке, увязшие в своих войнах, гордые своими достижениями и абсолютно чуждые величию космоса и далекие от сотрясающих его конфликтов.
— Вот это настоящая карта неба… — сказала Эмма. — Думаю, мой прадед был бы сильно разочарован…
— Никто не смог бы вообразить космос таким, Эмма, — поспешил утешить ее Мюррей. — За исключением мистера Уэллса, разумеется. — Он с улыбкой повернулся к писателю. — Только ты представлял себе Вселенную такой, Джордж, — не без ехидства заметил он. — Помнишь наш спор два года назад, когда я просил тебя помочь с публикацией моего романа? Ты сказал мне, что описанное мною будущее никогда не станет реальностью, потому что оно неправдоподобно. Я с трудом воспринял твои слова, ибо больше всего на свете хотел научиться воображать себе, какой будет жизнь через несколько лет. Да, я хотел стать мечтателем. Таким, каким был для меня ты. Но теперь могу сказать тебе, что больше не завидую твоему дару…
— Я бы все отдал за то, чтобы ошибиться тогда, Гиллиам, — сухо ответил писатель.
— А я бы все отдал за возможность сказать вам, что воображение человека считается во Вселенной одним из драгоценнейших качеств, — произнес чей-то голос у нас за спиной, — но это было бы неправдой.
Мы повернулись к двери, на фоне которой вырисовывался темный силуэт. Увидев его, мои товарищи задрожали словно листья под внезапным порывом ветра, ибо поняли, что это мог быть только Посланник, проникший в комнату в человеческом обличье.
— Боюсь, вы единственные, кто так считает, — продолжал он, не двигаясь с места, — и это логично, учитывая, что у вас только одна точка отсчета — вы сами. Однако Вселенная — место, где обитают многочисленные расы с самыми разнообразными достоинствами, в большинстве своем непостижимыми для вас, и могу вас заверить: в сравнении с ними человеческое воображение не такая уж ценная вещь, чтобы оплакивать его утрату. Вам следует больше путешествовать.
Мы молчали, не зная, что на это ответить, как, впрочем, и того, ожидает ли Посланник какого-либо ответа с нашей стороны. И хотя он по-прежнему держался в тени, я заметил, что оболочка, которую он себе избрал, чтобы расхаживать по земле, принадлежала далеко не здоровяку, а скорее тщедушному человеку. Замухрышке, если называть вещи своими именами. Но что-то в нем не давало мне покоя: его голос казался мне удивительно знакомым.
— Хотя должен признать, что ваше воображение, мистер Уэллс, сильно превосходит средние показатели для людей, — заметил Посланник, адресуясь теперь к писателю. После этого он сделал шаг вперед, попав наконец под свет лампы, и мы смогли увидеть его лицо. — Правильнее будет сказать — наше воображение.
Мы оторопело разглядывали Посланника, как две капли воды походившего на мистера Уэллса. Неожиданно увидеть перед собой его двойника, который, засунув руки в карманы, улыбался той самой довольной и одновременно скептической улыбкой, что была так характерна для писателя, было для нас серьезным испытанием. Но, разумеется, наше замешательство не шло ни в какое сравнение с тем, что испытал настоящий Уэллс. Неподвижный как статуя, писатель молча, с бледным перекошенным лицом взирал на свою копию. Как понимает читатель, его растерянность была абсолютно оправданной, ведь он увидел самого себя без посредства зеркала и под таким углом, какой зеркалу совершенно недоступен. Впервые в жизни он увидел себя со стороны, точно так, как видели его остальные. В общем, он увидел себя так, как никому еще никогда не удавалось себя увидеть. Реакция писателя заставила его двойника рассмеяться.
— Полагаю, вы не ожидали, что я предстану перед вами в облике мистера Уэллса, поскольку он пока что жив. — Посланник насмешливо вгляделся в наши растерянные лица. — Для меня тоже стала сюрпризом весть о том, что человек, чью внешность я на время одолжил, желает меня видеть, и вот я прибыл сюда, в наше скромное убежище. — Посланник пригладил свои усики, как это иногда делал настоящий Уэллс, и расплылся в довольной улыбке. — Впрочем, не хотел бы умалять чужие заслуги, называя скромным убежищем эту сеть туннелей, параллельных обычным коллекторам, что с несравненным мастерством были построены нашими братьями, проникшими в ряды инженеров и рабочих той эпохи. Этот потаенный мир скрыт за другим подземным миром, расстилающимся под ногами у Лондона. Как если бы ваша замечательная Алиса последовала за кроликом дважды… Одно зеркало позади другого, вам не кажется? По-моему, вы, люди, весьма склонны находить прекрасными такого рода идеи и образы.
Уэллс продолжал смотреть на него с искаженным лицом. Казалось, он близок к обмороку.
— Как?.. — наконец выдавил он из себя.
Этот вопрос, похоже, растрогал его двойника.
— О, простите мою невежливость, мистер Уэллс. Наверное, вам хочется узнать, как мне удалось сделать вашу копию, — произнес он и вновь пригладил усики. — Хорошо. Позвольте, я просвещу вас на сей счет. Вы ведь уже поняли: мы способны принимать различные формы живых существ. И только смерть может показать нас такими, каковы мы на самом деле. Да, только смерть срывает с нас маску, и потому наши предки решили соорудить отдельное кладбище здесь, внизу. Чтобы превращение осуществилось, нам достаточно располагать всего лишь одной капелькой вашей крови. Этого нам хватает. Заполучив ее, мы обычно избавляемся от донора. Здесь мы педантичны. Мы не хотим выдать себя внезапным появлением на свете подозрительных близнецов.
— Боже мой… — прошептала Эмма. — И дети, они тоже?..
— Разумеется, мисс, — учтиво ответил Посланник. — Хотя это не самая удобная форма для нас: детское тело не сулит больших преимуществ, но иногда у нас просто не было другого выхода, и приходилось дублировать детей. Да, оригиналы, естественно, мертвы. Правда, родители никогда не оплакивали потерю, потому что не подозревали о ней. Разве что иной раз им казалось, что их дети вдруг стали гораздо умнее или что их стало труднее контролировать… — Посланник засмеялся знакомым смешком писателя, только, пожалуй, в более мрачной версии. — Однако мистер Уэллс дал мне свою кровь, хотя я об этом не просил и не сумел его впоследствии убить. Вот почему сейчас два Герберта Джорджа Уэллса находятся в этом недостойном его месте.
— Он дал вам кровь? — воскликнул Мюррей. — Но каким, к дьяволу, образом он это сделал?
— Воспользуюсь понятием, которое существует только у вашей расы: случайно, — ответил Посланник, презрительно взглянув на миллионера. После чего вновь переключил свое внимание на писателя. — Но, как я уже объяснил, в остальной Вселенной понятия случайности не существует. Таким образом, с более возвышенной точки зрения, мы могли бы сказать, что вы дали мне свою кровь, мистер Уэллс, потому что должны были ее дать. Потому что так было суждено, если прибегнуть к одному из самых распространенных ваших выражений.
— Перестаньте философствовать и объясните, как я это сделал, — резко потребовал Уэллс, неожиданно выйдя из задумчивости.
— А вы не знаете? — Его двойник вздохнул и покачал головой, изображая то ли разочарование, то ли пробудившийся интерес. — Конечно, не знаете. Возможно, вам поможет такой факт: я прибыл на вашу планету почти семьдесят лет назад, но последние восемнадцать лет провел в тесном саркофаге Музея естествознания.
— Я так и знал! Он не был мертв! — воскликнул Клейтон и, воспользовавшись случаем, встал напротив Посланника. — Наши ученые ошиблись. Но как вы это сделали? Как проснулись?
Посланник приподнял брови, удивленный таким внезапным напором, но тут же на его губах вновь заиграла холодная улыбка.
— Как раз это я и собирался вам рассказать, — заметил он, в то время как Клейтон старательно прятал свою металлическую руку за спину, чтобы его собеседник не обратил на нее внимания. — Разумеется, я не был мертв, как это только что признал наш проницательный агент. Я находился в состоянии, похожем на то, что вам известно под названием спячки. Меня привезли в Лондон в глыбе льда из Антарктиды, где потерпел аварию мой летательный аппарат, и сочли мертвым, но мне нужна была всего лишь капля крови, чтобы снова восстать к жизни. И мистеру Уэллсу было угодно поделиться ею со мной. Должно быть, на теле у него была открытая ранка, которая каким-то образом соприкоснулась с моим телом… Как бы то ни было, этого оказалось более чем достаточно. В результате я смог начать известное вам вторжение. Вторжение, которое, не случись так некстати авария, началось бы гораздо раньше. — Он взглянул на писателя с наигранной жалостью. — Да, мистер Уэллс, благодаря вам я сумел продолжить миссию, которая привела меня на вашу планету, но я не единственный, кто должен вас поблагодарить. Весь наш народ должен воздать вам по заслугам, и прежде всего братья, которые жили на Земле на протяжении всех этих столетий. Начиная с шестнадцатого века, если быть точным, когда сюда прибыли первые добровольцы — им было поручено взять Землю под охрану и оценить ее как будущее пристанище нашей расы. Это рискованная и зачастую весьма неблагодарная миссия, поскольку мои братья умирают. — Он сделал театральный жест, изображавший скорбь. — Да, избыток кислорода в вашей атмосфере губителен для нашей расы, и потому Земля никогда не рассматривалась как возможное наше прибежище. Но планет с оптимальными условиями уже не осталось, и мы должны удовлетвориться колонизацией тех миров, которые могут быть приспособлены для будущего обитания. После соответствующих преобразований ваша планета послужит пристанищем не одному поколению. Для этого я и прибыл — чтобы организовать захват Земли и подготовить ее к прибытию нашей расы. Если бы не ваш бескорыстный поступок, мистер Уэллс, я бы не проснулся вовремя, и наша колония на вашей планете через одно-два поколения исчезла бы. Вот видите, Земля продолжала бы жить до тех пор, пока сама бы не разрушилась.
Слова Посланника буквально раздавили Уэллса, причем даже в физическом смысле: он как-то сгорбился, еще больше побледнел, руки у него дрожали. Джейн обняла его, мы же взирали на него скорее удивленно, чем осуждающе.
— Но не огорчайтесь, мистер Уэллс! — утешал его Посланник, в то время как Клейтон готовился отвинтить свой пресловутый указательный палец. — Вы не виноваты, по крайней мере, в том смысле, который земляне вкладывают в это слово. Про-сто-напросто, несмотря на то что все вы принадлежите к куда менее развитой расе, отдельные умы выделяются среди прочих, как, например, вы, мистер Уэллс. Говоря в понятных вам терминах, вы обладаете умом, способным устанавливать контакт со Вселенной, настраиваться на то, что мы могли бы определить как высшее сознание, природа которого, очевидно, недоступна вашему пониманию. То есть делать то, что абсолютно недостижимо для остальных ваших соплеменников, за редким исключением, как я уже сказал. Хотя, разумеется, и сами вы не знаете, как это у вас получается. — Он ласково улыбнулся писателю. — Я знаю, что вы постоянно спрашиваете себя, почему с вами или по вашей вине происходят те или иные вещи. Но, мистер Уэллс, вещи не происходят ни с вами, ни из-за вас. Чтобы вам было понятнее, скажу, что… вещи происходят через вас.
— Что все это значит, черт побери? — стал допытываться Мюррей, который, очевидно, тоже заметил приготовления Клейтона. — Вы намекаете на то, что все мы тут, кто не обладает внешностью Герберта Джорджа Уэллса, низшая раса? Думаете, наверно, что мы не в состоянии понять вашу болтовню? Но, по-моему, все мы прекрасно вас понимаем.
— Вы так думаете? — Лже-Уэллс бросил высокомерный взгляд на Мюррея, заметно недовольный тем, что тот его перебил. — Если вы можете воспринять мои слова, то только потому, что я веду разговор на вашем уровне, используя самые элементарные понятия. Можно сказать, что я беседую с вами так же, как вы беседовали бы, к примеру, со спящим или пьяным.
— За что же я удостоен такой чести, что вы захотели поговорить со мной, хотя я и не пьян? — запальчиво произнес Уэллс. Он явно пытался дерзить.
Я украдкой бросил взгляд на приготовления Клейтона, и сердце мое так забилось, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. Агент начал отвинчивать свой фальшивый палец и незаметно чуть отдалился от нас, но зато приблизился к Посланнику. «Черт побери, Клейтон, да действуй же!» — хотел я крикнуть ему, не в силах больше сдерживать нервное напряжение.
— Все дело в любопытстве, — услышал я ответ Посланника, а тем временем агент начал приподнимать свою механическую руку. — Ваш мозг не похож ни на один из тех, что принадлежали моим прежним хозяевам, причем я имею в виду не только то, что вы умнее или наделены более богатой фантазией, нежели те, в кого я вселялся до сих пор. Нет, речь идет о том, что ваш мозг снабжен… как бы это назвать? Механизмом, какого больше ни у кого нет. И я хочу знать, для чего он нужен. Хотя догадываюсь, что вы сами этого не знаете.
Клейтон замер, услышав эти слова, и красноречиво посмотрел на Уэллса, но что он хотел сказать этим взглядом, я не понял. Какое-то время, показавшееся мне бесконечным, писатель молчал, а затем повернулся к Посланнику.
— А почему это вызывает у вас такой интерес? — спросил он. — Вы не появились бы здесь, если бы не боялись, что я могу это как-то использовать.
Посланник вздрогнул от неожиданности, но тут же опомнился и изобразил на лице восхищенную улыбку.
— Вы исключительно умный гуманоид, мистер Уэллс. И вы совершенно правы. Мы разговариваем с вами сейчас не потому, что вы вызываете у меня любопытство. Нет, конечно. Мы разговариваем, потому что вы вызываете у меня… страх.
Мы уставились на Уэллса, но он ничего не сказал. Только сурово взглянул на Посланника.
— Да-да, мистер Уэллс, — продолжал Посланник. — Вы обладаете уникальным свойством вызывать страх у существа, во всех отношениях бесконечно более высокого, чем человек. Хотите знать почему? Да потому, что я копирую не только внешность того, у кого позаимствовал его кровь. Я копирую также его мозг и все то, что этот ларец содержит: воспоминания, способности, мечты, желания… То есть точно воспроизвожу оригинал. Поэтому теперь мне достаточно покопаться в извилинах вашего мозга, чтобы узнать о вашем детстве больше, чем вы сами о нем знаете, чтобы обнаружить там маленькое чувство, выдаваемое за любовь к своей жене, чтобы наткнуться на самые постыдные ваши желания, чтобы рассуждать, как вы, и даже так же писать… Потому что я — это вы, со всем, что это подразумевает, со всем вашим величием и ничтожеством. И мозг, находящийся в моей черепной коробке, идентичен вашему, он также снабжен механизмом, о котором я говорил. Я не знаю, для чего он служит, и это меня страшит. Как бы вам объяснить? Представьте, что вы вскрыли вульгарного таракана и обнаружили в его крошечном нутре нечто неизвестное и необъяснимое. Разве вы не ощутили бы страха, безмерного страха?
— Не знаю, воспринимать ваши слова как оскорбление или как комплимент, — пошутил писатель с ледяным спокойствием.
Посланник грустно улыбнулся.
— Этот механизм может служить для ускорения роста помидоров на вашем огороде, а может — для уничтожения нашей расы, я не знаю, — с усталым вздохом сказал он. — Но меня тревожит другое, мистер Уэллс. В вашей голове содержится нечто такое, чего нет ни у одной расы во Вселенной. Нечто неизвестное для нас, полагавших, что нам все известно. Это означает, что Вселенная не такова, какой мы ее считаем, что до сих пор остались тайны, неведомые нашей расе… Тайны, которые, быть может, помогут сокрушить нас. — Посланник помолчал, погрузившись в свои мысли, а затем пожал плечами и принял смиренный вид. — Впрочем, вероятно, я чересчур сгущаю краски. Теперь, когда я обнаружил, что вы живы, а не погибли во время вторжения, все может благополучно разрешиться. Когда наша раса переселится на Землю, наши ученые вскроют вам мозг, и загадка будет решена. Мы узнаем, что спрятано в вашей голове, мистер Уэллс, и, возможно, перестанем вас опасаться.
Отвернувшись от бледного Уэллса, Посланник по очереди вгляделся в нас, словно генерал, производящий смотр своему войску.
— Что касается вас, я рад, что вижу перед собой такие крепкие и здоровые экземпляры, ибо мы нуждаемся в рабах, которые помогут нам построить новый мир на развалинах старого.
— К сожалению, я должен развеять ваши мечты, — неожиданно произнес Клейтон.
И тут мы поняли, что, хотим мы того или нет, наш сумасбродный план побега начал осуществляться, и напряглись, готовясь как можно лучше исполнить ту его часть, что относилась к нам. Агент поднял металлическую руку, словно намеревался остановить мчащийся паровоз, и спустя секунду выпустил струю дыма прямо в лицо Посланнику, который исчез за образовавшейся между нами и им дымовой завесой.
— Быстрее покидайте помещение! — крикнул Клейтон.
Словно вооруженные невидимым тараном, мы атаковали дверь. Первым шел Шеклтон, за ним Мюррей и женщины, которых он прикрывал своей широченной, как у медведя, спиной, а за ними следовали писатель, Гарольд и я. К несчастью, я совершил ошибку, посмотрев назад, где сквозь стену дыма сумел разглядеть, что Посланник начал менять свой облик. Словно какая-то волшебная сила заставила меня остановиться. Со страхом и в то же время зачарованно наблюдал я, как росла и резко менялась фигура лже-Уэллса, что сопровождалось мелкими судорожными движениями. В считанные секунды он превратился в жуткое четвероногое чудовище размером со слона, снабженное к тому же чем-то вроде длинного и толстого хвоста. Оглушительный рев убедил меня в том, что оно обладает еще и мощной глоткой. И вдруг из дыма, окутавшего почти всю комнату, вынырнул хвост монстра — зеленый, толстый, усеянный шипами, извивавшийся в воздухе, словно бич. Наугад шаря вокруг в поисках чего-нибудь, за что можно было бы уцепиться, хвост нанес удар Клейтону, сваливший его с ног, и потянулся ко мне. Будучи под воздействием гипноза, я даже не среагировал. Хвост мгновенно обмотался вокруг моей шеи, и я почувствовал, как мои ступни оторвались на несколько сантиметров от пола. Я почти не мог дышать, и у меня все поплыло перед глазами. Отчаянно болтая ногами, я пытался освободиться от этого живого лассо, но все мои усилия оказывались тщетными. Я понял, что еще немного, и я умру задушенный или, в лучшем случае, лишусь сознания. Но прежде чем это случилось, в поле моего зрения попал Гарольд, сжимавший в руке нож для разрезания бумаги, который он схватил с письменного стола. Метким ударом, очевидно потребовавшим от него напряжения всех сил, он вонзил нож в хвост чудовища. И хвост отпустил меня, задергавшись в воздухе, а я свалился на пол, как куль с мукой, и, хотя у меня кружилась голова, успел заметить, что мой противник обвился теперь вокруг шеи кучера. Он так сдавил ее, что нож выпал из руки Гарольда. Я попытался встать, чтобы подобрать нож и повторить его подвиг, но ноги меня не держали. Единственно, что мне удалось, это подняться на колени и бессильно наблюдать за тем, как чудовищный хвост уволакивает Гарольда в дымную мглу.
Признаюсь вам, что до сих пор вспоминаю обращенный ко мне отчаянный взгляд старого кучера, когда его поглощала тьма. И мне показалось, не знаю, правда, было ли это истинным воспоминанием или чем-то, что мое воображение, подстегиваемое угрызениями совести, добавило позже, что в его глазах мелькнуло удовлетворение, гордость оттого, что он меня спас, отдал за меня жизнь, до конца исполнив долг верности слуги перед своими хозяевами. И мне хотелось бы отметить здесь, что, хотя жить мне осталось недолго, этой жизнью, пусть и в рабских условиях, я обязан умершему ради меня слуге, которого я всегда только как слугу и воспринимал, не подозревая, что за его бесстрастной исполнительностью может скрываться искреннее чувство. Покойся же в мире, Гарольд Баркер, верный кучер семьи Харрингтонов, твое мужество и самоотверженность достойны более проникновенных похвал, чем те, которые могут выйти из-под моего неуклюжего пера.
А теперь вернемся к самой сцене. Из тумана до меня донесся зловещий хруст костей, сопровождаемый сдавленным стоном кучера. Я огляделся вокруг, но из-за густого дыма, который напустил агент, не мог определить место, где тот упал, сбитый с ног хвостом монстра, а потому не знал, то ли он лежит без сознания, и тогда наша судьба по-прежнему остается в руках марсианина, то ли, наоборот, дымную мглу вот-вот прорежет вспышка света, похожая на пламя шелкового китайского фонарика, сигнализируя, что агент привел в действие свой план и через считанные секунды мы взлетим на воздух. Но я решил не терять времени на выяснение этого и заковылял к двери. Продравшись сквозь клочья дыма, я наконец вырвался наружу. И словно попал в театр посреди действия: как раз в этот момент капитан Шеклтон мощным ударом кулака сбил с ног одного из двоих марсиан, охранявших вход. В нескольких метрах от него Мюррей всем своим весом придавил к полу второго стража. Должно быть, следуя рекомендациям Клейтона, он напал на противника внезапно, и теперь оба отчаянно боролись, безжалостно потчуя друг друга тумаками. Но именно в это мгновение миллионеру удалось захватить голову марсианина, прежде чем тот успел начать превращение, и резко повернуть ее. Хруст шейных позвонков кратким эхом отразился от стен. Мюррей встал и отвернулся от нас. Он тяжело дышал и покачивался от усталости. Прижавшись к стене, Уэллс и обе женщины, бледные, потрясенные жестокой схваткой, наблюдали за происходящим. Быстро оглядевшись, я убедился, что больше охранников нет, и возблагодарил небеса за то, что человек в брыжах посчитал достаточным поставить у дверей всего двух марсиан.
— Быстрее! — крикнул я своим товарищам и кинулся к ним. — Мы должны выбраться отсюда!
Мы поспешили к туннелю, которым нас привели сюда, страшась в любую минуту услышать у себя за спиной ужасный взрыв. Но вместо этого мы услышали животный рев, оглушительный, наполненный дикой злобой и тревожно близкий. Поскольку я замыкал отступление, то, обернувшись, увидел чудовищную фигуру Посланника, возникшую в дверях кабинета. И снова убедился, что его истинный облик поистине ужасен. У него была зеленоватая, переливающаяся цветами радуги шкура, усеянный шипами спинной хребет и снабженные громадными клыками челюсти, откуда свисали окровавленные лоскутья мяса. В общем, было очевидно, что прикончить нас всех ему было раз плюнуть.
— Бегите! Бегите! — отчаянно завопил я.
— Бегите! — словно эхо, повторил Клейтон, который, к моему удивлению, в этот момент поравнялся со мной и стал обгонять.
— Что за черт! — прокричал я ему в спину, когда мы вслед за остальными вбегали в боковой туннель. — Агент Клейтон! А как же ваш план со взрывчаткой?
— Я придумал план намного лучше, мистер Уинслоу! План, который решит все вопросы! Но мне нужна помощь мистера Уэллса, и я посчитал, что если погибну там, внутри, то не смогу попросить его об этом, разве что посредством спиритизма!
Бежавшие впереди нас Уэллс и Мюррей повернули к нам головы и удивленно посмотрели на агента.
— Моя помощь? — с трудом выдавил из себя писатель. Щеки у него пылали, он тяжело дышал, раскрыв рот, словно рыба, вытащенная из воды. — Вы полагаете, сейчас самое подходящее время для подобных объяснений?
— Сожалею, что мне не пришло это в голову раньше, мистер Уэллс! — отозвался агент, размеренно и почти без усилий передвигая свои длинные ноги.
— Боюсь, вам придется немного подождать, агент: как вы понимаете, мы не можем сейчас останавливаться! — крикнул Мюррей, бежавший как-то странно: немного сгорбившись и прижав к животу руки. — Быстрее! Быстрее! — подгонял он женщин, опережавших его на несколько метров. — Бегите и не оглядывайтесь!
Стоило ему произнести это, как я автоматически повернул голову назад. Монстр находился метрах в тридцати от нас, перемещаясь огромными прыжками, а вслед за ним мчался один из часовых, охранявших двери кабинета, который тоже начал превращаться в страшного дракона. К сожалению, выведя его из строя, Шеклтон действовал далее не столь решительно, как Мюррей. За одним из поворотов мы достигли места, где туннель разделялся на четыре рукава. Мы в растерянности остановились и поискали глазами капитана в надежде, что он укажет нам нужный путь, но Шеклтон, похоже, находился в таком же неведении, что и мы.
— Сюда! — неожиданно произнес чей-то голос.
Из темноты одного из туннелей возник человек с брыжами, делавший нам знаки. Мы переглянулись, не зная, можно ли доверять ему или это ловушка. Но у нас не было времени обсуждать этот вопрос: прыжки наших преследователей с каждым разом раздавались все ближе, и их жуткие тени, гигантские и уродливые, уже плясали на одной из стен, предвещая их скорое появление из-за поворота.
— Следуйте за мной! — крикнул Шеклтон и вбежал в туннель, на который указывал священник.
Мы бросились За ним. Ловушка нас ждала там или нет, было уже не важно.
— Идите прямо по этому туннелю! — услышал я голос священника. — Быстрее, нельзя терять время! Этот канал выведет вас прямо к реке, и вы никого не встретите по дороге, я проверял! А я их задержу.
— Почему вы это делаете? — изумленно спросил я, обернувшись. Его лицо вдруг озарилось. Не глядя на меня, он тихо сказал:
— Я отец Джероне Бреннер и не помню, чтобы когда-нибудь был кем-то еще. Я уже был старым, когда родился, а теперь и вовсе слишком стар, чтобы измениться… Ступай с миром, сын мой. Ступай с миром. — Он сделал несколько шагов, встал посредине входа в туннель, и начал декламировать звучным голосом: — «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец»[13].
Клейтон схватил меня за руку, крикнул скупое «спасибо, отец» и потащил за собой. Следуя за агентом, я то и дело оборачивался и смотрел на старика, стоявшего там, словно хрупкое деревце, и старавшегося, чтобы его псалмы перекрыли гул шагов, доносившихся из соседнего туннеля. Но вот он спокойно и невозмутимо раскинул руки, и его пальцы превратились в острые когти, что стало прелюдией к метаморфозе, которой тут же подверглось все его тело. Вынырнув из туннеля, к нему мощными прыжками приближались две махины — его собратья. Дальше я не захотел смотреть. Я последовал за своими товарищами, шлепая по воде, затопившей низ коридора. Оглушительный, нечеловеческий рев у нас за спиной, зловеще повторяемый эхом вдоль всего коридора, возвестил о начале смертельного поединка между инопланетными монстрами. Мы как безумные помчались по туннелю, пока звуки борьбы не начали стихать и с каждым разом слышались все дальше. Невозможно было узнать, что там происходит, хотя, полагаю, никто из нас не поставил бы на священника. И тут Мюррей, похоже, оступился и, остановившись в нерешительности, прислонился к стене. Мы повернулись к нему.
— В чем дело, Гиллиам? — задыхаясь, спросил Уэллс.
— Бегите, бегите… Я сейчас вас догоню… Просто мне нужно чуть-чуть передохнуть, — признался Мюррей, пытаясь выдавить из себя улыбку. Он был страшно бледен и, согнувшись в три погибели, прижимал руки к животу.
— Ты спятил, Гиллиам? Как это мы оставим тебя? — встревожилась Эмма. — Да что с тобой?
— Ничего, Эмма. Все в порядке. Мне только нужно немножко… — Внезапно силы ему изменили, и он рухнул на колени, продолжая придерживать руками живот.
Он поднял на нас глаза и под нашими удивленными взглядами расстегнул пиджак. Мы обнаружили страшную рану, вспоровшую его живот, а он виновато улыбался нам с видом человека, пролившего вино на жилетку. Эмма закрыла рот руками, чтобы не закричать. Из жуткой раны выглядывали какие-то окровавленные узелочки — судя по всему, части кишок. Кровь обильно лилась из рваного отверстия, пропитывая брюки. «Как он смог столько пробежать в подобном состоянии?» — подумал я. Только человек, всеми силами стремящийся спасти свою жизнь, способен на такое.
— К сожалению, марсианин, которого я убил, успел преобразовать по крайней мере одну из рук, — проговорил он, устремив угасающий взор на девушку. — Я не хотел осматривать рану раньше, боялся, что она окажется серьезной… И еще я не хотел оставлять тебя одну, Эмма, ты уж прости.
Эмма опустилась рядом с ним на колени, не сводя перепуганных глаз с его жуткой раны и все еще не веря, что она настоящая. Ее гладкие белые руки вспорхнули над этой столь несвоевременной дырой и опустились на рану с намерением заткнуть ее, точно она надеялась, что этого простого приема будет достаточно, чтобы Мюррей отказался от своей нелепой идеи умереть. Однако жизнь уже начала выходить из него вместе с красными струйками, пробивавшимися сквозь ее бледные пальцы. Эмма испустила утробный стон, в котором смешались боль, злость и бессилие. Потом в отчаянии обняла Мюррея так, как я никогда не видел, чтобы люди обнимали кого-то.
— Нет, Гиллиам, не умирай… Ты не можешь умереть!.. — рыдала она и яростно била его кулаками в грудь. Она, наверное, убила бы его, если бы таким образом можно было вернуть ему жизнь.
Внезапно вдалеке раздался поистине громовой победный рев, заставивший нас поднять головы, от него кровь застыла у нас в жилах. Через несколько секунд до нас донесся оглушительный топот, производимый гигантскими чудовищами, которые мчались в нашу сторону. Не нужно было быть чересчур догадливым, чтобы понять, кто одержал победу. Через несколько минут победители настигнут нас. И похоже, что их больше, гораздо больше двух. Эта озверелая свора не пощадит никого, так что все мы могли уже прощаться с жизнью.
— Агент Клейтон… — с трудом произнес Мюррей. Струйки крови, стекавшие у него из уголков рта, окрашивали волосы девушки, все так же тесно прижавшейся к нему. — Я не знаю, какой новый план вы придумали, но есть лишь один способ претворить его в жизнь. Я останусь здесь, и когда марсиане приблизятся ко мне, взорву вашу окаянную руку… Таким образом я избавлю вас от некоторых из них, а кроме того, надеюсь, разрушу туннель, и они уже не смогут преследовать вас этим путем… Вы получите возможность убежать…
— Нет, Гиллиам! Нет! — запротестовала девушка.
— Эмма… — еле ворочая языком, проговорил Мюррей. — Ты знаешь, как я обожаю с тобой спорить, любовь моя, но сейчас для этого не слишком подходящий момент… Уходи, уходи вместе с ними, прошу тебя…
— Никуда я не пойду, Гиллиам. Я останусь с тобой, — решительно произнесла девушка.
— Нет, Эмма, спасайся…
— Ты же сам сказал, что сейчас не слишком подходящий момент для споров… Так что не будем спорить, — всхлипнула она. — Я остаюсь с тобой. И что бы ты ни говорил, это не заставит меня изменить свое решение…
Мюррей погладил ее по голове неверной рукой.
— Я самый несносный человек на свете, с каким только можно вместе пережить марсианское нашествие, но ведь пережить, а не погибнуть?
— Мое воспитание не позволяет мне ответить вам, мистер Гилмор, а моя мораль — солгать. Выводы делайте сами, — ответила она дрогнувшим голосом.
Мюррей улыбнулся ей с бесконечной нежностью, и их губы встретились, в то время как огромные руки миллионера скользили по спине девушки, уже не в силах ее обнять. Мы тактично отвели глаза. К несчастью, времени уже ни на что не оставалось. И на сей раз не знаменитому писателю Герберту Джорджу Уэллсу и не специальному агенту Клейтону было суждено остановить марсиан.
— Агент Клейтон… — позвал Мюррей, когда его и Эммины губы разъединились и девушка вновь зарыдала у него на груди. Его голос звучал совсем глухо и печально: — Не поймите меня неправильно, но я хочу попросить вашей руки.
Агент улыбнулся впервые за все время нашего знакомства. Он торопливо отвинтил протез и вручил его Мюррею.
— Нажмете вот тут, когда сочтете необходимым, — напутствовал он, указав на какой-то рычажок.
— Так и сделаю, агент, — заверил Мюррей и на прощанье обвел всех нас лихорадочным взглядом, задержавшись в конце на Шеклтоне. — Позаботьтесь о них, капитан. Я в вас верю.
Шеклтон утвердительно кивнул.
— Мне очень жаль, что я не ответил тогда на твое письмо, Гиллиам, — извиняющимся голосом проговорил Уэллс. — Если бы я получил его сейчас…
— Спасибо, Джордж, — улыбнулся от неожиданности миллионер. Уэллс сделал шаг вперед и с поразившей нас резкостью протянул ему руку.
— Я очень рад, что познакомился с тобой, Гиллиам, — сказал он, произнеся эти слова скороговоркой как человек, считающий глупым демонстрировать свои чувства.
Мюррей пожал ему руку, возможно, радуясь тому, что еще в состоянии скрыть, как сильно тронуло его это неожиданное выражение приязни. Потом он повернулся к Эмме и, почти без сил, в последний раз попытался ее уговорить:
— А теперь уходи, любовь моя, я прошу. Живи…
— Я не собираюсь жить без тебя… — с мучительной твердостью ответила девушка.
— Ты и не будешь, Эмма, — заверил Мюррей, гладя ей волосы дрожащей рукой, которой уже отчасти водила смерть. — Клянусь, ты не останешься одна, потому что я собираюсь так или иначе вернуться. Не знаю как, но готов поклясться, что вернусь. Однажды мне это уже удавалось, удастся и на этот раз, любимая. Я вернусь к тебе. Ты почувствуешь, как я обнимаю тебя, улыбаюсь тебе, забочусь о тебе в каждое мгновение твоей жизни…
Однако эти слова привели лишь к тому, что Эмма еще теснее прижалась к умирающему. Тот с мольбой посмотрел на нас. Вероятно, не было таких слов, с помощью которых можно было бы уговорить ее бежать вместе с нами. Мы переглянулись, но никто не решался, прибегнув к силе, оторвать ее от Мюррея. Клейтон посмотрел в глубь туннеля, откуда на нас надвигались чудовища. Полагаю, он прикинул, что в нашем распоряжении осталось еще по меньшей мере две-три минуты, потому что неожиданно откашлялся и опустился на колени рядом с ними.
— Мисс Харлоу, — заговорил он мягким тоном, — позвольте сказать вам, что это не просто метафора. Как вам известно, мой отдел занимается всем тем, чего не может понять разум, так что вы должны мне поверить, если я скажу, что в некоторых случаях то, что утверждает мистер Мюррей, случается на самом деле. Бывает такая великая любовь, которая оказывается сильнее смерти.
Эмма повернулась к агенту и молча окинула его взглядом.
— Если бы вы когда-нибудь влюблялись, то знали бы, что это не может принести мне утешения, агент, — сказала она с легким раздражением. — Так что, при всем к вам уважении, идите-ка вы ко всем чертям!
Клейтон смотрел на нее с печалью и сожалением, никогда не думал, что на лице человека подобного склада может появиться такое живое, почти человечное выражение. Я не знал, правду ли он сказал и действительно ли сталкивался со случаями, когда любовь была способна преодолеть рубежи смерти, или же просто высказал единственное, что пришло ему в голову, чтобы убедить девушку, то есть сочинил красивую ложь, дабы попытаться спасти ей жизнь. Как бы то ни было, на Эмму его слова не произвели никакого впечатления. В конце концов агент поднялся и посмотрел на Мюррея, словно прося разрешения применить к девушке силу, коль скоро все другие способы исчерпаны. Но миллионер покачал отрицательно головой и с отрешенной, смиренной улыбкой из последних сил обнял Эмму. Этим было все сказано. Затем Мюррей, не обращая на нас внимания, начал нашептывать что-то на ухо своей возлюбленной, по ритму напоминавшее колыбельную, и хотя никто из нас не мог ясно расслышать слов, все мы увидели, как девушка сразу же перестала плакать. Не отнимая головы от его груди, Эмма заговорщически улыбалась. Уютно устроившись в гнезде из его рук, умиротворенная и задумчивая, далекая от мыслей о смерти, приближавшейся к нам огромными прыжками, она напоминала маленькую девочку, радостно слушающую сказку. Потому что, судя по всему, именно сказку и рассказывал Мюррей — сказку, где говорилось о разноцветных воздушных шарах, что бороздили просторы галактик, сделанных из сахарной ваты, об оранжевых цаплях и человечках с раздвоенными хвостами.
Клейтон торжественно кивнул, словно присутствовал при финальной сцене написанной им пьесы.
— Нам пора уходить, — заторопил он нас. — Мы должны оказаться как можно дальше, когда прогремит взрыв.
И, не дожидаясь ответа, зашагал по туннелю. Мы последовали за ним со слезами на глазах. Я бежал по лондонской клоаке в совершенно раздерганных чувствах, отчего мне казалось, будто душа моя перевернулась вверх тормашками, и, время от времени оборачиваясь, видел обоих влюбленных, которые все так же обнимались посреди туннеля и с каждым моим шагом становились все меньше и меньше. И вот, точно в то мгновение, когда я заметил гигантские силуэты монстров у них за спиной, влюбленные слились в безмятежном и долгом поцелуе, словно получили право целоваться сколько хотят, словно ничто в мире их не волновало, кроме любимых губ. Но от соприкосновения их губ сердца обоих взорвались, и ослепительная белая вспышка залила весь туннель.
Мне не приходит на ум ничего другого, что могло бы с такой точностью выразить любовь нашей пары, как эта мощная ослепительная вспышка. Два года минуло с тех пор, но этот образ навсегда запечатлелся в моих глазах, и я с гордостью могу здесь утверждать, что, хотя Гиллиам и Эмма погибли в тот день в лондонском коллекторе, любовь их по-прежнему жива — я не дал ей умереть вместе с ними, потому что каждый день вспоминал о ней, и сейчас, на пороге смерти, пытаюсь увековечить на этом клочке бумаги, дабы она не исчезла вместе со мной. Единственно о чем я сожалею, так это о том, что не владею словом, как Байрон или Уайльд, чтобы тот, кто в будущем прочтет мой дневник, если, конечно, таковой найдется, смог почувствовать, как его руки обжигает тем же огнем, какой пылал в сердцах влюбленных.
Вслед за взрывом до нас донесся страшный треск, полностью оглушивший нас. Затем на нас обрушилась волна раскаленного воздуха, едва не сбив с ног, а в следующее мгновение мы с испугом увидели, как стены и потолок туннеля вокруг нас начинают покрываться трещинами. Мы бросились бежать во всю прыть наших усталых ног, помогая друг другу и уклоняясь от щебня, который дождем хлынул с потолка и бесшумно, по причине нашей глухоты, отскакивал от пола, словно был сделан из ваты. Коридор мгновенно заволокло пылью, мешавшей видеть, тем не менее, кашляя и перекрикиваясь, мы все же добрались до основного туннеля, для которого наш канал был всего лишь мелким притоком. Обменявшись быстрыми взглядами, мы убедились, что никто не пострадал. Шеклтон, чье лицо было словно обсыпано мукой, попытался сориентироваться, а тем временем проход, по которому мы добрались сюда, начал рушиться, что, должно быть, сопровождалось страшным грохотом.
— Сюда! — крикнул капитан, залезая в узкий туннель, отходивший от стены основного.
Мы едва расслышали его голос, но, не теряя ни секунды, согнувшись, последовали за ним. Полутемный туннель был на треть затоплен, и нам пришлось продвигаться почти вслепую по колено в воде, но на этом этапе нашего бесконечного бегства нам уже на все было наплевать. Я так устал, что больше не интересовался, куда мы направляемся и преследуют нас марсиане или нет. Моя глухота начала проходить, и я слышал натужное дыхание моих товарищей, гулким эхом отражавшееся от стен, возвещая, что все мы находимся на пределе физических, а возможно, и моральных сил. Я едва держался на ногах, кожа на лице горела, голова кружилась, вдобавок меня подташнивало, но главное заключалось в том, что я был морально раздавлен, я понял, что обманывал самого себя: моя душа настолько заросла сорняками эгоизма и корысти, что не способна взрастить никакую розу. То, что у других людей возникало естественно и самопроизвольно, от меня требовало сознательных усилий и, в большинстве случаев, предполагало вознаграждение в будущем либо личную удовлетворенность. Вот какие мысли терзали меня, пока я шлепал по залитому водой туннелю, борясь за спасение своей жизни, которую всегда представлял как искусно ограненный алмаз и которая теперь оказывалась жалкой подделкой, способной обесценить любую оправу. Я чувствовал, как каждый очередной шаг дается мне все с большим трудом. Однако неожиданно, не понимая, в чем дело, я обнаружил, что бежать, оказывается, ужасно просто. Было ощущение, будто кто-то прикрепил к моим ногам крылья.
— Туннель идет под уклон! — крикнул Уэллс у меня за спиной.
Так вот в чем было дело: проход вел вниз, и вскоре наклон стал таким явным, что мы стали просто скатываться по узкому проходу, увлекаемые вниз заполнявшей его водой. И вот, пока я катился неизвестно куда, ощущая себя гнилым бревном, подхваченным приливом, до меня донесся шум воды, становившийся с каждым разом все сильнее, и было нетрудно догадаться, что мы спускаемся по одной из многочисленных труб, несущих сточные воды к главному каналу, огромной трубе, петлявшей под лондонскими улицами, которая доставляла все нечистоты в какую-нибудь излучину Темзы. Я предположил, что в конце туннель резко обрывается на высоте нескольких метров, переходя в своего рода игрушечный водопад. Не знаю, сознавал ли священник-инопланетянин, какие опасности нас подстерегают, указывая этот путь, или в сложившихся обстоятельствах считал их наименьшим злом, но только мы действительно подвергались огромному риску, ибо я не надеялся, что мы останемся целыми и невредимыми после неминуемого падения. Я изо всех сил забарахтался, стремясь принять наиболее безопасную позу, как вдруг увидел рядом с собой бледную, перепуганную Джейн, а в нескольких метрах позади нее заметил писателя, тянувшего к ней руку в тщетной попытке догнать. Недолго думая, я обхватил ее, укрыв, словно коконом, собственным телом, чтобы по возможности уберечь от последствий падения. Неожиданно труба закончилась, и я почувствовал, что лечу вниз, обняв дрожащее тело женщины. Это было странное ощущение, будто мы плывем в пустоте. Казалось, оно будет длиться вечно, однако мираж рассеялся, когда я вдруг изо всех сил врезался спиной во что-то твердое. Это стоило мне нескольких сломанных ребер, и у меня на какое-то время перехватило дыхание. Тем не менее я ухитрился не выпустить из рук Джейн. Немного придя в себя, я обнаружил, что ударился о перила, ограждавшие большой бассейн, куда сливалась вода из труб. На дне бассейна, где скапливались все нечистоты Лондона, брал начало подводный канал, неизвестно куда ведущий, вокруг которого образовывался сильный водоворот. Только вряд ли кому-нибудь хватило бы дыхания, чтобы преодолеть этот путь под водой, на что, по моим расчетам, потребовалось бы не менее пятнадцати, а то и двадцати минут. Если таков был план доброго марсианского пастыря, то он, безусловно, сильно преувеличил возможности наших легких. Рядом закашлялась Джейн, находившаяся в полубессознательном состоянии. Шеклтон упал в середину бассейна и, хотя мощный водоворот пытался увлечь его на дно, похоже, не пострадал и мощными гребками старался подплыть к стенке, где крепилась лесенка с железными поручнями. Я отвел взгляд от Шеклтона, отважно противостоявшего смертоносной спирали, зная, что он выйдет победителем, и поискал глазами остальных. В нескольких метрах от себя я заметил Клейтона, тот вцепился ногами в перила и удерживал своей единственной рукой писателя, который дрыгал ногами в пустоте. Я сразу понял, что если Уэллс упадет в воду, то будет непременно поглощен водоворотом, учитывая его физическую немощь.
— Держитесь, Клейтон! — крикнул я, с трудом вставая на ноги и собираясь помочь ему вытащить наверх писателя.
Я поспешил в их сторону, стараясь превозмочь острую боль из-за сломанных ребер, и услышал, что Клейтон кричит что-то Уэллсу, пытаясь перекрыть неумолчный шум воды. Капитану тем временем удалось добраться до поручней в стенке бассейна и подняться к ограждающим его перилам. Он приближался к писателю и агенту, но все равно ему было дальше до них, чем мне.
— Продержитесь еще немного! — крикнул я на ходу и сжал зубы, чтобы не потерять сознание от боли.
Но они по-прежнему что-то кричали друг другу. Доковыляв наконец до них, я смог разобрать то, что в этот момент орал Уэллсу Клейтон, у которого даже жилы на шее вздулись от натуги:
— Сделайте это! Уверяю, вы сможете это сделать, доверьтесь мне! Вы один можете нас спасти!
Не понимая, что имеет в виду агент, я в свою очередь крикнул:
— Дайте мне руку, Уэллс! — И протянул ему свою руку, вцепившись второй в перила.
Потный, обессиленный агент обернулся ко мне с улыбкой. Потом закатил глаза и потерял сознание. Я наблюдал за тем, как оба падали в бассейн, от которого нас отделял добрый десяток метров. Капитан, к тому времени подоспевший с другой стороны, бросился за ними и сумел схватить Клейтона, прежде чем тот ушел под воду. Однако я понимал, что Уэллса ему не спасти, а потому, не заботясь о том, что от удара о воду я могу потерять сознание, перескочил через барьер и прыгнул в это грязное зловонное озеро. Соприкосновение с его поверхностью отозвалось усилившейся болью в ребрах, но все-таки удар был не такой, чтобы сразу лишиться чувств. Вода была ужасно мутная, и, немного опомнившись, я нырнул в нее и стал отчаянно рыскать из стороны в сторону, попутно борясь со страшным водоворотом, старавшимся утянуть меня на дно. Я шарил повсюду в поисках тела Уэллса, но оно будто растворилось. Когда мои легкие уже были готовы взорваться, я вынырнул на поверхность. И почувствовал, как что-то обвивается вокруг моей шеи и поднимает меня в воздух.
Так закончился наш отважный побег. Когда хвост одного из монстров вытащил меня из воды и швырнул на бортик бассейна, где уже находились остальные мои товарищи, я понял, что мы стали пленниками. Перед нами стоял Посланник, вновь принявший облик Уэллса, из чего мы заключили, что клейтоновская взрывчатка, должно быть, уничтожила кое-кого из его собратьев, иначе они бы нас преследовали. Хотя прошло два года, я до сих пор помню взгляды, которыми мы обменялись тогда. В них сквозила горечь поражения и страх перед нашим будущим, который сегодня кажется мне наивным и почти смешным в сравнении с безутешной судьбой, что нас ожидала. Но яснее всего я вспоминаю отчаянные вопли Джейн, которая звала Уэллса, не переставая выкрикивала его имя, пока не сорвала голос. Хотя даже эти истошные крики бледнеют перед злобным рычанием, которое издал Посланник, когда его собратья, обследовав дно бассейна, вынырнули на поверхность, чтобы сообщить ему, что не обнаружили даже следа писателя: его драгоценнейший таракан сбежал, унеся с собой свою тайну. А это, к несчастью для него, превращало Вселенную в непредсказуемое место, где все возможно. Я до сих пор не знаю, что случилось с Уэллсом. Предполагаю, что он потерял сознание, ударившись о воду, захлебнулся, а потом его труп по какому-нибудь каналу вынесло в Темзу. И такой конец был бы для него самым лучшим.
В эти мгновения солнце садится за руинами Лондона, за мрачными лесами, осаждающими марсианский лагерь, а я, сидя в камере, тороплюсь поставить последнюю точку в своем дневнике — всего за каких-нибудь несколько часов до того, как будет поставлена последняя точка и в моей жизни, поскольку я не сомневаюсь, что не переживу завтрашний день. Мое тело вот-вот исчезнет навсегда, а может, это произойдет с моей душой, погрязшей в отчаянии и горечи. К счастью, мне удалось добраться до конца повествования, и мало что осталось добавить к тому, что я здесь рассказал. Тешу себя лишь надеждой, что, коль скоро я не сумел стать героем этой истории, может быть, читателю дневника, кто бы он ни был, по крайней мере интересно будет его читать. На большее я не рассчитываю. Подходит к концу моя жизнь, которую теперь мне хотелось бы прожить иначе. Но уже поздно вносить в нее поправки. Я ничего не в силах сделать, кроме как оставить на бумаге свое искреннее, хотя и запоздалое признание.
Из моей камеры видно, как ночь опускается на марсианскую пирамиду, лучше любого флага символизирующую завоевание планеты, которая однажды принадлежала нам, человеческой расе. На ней мы творили свою историю, на ней отдавали друг другу лучшее и худшее в нас. Ничего из этого, даже воспоминаний, не останется, когда испустит дух последний человек на Земле, и его смерть будет означать гибель целой расы. Вместе с ним умрем все мы.
Это то, что я в конце концов принял, хотя по-прежнему никак не могу понять.
Чарльз Леонард Уинслоу,образцовый заключенный марсианского лагеря в Луишеме.
XXXVIII
Наступил рассвет, а Чарльз все еще был жив. Тем не менее он спустился в недра пирамиды, захватив с собой дневник, ибо был убежден, что это его последний день на Земле, которую ему с каждым разом стало все трудней узнавать. Всю ночь он метался в жару, дрожал от лихорадки, бился в конвульсиях на своем тюфячке, ожидая неминуемого конца, и в таком состоянии был вынужден отправиться на работу под пристальными взглядами марсиан, которые, должно быть, только и ждали, чтобы он упал. Но, к собственному удивлению, он по-прежнему держался на ногах и, перекатывая бочонки, заставлял себя крепиться и время от времени вспоминал, что должен сохранить хоть немножко сил на то, чтобы спрятать дневник.
Когда под вечер он чуть живой поднялся на поверхность, то, пошатываясь, направился к питательным машинам, где несколько заключенных уже стояли за второй ежедневной порцией еды, чтобы после этого разойтись по своим камерам. Чарльз не задержался возле них, а зашагал дальше, туда, где они не могли его увидеть, и остановился в нескольких метрах от того места, где, по его расчетам, проходила невидимая линия, включавшая ошейник. Дрожащими руками он выкопал в земле ямку и, убедившись, что никто на него не смотрит, спрятал в ней дневник. Конечно, лучше было бы доверить его почтовому голубю, чтобы тот, продемонстрировав свою выносливость, доставил дневник в одну из стран старой Европы, где еще остались свободные люди, но поскольку такого голубя у него под рукой не оказалось и он не знал, где искать людей, сумевших не попасть в лапы к марсианам, то пришлось довольствоваться тем, что есть, и закопать дневник на территории лагеря. Он положил сверху несколько камней и долго смотрел на маленький холмик. Непонятно, для кого он это делал. Весьма вероятно, что дневник так никто и не обнаружит, и время развеет его страницы, прежде чем они будут прочитаны. А возможно, через несколько дней на него случайно наткнется кто-нибудь из марсиан и, не задумываясь, сожжет. В конце концов, это лучше, чем если бы марсианин стал читать его вслух своим собратьям, насмехаясь над жалкой прозой, над недалекими рассуждениями о любви и тщетными усилиями, предпринятыми маленькой группой, чтобы ускользнуть от неизбежного. Да какая разница, найдут дневник или нет, подумал он, и ему вдруг стало стыдно за то, с какой целью он его на самом деле писал. Не для того, чтобы увековечить историю любви Гиллиама и Эммы или изложить на бумаге то, что ему удалось узнать о марсианах. Нет, если честно, им руководил все тот же эгоизм, который всегда присутствовал в его поступках: он хотел изобразить себя в выгодном свете, известить мир единственным доступным ему способом о том, что, хотя он и растратил жизнь впустую, но, по крайней мере в свои последние дни, сумел исправиться и вел себя так, как и должны себя вести все достойные люди.
Ну что же, если все делалось для этого, то он добился своего и теперь мог лечь и умереть. Именно этого требовало его тело: полного, целительного, постоянного покоя, какой могла предоставить лишь смерть. Чарльз улыбнулся закату, обнажив голые старческие десны, где не осталось уже ни одного зуба. Да, так он и сделает. Вернется в свою камеру, ляжет на койку и будет ждать смерти, которая не замедлит постучать в его дверь. А утром, когда рассветет, или даже раньше, ошейник нарушит его вечный сон и подарит ему посмертную прогулку по лагерю, потому что он должен до конца выполнить свое предназначение и превратиться в корм для тех, кто останется жить. Так закончит свои дни Чарльз Уинслоу.
Шатаясь из стороны в сторону, он направился в свою камеру. У него уже ни на что не оставалось сил, и он подумал, что это отчасти снимает ответственность, возложенную на него плавающим в аквариуме обнаженным телом Клер: должен ли он сообщить капитану Шеклтону, что его жена мертва, если не хуже, и тем самым лишить того надежды на встречу с ней? Чарльз знал, что если так поступит, то отнимет у капитана единственное, что, как он подозревал, поддерживало того в этой жизни. Но разве капитан не заслуживал тоже отдыха? Конечно, заслуживал, и Чарльз с помощью нескольких слов мог предоставить ему право сдаться, сложить оружие. Сомнения будоражили его всю ночь, наступило утро, а он все еще не принял решения. Однако, как бы ни пытался он сейчас убедить себя в том, что у него не хватит сил дойти до камеры Шеклтона, эта отговорка оказывалась слишком слабой, чтобы успокоить его совесть. Каким бы немощным он себя ни чувствовал, он в состоянии пойти к капитану и рассказать ему то, что видел, избавив себя тем самым от ненужных терзаний. Возможно, как только Шеклтон узнает, что Клер находится внутри пирамиды, он попытается спуститься туда, и ошейник начнет душить его и задушит, если он будет упорствовать. Но это уже не важно. Очевидно, что никакого восстания никогда не будет, с горечью признал Чарльз, и что марсиане останутся полновластными хозяевами и владыками Земли до конца своих времен. Дело зашло слишком далеко, чтобы кто-то мог исправить положение. Обреченной планете уже не были нужны герои. Поэтому Чарльз рассудил, что пришла пора предоставить отважному капитану Шеклтону свободу, единственную, на какую мог теперь рассчитывать человек: свободу определять, хочет ли он жить дальше. Укрепившись в своем решении, он повернулся и заковылял к бараку, расположенному в противоположном углу лагеря.
И все-таки он плохо рассчитал свои силы. Капитан прервал упражнения, которые выполнял у входа в камеру, когда увидел упавшего в нескольких метрах от барака Чарльза. Он быстро спустился по лестнице, взвалил безжизненное тело на плечи и принес в камеру, где осторожно опустил на койку. Потом приложил ладонь к его лбу, раскаленному, словно кипящий чайник, и понял, что Чарльзу уже ничем не помочь: ему оставалось жить считанные минуты, если не секунды. Шеклтон сел рядом с ним и взял за руку. Чарльз еле слышно застонал и стал постепенно приходить в себя. Его глаза искали Шеклтона.
— Я умираю, капитан… — прошептал он, когда наконец смог взглянуть в лицо своему другу. — Мое бедное тело уже не выдерживает.
Капитан сочувственно посмотрел на него и еще крепче сжал ему руку, но ничего не сказал. Да и что он мог сказать? Вот Чарльзу действительно было что сказать Шеклтону перед смертью, и он не преминул воспользоваться этой возможностью. Со слабым стоном прочистив горло, он начал с извинений, которые давно хотел принести Шеклтону:
— Мне очень жаль, что я разлучил вас с Клер в тот день, капитан, — с немалым усилием проговорил он. — И поступил так совершенно напрасно. Мне не следовало бы нарушать эти последние мгновения, когда вы были вместе. Но заверяю, что поступил так не из злости или каприза. Я был абсолютно уверен, что вы призваны разгромить марсиан. Будущее об этом свидетельствовало, помните? — Он попытался улыбнуться собственной шутке, но лишь болезненно скривился. — И я до сих пор не понимаю, какого черта этого не случилось и почему будущее, откуда вы явились, не осуществится, хотя оба мы в нем побывали.
Шеклтон недовольно заерзал на стуле, но промолчал.
— К счастью, мне уже недолго осталось задаваться вопросами, почему все оказалось не таким, каким должно было быть, и, по-моему, я с лихвой заплатил за то зло, за те ошибки, что успел натворить в этом мире. Я так устал, Дерек… Единственное, чего я сейчас хочу, это отдохнуть… — Чарльз поискал его блуждающим взглядом, словно между ними вдруг возникла густая пелена, скрывшая капитана. — И тебе тоже это требуется, Дерек… Покорись, капитан. Тебе незачем дальше бороться, мой друг. Уже незачем. Послушай меня… Я должен кое-что тебе рассказать…
Внезапный приступ кашля сотряс его легкие, он забился на матрасе, и по его подбородку и шее медленно потекли струйки крови, оставляя на коже зеленоватые маслянистые следы. Капитан поспешил усадить его, чтобы он не захлебнулся собственной кровью, и, пока продолжался приступ, поддерживал в таком положении, глядя на него с бесконечной жалостью. Когда кашель прекратился, Чарльз в изнеможении закрыл глаза, и Шеклтон вновь с величайшей осторожностью уложил его. Дыхание у больного было таким слабым, что в какой-то момент капитан решил, что он умер, но, нагнувшись над его окровавленными губами, почувствовал, что он еще дышит, правда, очень часто и неглубоко. Шеклтон грустно вгляделся в своего друга и покачал головой. Потом встал и подошел к столику, стоявшему в противоположном конце камеры.
— Капитан Шеклтон! Дерек! — вдруг позвал Чарльз. Он открыл глаза и испуганно водил ими по каморке, пытаясь разглядеть капитана в обступившей его мгле. — Где ты, Дерек? Я не вижу, ничего не вижу… Все расплывается, вокруг сплошная темень… Дерек!
Несколько секунд капитан стоял неподвижно, отвернувшись от Чарльза и втянув голову в плечи, словно взвалил на себя неподъемный груз. Потом взял что-то со стола, подошел к умирающему, встал рядом с ним на колени и заговорил, сжимая в сильных руках загадочный предмет.
— Выслушай меня, Чарльз. Я тоже должен тебе кое-что рассказать, — осторожно произнес он. — За эти три дня, что мы не виделись, произошли многие вещи. Пока ты находился в пирамиде, я был в женском павильоне… и узнал там новости. Важные новости.
— Дерек, я должен рассказать тебе кое-что… — еле слышно пытался перебить его Чарльз.
— Друг мой, тебе лучше помолчать. Не разговаривай, береги силы и послушай меня, — горячо настаивал капитан. — В лагерь доставили новую партию женщин, на этот раз с континента. И мне удалось поговорить с некоторыми из них, Чарльз. Они рассказывают, что марсиане испытывают там трудности, серьезные трудности. В Германии, Италии, Франции и многих других странах действуют отряды сопротивления. И повсюду распространяются слухи об очень странной армии, располагающей мощным оружием. Да, Чарльз, такого оружия никто не видел до нашествия марсиан, оно почти такое же совершенное, как у них. Эта армия перемещается от лагеря к лагерю и уже захватила некоторые из них: ее солдаты освобождают узников, раздают им оружие, обучают… С каждым разом эта армия растет и становится все сильнее. Ходят слухи, что скоро они появятся в Англии… И знаешь, что еще? Солдаты этой армии утверждают, что ищут своего командира, что прибыли, чтобы спасти его… из будущего.
— Из будущего? Боже мой, капитан… Но как такое возможно? — недоверчиво прошептал Чарльз, боясь довериться этому чуду, этой безудержной радости, которая начала овладевать им, заглушая боль, пронизавшую его тело.
— Не знаю, Чарльз. Я сам задаю себе этот вопрос. — Шеклтон довольно рассмеялся, не переставая загадочно что-то крутить в руках. — Но очевидно, что это мои люди, Чарльз. Они прибыли, чтобы спасти меня, всех нас. Как они узнали о том, что происходит в прошлом? Не знаю… Я уже говорил тебе, что в будущем путешествовать во времени станут и на других машинах, отличных от «Хронотилуса». Тот аппарат, на котором прибыл я, разрушился, но, как знать, возможно, были и другие, неизвестные мне, и другие путешественники стали свидетелями начала вторжения, а вернувшись в будущее, забили тревогу…
— Но если это так, — пробормотал Чарльз, делая усилия, чтобы капитан его расслышал, — то почему они так запоздали? И почему отправились на континент, а не к нам?..
Шеклтон ненадолго задумался.
— Не знаю, дружище, — ответил он, ничуть не утратив своего энтузиазма, — но обещаю тебе, что это будет первое, о чем я спрошу моих храбрых солдат, когда их увижу! Клянусь тебе, Чарльз! Я скажу им: «Можно узнать, где вас черти носили, пока вашего капитана хотели тут сгноить, вы, ирландские макаки, треклятые сучьи дети, дьявольское семя? Предавались содомскому греху? Брюхатили собственных матерей? Или вы думали, грязные ублюдки, что мы здесь развлекаемся?» Да, именно это я им и скажу. Так и слышу их ржанье, — громко захохотал капитан, и Чарльз почувствовал, как его губы тоже складываются в улыбку, обнажая десны, по мере того как он начинает верить в эту невероятную новость.
— Но… ты уверен? — спросил он. — Ты доверяешь этим женщинам?
— Разумеется, Чарльз. Взгляни-ка на это… — ответил Шеклтон и вложил в руки своему другу таинственный предмет, который перед этим долго мял в ладонях. Чарльз ощупал его с помощью капитана, направлявшего его пальцы. — Мне дала его одна женщина. Это аппарат из моего времени, он… в общем, мы называли его «искатель». Я сразу его узнал.
— И что это такое? — Речь Чарльза сделалась совсем неразборчивой, казалось, слова застревают у него во рту.
— Мы использовали его, чтобы отыскивать под руинами выживших после битвы. У каждого на шее висел такой аппарат. Я снял свой перед тем, как отправиться сюда, чтобы не вызывать подозрений у людей вашей эпохи. Но теперь благодаря одной мужественной женщине у меня есть этот. Многие из тех, кому удалось бежать из лагеря, по своей воле попадают туда снова с такими искателями, спрятанными в одежде, потому что им поручено отыскать меня и передать мне аппарат. И теперь я включу его и спрячу в одежде, Чарльз. Он поможет моей армии быстрее обнаружить меня, когда она высадится в Англии. Они сразу отправятся за мной. Это вопрос месяцев или даже недель. Но они придут, Чарльз, обязательно придут. И тогда марсианам наступит конец. Мы разгромим их, дружище.
— Разгромим… — простонал Чарльз.
— Непременно разгромим… — Капитан погладил умирающего по редким волосам, прилипшим ко лбу, а затем осторожно взял аппарат у него из рук, которые сразу же бессильно опустились вдоль туловища. Теперь изо рта Чарльза вырывались только слабые короткие хрипы. — Ты был прав, дружище. Как всегда прав. Мы разгромим их, потому что уже их разгромили.
«Потому что уже их разгромили», услышал Чарльз, приближаясь к туманному порогу, за которым кончалось сознание. Да, мы отвоюем у них Землю, запальчиво подумал он. С самого начала правда была на его стороне, это только что признал капитан. Конечно, он был прав, как можно было сомневаться? Чарльз задышал еще чаще. Клер, вспомнил он. Клер находилась внутри пирамиды. Мертвая или… еще хуже. В этой мерзкой зеленой жидкости. Он видел ее. И должен был рассказать об этом Шеклтону, для того и пришел к нему, чтобы даровать капитану покой… Но теперь рассказывать этого нельзя! — в смятении подумал он. Если капитан узнает, что его жена погибла, все пойдет прахом. Ему уже будет наплевать и на свою армию, и на спасение человечества… На все на свете! Чарльз знал, что так будет, он уже встречался с подобным раньше: любовь к женщине превращала героя в упрямца, который не желал жить дальше, потеряв возлюбленную. Он лишит себя жизни, найдет такую возможность, и его армия не успеет прийти ему на помощь… Спасут ли солдаты его армии Землю без своего отважного капитана, человека, спасшего мир в будущем, откуда они явились? Чарльз этого не знал, но не хотел рисковать. А вдруг его действия все изменят, вызвав разрыв временной ткани, чего так опасался Мюррей? Может такое случиться? В поисках ответа Чарльз попытался нырнуть во все более темные волны, обволакивавшие его мозг, но мысли цеплялись одна за другую, образуя страшную путаницу: будущее, которое он уже видел, так что оно вполне могло считаться прошлым, и настоящее, в котором он жил, утратили свою естественную очередность и стали располагаться каким-то невероятным образом, хотя он и в этом не был уверен. Мог ли сам капитан, которому предстояло победить Соломона, погибнуть в недрах пирамиды, не сокрушив при этом основы мироздания? Чарльз решил, что лучше хранить молчание, если он не хочет все погубить. У капитана должна оставаться надежда на то, что в один прекрасный день он снова встретится с Клер, и эта надежда вдохновит его на борьбу. Да, он должен сейчас спасти Землю, сохранив тем самым в неприкосновенности будущее, в котором он впервые — снова — увидел Клер и откуда отправится в их эпоху, чтобы не разлучаться с ней, чтобы влюбиться в нее раз и другой, чтобы потерять ее тоже один раз и другой и чтобы все время искать ее, ни на миг не оставляя надежды, потому что человечеству он нужен именно таким: одиноким, печальным, непрестанно мечтающим отыскать свою Клер.
Чарльз повернул голову в ту сторону, где, как он чувствовал, находился капитан, и состроил комичную гримасу, стараясь превратить ее в улыбку, которой хотел сопроводить свою шутку.
— Потому что так говорит будущее… — сумел выговорить он, навсегда забыв про обнаженное тело Клер Хаггерти, которую уже никто не спасет.
И тут Чарльз понял, что играл во всей этой истории роль обманщика, короля лжецов, враля, человека, который скрывал правду от героя, чтобы тот продолжал оставаться таковым. В обнимку с этой ничтожной ролью, уготованной ему судьбой, Чарльз Уинслоу и шагнул в темноту, впустив ее в себя, и его душа растворилась в небытии.
Капитан Шеклтон вгляделся в него, потом протянул руку и бережно закрыл ему глаза, отчего стало казаться, что его измученный друг наконец-то отдыхает, обретя заслуженный вечный покой. Капитан подобрал остатки свечи, которую разминал пальцами во время разговора с покойным, чтобы придать ей форму чего-то такого, что Чарльз мог бы в своем состоянии принять за медальон, доказывающий существование армии, которая прибыла из будущего за своим командиром. Он положил испорченный огарок на стол, прикидывая, сможет ли Эштон снабдить его завтра еще одним и скоро ли ошейник Чарльза просигнализирует о том, что покойника можно отправлять в воронку, а то придется перекладывать труп на пол, чтобы освободить на ночь матрас. Ему необходимо поспать. Как только рассветет, его снова отведут в женский павильон, и он хотел бы явиться туда по возможности отдохнувшим, потому что, кто знает, может, завтра он наконец встретит Клер…
Разумеется, капитан не встретил Клер ни завтра, ни послезавтра, ни в один из многочисленных дней, следовавших друг за другом и постепенно накапливавшихся, чтобы составить очередной год. Но это уже другая история, и я надеюсь, вы извините меня, если я не буду сейчас ее рассказывать, поскольку наше повествование принимает другое направление. Возможно, мне еще представится случай вернуться к ней, и тогда я с удовольствием все вам расскажу. Однако, прежде чем мы покинем отважного капитана Шеклтона в его камере, погруженного в мечты о своей любимой Клер, позвольте попросить вас, уж простите за дерзость, не думать о нем плохо, несмотря на сцену, которую я только что вам описал. Уверен, что, следя за развитием этой истории, многие из вас, подобно Чарльзу, не могли составить четкого мнения о капитане Шеклтоне. Кто он — настоящий капитан, человек, который в 2000 году спасет мир, или мошенник и приспособленец, выдавший себя за капитана, чтобы жениться на красивой и богатой девушке, о которой иначе не мог бы мечтать?
Вы наверняка не раз задавали себе этот вопрос. Кто перед нами — человек, из-за любви совершивший путешествие из будущего, или тот, кто, тоже из-за любви, сочинил себе прошлое? Идет ли речь о подлинном капитане, прибегнувшем ко лжи, чтобы Чарльз умер счастливым, или об авантюристе, тоже сжалившемся над умирающим? Мошенник этот человек или герой? Однако, рискуя заслужить вашу антипатию, возьму на себя смелость не отвечать вам, хотя у меня есть ответ на этот вопрос, равно как и на любой другой, какой только придет вам в голову, ибо не забывайте, что я все вижу и все слышу, сам того не желая… Как я вам сказал, возможно, когда-нибудь я смогу рассказать вам удивительную историю капитана, включая необычайные приключения, которые его еще только ждут.
А пока скажу только: независимо от того, лицемер он или нет, совершенно очевидно, что человек, вздыхающий сейчас в своей камере, мечтая о скорой встрече с возлюбленной, настоящий герой. И не потому, что в будущем он обезглавил или обезглавит своей шпагой злобного Соломона и таким образом спасет человечество. Есть и другие способы, может, не такие эффектные, стать героем. Разве не заслуживает этого звания тот, кто способен пробудить в умирающем мечту о лучшем мире, как он в несчастном Чарльзе? По моему скромному мнению, заслуживает. И мне бы больше всего хотелось, чтобы вы тоже так считали. Чарльз Уинслоу умер, смутно различая сквозь щелочку, оставленную ему смертью, очертания победоносной планеты, восстановленной капитаном и его людьми, мира, еще более прекрасного, чем он был раньше… Не должны ли мы считать героем того, кто сумел построить совершенный мир, пусть на один лишь миг и для одного человека? И не был ли также героем Гиллиам Мюррей, благодаря которому его возлюбленная Эмма умерла с улыбкой на устах? Конечно, равно как Адам Локк и многие другие, кто с помощью своего воображения сумел спасти сотни жизней, потому что разве не героизм то, что они сделали, добившись, чтобы для значительной части человечества неизменно печальная практика жизни стала чуть более привлекательной? И в число всех этих героев, конечно, должен быть включен фальшивый или подлинный капитан Шеклтон, решивший подарить Чарльзу в его смертный час свою собственную карту неба, на котором закат наконец-то окрашен в привычные цвета их детства.
XXXIX
Но за семьдесят лет до того, как душа Чарльза растворилась в небытии, из небытия же возникла другая душа. И хотя рождение длилось менее секунды, Уэллс почувствовал, как всего его словно бы постепенно восстанавливает невидимая рука: сначала она скрепила разрозненные кости, составившие основу его скелета, присоединив к ним кровеносную систему и гирлянды нервов, а затем распределила по всей длине его костяка внутренние органы, чтобы после этого упаковать все в лоскутья плоти, точно в оберточную бумагу. Последним штрихом стала кожа, и на писателя сразу же резко навалились холод, усталость, тошнота и прочие неприятности, с которыми было издавна знакомо его тело, вернув его к действительности. Он обнаружил, что погружен в грязную и зловонную воду, откуда спустя мгновение был выброшен силой течения и, взлетев в воздух, упал в какую-то тихую заводь.
Поняв, что дальше его никуда не унесет, Уэллс энергично заработал руками и выплыл на поверхность. Отдышавшись, он в растерянности огляделся по сторонам, не понимая, ни где он находится, ни что с ним произошло. Постепенно, по мере того как к нему в полной мере вернулись зрение и рассудок, он пришел к выводу, что был вынесен в Темзу по какой-нибудь боковой канализационной трубе, но, сколько ни разглядывал окрестности, не обнаружил никаких следов своих товарищей. Куда они, к дьяволу, подевались? Он подождал, не приплывут ли они по реке, но было слишком холодно, и у него ужасно кружилась голова. Потом его начало рвать, и он обильно поделился с рекой содержимым своего желудка. Это заставило его отказаться от роли владыки Темзы, и, обессиленный и замерзший, он кое-как доплыл до ближайшего причала и с трудом взобрался на него. Почувствовав под ногами твердую землю, он постарался успокоиться по мере возможности, хотя возможность эта была чересчур мала. Да, он обманул марсиан, но радоваться было рано, поскольку на свободе он, по-видимому, пробудет недолго: в любой момент они могут появиться, чтобы окончательно пленить его и вскрыть его череп, как обещал Посланник.
Тяжело дыша от усталости и возбуждения, он уселся на причале, словно бродяга, и стал рассматривать окрестности, удивляясь, что не замечает ни малейших признаков разрушений, произведенных марсианами. Но отсутствие разрушений было не единственной странностью. Да, он находился в Лондоне, в том не было сомнений, но это был не его Лондон. Большинство зданий были двух- или трехэтажные, а моста Тауэр-бридж он вообще не обнаружил. Нет, мост не был разрушен, но создавалось такое впечатление, что он просто-напросто еще… не построен. Не веря своим глазам, Уэллс убедился в том, что берега Темзы соединяют весьма немногочисленные мосты — Вестминстерский, Ватерлоо и какой-то еще. Новый же лондонский мост только еще строился метрах в тридцати к востоку от прежнего. Уэллс вскочил на ноги и ошеломленно вгляделся в узкую обветшалую конструкцию, ожидавшую сноса, но ею, впрочем, пока пользовались. Более того, Темза, которую бороздили флотилии весельных паромов, несла теперь свои воды мимо усеянных галькой участков, где небольшие прибрежные верфи чередовались с огороженными пространствами, предназначавшимися для частной рыбной ловли, и причалами, за которыми виднелись отдельные богатые особняки. Что за чертовщина? Создавалось впечатление, что все тут словно бы… не достроено.
Писатель долго рассматривал этот незавершенный Лондон, впав в оцепенелое состояние, пока не убедился, что видения не рассеиваются, и это свидетельствует, что они являются продуктом его истощенного разума. И тогда постепенно в памяти вновь возникли последние слова, которыми они обменялись с Клейтоном, правда, на фоне беспорядочных воспоминаний последних часов: отчаянное бегство по подземным туннелям, смерть Гиллиама и Эммы, ужасное падение с высоты… Что ему кричал Клейтон перед тем, как они оба свалились в пустоту? Движимый внезапным и столь же мимолетным предчувствием, Уэллс подошел к мусорной урне и, покопавшись, извлек оттуда газету, чтобы посмотреть, от какого она числа. Оказалось, от 23 сентября 1829 года. Это открытие совсем подкосило его. Он находился в Лондоне 1829 года! В панике он потряс головой, отгоняя наваждение. Еще восемь лет оставалось до того дня, когда умер король Вильгельм IV и архиепископ Кентерберийский прибыл в Кенсингтонский дворец, чтобы сообщить его племяннице Виктории, которой только что исполнилось восемнадцать, что она унаследовала трон самой могущественной державы мира. Бог мой… да ведь он сам появится на свет только через тридцать семь лет! Как такое возможно?..
Он совершил прыжок во времени… Боже, он путешествовал во времени!
Как изобретатель в его романе, но, в отличие от того, ему не пришлось возиться с громоздкой машиной. Похоже, он совершил это, как-то использовав собственный мозг, о такой возможности и твердил ему Клейтон в подвале своего дома всего несколько часов назад… Но на самом деле оставалось еще шестьдесят девять лет до момента, когда агент сделает это удивительное признание, пока марсиане будут разрушать Лондон у них над головой. Только не такой Лондон, а будущий, уже завершенный. И тут, словно робкие блуждающие звездочки, последние слова, которыми они обменялись с Клейтоном, пока он висел в воздухе, удерживаемый здоровой рукой агента, начали бороздить темные закоулки его разума, постепенно высвечивая их. Тогда, со страхом думая о том, как бы не упасть и не оказаться во власти бешеного вихря, неиствовавшего внизу, в нескольких метрах от его ног, Уэллс был не в состоянии прислушаться к агенту, надо это честно признать. Но сейчас он вновь услышал его слова, причем удивительно ясно, как будто Клейтон опять находился рядом и выкрикивал их, стараясь перекричать шум воды, хотя оставалось еще много-много лет до того, как агент родится в этом непостижимом мире, готовый пожертвовать рукой, чтобы только писатель его понял.
— Уэллс! — кричал Клейтон, пока тот судорожно перебирал ногами в воздухе, словно собирался взобраться на ближайшее облако. — Послушайте меня! Решение — в вас! Вы слышите? Решение — в вас!
— Что? — удивленно переспросил он.
— Помните, что сказал Посланник? — продолжал кричать агент, в то время как он в панике почувствовал, что пальцы Клейтона слабеют.
Он попробовал сам уцепиться покрепче, но этому мешало то, что руки были влажные. Тут он услышал голос Чарльза, но не рискнул повернуться к нему из-за ненадежности своего положения. В любом случае его голос прозвучал откуда-то издалека: он все равно не успеет прийти на помощь…
— Клейтон, сделайте что-нибудь! Я сейчас сорвусь! — в страхе крикнул он.
Но агент продолжал упрямо твердить свое.
— Послушайте меня, черт побери, и вы спасете свою жизнь! И жизнь всех нас! — настаивал он. — Посланник признался, что боится вас… Уверен, что это из-за того, о чем я говорил вам тогда в подвале!
— Не дайте мне упасть, Клейтон!
— Вы не понимаете, Уэллс? — продолжал агент. — То, что у вас в голове, и есть решение! Посланник боится вас, потому что предчувствует, что вы единственный можете предотвратить нашествие… помешав ему начаться! Вот что вы должны сделать, Уэллс! Помешать ему, прежде чем оно начнется!
Клейтон уже еле удерживал его. Краем глаза Уэллс заметил приближающегося с другой стороны капитана. Кажется, тот перелез через барьер, но был еще очень далеко.
— Продержитесь еще немного! — На сей раз голос Чарльза прозвучал гораздо ближе.
Да, нужно продержаться. Уэллс постарался отвлечься от шума воды, от пронизывающей тело боли, от грустных мыслей о Джейн, которая неизвестно куда делась, а главное, от истерических криков агента и сосредоточиться исключительно на своих руках, худых, хрупких и бледных руках писателя, чьей естественной средой была клавиатура пишущей машинки, изящное и беззащитное царство ручек, чернильниц и потертых кожаных корешков книг, но сейчас им приходилось выполнять нелепую физическую задачу, к которой они не были приспособлены: как можно крепче ухватиться за руку агента, цепляться за жизнь, держаться…
— Вы должны перенестись во времени, Уэллс! Понимаете? Должны непременно оказаться во времени, предшествующем неизбежному! Постарайтесь вспомнить, что вам снилось на ферме и какие кошмары стали причиной вашего перемещения, свидетелем которого я стал! — вопил Клейтон, покраснев от натуги. — Вспомните… и постарайтесь перенестись еще раз!
Уэллс поднял свое птичье лицо к агенту и на секунду встретился с ним взглядом, успев понять, что сейчас упадет, что Клейтон разожмет свою руку, потому что прочел в глазах агента просьбу простить его.
— Сделайте это! Уверяю, вы сможете это сделать, доверьтесь мне! Вы один можете нас спасти! — крикнул напоследок агент.
Рядом послышался голос Чарльза, и в поле зрения Уэллса даже появилась рука, тянувшаяся к нему.
— Хватайтесь за мою руку, Уэллс!
Но он не успел. Агент, улыбаясь, взглянул на Чарльза, и в это мгновение Уэллс почувствовал, как пальцы Клейтона разжимаются, отпуская его и отправляя в пустоту, навстречу мутным водам. И пока он отчаянно барахтался в воздухе, в его памяти, должно быть, всплыл тот кошмар, а возможно, это произошло позже, когда его кости почувствовали удар о воду и бурлящий поток потащил его в Темзу, или же это случилось на ничейной земле, что расположена между настоящим и прошлым и называется четвертым измерением. Он этого не помнил. Все произошло чересчур сложным, чересчур головокружительным, чересчур… невозможным образом. Но кошмар, преследовавший его на ферме, он помнил. Тот же самый кошмар, который частенько мучил его на протяжении последних лет и в котором он бесконечно долго падал и падал в бездонную пустоту, хотя его не покидало странное ощущение, будто, падая, он не перемещается в пространстве… Это всегда приводило его в замешательство. Но отныне он будет спокоен, подумалось ему, потому что наконец понял, в чем тут дело: его тело перемещалось только во времени. Он падал сквозь время.
Он тряхнул головой и улыбнулся про себя, вспомнив, как не хотел верить, что может путешествовать во времени, хотя Клейтон убеждал, что сам наблюдал, как он переместился на четыре часа по временной шкале. Но теперь ему ничего другого не оставалось, кроме как признать это: он, Герберт Джордж Уэллс, автор «Машины времени», мог перемещаться во временном потоке благодаря приспособлению, которым, по уверению Клейтона, обладает его мозг и на которое ссылался также Посланник. Этот механизм он включает, когда испытывает излишнее напряжение, как это произошло во сне на ферме. Но если в тот раз он переместился на каких-то жалких четыре часа, то теперь, должно быть, надавил на кнопку с исполинской силой, потому что спустился по той же шкале почти на семьдесят лет!
Не веря до конца самому себе, он швырнул газету в урну и неприкаянным призраком принялся бродить по этому незавершенному городу, стараясь примириться с тем, что оказался в прошлом. Он зашагал по Лондону почти без цели, испытывая, очевидно, такое же чарующее изумление, какое в свое время ощутили путешественники во времени, которых Мюррей отправил в 2000 год. Чувствуя странное смятение, граничащее с тревогой, Уэллс оглядывался по сторонам, пораженный, что попал в город, знакомый ему лишь по историческим трудам и газетам прошлого, причем ощущение волшебства усиливалось оттого, что он знал, во что этот город превратится по прошествии лет, в отличие от людей, с которыми он сталкивался на улицах, мощенных, между прочим, брусчаткой из шотландского гранита или терракотовыми плитками, где общественный транспорт был представлен малочисленными омнибусами, которые тянули мулы. Уэллс долго — ему казалось, не один час — бродил по Лондону, не в силах остановиться, отказываясь принять положение вещей. Он знал, что, как только это сделает, испытываемое им беспокойство достигнет своего апогея, превратившись в страх, ибо не забывал, что судьба забросила его в прошлую эпоху, весьма отличавшуюся от той, в которой он жил. Лондон в то время состоял из Сити и еще нескольких районов вроде Пимлико, Мэйфэра, Сохо или Блумсбери, а также Ламбета и Саутуорка на другом берегу реки. Он убедился, что пространства к западу от Гайд-парка и к югу от Воксхолл-гарден почти не застроены. Челси был, по сути, отдельным городком, соединенным со столицей через Кингс-роуд, а к Айлингтону, Финбери-Филдс и Уайтчепелу подступали зеленые поля, доходившие до подножия римской стены. От Найтсбриджа до Пикадилли в глаза бросались приметы не торопившегося исчезнуть сельского Лондона: повсюду виднелись хуторки, огороды, молочные фермы, конюшни, а то и мельницы. Не было ни здания парламента, ни Британского музея, и колонна Нельсона не возвышалась горделиво на Трафальгарской площади, которая представляла собой далекую от благоустройства территорию, занятую королевскими каретными сараями.
Устав от долгой прогулки, Уэллс сел на скамейку и попытался раз и навсегда усвоить: он видит вокруг не декорации, а находится в самом что ни на есть настоящем 1829 году, где время кончается, потому что по другую сторону расстилается глубокая пропасть. Завтра, откуда он прибыл, еще не наступило. Он затерялся в чужой эпохе, где никто из его знакомых еще не родился, и не знал, как ему возвратиться в свое время, если такое вообще возможно. Он перенесся сюда благодаря напряженному состоянию, которое, похоже, было тем самым топливом, что питало непонятную машинку, размещенную в его голове, но не был уверен, что сумеет вызвать его искусственно, прибегнув к самовнушению. К тому же в любом случае он не сумеет избрать пункт своего назначения. Он будет перемещаться вслепую и, быть может, в результате окажется в еще более ранней эпохе, что его особенно страшило, потому что чем глубже погружался бы он в прошлое, тем менее известным оказывался мир, в котором ему пришлось бы жить. Лучше уж переждать здесь, в этой эпохе, надеясь на то, что обязательно должно произойти, только неизвестно, что именно. Но каким образом он наладит здесь свою жизнь? К кому мог бы обратиться за помощью? Он сомневался, что кто-нибудь поверит в его историю, разве что человек широкого ума, возможно, писатель, коллега. Он напряг память, стараясь вспомнить то, что знал о литературной жизни той эпохи. Насколько ему было известно, Байрон умер несколькими годами раньше, Кэрролл еще не появился на свет, Кольридж, вероятно, уже жил в доме доктора Гилмана, лечившего его от пристрастия к опиуму, а молоденький и еще ничего не издавший Чарльз Диккенс только что поступил в юридическую контору, но мечты о карьере писателя уже бродили у него в голове. Да, будущий автор «Оливера Твиста», пожалуй, мог бы помочь… Уэллс глубоко вздохнул, удивившись про себя той быстроте, с какой он решил, что должен жить в этой эпохе.
Немного успокоившись, он задумался над судьбой своих товарищей. Что с ними произошло? Что с Джейн? Наверняка их схватили марсиане. И вдруг он почувствовал себя так, будто бросил их в беде, намеренно предал… Эта мысль повергла его в уныние. Он должен был находиться там, семьюдесятью годами позже, и разделить их страдания и их судьбу.
Какое-то время Уэллс наблюдал за проходившими мимо людьми и чувствовал, как его губы складываются в грустную улыбку. Вся эта публика, сновавшая взад и вперед, была уверена, что своими действиями закладывает фундамент будущего, не ведая, что будущее уже построено и что он, невзрачный человечек, дрожащий от холода на скамейке, явился оттуда. Более того, никому из этих людей не под силу представить себе такое будущее. К счастью, никто из них до него не доживет. Снисходительно поглядывая на прохожих, он вдруг с ужасом вспомнил, что марсиане в течение длительного времени тайно жили среди людей. Когда же они поселились на Земле? По словам Посланника, первые марсиане прибыли на планету в XVI веке. С тех пор они прикидывались людьми, охраняя Землю, дожидаясь прибытия Посланника, чтобы по его сигналу начать завоевание голубой планеты. Возможно, кто-то из этих пешеходов, что вереницей проходят мимо него, марсианин? Разумеется, выяснить это было невозможно, и потому Уэллс, спохватившись, перестал сверлить прохожих подозрительным взглядом. Тут он с горечью вспомнил, что в происшедшем семьдесят лет спустя виноват он, и только он. Если бы он не оживил Посланника своей кровью, его марсианские собратья постепенно вымерли бы один за другим, отравленные земной атмосферой. Однако он это сделал. Или сделает, если учесть, что сейчас 1829 год. Да, Уэллс, который родится в 1866-м, сделает все то, что он уже сделал, одно за другим: напишет то, что написал, испытает те же страдания, полюбит стольких же и тех же женщин, а когда придет пора, окропит своей кровью тело Посланника и тем самым обречет всю планету на вечные муки. Но все это еще не произошло, а следовательно, его можно избежать, подумал он, воодушевившись возможностью исправить свою ошибку. Для чего он должен всего лишь запретить себе посещение Палаты чудес в компании Сервисса — либо отговорить последнего, либо силой заставить его отказаться от своего намерения. Но до этого момента оставалось еще шестьдесят девять лет, и Уэллс, которому сейчас было тридцать два, не надеялся дожить до ста лет, как бы он ни пекся о своем здоровье.
Но в таком случае какой смысл переноситься в прошлое, в этот нелепый 1829 год? Хотя о чем же, черт побери, напоминала ему эта дата? Ответ пришел неожиданно, заставив его вздрогнуть. Уэллс внезапно вспомнил, что Посланник прилетел на Землю в 1830 году. И, как он сам рассказывал, его летательный аппарат потерпел аварию и упал в Антарктиде, что и помешало Посланнику выполнить свою миссию. Уэллс побледнел, голова у него пошла кругом. Похоже, его мозг бессознательно уловил эту конкретную дату, сохранив ее в каком-то темном уголке, и, когда Клейтон закричал ему, что он должен перенестись во время, предшествующее неизбежному, его память изрыгнула именно ее. Стало быть, ему удалось в какой-то мере управлять этим перемещением, коль скоро ошибка составила всего несколько месяцев? Да, именно это, похоже, и произошло: он сам избрал место назначения, хотя и почти неосознанно.
Уэллс встал со скамейки, потрясенный до глубины души. Если все это так, значит, он действительно каким-то образом перенесся сюда не по чистой случайности, а намеренно, чтобы предотвратить вторжение, прежде чем оно начнется, прежде чем Посланник прибудет в Лондон в глыбе льда, а Уэллс, родившийся в 1866 году, вернет его к жизни. Но осуществить это можно было только одним способом: подняться на борт «Аннавана» и убить Посланника. В тетрадях, которые он бегло пролистал во время посещения Палаты чудес, было сказано, что так назывался корабль, обугленный остов которого, окруженный трупами людей, был обнаружен у маленького островка в Антарктиде, неподалеку от летательного аппарата и замороженного тела инопланетянина. Уэллс не знал, что случилось в ходе этой трагической экспедиции, никто этого не знал, но все указывало на то, что без Посланника тут не обошлось. Таким образом, если Уэллс хотел встретиться с ним, то должен был подняться на борт судна, которое отправилось из Нью-Йорка 15 октября 1829 года, то есть через три недели. Да, это наилучший способ исправить свою ошибку и к тому же наиболее реальный, хотя, конечно, и самый опасный. Тут Уэллса посетила робкая мысль забыть о безумном плане и остаться в Лондоне. Здесь он мог начать новую жизнь, пусть даже, как он подозревал, отягченную угрызениями совести и чувством неудовлетворенности, но зато по крайней мере надежную, поскольку он знал, что умрет естественной смертью задолго до вторжения. Это был заманчивый вариант, но он отбросил его, не став даже серьезно рассматривать, ибо в глубине души понимал, что, если этого не сделает, если не возьмет ответственность на себя и не поднимется на этот проклятый корабль, совесть не даст ему начать никакую новую жизнь. Напротив, если он наймется на «Аннаван» и покончит с Посланником, то спасет планету, предотвратив нашествие. Его товарищи справились со своими ролями в этом представлении, и теперь, похоже, все зависело от того, как он справится со своей. «Сделаю это», — решил он. Нужно было спешить, поскольку времени оставалось в обрез: он успевал только сесть на какое-нибудь судно, отправлявшееся в Соединенные Штаты, и по прибытии туда присоединиться к экипажу «Аннавана».
Уэллс принялся нервно пощипывать свои усики жестом, который он подсмотрел у Посланника, и задумчиво устремил взгляд вдаль. Он воображал себе, что его лицо приняло то смиренно-грустное выражение, что свойственно героям, готовым пожертвовать собой на благо человечества, хотя, сказать по чести, в эту минуту он куда больше напоминал человека, с изумлением обнаружившего, что за ночь у него выросли усы. Как бы то ни было, на губах Уэллса заиграла робкая и одновременно довольная улыбка. Он был уверен: Джейн, где бы она ни находилась, будет гордиться тем, что он с великой покорностью принял свою судьбу, и это помогло ему найти в себе если не мужество, в котором он так нуждался, то нечто такое, что позволяет обмануть страх. И, решительно тряхнув головой, писатель твердой походкой направился в порт, чтобы исполнить свой долг. Вернее, чтобы воспользоваться своим даром, тем, что находилось у него в голове и служило не для того, чтобы помидоры в огороде быстрее росли. Нет, как стало окончательно ясно, оно служило совсем для другого.
XL
Вызвавшись бесплатно работать во время плавания, Уэллс без труда устроился на судно, отплывавшее в Соединенные Штаты с четырьмя тысячами тонн древесины на борту. Корабль так медленно тащился с этим грузом через Атлантику, словно его тянула вперед лишь пара мулов, и, как легко догадаться, писатель все время находился в нервном напряжении, боясь, что опоздает и все его усилия пойдут прахом. Но он не опоздал, хотя корабль доставил его в Нью-Йорк всего за несколько часов до отплытия «Аннавана», и потому ему пришлось пустить в ход все свое красноречие, дабы убедить бесноватого капитана со свирепым взглядом включить его в состав команды, несмотря на то, что она и была полностью набрана: да, он не слишком силен физически, но зато весьма усердный работник и смирится с отказом лишь в том случае, если запас провизии в трюме тютелька в тютельку рассчитан на четырехмесячное питание 27 человек. В противном же случае лишний рот ничего не меняет. К тому же он мало ест. Да если понадобится, он готов питаться корабельными крысами. Что же касается размещения, то, как легко убедиться, ему нужно совсем немного места. Для спанья достаточно любого угла. Он непременно должен плыть на этом судне и готов пойти на любые жертвы. Должно быть, он понравился капитану, а может, тот решил взять его, чтобы хорошенько проучить. Вероятно, капитан собирался развлечься, наблюдая, как на этого тщедушного человечка сразу же по выходе в открытое море обрушатся обычные каждодневные тяготы, те самые, что сформировали его самого, превратив в настоящего морского волка. И вот через какой-то час Уэллс оказался в месте, где, если бы не его миссия, никогда бы не очутился, а именно лицом к лицу с грубыми и задиристыми матросами, от которых разило потом, ромом и бессмысленной жизнью. Но, как все вы уже к этому моменту догадались, если с должным вниманием следили за моим рассказом и не забыли о проводимом нами небольшом эксперименте, писатель стал членом команды не под своим настоящим именем, а под именем героя его романа «Человек-невидимка», потому что в этом теперь состояла его единственная задача: стать невидимым. Он должен был оставаться как можно более незаметным, не пытаться установить дружеские отношения с командой, а главное, вести себя как ребенок в музее, усвоивший, что трогать там ничего нельзя, ибо Уэллс опасался, что любое его действие, даже самое безобидное, может изменить время, нарушив естественный ход событий. И вот судно «Аннаван», китобоец со славным прошлым, чей корпус был усилен двойной обшивкой из африканского дуба, дабы противостоять полярным льдам, отплыл из Нью-Йорка, увозя к Южному полюсу одного лишнего члена команды, тщедушного и скрытного матроса, который разглядывал горизонт глазами, полными необъяснимой тревоги, и откликался не на данное при крещении имя, а на имя Гриффина.
Итак, оставаться незаметным и ничего не трогать — вот что было для него первостепенным в этом путешествии. И он не изменил этому правилу даже тогда, когда с изумлением обнаружил, что среди человеческого сброда, собравшегося на корабле, находится писатель Эдгар Аллан По. В ту пору По был бледным юношей, еще не написавшим даже «Аль-Аараф». Похоже, он нанялся на «Аннаван» как сержант артиллерии, чтобы сбежать из Вест-Пойнта. И хотя ничто бы так не порадовало Уэллса, как возможность скрасить тоскливые будни на борту судна беседой с тем, кто со временем станет одним из его любимых авторов, подпасть под очарование каждого его слова, каждого жеста, тем не менее он обращался к По только по необходимости, потому что, чем меньше с ним общался, тем меньше вероятности было, что его разоблачат. И если кто-то и мог обнаружить, что Уэллс не принадлежит к этой эпохе, то, безусловно, только По, будущий автор дедуктивных рассказов о сыщике Огюсте Дюпене.
Так что единственным его развлечением в плавании было пить ром и через силу смеяться грубым шуткам своих товарищей, а когда они миновали острова Кергелен с более чем месячным отставанием от намеченного графика — то еще и с сочувствием во взгляде наблюдать за дерзкими усилиями капитана Макреди не допустить, чтобы судно застряло во льдах, зная, что когда-нибудь этим дело кончится. Когда в конце концов старый китобоец попал в ледовый плен, Уэллс ощутил в душе такое же удовлетворение, какое чувствует театральный режиссер, довольный работой актеров. Члены экипажа, похоже, восприняли возникшее препятствие, которое могло стать причиной их гибели, с невозмутимым смирением. Теперь оставалось ждать, когда растают льды, экономя продовольствие и стараясь не впасть в безумие. Это было почти все, что они могли сделать в сложившихся обстоятельствах, хотя Рейнольдс, руководитель этой эксцентрической экспедиции, непрестанно напоминал капитану, что они должны обследовать прилегающую территорию в поисках прохода к центру Земли, поскольку был убежден, что наша планета — полая внутри. А ведь Верн еще не написал своего знаменитого романа.
Но Уэллс, конечно, ни на что такое не рассчитывал. Он лишь надеялся увидеть то, что неделю спустя, когда он уже начал сомневаться, наконец упало к нему с неба. Когда это случилось, у него возникло странное ощущение, будто именно он заказал диковинный воздушный спектакль, чтобы всех удивить. Он наблюдал за тем, как летательный аппарат пробороздил небо и упал вблизи гор, точно с такой же растерянностью, как и его товарищи, потому что, в конце концов, он, Уэллс, никогда не видел его в полете. И он понял, что с этого момента все будет происходить так, как уже происходило, словно бы под диктовку, и главное для него теперь — держаться по возможности в стороне, чтобы события шли своим чередом. Появление летательного аппарата посреди снежной пустыни вызвало у команды переполох, и писатель не мог сдержать улыбку, когда некоторые стали утверждать, что это метеорит. Он прекрасно знал, что это такое. И знал даже, кто управлял кораблем и откуда он прилетел. Посланник явился на свидание, назначенное у них на этом удаленном от остального мира ледяном островке, с британской пунктуальностью.
Но не бойтесь, я не стану утомлять вас новым изложением событий, которые вам слишком хорошо известны, хотя, признаться, мне хотелось бы рассказать о некоторых чувствах и тревогах, одолевавших во время экспедиции нелюдимого и молчаливого матроса Гриффина, именно теперь, когда все вы узнали в нем писателя Герберта Джорджа Уэллса. Уверен, несмотря на то, что вы с ним достаточно познакомились, вам все равно будет интересно узнать, как его дотошный и прихотливый ум противостоял различным превратностям судьбы, поджидавшим его в те жуткие дни на борту «Аннавана». Когда, например, во время разведывательного рейда к летательному аппарату ему пришлось сочинять безумную историю, чтобы оправдать перед Рейнольдсом свое настойчивое стремление оказаться на «Аннаване», историю столь несостоятельную и абсурдную, что его вполне можно было бы исключить из писательского цеха за бездарность. Или когда он был вынужден исследовать территорию вокруг летательного аппарата в поисках предполагаемого пилота, уже зная, на что тот способен. А как описать вам смешанное чувство уныния и отчаяния, охватившее его, когда они ждали на «Аннаване» нападения таинственного существа, растерзавшего до этого во льдах полярного медведя, потому что он, единственный из команды, мог подозревать, что так называемый звездный монстр уже находится среди них, превратившись в одного из матросов?
Бедный Уэллс, какая громадная ответственность свалилась на его плечи! И каким одиноким и смешным он чувствовал себя на борту обреченного корабля, не зная, что именно он должен сделать, чтобы предотвратить неизбежное! Время шло, один час сменял другой, но какие бы идеи в отчаянии ни рождал его мозг, они не казались ему удачнее безумных выдумок Клейтона во время их подземных скитаний. План, который он счел наименее глупым и который поможет вам составить представление о тех, что были отвергнуты, пришел ему в голову во время очередного тщательного осмотра судна, где он искал хоть что-нибудь, что мог бы применить против Посланника, поскольку знал не понаслышке, что пули не причиняли ему ни малейшего вреда. В пороховом погребе он обнаружил несколько ящиков с динамитными патронами и мгновенно понял, что это единственное на борту «Аннавана» средство, способное уничтожить монстра. Уэллс никогда не имел дела с динамитом, но не думал, что это слишком сложно, хотя и сомневался, что Посланник будет стоять столбом и ждать, когда он бросит ему под ноги взрывчатку, да еще с безопасного для себя расстояния. А тихо поджидать монстра в каком-нибудь уголке, как это сделал Мюррей в лондонской клоаке семьдесят лет спустя, его не очень-то привлекало. И прежде всего потому, что на корабле не было красивой девушки, которую он мог бы обнять в самый неприятный момент. В противном случае он бы, возможно, еще подумал. И тут его взгляд упал на один из многочисленных гарпунов, хранившихся на оружейном складе, и мы должны сказать спасибо за то, что дело происходило не в камбузе и ему не попались на глаза кастрюли, а так он сразу решил, что если прикрепит к гарпуну парочку динамитных патронов и метнет его с достаточной силой и меткостью в Посланника, то проткнет последнего с вероятностью один шанс на миллион, что все-таки лучше, чем ничего.
Два дня спустя, пока Уэллс все еще пытался придумать план, который оказался бы лучше идеи с динамитом и гарпуном, звездный монстр зверски расправился с доктором Уокером. Он набросился на доктора в лазарете, когда тот готовился ампутировать ногу матросу Карсону, после чего писатель уже не нуждался в новых доказательствах, чтобы понять не только то, что Посланник бродит по кораблю, но и в каком обличье. Все не на шутку встревожились и по приказу с каждым разом все более растерянного Макреди облазили судно сверху донизу в поисках дыры, через которую монстр проник на борт, но, конечно, ничего не обнаружили. Матросы пришли к выводу, что каким-то таинственным способом монстр умел незаметно прокрадываться на корабль и покидать его, на то он и демон. Но Уэллс в демонов не верил. Более того, он даже подумывал разоблачить Карсона. Точнее сказать, он взвесил все возможные варианты, открывавшиеся перед ним, тщательно, со всех сторон рассмотрев каждый — по старой привычке, от которой его не могли излечить ни путешествия во времени, ни эти чертовы экспедиции в Антарктиду. Однако ни один из вариантов не воодушевил его. Он мог предупредить всех своих товарищей, что этот человек не Карсон, а марсианин, принявший его облик, или попытаться хладнокровно убить оборотня при первой возможности, например, подложив ему во время сна в штаны динамитный патрон, и потом представить дело так, что он был вынужден защищаться. Было ясно, что надо по-прежнему выжидать, держась в стороне от происходящего. Ему еще представится случай вмешаться. Поэтому Уэллс ограничился тем, что стал скрытно следить за Карсоном, ломая голову над тем, где находится труп его двойника, настоящего Карсона. Вероятно, где-нибудь в окрестностях корабля, засыпанный снегом. Наблюдая за ним, Уэллс удивлялся, что Посланник его не узнает, не выделяет среди прочих членов команды, хотя они уже беседовали друг с другом в туннеле под Лондоном. И сразу же спохватывался, что эти события еще не произошли, какие бы воспоминания о них ни сохранились в его памяти.
Он понял, что развязка близка, в день, когда нес вахту на правом борту судна и увидел возвращающегося из снегов Рейнольдса, который узнал, что Карсон погиб, так как наткнулся на его труп неподалеку от летательной машины. Обнаружив, что усопший Карсон в данный момент несет вахту на корме, Рейнольдс направился к нему походкой сомнамбулы, и Уэллс проводил его взглядом. Он понаблюдал за их краткой беседой под ожесточенный лай собак и подумал, что отныне Посланник, обнаружив, что его раскрыли, перестанет притворяться и примет свой истинный облик. После разговора с вахтенным Рейнольдс отправился к себе в каюту, даже не взглянув на Уэллса, из чего было нетрудно сделать вывод, что по какой-то непонятной для Уэллса причине этот болван решил не делиться ни с кем своим открытием. Пригласил ли он лже-Карсона к себе, чтобы предложить ему какую-то сделку? Этого писатель не знал, но его мало интересовала избранная Рейнольдсом стратегия. Все указывало на то, что вот-вот начнется резня, поскольку начальник экспедиции, можно сказать, играл с бомбой, готовой взорваться у него в руках. Как вы знаете, так оно и случилось.
Возможно, вы зададитесь вопросом, не посещала ли Уэллса мысль во время последовавшей за этим непрерывной череды выстрелов, взрывов, крови и жутких превращений забыть про судьбы человечества и всех тех, кого он любил, но кто еще не родился, и попытаться спасти собственную шкуру. И ответ будет отрицательным, уж вы мне поверьте, ведь для меня нет ничего легче, чем читать в душе у персонажей, действующих в этой истории. Однако, чтобы быть с вами до конца откровенным, должен сказать, что такое поведение объяснялось не его чувством долга или альтруизмом, а тем, что, когда на этом заброшенном ледяном островке разыгрался самый настоящий апокалипсис, Уэллс был не способен сосредоточиться ни на чем другом, кроме всесильного желания помешать тому, чтобы тайный механизм, находящийся в его мозгу, снова включился и зашвырнул его бог знает куда сквозь бездны времени. Он старался утихомирить свое разбушевавшееся сердце, что помогло ему не поддаться панике и с невозмутимым спокойствием реагировать на творившийся вокруг ужас. Благодаря этому он сумел приставить пистолет к виску свирепого капитана и заставить его прислушаться к Рейнольдсу, а позднее пробрался в арсенал через тот ад, в который превратили корабль взрывы, двигаясь при этом с вызывающим спокойствием, словно располагал охранной грамотой с печатью самого дьявола, и тщательно привязал динамитные патроны к гарпуну, после чего выбрался на палубу и спустился оттуда на лед, по-прежнему не теряя присутствия духа, даже когда стал свидетелем того, как последний взрыв превратил «Аннаван» в груду исковерканного железа, окруженную обезображенными трупами, и понял, что независимо от того, удалось ему выполнить свою миссию или нет, его робкая надежда на возвращение к цивилизации только что окончательно улетучилась.
Представьте теперь его, лежащего на снегу и неотличимого от жертв взрыва, сбитого с толку, страдающего от боли. Взрыв был таким ужасным, что Уэллс перестал слышать, и ему стало казаться, что здешний ландшафт укутан в первозданное, природное безмолвие, какое было присуще миру до того, как человек осквернил его своими искусственными шумами. Языки пламени, лизавшие останки корабля, постепенно затухали, словно старческая память. Тут Уэллс вспомнил, что Посланник благополучно пережил взрыв, поскольку был погребен во льду, и стал внимательно приглядываться к устилавшим снег телам, пока его испуганный взгляд не задержался на бесформенном холмике, который чуть-чуть шевелился. Он находился метрах в тридцати от Уэллса, но, несмотря на расстояние, когда фигура начала подниматься, писатель сразу убедился в том, что этот спасшийся от взрыва — не человек. Пламя вырывалось из складок его странного облачения, отчего он напоминал горящий факел, но, похоже, не причиняло ему ни малейшей боли. Уэллс опустил голову в снег и застыл, словно еще один труп, исподтишка наблюдая за действиями монстра. И с облегчением вздохнул, увидев, что чудовище направилось в противоположную сторону, но вдруг заметил, что навстречу ему из снега быстро поднимаются две фигуры. Ему показалось, что это Аллан и Рейнольдс. Последний бросился бежать к клетке с собаками, и Уэллс усмехнулся про себя. Когда Рейнольдс открыл дверцу клетки, обезумевшая свора помчалась к Посланнику, который выставил перед собой свои острые когти и одним безжалостным ударом разрубил надвое первого прыгнувшего на него пса. Сразу стало ясно, что серьезной угрозы собаки для него не представляют. Словно нехотя растерзав последнюю из них, монстр не спеша направился к его товарищам, а те, как видно, решили больше никуда не бежать. К чему откладывать то, что неизбежно? И когда жуткое чудовище остановилось метрах в пяти от них, издав победный рев, Уэллс понял, что более удобного момента, чтобы попробовать вонзить в него гарпун, ему не представится. Если этого не сделать, то Посланник в конце концов вмерзнет в лед, хотя сейчас он не мог себе представить, как Аллан с Рейнольдсом его туда загнали. Правда, в далекой перспективе такой финал, как он хорошо знал, не предотвратит вторжения. Он должен покончить с марсианином навсегда, а не на время. Для этого он и прибыл сюда. Для этого пересекал время и пространство.
Приняв окончательное решение, Уэллс одним прыжком вскочил на ноги, крепко сжал в руке гарпун и вот тут-то и почувствовал это. Он огляделся по сторонам, несколько ошеломленный, с ощущением, будто что-то пошло не так, но что именно, неизвестно. Все оставалось таким же, как несколько мгновений назад: обугленный остов корабля, валяющиеся в снегу трупы, монстр, готовый растерзать его товарищей, — но в то же время казалось каким-то далеким… Нет, изменились не расстояния, они были прежними, а все остальное: бледный свет сумерек стал еще слабее, мороз уже не казался таким колючим, снег больше не прилипал к одежде, а ветер не приносил никаких запахов — ни обгорелого дерева, ни паленого мяса, ни даже его собственного пота. Не хватало насыщенности, подлинности, блеска, чего-то такого, он не знал чего, благодаря чему вещи и существуют. Казалось, все отдалилось от него, оставаясь тем не менее на прежнем месте. Как будто все существовало теперь как воспоминание об этом месте, как прошлое этого места, но не как само место… И Уэллс внезапно понял, безошибочно, с болезненной уверенностью осознал, что с ним снова произойдет это и он опять совершит прыжок во времени. Трясущимися руками он поспешил поджечь фитили у динамитных патронов, молясь, чтобы его тело хотя бы несколько секунд еще побыло в этом настоящем. Он не знал, за сколько времени до прыжка появляются подобные признаки, такое постепенное обесцвечивание реальности, поскольку в прошлые разы, во сне и потом в резервуаре с воронкой, он их не сознавал, но надеялся, что ему достанет времени по крайней мере на то, чтобы метнуть гарпун. Он увидел, как напряглось тело монстра, готовясь к неминуемой атаке. Подожди, приказал Уэллс самому себе, не бросай, еще рано. И, разбежавшись, отвел руку назад и метнул гарпун в фигуру Посланника, уверенный, что промахнется и может даже по ошибке попасть в Аллана или Рейнольдса. Но, к удивлению писателя, гарпун вонзился в спину монстра, легко пробив подобие хрящевидного панциря. Посланник издал жуткий стон и неуклюже попытался выдернуть гарпун, корчась от боли. Его облик начал меняться, демонстрируя Уэллсу целую коллекцию тел, в которые монстр успел к настоящему времени перевоплотиться. А закончились эти метаморфозы тем, что он разлетелся на мелкие куски с глухим грохотом, показавшимся писателю таким же далеким, как маячившие на горизонте горы. Не успев отклониться, Уэллс поневоле принял душ из зеленоватой крови, за которым последовал град, состоявший из кусков мяса и обломков костей, и его тело внезапно засветилось, когда он в изнеможении упал на колени в снег. Дым от взрыва рассеялся, что позволило ему увидеть Рейнольдса и Аллана, сидевших на снегу и глядевших на него глазами, полными удивления и благодарности. Они были целы и невредимы, но словно бы бестелесны, как будто их нарисовали на простыне, повешенной против света.
Понимая, что добился цели, Уэллс наконец отдался своему странному ощущению. Он одержал победу, говорил он себе, в то время как накопившиеся усталость и напряжение преобразовывались в головокружение, становившееся с каждым разом все сильнее. Он почувствовал, что словно освободился от собственного веса, от собственной плоти, а благодаря этому — и от болезненной усталости, переполнявшей и связывавшей его. Но это ощущение длилось всего секунду. В следующее мгновение Уэллс ощутил, что вновь заключен в свое тело и несет тяжесть собственного веса. Внезапная рвота подступила к горлу и излилась на снег, оставив на нем замысловатые каракули. Он кашлянул раз, другой, третий, стараясь избавиться от головокружения. Когда в глазах у него прояснилось, он обнаружил, что стоит на коленях на прежнем месте, на том же снегу, который, казалось, вновь обрел свои первозданные свойства, как то холодить кожу и таять от тепла, делая одежду мокрой. Но, не увидев перед собой ни Аллана, ни Рейнольдса, он понял, что находится уже не в прежнем времени.
XLI
Хотя как он мог узнать, в каком году теперь находится, если его окружали точно такие же бескрайние снежные просторы, как те, которые он покинул, — без какого-либо признака цивилизации? Он мог с одинаковым успехом совершить прыжок как в прошлое, так и в будущее. Впрочем, это его особенно не заботило: где бы он ни оказался, условия здесь были те же, что в настоящем, то есть он по-прежнему находился во власти холода и усталости. Правда, нашлось и отличие: теперь он был здесь один. Когда голова перестала кружиться, Уэллс поднялся на ноги и безутешным взглядом обвел окрестности, убедившись, что его одиночество абсолютно: ни от «Аннавана», ни от взорванного монстра, ни от его товарищей не осталось и следа. Следов вообще никаких не было. Какой вывод он мог из этого сделать? Честно говоря, не слишком утешительный. Отсутствие корабля могло означать, что он находится в еще более далеком прошлом, до 1830 года. Хотя с тем же успехом мог находиться и в будущем, причем тоже достаточно далеком, потому что остатки корабля полностью исчезли. Как бы то ни было, он остался один посреди антарктической льдины, лицом к лицу с безжалостной стихией, без провизии, без надежды, без малейшего шанса выжить. Эта мысль повергла его в панику, и в течение нескольких минут Уэллс кричал в никуда, изливая свою ярость. Лучшее место для этого было трудно найти: что кричать, что не кричать там было все равно. Но вскоре, немного успокоившись и ощущая всем телом сладостную тяжесть усталости, он был уже готов без драматических кривляний примириться с тем, что умрет там от холода либо по меньшей мере от истощения. В любом случае это будет ужасная смерть. Его единственным утешением было сознание того, что он покончил с Посланником и предотвратил нашествие. Хотелось думать, что предотвратил, ведь сам Посланник говорил ему, что без него его собратья постепенно вымрут, отравленные воздухом чужой планеты. Да, он хотел умереть, веря, что вернул мир тому времени, в котором родился и жил.
Он зашагал без всякой цели, просто потому, что мороз легче переносился в движении. Шел куда глаза глядят, погруженный в унылый полумрак, что окутывал все вокруг, и с каждым шагом все больше ощущая свою заброшенность. Никогда в жизни не испытывал он такого страха, как теперь, ибо его ожидала медленная, мучительная и одинокая смерть, возможно, с бредом и галлюцинациями. Он умрет без почестей и свидетелей, словно его смерть — это какой-то унизительный спектакль, на котором никто не желает присутствовать. Он умрет только для самого себя. Умрет неведомо когда, не узнав, какой завершающий год будет выбит на его гипотетической надгробной плите. Но умирать так — это все равно что не умирать.
Поднялась жестокая снежная буря. В считанные секунды Уэллс перестал что-либо видеть вокруг. Дышать вдруг стало невыносимо трудно, словно он глотал острые лезвия, раздиравшие ему горло по пути к легким. Падающий снег засыпал его одежду, удваивая ее вес и затрудняя и без того судорожные движения, пока наконец усталость, но главным образом сознание бесполезности любых действий не заставили его вновь опуститься на колени. Мороз становился все более невыносимым, и он понял, что ему суждено замерзнуть. Он когда-то изучал процесс замораживания: маленькие кристаллики поначалу образуются в пальцах ног и рук, куда кровь из-за сужения сосудов будет поступать с трудом. Это вызовет абсолютно нестерпимую боль в конечностях, которые постепенно откажутся ему повиноваться, так что он не сумеет даже дотронуться большим пальцем до указательного. Затем наступит аритмия, затем полная потеря чувствительности, когда он перестанет ощущать свое тело и не сможет контролировать процессы мочеиспускания и дефекации. Потом начнутся перебои в дыхании, близкие к удушью, наступит паралич голосовых связок и гортани, и наконец, проведя несколько часов в неприятной онемелости, он потеряет сознание и умрет, даже не заметив этого. Устрашенный подобной перспективой, Уэллс свернулся клубком на снегу, выкрикивая проклятья, плача, смеясь, проклиная книги, в которых он вычитал то, что вскоре испытает на собственной шкуре. Время шло исключительно по инерции, а возможно, стояло на месте, ибо тут не было ничего, что отмечало бы его ход. Мороз настолько усилился, что преодолел собственные характеристики, превратившись во что-то иное, так что писатель уже не знал, где кончается холод и начинается он сам, поскольку все казалось ему единым. Да, он составлял с морозом единое целое и, как ни силился ощутить границы собственного тела, их не обнаруживал. Онемение дошло до такой степени, что Уэллс испугался, не умер ли он уже в какой-то момент, сам того не заметив. Однако он думал, рождал мысли, представлял себе улыбку Джейн, и это означало, что он еще жив, но скоро умрет, медленно угаснет, как костер, который никто не раздувает. Его охватила паника, и он почувствовал, как в каком-то уголке его мозга, также покрытого морозным инеем, возникло знакомое ощущение, что-то вроде дурноты, быстро распространившейся на всю голову И вдруг терзавший его холод исчез, потому что исчез и он сам. Уэллс почувствовал безмерное радостное облегчение, но в следующую секунду вновь очутился внутри своего онемевшего тела, напоминавшего ледяной саркофаг. Что-то теплое, вероятно, его наполовину растворившаяся душа, поднялось к самому горлу, и его вырвало. Но тошнота не проходила. Более того, она опять усилилась, и Уэллс ощутил, как снова покинул свою бренную оболочку и парит в воздухе, не испытывая никаких страданий, но в следующую же секунду боль и холод вернулись. Его дважды, трижды, бесконечное число раз стошнило, и какой-то частью своего мозга он понял, что перемещается во времени, сначала раз, потом другой, галопом наугад проносится сквозь года, а может, и века, оставляя свои пьяные следы в вечности. Его тело хотело избежать смерти, этого свирепого бесконечного холода, грозившего заморозить его душу. Но бесполезно было перемещаться во времени, если он не мог перемещаться в пространстве, если его раз за разом приветствовал все тот же негостеприимный пейзаж, та же снежная равнина, упорно желавшая стать его могилой и то погруженная в непроглядную мглу, то едва освещенная мертвенными лучами солнца, которое напоминало каплю ртути. Он не мог убежать из этого места, которое, похоже, было древнее, чем время. Вскоре, совершенно обессиленный после всех этих операций, он заметил, что его наконец перестало тошнить и голова больше не кружилась. Снег теперь слегка поблескивал в неярком свете, а мороз заметно ослабел. Температура, видимо, не превышала трех-четырех градусов, к радости изнуренного Уэллса, выдавившего из себя подобие улыбки. Какое-то время он неподвижно лежал на снегу, ожидая очередного перемещения, но его не последовало. Вероятно, подумалось ему, он заставил таинственную машинку в своем мозгу потрудиться сверх меры, вот она и сгорела. Он и сам был близок к тому, чтобы окончательно потерять сознание. Подобно «Аннавану», застрявшему во льдах, его тело застряло в неведомом году, о котором ему было известно лишь то, что он станет годом его смерти.
И тут он увидел лицо Бога.
Это было темное желтоватое лицо с выдающимися скулами, которое украшали немного скошенные уши, свидетельствовавшие о мудром простодушии. Некоторое время оно внимательно разглядывало его, словно раздумывало, относится ли этот смертный к его стаду. Но, видимо, поскольку он исправил свою ошибку и спас планету, Бог посчитал, что он должен жить. Он поднял Уэллса своими маленькими руками и уложил на сани. Остатками угасающего сознания писатель уловил, как его чем-то накрывают, укутывают, а затем услышал резкий звук, похожий на скрип, и вскоре догадался, что его производят полозья саней, скользящие по снегу. Бог куда-то вез его, и через какое-то время, спустя часы, дни, а может, века, он услышал голоса, повторявшие на все лады слова, значения которых он не понимал, и ощутил прикосновение рук, ощупывавших и раздевавших его, а потом мир окончательно перестал кружиться, застыв на одном и том же теплом ощущении благополучия. И хотя сквозь туман, в который было погружено его сознание, Уэллс не мог как следует разобрать, что происходит, он заметил, что холод исчез. Он больше не ощущал его жестоких укусов, и постепенно к нему вернулось ощущение собственного тела, его забытых размеров: он стал чувствовать свои ноги, вроде бы укрытые одеялом, свою спину, лежавшую на чем-то приятно упругом, свою голову, утонувшую в мягкости подушек. Он снова начал вписываться в этот мир. И в один прекрасный день, неизвестно, сколько времени спустя, он проснулся на койке в теплой и уютной каюте. Он находился, по-видимому, на стоянке китобоев, живой и, кажется, невредимый, хотя правая рука у него была забинтована. По обстановке и одежде людей, время от времени заходивших в каюту, он не мог понять, в какой эпохе находится, и потому, к всеобщему удивлению, ознаменовал свое пробуждение вопросом, какой нынче год. 1865-й от Рождества Христова, отвечали ему. Уэллс с улыбкой кивнул. Не так уж далеко он забрался. Вероятно, он совершил и более длинные прыжки, пока агонизировал в снегу, но узнать это не было никакой возможности. Он удалился на тридцать пять лет от того дня, когда вонзил гарпун в чудовищное тело Посланника, и всего год оставался до того момента, когда в Бромли, в жалком домишке, кишащем тараканами, появится на свет человек, который будет его точной копией.
Через пару дней местный врач снял ему повязку, и Уэллс обнаружил, что у него ампутированы два пальца, большой и указательный, но посчитал это незначительной платой за то, что не замерз во льдах и сохранил себе жизнь. Он провел еще не меньше недели на грубо сколоченной, но уютной койке, набираясь сил, и в тишине упивался своей невероятной победой над Посланником, воскрешая в памяти день за днем события злополучной экспедиции, свои сомнения, страхи, самые последние драматические мгновения, когда он уже думал, что погиб и все усилия напрасны. Неужели это он совершил такой подвиг? В эти же дни ему удалось разобраться с некоторыми вопросами, которые накопились в его голове, прежде занятой более важными делами. Он вспомнил, что где-то прочел, возможно, в одной из многочисленных статей, посвященных балтиморскому писателю, что Эдгар Аллан По вместе с Джереми Рейнольдсом благополучно вернулись из загадочной экспедиции, которая завершилась бунтом и которую он до сих пор не догадывался связать с плаванием «Аннавана». Значит, эти двое все же ухитрились похоронить Посланника подо льдом — вероятно, на них внезапно снизошло вдохновение, и они в какой-то момент бросились к тому борту, где лед был гораздо тоньше? — и каким-то образом вернулись в цивилизованное общество, решив никому не сообщать о том, что в действительности произошло с ними у Южного полюса. Но теперь Уэллс знал правду. И не винил их за то, что они всех обманули. Да разве бы им поверили? Скорее всего, сочли бы, что оба спятили. Поэтому лучше было сочинить историю про бунт на корабле и уповать на то, что все это со временем забудется и они смогут возобновить свою жизнь с того места, на котором она приостановилась. Уэллс не помнил, что сталось с Рейнольдсом, но По превратился в одного из лучших в мире писателей. Он сам называл его одним из своих любимых авторов, как мы уже упоминали, и увлеченно читал все его книги, включая «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима», это болезненное произведение, проникнутое подспудным страхом, истоки которого стали ему понятны только теперь.
Выздоровев, Уэллс отплыл в Нью-Йорк, а оттуда, со спокойной улыбкой на губах, в Лондон. Вот теперь он мог начать новую жизнь, не мучаясь угрызениями совести. Он ее заслужил. И хотя мог поселиться в любом месте Америки, предпочел вернуться в свою страну. Он хотел снова обойти Лондон и in situ[14] убедиться, что все в порядке. Но прежде всего, признался себе он, ему было необходимо находиться поближе к Уэллсу, который должен был родиться в будущем году, издали наблюдать за его жизнью, возможно даже опекать. Да, ему нужно увидеть, как сложится жизнь, которой сам он уже не сможет жить, поскольку теперь ему надо задуматься об ином существовании, и отсутствие большого и указательного пальцев на его правой руке, которыми прежде он держал ручку, подсказывает, что он отныне будет довольствоваться обычной жизнью. Просто станет одним из многих.
XLII
Герберт Джордж Уэллс прибыл в Лондон за год до своего рождения.
Во время долгого плавания он в основном любовался с палубы судна бескрайним, переливающимся всеми цветами радуги океаном и, располагая более чем достаточным временем, строил планы на будущее: он начнет новую жизнь под фальшивым именем Гриффина и, вероятно, отрастит бороду и волосы, чтобы его никто не узнал, хотя это, по-видимому, излишне, поскольку, когда настоящий Уэллс — почему он считал про себя того, второго, настоящим? — достигнет его возраста, он уже превратится в почтенного старца, чьи морщины заменят любую маскировку. Но его ждут дела и поважнее, напомнил он себе, например выбор места, где он собирается начать эту самую запланированную новую жизнь. Рассмотрев несколько вариантов, он остановился на Вейбридже — не только потому, что это местечко в окрестностях Лондона сильнее других пострадало во время марсианского нашествия, но и потому, что оно находилось близко как к столице, так и к Уокингу и Вустер-парку, городкам, где поселится другой Уэллс. Одно было для него очевидно: он построит новую жизнь — а что ему еще остается делать? — но эта жизнь станет существованием как бы по инерции, потому что он никогда не сможет считать ее своей. Это будет жизнь, ограниченная лишь самым необходимым, лишенная всего того, что не связано с процессом еды или дыхания. Его же истинной жизнью, той самой, что приносит непременные радости и несчастья, будет жить другой Уэллс, и его новое существование в роли изгоя приобретет какой-то смысл только в том случае, если он окажется поблизости и сможет греться в лучах той славы. Да, только так, сделавшись свидетелем важнейших событий в жизни своего двойника, тех, которые он когда-то пережил, и тех, которые ему уже не суждено пережить, он может стать счастливым. В конце концов, для этого он и возвратился в Англию. Что произойдет с его жизнью, ему, в сущности, не важно. Достаточно, чтобы она была по возможности спокойной и умеренной, далекой от всяких тревог и потрясений, которые заставили бы его совершить новый прыжок во времени. И он постарался, чтобы она стала именно такой: поселился в Вейбридже, нашел работу в аптеке, и дни потянулись один за другим тихой маленькой речкой, в которую ему совершенно не хотелось забрасывать свою удочку. Он привык влачить тоскливое существование, граничившее со спячкой.
Но иногда он нанимал экипаж и отправлялся посмотреть на свою настоящую жизнь: так, он приветствовал собственное рождение в домишке, расположенном в Бромли, где его родители держали маленькую посудную лавку. Видел, как в семилетнем возрасте он вырвался из рук сына хозяина паба и сломал берцовую кость, ударившись о железный штырь палатки, где разливали пиво. Видел, как с задранной к потолку ногой читает «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима». Видел, как восхищался его живым умом мистер Морли, заведовавший академией Бромли. Видел, как погибает со скуки в мануфактурной лавке Роджерса и Деньера в Виндзоре, куда его отправила работать мать, а позже видел себя в числе учеников средней школы в Мидхерсте, среди которых он сильно выделялся, откуда его снова забрали в возрасте пятнадцати лет и пристроили учеником в мануфактурный магазин мистера Эдвина Хайда в Саутси.
Все это Уэллс наблюдал с разумного расстояния то с волнением, то с ностальгией и строго следил за тем, чтобы порядок развертывавшихся перед ним событий не нарушался. Он должен добиться, чтобы его близнец пункт за пунктом делал все то, что некогда делал он сам. Однако, добравшись до того эпизода в своей жизни, когда его двойник должен был поступить в качестве ученика в «Мануфактурный дом Саутси», Уэллс решил, что пришла пора вмешаться: было кое-что в его жизни такое, что он давно хотел изменить. Он долго над этим размышлял, исследовал все возможные последствия своего вмешательства и наконец пришел к выводу, что оно все-таки не настолько значительно, чтобы вызвать серьезные изменения. Тогда Уэллс отправился в Саутси и, остановившись перед зданием магазина, погрузился в воспоминания. Он вспомнил, каким несчастным чувствовал себя, не понимая, отчего его мать так упорно стремилась, чтобы его жизнь прошла вдали от школы и университета, почему он должен был учиться ненавистному ремеслу приказчика и заниматься им до конца своих дней, как будто на свете не существует более достойной профессии. И хотя сейчас Уэллс не мог увидеть самого себя, потому что для этого ему бы пришлось рискнуть и войти внутрь либо подсматривать из-за какой-нибудь витрины, он представил себе, как разглаживает товар, демонстрируя его клиентам, как развертывает и вновь свертывает кружевные занавески, как убеждается, насколько трудно управляться с узорчатыми тканями, как перетаскивает с места на место манекены, следуя непостижимым указаниям мистера Хайда, и все это время в кармане его униформы непременно лежит какая-нибудь книга, и ему, несмотря на все старания, приклеивают ярлык рассеянного и нерадивого работника.
Уэллс совсем утонул в воспоминаниях, но вдруг увидел, как сам он выходит из здания и усталой походкой, с тоскливым выражением лица направляется к набережной Саутси. Он незаметно следовал на расстоянии за юношей, пока тот не остановился перед темной водой, где обычно стоял около часа, обдумывая возможность самоубийства. Если такой будет вся его жизнь, лучше с нею сразу покончить, представил Уэллс мысли своего близнеца. И пожалел этого щуплого, бледного юношу, обделенного судьбой. На самом деле, если ему не изменяла память, он никогда не считал самоубийство достойным решением, однако холодные объятия волн в сравнении с поджидавшим его неблагодарным будущим не казались ему такой уж ужасной альтернативой. Если жизнь не слишком хороша, почти слышал он свои тогдашние мысли, то зачем жить? Жизнь — не обязательная повинность, это дело добровольное. Уэллс сочувственно покачал головой в ответ на терзания юноши. Он знал, что всего через несколько месяцев его положение счастливо изменится, когда он наконец взбунтуется против своей матери, напишет письмо Хорасу Байятту с просьбой о поддержке и тот предложит ему место помощника учителя в своей школе в Мидхерсте и двадцать фунтов в год. Но юноша, тоскливо вглядывавшийся сейчас в темные волны, еще не знал, что ему удастся избежать ненавистной карьеры торговца мануфактурой и обеспечить себе вполне приемлемую жизнь в качестве писателя. Уэллс направился к нему вдоль набережной, готовясь вторгнуться в свою юность и заговорить с самим собою. Он надеялся, что морщины, испещрившие лицо, помешают юноше его узнать, а главное — что после такого расчетливого вмешательства в ход событий земля не разверзнется и вообще не произойдет ничего сверх того, что он собирался осуществить.
— Самоубийство — это такая штука, которая всегда у нас под рукой, — сказал он, подойдя, мягким тоном, — а потому рекомендуется сначала испробовать все другие варианты.
Юноша обернулся и с подозрением вгляделся в него. И за эти несколько секунд, что они рассматривали друг друга, Уэллс успел изучить себя бывшего. Так вот как он выглядел в пятнадцать лет, подумалось ему. Его поразил простодушный взгляд юноши, губы, еще не сложившиеся в ироническую улыбку, преувеличенно трагические жесты. Он выглядел ужасно хрупким и беззащитным, хотя с нелепой отвагой, присущей молодости, мнил себя в чем-то непобедимым.
— Я и не думаю о… — начал говорить он, шевеля губами, над которыми еще не выросли усики, и вдруг остановился, а потом спросил растерянно и в то же время вызывающе: — Откуда вы знаете?
Уэллс доброжелательно улыбнулся в ответ, надеясь, что это поможет наладить непринужденный разговор.
— Ну, об этом нетрудно догадаться, — с беспечной веселостью в голосе заметил он. — Особенно тому, кого в юности одолевали те же мысли, когда он смотрел на эти воды с тоской и тревогой, как сейчас это делаешь ты. Я тоже думал, что самоубийство — наилучшее решение моих проблем. — Уэллс тряхнул головой, показывая, как больно ему сейчас об этом вспоминать. — Но прежде следует побороться, поискать другие варианты. Если ты недоволен своей жизнью, парень, постарайся ее изменить. Еще рано считать себя побежденным. Поражение не бывает окончательным до самой смерти, только она знаменует конец всему.
Юноша смотрел на него все еще с некоторым недоверием. Чего хочет этот незнакомец? Почему он подошел к нему и заговорил в подобном тоне?
— Кто бы вы ни были, спасибо за совет… — сдержанно поблагодарил юноша.
— Да я, можно сказать, никто… — Уэллс пожал плечами, сделав вид, будто внимательно разглядывает побежавшие по воде барашки. — Просто посторонний, встречавший тебя здесь множество раз. Ты ведь работаешь в магазине мистера Хайда, верно?
— Да, — ответил юноша, заметно недовольный тем, что за ним, оказывается, шпионил какой-то незнакомец, чьи намерения он никак не может распознать.
— И наверняка думаешь, что заслуживаешь лучшей участи, нежели служить простым приказчиком в мануфактурной лавке, — продолжал Уэллс, стараясь, чтобы его голос звучал как можно дружелюбнее. — Но не вини себя за это. В твоем возрасте я думал то же самое, когда был вынужден выполнять такую же неблагодарную работу, не приносившую мне ни радости, ни удовлетворения. Я мечтал стать писателем, понимаешь?
Юноша посмотрел на него с некоторым интересом, хотя Уэллс знал, что в этом возрасте он еще не решил избрать писательскую карьеру. Он любил читать, что правда, то правда, но пока не знал своих возможностей. Так продолжалось до тех пор, пока он не поступил в Лондонский педагогический колледж, где читал лекции профессор Гексли, и не начал набрасывать первые рассказы своим некрасивым угловатым почерком, который постарается улучшить во время пребывания в Холтовской академии в Рексхэме. Но это будет потом, а пока месяцы, проведенные в Мидхерсте, где его наставником был Хорас Байятт, пробудили в тогдашнем юном Уэллсе чувство восхищения фигурой воспитателя, приносящего обществу несравнимо больше пользы, нежели писатель.
— И получилось? — полюбопытствовал юноша, выведя Уэллса из состояния задумчивости.
— Что?
— Стать писателем. Получилось?
Уэллс немного помедлил, обдумывая ответ.
— Нет, я всего лишь скромный аптекарь, — пожаловался он. — И живу самой обычной жизнью. Потому-то я и решился дать тебе этот совет, парень, что знаю: нет ничего ужаснее, чем жить жизнью, которая тебе не нравится. Если ты считаешь, что у тебя есть что дать миру, стремись к этому всеми твоими силами. Иначе в конце концов превратишься в печального и угрюмого аптекаря, что грезит наяву, сочиняя истории, которые никогда не напишет.
— Сочувствую вам, — сказал юноша, не дав себе труда хотя бы изобразить на лице огорчение. Потом немного помолчал и смущенно добавил: — Можно спросить вас, почему вы в таком случае не покончили жизнь самоубийством?
Вопрос удивил Уэллса, хотя вроде бы и не должен был, поскольку был всего лишь ранним проявлением его собственного прагматизма: если очевидно, что все варианты исчерпаны, то зачем влачить столь неприглядное существование?
— Ну, в общем… — задумался он. — Я живу благодаря книгам.
— Благодаря книгам?
— Да, чтение — единственное, что приносит мне удовольствие, а сколько еще книг не прочитано… Только для этого и стоит жить. Книги делают меня счастливым, помогают забыть о действительности. — Уэллс обвел взглядом успокоившуюся водную гладь и улыбнулся. — Писатели выполняют чрезвычайно важную работу: заставляют мечтать остальных, тех, кто неспособен мечтать самостоятельно. А мечтать необходимо всем на свете. Так может ли быть работа важнее этой?
Уэллс замолчал, немного сконфуженный назидательными нотками, которые прозвучали в его словах, хотя, с другой стороны, они, по-видимому, не произвели большого впечатления на юношу. По презрительной усмешке, заигравшей на его губах, Уэллс догадался, что его собеседник перебирает про себя множество вещей, куда более полезных для общества, чем книги, хотя не решается вступить в открытый спор. А может, ему просто все равно, что думает незнакомец. Юноша поднял с земли небольшой камень и швырнул его в воду, словно давая этим понять Уэллсу, что, с его точки зрения, этот странный разговор несколько затянулся. Только теперь писатель обратил внимание на небольшую повязку возле его подбородка, которая раньше была ему не видна.
— Что с тобой приключилось? — спросил он, указывая на нее.
— Упал с лестницы утром, когда перетаскивал рулоны кретона. Иной раз я нагружаю на себя больше, чем надо, чтобы поскорее с этим покончить, но сегодня явно перестарался, — ответил юноша с несколько отсутствующим видом. — Боюсь, что останется ужасный шрам.
Уэллс порылся в памяти, пытаясь отыскать в ней это падение, но безуспешно. Хотя в любом случае было очевидно, что никакого шрама не останется по той простой причине, что его лицо под густой бородой было совершенно гладким.
— Я бы не слишком волновался из-за этого, — успокоил он юношу. — Уверен, рана не настолько серьезна, как кажется.
Юноша равнодушно улыбнулся, как будто в глубине души ему было все равно, и Уэллс решил, что настал момент направить разговор в сторону действительной причины, побудившей его вступить в диалог с самим собой.
— Хочешь, расскажу, какую последнюю историю я сочинил? — беспечным тоном предложил он.
Юноша мрачно пожал плечами, словно это тоже его не слишком интересовало, и писатель сделал над собой усилие, чтобы проглотить обиду. Стараясь выглядеть беззаботным, он сказал, указывая на звездное небо, раскинувшееся у них над головами:
— Взгляни на звезды, парень. Ты когда-нибудь думал о том, что, возможно, некоторые из миллионов миров, существующих во Вселенной, обитаемы, что там есть жизнь?
— Нет… Да… Не знаю… — торопливо забормотал юноша.
— А я думал. Например, на Марсе, соседствующем с нашей планетой, чтобы далеко не ходить. Ты знаешь, что итальянский астроном Скиапарелли обнаружил на поверхности Марса сложную сеть каналов бесспорно искусственного происхождения?
Уэллс знал, каким будет ответ, и поэтому не удивился, когда юноша кивнул, немного заинтригованный.
— Так вот, вообрази, что марсиане существуют и что их наука сильно превосходит нашу. Представь себе также, что их планета погибает, потому что за долгое время своего существования марсиане истощили все ее ресурсы. Это поставило их перед выбором: либо они срочно переселяются на другую планету, либо их раса вымрет. Наиболее благоприятные для них условия существуют на Земле, и они решают ее захватить.
— Жуткая история… — проговорил юноша, и в глазах его мелькнул неподдельный интерес. — Продолжайте.
Уэллс улыбнулся, довольный, что завладел его вниманием. Он знал, что подобная история способна увлечь его и в пятнадцатилетием возрасте, и тогда, когда он станет стариком. Прочитав сотни романов, он обнаружил, что только те из них, в которых содержался некий фантастический элемент, были способны вызвать в его мозгу вспышку неизъяснимого наслаждения, сравнимую разве что с оргазмом. Он не ведал, почему остальные книги не вызывали у него такого ощущения, и не понимал, почему оно незнакомо многим людям. Все это привело Уэллса к мысли о том, что его тяга к фантастическому обусловлена какой-то биологической причиной, однако современная ему наука не была настолько передовой, чтобы позволить себе терять время на ковыряние в мозгу человека с целью объяснить тайну его страстей.
— Представь себе, что марсиане прибыли на Землю, — продолжал он, заметив нетерпение юноши, — преодолев шестьдесят миллионов километров бездонной тьмы, разделяющих нас, в особых цилиндрах, запущенных с их планеты из мощного орудия, и как только оказались здесь, сразу же построили боевые машины, разрушившие наши города. Вообрази зловещие треножники на длинных и тонких ногах высотой двадцать и более метров, которые сметали деревья, дома и все, что попадалось на их пути, а из их верхней части бил своего рода тепловой луч, позволявший им одерживать легкую победу над любой земной армией. С такими машинами марсиане могли завоевать нас в считанные недели, даже дни.
— Хотелось бы прочесть эту историю, — робко, но твердо признался юноша.
— Дарю тебе идею, — радостно сообщил Уэллс. — Можешь изложить ее на бумаге, когда захочешь. Тогда и я смогу это прочесть.
Юноша покачал головой и застенчиво улыбнулся.
— Боюсь, я не слишком люблю писать, — извиняющимся тоном проговорил он.
— Возможно, со временем полюбишь, — успокоил Уэллс. — Как знать? А вдруг такова твоя судьба, парень: стать писателем. Как тебя зовут?
— Герберт Джордж Уэллс, — ответил юноша. — Слишком длинное имя для писателя.
— Ты всегда сможешь сократить его. — Уэллс дружески улыбнулся и протянул ему руку. — Рад был познакомиться с тобой, Джордж.
— Я тоже, — ответил тот и в свою очередь протянул руку.
Стоя на набережной Саутси, за которой начиналась черная водная гладь, человек обменялся рукопожатием с самим собой, и при этом Вселенная не взорвалась и не сигнализировала каким-нибудь иным способом об аномалии. Уэллс почувствовал тепло собственной руки на своей же ладони, наклонив голову, простился с собой и зашагал прочь. Но, сделав несколько шагов, вернулся к юноше.
— Ну и последнее… — улыбнулся он, делая вид, будто забыл самое важное из того, что хотел сказать. — Если ты когда-нибудь напишешь эту историю, не делай победителями марсиан, как бы тебе ни хотелось покритиковать британский колониализм.
— Но я не собираюсь… — начал было его двойник.
— Пусть в финале марсиане будут разгромлены, прошу тебя. Не отнимай у читателей надежду.
Юноша скептически усмехнулся.
— Хорошо, так и сделаю. Если когда-нибудь дойдет до этого, обещаю вам, что закончу именно так. Вот только… — засомневался он, — как победить эти мощные марсианские машины?
Уэллс пожал плечами.
— Понятия не имею, но уверен, ты придумаешь что-нибудь. Времени у тебя еще хоть отбавляй.
Юноша кивнул, недоумевая, чем вызвана просьба незнакомца. Уэллс поднес руку к шляпе, прощаясь, и направился в ту сторону, откуда пришел, но в то же время продолжал оставаться на набережной, вслушиваясь в шепот черных вод, и на губах его впервые играла ироническая улыбка.
XLIII
Должно было пройти семнадцать лет для того, чтобы этот юноша, ставший волею своей упрямой судьбы писателем, опубликовал «Войну миров». Когда наконец роман попал Уэллсу в руки, он перелистал хорошо знакомые страницы с такой же грустью, с какой перелистывал страницы своей жизни за истекшие годы, вместившие множество событий: юноша с набережной, за которым он наблюдал, вырос, с облегчением покинул мануфактурный магазин в Саутси, став помощником Байятта, получил стипендию Лондонского педагогического колледжа, женился на своей кузине Изабелле, зная, что вскоре разведется с ней и переселится на Морнингтон-плейс вместе с Джейн, пережил приступ кровавой рвоты на лестнице вокзала Чаринг-кросс, опубликовал «Машину времени», повздорил с основателем фирмы «Путешествия во времени Мюррея», переехал в домик с садом в Уокинге… И все это произошло точно так, как должно было произойти, Уэллс не заметил ни малейших отличий, которые могли бы хоть как-то изменить события. И вот теперь, держа в руках роман, он мог проверить, принес ли какую-нибудь пользу тот рискованный разговор, который он вел с самим собой на набережной Саутси.
Роман почти полностью совпадал с написанным им ранее текстом, отличаясь от него, как он с радостью убедился, двумя вещами: марсиане воевали не на воздушных кораблях в форме морского ската, а в треножниках, напоминавших гигантских пауков, что должно было произвести на читателя более жуткое впечатление. Эти страницы даже заставили его вновь пережить ужас, испытанный им, когда он убегал от настоящих треножников в иной жизни, которая иногда казалась ему чем-то вроде дурного сна, но тем не менее оставила в его душе глубокий след, отчего по ночам его нередко мучили кошмары. Однако замена летательных аппаратов треножниками все-таки не играла существенной роли. Причина, по которой Уэллс решился на разговор со своим пятнадцатилетним «я», заключалась в том, чтобы убедить его изменить финал книги, и ему было приятно удостовериться, что юноша так и сделал. Если в первоначальной версии марсиане захватывали планету и превращали немногих уцелевших людей в рабов, то в романе, написанном его близнецом во времени, захватчики погибали через несколько дней после начала вторжения, хотя люди к этому отношения не имели. Ну разумеется, что бы они могли поделать? Могучих марсиан победили ничтожнейшие существа, которыми Господь в своей бесконечной мудрости некогда населил Землю: бактерии. Да, после того как оружие людей оказалось бессильным, эти микроскопические создания, которые уже взяли свою дань с человечества еще в доисторические времена и беспощадно истребляли его, пока оно не выработало в себе способность к сопротивлению и не стало неуязвимым, незаметно и деловито набросились на марсиан, как только те прибыли на нашу планету, неся им смерть. Поскольку бактерии на Марсе отсутствуют, его обитатели не выработали против них никаких защитных мер. Можно сказать, они были обречены еще до того, как ступили на Землю. Приятно удивленный, Уэллс был вынужден признать, что юноша с набережной с честью справился с задачей, которую он перед ним поставил, и нашел достаточно оригинальный и неожиданный способ покончить с марсианами, несмотря на их мощные машины. Было очевидно, что читатель закроет эту книгу, в отличие от предыдущего варианта, с улыбкой надежды на лице. Надежды, о которой говорил Сервисс.
Поэтому он обрадовался, удостоверившись два месяца спустя, когда его близнец обедал с Сервиссом в трактире «Корона и якорь», что в глазах американского журналиста теперь нет ни тени упрека. В мире, где он находился и который не был его миром, хотя подозрительно на него походил, «Война миров» Г. Дж. Уэллса тоже рассказывала об ужасном и неожиданном вторжении марсиан, от которого, однако, человечество было спасено в последний момент рукою Господа, такой же невидимой, как зародыши болезней, которые она распылила над планетой. Критика наглого британского колониализма стала в романе гораздо более меткой и тонкой, Уэллс должен был это признать. Правда, лучик надежды, появившийся в финале, все равно не помешал Сервиссу написать «Эдисоновское завоевание Марса», как он это сделал и в родной действительности. Как я уже объяснял, книжонка Гарретта П. Сервисса претендовала на то, чтобы стать второй частью «Войны миров», в которой герой, то и дело взывающий к мести, словно обиженная баба, летит к марсианам вместе с несносным Эдисоном. С целью высказать свое возмущение такой наглостью, а также подвергнуть уничтожающей критике роман Сервисса и объяснить ему, какое впечатление на самом деле производит его бесстыжий Эдисон, и отправился двойник Уэллса на встречу в упомянутом трактире. Уэллс наблюдал за этой встречей двух писателей, сидя за задвинутым в угол столом. Встречей, которую его близнец воображал как удар двух камней друг о друга, чтобы извлечь огонь, но которая в итоге пошла по другому сценарию. Из своего угла Уэллс увидел входящего себя, превратившегося во взрослого мужчину за тридцать, и шагнувшего ему навстречу Сервисса. С грустной улыбкой он наблюдал, как изначальная напряженность его близнеца постепенно исчезала под напором страстных и беспорядочных речей Сервисса, а особенно — под воздействием содержимого выстраивавшихся на столе, как на параде, все новых и новых кружек. К тому времени, когда они закончили обедать, алкоголь уже сделал свою работу, сблизив их до такой степени, что они казались родными братьями. Когда, спотыкаясь и хохоча, они покинули трактир, Уэллс последовал за ними. Однако они не стали брать экипаж, чтобы немедленно помчаться в музей, как поступили в прошлый раз. Нет, они ограничились горячими рукопожатиями, бурными заверениями в дружбе и бесконечными обещаниями скоро увидеться, после чего каждый пошел своей дорогой. Стоявший у дверей трактира Уэллс улыбнулся, почувствовав огромное облегчение. Все эти годы он жил, мучимый вопросом, изменил ли он будущее, и вот наконец получил этому подтверждение: они не поехали в музей, потому что там не было никакого марсианина. Уэллс уничтожил его во льдах далекой Антарктиды. Марсианин разлетелся на куски и бесследно исчез. Возможно, летательный аппарат и теснится среди сотен предметов, которыми битком набита Палата чудес, однако Сервиссу, очевидно, он не показался столь достойным объектом для показа, как марсианин, с которого и началось то, что потом произошло. Итак, на этом его воспоминания заканчиваются. Отныне, подумал Уэллс, довольной походкой направляясь к ближайшей станции, чтобы сесть в поезд до Вейбриджа, все, что случится с его двойником, станет сюрпризом и для него самого.
Пока писатель ехал в поезде, он размышлял над тем, спас ли он и своих товарищей, уничтожив Посланника. Было очевидно, что была спасена Джейн — та Джейн, из иной реальности, за которой он иногда следовал по лондонским улицам, когда она ходила в свои любимые магазины, или разъезжал на велосипеде в окрестностях Вустер-парка, чтобы наблюдать за тем, как она неизменно возвращается домой и попадает в объятия его двойника, и испытывать при этом странное чувство ревности и в то же время удовлетворения. Выходит, он спас ее для того, чтобы ее ласкал другой, злился он и снова и снова напоминал себе: тот, другой Уэллс, — это тоже он, и надо только радоваться тому, что его второе «я» так к ней относится, ведь его бы очень огорчило, если бы со временем он перестал ее любить, а такое могло бы произойти, сколько бы он ни рисковал жизнью, чтобы провести рядом с ней остаток своих дней. Спас он от той действительности и Чарльза, которого ему нравилось встречать у входа в какой-нибудь театр — просто так, чтобы полюбоваться на элегантного и состоятельного молодого человека, который улыбался знакомым ослепительной белозубой улыбкой, а иной раз даже услышать одну из его иронических сентенций по поводу того, куда идет страна, или на другую актуальную тему: словно Уэллс хотел таким образом стереть в памяти его прежний образ и не видеть больше, как грязный и взъерошенный Чарльз улепетывает по сточному каналу от страшных чудовищ. Точно так же он спас и Мюррея, и Эмму, и капитана Шеклтона с его возлюбленной Клер, и агента Клейтона, и кучера, чьего имени он не помнил… Да, где бы они ни находились, никому из них теперь не придется пережить марсианское нашествие. Они могут безбоязненно продолжать жить по-прежнему, что, впрочем, и делают. Ну а как же другие — их близнецы из иной реальности? — подумал он. Спас ли он и их тоже? Был ли уничтожен тот мир, исчез ли после того, как он ликвидировал Посланника в Антарктиде, или его действия привели к образованию развилки, еще одной ветви на пышном древе времени? Не оказались ли его товарищи в какой-то иной вселенной? Не стали ли они пленниками инопланетян? Конечно, Уэллс предпочел бы ответить на эти вопросы отрицательно. Ему хотелось бы думать, что с гибелью Посланника эта временная линия исчезла, растворилась без остатка. И если он прислонит ухо к стене, ограждающей Вселенную, то не услышит из-за нее страдальческих криков тех, кто по-прежнему находился в соседнем аду. Потому что ничего этого никогда не было.
Но имелась одна деталь, делавшая эту теорию не слишком убедительной: его память, те воспоминания о нашествии, что таились в его голове. Как можно помнить о том, чего никогда не было? Уэллс любил пофантазировать насчет существования так называемых параллельных миров, возникавших после каждого сделанного человеком выбора, каким бы незначительным он ни был. Если я сегодня обедаю дома, то со мной ничего не случится, но если я решу пообедать в трактире «Кларидж», то заработаю себе расстройство желудка, потому что съем что-то несвежее, и из-за этого маленького решения моя жизнь разделится на две различные реальности, которые будут существовать одновременно и параллельно, хотя я смогу воспринимать только одну из них. Теперь-то он уже не сомневался в том, что параллельные миры существуют: если бы он не уничтожил Посланника, планета пережила бы нашествие марсиан, но, поскольку тот мертв, никакого нашествия не будет. Хотя означало ли это, что та реальность перестала существовать? Нет, реальность, в которой произошло нашествие, существовала, тому было множество доказательств, и логичным было предположить, что она продолжает существовать где-то по ту сторону той, в которой он сейчас жил. Для тех, кто оставался в канализационных туннелях после его исчезновения, он просто таинственно растворился, а возможно, захлебнулся в лагуне и был унесен куда-то далеко водами Темзы. Никто из них не знал о его подвиге, потому что он никак на них не отразился…
Похоже, такова была печальная действительность, и нужно было учиться жить с нею. Уэллс пытался утешить себя тем, что ему по крайней мере удалось создать мир, где нашествие никогда не случится. Он прикрыл глаза и снова, в который раз, предался воспоминаниям о вторжении, накопившимся в мозгу, освежил их, отчистил до блеска, словно столовое серебро. С теплой улыбкой вспомнил Мюррея и то, как постепенно менял свое мнение о нем. Непостижимо, но благодаря марсианской алхимии его ненависть медленно превратилась во что-то такое, что он не мог определить иначе как уважение. Тут он сообразил, что через пару дней его близнец вынет из почтового ящика письмо Мюррея. Он вскроет его дрожащими пальцами, как поступал и с приглашениями совершить путешествие в будущее, пытаясь отгадать, чем вызвано это послание. Но так и не смог поверить, что оно продиктовано любовью. И его двойник будет возмущаться наглостью Мюррея, посмевшего просить у него помощи в воспроизведении вторжения марсиан, описанного в его романе. Он ошеломленно прочтет письмо несколько раз, не веря собственным глазам, но так на него и не ответит. Засунет конверт между страницами своего романа и забудет про письмо. Но после того, что им пришлось вместе пережить, он больше не испытывал к миллионеру злобы. Любовь изменила Мюррея, превратив в человека, способного пожертвовать собой ради других. Прощаясь с ним в лондонском подземелье, Уэллс попросил прощения за то, что не ответил на его письмо. Если бы я получил его сейчас, сказал он, то непременно бы ответил. Именно это и произошло два дня спустя: он снова его получил. Так что, придя домой, он выложил на стол лист бумаги, свое вечное перо и долго обдумывал ответ. Разумеется, он не сможет помочь Мюррею воспроизвести марсианское вторжение — у него не было таких средств, и к тому же он считал, что это вообще ни к чему. Он вспомнил, как во время их бегства от марсиан мисс Харлоу постепенно проникалась все более нежными чувствами к Мюррею, как она смеялась, когда миллионер пытался подоить корову на ферме, где они остановились по дороге в Лондон. Вот чего должен добиваться Мюррей, это так просто. Уэллс нагнулся над листком и своим наклонным, чуточку детским почерком, который выработался у него за годы письма левой рукой и так отличался от его былого почерка, искусного, нервного и торопливого, с округлыми плоскогорьями и неожиданными пиками, начал заполнять каракулями страницу, которая принесла ему большее удовлетворение, нежели любая из написанных им страниц на протяжении одного и другого существования:
Дорогой Гиллиам!Каким бы странным тебе это ни показалось, я почувствовал себя счастливым, узнав, что ты влюбился. Однако я мало чем могу тебе помочь, разве что посоветовать не тратить силы на то, чтобы воспроизвести вторжение марсиан. Сделай лучше так, чтобы она смеялась. Да, добейся, чтобы эта девушка смеялась, чтобы ее смех звенел в воздухе, как серебряные монетки в кошельке. И тогда она станет навеки твоей.
Крепко обнимаю тебя
Твой друг Джордж
Он положил письмо в конверт и спустя три дня отправил его на адрес «Путешествий во времени Мюррея», написанный на обороте конверта. По дороге домой Уэллс то и дело улыбался, представляя себе изумленное лицо Мюррея. Конечно, миллионеру будет трудно воспринять приветливый тон послания и то, что Уэллс назвал себя его другом. Но, возможно, это заставит адресата понять: хотя встретить настоящую любовь — одно из самых прекрасных событий в жизни каждого, встретить друга — не менее прекрасно.
XLIV
Первого августа, в день прибытия марсиан, Герберт Джордж Уэллс появился чуть свет на общественном пастбище Хорселла, чтобы понаблюдать за цилиндром, который предположительно упал с неба прошлой ночью. Он остановил экипаж в начале луга, где уже скопилось немало кэбов и кабриолетов, и, расплатившись с кучером, не спеша зашагал по траве, направляясь к видневшейся вдали толпе любопытных, которая загораживала странный аппарат. В первый раз, поскольку он был не один, а с агентом Клейтоном, ему не хватило терпения рассмотреть детали, но теперь он надеялся полюбоваться каждым мазком этой картины, которую предварительно нарисовал в своем романе. С улыбкой праздного зеваки Уэллс протиснулся сквозь множество людей, в основном жителей Уокинга и Чертей, с интересом прислушиваясь к продавцам газет, выкрикивавшим экстравагантные заголовки. Он даже позволил себе освежиться в предчувствии дневной жары стаканом имбирного пива у одного из лотков.
Приблизившись наконец к месту, где предположительно упал цилиндр, проделав огромную воронку в песке и частично спалив вокруг вереск, Уэллс смог убедиться, что Мюррей добился впечатляющих результатов: он воссоздал цилиндр из его романа с абсолютной точностью. Писатель долго любовался громадным, словно покрытым пеплом аппаратом, в который мальчишки уже робко начали швырять камешки. Теперь оставалось только увидеть, что Мюррей спрятал внутри цилиндра. Может, Мюррей забудет про марсианина и попытается развеселить девушку, как он советовал ему в письме? Как знать, но что бы ни появилось из цилиндра, Уэллс не хотел этого пропустить.
Хотя вряд ли кто смог бы признать его в старике, каким писателя сделали годы, тем не менее он держался в некотором отдалении от основной толпы, там, где стояли наиболее боязливые зрители, и с довольным видом поглядывал вокруг. Вскоре он обнаружил в первом ряду себя, только на тридцать три года моложе, рядом с агентом Клейтоном. В этот момент агент указывал на цилиндр своей металлической рукой, а двойник Уэллса, одетый в вызывающий клетчатый костюм, скептически качал головой. Справа от них, метрах в десяти, он заметил Эмму, словно невидимой стеной отгороженную от толпы своей поразительной красотой. Юная американка укрывалась под маленьким зонтиком от солнца и с серьезным видом поглядывала на цилиндр, стараясь скрыть свое недовольство тем, что Мюррей не признал поражение и организовал все это с единственной целью: покорить ее. Кого Уэллс нигде не обнаружил, так это миллионера. Впрочем, он наверняка откуда-нибудь руководил спектаклем, например, из-за дальних деревьев, ожидая своего часа.
Но хотя все шло как надо, хотя каждая вещь, насколько помнил Уэллс, была строго на своем месте, его не покидало неприятное ощущение где-то под ложечкой. Он чувствовал: во всем этом было что-то неправильное, какая-то деталь была все-таки не на месте, вот только неизвестно какая. Он вновь оглядел все вокруг, на этот раз особенно внимательно, силясь обнаружить аномалию: люди толпились вокруг цилиндра, Эмма смотрела на него издалека, нервно вращая зонтик, агент Клейтон пробирался сквозь толпу, чтобы поговорить с капитаном полиции, как делал это и в прошлый раз, а его двойник смирно стоял на своем месте, иронически глядя на цилиндр, и его клетчатый костюм переливался на утреннем солнце… Стоп! — сказал он вдруг себе, вздрогнув от страха. Так вот в чем дело! Вот что не вписывалось в общую картину: костюм, клетчатый костюм его близнеца! Уэллс вспомнил, как увидел этот костюм в витрине портняжной мастерской, где имел обыкновение покупать себе вещи, и как после долгих раздумий, стараясь понять, элегантно будет он выглядеть благодаря столь смелому рисунку или нелепо, решил играть наверняка и приобрести темно-коричневую тройку, похожую на его прежние костюмы, которая не нарушила гармоничного сосуществования, сложившегося в его платяном шкафу, и которую он как раз сегодня и обновил… Однако его близнец купил кричащий костюм в клетку, показав себя большим смельчаком, чем он, его оригинал, да еще имел наглость явиться в нем сюда. Уэллс был смущен этим небольшим проявлением непокорности со стороны двойника — тот позволил себе импровизировать, вместо того чтобы придерживаться своей роли. Тут писатель заметил шрам, украшавший челюсть двойника, это была еще одна аномалия, которой он вначале не придал значения. И эти мелкие изменения, ничего, по сути, не решавшие, напугали Уэллса, ибо свидетельствовали о том, что это не его реальность. Нет, не его. Несмотря на громадную схожесть, отдельные детали не совпадали. Он обнаружил два отличия, но наверняка их было гораздо больше. Следя за самим собой, он обращал внимание на ключевые факты, но упустил из виду мелочи, такие как шрам на подбородке и крикливый клетчатый костюм, которые, казалось, нашептывали ему на ухо, что он попал не в свою вселенную.
Но разве такое возможно? Уэллс переместился во времени в 1829 год, произвел там довольно существенные действия, а затем перепрыгнул в 1865 год, предшествующий году его рождения, чтобы очутиться в мире, который он сам видоизменил. Однако единственными изменениями должны были стать, очевидно, перемены, вытекающие из уничтожения монстра, но ему не верилось, что покупка его двойником костюма в клетку принадлежала к их числу. Это всего лишь должно было означать, что по какой-то непонятной ему причине он не вернулся в ту временную точку, откуда начал свой путь. Он возвратился в другую реальность, похожую на прежнюю, но не идентичную ей. Уэллс тряхнул головой, стараясь преодолеть замешательство, и увидел, что агент Клейтон уже вернулся к его двойнику. Собственные выводы поразили писателя. Но, кажется, он в конце концов нащупал истину. А если прыжки во времени осуществлялись вовсе не вдоль одной и той же временной линии? А если то, что он называл параллельными вселенными, не возникало с каждым произведенным изменением, а было создано заранее? Писатель представил себе Вселенную, состоящую из бесконечных реальностей, которые наложены одна на другую как слоеный пирог, чьи слои в зависимости от близости или удаленности от соседних отличаются от них либо совсем незначительными деталями вроде клетчатого костюма, либо весьма существенно, как уничтожение инопланетянина. Да, существовали миры, где еще не изобрели паровую машину или не отменили рабство, где слыхом не слыхивали об эпидемии холеры, где Шелли не погиб при крушении «Дон Жуана», а Дарвин, напротив, утонул вместе с «Биглем», или же просто-напросто Джек Потрошитель убил Мэри Келли не 7 ноября, а двумя днями позже. Возможности были неисчерпаемы. И во всех этих мирах у него обнаруживался двойник: существовал Уэллс, почти неотличимый от него, но страдавший аллергией на устриц, и Уэллс, который был не писателем, а профессором, и еще другой Уэллс, написавший все невыносимые романы Генри Джеймса, и, разумеется, Уэллс, не наделенный способностью путешествовать во времени… Существовали сотни, тысячи, бесконечное число Уэллсов, разбросанных по бесконечной же Вселенной. И он мог перепрыгивать из одной реальности в другую, потому что обладал таким… талантом? Или недугом? А может, вернее было бы назвать это проклятием? Не важно. Как ни называй это качество, оно действительно позволяло ему перемещаться из одного мира в другой, а потому он путешествовал не в свое, а в иное прошлое — прошлое другой вселенной. Но и там Посланник тоже потерпел аварию в Антарктиде, а «Аннаван» застрял во льдах — потому что существовали тысячи реальностей, в которых эти события отсутствовали, — прошлое, в целом идентичное его прошлому, за исключением какой-нибудь детали, настолько крошечной, что он даже не заметил, что переместился в другую реальность. А затем, уничтожив Посланника, он отправился в другое параллельное будущее, в будущее вселенной, где его близнец демонстрировал такую смелость в выборе одежды, какой он никогда за собой не знал.
А вдруг в этой вселенной Посланника вообще никто не убивал? Он со страхом уставился на цилиндр, надеясь, что внутри него все-таки не сидит настоящий марсианин. Это было бы слишком.
Но тут крышка цилиндра начала вращаться. Впереди, в первом ряду, его близнец и агент прервали разговор и впились глазами в цилиндр. Насколько Уэллс помнил, Клейтон должен был сообщить его близнецу, что не пройдет и часа, как цилиндр будет окружен армейскими частями, а тот в ответ пытался убедить агента, что в этом нет надобности. Неужели все это повторится? Уэллс увидел, что крышка цилиндра вывинтилась до конца и со звоном упала сбоку. Сердце у него бешено забилось, и он приготовился к смерти от теплового луча.
В течение нескольких секунд ничего не происходило. А потом из цилиндра вырвалось что-то похожее на бенгальский огонь, взмыв в утреннее небо, с треском взорвалось, и в воздухе расцвел красный цветок. Почти сразу же за первым залпом последовал второй, потом еще и еще один, и небо превратилось в сад из светящихся пальм, роз и вьюнков. Уэллс ошарашенно смотрел ввысь, пока до него не дошло, что марсианский цилиндр запустил фейерверк, и тотчас из цилиндра выпорхнула стая экзотических птиц, разноцветным облаком промелькнула над головами и разлетелась в разные стороны, словно в Троицын день, отмечаемый на языческий лад. Затем послышалась веселая музыка, и публика вначале подумала, что звуки доносятся тоже из цилиндра, пока мелодия не зазвучала громче, заставив всех одновременно повернуть головы к ближним деревьям, из-за которых появился оркестр. Музыканты в ярких нарядных пиджаках парадным шагом двигались по лугу, извлекая из своих труб, барабанов и тарелок веселые ноты. А за ними, ко всеобщему удивлению, следовала дюжина лошадей, и на их спинах балансировали прекрасные танцовщицы. И в тот же самый момент, не давая передышки зрителям, из чрева цилиндра выскочили факиры и принялись изрыгать из себя огненные шары.
Застыв на месте, Уэллс восхищенно наблюдал за всем этим, и его переполняло чувство облегчения. Кажется, он не умрет. Кажется, никто из собравшихся здесь не умрет. Он вернулся не в ту вселенную, откуда начал свой путь, но было очевидно, что в этом мире Посланник никогда не попадал в Антарктиду, возможно, потерпев аварию на какой-нибудь иной планете, или, может, по-прежнему пребывал в замороженном состоянии подо льдом, откуда его еще не извлекли, или же другой близнец из другой реальности покончил с марсианином так же, как расправился с ним Уэллс. Как бы то ни было, цилиндр, который он видел перед собой, был делом рук исключительно Мюррея. Подлинные же марсианские цилиндры, если они когда-нибудь существовали в том мире, где он теперь очутился, должно быть, валялись где-нибудь в земле и будут лежать там до тех пор, пока ржавчина и вечность не превратят их в прах. А сейчас Уэллс постарался забыть обо всем на свете и сполна насладиться представлением, хотя и не знал, куда смотреть, потому что чудеса, в бешеном ритме сменявшие друг друга, возникали в самых невообразимых местах, то здесь, то там, и появлялись шпагоглотатели, жонглеры, велосипедисты на странных трехколесных машинах, дрессированные собачки танцевали на траве, клоуны беспрестанно кувыркались и швыряли друг в друга торты, а иллюзионисты извлекали голубей из шляп. И вдруг, когда страх, казалось бы, навсегда отступил, из цилиндра вылез марсианин. Его появление вызвало взрыв смеха, потому что это была нелепая кукла, которая сразу же с забавной неуклюжестью начала двигаться в ритме зажигательной музыки. Но особое внимание публики привлек зажатый в тряпичных щупальцах плакат, на котором яркими алыми буквами было написано: «Хочешь выйти за меня замуж, Эмма?» Зрители смеялись, аплодировали, переглядывались, стараясь угадать, кто эта Эмма, ради которой ее таинственный поклонник устроил это веселое представление.
Но вот мелодия смолкла, уступив место волнующей барабанной дроби. И неожиданно гигантская тень, похожая на ту, что падает от непокорного облака, заслоняющего солнце, предвестником ночи накрыла пастбище. Все, включая Уэллса, подняли глаза и с удивлением увидели огромный воздушный шар, проплывавший над их головами. Он летел еще слишком высоко, чтобы можно было разглядеть, кто находится в корзине, однако сам громадный шар, выкрашенный в яркие зеленые, желтые и бирюзовые тона, украшала замысловатая золотая буква «Г», усыпанная драгоценными камнями. Прошло несколько секунд, и шар начал снижаться под восторженные крики зрителей. Когда до земли оставалось около дюжины метров, из корзины были сброшены разноцветные канаты, по которым сразу же заскользили вниз, выделывая при этом умопомрачительные пируэты, акробаты, одетые ливрейными лакеями. Достигнув земли, они принялись готовить посадку гигантского шара в окружении откуда ни возьмись появившихся людей на ходулях. Вскоре публика смогла разглядеть теперь уже единственного пассажира, который приветствовал ее широкой улыбкой, пока шар опускался на землю с невозмутимой слоновьей неторопливостью. Когда он благополучно приземлился, пассажир с помощью акробатов-лакеев вылез из корзины и торжественно ступил на землю. Это был мужчина впечатляющего роста и такой худой, что Уэллс вынужден был признать: в таком виде, да еще с аккуратной бородкой, он стал неузнаваем. Никто не угадал бы в нем Властелина времени, трагически погибшего в четвертом измерении два года назад. К тому же Мюррей выбрал для себя блестящий лиловый костюм, желтую бабочку, которую какой-то тайный механизм заставлял без конца вращаться у него на шее, и высокий голубой цилиндр, из которого валил оранжевый дым, извивавшийся в воздухе, словно исполинская гусеница. В последний раз прозвучала барабанная дробь, и наступила тишина. Незнакомец поискал кого-то глазами в толпе, а когда нашел, снял шляпу и театрально поклонился. Толпа понимающе расступилась, образовав коридор, который начинался там, где стоял незнакомец, и вел прямо к какой-то девушке. Она смотрела на своего поклонника, не зная, что сказать. Мюррей выжидающе улыбался, и его бабочка все так же крутилась, а из цилиндра по-прежнему валил сказочный дым. Прошло несколько тревожных секунд, все ждали реакции девушки. Наконец Уэллс заметил улыбку на ее губах, которую Эмма вначале пыталась сдержать, но она вырвалась наружу, озарив лицо, и собравшиеся услышали удивительный хрустально-звонкий смех, какого никогда еще не слыхали. А может, так хотелось думать романтически настроенному Уэллсу, не расслышавшему его как следует в шуме, но зато прекрасно помнившему, как он звенел на ферме в Аддлстоне. И пока оркестр с жаром приветствовал улыбку девушки новой веселой мелодией, Эмма отважно направилась к тому, кто поджидал ее возле гигантского разноцветного шара и был самым замечательным, самым сумасбродным и самым влюбленным человеком из всех, кого она знала. По мере того как она продвигалась вперед, восторженная толпа смыкалась у нее за спиной, окружив влюбленных плотной стеной и приветствуя их аплодисментами и криками, так что Уэллс потерял пару из виду. Впрочем, писателю не нужно было ничего больше видеть. Он знал финал этой истории лучше, чем даже ее участники: Эмма в конце концов влюбится в Мюррея, хочет она того или нет. Уэллс не испытывал на сей счет ни малейших сомнений, ибо помнил, как она, словно воробышек, угнездилась в объятиях миллионера, чтобы умереть вместе с ним, — и это была любовь, которая, как он до тех пор считал, существовала лишь в воображении писателей-романтиков и читавших их барышень. Но оказалось, это не так. Подобная любовь должна была расцвести во всех вселенных, несмотря на их бесконечное множество. Невозможно вообразить, что существует реальность, где между ними может не вспыхнуть это восхитительное, это великое и неизбежное чувство.
Дотронувшись рукой до шляпы, Уэллс попрощался с влюбленными. Потом повернулся и, выбравшись из шумной толпы, зашагал к месту, где стояли экипажи, надеясь добраться на одном из них до Вейбриджа. Он уже увидел все, что хотел. Он улыбался, довольный тем, как все в итоге разрешилось. По крайней мере в этой вселенной, где его бедные кости, уставшие скитаться между мирами, наконец обрели удобное пристанище, место, где можно преклонить голову, гнездо, где его готовы принять без вопросов, словно кукушонка. Он должен признать, что это одна из лучших вселенных, какую только можно себе вообразить. Оставалось надеяться, что он будет находиться здесь до конца своих дней, уже не слишком многочисленных, наслаждаясь в этом вынужденном уединении ласковым ветерком счастья, повеявшим на него в последней сцене, и его проклятый дар не заставит своего обладателя совершить еще одно неуместное путешествие, испортив тем самым финальный отрезок его бесшабашной и сумасбродной жизни. Дело в том, что, когда Уэллс обращал внимание на некий налет ирреальности, который Создатель придал его существованию, губы писателя неизбежно складывались в недоверчивую улыбку. Казалось, что в той, другой, вселенной, где он появился на свет, все происходило вокруг него, затрагивая в той или иной форме. Или, если воспользоваться выражением Посланника, все проходило через него. Было ли это каким-то загадочным образом связано с его профессией писателя? Вероятно, в реальности, откуда он происходил, во вселенной, где он родился, писатели были в чем-то сродни медиумам, открывая своими перьями потаенную правду мира, причем не только то, чего никто не видит, но и то, что еще не произошло. Их бессознательное тайно подключено ко Вселенной, ко всем ее частям, и потому они могут заглянуть за занавес. В тиши своих кабинетов создают они черновики мира, потому что ничто не существует, ничего нет до тех пор, пока оно не названо словом. Есть ли среди множества возможных миров такой, где воплотились в жизнь романы Жюля Верна? Вероятно, хотя, к счастью, ему, Уэллсу, не довелось оказаться в реальности, которая изменялась бы под диктовку несносного француза. Однако его утешала мысль о том, что по той же самой причине имелись и другие миры, где писатели были вполне нормальными людьми, ведущими нормальную жизнь. Хотя бы один мир, куда никогда не прилетал Посланник, где не было инопланетян, замаскированных под местных жителей, где человек, возможно, и подозревал о существовании разумной жизни на других планетах, но никаких доказательств этого у него не было, если не считать отдельных малоправдоподобных свидетельств, появлявшихся в охотившихся за сенсациями журналах. В общем, мир, где всякие вторжения происходят лишь в романах, сочиняемых писателями, когда они вглядываются в звездное небо, стараясь раскрыть хранимые им тайны.
Уэллс ненадолго остановился, чтобы дать отдых своим старым ногам, мечтая о благополучном и доброжелательном мире, где нет места этим таинственным центростремительным силам, что неизменно старались затащить его в водоворот событий, им же самим и предсказанных. Не исключено, что их много, подобных миров, населенных его близнецами, которые наслаждаются спокойной жизнью, свободной от стольких поистине космических обязанностей. Он искренне и не без зависти порадовался за них и в то же время с грустью вспомнил про всех тех Уэллсов, что населяют схожие с его родной вселенной миры, а потому мучаются той же самой болезнью, что и он, отмечены тем же проклятьем. Сколько их, тех, кто в данный момент, как и он, выслан из своей реальности, стал чужестранцем в других мирах, превратился в летучего голландца и никогда не вернется туда, откуда выбыл, ибо обречен вечно скитаться по океанам многообразного времени? Очевидно, много. Да ему и самому было уже трудно уточнить, откуда он прибыл, поскольку во время первого путешествия — на ферме в Аддлстоне — он, по-видимому, перепрыгнул в другую вселенную, а затем вернулся в прошлое, но только в прошлое некоего третьего мира, который еще один его близнец только что покинул, оставив ему теплую постель. Таких были сотни, тысячи, и Уэллс содрогнулся при мысли, сколько из них вызвали какие-то изменения во вселенных, куда они попали, так как был убежден, что не все подобные перемены оказались столь же благоприятными, как те, что он вызвал в том, другом, мире, и, честно говоря, должен отнести на счет случая, а не собственной сноровки. Он добился этого, хотя одному Богу известно, каким образом. Но в других мирах у него ничего не вышло, а где-то он даже все ухудшил… Во многих мирах его вмешательство привело даже к катастрофе! Наверное, печально подумал он, оттуда берет начало и его старая навязчивая боязнь за судьбу человечества, эта уверенность, сопровождавшая его с давних пор, еще до нашествия марсиан, в неизбежном и насильственном истреблении землян. Возможно, рассуждал писатель — хотя и не был знаком ни с одним своим двойником, за исключением того Уэллса, с которым он разговаривал на набережной Саутси, когда тот был юношей, — у них было что-то вроде общего сознания, многообразного и безотчетного, почти интуитивного, заставлявшего испытывать страх или горевать по поводу событий, увиденных глазами других. Сколько его близнецов присутствовало при гибели человечества? — испуганно подумал он. Он знал по меньшей мере одного из тех, кто должен бы был увидеть это, если бы не улизнул из своей реальности: это был он сам. Хотя он всей душой надеялся, что искупил вину и компенсировал свою нерасторопность тем, что подарил тому, другому, времени, в котором он уничтожил Посланника, возможность жить в мире, однако… В скольких мирах нерасторопность или бездействие писателя Герберта Джорджа Уэллса стали причиной гибели человечества? И удавалось ли ему во всех этих случаях спасать в качестве компенсации другие миры? В его ли пользу конечный итог? Кроме того, Клейтон ведь говорил ему, что встречал других путешественников во времени. А значит, должны существовать многие другие люди, так же зараженные этой странной болезнью, безвестные путешественники, скрывающиеся среди ветвей раскидистого вселенского древа. Как знать, быть может, в данный момент они перемещаются из одного мира в другой с гораздо более дурными и порочными намерениями, чем были у него? Уэллс медленно покачал головой, ощутив сквозь пелену страха такое знакомое и долгожданное покалывание в кончиках пальцев: это заявлял о себе материал для хорошего романа. Да, для одного из лучших романов. Но ведь он уже не писатель, с грустью подумал Уэллс и медленно зашагал к экипажам. У него уже не оставалось ни сил, ни отпущенного ему времени на то, чтобы написать новый роман, спасти или разрушить другой мир, или многие миры, или даже целое вселенское древо. В отличие от человечества, он скоро исчезнет, и его двойники, быть может, как-то ощутят его уход.
Все возможно в бесконечной Вселенной, заключил он, в последний раз окидывая издалека взглядом воздушный шар и окружившую его веселую толпу. Различив в ней влюбленных, Уэллс снова улыбнулся. Хорошо бы любовь Мюррея и Эммы была единственным, что сохраняется неизменным в меняющейся картине Вселенной. Хорошо бы, если бы ее нельзя было уничтожить ни в одной из возможных бесконечных реальностей. Хорошо бы, если бы им не оставалось ничего иного, кроме как влюбляться друг в друга в каждой вселенной, в каждой реальности, в каждом из миров, где встретятся их взгляды.
Кольядо-Вильяльбамай 2010 — июль 2011