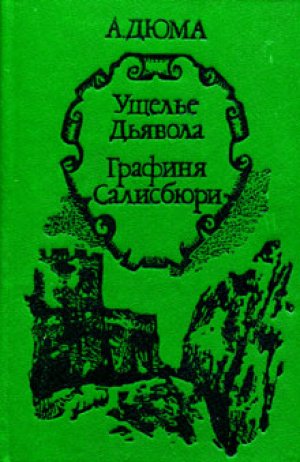
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава I
25 сентября 1338 года, без четверти пять часов пополудни, бальная зала Вестминстерского дворца была освещена только четырьмя факелами, поставленными в железные ручки, которые были укреплены в стены по углам залы; неопределенный и дрожащий свет едва мог разгонять мрак сумерек, рано наступающих в это время года. Однако, свет этот был достаточен для того, чтобы служители дворца могли приготавливать ужин; длинный стол в три разные высоты был уже поставлен, и они спешили в этом полумраке разместить на нем самые лучшие вина и затейливые блюда того времени; каждая высота стола означала места особ, соответствующих их званию и происхождению. Когда все было готово, главный дворецкий вошел в залу из боковой двери, обошел медленно кругом стола и, уверясь, что каждая вещь была на своем месте, обратился к лакею, стоявшему у главных дверей и ожидавшему его приказаний, медленно, как человек, понимающий важность своих обязанностей, сказал ему: «Все в порядке, можешь подавать знак к столу»[1].
Лакей, взяв маленький рожок из слоновой кости, висевший на перевязи у него через плечо, подал знак тремя продолжительными звуками; в ту минуту двери отворились, пятьдесят слуг с зажженными факелами в руках вошли попарно и, разделясь, стали по длине обеих противоположных стен залы; за ними вошли пятьдесят пажей, из которых каждый нес серебряный рукомойник с лоханью; наконец, за ними два герольда, которые, став по обе стороны дверей, отдернули богатый занавес, украшенный гербами, и громко провозгласили: «Его величество король и ее величество королева Англии».
В эту минуту показался в дверях король Эдуард III под руку с Филиппою Ганаусскою, своею супругою, за ним следовали кавалеры и дамы, цвет английской аристократии, — они составляли их двор, двор, который в то время был самый блистательный в свете, по знатности происхождения, храбрости и красоте особ, его составляющих. На пороге залы король и королева, разделясь, пошли по обеим сторонам стола во всю длину его и, достигнув оконечности, заняли самые возвышенные, приготовленные для них места. Все придворные следовали их примеру и, разделяясь, по мере того, как входили в залу, занимали каждый свое место. Потом, обратясь к своему пажу, каждый из них умыл руки из серебряных рукомойников, без исключения, как кавалеры, так и дамы. По окончании этой подготовительной церемонии, все сели; пажи, поставив в шкафы, находящиеся по обеим стенам залы, рукомойники, стали подле господ своих для исполнения их приказаний.
Эдуард находился в такой задумчивости, что при втором только блюде заметил, что по левую его сторону одно место осталось незанятым и что недоставало одного собеседника на королевском пиру его. Медленно, не говоря ни слова, окинул взором всех присутствующих, богатые одежды которых, украшенные золотом и драгоценными каменьями при освещении пятидесяти факелов, блестели чудными огнями; взгляд короля остановился с невыразимо страстным выражением на молодой и прекрасной Алиссе Гранфтон, сидевшей между отцом своим, графом Дерби, и женихом Петром Монтегю, который в награду за отличные заслуги только лишь получил от короля графство Салисбюри, и потом Эдуард опять взглянул с удивлением на пустое место, сесть на которое почел бы за величайшее счастье всякий из присутствующих, но которое, однако, осталось незанятым. Этот случай, казалось, прервал нить мечтаний Эдуарда, потому что он вопрошающим взором окинул опять все собрание, но никто не отвечал ему. После чего, чтобы получить объяснение своему недоразумению, он обратился с вопросом к молодому знатного происхождения Ганаузскому дворянину, прислуживающему королеве:
— Не можете ли вы, Готье-Мони, объяснить, что за важное дело лишает нас сегодня присутствия нашего гостя и брата графа Роберта д’Артуа? Не попал ли он опять в милость нашего дяди, короля Франции Филиппа? А поэтому, может быть, поспешив оставить Англию, забыл даже и проститься с нами.
— Не думаю, ваше величество, — отвечал Готье-Мони, — чтобы его высочество, граф Роберт мог так скоро забыть, с каким великодушием король Эдуард дал ему убежище, в котором из опасения гнева короля Филиппа отказали ему граф Овернский и Фландрский.
— Я исполнил только мою обязанность, Готье; граф Роберт королевской крови и происходит от короля Людовика VIII, следовательно, это был долг мой. Впрочем, мне легче было дать ему убежище, нежели тем владетелям, о которых вы говорите, потому что, благодарение Богу, Англию труднее покорить, нежели горы Оверни и болота Фландрии; мы можем неустрашимо смотреть на гнев верховного властителя нашего, короля Филиппа. Но как бы то ни было, я все же желаю знать, что сделалось с нашим гостем. Не знаете ли вы, Салисбюри, чего о нем?
— Никак нет, ваше величество, — отвечал граф, — я не могу удовлетворительно отвечать на вопрос ваш; с некоторого времени глаза мои ослеплены блеском красоты одного лица, слух мой прельщен приятностью одного голоса, и это до того, что граф Роберт, несмотря на то, что он внук короля, мог бы пройти мимо меня, сказать, куда он отправляется, но я, вероятно, не приметил бы и не запомнил бы слов его. Но позвольте, ваше величество, кажется, этот молодой человек, который подле меня, хочет сказать мне что-то, относящееся к графу.
В самом деле, Гильом Монтегю, племянник Салисбюри, за которым он стоял, нагнулся и сказал ему на ухо несколько слов.
— Ну, что? — спросил король.
— Я не ошибся, ваше величество, — продолжал Салисбюри, — Гильом встретил его сегодня утром.
— Где? — спросил король, обращаясь к молодому человеку.
— На берегах Темзы, ваше величество, — он спускался к Гринвичу и, без сомнения, отправлялся на охоту, потому что на руке у него был прекраснейший сокол.
— В котором часу это было? — спросил король.
— Около трех часов, ваше величество.
— А вы что делали так рано на берегах Темзы? — спросила очаровательно-приятным голосом прекрасная Алисса.
— Мечтал, — отвечал, вздыхая, молодой человек.
— Да, да, — сказал смеясь Салисбюри, — кажется, Гильом не очень счастлив в сердечных делах своих, потому что с некоторого времени я замечаю в нем все признаки безнадежной страсти.
— Дядюшка!.. — сказал краснея молодой человек.
— В самом деле?.. — спросила с простосердечным любопытством Алисса, — ежели это справедливо, то я желала бы быть вашей поверенной.
— Не смейтесь, но пожалейте меня, — сказал тихим голосом Гильом, сделавши шаг назад и закрыв рукою глаза, из которых выкатились две крупные слезы, повисшие на его ресницах.
— Бедняжка! — сказала Алисса, обращаясь к Салисбюри, — мне кажется, вы не шутите.
— Нисколько, — отвечал Салисбюри с важностью, — но Гильом удивительно скрытен, и я уверен, что вы, даже сделавшись его теткою, не скоро узнаете его тайну.
Алисса покраснела в свою очередь.
— Теперь понятно, — сказал король, — охота увлекла графа за Гринвич, и поэтому нельзя надеяться, что мы его увидим раньше завтрашнего утра.
— Мне кажется, что ваше величество ошибается, — сказал граф Иоанн Гейнау, — потому что мне слышится его голос в ближайшей зале, и это убеждает меня, что граф уже возвратился.
— Я буду очень ему рад, — отвечал король.
И в эту минуту обе двери в залу отворились, и граф Роберт, пышно одетый, вошел в залу, в сопровождении двух музыкантов, играющих на цитрах, за которыми шли две молодые благородные девицы, несущие на серебряном блюде жареную цаплю, которая для того только, чтобы легче было узнать ее, была так приготовлена, что длинный нос ее и безобразные ноги оставались в целости; потом за двумя девушками шел, прыгая и кривляясь, графский шут, который в такт музыкантам бил рукой в маленький барабан.
Роберт д’Артуа обошел около стола, в сопровождении странной своей свиты, и остановясь подле короля, смотревшего на него с удивлением, дал знак девицам, чтобы поставили блюдо с цаплей против него.
Эдуард поспешно встал и, оборотясь к Роберту д’Артуа, бросил на него гневный взгляд; но заметив, что граф не смутился, сказал дрожащим голосом:
— Что это значит, дорогой гость наш? Разве во Франции платят за гостеприимство насмешкой? Разве гадкая цапля, мясо которой презирают мои соколы и собаки, может быть дичью, достойною подавать на наш королевский стол?
— Мне сегодня пришло в голову, ваше величество, в то время, когда сокол мой бросился на эту птицу, что цапля трусливее всех животных; она боится своей тени, и если ей случится видеть ее впереди себя, то кричит так, как будто ей угрожает смерть; я подумал это и решился трусливейшую птицу поднести королю.
Эдуард схватился рукою за кинжал.
— А самый трусливейший из королей, — продолжал Роберт, как будто не замечая этого движения, — неоспоримо Эдуард, король Англии, который, будучи наследником по матери своей Изабелле, Французского королевства, не имеет мужества отнять его, похищенное у него Филиппом Валуа.
Ужасное молчание последовало за этими словами. Все встали со своих мест и, зная вспыльчивость короля, устремили взоры на этих двух людей, из которых один осмелился сделать другому такое смертельное оскорбление. Однако все ошиблись. Лицо Эдуарда приняло важное, спокойное выражение; он покачал головою, как будто для того, чтобы стряхнуть смущение с чела своего; потом положил тихо руку на плечо Роберта и сказал ему кротким голосом:
— Ты прав, Роберт… я забыл, что я внук Карла IV, короля Франции; ты мне напомнил это, благодарю тебя; и хотя причина, побуждающая тебя к этому, происходит от ненависти твоей к Филиппу, который изгнал тебя, а не от признательности ко мне, который тебя принял, но все-таки я тебе за это обязан; потому что благодаря тебе вспомнил, что я настоящий король Франции, будь покоен, я этого не забуду; и в доказательство истины слов моих, выслушай обет, который я произнесу. Садитесь, господа, и выслушайте.
Все повиновались; только двое не сели — Эдуард и Роберт.
Тогда король поднял правую руку и сказал:
— Клянусь мясом этой малодушной и трусливой птицы, которая стоит передо мною и которая есть самая малодушная и трусливая из всех птиц, что раньше шести месяцев, я с моей армией буду во Франции, проникнув в нее через Гейнау, Гиен, или Нормандию; клянусь победить короля Филиппа везде, где только его встречу, хотя бы войска его были в десять раз многочисленнее моих. Клянусь, наконец, ранее шести лет стать лагерем в виду церкви Сент-Дени, в которой похоронен мой предок; клянусь в этом, невзирая на присягу мою в подданстве королю Филиппу, к которой меня ребенком еще принудили в Амьене. А! Граф Роберт, ты желаешь войны; итак! Обещаю тебе, что ни Ахиллес, ни Парис, ни Гектор, ни Александр Македонский, завоевавший столько государств, — ни один из них не оставил на пути своем столько опустошений, сколько оставлю я во Франции, разве только Всевышнему угодно будет прекратить жизнь мою, воспрепятствовать исполнению моего обета. Я кончил. Теперь прикажите, граф, снять цаплю и садитесь подле меня.
— Нет, ваше величество, — отвечал Роберт, — еще необходимо, чтобы цапля была обнесена вокруг стола, — может быть, кто-нибудь из благородных рыцарей вменит себе в честь присоединить и свой обет к клятве короля.
При этих словах он дал знак двум девицам взять блюдо с цаплей и пошел, в сопровождении своей свиты играющих музыкантов, к которым присоединились голоса девиц, певших песнь Гильберта Берневильского; дойдя до графа Салисбюри, который сидел, как сказано выше, возле прекрасной Алиссы Гранфтон, Роберт остановился, блюдо с цаплей было поставлено против него.
— Прекрасный рыцарь, — сказал Роберт, — вы слышали слова короля Эдуарда, во имя Христа Царя небесного заклинаю вас произнести обет над нашей цаплей.
— Вы хорошо сделали, — сказал Салисбюри, — что закляли меня именем Христа Спасителя; я осмелюсь умолять мою милую соседку, в которой в одно время соединяются и благородная гордость, и красота, и добродетель, и ум, которую вполне можно почесть небожительницей, положить свой пальчик на глаза мои.
— Признаюсь, — сказала нежно Алисса, — дама, которая пользуется до такой степени уважением своего рыцаря, не должна огорчить его отказом. Вы просили, граф, один из моих пальцев, но я буду так щедра к вам, что дам всю мою руку.
Салисбюри схватил с восхищением и поцеловал несколько раз хорошенькую ручку, закрыл ею совершенно свой правый глаз. Алисса улыбалась, не понимая ничего, что он хотел этим объяснить. Салисбюри, заметив это, спросил:
— Как вы думаете, вижу ли я этим глазом?
— Конечно, нет, — отвечала она.
— Итак, — продолжал Салисбюри, — клянусь не открывать этот глаз мой до тех пор, пока не в состоянии буду увидеть им Францию; клянусь, что ничто на свете не принудит меня взглянуть им раньше того часа, как стану лицом к лицу с неприятелем. Обет мой произнесен, — что будет, то будет. Теперь ваша очередь, неужели вы ничего пе скажете?
— Напротив, граф, — отвечала Алисса покраснев, — я тоже клянусь, что в день возвращения вашего из Франции в Лондон я отдам вам мое сердце, с той же искренностью, как дала сегодня руку, и в залог исполнения моего обещания вот вам мой шарф, да будет он облегчением к совершению вашего обета.
Салисбюри преклонил колено, Алисса опоясала его шарфом при рукоплескании всех присутствующих. Тогда Роберт велел опять взять блюдо с цаплей и в сопровождении музыкантов и скомороха пошел к месту Иоанна Гейнау.
— Благородный господин Бомон, — сказал Роберт д’Артуа, — как дядя короля Англии и как один из самых храбрейших христианских рыцарей, не угодно ли вам произнести обет над моей цаплей — совершить какой-нибудь важный подвиг против королевства Франции?
— Охотно, — отвечал Иоанн Гейнау, — потому что я такой же изгнанник, как и вы, — изгнанник за то, что помог королеве Изабелле покорить Англию. Итак, я клянусь, ежели королю угодно только будет принять меня квартермейстером и идти через мое графство Гейнау, провести его армию во Францию, чего, впрочем, ни для кого другого в свете не сделал бы, кроме него. Но если сверх чаяния мой истинный властитель, король Франции, возвратит меня из моего изгнания, то я прошу племянника моего Эдуарда возвратить мне мое слово, которое я ту же минуту буду просить у него обратно.
— Это справедливо, — сказал Эдуард, — я соглашаюсь, потому что по душе и сердцу вы более Француз, нежели Англичанин. Клянитесь же смело; ибо я клянусь моей короной в таком случае возвратить вам ваше обещание Граф Роберт, велите поднести цаплю к Готье-Мони.
— Нет, ваше величество, позвольте, — сказал молодой человек, — двух обетов исполнить сразу невозможно, а вам известно, что я уже произнес один, это — отомстить за смерть отца моего, который умерщвлен в Гвиенне, найти его могилу, чтобы на ней убить его убийцу. Но будьте покойны, ваше величество, расчет мой с королем Франции будет достаточен.
— Мы вам верим, — сказал король, — и ваше обещание для нас столько же достаточно, как и клятва.
В продолжении этого разговора Роберт д’Артуа, приблизившись к королеве, приказал блюдо с цаплей поставить против нее и, преклонив колено, в молчании ожидал, что она скажет. Королева, обратясь со смехом к нему, сказала:
— Граф, чего вы хотите от меня? Вы знаете, что женщина не может произвольно произносить клятвы, она в зависимости от мужа. Да будет стыдно той, которая в подобных обстоятельствах забудет свои обязанности до такой степени, что без позволения своего повелителя решится на что-нибудь.
— Произносите смело обет ваш, Филиппа, — сказал Эдуард, — клянусь вам, что с моей стороны вы найдете всегда помощь, но не сопротивление в исполнении его.
— Итак, — сказала королева, — я еще не говорила вам, что я беременна, потому что до сих пор сама сомневалась в этом, но в эту минуту я чувствую, что младенец во мне шевелится. И поэтому слушайте меня, — по данному вам мне позволению, я клянусь Спасителем Иисусом и Пресвятой Девой Марией, что я не освобожусь от бремени нигде, кроме как во Франции; и если у вас не достанет мужества способствовать исполнению этого моего обета, то клянусь в минуту моего разрешения лишить себя жизни, для того, чтобы от исполнения этой клятвы зависела жизнь моего младенца и спасение души моей. А вы, ваше величество, кажется, не так много имеете наследников, чтобы рисковать жизнью жены вашей и вашего ребенка.
— Теперь никто не должен произносить более ни одного слова, — сказал Эдуард в смущении, — и так уже довольно клятв, да простит нас Всевышний за них!..
— Ничего, — сказал Роберт д’Артуа вставая, — я надеюсь: благодаря моей цапле, теперь совершилось столько обетов, что король Филипп должен будет раскаиваться вечно, что изгнал меня из Франции.
В эту минуту дверь в залу отворилась, и герольд, приблизившись к Эдуарду, известил его о приезде посланного из Фландрии от Иакова Дартевеля.
Глава II
Эдуард задумался; потом, обратясь с улыбкой к присутствующим, сказал:
— Господа, вот еще союзник, соединяющийся с нами, кажется, я бросил семена вовремя, и в хорошую землю, потому что замысел мой начинает расцветать в самое настоящее время, и я теперь смело могу предсказать, с какой стороны мы вступим во Францию. Граф Бомон, я назначаю вас нашим маршалом.
— Любезный племянник и. король, — сказал граф, — вы лучше бы сделали, если бы предоставили самым благородным рыцарям избрать себе вождя; каждый из них опасен для врага по желанию соблюсти свои выгоды, в поддержании войны между державными особами. А когда дворянство и короли сражаются вместе, то народу достается добыча, а волкам мертвые тела. И к тому же, разве презренные фламандцы не успели во время наших смут свергнуть с себя власть нашу? И теперь управляются сами, как будто Фландрия машина, которой можно управлять так же, как суконной фабрикой или пивоварней.
— Почтенный дядюшка, — возразил улыбаясь Эдуард, — по соседству с Фландрией вы принимаете слишком сильное участие в этом вопросе, чтобы основать на мнении вашем наше решение насчет добрых жителей Йорка, Брюга и Ганда; и если они, воспользовавшись смутами, свергли с себя власть вашу, то разве вы, в свою очередь, не воспользовались этими обстоятельствами, чтобы свергнуть с себя владычество империи, и не настроили себе замков, которые они предали огню? Что ставит, если я и не ошибаюсь, вас в такое же положение против Людовика V, короля Баварского, и Фридерика III, в каком находятся жители Фландрии против Людовика Кресси. Поверьте мне, граф Бомон, не берите сторону человека, действующего по внушению какого-нибудь аббата Везелая, который, не понимая сам ничего в управлении, думает только обогатиться за счет народа. Вы, верно, помните ту нравоучительную пьесу, игранную при нас, лет десять тому назад, труппой актеров в Честере? Впрочем, не думаю, — кажется, в это время вы находились во Фландрии, где присутствие ваше было необходимо, по ссорам, происшедшим между ганаузцами и англичанами в самом Йорке; итак, эта пьеса, хотя мне было тогда только пятнадцать лет, но она послужила мне поучением, которого я никогда не забуду. Хотите, я вам расскажу?
Все с любопытством обратились к Эдуарду, который начал следующими словами:
— Бедные люди, муж и жена, низкого происхождения, были совершенно разорены сборщиками податей, потому что не в состоянии были уплатить их, и сидевши на пустом сундуке, единственной собственности, которую им оставили, плакали о несчастном своем положении, как вдруг явились опять приставы отнять у них и эту последнюю ничтожную их принадлежность; но лишь только нагнулись, чтобы поднять сундук, как вдруг крышка его открылась и из него вылетели три злые духа, которые, схватив приставов, улетели с ними вместе. Это до того врезалось мне в память, что и теперь я обвиняю всегда тех, кто, отняв у своих подданных все их имущество, добирается еще и до пустых сундуков. Скажите посланному нашего друга Иакова Дартевеля, — сказал король, обращаясь к герольду, ожидавшему его ответа, — что мы примем его завтра в полдень. Что же касается до вас, любезный дядюшка, граф Гейнау и любезный брат, граф Роберт д’Артуа, я прошу вас быть готовыми сопровождать меня, через полчаса, в предполагаемом мною путешествии, на расстоянии от Лондона милях в четырнадцати, которое я думаю предпринять сегодня ночью. Пойдемте, Готье, — прибавил он вставая, — мне нужно кое-что сказать тебе.
Сказавши это, Эдуард, опершись на руку Готье и спокойно улыбаясь, вышел из той залы, где решилась за минуту перед этим участь стольких людей и стольких государств; за ним последовали двое слуг с факелами, чтобы освещать ему путь во внутренние его покои.
Эдуард, идя тихими шагами, сказал тихо, так, чтобы другие не могли его слышать:
— Милый мой Готье, мне хочется оказать тебе очень неприятную услугу.
— В чем она состоит, ваше величество? — спросил Готье, заметив по голосу короля, что он серьезно говорит, а не шутит.
— Мне хочется… впрочем, впоследствии, может быть, я и раскаюсь в этом, но нужды нет… мне хочется — сделать тебя королем Англии.
— Меня? — вскричал Готье-Мони.
— Будь покоен, ненадолго, — продолжал Эдуард, опираясь дружески на руку своего любимца. — Ах! ваше величество, вы успокаиваете меня, извольте объясниться, прикажите, вам известно, что я предан всей душой вашему величеству.
— Знаю, знаю и поэтому избираю тебя, а не другого. Я подозреваю, чего хочет от меня Дартевель, приславший гонца из Фландрии; а так как он у меня в руках, то я бы желал извлечь из этого некоторую пользу, для чего мне необходимо действовать самому. Прежде я думал послать тебя к нему, а сам хотел принять посланника, теперь же, напротив, ты примешь его, а я поеду во Фландрию.
— Как, ваше величество, вы решаетесь подвергнуть себя таким опасностям, один, без свиты, пуститесь на твердую землю? Доверите особу вашу возмутившимся подданным, которые изгнали своих владетелей?
— Опасаться мне нечего, потому что они меня не знают; я возьму, с собою охранные грамоты за моею подписью, по которым в звании посланника буду неприкосновеннее самого себя в настоящем моем звании короля; впрочем, хитер этот Дартевель. И я непременно хочу сам его видеть, чтобы судить, можно ли основываться на его словах. Итак, это решено, Готье, — прибавил король, отворяя ключом дверь своей комнаты, — завтра в полдень будь готов выполнить твою роль.
— Может быть, я еще и сегодня вечером буду нужен вашему величеству, посему прикажете ли мне остаться здесь, или удалиться?
— Нет, ступай, Готье, — сказал мрачным голосом король, — в этой комнате находится человек, с которым мне нужно говорить без свидетелей; потому что никто, кроме меня, не должен слышать того, что он мне скажет, и если бы в эту минуту вошел нечаянно лучший из друзей моих, то я не поручился бы ни за минуту его жизни.
Оставь меня, Готье, оставь и сохрани тебя Всевышний провести когда-нибудь такую ночь, какую должен я провести сегодня!..
— Однако, в это время двор вашего величества…
— Веселиться — свойственное им занятие; чело наше покрывается морщинами, волосы седеют, а они удивляются, отчего короли так рано стареют. Что делать, они так громко смеются, что не могут слышать тех, кто тихо вздыхает.
— Ваше величество, вы изволите скрывать от меня какую-нибудь опасность, которая грозит вам, воля ваша, я останусь с вами.
— Опасности нет никакой, божусь тебе.
— Однако, вашему величеству, угодно было приказать графу Бомону и Роберту д’Артуа быть готовыми сопровождать вас.
— Я еду к матери.
— Но, — продолжал Готье тихим голосом, приблизившись к королю, — если это посещение будет вроде того, в котором я сопровождал ваше величество в Нотингемский замок, когда через подземелье мы достигли ее спальни и взяли под стражу Робера Мортимера.
— Нет, нет, — сказал с нетерпением Эдуард, причиной которого было воспоминание о поведении его матери. — Нет, Готье, королева отказалась от своих заблуждений и раскаивается в прежних проступках, которые я, благодаря моей над нею власти, власти, может, немного жестокой, не такой, какую бы надлежало иметь сыну над матерью, заставил ее оплакать в продолжение целых десяти лет заключения в башне замка Рединг. Что же касается нового любимца, то мне нечего опасаться; ужасная казнь Мортимера, окровавленный труп которого брошен был, по моему приказанию, на показ всему Лондону, отобьет охоту у всякого заступить это опасное звание. И это будет просто посещение покорного и почти раскаивающегося сына, потому что бывают минуты, в которые я сомневаюсь в том, что говорят о женщине, называющейся моей матерью, я желал бы сомневаться в том, на что имею неоспоримые доказательства. Итак, иди и спи спокойно, мой милый Готье; мечтай о турнирах и поединках так, как следует рыцарю; а мне оставь мечтать об изменах, беззакониях и убийствах, в них заключаются, по большей части, мои сновидения.
Готье заметил, что настаивать больше невозможно; остановясь, поклонился королю, который приказал проводникам своим, освещая ему путь, проводить его.
Эдуард следовал взором за молодым рыцарем, удалявшимся во мраке, — и лишь только свет от факелов исчез из глаз короля, то он, вздохнув, обтер рукою лоб, отворил дверь и вошел в свою комнату.
В этой комнате находился человек между двумя стражниками. Эдуард подошел прямо к нему, посмотрел с ужасом на его бледное лицо, которое казалось еще бледнее от освещения одной лампы, стоявшей на столе, потом спросил у него тихим и почти дрожащим голосом:
— Вы ли Монтраверс?
— Точно так, ваше величество, разве вы не изволите узнавать меня?
— Да, я помню, что раза два я вас видел у моей матери, во время нашего с ней путешествия во Францию, — потом, обратясь к стражам, приказал им удалиться.
Когда они вышли, Эдуард устремил испытующий и вместе с тем страшный взор на Монтраверса, затем, упав в кресло, спросил у него гробовым голосом: «Итак, ты убийца отца моего?..»
— Вы обещали мне свободу, если я возвращусь в Англию; я поверил слову вашего величества, оставил Германию, где был в безопасности, теперь безоружный нахожусь во дворце вашем, в руках, имея в свою защиту против самого сильного из всех христианских королей только клятву, которую он мне дал.
— Будьте покойны, — сказал Эдуард, — как не гадко и не отвратительно мне присутствие ваше, но я не изменю моему слову, и вы оставите в совершенной свободе этот дворец, как будто руки ваши и не обагрены кровью короля, отца моего; но это с условием, которое вам известно.
— Я готов его исполнить.
— Ничего не скроете от меня?
— Совершенно ничего…
— Вы мне представите все доказательства, какие только можете, несмотря на лица, которые замешаны были в этом деле, вы мне их назовете?
— Все, все, что только знаю.
— Хорошо, — сказал со вздохом король; потом, после минутного молчания, положил руки на стол, опустил на них голову и сказал тихим голосом, — начинайте, я вас слушаю.
— Без сомнения, вашему величеству известно многое, о чем я должен говорить?
— Ошибаетесь, — отвечал Эдуард, не меняя положения, — король ничего не знает, потому что он окружен людьми, скрывающими от него для своей пользы истину; вот почему я и выбрал человека, который, открыв мне истину, может от меня всего ожидать.
— И я лучше всех могу объяснить вашему величеству все, что вам угодно знать, потому что двадцать семь лет тому назад, как я вступил на службу к королеве, вашей матери, первое время был ее пажем, потом секретарем, — и всегда верно исполнял мои обязанности, как паж и впоследствии как секретарь.
— Да, — сказал тихим голосом Эдуард, так что едва можно было слышать слова его, — я знаю, вы верно, даже слишком верно, служили ей, как паж, как секретарь и потом как палач.
— С какого времени, ваше величество, прикажете мне начать рассказ мой?
— Со дня вступления вашего к ней на службу. — Это было в 1312 году, за год до рождения вашего величества, четыре года спустя после того, как она была возвращена королем Франции, который сопутствовал ей до Булона, где вручил ее королю, вашему родителю; Англия встретила ее, как своего ангела-хранителя, потому что всякий надеялся, что она по молодости лет своих и по красоте приобретет доверие короля и ослабит влияние на него Гавестона, который был… простите меня, ваше величество, более, нежели любимцем короля.
— Да, да, — сказал с поспешностью Эдуард, — я это знаю, продолжайте.
— Но все ошиблись, Гавестон остался в своей силе. Тогда последняя надежда всего дворянства исчезла; а они ясно увидели, что ничего невозможно исходатайствовать у короля, отца вашего, иначе, как силою, почему подняли против него оружие и до тех пор не положили его, пока он не выдал им Гавестона, которого палач принял из рук кх; вскоре после этого происшествия королю Бог даровал сына, вас, ваше величество; все думали, что королева после этого события получит некоторое влияние на вашего родителя, но опять ошиблись. Гуг Спензер занял место Гавестона в дружбе короля. Вы помните, я думаю, ваше величество, этого молодого надменного человека. Вскоре ожесточение его против королевы превзошло все границы, он отнял у нее графство Корнуэль, доходы с которого предоставлены были на собственные ее расходы; и ваша мать, в отчаянии, приказала мне написать королю Карлу Прекрасному, ее брату, что она во дворце короля, мужа своего, как служанка, живет на жаловании.
В это время начались раздоры за Гвиенну между Францией и Англией. Королева предложила своему супругу позволить ей предпринять путешествие во Францию, чтобы быть примирительницей между ним и братом ее; он согласился. Королева рассказала предваренному уже письмом дяде вашему все, чего не могла передать письменно. Тогда он, ожесточась еще более и желая найти только предлог к войне, объявил родителю вашему Эдуарду II, что он должен явиться к нему, чтобы засвидетельствовать лично подданическую свою преданность, как верховному его властелину. Спензер заметил в ту же минуту, что погибель его неизбежна: сопровождая Эдуарда, он попадет в руки короля Франции, а оставаясь в Англии во время отсутствия вашего родителя, будет без защиты против всего дворянства. И поэтому он предложил королю средство, которым думал спасти себя, но которое, напротив, было причиною его падения; а именно — уступить вашему величеству владение Гвиенны, и послать вас туда присягать, вместо короля, родителя вашего.
— Ах! Вот почему он сделал эту ошибку, — сказал король, — которая меня всегда удивляла, и я никогда не мог постигнуть, как он, великий политик, мог так поступить. Продолжайте, я вижу, что вы говорите правду.
— Мне необходимо это ободрение вашего величества, потому что я должен коснуться того происшествия… — Монтраверс остановился.
— Да, я знаю, вы хотите говорить о Робере Мортимере, которого я нашел по приезде моем в Париж при моей матери, и как не был мал, но заметил между ним и королевой особенную дружбу. Теперь скажите мне, потому что вы один можете мне сказать это, где началась эта дружба, в Англии или уже в Париже?
— Она началась в Англии, и была единственной причиной изгнания Робера.
— Хорошо, продолжайте, я вас слушаю, — сказал король.
— Не один вы, ваше величество, заметили эту дружбу, потому что епископ Эксетерский, которого вы привезли с собою к королеве, по возвращении своем в Англию, сообщил Эдуарду II все, что видел; король в ту же минуту написал королеве, чтобы она возвратилась, и вам особенно, чтобы вы, оставив королеву, приехали обратно в Англию.
— Я никогда не получал этого письма, — сказал Эдуард, — и в первый раз слышу теперь о нем, потому что от одного короля, отца моего, мог узнать об этом, но королева не позволяла мне видеть его во все время заключения в темнице.
— Это письмо было перехвачено Мортимером.
— Несчастный! — сказал тихо король.
— Королева отвечала манифестом, что до тех пор не возвратится в Англию, пока Гуг Спензер не будет удален от присутствия короля.
— Кто сочинял этот манифест?
— Не знаю, ваше величество, мне диктовал его Мортимер в присутствии королевы и графа Кента. Этот манифест произвел в Лондоне то действие, которое от него ожидали; оскорбленное дворянство присоединилось к королеве и вашему величеству.
— Ко мне! Но все знали, что я был еще ребенок, и не имел понятия о том, что происходило, а имя мое только участвовало в этом манифесте; потому что я, да накажет меня Всевышний, никогда не был в заговоре против отца моего!
— В это время, как король Карл Прекрасный готовил помощь деньгами и войсками, обещанную его сестре, к нему приехал Тибольт Шатильон, епископ Сентский, с письмами от Иоанна XXII, который был тогда папою в Авиньоне, писанными, вероятно, по наущению Гуга Спензера, потому что заключали в себе повеление королю Карлу под опасением отлучения от церкви выслать сестру и племянника в Англию. Это так подействовало на вашего дядю, что он не только отказался от всепомоществования, но торжественно обещал Сентскому епископу отдать королеву и ваше величество в руки любимца родителя вашего. Но королева вовремя была предупреждена об этом.
— Графом Робертом д’Артуа? Да, я это знаю, потому что, прося меня о покровительстве, когда он был изгнан в свою очередь, он говорил мне, что оказал матери моей эту услугу.
— Он сказал правду, ваше величество, — королева, устрашенная отказом своего брата, не знала, у кого просить помощи. Тогда Роберт д’Артуа советовал ей бежать в свое отечество, уверяя, что она найдет там много храбрых и прямодушных дворян, в числе которых будут непременно Гильом, Гейнау и граф Бомон, брат его. Королева последовала его совету, и в ту же ночь отправилась к Гейнау.
— Да, я помню приезд наш к Эсташу Добресикуру, и как радушно он нас принял; за это, если я только буду иметь случай, непременно его вознагражу. У него в первый раз я увидел дядю моего Иоанна Гейнау, который приехал с предложением своих услуг королеве и повез нас к брату своему Гильому, где я встретил дочь его Филиппу, ставшую впоследствии моей женой. Я помню, как, выехав из Дордрехтской гавани, мы были застигнуты бурей, сбившей с пути корабль наш, почему в пятницу, 26-го сентября 1326 года, вошли в гавань Гервича, где вскоре соединилось с нами все дворянство, и первый, которого я из них увидел, был Генрих, граф Ланкастер, с кривой шеей; теперь я все знаю, что происходило со времени торжественного въезда нашего в Бристоль до взятия под стражу короля, отца моего, который был взят, если я не ошибаюсь, в Неатском аббатстве в Гальском графстве, этим самым Генрихом Ланкастером; только я не знаю, справедливо ли, что он был привезен им к моей матери.
— Нет, ваше величество, его отвезли прямо в замок Кенилворт, который ему принадлежал; и начали делать приготовления к коронации вашего величества.
— Боже мой! А я тогда ничего об этом не знал; от меня все скрыли, уверяли, что отец мой свободен, что он отказывается добровольно от престола Англии; и когда узнали, что я поклялся при жизни его не заступать его места, то представили мое отречение, и я, узнав почерк руки его и не подозревая, что он два раза падал без чувств, пока писал это отречение, исполнил волю его, как приказание. Клянусь, что я тогда ничего не знал, и даже решение парламента, где объявляли, что отец мой не способен царствовать, скрыли от меня: говорят, будто это решение было прочитано ему в темнице дерзким Гильомом-Трюсселем. Отняли у него корону для того, чтобы возложить ее на мою голову, уверяя меня, что он добровольно уступил ее мне как любимому сыну, тогда как он, может быть, обвинял меня как изменника и похитителя. Боже мой!.. Но вы, находившись долго при нем, скажите, говорил ли он что-нибудь подобное? Заклинаю вас говорить так, как бы пред лицом самого Бога!
— Никогда, ваше величество, никогда; напротив, он радовался, что парламент, удалив его, избрал вас.
— Хорошо; эти слова облегчают мое сердце. Продолжайте.
— По несовершеннолетию вашего величества назначен был Совет Правления, в котором королева избрана председательницей, и он управлял под ее влиянием.
— Да, это в то время, как они послали меня воевать с шотландцами, которые, укрываясь в своих горах, лишали меня возможности их настигнуть, и когда я возвратился, то узнал о смерти отца моего; я ничего не знаю, что происходило в мое отсутствие, не знаю подробностей, предшествующих его смерти; скажите же мне, потому что вы должны все знать, вы и Гюрнай отправлены были за моим отцом в Кенилворт и были при нем до самой его смерти.
Монтраверс остановился. Король взглянул на него и, заметив его бледность и пот, выступивший у него на лбу, сказал:
— Продолжайте, не останавливаясь. Бы знаете, что вам нечего опасаться, потому что я дал вам честное слово. Впрочем Гюрнай заплатил за себя и за вас.
— Гюрнай?.. — спросил в испуге Монтраверс.
— Да, — отвечал король, — разве вы не знаете, что я велел его взять под стражу в Марселе и, не дожидаясь прибытия его в Англию, повесить убийцу как собаку.
— Нет, ваше величество, я этого не знал, — сказал тихо Монтраверс, прислонясь к стене.
— Но в бумагах его ничего не нашли; из этого я заключил, что все предписания должны храниться у вас, потому что, вероятно, вы получали письменные приказания: мысль о таких злодеяниях может прийти в голову только тем, кто может воспользоваться их исполнением.
— Я их сохранил, как средство к спасению или мщению.
— Они теперь с вами?
— Со мной, ваше величество.
— И отдадите их мне?
— Если только ваше величество прикажет.
— Хорошо… помните, что я обещал вам прощение, с условием рассказать мне все подробно; итак, говорите не опасаясь.
— Лишь только ваше величество изволили отправиться в армию, — продолжал Монтраверс трепещущим еще голосом, но спокойнее прежнего, — как мне и Гюрнаю приказано было ехать за королем в Кенилворт и отвезти его в Корф, где, однако, он пробыл только несколько дней, и потом был отправлен в Бристоль, а из Бристоля перевезен в Берклей, находящийся в Глочестерском графстве, где стражем его назначен был кастелян того замка, хотя, впрочем, и мы оба находились при нем для исполнения полученных нами предписаний.
— Какого рода были эти предписания? — спросил Эдуард в свою очередь дрожащим голосом.
— Дурным обращением довести пленника до того, чтобы он сам лишил себя жизни.
— Это повеление было письменное? — спросил король.
— Никак нет, ваше величество, словесное.
— Остерегитесь говорить то, чего доказать не можете, Монтраверс!
— Вашему величеству было угодно, чтобы я говорил всю истину…
— Но… от кого… — едва мог выговорить Эдуард, — получили вы это повеление?
— От Робера Мортимера.
— А! — и Эдуард вздохнул свободнее.
— Король переносил все с такой кротостью и терпением, что заставлял нас часто колебаться в исполнении полученных предписаний.
— Бедный страдалец!.. — сказал тихо Эдуард.
— Наконец, получено было известие, что ваше величество должны скоро возвратиться; угнетения наши не могли довести до отчаяния короля; напротив, он покорялся своей участи, переносил все с ангельским терпением; тогда, вероятно, заметив, что невозможно ожидать от этого успеха, мы получили повеление за печатью Эрсфорского епископа…
— По крайней мере, это повеление, я надеюсь, с вами! — вскричал Эдуард.
— Вот оно, ваше величество.
С этими словами Монтраверс подал королю бумагу за печатью епископа; Эдуард развернул ее тихо, дрожащими руками.
— Но как могли вы исполнить повеление епископа, — продолжал Эдуард, — в то время, как король был в отсутствии, а королева правительницей? Разве тогда все, кроме только меня одного, могли царствовать? И все имели право казнить в отсутствие того, кто один мог миловать!..
— Прочтите, ваше величество, — сказал хладнокровно Монтраверс.
Эдуард взглянул на бумагу, на ней заключалось все повеление в одной строке, но эта строка изобличала руку той, которая ее начертала.
— Почерк руки королевы!.. — вскричал с ужасом Эдуард.
— Да, ваше величество, это ее почерк, — продолжал Монтраверс, — они знали, что мне известен почерк руки королевы, потому что я был ее секретарем.
— Но… — сказал Эдуард, стараясь прочесть повеление, — но тут ничего нет, чтобы могло дать вам право на убийство; напротив, я вижу формальное воспрещение: Eduardum occidere nolite timere bonum est; это значит: Эдуарду жить нельзя его умертвить.
— Да, ваше величество, потому что сыновняя любовь ваша предполагает запятую после слова жить; но запятой нет, и поэтому, зная желание правительницы и ее любимца, мы думали, что запятая должна быть после слова нельзя; тогда и выходит следующий смысл: Эдуарду жить нельзя, умертвить его.
— Боже мой! — сказал тихо король, заскрежетав зубами и отирая пот с лица, — получив такое повеление — они преступлением истолковали смысл его; и жизнь короля зависела от одной запятой! Это приговор лицемерных монахов. Праведный Боже! Известно ли тебе то, что делают последователи твои на земле?..
— Что касается нас, ваше величество, то мы знали, что заключало в себе это повеление; и… его исполнили.
— Я хочу непременно знать, как вы его исполнили; по возвращении моем я нашел тело его уже на катафалке; но несмотря на это, я приказал при себе облачить его в королевские одежды и искал на всем теле признаков насильственной смерти, потому что подозревал преступление… но, ничего, решительно ничего, не мог найти. Еще раз повторяю, что я вас прощаю, и поэтому не бойтесь, один я рискую в этом случае умереть от огорчения, слушая такой рассказ!.. Итак, говорите все, я этого хочу, вы видите, я имею довольно присутствия духа, довольно силы… — и при этих словах Эдуард, обратясь к Монтраверсу и стараясь придать лицу своему спокойное выражение, устремил свой взор на убийцу. Он старался повиноваться, но голос его дрожал и слова замирали.
— Избавьте меня от этих подробностей, ваше величество, ради Бога! Возвращаю вам ваше слово, как будто вы ничего не обещали, прикажите казнить меня.
— Я тебе сказал, что я хочу все знать, — сказал Эдуард, — если бы даже нужно было прибегнуть к пытке! Итак, не принуждай меня к этому средству! Потому что я способен теперь на все.
— Если так, то не смотрите на меня, ваше величество; сходство ваше с покойным королем так разительно, что я вижу его восстающим из могилы и требующим мщения.
Эдуард отвернулся и, опустив голову на руки, сказал тихим голосом:
— Теперь говорите.
— 21-го сентября, утром, — продолжал Монтраверс, — мы, по обыкновению, вошли в его комнату, не знаю, по предчувствию ли, или потому, что лица наши обнаруживали наше намерение, король вскричал, увидев нас; потом, бросившись со своей постели, упал на колени и умолял нас не лишать его жизни, не дав как следует приготовиться к переходу в вечность.
— И вы, злодеи, лишили короля того, в чем не отказывают и самому последнему преступнику, — короля!.. Который просил, имея все право приказать вам?.. Но этого не было воспрещено в полученном вами повелении В нем велено было убить тело, но не губить души.
— Духовник все бы открыл, ваше величество, потому что король, вероятно, объявил бы ему, что исповедь его предсмертная, и что мы его убийцы. Из этого видно, что в повелении убить его подразумевалось не допускать к нему духовника.
— О Боже мой! — сказал король тихо, взглянув на небо, — был ли когда-нибудь хоть один сын в свете, который был бы осужден слышать от убийцы отца своего о таких злодеяниях родной своей матери?.. Оканчивайте скорее, потому что мужество и силы мои истощаются!..
— Мы ему не отвечали; но, бросившись на него, схватили его, и пока я его держал, Гюрнай, клянусь, не я, но Гюрнай, бросив ему на лицо подушку, прижал с помощью обращенного стола, и так сильно, что через несколько минут его не стало.
Эдуард вскрикнул и, бросившись к Монтраверсу, остановил на нем ужасный взгляд.
— Дай мне взглянуть на тебя, злодей, чтобы убедиться, что ты точно человек. Клянусь, лицо человека, тело человека, вид человека! О демон, тигр, змея… За что тебе дан образ подобия Божия!..
— Ваше величество, мы были только исполнителями.
— Молчать! — закричал Эдуард, закрывая ему рот рукой, — молчать! Я не хочу знать, чья была эта воля!.. Я обещал тебе прощение, жизнь, я даю ее тебе, исполняю мое обещание. Но знай вперед, одно слово о привязанности королевы к Роберу, малейшее обвинение ее в участии этого ужасного убийства, клянусь моей королевской честью, которую, как ты знаешь, я хранить умею, что новое это преступление будет наказано так, что получишь воздаяние и за прежнее. С этой минуты забудь все, чтобы прошедшее было для тебя не что иное, как лихорадочный бред, исчезающий вместе с жаром. Тот, кто объявляет права свои на трон Франции по материнской линии, должен иметь мать, которую, так и быть, пусть подозревают в слабостях, свойственных женщине, но не в злодеяниях, приличных демону.
— Клянусь, ваше величество, сохранить эту тайну. Что угодно будет еще приказать мне?
— Будь готов сопровождать меня в замок Рединг, к королеве.
— К королеве!.. матери вашей?
— Да, ты привык служить ей, и она привыкла отдавать тебе приказания. Я нашел тебе при ней новую должность.
— Повинуюсь воле вашего величества.
— Обязанность твоя не будет трудна; она ограничится только тем, что ты не позволишь матери моей переступить порог замка, стражем которого ты будешь.
Сказав это, Эдуард вышел, сделав знак Монтраверсу, чтобы он следовал за ним. В последней зале дворца он нашел ожидающих его Иоанна Гейнау и графа Роберта д’Артуа. Они заметили бледность короля, но увидев, что он шел твердо и сам, без посторонней помощи, сел на лошадь, не решились спросить его о причине страждущего его вида; сели также на лошадей и последовали за ним. Монтраверс и двое стражников ехали на некотором от них расстоянии. В молчании они доехали до Темзы, переправились через нее в Виндзор, и после двухчасового путешествия увидели башни замка Рединг. В одной из комнат этого замка, со времени казни Робера Мортимера, была заключена королева Изабелла французская, вдова Эдуарда II. Два раза в год, в два определенных срока, король посещал ее. Потому она чрезвычайно удивилась, когда дверь в ее комнату отворилась, и она узнала о приезде своего сына в необыкновенное время для его посещений.
Королева, дрожа от страха, приподнялась со своего места и хотела идти навстречу Эдуарду, но силы ей изменили, и она должна была опереться на кресло; в эту минуту вошел король, в сопровождении Иоанна Гейнау и графа Роберта Д’Артуа.
Он медленно подошел к своей матери, которая подала ему руку; но Эдуард, не взяв ее руки, ограничил приветствие только поклоном. Тогда королева, собравшись с силами, заставив себя улыбнуться, спросила его:
— По какому счастливому случаю я вижу любезного моего сына, и в такое время, когда я совершенно не ожидала его?
— По желанию поправить мои ошибки в рассуждении вашего величества, — сказал Эдуард тихим и мрачным голосом, не поднимая взора на королеву, — я подозревал вас в заблуждениях, преступлениях и даже злодеяниях. Общественное мнение обвиняло вас, а по несчастью часто других доказательств и не бывает. Но теперь я совершенно убежден в вашей невинности.
Королева содрогнулась.
— Да, ваше величество, — продолжал Эдуард, — я имею на это неоспоримые доказательства; почему и пригласил с собою преданного вам Иоанна Гейнау и старинного друга вашего графа Роберта д’Артуа, чтобы они были свидетелями прощения, которого я торжественно прошу в несправедливых моих подозрениях против вашего величества.
Королева взглянула со смущением на обоих рыцарей, которые в немом изумлении присутствовали при этой сцене; потом обратила взор к Эдуарду, который, не изменяя положения, тем же голосом продолжал:
— С этой минуты замок Рединг не будет больше темницею, но местопребыванием королевы. Ваше величество будете иметь свой двор, пажей, фрейлин, статс-дам и секретаря; будете пользоваться уважением, должным вдове Эдуарда II и матери Эдуарда III, наконец, тому родству с августейшим покойным королем Карлом Прекрасным, которое дает мне право на престол Франции.
— Не сон ли это, — сказала королева, — могу ли верить этому счастью?
— Нет, ваше величество, это действительность; в доказательство этого вот и кастелян, которому я вручаю охранение особы вашей. Войдите, — сказал Эдуард; Монтраверс показался в дверях. Королева с ужасом вскрикнула, закрыв лицо руками, как будто при виде привидения.
— Что так удивляет ваше величество? — сказал Эдуард, — я думал доставить вам удовольствие, возвратить человека, пользовавшегося вашим доверием; разве он не был пажем, секретарем и поверенным ваших мыслей? Поэтому если бы остались еще какие-то сомнения, то, вероятно, он лучше, нежели кто другой, в состоянии доказать вашу невинность.
— О Боже мой! — сказала Изабелла, — если вы хотите убить меня, то убейте скорее, ваше величество.
— Мне убить вас?.. напротив, я хочу, чтобы вы жили и жили долго; в доказательство этого вот повеление, врученное мною кастеляну Монтраверсу; извольте прочесть.
Королева взяла бумагу с королевской печатью, которую Эдуард подал ей, и прочла тихим голосом: Isabellam occidere nolite, timere bonum est! При последнем слове королева вскрикнула и упала без чувств.
Иоанн Гейнау и Роберт д’Артуа бросились к ней на помощь. Что же касается Эдуарда, то он, обратясь к Монтраверсу и отдавая ему бумагу, сказал:
— Вот вам наставления, на этот раз, кажется, они положительны: Изабелле жить, не нужно ее умерщвлять.
Пойдемте, господа, к рассвету мне нужно быть в Лондоне. Я надеюсь, что вы торжественно объявите всем невинность королевы, моей матери.
После этих слов он вышел с Иоанном Гейнау и Робертом д’Артуа, оставив королеву, которая начала приходить в чувство, с прежним ее секретарем.
Читатели наши, может быть, удивятся тому, что король Эдуард III, в то самое время как получил доказательства злодеяния, жертвою которого был его отец, поступил так великодушно со своей матерью, главной виновницей в этом преступлении; но он действовал, как политик, ему, объявляющему права свои на престол Франции, единственно по родству его матери с покойным королем Карлом Прекрасным, необходимо было, чтобы та, которая передавала ему эти права, была королевой, а не узницей.
Глава III
Два дня спустя после описанных нами происшествий, три посольства выехали из Лондона: первое отправлялось в Валенсией, второе в Льеж, а третье — в Ганд.
Первое находилось под начальством Петра и Гильома Монтегю, графа Салисбюри и Иоанна Гейнау, графа Бомона; оно отправлялось к Гильому Гейнау, тестю короля Эдуарда III.
Второе состояло из епископа Линкольнского Генриха и Гильома Клинтона, графа Гунтингстона и было назначено к Адольфу Ламарку епископу Льежскому.
Эти оба посольства имели в своей свите множество дворян, пажей, служителей и вполне оправдывали свою пышность и могущество того короля, от которого были отправлены; и каждое состояло более чем из пятидесяти особ.
Что касается до третьего, то оно было совершенно противоположно двум первым, которые, казалось, были составлены за счет последнего, потому что оно состояло только из двух господ и двух служителей; и даже эти два господина, по простоте своей одежды, по-видимому, принадлежали к среднему классу общества. Впрочем, это посольство назначено было к пивовару Иакову Дартевелю, — король Англии не хотел, может быть, его оскорбить многочисленным и пышным посольством; как внешне не кажется оно ничтожным, но мы просим снисхождения наших читателей и последуем за ним; и чтобы лучше познакомиться с особами, составлявшими его, взглянем на двух господ, которые в эту минуту выезжают из Лондона.
Один из них большого роста, одет в длинное платье каштанового цвета, поднятый капюшон которого закрывал ему совершенно лицо; платье это, опушенное мехом, имело разрывы по обеим сторонам широких рукавов, по цвету его рукавов видно, что оно прикрывало кафтан зеленого такого сукна, какое вырабатывалось на гальских фабриках и было довольно грубо для того, чтобы знатные дворяне его употребляли, но равномерно было и слишком тонко для простого народа. Кожаные сапоги с острыми носками опирались на простые железные стремена. Что же касается лошади темно-гнедой масти, на которой въехал посланник, то она, может быть, с первого взгляда показалась бы очень обыкновенной; но опытный знаток сейчас заметил бы по ее округленной шее, маленькой головке, тонким ногам, на которых были видны все жилки, что она настоящей нормандской породы, ценимой в то время очень дорого, потому что эта порода соединяла в себе силу и легкость; благородное животное повиновалось и шло шагом единственно потому, что было искусно управляемо всадником, и это было для него, животного, так трудно, что через четверть часа пот лил с него ручьями и всякий раз, как поднимало голову, то отбрасывало куски пены.
Другой спутник не имел ни в чем сходства со своим товарищем; был малого роста, худощав, с светло-русыми волосами, неопределенного цвета глазами, выражающими насмешливую хитрость, столь часто встречаемую у людей низкого происхождения, по каким-либо обстоятельствам возвысившихся из звания, в которых родились, но не достигнувших той аристократической величавости, которую они стараются приобрести, показывая вид, что ее презирают. Волосы его, желтоватого цвета, были острижены не так, как у дворян, но и не так, как у простолюдинов; по летам казалось, что у него должна была быть борода, но по редким ее волосам нельзя было заключить, хотел ли он ее иметь длинною, или почитал излишним брить, потому что она была почти неприметна. Одежда его состояла из кафтана толстого старого сукна с откинутым капюшоном; суконной, такого же цвета, шапки, и больших с тупыми носками сапог, зашнурованных вроде сандалий на изгибе ноги. Что же касается его лошади, то она была кобыла, все достоинства ее заключались только в кротости, и это доказывало, что всадник был низкого происхождения, потому что в то время всякий дворянин почел бы для себя унижением — иметь такую верховую лошадь.
Проехав шагов сто от городских ворот, первый из спутников откинул капюшон, закрывавший ему лицо все время, пока они ехали по улицам Лондона; и тогда можно было заметить, что он был прекрасный молодой человек, лет двадцати пяти, с темными волосами, голубыми глазами и немного рыжеватой бородою, на голове у него надета была маленькая черная бархатная шапочка с едва приметною опушью, отчего и имела вид скуфьи; и хотя он точно не был старее определенных нами ему лет, но лишился уже свежести лица, свойственной юности, и на челе его образовались морщины, доказывающие, что не одна тяжкая дума заставила его склонять свою голову; но теперь он походил на узника, которому возвращена свобода; казалось, все заботы, все серьезные дела были им в эту минуту забыты, и он с откровенным и веселым видом поровнялся со своим товарищем.
Однако, в продолжение нескольких минут ехав рядом, ни один из них не начал говорить; казалось, они взаимно рассматривают друг друга.
— Клянусь Святым Георгием!., товарищ, — сказал молодой человек, первым прерывая молчание, — когда нужно ехать вместе, и так далеко, как нам с вами, то я думаю, не худо познакомиться для избежания скуки и приобретения дружбы; вероятно, вам приятно бы было, отправляясь из Ганда в Лондон, иметь такого спутника, который бы мог во время дороги познакомить вас с обычаями той столицы, куда вы ехали в качестве посланника, назвать вам вельмож, имеющих влияние при дворе, предупредить насчет недостатков и склонностей монарха. Что я бы охотно для вас сделал, если бы судьба соединила нас в то время так, как теперь; почему я, в свою очередь, прошу вас исполнить мою просьбу, сказать мне ваше имя и звание.
— С условием, что и вы после будете отвечать мне на эти же вопросы, — сказал с недоверчивым видом человек в серой шапке.
— Охотно, потому что доверенность должна быть взаимной.
— Итак, меня зовут Жерар Дени; я начальник ткачей в городе Ганде, и хотя горжусь моим званием, но принужден часто оставлять челнок для того, чтобы помогать Жакемару[2] в делах управления, которые во Франции идут не хуже, чем в других местах; потому что, хотя начальники и выбраны из среды народа, но зато они и знают, что именно нужно для этого народа, а это не безделица. Ну, теперь ваша очередь, говорите, я сказал все, что вы хотели знать.
— Имя мое Вальтер, — отвечал молодой человек, — я происхожу от известного рода, но лучше бы еще было, если бы мать моя не проиграла большой тяжбы, чем лишила меня лучшей части наследства. Я родился в один день с королем Эдуардом, мать моя была его кормилицей, почему он. и удостаивал меня всегда своей дружбой. Что же касается до места, которое занимаю при дворе, то я сам не могу определить его; сопутствую королю везде: на охоте, в армии, в совете; короче говоря, когда он хочет что-нибудь видеть собственными глазами, то посылает меня вместо себя. Вот почему и теперь послал меня к Иакову Дартевелю, которого он уважает и считает своим другом.
— Я не должен опорочивать выбор, сделанный таким мудрым и могущественным монархом, как король Англии, и притом в присутствии вашем, — сказал Жерар Дени; — но мне кажется, что он избрал слишком молодого посланника. Кто хочет травить старую лисицу, тот не должен охотиться с молодыми собаками.
— Это полезно тогда, как один хочет обмануть другого, когда дело идет о делах государственных, но не о торговле, — сказал простосердечно тот, который назвал себя Вальтером, — теперь же идут переговоры просто и откровенно об обмене товаров, в чем дворяне скоро между собой соглашаются.
— Дворяне? — спросил Жерар Дени.
— Разумеется; разве Иаков Дартевель не дворянского рода? — отвечал небрежно Вальтер.
Жерар захохотал.
— Да, да, дворянского, потому что граф Валуа, отец короля Франции, желая дать ему совершенное образование, послал его путешествовать, и по возвращении своем, король Людовик X, которому понравилась наружность Жакемара, дал ему место при дворе, то есть назначил его прислужником при подвалах, и по этой занимаемой им важной должности он смог сделать блистательную партию, — он женился на дочери пивовара.
— Поэтому он личными достоинствами своими достиг той власти, которой теперь пользуется?
— Да, да, — сказал Жерар с вечной своей улыбкой, которая изменяла только выражение, смотря по обстоятельствам, — у него сильный голос, он долго может кричать против дворянства; а это большое достоинство у людей, изгнавших своих владетелей.
— Говорят, что он чрезвычайно богат?
— Не трудно накопить сокровища тому, кто как восточный принц собирает доходы, подати, не отдавая никому отчета, и притом его до того все боятся, что никто не решится отказать ему, если он просит в долг, хотя всякий уверен вперед, что уплаты никогда не получит.
— Вы говорите, что Жакемара опасаются все, а я думал напротив, что он всеми любим.
— Любим! Так зачем же ему иметь человек восемьдесят стражи, которая его окружает, как Римского императора, и не допускает до его особы людей, в каком бы то ни было оружии. Правда, говорят, что эта стража служит не столько для охраны его особы, сколько для исполнения его приказаний; некоторые из этих людей знают все заветные его тайны, и при встрече с врагом достаточно Жакемару сделать только какой-нибудь едва заметный знак, то враг этот исчезнет, как бы ни высоко он был помещен судьбою в глазах целого мира. Впрочем, знаете ли вы, что я вам скажу? — продолжал Жерар, положа руку на плечо Вальтера, который, казалось, с некоторого времени почти его не слушал, — это недолго продолжится, в Ганде есть люди, которые не уступят Жакемару, и если не лучше, то вероятно, и не хуже его устроили бы дела с Эдуардом, королем Англии, так, чтобы все политические и торговые договоры были приличны такому великому королю. Но куда вы смотрите, о чем вы думаете?
— Я вас слушаю, господин Жерар, и не пропустил ни слова из всего сказанного вами, — отвечал рассеянно Вальтер, не желая, может быть, вниманием возбудить осторожность своего собеседника, а может и потому, что узнал все, что ему нужно знать; или точно какой-нибудь предмет, представившийся его взору, увлекал все его внимание; — но, слушая вас, я смотрел на эту величественную цаплю, поднявшуюся из болота; и если бы при мне был один из соколов моих, то я доставил бы вам удовольствие полюбоваться соколиною охотою. Но! Впрочем, кажется, и без того спущен уже за нею сокол. Аа, аа, — кричал Вальтер, воображая, что благородная птица может его слышать. — Смотрите, смотрите, господин Жерар, цапля увидела своего неприятеля. Ага? Трус, — воскликнул молодой человек, — теперь ты не спасешься, и, ежели противник твой знаменитой породы, то погибель твоя — неизбежна!
В самом деле, цапля, увидев грозящую ей опасность, испустила жалобный крик, который, несмотря на расстояние, достиг до слуха наших спутников, и начала быстро подниматься вверх. Сокол, поняв ее намерение, употребил то же средство к нападению, что жертва его избрала к защите, и пока цапля поднималась перпендикулярно, он описал полетом своим диагональ к той точке, где они должны были соединиться.
— Браво! Браво! — кричал Вальтер, принимая то участие, которое обыкновенно принимали тогда дворяне в этом зрелище, — славное нападение, славная защита, — продолжал он, — аа, аа, Роберт, узнаешь ли ты этого сокола?
— Нет, милостивый государь, — отвечал слуга, обращающий на эту битву такое же внимание, как и господин его; — впрочем, хотя я и не знаю, кому он принадлежит, но смело могу сказать: судя по его полету, он отличной породы.
— И не ошибешься, Роберт. Клянусь, у него взмах крыльев, как у кречета, и он сию минуту настигнет цаплю. Но… благородная птица, ты немного ошиблась в расчете, и на этот раз страх лучше измерил расстояние, нежели смелость.
В самом деле, расчет цапли был так верен, что в ту минуту, как сокол настиг ее, она осталась выше его. Сокол пролетел под нею не нападая. Цапля в ту же минуту воспользовалась этим преимуществом, изменила направление и старалась спастись удалением, точно так же, как прежде высотою.
— Кажется, мы ошиблись насчет сокола, — вскричал в смущении Роберт, — потому что он не преследует больше цапли и летит прочь от нее.
— Напротив, — сказал Вальтер, самолюбие которого, казалось, страдало в неудаче сокола, — видишь, он оборачивается опять. Смотри, вот он ее настигает, аа, аа…
Вальтер не обманулся; уверенный в своей быстроте сокол дал время своему неприятелю удалиться на значительное расстояние, и потом полетел вверх за ним. Цапля снова отчаянно закричала и стала опять подниматься выше; через минуту обе птицы были так высоко, что их едва было видно; цапля казалась не более ласточки, а сокол как черная точка.
— Кто из них выше, — сказал Вальтер, — они поднялись так, что я, право, ничего не вижу.
— И я тоже, — отвечал Роберт.
— Но вот сама цапля отвечает нам, — сказал молодой господин, хлопая руками, — потому что, если нельзя ее видеть, то можно слышать. Смотрите, господин Жерар, смотрите, теперь они скорее опустятся, нежели поднимутся.
В самом деле, едва Вальтер успел выговорить эти слова, как обе птицы показались; скоро можно было заметить, что сокол был наверху и бил сильно цаплю клювом, которая, не защищаясь, только кричала; потом, поджав крылья, летела как камень вниз, в пятидесяти шагах от наших путешественников, преследуемая своим противником, который спустился почти вместе со своей жертвою.
Тогда Вальтер, пришпорив свою лошадь, поскакал туда, где, казалось, они должны были упасть и, перепрыгнув через забор, скоро был на том месте, где сокол, победитель, клевал мозг побежденной.
С первого взгляда он узнал в нем сокола прекрасной Алиссы Гранфтон. И так как никого из охотников еще не было видно, то он сошел с лошади, подошел к цапле, надел ей на нос перстень с драгоценным изумрудом и, назвав по имени сокола, который в ту же минуту сел к нему на руку, соединился со своим товарищем и продолжал путь, увеличив число посольства еще одним живым существом.
Едва проехали они четверть мили, как услышали, что кто-то кричит позади них и, обернувшись, увидели молодого человека, скакавшего к ним во весь опор. Это был Гильом Монтегю, племянник графа Салисбюри, почему и остановились.
— Милостивый государь, — кричал молодой человек, не успев еще догнать их, — сокол графини Алиссы Гранфтон не продажный, почему и прошу взамен этого кольца, которое она приказала отдать вам, возвратить его мне; или уверяю вас, я найду средство взять его у вас обратно.
— Прекрасный паж, — сказал хладнокровно Вальтер, — отправляясь в путь, я забыл взять с собой моего сокола, который, как ты знаешь, должен всегда сопутствовать дворянину; почему и прошу графиню позволить мне, на время моего отсутствия, оставить при себе ее сокола; прошу тебя вручить ей тот перстень, который найдешь на носу побежденной им цапли, в залог того, что он, по моему возвращению, будет ей доставлен. Если же этого залога недостаточно, то выбери сам двух самых лучших кречетов из всей моей соколиной охоты и доставь ей.
К величайшему удивлению Жерара Дени, слышавшего угрозы молодого человека, он увидел, что этот последний побледнел при первых словах Вальтера, выслушал все им сказанное, почтительно поклонился и, не сказав ни слова, удалился.
— Но… поедемте, — сказал Вальтер, как будто не замечая изумления своего товарища, — мы потеряли много времени, впрочем, мы любовались приятной охотой, и я приобрел благородную птицу.
Сказав это, он нагнулся к соколу, желая как-нибудь поцеловать его; по-видимому, птица привыкла к этой ласке, она вытянула шею, и Вальтер, поцеловав ее, отправился дальше.
— Нет больше сомнений, — сказал тихо молодой человек, поворачивая лошадь свою обратно к графине Алиссе и смотря грустно на драгоценный перстень, который поручено было доставить ей; — нет больше сомнений, он ее любит!..
Что же касается Вальтера, то это происшествие до того заняло его, что он, погрузившись в задумчивость и не сказав ни одного слова с Жераром Дени, доехал до трактира, в котором они должны были ночевать.
Глава IV
На другой день, на рассвете, наши два путешественника отправились в путь, и, казалось, они оба привыкли вставать так рано; один как солдат, а другой как человек низкого происхождения; поэтому приготовления их к выезду были сделаны с истинно военной скоростью. С восходом солнца они уже продолжали путь. Проехав с четверть мили от трактира, где ночевали, дорога разделялась на две, одна из них вела в Гаврич, другая в Ярмут; Вальтер поворотил уже по этой последней, как вдруг товарищ его остановился.
— С позволения вашего, — сказал Жерар Дени, — мы поедем по дороге в Гаврич, потому что у меня есть дела в этом городе, которые мне необходимо кончить.
— Я думал, — отвечал молодой человек, — что в Ярмуте мы скорее найдем средства к переправе.
— Не спорю, но они будут не так безопасны, — сказал Жерар Дени.
— Может быть; однако, как мне кажется, поехав по этой дороге, мы скорее бы достигли Эклюзской гавани, и я думал, что вы изберете ее.
— Самый кратчайший путь есть тот, который ведет туда, где быть должно; и если мы хотим доехать невредимы до Ганда, то необходимо плыть к Невпорской гавани, но не к Эклюзской.
— Это почему?
— Потому что в виду этого города находится остров, охраняемый мессиром Гюи Фландрским, незаконнорожденным братом бывшего нашего властителя Людовика Кресси, и господами Галиверном и Иоанном Родом, начальствующим в ней, и если бы мы попались в их руки, то, вероятно, потребовали бы такого выкупа, которого не в состоянии бы были дать за себя — простой дворянин и начальник ткачей.
Вальтер засмеялся и поворотил свою лошадь по дороге, избранной его осторожным товарищем.
— Я уверен, — сказал он, — что король Эдуард III и Иаков Дартевель не дали бы умереть с голоду своим посланникам в плену, хотя бы выкупа за каждого потребовали и по десяти тысячи золотых ефимков.
— Я не знаю, чтобы сделал король Эдуард, — отвечал ткач, — но я уверен, что как ни богат Жакемар, но он ничем бы не пожертвовал, если бы друг его Жерар Дени попал в плен, даже к сарацинам, которые еще богоотступнее, нежели фландрские дворяне; почему я и должен заботиться сам о своей безопасности. Ничья дружба, ни королевская, ни сыновняя, ни братская не защитят так хорошо грудь, как собственный щит, прикрывающий левую руку, и меч, которым вооружена правая. А так как у меня ни меча, ни щита нет, да правду сказать, я и не умею владеть ни тем, ни другим, потому что чаще имел в своем употреблении челнок и шпули, нежели сабли и кинжалы; то я и имею довольно благоразумия и хитрости, которые могут заменить собою все оружия наступательные и оборонительные, и стоят, кажется, их, особенно употребленные такой головой, которая беспрестанно думает о сохранении в безопасности тела, служащего ей опорою; и надо отдать ей справедливость, она, эта голова, неумолимо заботится об этом.
— Но, — сказал Вальтер, — желая укрыться от Кадсанского гарнизона, не подвергаем ли мы себя опасности со стороны пиратов Бретонских, Нормандских и других, получающих жалованье от короля Филиппа и крейсирующих около берегов Франции, и думаете ли вы, что Гюг Кире, Николай Бегюше или Барбвер, будут снисходительнее к нам Гюи Фландрского, господина Галевина или Иоанна Рода.
— О!.. эти ищут товаров, а не купцов, и им нужна только шерсть, но не бараны; и в случае встречи с ними мы рискуем потерять груз, а больше ничего.
— Вероятно, в гавани Гаврича вы имеете в своем распоряжении купеческий корабль.
— По несчастью, нет. У меня есть только маленькая галера не больше барки, нанятая за мой счет при отъезде моем из Фландрии, и которая не может поднять грузу более трехсот мешков шерсти; но если бы я мог без затруднения и дешевле найти товаров, то взял, бы и большой корабль.
— Я думал, — сказал Вальтер, — что король Эдуард запретил вывоз шерсти из Англии, под опасением довольно строгих наказаний.
— Поэтому и улучшился этот оборот, и лишь только я узнал, что Жакемар хочет отправить посланного к королю Эдуарду, то и просил назначить меня, с тем, что в моем звании уполномоченного все будут думать, что я занят делами государственными, а не торговыми, и поэтому в состоянии буду сделать удачный оборот; я не ошибся, и ежели беспрепятственно доеду до Ганда, то поездка моя будет не бесполезна.
— Но, если бы король Эдуард, вместо того, чтобы поручить посланнику вести переговоры прямо с Иаковом Дартевелем, отменил запрещение вывоза шерсти, так как вы его просили, то, я думаю, тогда оборот ваш не был бы так удачен, как теперь, потому что вы сделали, как мне кажется, покупку вашу до приезда в Лондон; следовательно, покупая запрещенный товар, должны были платить за него дороже.
— Видно, молодой товарищ мой, что вы больше занимались военными делами, нежели торговлей, — сказал улыбаясь Жерар Дени, — потому что эта безделица затруднила бы вас, если бы вы были на моем месте.
— Признаюсь, замечание ваше справедливо; но все же я желал бы знать, как бы вы поступили в таком случае?
— В таком случае я бы замедлил объявлением снятие запрещения, а поспешил с продажей. А так как в одно время я бы вез с собой и разрешение и шерсть, то умолчал бы о первом, до тех пор, пока бы последняя не сошла у меня с рук, и это сделалось бы очень скоро, — продолжал с грустной улыбкой Жерар, — потому что третья часть наших фабрик заперта, но, слава Богу, не от недостатка рук, а от недостатка материалов.
— Стало быть, во Фландрии большой недостаток в английской шерсти?
— Ужасный. Послушайте, — продолжал Жерар, приблизившись к Вальтеру и понизив голос, хотя они были только двое на всей дороге, — прекрасный оборот можно сделать, не хотите ли попробовать?
— Какой? Я очень рад сделать некоторые успехи в познании торговли, тем более, что нахожу в вас такого учителя, какого мне нужно, чтобы научиться скоро.
— Что хотите вы делать в Ярмуте?
— Взять военный корабль, на что уполномочивает меня власть, данная мне королем.
— Уполномочены ли в этом только в одной гавани?
— Нет, это уполномочие распространяется на все гавани Англии.
— Следовательно, возьмите в Гавриче такой же корабль, какой хотели взять в Ярмуте; впрочем, не нужно, чтобы он равнялся величиною с Эдуардом или Кристофом, потому что, говорят, это — два самые огромнейшие корабля, которые когда-нибудь были построены на верфи; но посредственной величины, лишь бы мог вместить в себя состояние двух человек, и когда вы его возьмете, мы нагрузим его самой лучшей шерстью, какую только найдем в Валлисе; пустим за ним мою маленькую галеру, которую жалко бросить, и, прихватив, разделим между собою пополам, как братья. Ежели у вас нет денег, то это не беда, мне и в долг поверят.
— Мысль ваша хороша, — сказал Вальтер.
— Не правда ли! — вскричал Жерар с блистающими от радости глазами.
— Но одно несчастье, что я не могу привести ее в исполнение.
— Это почему? — спросил Жерар.
— Потому что я советовал королю Эдуарду не позволять вывозить из Англии ни одной связки шерсти. — Жерар сделал знак удивления. — То, что я сказал, не должно беспокоить вас, честный товарищ мой, — продолжал улыбаясь Вальтер, — вы купили ваши триста мешков, это хорошо, везите их, но поверьте мне, как другу, ограничьте ими оборот ваш. Что же касается меня, вы не ошиблись, я занимаюсь больше военными делами, нежели торговлей; и так как эти два ремесла совершенно противоположны одно другому, то мой выбор решен: я остаюсь воином. Роберт дал мне Осторожного. — С этими словами Вальтер взял на руку сокола прекрасной Алиссы и отъехав на другую сторону дороги, оставил уединенно продолжать свой путь начальника ткачей, удивленного отказом Вальтера, потому что предложение, им сделанное, казалось ему столь выгодным, что, будь на его месте, он, вероятно, бы им воспользовался.
Оставим их продолжать путь к Гавричу, и чтобы понять последующие за ним происшествия и познакомиться с новыми лицами, участвующими в них, бросим взгляд на Фландрию, где исключительно соединялись в средние века три западных торговли Ипра, Брюга и Ганда.
Междуцарствие, последовавшее за смертью Копрадина, казненного в Неаполе в 1268 году, по повелению Карла Анжу, брата Святого Людовика, произвело продолжительные смуты в Германии, поводом к которым было избрание другого на его место; и они способствовали, как мы сказали выше, всем владетелям мало-помалу к освобождению от власти империи; города в свою очередь, взяв с них пример, нашли средства укрыться от феодального владычества, Майнц, Страсбург, Вормс, Спир, Базен и все города от Рейна до Мезеля заключили трактат наступательный и оборонительный и имеющий целью укрыть от жестокости их владельцев, из которых одни были в зависимости империи, а другие — Франции, более всего побуждала их к этой обороне любовь к собственности, внушенная им неисчислимыми богатствами, стекающимися через торговлю на их биржи. Но время этой отдаленной эпохи, когда путь к мысу Доброй Надежды не был еще открыт Варфоломеем Диасом и не приспособлен Баском да Гама, перевозка всех товаров производилась посредством караванов, которые, отправляясь из Индии, соединяющей в себе все произведения ее океана, поднимались по берегам Персидского залива и достигали Родоса и Суэца, где находилась их главная складка товаров, и уже с этих двух пунктов нагружали корабли и отправляли их в Венецию; там сперва все товары поступали на великолепные базары самовластительного города, потом отсюда отправлялись на кораблях в другие пристани Средиземного моря, и опять, посредством караванов, достигали на Запад и Север Европы; эти караваны проходили и через независимые графства Тироля и Виртемберга по берегу Рейна до Базена, переправлялись через реку под Страсбургом, проходили Тревское, Люксембургское и Брабанское епископства, и, наконец, достигали Фландрии, наполнив на пути своим рынки Констанса, Штутгарда, Ниренберга, Аугсбурга, Франкфурта и Кельна, этих торговых городов, построенных вроде западных караван-сараев. Таким образом, Брюг, Ипр и Ганд сделались богатыми помощниками Венеции, из их магазинов выходили, чтобы распространиться в Бургонии, Франции и Англии, пряные коренья Борнео, ткани Кашемира, жемчуга Гоа и алмазы Гюзараты. Говорят, что Италия предоставила себе право на оптовую торговлю. Взамен этого Ганзейские города получали французские кожи и английскую шерсть, которые преимущественно там обрабатывались, и на возвратном пути теми же караванами доставлялись в Индию, как в место их отправления.
Поэтому легко себе можно представить, что эти богатые граждане соперничали в роскоши с дворянством империи, Англии и Франции и с трудом покорялись насилию своих герцогов и графов. Почему владетели их и находились почти всегда с ними в войне, если только не воевали с Францией.
В царствование Филиппа Прекрасного, около 1297 года, эти раздоры начали принимать довольно серьезный вид. Граф Фландрии объявил королю Франции, что не хочет быть его подданным и не признает больше его власти. Филипп тотчас же послал Римского архиепископа и Сеплисского епископа наложить духовное запрещение на графа Фландрии; этот последний обратился к папе, который потребовал дело к себе; но Филипп писал к святейшему отцу, что дела его королевства касаются палаты пэров, но не папского престола. Вследствие этого собрал войска и пошел на Фландрию, рассеивая в Италии семена религиозного раздора, причинившего смерть Бонифатию VIII и переселение папства в Авиньон.
Во время похода Филипп Прекрасный узнал, что Римский император идет на помощь фламандцам; посему тот же час послал к нему Гоше Шатильона, своего военачальника, который с помощью денег заставил его отступить; в то же самое время Альберт Австрийский получил от него значительную сумму на то, чтобы задержать Родольфа в Германии. Филипп, освобожденный от духовной власти Бонифатия VIII и светской власти императора, пошел навстречу неприятелю; кампания открылась следующими победами: Лиль сдался на капитуляцию, Бетюн взят приступом, Дуе и Куртрай сдались совершенно и граф Фландрии был разбит в окрестностях Фурна; но на пути к Ганду король Франции нашел беглецов, собранных Эдуардом I, королем Англии, который переплыл море, чтобы идти им на помощь. Ни тот, ни другой из этих двух монархов не решился сразиться, двухлетнее перемирие было заключено в Турнаи, и по этому перемирию во власти Филиппа остались Аил, Бетюн, Куртрай, Дуе и Брюг. По окончании перемирия Филипп IV послал брата своего Карла Валуа начать снова прерванную войну; город Ганд отворил ворота, из которых вышел граф Фландрии с двумя своими сыновьями и множеством дворян, и упал к ногам короля, умоляя о прощении. Филипп заключил графа Фландрии и обоих сыновей его в темницы — графа Фландрии в Компиен, а Роберта и Гильома — первого в Шинон, а последнего в Оверн. Приняв эти меры, сам отправился в Ганд, уменьшил налоги, предоставил городам новые права и, убедившись, что приобрел себе уважение народа, объявил, что граф своим вероломством заслужил опалу, почему он и присоединяет все его владения к Франции.
Но не в том состояло желание фламандцев, чтобы только, избавясь от одного властелина, найти другого. Поэтому они с терпением выждали отъезд короля и потом взбунтовались. Ткач Петр Лерой и мясник Бреже были начальниками этого мятежа, встретившего повсюду соучастие к общественной пользе и поэтому быстро распространившегося по всей Фландрии, так что, пока достигло Парижа известие о первом движении, Петр Лерой взял снова Брюг; Ган, Дам и Арденсбург взбунтовались, и Гильом Жюлие, племянник графа, соединившийся q добрыми фламандцами, был избран полководцем; первыми подвигами его было взятие Фюрна, Берга, Виндаля, Кисселя, Куртрая, Уденарда и Ипра. Филипп послал против них армию под начальством своих военачальников Рауля Клермона и де Пеля и Роберта д’Артуа, отца того, который, как мы знаем, явился изгнанником ко двору Англии; эта армия сокрушилась об укрепленный лагерь Гильома Жюлие, оставив во рвах его военачальника, который не хотел сдаться, и Роберта д’Артуа, получившего тридцать две раны, двух маршалов Франции, наследника Бретани, шесть графов, шестьдесят баронов, тысячу двести дворян и десять тысяч воинов.
На следующий год Филипп сам вступил во Фландрию, чтобы отомстить за это поражение, облачив в траур все дворянство Франции и взяв Орши, расположился лагерем при Мон-ан-Пюеле между Лилем и Дуе. Два дня спустя после этого, в то время, как Филипп садился за стол, ужасная тревога поднялась в армии. Король подошел к дверям своей палатки и встретился лицом к лицу с Гильомом Жюлие, который проник в лагерь с тридцатью тысячами фламандцев. Король неминуемо бы погиб, если бы его брат Карл Валуа не схватил за горло Гильома Жюлие. Пока они боролись, Филипп взял свою каску, рукавицы и меч, и без всякого другого оружия, бросился на лошадь, собрал всю кавалерию, опрокинул ею корпус фламандской пехоты, истребил шесть тысяч человек, а остальных обратил в бегство; потом, желая воспользоваться выгодою, которую давал ему слух об этой победе, он осадил Лиль, но едва успел сделать это распоряжение, как Иоанн Намурский, собравший шестьдесят тысяч войска, прислал к нему герольда просить у него мира или вызова сражению. Филипп, удивленный поспешностью, с которой возмутители оправились после поражения и набрали новые войска, согласился на предложенный ему мир, в условиях которого было, что Филипп освободит Роберта Бетюна и отдаст ему его графство Фландрию, но с уговором, чтобы у него не было больше пяти городов, обнесенных стенами, которые, то есть стены, король предоставлял себе право разрушить во всякое время, если бы когда нашел это нужным; а Роберт даст присягу в верности и заплатит в определенные сроки двести тысяч ливров; сверх того возвратит Франции Лиль, Дуе, Орши, Бетюн и все другие города, расположенные по ту сторону Ли. Этот договор был соблюдаем до 1328 года, до времени изгнания Людовика Кресси его подданными, и укрывшегося при дворе Филиппа Валуа. Три короля занимали один за другим трон Франции во весь этот промежуток мирного времени: Людовик X, Филипп V и Карл IV. Филипп Валуа, наследовавший трон после последнего, пошел в свою очередь против фламандцев и нашел их укрепившимися на горе Кассель, под командою рыбного торговца по имени Колен-Занск; новый генерал велел на черте своего лагеря поставить деревянного петуха со следующей надписью:
Пока Филипп обдумывал средства, как заставить петь петуха Занска, этот, три дня кряду, в виде продавца рыбы, проникал в его лагерь и заметил, что король долго сидит за столом и спит после обеда; и что вся армия следует его примеру; это дало ему мысль напасть врасплох на лагерь. Вследствие чего, 23-го августа, в два часа пополудни, пока все спали, Занск приблизился тихо со своими войсками; удивленные часовые были убиты прежде, чем успели подать тревогу. Фламандцы рассыпались по лагерю, а Занск с сотней самых отчаянных пошел к палатке короля, духовник которого один только и не спал, читая священное писание, услышал шум и ударил тревогу. Король приказал бить в барабаны — все на лошадей, войска при этих звуках в ту же минуту проснулись, вооружились, напали на фламандцев и убили, если верить тому, что писал сам король к Сент-Денисскому епископу, более восемнадцати тысяч человек. Занск, не желая пережить поражения, дал убить себя. Это сражение отдало Фландрию на произвол победителя, который разрушил Ипр, Брюн и Куртрай, приказав прежде утопить триста человек из числа их жителей. Фландрия, таким образом, сделалась опять покоренною Людовику Кресси, не осмелившемуся, однако, основать свое местопребывание ни в одном из ее городов, — он оставался во Франции, откуда управлял своим графством.
Во время этого отсутствия властелина могущество Иакова Дартевеля так усилилось, что, посмотрев на него, можно было подумать, что он независимый владетель Фландрии. И в самом деле, он, как мы видели, а не Людовик Кресси отправил посланного к королю Эдуарду, с целью получить снятие запрещения на вывоз шерсти из Англии, составлявшей главную торговлю Ганзейских городов; и мы уже сказали, как гений Эдуарда так быстро исчислил выгоды, которые он мог извлечь из старинной взаимной ненависти Филиппа Валуа и Фландрии; почему и не счел унижением вести переговоры с пивоваром Дартевелем, как будто с человеком, равным ему в могуществе.
Глава V
Так как теперь, несмотря на скуку, неизбежную при описании исторических происшествий со всеми подробностями и означением времени, мы посвятили более полуглавы на рассказ постепенных событий, посредством которых власть пивовара Дартевеля достигла такой степени могущества, и поэтому нельзя удивляться, увидев его выходящего из залы совета, где депутаты всех округов рассуждали обыкновенно о делах города и провинций; окруженного такой свитой, которая не унизила бы собою достоинства владетельного принца; едва он показался на пороге залы, и хотя ему нужно было пройти целый двор, чтобы выйти на улицу, двадцать слуг, вооруженных палками, бросились вперед для очищения ему пути между народом, который стекался всегда туда, где он должен был проходить. Дойдя до ворот, множество пажей и конюших держали на поводу лошадей. Он подошел к своей лошади и сел на нее с такой ловкостью, какой нельзя было бы ожидать от человека его звания, наружности и лет. По обеим сторонам его ехали два всадника: первый на прекрасном ратном коне, достойном благородного и могущественного рыцаря, другой на иноходце, чья спокойная поступь соответствовала званию его всадника: первый был маркиз Жюлие, сын Гильома Жюлие, который в сражении при Мон-ан-Пюеле достиг палатки Филиппа Прекрасного, и его брат мессир Валеранд, архиепископ Колонский; за ними следовал мессир Фокемон и храбрый воин, называвшийся Куртрезьен, потому что он родился в Куртрае и был известен больше под этим именем, нежели под собственным своим, которое было Зегер, потом без различия званий сопровождали их депутаты всех городов и округов.
Этот поезд был так многочислен, что никто и не заметил, как при повороте одной улицы два новых лица присоединились к нему; новоприбывшие старались приблизиться к Иакову Дартевелю, по любопытству или, может быть, потому, что их звание давало им право ехать впереди всей толпы; и наконец успели поместиться подле Фокемона и Куртрезьена; шествие в таком порядке продолжалось с четверть часа, потом глава колонны остановился у одного дома в несколько этажей, который был вместе дворцом и фабрикой, все сошли с лошадей, которых слуги увели в конюшни. Этот дом был жилищем Иакова Дартевеля, который, обратясь к своей свите, дал знак всем войти, и увидел новоприбывших.
— А! Это вы, господин Жерар! — сказал громко Дартевель, — добро пожаловать! Жалею, что вы опоздали несколькими часами и не присутствовали при нашем решении к упрочению торговли нашей доброй Фландрии с Венецией и Родосом, в исполнении которого мы надеемся на помощь мессира Жюлие и господина архиепископа Колонского, его брата; они могут нам помочь, сколько обширностью своих владений, простирающихся от Дюссельдорфа до Аикс Шапеля, столько же и влиянием на других владетелей их родных и друзей, между которыми находятся Римский император и Людовик V Баварский. Я уверен, что вам доставило бы удовольствие то единодушие, с которым добрые обыватели городов наших предоставили мне свою власть, принадлежащую Людовику Фландрскому до побега его к родственнику его, королю Франции. Потом, приблизившись и отведя его в сторону, сказл ему тихо:
— Ну, что? Милый мой Дени, какие вести привез ты нам из Англии? Видел ли ты короля Эдуарда? Согласен ли он отменить запрещение на вывоз шерсти? И будем ли мы ее получать из Валисса и кожи из Йорка? Говори со мной тихо, как будто бы мы говорим о чем-нибудь другом.
— Я исполнил в точности твои наставления, Жакемар, — отвечал начальник ткачей, принуждая себя говорить ему ты и называть тем именем, которым зовут его друзья. — Я видел короля Англии, и он был так поражен предостережениями, переданными ему мною от твоего имени, что прислал своего доверенного вести переговоры прямо с тобой, не желая и полагая бесполезным иметь дело с кем-нибудь, кроме тебя, он говорит, что если ты чего хочешь, то это значит, что и вся Фландрия того же желает.
— Клянусь, он прав; где же посланный?
— Вот этот молодой человек, с рыжеватою бородою, который стоит на. той стороне улицы, прислонившись к колонне с соколом на руке, как будто какой-нибудь барон Империи или пэр Франции. Мне кажется, эти англичане думают, что они все происходят от Вильгельма Завоевателя.
— Нужды нет, надо льстить их самолюбию. Пригласи от моего имени этого молодого человека на ужин, который я даю архиепископу Колонскому, маркизу Жюлие и всем депутатам. Посади его за стол так, чтобы самолюбие его было удовлетворено, однако не очень, например, между Куртрезьеном и тобою; старайся, чтобы он не был близко ко мне, дабы не дать подозрения, что он нам нужен, но и не далеко, так, чтобы я мог видеть его лицо. Посоветуй ему не говорить ничего о делах, угощай его, заставляй пить; я поговорю с ним после ужина.
Жерар Дени поспешил передать Вальтеру порученное ему приглашение; молодой человек принял его, как милость, оказанную званию, дающему на это ему право, и стал на место, назначенное Дартевелем между Куртрезьеном и начальником ткачей.
Общество было почти столь же многочисленное, и ужин так же великолепен, как в Вестминстерском дворце, описанный нами в начале нашего повествования; такое же множество слуг, такое же изобилие серебряной посуды, разных дорогих вин; только собеседники представляли собою совсем другое зрелище, потому что, за исключением маркиза Жюлие и архиепископа Колонского, сидевших за верхним концом стола, по обеим сторонам от Дартевеля, Фокемона и Куртрезьена, которые сидели против него, все прочие были простые обыватели и начальники обществ, почему и сидели по старшинству лет за столом, который был пониже того, за которым находились почетные гости. Что же касается Вальтера, то он, пропустив своего соседа вперед, присоединился вместе с ним к дворянам, оставив Жерара Дени поместиться во главе второго стола, и поэтому находился почти против Дартевеля, пользуясь той же, как и он, выгодой рассматривать друг друга.
Пивовар был человек лет сорока пяти или сорока восьми, среднего роста, довольно полный, он носил волосы, остриженные в кружок, бороду и усы по моде тогдашних дворян; хотя физиономия его и выражала добродушие, но иногда быстро брошенный взгляд придавал ей вид хитрости. Одет он был так богато, как только позволяло ему его звание, и имел на себе полукафтан темного сукна, вышитый серебром и обшитый чернобурым лисьим мехом; золото, горностаевый и беличий меха, как равно и бархат, составляли одежду одних дворян.
Вальтер был прерван в своих наблюдениях служителем, который, нагнувшись, сказал ему на ухо несколько слов, и епископом Колонским, начавшим с ним говорить.
— Мессир, — сказал епископ, — кажется, я могу вас так называть?
Вальтер поклонился.
— Позвольте мне полюбоваться вашим соколом, которого служитель ваш держит на руке; он, кажется, прекрасной, хотя и неизвестной мне породы.
— С большим удовольствием, — отвечал Вальтер, — тем более, что вы этим даете мне случай просить извинения, в том, что он присутствует в нашем обществе, — и единственно потому, что Роберт не знал, куда его посадить, почему сию минуту и предложил мне просить, не позволите ли вы поместить его с вашими соколами?
— Да, да, — сказал, смеясь, Дартевель, — мы, обыватели, не имеем ни псовой, ни соколиной охоты, но взамен этого в моем доме есть много Кладовых, много конюшен; и вместо псарни и птичного двора, у нас есть обширные площади для помещения войск; и я думаю, что собаки и сокола господина епископа Колонского, оставив дома Иакова Дартевеля, будут жаловаться на оказанное им у него гостеприимство; хотя бедный пивовар всеми силами старался сделать дом свой достойным чести, оказанной ему его посетителями.
— Поэтому, любезнейший Дартевель, — отвечал маркиз Жюлие, — обещаю вам, что мы все, как равно все наши служители, собаки и соколы, будем помнить прием, сделанный нам вами, всеми депутатами добрых городов Фландрии и начальниками округов Ганда, — прибавил он, обращаясь и кланяясь собеседникам, сидевшим за вторым столом.
— Мне кажется, мессир, вам не следует извиняться, — сказал архиепископ Колонский, смотревший долго с видом знатока на сокола, — я убежден, что эта птица древнее и знатнее родом многих французских дворян, особенно со времен Филиппа III, который вздумал продать дворянское достоинство золотых дел мастеру Раулю, чьи предки, как кажется, заключались в слитках серебра и золота, обращенных им потом в монету. Однако, признавая эту птицу породистою, я, несмотря на мои познания в охоте, не могу определить, откуда они родом.
— Отдаю всю справедливость, что вы сведущее меня по этому предмету, — сказал Дартевель, — я могу только сказать, что он получил свое начало на Востоке; я видел, как мне кажется, хотя, впрочем, очень редко, ему подобных на островах Родосе и Кипре, в то время, когда я сопровождал графа Валуа.
— И не ошибаетесь, — отвечал Вальтер архиепископу, — род его происходит из Пубии, из страны, которая, говорят, находится южнее того места, где Моисей перешел Черное море. Отец и мать его были взяты при обозе Мюлей Мугамеда, обладателя Гренады, Альфонсом IX, королем Кастильским, и отданы им кавалеру Лакеарту, сопровождавшему Иакова Дугласа, в предпринятом им путешествии с сердцем короля Роберта Брюса к Гробу Господню. По возвращении своем Лакеарт, в одном сражении между англичанами и шотландцами, взят был в плен графом Ланкастером Кривошеим, и в числе условий выкупа его помещено было, что он должен дать лучшей породы сокола, вывезенного им из Испании. Граф Ланкастер, как владелец этого драгоценного сокола, подарил его прекрасной Алиссе Гранфтон, которая в свою очередь дала его мне на время моего путешествия. Поэтому вы видите, что этой родословной доказывается его благородное происхождение.
— Вы напоминаете мне, — сказал Куртрезьен, — что я видел Иакова Дугласа проездом его в Эклюз; он не знал, как добраться до Святой земли, и я дал ему совет ехать через Испанию. Этому, кажется, уже лет семь или восемь.
— Говорят, — продолжал сир Фокемон, — что сам король Роберт Брюс дал ему это поручение, считая его самым честным и самым храбрым рыцарем из всего королевства.
— Да, да, — отвечал Куртрезьен, — он часто мне рассказывал, как это случилось, и этот благородный и истинно рыцарский рассказ доставлял мне удовольствие, а ему делал честь. Кажется, во время своего изгнания король Роберт дал клятву, что, если покорит свое королевство, то предпримет путешествие к Гробу Господню; но беспрестанные войны против королей Англии не позволяли оставить Шотландии; и он, при смерти своей, вспомнив обет, исполнение которого лежало на его совести, в последние минуты своей жизни призвал Иакова Дугласа и в присутствии многих сказал ему: «Друг мой Иаков, вам известны труды мои, во все продолжение моей жизни к возвышению моего королевства; и в то самое время, когда эти труды доходили до того, что превышали мои силы, я дал обет, по благополучном окончании всех смут, если мне приведет Бог царствовать спокойно, объявить войну врагам Господа нашего и противникам Христианской веры. Сердце мое всегда стремилось к этой цели, но, видно, Всевышнему не угодно было принять обет мой, и я не имел ни минуты покоя; теперь чувствую, что Всевышний призывает меня к себе, и поэтому, если тело мое могло выполнить того, что я желал, то я хочу, чтобы сердце мое достигло исполнения данного обета, — и не знаю другого рыцаря из всего моего государства, который был бы храбрее и способнее вас к исполнению этого моего желания, прошу вас, как друга, предпринять, вместо меня, это путешествие и выполнить его так, чтобы душа моя была спокойна; я надеюсь на вашу верность и прямодушие, и уверен, если вы предпримете что-нибудь, то ничто не в состоянии воспрепятствовать вам в исполнении; и я умру спокойно, если исполните так, как я вам скажу. Я хочу, чтобы сию же минуту после моей кончины вы мечом своим вскрыли грудь мою, вынули сердце и, забальзамировав его, положили в серебряную коробочку, приготовленную мною для этого; потом, взяв из сокровищ моих, что найдете необходимым для путешествия вашего и всех тех, кто будет сопутствовать вам, я прошу вас, не щадя моих денег, набрать многочисленную свиту, чтобы на пути вашем все знали, что вы везете сердце короля Роберта, по собственному его поручению и по тому, что тело его не могло выполнить обета, им данного».
— Ваше величество, — сказал Иаков Дуглас, — благодарю вас за честь, которую вы мне оказываете, доверяя мне такое сокровище; от всего сердца обещаю исполнить поручение ваше, хотя не считаю себя достойным и способным для такого важного дела.
— Благодарю тебя, друг мой, благодарю за твое обещание, — сказал король. — Теперь я умру спокойно; я знаю, что самый честный, самый храбрый и самый способный из всех рыцарей моего королевства исполнит то, чего я сам не мог выполнить. — Потом, подозвав к себе ближе Иакова Дугласа, обнял его и через несколько минут умер.
В тот же самый день, как желал король, Иаков Дуглас мечом своим вскрыл ему грудь, вынул сердце, положил в серебряную коробочку, на крышке которой был изображен лев, герб королевства Шотландии; потом повесил коробочку себе на шею и отправился с многочисленной свитой из Монтроза, и вышел на берег в Эклюзе, где я его видел, познакомился с ним, и он тут же мне рассказал все то, что вы теперь слышали.
— Кончил ли он благополучно свое предприятие? — спросил Жерар Дени, желая участвовать в этом благородном разговоре.
— Нет, — отвечал маркиз Жюлие, — я слышал, что он погиб в Испании.
— И смерть его достойна была жизни, — сказал Вальтер. — Хотя я и англичанин, а он шотландец; но я отдаю ему полную справедливость, как благородному и славному рыцарю. Я помню, как в одну ночь в 1327 году мессир Иаков Дуглас с двумястами воинами проник в наш лагерь, в то время, когда все спали, пришпоривая лошадь и поражая мечом солдат наших, так что в одну минуту был уже у палатки молодого короля Эдуарда III, крича громко: Дуглас! Дуглас! К счастью, король Эдуард услышал воинственный крик его, и едва успел выбраться из своей палатки, веревки которой Дуглас уже обрезал мечом с тем, чтобы ею накрыть всех в ней находящихся. Больше трехсот человек наших было убито, и шотландец успел удалиться, не потеряв ни одного человека. После этого происшествия по ночам мы удвоили караул, опасаясь вторичного нападения.
— А знаете ли вы подробности его смерти? — спросил маркиз Жюлие.
— Знаю даже до последней; потому что мой учитель рыцарства часто повторял их мне. Он, на свое несчастье, последовал вашему совету, — продолжал Вальтер, обращаясь к Куртрезьену, — и прибыл в Испанию; это было в то время, когда король Альфонс Арагонский воевал против короля Гренады, который был сарацин; и испанский король спросил у знаменитого путешественника, не пожелает ли он в честь Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы преломить копья с неверными?
— С охотою, — отвечал Дуглас, — и чем скорее, тем лучше.
— На другой день король Альфонс выступил против неприятеля. Король Гренады не замедлил идти к нему навстречу для сражения; что же касается Дугласа-Черного, то он со своими шотландскими рыцарями и их оруженосцами присоединился к крылу войск короля Альфонса, чтобы удобнее наблюдать за неприятелем, и показать свое рвение. Лишь только он заметил, что воины с обеих сторон были готовы к бою и что испанские войска пошли вперед, то, желая быть в числе первых, но не последних, пришпорил коня, закричав: Дуглас! Дуглас! Бросился вперед, все его товарищи последовали за ним; приблизившись к войскам короля Гренады и воображая, что испанцы следуют за ним, снял с шеи коробочку, заключавшую в себе сердце короля Роберта, бросил ее в середину сарацинов, вскричав: «Вперед, благородное королевское сердце! Гак как и при жизни ты всегда было впереди, и Дуглас последует за тобою», врезался со своею свитою в середину сарацинов, показал чудеса храбрости, но погиб со всеми своими, потому что, к стыду испанцев, они не последовали за ним. На другой день его нашли мертвым с прижатою к груди серебряной коробочкой, в которой было сердце короля, окруженного всеми его товарищами, из которых немногие были тяжело ранены, остальные же все убиты; три или четыре только остались живы, и один из них рыцарь Локарт, возвратясь, привез с собою коробочку с сердцем короля, которое и было с большой пышностью похоронено в Мельрозском аббатстве. С этого времени потомки Дугласа, имевшие прежде в гербе своем разинутую пасть и три звездочки на лазоревом щите на серебряном поле, переменили их на серебряное сердце, осененное короною; и рыцарь Локарт переменил имя свое и начал называться Локеарт, что на их языке означало: запертое сердце.
— Да, — сказал с чувством Вальтер, — это был храбрый и честный рыцарь, благородный военачальник, выигравший пятьдесят из шестидесяти сражений, в которых он участвовал; и никто не жалел о нем более короля Эдуарда, несмотря на то, что Дуглас несколько раз возвращал ему его воинов из плена, приказав прежде каждому из них подрезать второй палец правой руки и выколоть правый глаз, с тем чтобы они не могли натягивать лук и направлять полет стрелы.
— Да, да, — сказал епископ Колонский, — молодой леопард желал встретиться со старым львом, чтобы узнать, чьи зубы острее и чьи когти тверже.
— Вы отгадали, — отвечал молодой человек, — он ожидал этого во все продолжение жизни Дугласа-Черного, смерть которого лишила его этой надежды.
— В воспоминание подвигов Дугласа-Черного! — сказал Жерар Дени, наполняя кубок Вальтера рейнвейном.
— И за здоровье Эдуарда III, короля Англии, — прибавил Дартевель, посмотрев значительно на молодого человека и вставая.
— Да, — продолжал маркиз Жюлие, — и да вспомнит он наконец, что Филипп Валуа сидит на его престоле, спит в его дворце и царствует над народом, который тоже принадлежит ему!
— О! Божусь вам, он очень хорошо это помнит, — отвечал Вальтер, — и если бы мог найти добрых союзников…
— Ручаюсь! Что у него не будет в них недостатка, — сказал Фокемон, — и уверен, что, и сосед мой Куртрезьен, который больше Фламандец, нежели Француз, не откажется подтвердить то, что я говорю.
— Конечно! — вскричал Зегер, — я Фламандец по душе, Фламандец по сердцу, и с первого слова…
— Да, — сказал Дартевель, — с первого слова: но кто скажет это первое слово? Не вы ли, господин Фокемон, или Жюлие, которые сами находитесь в зависимости Империи, и поэтому не можете воевать, не получив дозволения от императора? Или — не Людовик ли Кресси — наш мнимый владетель, находящийся с женой и ребенком своим в Париже при дворе двоюродного брата своего? Или — не собрание ли добрых городов, которые навлекут на себя изыскание двух миллионов гульденов и отлучение от церкви нашим святым отцом папою, ежели начнут неприятельские действия против Филиппа Валуа? Трудно предпринять и еще труднее поддержать, поверьте мне, войну с соседями нашими — французами. Ткач Петр Лерой, рыбопродавец Ганекин[4] и родитель ваш Жюлие испытали это ка себе! Если эта война начнется, то мы с Божьей помощью ее поддержим. Но если не начнется, то верьте, «о нам и думать о ней не следует. Будем довольствоваться настоящим положением нашим, которое истинно прекрасно. В память Дугласа-Черного и за здоровье Эдуарда.
С этими словами он выпил свой стакан. Все собеседники, встав и поклонившись, последовали его примеру и потом опять сели.
— Родословная вашего сокола увлекла нас далее, нежели того мы желали, — сказал Вальтеру после минутного молчания епископ Колонский, — но через нее я узнал, что вы из Англии; что нового в Лондоне?
— Говорят о крестовом походе, который Филипп Валуа намеревался предпринять против неверных, по увещанию папы Бенуа XII и говорят (впрочем, вы должны это лучше знать, потому что сношения Франции с вами не так затруднительны, как с нами, заморскими жителями), что король Иоанн Богемский, король Наварский[5] и король Петр Арагонский[6] будут участвовать в этом походе.
— Это справедливо, — отвечал епископ Колонский, — не зная сам почему, я не доверяю исполнению этого предприятия, хотя его и проповедуют четыре кардинала: Неаполитанский[7], Цареградский[8], Альбанский[9] и д’Остийский[10].
— Что же мешает исполнению его? — спросил Вальтер.
— Ссора между королем Арагонским и королем Майорским, между которыми посредником Филипп Валуа.
— Но причина этой ссоры важна?
— Очень важна, — отвечал епископ Колонский, — Петр IV, приняв присягу от Ияма II за его Майорское королевство, отправился в свою очередь присягать за свое к папе Авиньонскому; но по несчастью, во время церемонии торжественного въезда этого принца в Папский город, конюший короля дон Ияма ударил хлыстом лошадь короля Арагонского; и тот, обнажив мечь, бросился в погоню за конюшим, который едва успел спастись, — и за это возгорелась война. Из этого вы можете заключить, что его справедливо назвали Церемонным.
— Впрочем, надо и то сказать, — прибавил Дартевель, — что во время хлопот, причиненных этим принцем, король Давид Шотландский с супругою своей прибыли в Париж, потому что Эдуард III и Балиоль оставили им в Шотландии такое маленькое королевство, что они не сочли нужным в нем оставаться, потому что все владение их заключается в четырех крепостях и одной башне. И если бы Филипп Валуа послал в Шотландию на помощь Алан-Викону или Агнесе-Черной десятую часть армии, назначенной им для похода в Святую Землю, то это значительно бы изменило их дела.
— Я думаю, — сказал небрежно Вальтер, — что Эдуарда мало беспокоит Алан-Викон со своим Лохлевенским замком, равно как и Агнеса-Черная, хотя она и дочь Томаса-Родольфа. Со времени его последнего путешествия в Шотландию дела очень переменились; лишась возможности встретиться с Иаковым Дугласом, он отомстил Арчибальду: волк расплатился за льва. Все южные графства принадлежат ему; начальники и шерифы всех главных городов ему преданы; Эдуард Балиоль присягал ему за Шотландию, и если принудят его возвратиться, то он докажет Алан-Викону, что его оплоты прочнее сира Иона Стерлинга[11] и графини Марш, что бросаемые из машин в город ядра не осыпают только пылью[12] и если Виллиам Шкон находится еще у ней на службе, то король постарается надеть броню такого свойства, чтобы доказательства любви Агнесы-Черной не проникли в его сердце[13].
Разговор при этих словах был прерван боем часов, которые начали бить девять, и так как часы в то время были новым изобретением, то и обратили на себя внимание всех присутствующих, — и Дартевель потому ли, что обед был уже кончен, или потому, что желал дать этим знать, что все могут удалиться, встал и, обращаясь к Вальтеру, сказал:
— Я вижу, что вы так же, как и господин епископ Колонский и Жюлие, желаете рассмотреть механизм этих часов. Подойдемте ближе, право, это — прелюбопытная вещь. Они были назначены Эдуарду, королю Англии, но я предложил механику, их делавшему, такую цену, что он согласился мне их уступить.
— А как зовут этого изменника, который выпускает товары из Англии, несмотря на воспрещение своего короля? — спросил смеясь Вальтер.
— Ришард Валингфорт, достойный бонедиктинец, аббат Сент-Альбаны, выучившийся механике у отца своего и трудившийся целые десять лет над этой редкостью. Посмотрите, они показывают положение звезд и, как солнце, в продолжение двадцати четырех часов делают оборот около Земли, а также прилив и отлив моря. Что же касается того, как они бьют, го это, видите, бронзовые шарики, падающие на колокольчик того же металла, в таком числе, сколько они показывают часов, и в начале каждого часа рыцарь выходит из замка и становится на часы у подъемного моста, сменяемый другим рыцарем в следующем часу.
Рассмотрев с вниманием эту редкость, все простились и ушли. Вальтер, оставшись один, хотел уже идти так же, как и другие, как вдруг Жакемар, положа руку ему на плечо, сказал:
— Если я не ошибаюсь, то мне кажется, что встретил вас у дверей нашего дома в сопровождении Жерара Дени, вы только что прибыли в добрый наш город Ганд.
— Точно, я только что прибыл в ту самую минуту, — отвечал Вальтер.
— Я так и думал; почему и позаботился о вашем помещении.
— Это поручено мною Роберту.
— Роберт устал; Роберт хочет есть и пить; Роберт не имел времени найти для вас удобного помещения; почему я и послал его отдыхать вместе со слугами наших собеседников, предоставив себе вести вас в назначенную для вас комнату и угощать вас.
— Но новый гость в то время, когда у вас такое большое общество, не только обеспокоит вас, но даже заставит предполагать особенную важность в новоприезжем.
Что касается того, что вы меня обеспокоите, то будьте насчет этого спокойны, вы займете комнату моего десятилетнего сына Филиппа, который с удовольствием вам ее уступит. Она имеет сообщение с моей посредством коридора, и вы можете во всякое время приходить ко мне, и я к вам, так что никто этого не узнает; кроме этого, из нее есть особый выход на улицу и поэтому вы можете принимать у себя кого и когда вам будет угодно. Что же касается важности, то она будет соразмерна вашей воле и вашему званию, в отношении ко мне и всем вы будете казаться тем, чем вам будет угодно.
— Хорошо, — сказал Вальтер со свойственною ему скорой решимостью, — я принимаю с удовольствием предложение ваше и надеюсь угостить вас когда-нибудь в Лондоне.
— О! — отвечал Дартевель с видом сомнения, — не думаю, чтобы дела мои позволили мне когда-нибудь пуститься за море.
— Даже и для того, чтобы заключить торг на большую покупку шерсти?
— Вы знаете, что вывоз этого товара воспрещен.
— Знаю, — сказал Вальтер, — но тот, кто сделал это воспрещение, может и отменить его.
— Эти дела слишком важны, — отвечал Дартевель, прижав палец ко рту, — чтобы о них говорить стоя и подле дверей, и особенно тогда, когда эти двери отворены; о таких делах говорят затворившись и с глазу на глаз сидя за столом, на котором стоит бутылка хорошего вина, для оживления разговора; и мы можем все это найти в вашей комнате, если вам угодно будет последовать за мною.
С этими словами он дал знак слуге, который, взяв восковой факел со стены залы, пошел вперед, освещая им путь. Подойдя к дверям комнаты, отворил их и сам удалился.
Вальтер и Дартевель вошли, и этот последний запер за собою дверь.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава VI
Вальтер нашел, в самом деле, все приготовленным, что Жакемар находил необходимым для дипломатических совещаний. Посередине комнаты стоял стол, два кресла, одно против другого, у стола ожидали собеседников, и на столе находилась огромная серебряная стопа, которая с первого на нее взгляда казалась достаточною для оживления разговора, как бы он продолжителен и важен не был.
— Мессир Вальтер, — сказал Дартевель, остановясь у дверей, — имеете ли вы привычку откладывать до завтра рассуждения о важном деле, которое можете сделать сегодня?
— Господин Жакемар, — отвечал молодой человек, сев на одно из кресел, прислонясь к его спинке и положив ногу на ногу, — когда вы занимаетесь вашими делами перед ужином или после него, днем или ночью?
— Для важных дел у меня нет определенного времени, — сказал Дартевель, подходя к столу, — я занимаюсь ими всегда.
— Это и мое правило, — отвечал Вальтер, — и поэтому садитесь, и будем говорить. — Дартевель сел на другое кресло с поспешностью, доказывающий то удовольствие, с которым он принимал это приглашение.
— Господин Жакемар, — продолжал Вальтер, — вы говорили за ужином о затруднениях войны между Фландрией и Францией?
— Мессир Вальтер, — сказал Дартевель, — вы говорили после ужина об удобстве для заключения торгового трактата между Фландрией и Англией?
— Трактат этот представляет много затруднений, однако он возможен.
— Война, конечно, имеет опасные последствия, однако с благоразумием ее можно предпринять.
— Я вижу, мы понимаем друг друга, итак, не теряя времени, приступим к делу.
— Прежде, нежели я буду отвечать на вопросы, я хочу знать, кто мне их предлагает.
— Посланник короля Англии, и вот его уполномочение, — сказал Вальтер, вынимая пергамент.
— Но к кому уполномочен этот посланник?
— К главному правителю дел Фландрии.
— И эта доверительная грамота прямо от?..
— Короля Эдуарда, о чем свидетельствует его печать и удостоверяет его подпись.
— Итак, король Англии не счел для себя унижением писать к бедному пивовару Жакемару, — сказал он с сомнением, стараясь скрыть чувство удовлетворенного самолюбия. — Но мне любопытно знать, — прибавил он, — как король Эдуард назвал меня в заглавии, потому что братом мог бы он назвать короля, двоюродным братом (cousin) — пэра и мессиром — рыцаря; а я не король, не пэр и не рыцарь!
— Поэтому он и избрал не столь громкое, но более дружеское, нежели все те, о которых вы говорите мне. Посмотрите.
Дартевель взял из рук Вальтера грамоту, и хотя нетерпеливо желал скорее узнать, в каких выражениях писал к нему такой могущественный король, как Эдуард, но не желая показать, что он обращает на это главное свое внимание, начал рассматривать печать.
— В самом деле, — сказал он, — это — королевская печать, вот три леопарда Англии, по одному на каждое государство; и их достаточно для того, чтобы защищать, — прибавил он улыбаясь, — и терзать его. Это великий и благородный король Эдуард, и строгий защитник своего королевства. Посмотрим, что ему угодно писать нам.
«Эдуард III, король Англии, герцог Гвиенны, пэр Франции, куму своему Иакову Дартевелю, депутату города Ганда, представителю герцога Фландрии.
Да будет известно вам, что мы уполномочиваем кавалера Вальтера, обязываясь признать полезным и действительным всякий трактат войны, мира или торговли, заключенный с вами и подписанный им. Эдуард».
— Теперь вы признаете меня его посланником!
— Совершенно, это неоспоримо.
— Итак, будем говорить откровенно. Вы желаете свободной торговли с Англией?
— Вы предполагаете войну с Францией?
— Из этого вы видите, что мы имеем надобность один в другом, и что выгоды Эдуарда и Дартевеля, как, по-видимому, не различны, но касаются одни других. Отворите ваши гавани для наших войск, тогда мы отворим свои для ваших купцов.
— Вы скоро приступаете к делу, молодой друг мой, — сказал улыбаясь Дартевель, — когда предпринимают войну или торговый оборот, то, конечно, с целью, чтобы они принесли пользу — не правда ли? И так первым средством к успеху, это — обдумать все прежде, не торопясь, но и, об, думав, не приступать к исполнению, если не предвидится трех случаев к успеху.
— Мы их будем иметь тысячу.
— Вот ответ, который ни на что не отвечает. Берегитесь ошибиться в гербе Франции; вы думаете, что в нем три лилии, напротив, это три копья; и верьте мне, если одни только ваши леопарды замышляют это предприятие, то они переломают себе зубы и когти, не сделав ничего полезного.
— Поэтому Эдуард и не начнет войны, не удостоверясь в помощи герцога Брабандского, владетелей Империи и добрых городов Франции.
— Вот в этом-то все и затруднение. Герцог Брабандский характера нерешительного, и без сильных причин он не примет сторону — ни Эдуарда, ни Филиппа.
— Может быть, вы не знаете, что герцог Брабандский — двоюродный брат короля Англии.
— Напротив, я это лучше всех знаю; но знаю еще и то, что сын герцога Брабандского женится на дочери короля Французского; и доказательством этому служит отказ его графу Ганаусскому, дочь которого Изабеллу он хотел взять в замужество.
— Но я думаю, — сказал Вальтер, — это не касается других владетелей, и что граф Жюлие, епископ Колонский, мессиры Фокемон и Куртрезьен не откажутся выступить в поход.
— Все это — правда, но только первые три зависят от Империи и не могут участвовать в войне, не получив увольнения от императора. Что же касается четвертого, то он свободен; но он не что иное, как простой рыцарь, имеющий поместье от короля, и как владетель этого поместья, обязан следовать за ним на войну; поэтому и может оказать помощь Эдуарду, только своею особою и двумя прислужниками.
— Но, я могу надеяться, — сказал Вальтер, — по край ней мере, на добрых жителей Фландрии?
— Еще менее, господин рыцарь, потому что мы связаны клятвою, и не можем воевать против короля Франции, не заплатив двух миллионов гульденов штрафа и не подвергнув себя отлучению от церкви.
— Вы мне сказали, — вскричал Вальтер, — что война с Францией опасна, но теперь я вижу, по словам вашим, что она даже невозможна.
— Ничего нет невозможного в этом свете для того, кто способен все хорошо обдумать; нет никакой неизвестности, которую бы определить было невозможно, трактата, которого нельзя бы было нарушить золотом, и клятвы, у которой не было бы потаенного выхода, где на страже всегда стоит выгода.
— Говорите, я вас слушаю, — сказал Вальтер.
— Во-первых, — продолжал Дартевель, как будто не замечая нетерпения молодого человека, — оставим тех, которые на стороне короля Филиппа и короля Эдуарда, потому что их трудно заставить переменить свои мнения.
— Но король Богемский?
— Его дочь вышла за Дофина Иоанна.
— Епископ Льежский?
— Филипп будет обещать ему кардинальство.
— Герцог Австрийский Альберт и Оттон?
— Их можно бы было купить, но они уже продали себя. Что же касается короля Наваррского и герцога Бретанского, то они природные союзники Филиппа; значит, все за Францию. Теперь будем говорить о тех, которые за Англию.
— Первый — Гильом Ганаусский, тесть короля Эдуарда.
— Но знаете ли вы, что он при смерти от подагры?
— После него сын его будет наследником, и я в них обоих равно уверен, как в одном, так и в другом. Потом Иоанн Ганаусский, находящийся при дворе Англии, и который дал уже обещание королю.
— Если он его дал, то, наверное, и исполнит.
— Рено-де-Гельдр, женившийся на Элеоноре, сестре короля.
— Потом еще кто?
— Никого более, — сказал Вальтер. — Вот все наши друзья и недруги!..
— Начнем же говорить о тех, кого нельзя назвать ни другом, ни недругом.
— Или о тех, кого выгода заставит сделаться тем или другим.
— Все равно, начнем с герцога Брабандского.
Но, вы говорите, что он нерешителен, и что трудно его принудить на что-нибудь окончательное.
— Правда, но у него есть недостатки, из которых один сильнее другого, — и я забыл сказать вам, что он больше скуп, нежели нерешителен.
— Эдуард даст ему 50 000 фунтов стерлингов, если это будет ему нужно, и возьмет на свое жалование все войска, которые он ему пришлет.
— Вот, что называется, говорит дельно. Теперь я отвечаю вам за герцога Брабандского.
— Потом следуют граф Жюлие, епископ Колонский и сир Фокемон.
— О! Это честные люди, — сказал Дартевель, — богатые и сильные, из которых каждый поставит тысячу воинов, если только получит на это дозволение Людовика Бавг 1ского, их императора.
— Но, кажется, есть договор между ним и королем Франции?
— Есть трактат формальный и положительный, которым король Франции обязывается ничего не приобретать на землях Империи.
— Но, подождите, — сказал Вальтер поспешно, — мне кажется…
— Что такое? — спросил улыбаясь Дартевель.
— Что в противность этого договора, король Филипп приобрел замок Крев-Кер в Камбрезии, и замок Арлеан-Пюсель; а эти два замка на земле Империи, и зависят от императора.
— Что же из этого, — сказал Жакемар, желая как будто понудить Вальтера яснее изъясниться.
— Этих приобретений достаточно, чтобы найти причину к войне.
— Особенно, если король Эдуард примет на себя все расходы и ответственность за эту войну.
— Я поручу завтра графу Жюлие съездить к императору.
— По какой власти?
— Я имею бланкеты за подписью короля Эдуарда.
— Браво! Вот два из наших затруднений уничтожены.
— Остается третье.
— И самое трудное.
— Вы говорили, что добрые города Фландрии заключили договор, которым в случае военных действий с их стороны против Филиппа Валуа…
— Нет, нет, не против Филиппа Валуа, а против короля Франции; выражение это ясно, положительно.
— Филиппа Валуа или короля Франции — это все равно.
— Напротив, большая разница.
— Но в случае военных действий против короля Франции, добрые города Фландрии должны заплатить 2 000 000 гульденов и подвергнуть себя отлучению от церкви папою. Итак, эти 2 000 000 гульденов заплатит Эдуард; что же касается отлучения от церкви, то…
— Но, Боже мой, совсем не это, — сказал Жакемар, — 2 000 000 гульденов безделица, а отлучение от церкви, наложенное Римским папою, может быть снято Авиньонским. Но что всего важнее для торгового народа, то это — их слово, слово, которого они не продадут за золото целого света, потому что оно один раз нарушенное теряет навсегда кредит. Ах! Молодой человек, подумайте получше, — продолжал Жакемар, — есть средства на все, стоит только их найти; и вы, конечно, сами видите, как необходимо королю Эдуарду иметь за собою в случае неудачи Фландрию с ее крепостями и ее гаванями.
— Это и его мнение, — сказал Вальтер, — и поэтому он прислал меня вместо себя переговорить лично с вами.
— Если бы нашлось средство согласить данное Фландрией слово с выгодами Англии, то король Эдуард сделает какие-нибудь пожертвования со своей стороны?
— Во-первых, король Эдуард отдаст Фламандцам Лиль, Дуе и Бетюн, три гавани, которые Франция открывает для всех и которые Фландрия будет иметь только для себя.
— Хорошо, потом?
— Король Англии очистит остров Кадсан, и сожжет все, что на нем находится, потому что он служит вертепом Фламандским и Французским пиратам, вредящим меховой торговле Дании с Швецией.
— Этот остров хорошо укреплен.
— Готье де Мони храбр.
— Потом?
— Король Эдуард снимет запрещение, наложенное на вывоз шерсти из Валлиса и кож из Йорского графства, — свободная торговля восстановится между обоими государствами.
— Это будет выгодно для Фландрии, — сказал Дартевель.
— И первый вывоз, заключающийся в двадцати тысячах мешков шерсти, назначен будет Иакову Дартевелю, который…
— В ту же минуту разделит их на все фабрики, потому что он пивовар, не торгует сукном.
— Но который согласится принять за это поручение по пяти стерлингов с мешка.
— Это правосудно и по правилам торговли, — отвечал Жакемар, — надобно только теперь найти средство начать эту войну, не изменив нашему слову. Нашли ли вы его?
— Никак не придумаю, — отвечал Вальтер, — и мне кажется, что это будет напрасный труд по неопытности моей в этих делах.
— Я нашел его, — сказал Дартевель, смотря пристально на Вальтера и с трудом скрывая улыбку довольства. — По какому праву Эдуард III хочет воевать против Филиппа Валуа?
— По праву настоящего наследника королевства Франции, потому что мать его Изабелла — родная сестра Карла IV, а он родной племянник умершего короля, и что Филипп только его двоюродный брат.
— Итак, — сказал Дартевель, — пускай Эдуард разделит щит герба своего надвое, и поместит на одной его половине три лилии, а на другой леопардов Англии, и примет титул короля Франции.
— Тогда?
— Мы будем ему повиноваться, как королю Франции, потому что мы обязаны данным словом королю Франции, а не Филиппу Валуа, как я и говорил вам, — и потребуем от Эдуарда расписку в нашей верности, а он, как король Франции, нам ее даст.
— Это справедливо, — сказал Вальтер.
— Мы и не нарушим нашего обещания.
— И поможете нам в войне против Филиппа Валуа?
— Всей нашей властью.
— Поможете войсками вашими, городами и гаванями?
— Без сомнения.
— Признаюсь, вы искусный дипломат, господин Дартевель.
— Я вам сделаю последнее замечание.
— Какое?
— Король Эдуард присягал в верности королю Франции, как верховному своему властителю за герцогство Гвиен.
— Да, но эта присяга ничтожна, — сказал с поспешностью Вальтер.
— Почему? — спросил Дартевель.
— Потому что, — сказал Вальтер, забыв роль свою, — я ее сделал словесно, не дав руки моей королю Франции.
— В таком случае, ваше величество, — сказал сняв шляпу и вставая Дартевель, — в таком случае вы свободны!
— Ну, полно, ты хитрее меня, кум, — сказал Эдуард, подавая руку Дартевелю.
— И я докажу вашему величеству, — отвечал Жакемар, кланяясь, — что пример доверенности и прямодушия, данный вами мне, не пропадет.
Глава VII
Оба собеседника были правы; Эдуард III по случаю или по предусмотрительности, присягая королю Франции в Амиене, не дал руки своей Филиппу Валуа. Посему, по окончании церемонии, верховный владетель пенял ему за это упущение; на что тот отвечал, что не знал этого обыкновения, исполняемого его предшественниками. Но обещал, по возвращении своем в Англию, справиться в узаконении, где изложены условия присяги. И в самом деле, возвратясь в Лондон, Эдуард должен был согласиться, что самое важное им было не исполнено, почему в грамоте, долженствующей утвердить эту присягу, приказал поместить: что он свидетельствует клятву в верности при соединении рук короля Англии и короля Франции.
Из этого видно, что Эдуард был такой же искусный казуист, как и Дартевель, не считая себя обязанным верностью по этой присяге, в которой хотя и упоминалось о совершенном подданстве, но в сущности недоставало самого важного. Города же Фландрии, со своей стороны, через посредство папы, как мы уже знаем, были обязаны верностью королю Франции, но не лично Филиппу Валуа, почему, по изъясненной Эдуарду причине, избегали и штрафа и папского отлучения от церкви. Все это было немного хитро в тот век, когда рыцари и торговые люди дорожили так много исполнением честного слова; но этот разрыв с Францией был благоприятен выгодам Эдуарда III и Иакову Дартевелю, почему и надо отдать им справедливость за то, что они еще старались найти причину, которой в этом деле дали хотя и фальшивый вид верности и прямодушия.
Кроме того, в чем Эдуард согласился и условился, как мы сказали в последней главе, с Иаковым Дартевелем, он должен был окончить одно дело, не приступая к исполнению этого предприятия, это — дождаться возвращения посланников от Иоанна Ганау, своего тестя, и Адольфа Ламарского, епископа Льежского, которые должны были в скором времени возвратиться, минуя Англию, в Ганд для того, чтобы в нем дожидаться повелений короля; им не было известно, что король предупредит их приездом во Фландрию, и в случае только неудачных совещаний с Дартевелем, должен был уехать обратно.
Несмотря на то, что он продолжал оставаться под чужим именем, и на доверие, которое имел к новому своему союзнику, Эдуард хотел иметь, в случае надобности, в своем распоряжении пункт защиты, почему и писал Готье-Мони собрать пятьсот воинов и до двух тысяч стрелков, и с этим отрядом взять остров Кадсан, который, находясь при впадении западного Еско, может, в случае измены, быть ему пунктом отступления и защиты. И это действие должно было показаться очень естественным — не предосторожностью, произведенною опасением, а просто — исполнением данного обещания; после этого распоряжения король узнал о возвращении обоих посланников.
Посланники чрезвычайно удивились, увидев, что Эдуард сам ожидал их в Ганде. Но зная благоразумие короля и его характер, который хотя и был отважен, однако не завлекал его никогда далее того, на что он решился, успокоились скоро, особенно те из них, с характером которых согласовалось всякое предприятие, сопряженное с опасностью; один только епископ Линкольнский позволил себе несколько замечаний; но Эдуард остановил его, под предлогом нетерпения узнать о последствиях посольства.
Епископ Льежский отказался от всякого союза против короля Филиппа, и несмотря на все предложения посланников, не хотел ничего предпринимать против Франции.
Графа Ганаусского посланные Эдуарда нашли в постели, в сильном припадке подагры. Однако, из уважения к тому, от кого они были присланы, и что брат его находился между ними, он в ту же минуту их принял, выслушал с большим вниманием и отвечал, что он был бы очень рад, если бы король английский преуспел в своем предприятии, потому что более принимает участия в нем, зяте своем, нежели в короле Филиппе, который хотя тоже и родственник его, но что с ним он прервал все родственные связи, потому что Филипп, отговорив молодого герцога Брабандского вступить в союз, давно решенный, с его дочерью Изабеллой, отдал за него свою дочь, и что по этой причине он всеми средствами готов помогать своему любезному сыну, королю Англии. Но, прибавил он, для успеха в этом предприятии необходимо пособие важнее того, которое может оказать Ганаусская область, столь ничтожная в сравнении с Францией, и которой, в случае неудачи, Англия не могла быть защитой.
— Любезный брат, — сказал Иоанн Ганаусский, — все сказанное вами справедливо, и советы ваши основательны, почему и просим вас сказать, что же надобно делать в этих обстоятельствах.
— Я не могу делать наставлений, — отвечал граф, — такому могущественному монарху, насчет помощи, которая ему необходима, но мое мнение предложить герцогу Брабандскому, его двоюродному брату, графу Гельдскому, женившемуся на его родной сестре, архиепископу Колонскому, графу Жюлие, мессиру Арнуль-Бранкенгейму и сиру Фокемону; потому что они все — храбрые воины и скоро вооружатся, если король Англии примет на себя все издержки войны и содержание восьми или десяти тысяч воинов. В таком случае, если зять мой успеет уговорить их всех участвовать в его предприятии, то я не откажусь помогать ему, переправлюсь через море и буду воевать против короля Филиппа, даже и за рекою Оа-Зон.
— Совет ваш основателен и благоразумен, любезный брат, — сказал Иоанн Ганаусский, — и я уверен, что король Эдуард последует ему.
После чего, зная, с каким нетерпением король ожидал извещения об успехе его посольства, Иоанн в тот же самый день с товарищем своим Гильомом Салисбюри, отправился, по приказанию короля, прямо в Ганд, не предполагая никак найти в нем самого Эдуарда, ожидавшего его возвращения.
Нам уже известно, как случай, согласно совести графа Ганаусского, еще до возвращения посольства, сблизил Эдуарда, под именем Вальтера, за ужином у Дартевеля с епископом Колонским, графом Жюлие и сиром Фокемоном; и он с тех пор вполне был уверен, что найдет в них, не говоря уже о согласии императора, верных и храбрых союзников. И поэтому оставалось только склонить герцога Брабандского и Людовика V Баварского, владеющего императорским троном.
Вследствие этого, оба посольства отправились опять — одно к герцогу Брабандскому, а другое — к императору. Посланники должны были просить герцога Брабандского, по родству и дружбе с королем Англии, оказать ему помощь войском, в предприятии его против Франции; Императору же — напомнить, что Филиппом Валуа приобретением крепости Крев-Кер в Камбрезии и замка Дарле-ан-Пюсель, нарушен договор, воспрещавший всякое приобретение на его земле королю Франции, и сказать от имени короля Эдуарда, что он вступается за сделанную ему обиду нарушением этого договора, как за причиненное собственно ему оскорбление, и просит его только позволить зависящим от него рыцарям принять участие в этой войне против Филиппа Валуа.
Готье-Мони, получив в Лондоне повеление короля, поспешил его исполнить: кроме личной своей привязанности к королю Англии, как мы уже сказали выше, родству с королевой, он имел, по своему отважному характеру, расположение и ко всякому предприятию, где можно показать мужество и приобрести славу. И исполнение полученного повеления считал сколько долгом верного подданого, столько же и собственным удовольствием. И поэтому, не теряя ни минуты, сообщил повеление короля графу Дерби, графу Ланкастеру, сыну Кривошеи, графу Суфольку, мессиру Реноль-Кобаму, мессиру Людовику Бошану, мессиру Гильому Фиц-Варвику и сиру Боклеру, которых он почел достойными разделить с ним честь исполнения этого опасного нападения. Каждый из них начал делать свои приготовления; военные корабли приведены были по Темзе в Лондон и нагружены оружием и съестными припасами; потом, посадив на них две тысячи стрелков, пятьсот воинов, рыцарей и их оруженосцев, пользуясь приливом моря, снявшись с якорей, они вышли в открытое море, и в тот же день вечером были уже под Гравезендом. На другой день, остановясь только на короткое время в Маргате, продолжали путь с такой поспешностью, что на третий день достигли Фландрии. Где тотчас, направив корабли по ветру, сделали все приготовления к высадке и, следуя около берега, накануне дня Святого Мартина, в одиннадцать часов утра, были уже около острова Кадсана.
С первого взгляда на остров, англичане заметили, что нет никакой возможности сделать нападение врасплох; потому что часовые в ту же минуту их увидели и ударили тревогу, так что, при приближении их, весь гарнизон в числе, по крайней мере, шести тысяч человек, выстроился в боевом порядке на берегу моря. Однако, приняв в соображение, что попутный ветер и прилив моря благоприятствовали им, они решились приблизиться; посему, выстроив в линию корабли, вооружились, подняли паруса и пустились к городу. После этого для жителей Кадсана не было уже сомнения, и по мере того, как нападающие приближались, гарнизон мог различить их знамена, выстроенные в порядок, и до шестнадцати вооруженных рыцарей, отдающих приказания.
Хотя между англичанами и было много отважных и храбрых рыцарей, но и у неприятеля находилось не менее мужественных и сведущих людей, в числе которых первого можно было назвать мессира Гюи Фландрского, незаконного брата графа Людвига, воодушевлявшего своих товарищей воззванием к мужеству; потом Дюкерт Галевин, мессир Иоанн Род и мессир Жиль Естриф, и так как они видели, что англичане изготовили орудия, то и сами, не теряя времени, начали вооружать своих, между которыми были со стороны фламандцев мессиры Симон и Петр Прюледен, мессир Петр Англемустиер и много других благородных воинов. Когда корабли приблизились к берегу, то обе неприятельские стороны, дышавшие взаимною ненавистью, горели нетерпением вступить в бой, поэтому лишь только корабли подошли на выстрел к берегу, то, не дожидаясь приказания, тысячи стрел полетели на берег, — и так как поражения с кораблей были ужасны, то находившиеся на берегу, несмотря на все свое мужество, были вынуждены отступить; потому что рукопашный бой предпочитали стрельбе, в которой вся выгода была на стороне англичан. Они отступили на расстояние выстрела, и англичане вышли на берег; но едва половина их ступила на землю, как неприятель, бросившись вперед, сделал на них такой натиск, что те из рыцарей, которые были еще на кораблях, не знали, что делать, потому что возвратиться обратно на корабли не было никакой возможности, почему и должны были спрыгивать в море. В эту ужасную минуту раздался голос Готье-Мони, который, бросившись вперед, закричал: Ланкастер — к графу Дерби. В самом деле, этот последний, получивший сильный удар в голову, оставлен был без чувств на месте сражения при отступлении англичан. Фламандцы, заметив наверху его шлема корону, полагали поэтому, что он, должно быть, знатный человек; поэтому, подняв, хотели нести, но вдруг Готье-Мони, заметив его в руках фламандцев, бросился вперед в толпу неприятеля, не дожидаясь подкрепления, и первым ударом своего топора убил мессира Симона Прюледена, только что сделанного рыцарем. Несшие графа Дерби бросили его; он упал на песок, находясь все еще без чувств; Готье-Мони, остановясь возле него, защищал его, не отступая ни шага, до тех пор, пока он не пришел в себя. Впрочем, он не был ранен, но только лишился памяти; почему лишь очувствовался, то, встав, взял свой меч и не говоря ни слова, начал сражаться, как будто ничего с ним не случалось; оставляя изъявление благодарности Готье-Мони до другого времени, полагая, что в настоящую минуту полезнее было сражаться, чтобы вознаградить потерянное время.
Так продолжалось долго, мужество сражающихся не истощалось; однако, несмотря на то, что фламандцы не отступали ни шагу, выгода была очевидна — на стороне англичан, благодаря их чудесным стрелкам, которым не один раз они были обязаны победами. Оставшиеся на кораблях и находившиеся поэтому выше поля сражения избирали каждый свою жертву, прицеливаясь как будто в серну или оленя в парке, и поражали фламандцев своими длинными стрелами, которые были так тверды и летели с такой быстротой, что одни только немецкие латы могли защищать от их ударов, все же другие, кожаные и кольчуги, они пробивали как бумагу. Фламандцы со своей стороны делали тоже чудеса, и несмотря на этот град стрел, они не унывали, стояли самоотверженно и не отступали ни на шаг. Наконец, мессир Гюн пал от удара топора графа Дерби, и над телом его возобновилось сражение, подобное тому, которое за несколько минут перед этим происходило над тем самым, кто поразил его. Но последствия были различны; потому что, желая подать ему помощь, Дюкер Галевин, мессир Жиль Естриф и Иоанн Брюделен были убиты; следственно из начальствующих остался один мессир Иоанн Род, и тот был ранен в лицо стрелой, которую, стараясь вынуть из щеки, он отломил на два дюйма от лица, потому что она вонзилась глубоко в кость. Он хотел было отступить, но к этому не было никакой возможности. Плен мессира Гюн Фландрского, смерть двадцати шести рыцарей, которые пали, защищая его, тысячи стрел, беспрестанно пускаемых с кораблей и превративших берег моря в хребет дикобраза, привели в трепет оставшихся его воинов, и они обратились в бегство к городу; тогда мессир Иоанн Род, не сопротивляясь белее, дал убить себя на том самом месте, где погибли все его товарищи.
С этой минуты начался рукопашный бой, побежденные и победители входили вместе в город Кадсан, — и, рассыпавшись по всем улицам, превратили сражение в бойню. С одной стороны Кадсана был океан, с другой — рукав реки Эско, и весь гарнизон, лишенный возможности спастись, был частью истреблен или взят в плен; из числа шести тысяч, составляющих его, больше четырех тысяч легло на месте.
Что же касается города, то он был взят приступом, а не сдался на капитуляции, следственно и был предан грабежу. Все драгоценности перевезены были на корабли, остальное же, как равно и все строения сожжено; и англичане удалились только тогда, когда от целого города не осталось ничего, кроме пепла, и этот город — многолюдный остров, так населенный накануне, представлял собой груду камней и пепла, и оставался безмолвным так, как в ту минуту, когда вышел из моря.
В продолжение этого времени политические переговоры шли наравне с военными действиями, оба посольства возвратились опять в Ганд. Герцог Брабандский согласился соединиться с Эдуардом, с условием, что получит от короля Англии единовременно десять тысяч фунтов стерлингов и потом еще шестьдесят тысяч в разные сроки, обязываясь дать тысячу двести воинов, с тем только, чтобы содержание их было на счет Англии, и предлагая родственнику и союзнику своему Эдуарду свой замок Лувен, как резиденцию, приличную для него более, нежели дом пивовара Дартевеля.
Ответ Людовика V Баварского был тоже не менее удовлетворителен. Граф Жюлие, которого Эдуард присоединил к другим посланникам, нашел его в Флоремберге и представил ему предложение короля Англии. Тогда Людовик V согласился назвать его своим наместником в Империи. Звание это давало ему право чеканить золотую и серебряную монету с изображением императора и предоставляло власть набирать войска в Германии; два посланника от императора сопутствовали посланникам при их возвращении, для того, чтобы в то же самое время условиться с королем Англии о месте и подробностях церемонии. Что же касается мессира Жюлие, то император в знак своего к нему благоволения и в вознаграждение за то предложение, представителем которого он был, из графа сделал его маркизом.
На другой день явился в свою очередь и Готье-Мони, оставив свой флот в гавани Останда, с донесением, что приказание Эдуарда исполнено, и что если ему угодно, то он может приказать засеять как поле, то место, на котором до сих пор находилось гнездо Фламандских пиратов под названием города Кадсана.
Глава VIII
Король Филипп Валуа, против которого делались все эти военные приготовления, не зная умысла врагов своих, собирался со своей стороны воевать за морем с врагами христианства. Воззвание к крестовому походу происходило с рвением, и король Франции, считая, по словам Фруассара, благоденствие своего королевства упроченным, объявив себя главою этого святого предприятия, немедленно приступил к его исполнению. К этой войне сделаны были такие великолепные приготовления, каких не было со времен Годфрида Буильонского и Святого Людовика. С 1336 года в гаванях Марселя, Егеморта, Сетты и Наброни собирался флот, состоявший из такого множества кораблей, галер и прочих судов, что на них легко могли поместиться шестьдесят тысяч воинов с оружием и продовольствием. В то же самое время Филипп отправил послов к Карлу Роберту, королю Венгрии, набожность и храбрость которого были известны, просить его не препятствовать переходу через его владения поборникам Креста. Одновременно к Генуэзцам, Венецианам, и такое же объявление послал к Гугу IV Люзинианскому, во владении которого находился Кипр, и Петру II, королю Арагонскому и Сицилийскому; между прочим велел предварить главного Французского наместника на остров Родоссе, чтобы остров этот был снабжен жизненными припасами, и равно уведомил магистра рыцарей Святого Иоанна Иерусалимского, чтобы он приказал приготовить продовольствие для его войск во время перехода их через остров Крит, бывший собственностью ордена. И все было готово, не только во Франции, но даже и на всем пути. Триста тысяч воинов возложили на себя знамение Креста и ожидали только повеления, чтобы выступить в поход, как вдруг Филипп Валуа узнал, что Эдуард III объявляет права свои на корону Франции, и что он успел уже заключить договор с Фландрией и императором. В это самое время явился к нему храбрый и верный рыцарь Леон Кренгейм с поручением от герцога Брабандского.
Этот последний, верный своему хитрому и лукавому характеру, едва успев дать слово королю Эдуарду, не желая отказаться ог семидесяти тысяч фунтов стерлингов, которые он ему предлагал, рассудил, что в случае, если это предприятие не будет иметь успеха, то он неминуемо подвергнется гневу короля Франции, поэтому в ту же минуту избрал из своих рыцарей того, кто более всех казался ему достойным тайного поручения, и отправил его к королю Филиппу сказать от его имени, чтобы он не верил ничему, в чем бы стали обвинять его, что он не имел намерения делать какой-либо договор союза с королем Англии; но что принял Эдуарда, как своего родственника, посетившего его владения, почему, очень естественно, предложил ему для его местопребывания свой замок Лувен, что, вероятно бы, он сделал и в рассуждении его, двоюродный брат его Эдуард, если бы он, герцог Брабандский, вздумал посетить Англию. Филипп Валуа, знавший по опыту характер герцога Брабандского, несмотря на его уверения, начал было подозревать его, но известный своею честностью и строгостью нрава Леон Кренгейм просил позволения остаться заложником, отвечая головою своею за верность герцога, и это успокоило Филиппа и рассеяло все его подозрения; с этого дня со старым рыцарем обходились при Французском дворе не так, как с заложником, но как с гостем.
Однако, несмотря на это уверение, Филипп видел, что, ежели он отправится в поход за море, то оставит свое королевство в большой опасности, решился отложить на время это предприятие, до получения новых и вернейших сведений о действиях Эдуарда III, в ожидании которых приказал всем вооружившимся для этого похода войскам оставаться в военном положении, потому что, может быть, необходимость приведет их обнажить против христиан мечи, возложенные ими на себя для покорения неверных. Решившись в то же самое время воспользоваться одним обстоятельством, посредством которого он мог, хотя на время, воспрепятствовать Эдуарду в исполнении его замысла покорить себе королевство другого владетеля, потому что должен будет обратить внимание на защиту своего собственного. Под этим он разумел изгнанных из своего королевства и прибывших в Париж короля и королевы Шотландии, потому что им из всех их владений оставили только три крепости и одну башню.
Так как продолжительный и верный союз с Шотландией занимает важное место в истории средних веков, то необходимо, чтобы читатели наши позволили познакомить их с разными происшествиями, которые его утвердили, чтобы из всего нашего повествования не было ничего для них непонятного. К тому же и Франция была в это время таким могущественным государством, что необходимо также узнать всю ее силу и бросить взгляд на посторонние перевороты, на которые она имела влияние.
По превосходному сочинению Августина Тьери о покорении нормандцев, малейшие подробности похода победителя при Гастинге сделались общенародными во Франции; следовательно, с этого только времени мы взглянем на поэтическую землю Шотландии, которую описывает Вальтер Скотт в своей истории и превосходных исторических романах.
Короли Шотландии были всегда независимы, но находились в войне с королями Англии, вечно пользуясь нападением норманов и продолжительной, последующей за этим, внутренней борьбой. Шотландцы успели распространить свои владения за счет своих неприятелей и завоевали у них, ежели не три целые провинции, то большую из них часть, то есть Нортумберланд, Кумберланд и Вестмиреланд; но так как в это время нормандцы были заняты истреблением саксонцев, то и оказали снисхождение шотландцам, согласясь на совершенную уступку им этих провинций; с условием, что король Шотландии присягнет в них королю Англии; но в отношении всего прочего он остается свободным и независимым владетелем. Впрочем, в таком положении находился и сам Гильом. Независимый владетель своих приобретений за морем, но великим герцогством Нормандией и другими своими владениями он управлял, как подданый короля Франции, и с этого времени учреждена церемония принятия присяги. По условиям этой присяги Эдуард III думал избежать клятвы в подданстве тем, что не подал руки своей Филиппу Валуа.
Однако трудно было, чтобы все осталось в этом положении. По мере того, как спокойствие водворялось в Англии, Гильом и его наследники начали с завистью смотреть на Шотландию, хотя и не смели еще приступить к возвращению того, что уступили; но взамен этого начали внушать соседям своим, что они должны присягать им не только за три завоеванные провинции, но и за все королевство, что и было причиной первого периода войны, который кончился сражением Невкастельским, когда Гильом Шотландский, названный Львом, по изображению льва на щите его, взят был в плен, и для искупления своей свободы признал себя не только за Кумберланд, Вестмиреланд и Нортумберланд, но за всю Шотландию вассалом короля Англии. Пятнадцать лет спустя после этого, Ричард I, почитая это условие несправедливым и вынужденным силою, самовольно от него отказался, и короли Шотландии, считая себя независимыми владетелями, присягали только за три завоеванные провинции.
Сто восемьдесят лет прошло, шесть королей постепенно царствовали в Шотландии с тех пор, как свергли с себя чужеземную власть; и как англичане не объявляли требований на это верховное владычество, то поэтому соседи и жили друг с другом мирно. Как вдруг одно предсказание распространилось между шотландцами от уважаемого всеми мудреца Томас-Римера, что 22 марта будет такой бурный день, какого еще никогда не было в Шотландии. Но этот день наступил и прошел среди всеобщего страха необыкновенно тих и ясен; почему и начали было смеяться над зловещим предсказанием астролога, но насмешки были преждевременны: неожиданно разнесся слух, а потом и действительно узнали, что Александр III, последний из шести королей, царствование которых для Шотландии было золотым веком, проезжая верхом по морскому берегу в Рифском графстве, между Бурнстисландом и Риниорном, и приблизившись неосторожно к пропасти, лошадь его испугалась, бросилась в сторону и король, упав с нее, свалился с утеса и убился до смерти. Предсказание свершилось, страшная буря восходила над политическим горизонтом Шотландии.
Впрочем, буря разразилась не так скоро, как того ожидали. Александр умер без наследника мужского пола; но одна из дочерей его, бывшая в замужестве за Эриком, королем Норвежским, имела дочь, которую историки того времени называли Маргаритой, а поэты — Девой Норвегии. И поэтому ей, как внучке Александра, досталась корона Шотландии.
Король, царствовавший в то время в Англии, был Эдуард I, дед того Эдуарда III, которого описываем мы в этом повествовании. Он был алчный завоеватель, желавший беспрестанно увеличивать свое могущество, оружием или политикой, в случае же неудачи — даже хитростью и коварством. И в этот раз, казалось, само провидение способствовало удовлетворению его самолюбия. Эдуард имел сына — тоже Эдуарда, который впоследствии царствовал под именем Эдуарда II, и о трагической смерти которого мы слышали из рассказа его убийцы Монтраверса, назначенного кастеляном, или, лучше сказать, тюремщиком к вдовствующей королеве Изабелле. Эдуард I потребовал руки Девы Норвежской для своего сына, на что и получил согласие. Но в то время, когда при обоих дворах делали приготовления к этому бракосочетанию, молодая Маргарита умерла, и так как после нее не осталось ни одного прямого наследника после Александра III, то трон Шотландии оставался упраздненным.
Десять знатных вельмож, по связям родства с покойным королем, объявили права свои на наследство престола, и каждый, собрав своих подданных и вооружив их, готовился поддержать права свои. Посему буря, предсказанная Томас-Римером, очевидно, увеличивалась и обещала надолго затмить горизонт.
Шотландское дворянство, желая предупредить несчастья, которыми угрожают всегда междоусобные войны, решилось избрать в посредники Эдуарда I и признать из десяти искателей королем того, который им будет назначен. Посланники отправились с этим предложением к королю Англии, и он, сообразив выгоду, которую из этого обстоятельства мог извлечь для себя, принял немедленно предложение, и через тех же посланников созвал духовенство и двор Шотландии к 9 июня 1291-го года в замок Норам, расположенный на южном берегу Твиды, в том самом месте, где эта река разделяет границы Англии и Шотландии.
В назначенный день все были на месте; куда со своей стороны прибыл также и король Эдуард, который прошел все собрание. Выделяясь среди окружающих из-за высокого роста (почему англичане называли его долгоногим), сел на трон и дал знак главному судье, что он может говорить. Тогда тот, встав, объявил дворянству Шотландии, что прежде приговора, который произнесет король Эдуард, они должны признать его власть как верховного владетеля не только над Нортумберландом, Кумберландом и Вестмиреландом, о чем никогда спора и не было, но и над всем остальным королевством, что со времени отречения Ричарда перестало быть предметом распрей и ссор. Это неожиданное предложение произвело большой шум. Дворянство отказалось дать ответ без предварительного совещания. Тогда Эдуард распустил собрание, дав три недели срока на размышление.
По истечении этого времени, опять все собрались, но только в этот раз по другую сторону реки Твиды на земле Шотландии, на открытой равнине Уиселингтон, которую, без сомнения, Эдуард выбрал для того, чтобы искатели не могли упрекнуть его в принуждении. Впрочем, вероятно, все предосторожности были приняты ранее возобновленного предложения признать верховным властелином Эдуарда I, потому что никто не воспротивился, и все единодушно согласились на этот договор.
После этого, приступили к рассмотрению прав на наследство престола каждого из требователей. Роберт Брюс, владетель Анандаля, и Ион Балиоль, лорд Головей, оба нормандца и по происхождению от королевской шотландской фамилии по дочери Давида, графа Гунгтинтона, были признаны более всех других, имеющих право на наследство короны. Требовали, чтобы Эдуард решил, кому из них быть королем, и он назначил Иона Балиоля. Потом тот, преклоня колено и подав руку свою королю Англии, поцеловал его; чем доказывал, что признает себя его вассалом, не только за три завоеванные провинции, но и за все королевство Шотландии.
Буря Томас-Римера прошла, удар разразился и убил народность Шотландии.
Балиоль начал царствовать; скоро действия и решения его доказали характер нерешительный и пристрастный. Подданные на нового короля начали роптать. Эдуард поощрял их прибегать к нему, в случае, когда были недовольны решением Балиоля, чем они и воспользовались. Эдуард, собрав множество жалоб и справедливых и ложных, объявил Балиолю, что он должен явиться ко двору Англии. При этом требовании Балиоль захотел показаться достойным звания короля и решительно отказался. Эдуард требовал уступить Англии крепости — Вервик, Роскбург, Усдбюрг, как поруку в верности ему, верховному властелину. Балиоль в ответ на это, собрав многочисленную армию, велел сказать Эдуарду, что он не признает его верховным своим властелином и, перейдя границу обоих королевств, вступил в Англию. Этого только и ждал Эдуард, потому что со времени решения вопроса о том, кому быть королем Шотландии, действия его доказали, что ему недостаточно было, чтобы Шотландия считала его только верховным владыкой на одних словах; он хотел, чтобы она была у него в рабстве. Поэтому он выступил со своей армией навстречу Балиолю; и в первый день его похода к нему явился с многочисленной свитой рыцарь, прося позволения принять участие в войне англичан против шотландцев, — это был Роберт Брюс, соперник Балиоля.
Обе армии сошлись близ Думбара; шотландцы в начале сражения, будучи оставлены своим королем, были побеждены. Балиоль, опасаясь плена и строгости военных законов того времени, отвечал, что готов сдаться Эдуарду, ежели он только пощадит его жизнь. Эдуард согласился; слабодушный Балиоль явился в замок Роскбург к Эдуарду без королевской мантии, без оружия, с тростью в руке вместо скипетра и объявил, что, следуя вредным советам дворян, изменнически вооружился против своего государя и владетеля, потому, признавая себя виновным, уступает ему все свои королевские права на земли и жителей Шотландии. Эдуард простил его.
Брюс, присоединясь к Эдуарду, надеялся именно на то, что и случилось. Потому лишь только Балиоль был лишен прав своих, то он, как прежний его соперник, явился к Эдуарду с требованиями на трон Шотландии, на тех же самых условиях, на каких владел им Балиоль. Но Эдуард отвечал ему на своем французско-нормандском наречии:
— Вы думаете, что нам нечего больше делать, как завоевывать для вас государства.
Скоро ответ этот разъяснился лучше, нежели в словах Эдуарда, которыми он не хотел вдруг высказать свое намерение. Как победитель Шотландии, он перешел с берегов Твиды в Эдимбург, переслал государственные архивы в Лондон, и камень, на котором по обыкновению короновались короли Шотландии, велел перевезти в Вестминстерскую церковь. Управление Шотландией поручил графу Сюррею, старшим казначеем назначил Гуза Кресингама, а Вилиама Ормесби — главным судьей. Потом, определив англичан правителями провинций и заменив гарнизоны крепостей английскими войсками, возвратился в Лондон заботиться о спокойствии Валлиса, недавно покоренного, так же, как и Шотландия, и последний принц Вэллисский по приказанию его был повешен единственно за то, что защищал свою независимость. С этого времени старшие сыновья королей Англии начали называться принцами Валлиса.
Шотландию постигла та же участь, как и всякое завоеванное государство. Главный судья, по пристрастию к англичанам, решал дела несправедливо; старший казначей считал шотландцев не подданными, а данниками; и исторгнул силою от них в пять лет больше денег, нежели в продолжение целого столетия собрали с них последние их четыре короля. Жалобы правителю оставались без ответа, или ежели и отвечали на них, то одними только оскорблениями. Гарнизон поступал с шотландцами, как с побежденными, отнимая у них имущество, оскорбляя честь и нередко убивая тех, которые противились их прихотям и грабительствам, так что положение Шотландии сделалось нестерпимо, подобно всякому государству, угнетенному сильным и безжалостным победителем, но которое ожидает только случая и человека к своему освобождению. Впрочем, если государство находится уже в этом состоянии, то случай всегда представляется скоро, и в человеке недостатка не бывает. Пословица говорит: война делает полководца, и полководец явился: это был Валлас.
Ребенок, возвращаясь с рыбной ловли, нес корзину с речки Ириня, со множеством наловленных им форелей; входя в город Аир, встретился с тремя английскими солдатами, которые хотели взять у него всю рыбу; мальчик сказал им: ежели хотите, я поделюсь с вами рыбой, но всю не отдам. Один из англичан вместо ответа хотел отнять у него корзину, но оскорбленный ребенок ударил его по голове так сильно ручкой своей удочки, что тот упал мертвым к ногам его; победитель, выхватив у павшего меч, напал с таким ожесточением на двух его товарищей, что те обратились в бегство. Мальчик не лишился ни одной из своих форелей. Этот ребенок был Валлас.
Шесть лет спустя после этого происшествия, молодой человек шел по рынку Ланарка под руку со своей женой, платье его было из тонкого зеленого сукна и за поясом находился богатой отделки кинжал; на повороте в улицу англичанин преградил ему путь, говоря, что он удивляется, как смеет шотландский невольник носить такое прекрасное платье и дорогое оружие. Молодой человек, как мы уже сказали, был с женой, потому в ответ на грубость англичанина, оттолкнул его только рукой, чтобы свободнее идти. Англичанин принял это за оскорбление, выхватил меч, но прежде чем успел занести его, кинжал молодого человека вонзился ему в грудь. Все находившиеся в то время на площади англичане бросились к тому месту, где с быстротой молнии совершилось это происшествие; но дом, подле которого произошла ссора, принадлежал благородному шотландцу, впустившему к себе убийцу, заперши за ним двери; и пока англичане их выламывали, он провел молодого человека в сад, из которого тот достиг дикой, усеянной утесами долины, называемой Картлан-Крег; неприятели лишены были возможности преследовать его, и не найдя виновного, отмстили за него невинным. Правитель Ланарка Газельрик объявил молодого человека изгнанным из отечества, велел сжечь его дом, а всех домашних и жену его повесить. Изгнанник с высоты утеса видел дом свой, объятый пламенем, слышал вопли невинных и при свете этого пожара и при этих раздиравших сердце его воплях поклялся в вечной ненависти к англичанам. Этот молодой человек был Вилиам Валлас.
Скоро после этого разнесся слух в окрестностях города о смелых предприятиях, замышляемых изгнанником, который, собрав около себя значительную шайку недовольных, не давал пощады англичанам нигде, где только не встречал их. Однажды утром узнали, что Газельрик найден мертвым у себя в доме с вонзенным в его грудь кинжалом, на котором вырезаны были слова: зажигателю и убийце. Никто не сомневался, что это смелое дело совершено было смелым Валласом. Против него выслали целый отряд войск, который он разбил. При всяком новом поражении англичан, шотландские бароны и лорды явно радовались: до такой степени победителям известна была ненависть к ним побежденных. Отчего они и приняли решительные меры, под предлогом совещания о делах государства. Губернатор провинции пригласил все дворянство западных провинций явиться в житницы Аира, состоящие из длинного ряда обширных строений, в которых во время зимы монахи ближнего аббатства сберегали зерновой хлеб, летом же они оставались совершенно пустыми, дворяне без всякого опасения явились на место совещания; их просили входить попарно во избежание беспорядка; эта предосторожность показалась им очень естественной и они ее выполнили; но на каждой перекладине в житницах приготовлено было множество веревок; воины держали по одному концу от них, а на каждом другом приготовлено было по петле, и по мере того, как депутаты входили, то каждому из них набрасывали петлю на шею, и поэтому в одну секунду каждый из них находился повешенным. Все это происходило с такой поспешностью, что ни один из них не успел криком предварить тех, которые еще не вошли, об ожидавшей их участи. Таким образом, они все до одного погибли.
Месяц спустя после этого происшествия, весь английский гарнизон, попировав однажды, отправился отдыхать в эти же самые житницы, в которых так бесчестно и предательски умерщвлено было столько благородных шотландцев. Старая женщина вышла из самого беднейшего дома в городе и, приблизившись к житницам, начертила мелом кресты на дверях тех из них, в которых отдыхали англичане, и удалилась, беспрепятственно исполнив это дело. В это самое время толпа вооруженных людей спустилась с горы, у каждого из них было в руках по связке веревок; они, осмотрев двери, помеченные крестами, осторожно завязали их снаружи веревками. Потом, начальник этой толпы, осмотрев, все ли двери были хорошо завязаны, и убедившись, что все исполнено исправно, велел следующим за ним людям, которые несли пуки соломы, раскладывать ее около дверей и окон тех житниц, в которых отдыхали англичане. После этого он сам зажег солому. Пламя в одну минуту охватило житницы, и они загорелись, треск горящих стен разбудил несчастных англичан, и первым движением их было броситься к дверям, но двери были заперты. Тогда они начали мечами и топорами их выламывать, в чем и преуспели. Но шотландцы, находившиеся около житниц, стояли железной стеной, и убивали каждого, кто только показывался из дверей, или же отталкивали обратно в пламя. Некоторые из них вспомнили о потаенной двери, ведущей в монастырь, но предваренные ли прежде, или по собственному побуждению монахи были уже под начальством Аирского настоятеля, готовы преградить им путь к спасению, и со своей стороны напали на них с мечами в руках и, не позволяя переступить порога, обращали опять в житницы. Скоро кровли обрушились и, раздавив, погребли под обгоревшими своими остатками всех англичан, находившихся в житницах, так что на том же самом месте, где были повешены шотландцы, отмстил их смерть таким ужасным образом изгнанник, начальствующий над этими людьми. Начальник этот опять был Вилиам Валлас.
Происшествие это повлекло за собой всеобщее восстание. Шотландцы избрали себе в предводители того, кто один не отчаивался в спасении отечества; и хотя, по происхождению своему, он не был знатнее других, но зато по характеру мужественнее и храбрее всех. Лишь только успел он собрать четыре тысячи сподвижников, как уже вынужден был сражаться, потому что граф Сюррей и Кресингам приближались с многочисленной армией.
Валлас расположился лагерем на северном берегу Форта, подле города Стирлинга, в том самом месте, где та река была очень широка, потому что в пяти милях ниже впадала в Эдимбургский залив; тут же на ней находился узкий и очень длинный деревянный мост. На этой позиции он решился ожидать неприятеля.
Англичане ненадолго оставили его в ожидании. На рассвете следующего дня Валлас увидел их приближающимися по той стороне Форты. Сюррей, как искусный стратег, сейчас же увидел преимущество позиции Валласа, почему и остановился, не решаясь сразу вступить в бой. Но Кресингам, по двум занимаемым им должностям духовного звания и казначея, кажется, должен был предоставить все распоряжение войсками известному уже своей опытностью главнокомандующему, но, напротив того, он явился верхом среди воинов, говоря, что их долг сражаться везде с неприятелем, где бы его не встретили; англичане, воодушевясь мужеством, требовали сражения, что и принудило Сюррея дать приказание передовым войскам, состоящим под начальством Кресингама, идти вперед, что они и исполнили без замедления. Пошли через мост, и по мере того, как переправлялись, выстраивались на противоположном берегу реки. Валлас только этого и ожидал; и лишь только половина английской армии переправилась на ту сторону реки, а другая находилась вся на мосту, как он бросился со своими войсками вперед и с такой яростью напал на неприятеля, что все, находившиеся на мосту, были потоплены, а перешедшие его перебиты или взяты в плен. Сюррей увидел свою ошибку и для спасения остальной части армии принял решительные меры и велел сжечь мост, потому что, если бы шотландцы перешли реку, то кашли бы неприятеля в таком беспорядке, что в один этот день вся армия решительно была бы истреблена.
Кресингам найден в числе убитых, и внушенная им к себе ненависть шотландцев была так сильна, что они и труп его не оставили без поругания, а, сняв с него кожу, изрезали полосами, и ремни эти употребили на подпруги.
Что же касается Сюррея, то он с остальными войсками поспешно пошел обратно в Англию, с тем, чтобы известие о погибели большой части армии не достигло прежде него соотечественников. Перейдя Твид, он возвратился благополучно в Англию. По мере его удаления все жители восставали и вооружались, и менее чем в два месяца все замки и крепости были отняты обратно у англичан.
Эдуард I, узнав об этих происшествиях во время пребывания во Фландрии, отправился немедленно в Англию. Удар этот был слишком силен для его самолюбия, потому что Шотландия, покорение которой стало ему так дорого, в один день свергла с себя его иго. По возвращении своем в Лондон, он принял сам начальство над остальной частью армии Сюррея и отправился лично усмирять мятежников.
В продолжение этого времени Валлас назван был протектором; но дворянство, радуясь, что он спас отечество, и спас в то время, когда никто об этом не смел и думать, не хотело находиться под властью неродовитого Валласа, и отказалось следовать за ним. Валлас сделал воззвание к народу. Множество горных жителей присоединилось к нему, и несмотря на то, что армия Эдуарда была многочисленнее его, лучше вооружена и опытнее в военном деле, но он, не унывая, пошел навстречу англичанам и встретил их 22 июля 1298-го близ Фалькирка.
Обе армии представляли собой совершенно противоположное зрелище. Английскую составляли все дворяне и рыцари королевства на прекрасных нормандских лошадях, вооруженные луками со страшными колчанами за плечами, из которых в каждом находилось по двенадцать стрел, и по их искусству в стрельбе можно было смело сказать, что в этих колчанах находилось двенадцать жертв смерти. Армия Валласа, напротив, состояла человек из пятисот кавалерии и стольких же стрелков лесов Естрика, находящихся под начальством Джона Стевара де Бонкиля; вся же остальная часть была составлена из худо вооруженных горцев в кожаных латах и сжатых в такие тесные ряды, что длинные копья их казались движущимся лесом. Достигнув того места, где они предполагали дать сражение, Валлас остановился и, обратившись к своим воинам, сказал:
— Пошел пир на весь мир, посмотрим, друзья, кто лучше гуляет.
Эдуард также было остановился, но заметив, что по местоположению обе армии могут удобно друг друга атаковать, не дожидаясь унизительного для себя нападения мятежников, пошел вперед.
Вся эта тяжелая кавалерия походила на обрушившийся утес, стремящийся в озеро и который вдруг остановился на длинных копьях шотландцев. При первом этом столкновении, двух рядов англичан как будто не было, потому что при падении в тяжелом своем вооружении, они, не будучи в состоянии скоро встать на ноги, были все изрублены. Кавалерия шотландцев вместо того, чтобы воспользоваться таким успешным действием своей пехоты, испугавшись, обратилась в бегство, расстроив совершенно одно крыло армии Валласа. В это время Эдуард велел стрелкам своим идти вперед, которые, не опасаясь уже нападения кавалерии, приблизившись, выбрав каждый свою жертву, пустили стрелы. Валлас хотел приблизить и своих, но, лошадь командовавшего ими Джона Стевара, зацепившись за древесный корень, упала, сбросив при падении с себя седока, который в эту минуту и лишился жизни. Несмотря на это, стрелки бросились вперед, но, потеряв начальника, не могли угадать пункта, и, попав в самое опасное место, были все истреблены. В эту минуту Эдуард, заметивший в шотландской армии беспорядок, произведенный меткими выстрелами своих стрелков, собрал около себя самых храбрых воинов и бросился с ними на тот пункт, где слабее были силы неприятеля; все другие последовали за ним, и в одну минуту он был в середине шотландской армии, которая, не ожидая такого нападения, обратилась в бегство, оставив за собой на месте сражения сира Джона Граама, друга и товарища Валласа, оскорбленного до такой степени поступком своих соотечественников, что, не отступая ни на шаг, он пал на месте во главе своего отряда.
Валлас после всех оставил место сражения, и при наступлении ночи, с сотнею окружающих его людей скрылся в густоте соседнего леса, где и провел ночь.
Валлас, оставленный дворянством, решился в свою очередь оставить его, желая только остаться верным своему отечеству, сложил с себя звание протектора. И пока лорды и дворяне продолжали сражаться собственно за себя, или некоторые из них покорялись Эдуарду, — смотря, что каждый находил для себя выгоднее, Валлас, перебираясь с горы на гору, уносил с собой свободу Шотландии, как древний Эней богов Трои; скитался в продолжении целых семи лет изгнанником и, несмотря на это, возмущал беспрестанно спокойствие Эдуарда, который не был уверен в совершенном покорении Шотландии до тех пор, пока существовал Валлас. наконец, объявлено было вознаграждение тому, кто доставит Валласа живого или мертвого, и опять из числа изменивших ему дворян, нашелся еще новый предатель. Однажды, обедая в Робронстоне, в одном замке, Валлас полагал, что находится между друзьями, сир Джон Мантен, предлагая ему хлеб, вдруг перевернул его нижней коркой наверх; это было условным знаком. В ту секунду соседи схватили его — один за правую, а другой за левую руку, стоящий же позади его человек набросил веревку кругом его тела, так что всякое сопротивление было бесполезно, и защитник свободы Шотландии, связанный, как лютый зверь, был выдан Эдуарду, который велел надеть на него венок из зелени и судить; приговор скоро был произнесен. На постыдной колеснице привезенному на место казни Валласу отрубили голову и, разрубив труп его на четыре части, воткнули каждую на особое копье и выставили на мосту в Лондоне.
Так кончил жизнь свою защитник Шотландии.
Глава IX
Три года спустя после смерти Валласа, вечером, после одной из ежедневных стычек, которые происходили беспрестанно между победителями и побежденными, несколько английских солдат ужинали за большим столом в трактире, как вдруг увидели шотландского дворянина, служившего в войсках Эдуарда и дравшегося в тот самый день с мятежниками, который вошел в залу, спросил себе ужин и, не умыв рук, обагренных кровью его соотечественников, начал есть с жадностью. Английские дворяне, окончившие свой ужин, смотрели на него с ненавистью, которая вечно господствовала даже между служащими под одними знаменами — шотландцами и англичанами. Но незнакомец, не обращая на них внимания, продолжал утолять свой голод, как вдруг один из них сказал громко:
— Посмотрите на этого шотландца, он ест собственную кровь!.. — Тот, про кого это было сказано, услышал эти слова и, взглянув на руки свои, увидел, что они точно были в крови, выронил кусок хлеба, который подносил было ко рту, и задумался. Потом, не говоря ни слова, вышел из трактира и пошел прямо к растворенной церкви, вошел в нее, стал на колени против престола, и в усердной молитве, обмыв руки своими слезами, просил Бога, простить его во всех прежних его преступлениях, и поклялся всю жизнь свою посвятить отмщению за Валласа и освобождению своего отечества. Этот кающийся грешник был Роберт Брюс, потомок того, который оспаривал наследие шотландской короны у Балиоля, и завещавший на нее права своим потомкам.
У Роберта Брюса был соперник, служащий в английской армии, который имел так же, как и он, права на наследие короны Шотландии; это был сир Джон Комин Баденок, прозванный Комином-рыжим для различия от родного его брата, названного по смуглому цвету лица Комином-черным. Он находился в это время в Думфриесе, на границах Шотландии. Брюс поехал повидаться с ним с тем, чтобы убедить его, соединясь вместе, изгнать англичан из Шотландии. Местом этого совещания, по общему согласию, избрана была церковь Миноритов в Думфриесе, с Брюсом находились два его друга Линдзай и Киркпатрик. Они остались у дверей храма, и в то время, когда Брюс входил в него, они видели Комина-рыжего, стоящего против главного алтаря.
Полчаса, не трогаясь с места, стояли два друга, наконец двери отворились, и Роберт Брюс вышел из них бледный и расстроенный. И когда, садясь на лошадь, он брал поводья, то рука его была вся в крови.
— Что с ним сделалось?.. где он?.. — спросили в один голос оба друга.
— Мы не согласились с Комином-рыжим, — отвечал Брюс, — и, кажется, я убил его.
— Как? Тебе только кажется? — спросил Киркпатрик, — следовательно, в этом надо убедиться. Я пойду и удостоверюсь сам.
С этими словами оба друга бросились в церковь, и так как Комин-рыжий точно еще дышал, то они убили его.
— Ты был прав, — сказали они Брюсу, садясь на лошадей. — Дело было хорошо начато, но не кончено; теперь же ты можешь спать спокойно.
Совет этот, впрочем, легче было дать, нежели исполнить. Брюс навлек на себя этим поступком три мести: родных умершего, Эдуарда и духовенства. Увидев после того происшествия, что ему надо принять уже решительные меры, он отправился прямо в Сеонское аббатство, в котором короновались короли Шотландии, собрал около себя своих сообщников, сделал воззвание на защиту свободы отечества и заставил провозгласить себя королем 29 марта 1306 года.
18-го следующего мая, Роберт Брюс был хулою папы отлучен от церкви, и поэтому лишился права на все таинства, — всякий мог убить его, как дикого зверя.
20-го июня того же года, он был совершенно разбит под Метвеном, графом Пемброком, и упав с убитой под ним лошади, взят в плен. Но, к счастью, тот, кто его обезоружил, был шотландцем, и, поравнявшись с лесом, развязал ему руки и сделал знак, чтобы он бежал. Роберт в ту же минуту бросился в лес, шотландец во избежание подозрения, преследовал его, но не догнал. Все другие пленные были казнены. Убийство Комина-рыжего отомщено и кровь их заплатила за кровь его.
С этого времени началась боевая жизнь шотландцев, которая дает истории того времени всю занимательность повести. Роберт, изгоняемый с горы на гору, в сопровождении королевы, такой же изгнанницы, как и он сам, и четырех его верных друзей, между которыми был молодой лорд Дуглас, прозванный с тех пор добрым лордом Жамом, обязанный жить и поддерживать свое существование и содержать все войско своей охотой и рыбной ловлей; избегая одной опасности, попадал в другую, выиграв сражение, встречал везде коварство, и собственной только силой и присутствием духа спасал себя и своих товарищей, собственным примером поддерживая их мужество. Таким образом провел он пять месяцев лета и осени, скитаясь по ночам с одного места на другое, к началу зимы это так утомило королеву, что она совершенно изнемогла. Брюс заметил, что ей невозможно больше переносить военных трудов, которые от холода и снега делались еще ужаснее, и имея в своем распоряжении один только замок Кильдрунмер, подле источника Дена, в графстве Аберден, он отвез ее с графиней Рюню и двумя другими дамами ее свиты в этот замок, поручив брату своему Нигель Брюсу защищать его до последней крайности; и в сопровождении Эдуарда, другого своего брата, обойдя почти всю Шотландию, во избежание встречи с неприятелем, удалился на остров Ратлин, близ берегов Ирландии. Два месяца спустя после этого, он узнал, что англичане взяли замок Кильдрунмер, убили его брата, а королеву взяли в плен.
Это известие он получил, находясь в бедной хижине острова, и оно отняло у него последнюю силу и мужество. Бросившись в слезах и отчаянии на свою постель, он думал, что бедствия эти посланы ему свыше в наказание за смерть Комина-рыжего, и спрашивал сам себя, что всеми этими бедствиями и неудачами не доказывается ли ему, что предприятие его будет безуспешно. И как в минуту того сомнения он смотрел на потолок, с той неподвижностью взора, которая бывает следствием сильных скорбей, вдруг, как и всегда бывает в подобных обстоятельствах, когда душа изнемогает от нравственных страданий, а тело безотчетно занято какой-нибудь безделицей, взор Брюса остановился на пауке, спускавшемся на своей паутине, который старался с одной перекладины переброситься на другую, и несмотря на то, что никак не мог успеть в этом, он продолжал свои усилия, потому что основа его паутины зависела от этого успеха. Такое инстинктивное усилие паука поразило его невольно и как ни был он погружен в размышления о своих несчастьях, но начал следить за усилиями паука. Шесть раз старался паук достигнуть желанной цели, и шесть раз испытывал неудачу. Брюс подумал тогда, что и он так же, как этот бедный паук, шесть раз покушался завоевать трон свой, и шесть раз не имел успеха. Это сходство неудач поразило его и дало ему в эту минуту мысль, что провидение, вероятно, посылает ему в наставление этот опыт терпения и твердости. Отчего, смотря на паука, он дал себе слово, что ежели в седьмой раз насекомое достигнет своей цели, то это будет ему добрым предзнаменованием, и он будет продолжать свое предприятие, но если и в седьмой раз неудача постигнет паука, то это будет знаком, что все надежды его тщетны, почему он и положил, оставив свои замыслы, удалиться в Палестину и посвятить остаток жизни своей поражению неверных. Когда оканчивал тот обет, паук, отдохнув и собрав все силы, сделал последнее усилие, достиг до перекладины и уцепился за нее.
— Да будет воля Божия, — сказал Брюс. Вскочил в ту же минуту с постели и отдал приказание своим войскам быть назавтра готовыми к походу.
Дуглас продолжал со своей стороны войну как наездник, — и с окончанием зимы начал опять военные действия: с тремястами воинами вышел на берег острова Аррана, находившегося между проливом Кильбрананом и заливом Клидом, напал на замок Братвиг, убил начальника и истребил часть гарнизона. Потом, пользуясь правами победителя, занял крепость и, любя охоту, проводил почти целые дни в величественных лесах, ее окружавших. Однажды, преследуя дикую козу, он услышал в том же самом лесу, где охотился и сам, звук рога и, остановясь, сказал: только один королевский рог может издавать такой звук, и один король может так трубить. В это время раздался еще раз звук рога, Дуглас поскакал прямо на него, и через несколько минут встретился с Брюсом, который также охотился, оставив, вследствие своего решения, три дня назад остров Ратлин, и не более двух часов, как вышел на берег Аррана. Старушка, собиравшая раковины на берегу моря, рассказала ему, что на английский гарнизон напали вооруженные иностранцы, которые в эту минуту охотятся в этом лесу. Брюс, считая всякого другом, кто только идет против англичан, направился в ту сторону, где они охотились, Дуглас узнал звук его рога, и два верные товарища соединились.
С этого времени неудачи, побеждаемые таким мужеством, совершенно исчезли. Без сомнения, долгое и ужасное испытание, в наказание Брюсу за смерть Комина-рыжего исполнилось, и кровь, оплаченная кровью, перестала требовать удовлетворения.
Однако, борьба была продолжительна, и он должен был побеждать измену и силу, золото и железо, кинжал и меч. Шотландия сохранила в своих преданиях множество происшествий, однако чудеснее другого, в которых, надеясь на свою храбрость, но хранимый Богом, он избегал ужасных опасностей, пользуясь всякой своей удачей для того, чтобы усилить свою партию, наконец, командуя тридцатитысячной армией, он расположился ожидать Эдуарда II на равнине Стерлинга; потому что во время этой упорной и продолжительной борьбы, Эдуард I умер, завещав сыну продолжение этой войны, и приказал для того, чтобы могила не разлучила его с войной, сварить свое тело так, чтобы кости отделились, потом, собрав их, обернуть в бычью кожу и носить перед английской армией, всякий раз, когда она пойдет против Шотландии. По собственному ли убеждению или потому, что исполнение этого странного приказания казалось Эдуарду II святотатством, он не исполнил воли родителя, а похоронил тело его в Вестминстерском аббатстве, где и до наших времен сохранилась на его гробе следующая надпись: Здесь покоится прах секиры народности Шотландской. И потом новый король пошел против мятежников, ожидавших его, как мы уже сказали, близ Стерлинга, на берегу реки Банекбурн, от которой это сражение и получило свое название.
Никогда еще победа шотландцев не была так блистательна и поражение их неприятелей так ужасно. Эдуард II бросился во весь опор с места сражения, преследуемый Дугласом до самых ворот города Думбара, в котором губернатор достал ему лодку, и на этом утлом судне, следуя по берегу Бервига, он достиг Англии и вышел на берег в гавани Бамборуга.
Эта победа упрочила ежели не спокойствие, то, по крайней мере, независимость Шотландии, до того времени, как Роберта Брюса, хотя еще и в молодых летах, не постигла смертельная болезнь. Мы видели в начале этой истории, как он велел призвать к себе Дугласа, которого шотландцы называли добрым сиром Жамом, а англичане Дугласом-черным, и поручил ему по смерти своей вскрыть ему грудь, вынуть сердце и отвезти его в Палестину: это последнее его желание, так же как и желание Эдуарда I, не было исполнено, с той только разницей, что исполнение желания Роберта Брюса не зависело от того, кому оно поручено.
Эдуард II погиб в свою очередь, умерщвленный в Берклее Гюрнаем и Монтраверсом, по двусмысленному повелению королевы, скрепленному печатью епископа Эрсфорского. Сын его Эдуард III наследовал после него престол.
По предшествующим главам читатели наши получили, как кажется, довольно верное понятие о характере этого юного монарха, который, вступив на трон, обратил свое внимание прежде всего на Шотландию, как на старую неприятельницу, потому что истребление этой гидры короли Англии в продолжении пяти поколений завещали один другому.
И обстоятельства того времени способствовали тому, чтобы опять начать войну, потому что все молодое дворянство сопутствовало Жаму Дугласу в его путешествии в Палестину. И что корона Шотландии с главы опытного воина перешла на голову четырехлетнего ребенка. Так как после Дугласа-черного, самый мужественный и любимый всеми товарищами прежнего короля был Рандольф граф Морай, то его и избрали в правители, и он управлял Шотландией именем Давида II.
Однако, Эдуард понял, что вся сила шотландцев происходила от ненависти их к владычеству Англии, от Тведи до пролива Пентланд. Отчего он и решился идти в земли неприятельские под ложными знаменами, и взять в союзники междоусобную войну. Судьба предоставила ему случай к этому, которым он и воспользовался с обыкновенным своим искусством.
Жан Балиоль, сделанный сперва королем Шотландии, потом сверженный с престола Эдуардом I, скрылся во Францию, где и умер, оставив после себя сына Эдуарда Балиоля. Король Англии обратил на него внимание, потому что имя его могло служить ему знамением, поэтому он и назначил его начальствовать над лордами, лишенными наследства. Несколько слов могут объяснить читателям нашим, что подразумевалось под этим наименованием.
Когда, благодаря мужеству и постоянной твердости Роберта Брюса, Шотландия была освобождена от владычества Англии, два класса владельцев стали требовать обратно потерянные ими владения. Одни из них были те, которые вследствие победы получили их как дар от Эдуарда I и его наследников; а другие, вступив в союз с семействами шотландцев, владели ими по наследству. Эдуард сделал начальником этой партии Балиоля, а сам, как будто не принимая участия в этой вечной войне, которая снова возгорелась в Шотландии, под новым предлогом и в новом виде помогал деньгами и войсками. К довершению несчастья, — как будто Брюс унес с собой счастье отечества, — в то время, как Балиоль со своей армией выходил на берег в Фифе, правитель Рандольф, отягченный внезапной болезнью, умирал в Мезельбурге, оставляя юного короля и правление Дональду графу де Маршу, который личными своими достоинствами и сведениями в делах военных и государственных не мог никак сравниться со своим предшественником.
Граф де Марш только что принял начальство над армией в то время, как Эдуард Балиоль вышел на берега Шотландии и, предупреждая слух о своей победе, явился на следующий день на берег Еарна, на противоположной стороне которой светились огни лагеря правителя. Он велел войскам своим остановиться, и когда огни постепенно один за другим все угасли, то он перешел через реку, проник до середины лагеря спавших шотландцев, и начал не сражение, но просто бойню, так что к восходу солнца он сам удивился, как достало физических сил у его воинов, чтобы перебить такое множество людей, которых и третьей части не было против тех, на кого они напали. Между телами убитых они заметили регента и больше тридцати знаменитых дворян Шотландии.
С этого дня началось время падения Шотландии столь же быстро, как медленно и тяжко трудами Роберта Брюса было ее восстановление. Не останавливаясь осаждать и брать крепости, Эдуард Балиоль пошел прямо в Скон, где и короновался. Потом, сделавшись королем, он снова присягнул Эдуарду III, как верховному своему властителю, который с этого времени, не опасаясь, начал явно помогать ему, и, собрав многочисленную армию, пошел прямо к городу Бервик и осадил его. Но Арчибальд Дуглас, брат доброго лорда Жама, поспешил со своей стороны на помощь гарнизону и, остановясь в двух милях от города, на возвышении, называемом Халидон-Хиль, откуда вся армия англичан была видна, поставил ее в такое положение, что, осаждая город, она сама находилась между двумя неприятелями, гарнизоном Бервика и вновь пришедшими войсками.
По местоположению выгода была на стороне шотландцев, но время победы ее прошло, и в этот раз английские стрелки решили участь сражения. Эдуард разместил их по болоту, куда неприятельская конница никак не могла достигнуть, и пока они разили стрелами шотландцев, находящихся на горе и расположенных полукругом, Эдуард напал на мятежников со всей своею конницей, убил Арчибальда Дугласа, положил на месте храбрых дворян и рассеял остальную часть армии.
Этот день был исполнен столько же бедствий для Шотландии, сколько благоприятен для нее был тот, в который происходило сражение при Банокбурне. У юного Давида похитили все, что было приобретено Брюсом. Скоро изгнанного младенца постигла та же участь, как и отца его, с той только разницей, что мужество и твердость спасли его тогда чудесно. Но на этот раз обстоятельства изменились; самые ревностные патриоты, видев неопытного молодого человека, на том месте, которое должен был занимать опытный воин, почитали определением судьбы все свои бедствия, ибо она одна решает величие и падение государства. Однако, некоторые из них не отчаивались в спасении своего отечества и продолжали печься о народности шотландской, как об угасающем светильнике. И в то самое время, как Балиоль принимал в свое управление государство и присягал в верности Эдуарду III, Давид Брюс с женой своей явился ко двору Франции, просить пристанища как изгнанник.
Этот представитель последней монархии имел в своем распоряжении только четыре замка и одну башню, в которых, как в разбитом параличом теле, последние жилы жизни продолжали биться за народность Шотландии. Остаток преданных Давиду баронов состоял из четырех рыцарей: Ладездаля, графа де Марша, сира Александра Рамзая и Дальвуази и нового правителя сира Андрея Мюррая Ботвеля.
Что же касается Эдуарда, то он, презирая столь слабое сопротивление, пренебрег дальнейшим преследованием и оставил только свой гарнизон во всех укрепленных местах; и как глава Англии и Ирландии и верховный властитель Шотландии, он возвратился в Лондон, где мы встретились с ним в начале этого повествования, во время празднества его возвращения и победы, занятого возрождающейся в нем страстью к прекрасной Алиссе Гранфтон, от которой отвлек его замысел покорения Франции, и благодаря союзу, заключенному им с Дартевелем и владетелями империи, принимал вид, довольно опасный для Филиппа Валуа.
В это время, как мы уже и сказали выше, король Франции обратил свое внимание на Давида II и его жену, прибывших ко двору Франции в 1332 году искать пристанища. Не объявляя никакого намерения, он через посредников возобновил сношения с их заморскими приверженцами, послал правителю Шотландии денег, в которых тот имел большой недостаток, приготовил многочисленный отряд войск, предполагая, в случае необходимости, составить из него гвардию молодому королю, когда он найдет нужным ввести его опять в Шотландию.
Кроме этого, он дал еще повеление Петру Бегюше, одному из назначенных им комиссаров для выслушивания свидетелей по делу графа Роберта д’Артуа, изгнание которого было причиной настоящей войны, отправиться с флотом, соединенным Гугом Киретом, адмиралом Франции, и Барбавером, начальником генуэзских галер, и охранять проливы, ведущие от берегов Англии к берегам Шотландии.
Приняв эти предосторожности, он ожидал происшествий.
В это время великолепное празднество приготовлялось в Кёльне. Город этот был избран Эдуардом III и Людовиком Баварским для принятия в свое владение наместничества империи королем Англии. И все приготовления к исполнению этого обряда были уже сделаны.
На главной площади Кёльна воздвигнуты были два трона, и так как поспешность лишила возможности найти для этой постройки нужного леса, то и употребили в дело два стола, на которых мясники продавали мясо, прикрыв кровавые на них пятна драгоценным бархатом с золотыми цветами. На каждом из них находилось по богатому креслу, спинки которых украшались императорскими гербами, соединенными с гербами Англии в знак союза обеих держав. Кровля в виде балдахина, находящаяся над этим двойным троном, была взята с одной площадной лавки, и украшена парчой с золотой бахромой и кистями. Сверх этого все дома были обтянуты, как во время большого празднества, богатыми французскими и персидскими коврами, привезенными из Аррана во Фландрию и из Константинополя через Венгрию.
В назначенный для этой церемонии день, которому историки не определяют верного времени, но говорят, что это было в конце 1338 года или в начале 1339 года, король Эдуард III, в своей королевской мантии, в короне, но имея в руке, вместо скипетра, меч, в знак предполагаемого отмщения, которое он принимал на себя, показался в сопровождении всего своего рыцарства в воротах Кёльна, ведущих на дорогу Аикс ла Шанель. Его ожидали мессиры Гельдр и Жюлие, занявшие при его появлении первые по обе его стороны места, уступленные епископом Линкольнским и графом Салисбюри, который, исполняя обет свой, был с завязанным шарфом прекрасной Алиссы глазом. Король шествовал по улицам, украшенным цветами, как в день Вербного Воскресения, окруженный блистательной свитою, невиданной со времен восшествия на трон Фридерика II. Достигнув лошади, Эдуард увидел ожидающие его приготовления. На правом троне сидел Людовик Баварский, в правой его руке был скипетр, а левой он опирался на державу, представляющую мир, и один из немецких рыцарей держал над его головой меч. Эдуард III сошел тотчас с лошади и прошел пешком все пространство, отделявшее его от императора, вошел на ступени трона и остановился на последней, по предварительному согласию посланников, вместо прежнего обыкновения целовать ноги императора, он только ему поклонился и император обнял его. После этого Эдуард сел на приготовленный для него трон, который был несколькими дюймами ниже того, на котором находился Людовик V, что было единственным знаком неравенства и унижения, на которое согласился Эдуард III. После них поместились четыре эрц-герцога, три архиепископа, тридцать семь графов, бесчисленное множество баронов, в шлемах, украшенных баронскми коронами, знаменитых рыцарей с знаменами и их оруженосцами. В это время стража, оберегавшая все примыкающие к площади улицы, оставила свои места и присоединилась к войскам, составлявшим полукруг около возвышения, на котором находились оба трона, оставив свободный путь народу. Окна домов, которые находились на площади, были заняты зрителями — как мужчинами, так и женщинами. Многие из любопытных поместились даже на кровлях. Император с королем Англии находились в центре амфитеатра, составленного из человеческих голов.
Тогда император встал и среди всеобщего безмолвия произнес речь, голосом твердым и громким, так что все могли ее слышать.
«Мы, высочайший и могущественный государь, Людовик V, герцог Баварский, император Германский, по избранию священного собора и утверждению Римского двора, объявляем Филиппа Валуа вероломным и подлым клятвопреступником, по приобретению им, противно заключенному нами с ним договору, замка Крев-Кер в Камбрезии, города Арлеан-Пюсель и многих других наших владений. Посему, по этим поступкам считая его клятвопреступником, лишаем покровительства империи и переносим это покровительство на любезнейшего зятя нашего, Эдуарда III, короля Англии и Франции, и поручаем ему защищать права и выводы наши, которому в знак уполномочия вручаем перед всеми эту императорскую грамоту, скрепленную двойною печатью герба нашей и империи».
С этими словами Людовик V отдал грамоту своему канцлеру, сел, взял в правую руку скипетр, а левую положил опять на державу. Канцлер, развернув грамоту, прочел ее громко и внятно.
Ею представлялось Эдуарду III звание наместника и правителя империи, власть судить именем императора, чеканить золотую и серебряную монету, и повелевалось всем владетелям, зависящим от императора, хранить верность и оказывать повиновение королю Англии. По прочтении грамоты раздались со всех сторон рукоплескания и воинственные крики. Всякий вооруженный воин, начиная с герцога и до последнего оруженосца, ударил в свой щит клинком меча или острием копья, и во время этого всеобщего восторга, возбуждаемого всегда в храбром рыцарстве объявлением войны, все подданные императора, приближаясь по порядку чинов, стали присягать в верности и повиновении Эдуарду III, точно так же, как присягали Людовику V Баварскому, при вступлении его на трон Германии.
По окончании этой церемонии Роберт д’Артуа, верный своей ненависти, отправился в Мон-Гейнау с извещением к графу Гильому, что наставления его исполнены в точности, и что все дело шло с успехом. Что же касается владетелей империи, то они просили у Эдуарда двухнедельной отсрочки, обещая соединиться с ним в городе Малин, находящемся на одинаковом расстоянии от Брюсселя, Ганда, Антверпена и Лувеня; за исключением только герцога Брабандского, который в своем звании независимого владельца, ограничивался обещанием, сделать от себя объявление войны, не лишая себя права привести это обещание в действие тогда, когда он найдет это нужным. Мессиру Генриху, епископу Линкольнскому, поручено было от имени всех союзников объявить войну Филиппу Валуа, посему он отправился во Францию. л Неделю спустя после этого, вестник войны получил аудиенцию от Филиппа Валуа, который принял его в замке Компиен, в присутствии всего двора своего, имея по правую сторону себя герцога Иоанна, своего сына, а по левую мессира Леона Кренгейма, приглашенного им не столько для того, чтобы этим сделать честь благородному рыцарю, но для того, что, угадывая причину посольства епископа Линкольнского, и будучи убежденным, что герцог Брабандский участвует в заговоре против него, желал, чтобы поручитель его присутствовал при этом собрании. Впрочем, отдано повеление, чтобы посланный такого великого короля и могущественного владетеля принят был с уважением, приличным его званию и возложенному на него поручению. Со своей стороны епископ Линкольнский дошел до середины собрания с важностью, приличною достоинству посланника и вместе с тем духовной особы, без унижения и гордости, но со спокойствием и уверенностью и вызвал короля Французского Филиппа.
Во-первых именем Эдуарда III, короля Англии и главы всех владельцев империи.
Во-вторых, именем герцога Гельдрского.
В-третьих, маркиза Жюлие.
В-четвертых, мессира Роберта д’Артуа.
В-пятых, мессира Иоанна Гейнау.
В-шестых, маркграфа Мнении и Востока.
В-седьмых, маркиза Бранденбургского[14].
В-восьмых, сира Фокемона.
В-девятых, мессира Арнуля Бланкенгейма.
И, наконец, в-десятых, именем мессира Валеранда, архиепископа Кёльнского.
Король Филипп Валуа, выслушав с вниманием длинное исчисление своих неприятелей, и когда оно окончилось, то удивился, что не слыхал между ними имени того, которого он подозревал более всех.
— Не имеете ли вы еще какого-нибудь поручения ко мне от герцога Брабандского? — спросил он.
— Не имею, ваше величество, — отвечал епископ Линкольнский.
— Видите ли, государь, — вскричал с радостью старый рыцарь, — он остался верен данному слову.
— Это хорошо, очень хорошо, мой благородный заложник, — отвечал король, подавая руку своему гостю, — но мы пока еще не кончили войны. Посмотрим, что будет!
Потом, обратясь к посланнику, сказал:
— Господин епископ, прошу вас считать двор наш своим и сколько вам угодно будет пробыть у нас, мы почтем это за честь и удовольствие.
Глава X
Читатели наши должны теперь позволить нам, на некоторое время, оставить твердую землю, где с обеих сторон оканчиваются грозные приготовления к наступательным и оборонительным военным действиям, на которые писатель романов мог бы только бросить взгляд, но дело историка описать со всеми малейшими подробностями. Итак, посмотрим, что происходит за проливом, и обратим внимание на некоторые действующие лица, о которых мы, несмотря на то, что они довольно важны, кажется, забыли, следуя за королем Эдуардом из его Вестминстерского замка, на пивоварню Рювака Якова Дартевеля. Эти лица: королева Филиппа Ганау и прекрасная Алисса Гранфтон, невеста графа Салисбюри, которую мы видели на королевском пиршестве, прерванном так внезапно появлением графа Роберта д’Артуа, за которым последовали все описанные нами обеты.
Лишь только официально стало известно в государстве об отъезде короля, как королева Филиппа, положение здоровья которой предписывало все меры осторожности, — впрочем, по тогдашним нравам, всякое самое невинное развлечение в отсутствии ее супруга, поставлено ей было бы в вину, — удалилась с приближенными ей особами, составлявшими ее двор, в замок Нотингам, находящийся в двадцати милях от Лондона. Где и проводила время в благочестивом чтении, разных рукоделиях и разговорах о рыцарских подвигах с придворными дамами, среди которых постоянной подругой и любимой ее поверенной была Алисса Гранфтон; вопреки природному инстинкту, которым всегда одарены бывают женщины, королева не подозревала в ней своей соперницы.
В один из тех зимних длинных вечеров, когда так приятно сидеть перед пылающим огнем обширного камина, прислушиваясь к вою ветра, гуляющего между зубцов старых башен, и когда старинный знакомец наш Гильом-Монтегю совершал ночной обход свой по стенам крепости, в большой и высокой комнате, в которой были резные дубового дерева карнизы, тяжелые темного цвета занавесы и исполинская кровать, удалившись, чтобы быть свободнее не в словах, но в мыслях, сидели обе подруги, освещенные умирающим светом лампы, недостигавшим до потемнелых от времени карнизов, у тяжелого на искривленных ножках стола, покрытого блестящим ковром, составлявшим свежестью своего шитья резкую противоположность старой материи, которой была обита древняя мебель; обе они сидели, погрузившись в глубокую задумчивость, причина которой, несмотря на различие последствий, была одна и та же: каждая из них думала об исполнении своего обета.
Обет королевы был ужасен. Она поклялась именем Пресвятой Богородицы и Иисуса Христа, распятого на кресте, разрешиться от бремени непременно во Франции, а ежели она не в состоянии будет исполнить этой клятвы, то лишить жизни себя и новорожденного младенца. В первую минуту, предавшись увлечению, она произнесла с твердостью эту клятву, которая принудила и всех присутствующих последовать ее примеру. Но четыре месяца спустя, после этой кровавой минуты, каждое трепетание младенца в ее чреве напоминало матери безумный обет, данный супругу.
Обет Алисы был, напротив, для нее приятен. Она поклялась, в день возвращения из Франции в Англию графа Салисбюри, отдать ему свою руку и сердце. Половина этой клятвы была бесполезна, потому что сердцем ее давно уже владел он, поэтому она с нетерпением, совершенно противоположным нетерпению королевы, ожидала известия из Фландрии о начале военных действий, и задумчивость ее, хотя не так грустна, но все же была глубока и постоянна. Каждая из них равно ожидала решения своей участи, но одна со страхом, а другая с надеждою. И поэтому королева в мечтах своих бродила под облачным серым небом, по пустынным степям, и встречала на пути своем свежие могилы, тогда как Алисса, напротив, носилась беззаботно по коврам свежей зелени, испещренной чудными цветами, благоухающими ароматами, из которых вьют венки для новобрачных.
В эту минуту пробило девять часов на башне замка. С первым ударом колокола, королева вздрогнула, и с ужасом прислушиваясь, считала последующие.
— Семь лет тому назад, — сказала она дрожащим голосом, — в этот самый день, в этот самый час, и в этой самой комнате, где теперь мрак и тишина, было многочисленное шумное общество.
— Кажется, в ней, — сказала в свою очередь Алисса, прерванная в своих мечтаниях словами королевы, и отвечающая скорее на свои мысли, нежели на речь, достигнувшую ее слуха, — кажется, здесь праздновали бракосочетание вашего величества с королем Эдуардом?
— Да, здесь, — отвечала тихо королева, — но я думала о другом ужасном происшествии, случившемся в этой комнате: я говорю о взятии под стражу Мортимера, любовника королевы Изабеллы.
— Я давно слышала об этом происшествии, — сказала Алисса, вздрогнув и осматриваясь кругом со страхом, — и, признаюсь, с тех пор, как мы находимся в этом замке, мне хотелось узнать подробно, как и где это случилось, но так как теперь его величеству угодно было возвратить королеве Изабелле свободу и почести, которыми она прежде пользовалась, никто и не хотел удовлетворить мое любопытства из опасения или, может быть, по неведению. — Потом, после минутного молчания, спросила Алисса, приблизившись к королеве, — и вы думаете, ваше величество, что оно здесь случилось?
— Я не могу говорить о том, что королю угодно сохранить в тайне, — отвечала она, — и поэтому не знаю, где находится в настоящее время королева Изабелла, — во дворце или в золотой тюрьме, и кем назначен при ней этот ужасный Монтраверс, — секретарем или тюремщиком; и нахожу все решенное королем справедливым. Я его жена и вместе с тем первая подданная. Что сделано, того уже переменить нельзя, как равно и избежать определенного свыше. Поэтому я скажу только тебе, милая Алисса, что случилось в этой самой комнате, и не только сегодняшнего числа, но даже именно в девять часов, как Мортимера взяли под стражу в ту самую минуту, когда он, встав, может быть, с этих самых кресел, на которых сижу я, и отходя от стола, шел ложиться на эту кровать, на которую я, в продолжение всего времени моего здесь пребывания, не легла ни одного раза без того, чтобы мне не представилась вся эта кровавая сцена и все действующие в ней лица в виде привидений. Впрочем, Алисса, иногда стены бывают не так скромны, как люди; и эти, которыми мы окружены, не забыли всего того, чему они были свидетелями, и вот язык, который мне все рассказал, — продолжала королева, показывая на внутренность камина, — вот впадина между резьбою от острия меча. На этом месте упал Дугдал и ежели поднять ковер, находящийся под ногами, то, вероятно, на полу еще видно темное пятно от его крови; потому что борьба была ужасная, и Мортимер защищался как лев.
— Но, — сказала Алисса, отодвигая свое кресло, чтобы удалиться от того места, на котором человек так быстро перешел от жизни к предсмертным страданиям и потом к смерти, — но в чем заключалось преступление Мортимера? Невозможно, чтобы король Эдуард наказал так жестоко за связь, конечно, преступную, но и смерть такая страшная, которую испытал он, была за это наказанием слишком жестоким!
— Потому что, кроме этого преступления, он был виновен во многих ужасных злодеяниях. Он был причиной смерти короля, которого, по его приказанию, убили Гюрнай и Монтраверс; по ложным его донесениям был казнен граф Кент. Властвуя неограниченно во всем государстве, он вел его к совершенной погибели, когда настоящий король, власть которого он себе присвоил, из ребенка сделался взрослым человеком, то мало-помалу все его злодеяния сделались ему известны. Но войска, казна и все дела политические, все это было в руках любимца, и борьба с ним, как с неприятелем, была бы войной междоусобной. Почему король и решился поступить с ним, как с убийцей, и одна минута решила его участь. Однажды ночью, когда парламент был собран здесь, а королева и Мортимер жили в этом замке, охраняемом их друзьями, король подкупил одного из них, — и подземельем, ведущим в эту комнату, выход которого скрыт под этими разными украшениями, но я, несмотря на все мои старания найти его не могла, король проник с несколькими замаскированными людьми, в числе которых были Генрих Дугдал и Готье-Мони. Королева была уже в постели, а Робер Мортимер шел ложиться спать, как вдруг он увидел, что одна часть резных украшений в стене открылась, и пять вооруженных воинов в масках бросились в комнату, и пока двое из них побежали запереть изнутри двери, трое остальных кинулись на Мортимера, но он, успев схватить свой меч в одну минуту, рассек им голову Генриху Дугдалу, который хотел схватить его. В это самое время королева вскочила с постели, позабыв, что она совершенно раздета и находилась в тягости, приказала всем удалиться, говоря, что она королева. Это справедливо, сказал один из воинов, снимая маску, но ежели вы королева, ваше величество, то и я король. Изабелла вскрикнула, узнав Эдуарда, и упала на пол без чувств. В продолжении этого времени Готье-Мони обезоружил Робера; но так как крик королевы был слышен, то стража приблизилась к дверям, но увидев их запертыми, начала выламывать мечами и секирами. Робера Мортимера, связав, увлекли в подземелье, выход которого опять скрылся под резьбою, так что когда стража успела, выломав двери, войти в комнату, то в ней был один только убитый Дугдал и королева, лежащая без чувств, но от Робера Мортимера и его похитителей не осталось никакого следа. Долго продолжались бесполезные розыски, потому что королева не хотела признаваться, что сын ее пришел прямо к ее постели, чтобы схватить ее любовника. И по осуждению Мортимера на смерть, узнали только об этом происшествии. Его увидели на месте казни, где палач, открыв его грудь, вынул сердце и бросил его в жаровню на горящие угли, оставив труп в продолжение целых суток на показ и поругание народу, наконец, король, простив труп, позволил рудокопам Лондона похоронить его в их церкви. И вот это самое происшествие, семь лет тому назад, случилось в это самое время. Не права ли я была, сказав тебе, что это было ужасное и кровавое происшествие?
— Но это подземелье, — сказала Алисса, — эта часть резьбы, которая скрывает вход в него…
— Я спросила о нем один раз у короля, но он отвечал мне, что подземелье засыпано, и что часть резьбы не открывается более, — отвечала королева.
— И вашему величеству не страшно оставаться в этой комнате?
— Чего мне бояться, когда мне не в чем упрекнуть себя, — сказала королева, скрывая с трудом под видом покойной совести тот ужас, который невольно овладевал ею. — Впрочем, эта комната, как вы и сами сказали, приводит мне на память другое происшествие, воспоминание о котором заставляет меня забыть об ужасах первого.
— Что за шум? — вскричала Алисса, схватив за руку королеву. Страх ее был так велик, что она забыла должное к ней уважение.
— Шаги приближающихся людей и больше ничего, — сказала королева, — успокойтесь, вы — совершенный ребенок.
— Отворяют двери, — прошептала Алисса.
— Кто там? — спросила королева, оборотясь в ту сторону, откуда был слышен шум, не в состоянии различить во мраке, что было этому причиною.
— Позвольте мне донести вашему величеству, что все спокойно в замке Нотингам.
— А! Это вы, Гильом! — вскричала Алисса, — подите сюда.
Молодой человек, не ожидавший этого приглашения, сделанного ему трепещущим голосом, и не понимая, что было причиною беспокойства Алиссы, но потом подошел к ней быстрыми шагами.
— Что вам угодно приказать мне? — спросил он.
— Ничего, Гильом, — отвечала Алисса, стараясь скрыть свое смятение и придав голосу своему более спокойствия, — ничего, королева желает только знать: не заметили ли вы чего подозрительного во время последнего вашего ночного обхода?
— Что же я мог бы заметить подозрительного в замке ее величества, — отвечал, вздохнув, Гильом. — Королева окружена верными своими подданными, а вы, графиня, — преданными друзьями, почему я и не могу быть так счастлив, чтобы пожертвовать моею жизнью для отклонения от вас и малейшей не только опасности, но даже и неприятности.
— Напрасно вы думаете, мессир Гильом, что для убеждения в вашей преданности, нам нужна жертва жизни вашей, — сказала улыбаясь королева, — и что необходимо какое-нибудь происшествие, чтобы сделать нас признательными за попечения о нашем спокойствии.
— Напротив, ваше величество, как не считаю я себя счастливым и как не горжусь честью находиться при особе вашей, но я прихожу в отчаяние, чувствуя всю ничтожность заслуг моих, оберегая спокойствие вашего величества, которое не подвергается никакой опасности быть нарушенным, в то время, как другие рыцари в войне пожинают лавры победы, и тем делаются достойными тех, кого избрало их сердце. Меня же здесь считают ребенком, хотя я чувствую в себе мужество человека совершенных лет. И если бы я был так несчастлив, что полюбил кого-нибудь, то должен был бы скрывать страсть мою, чувствуя себя недостойным взаимности.
— Успокойтесь, Гильом, — сказала королева, пока Алисса, от которой не укрылся смысл слов и страсть молодого человека, хранила молчание, — ежели мы еще через день не получим известий с твердой земли, то поручим вам отправиться за ними. В таком случае вы можете совершить какой-нибудь военный подвиг для того, чтобы рассказать о нем по возвращении.
— Ах, ваше величество! — возразил Гильом, — если бы вы были так милостивы, что исполнили ваше обещание, то я счел бы вас вторым моим провидением.
Едва Гильом де Монтегю окончил эти слова, произнесенные им с увлечением юности, как раздалось — Кто идет? — часового, находящегося у ворот замка, закричавшего так громко, что голос его явственно раздался в комнате королевы, почему и узнали, что кто-нибудь приближался к замку.
— Что это значит? — спросила королева.
— Не знаю, ваше величество, — отвечал Гильом, — но если прикажете, сейчас узнаю и донесу вашему величеству.
— Идите скорее, — сказала королева, — мы с нетерпением будем ожидать вас.
Гильом повиновался, и обе дамы, погрузясь в прежнюю задумчивость, из которой вывел их звук колокола, пробившего девять часов, вспоминали нить мечтаний, прерванных рассказом королевы об ужасном происшествии, впечатления которого, если не уничтожило совершенно, то, по крайней мере, ослабило появление Гильома Монтегю и его разговор. Поэтому, забыв о поручении, данном Гильому, не слышали, как он вошел, и, приблизившись к королеве, решился сам говорить, не дождавшись вопроса.
— Я очень несчастлив, ваше величество, — сказал он, — потому что никогда не исполняется то, чего я желаю; вот известия, за которыми вам угодно было обещать послать меня. Вероятно, я способен только охранять старые башни этого замка, следовательно, и должен покориться моей участи.
— Что вы говорите, Гильом? — вскричала королева, — разве есть какие известия из армии?
Что же касается до Алиссы, то она не говорила ни слова, но смотрела на Гильома таким умоляющим взором, что он, невольно обратясь к ней, отвечал больше на ее молчание, нежели на вопрос королевы, потому что это молчание было красноречиво и обнаруживало нетерпение.
— Два приехавших рыцаря говорят, что они посланы королем Эдуардом. Прикажите ли их ввести к вашему величеству?
— Введите как можно скорее, — сказала королева.
— Несмотря на позднее время? — спросил Гильом.
— Во всякое время дня и ночи я готова принять посланных моего государя и супруга.
— И вероятно, еще более будете рады, — сказал в дверях звучный и приятный голос, — если этот посланный, почтенная тетушка, будет Готье-Мони, привезший добрые вести.
Королева вскрикнула от радости и, встав, подала руку рыцарю, который, сняв шлем и отдав его своему оруженосцу, приблизился к королеве. Товарищ же его остановился у дверей, не снимая шлема и не поднимая даже забрала. Королева была до того обрадована, что не могла произнести ни одного слова, пока рыцарь, наклонясь, прикасался устами к ее руке. Что же касается Алиссы, то она молчала и дрожала всеми членами. Гильом, понимая, что происходило в ее душе, прислонился к стене, чувствуя, что силы ему изменяют и колени его подгибаются, и старался в темноте скрыть свою бледность и огненный взгляд, который он устремил на нее.
— Вы приехали от короля, супруга моего? — прошептала наконец королева. — Скажите мне, здоров ли он, и что делает?
— Он ожидает, ваше величество, и поручил мне счастье проводить вас.
— Может ли это быть? — вскрикнула королева. — Поэтому он вступил уже во Францию?
— Нет еще, почтеннейшая тетушка, не он, но мы были там для избрания замка Тун в колыбели вашему сыну. Замок этот есть истинное орлиное гнездо, приличное быть местом рождения королевскому потомку.
— Объяснитесь подробнее, Готье, потому что я ничего не понимаю. Я так счастлива, что опасаюсь, не сновидение ли все это?.. Но для чего товарищ ваш стоит у дверей, не снимая шлема, и не приближается к нам? Не опасается ли он, что его, вестника таких приятных вестей, примем мы дурно?
— Этот рыцарь произнес обет, так же как вы, тетушка, и как графиня Алисса, которая, не говоря ни слова, смотрит на меня так пристально. Успокойтесь, — сказал он, обращаясь к ней, — он жив и здоров, хотя и видит свет только одним глазом.
— Благодарствуйте, — сказала Алисса, вздохнув свободно, — благодарствуйте. Теперь скажите нам, где король и где армия?
— Да, да, скажите, Готье, — спросила королева, — по последним известиям, полученным нами из Фландрии, мы знаем, что вызовы были сделаны королю Филиппу Валуа. Что же было после этого?
— Ничего особенно важного, — отвечал Готье. — Только несмотря на эти вызовы и на данные обещания, владетели империи медлили явиться на место назначения, поэтому король со дня на день становился грустнее, и мы с Салисбюри заметили, что эта грусть его происходила от воспоминания, произнесенного вами обета, исполнение которого не зависело от него. Тогда, не говоря никому ни слова, мы, взяв с собою отряд храбрых воинов, отправились из Брабанда. Шли дни и ночи, прошли Гейнау, мимоходом подожгли Мортань, и, оставив за собой Конде, прошли Эскау. Остановились отдохнуть в аббатстве Денен, потом достигли укрепленного прекрасного замка, состоящего в подданстве Франции, который называется Тун-Эвек; обошли его для осмотра со всех сторон, и, заметив, что в нем вы могли бы исполнить обет ваш, почтенная тетушка, мы с Салисбюри во главе нашего отряда поскакали прямо на двор замка. Гарнизон, угадав наше намерение, начал было сопротивляться, и переломил с нами несколько [копий для того, чтобы не сказали, что они сдались без сопротивления. Взявши замок, мы поспешили осмотреть его внутренность, и нашли, что он во всех отношениях достоин сделанного нами ему назначения. Кастелян для женитьбы своей отделал его заново. И в нем с Божьей помощью вы можете, прекрасная тетушка, также спокойно дать наследника его величеству, королю, как и в своем замке Вестминстере или Гранвиче. Затем, оставив в нем, под начальством моего брата, значительный гарнизон, мы поспешили возвратиться к королю с уведомлением ибо всем случившемся, и о том, что ему не о чем теперь больше беспокоиться.
— Итак, — сказала тихо Алисса, — граф Салисбюри исполнил верно свой обет?
— Исполнил, графиня, — отвечал в свою очередь другой рыцарь, приблизившись к ней, снимая шлем и преклоняя колено. — Исполните ли вы теперь обет ваш?..
Алиса вскрикнула. Этот второй рыцарь был граф Петр Салисбюри, у которого один глаз был завязан шарфом Алиссы, с того самого дня, как она произнесла обет; в чем удостоверяли несколько капель крови, запекшиеся на нем от легкой раны, полученной им в голову.
Через две недели после этого происшествия, королева вышла на берег Фландрии в сопровождении Готье-Мони, в то время, как граф Салисбюри праздновал, в принадлежащем ему замке Варк, свое бракосочетание с прекрасною Алиссой Гранфтон.
Эти два обета исполнились первые из всех, произнесенных над цаплею.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Глава XI
Однако, несмотря на тот восторг, с которым приняли участие в этой войне, германские владетели, как мы уже сказали выше, медлили с исполнением своих обещаний. Но Эдуард ожидал с терпением, благодаря подвигу, совершенному Готье-Мони; почему и повелел проводить под охрану верной стражи королеву Филиппу Гейнау в замок Тун-Эвек, где она, по произнесенному ею обету, разрешилась от бремени на земле Франции сыном, которого назвали Иоанном, герцогом Ланкастерским. Шесть недель спустя после этого, она приехала в Ганд и жила в замке графа, расположенном на площади Вандреди.
Все эти промедления давали Филиппу Валуа время сделать приготовления к войне, необходимые для того, чтобы действовать быстро, по предложению Эдуарда, который желал ее вести с быстротой внезапного нападения. Но Франция не такое государство, которое можно было бы покорить разом, завоевать в одни сутки, в одну ночь сменить и ее властителя и ее знамена. Филипп получил вызовы от владетелей Империи и, ожидая объявления войны, собрал всю армию во Франции; начал переговоры с Шотландией, послал сильные гарнизоны в Камбрези, где действия Готье-Мони и графа Салисбюри были первым началом военных действий. Приказал войскам своим занять графство Понтие, которым владел Эдуард по матери своей, и отправил послов к многим владетелям Империи, в том числе и к графу Гейнау, своему племяннику, наследовавшему графство после отца, умершего от подагры, недолго спустя после того, как он во время этой болезни принимал посланников короля Эдуарда, к герцогу Лорренскому, графу Бару, епископу Меца и Адольфу Ламарку уговорить их, чтобы они не принимали участия в заговоре против него. Четверо последних отвечали ему, что они отказали Эдуарду в содействии, которого он от них просил. Что же касается до графа Гейнау, то этот последний письменно уведомил его, что так как он одинаково зависит от Германии как и от Англии, то до тех пор, пока Эдуард будет сражаться на землях Императора, как наместник Империи, он останется союзником Эдуарда; но как только Эдуард вступит во Францию, то он присоединится к Филиппу Валуа, и будет помогать ему защищать его королевство по двойной его обязанности против обоих государей. В заключение Филипп дал знать Гугу Кирету, Николаю Бопоше и Барбеверу, начальникам своего флота, что война объявлена между Францией и Англией, вследствие чего разрешил им идти на неприятеля и причинять ему всякий вред, какой только будет можно. Отважным пиратам не нужно было повторения этого приказания; они пустились к берегам Англии, и однажды в воскресенье утром, в то время, как все жители были в церкви, они вошли в гавань Сутамптона, вышли на берег, разграбили город, похитили жен и дочерей жителей, нагрузили свои корабли добычей, сели на них и с первым приливом моря удалились с быстротою хищных птиц, унося в когтях своих внезапно похищенные ими жертвы.
Со своей стороны, король Англии отправился со всеми его окружавшими из Малина в Брюссель — резиденцию герцога Брабандского, чтобы самому удостовериться, до какой степени можно надеяться на его обещания. Он нашел там Роберта д’Артуа, неутомимого в своих военных предприятиях, возвратившегося из Гейнау. С этой стороны известия были благоприятны; молодой граф, подстрекаемый своим дядею Иоанном Бомоном, неутомимо вооружался и готовился с наступлением военных действий участвовать в них. Герцог же Брабандский оказывал постоянно одинаковое расположение; и, получив известия, что Эдуард намерен был осаждать Камбрей, поклялся соединиться с ним в этом городе с тысячью двумястами копьеносцев, и восьмью тысячами пехоты. Это обещание успокоило Эдуарда, получившего сведения, что и владельцы Империи приближались также к нему на помощь, почему и отправился в путь; переночевав первую ночь в Нивеле, прибыл на другой день вечером в Моне, где нашел молодого графа Гильома, своего зятя, и мессира Иоанна Бомона, своего маршала в Гейнау, который обязался произнесенным им обетом вести армию во Францию.
Эдуард пробыл два дня в Монсе, где его со всей свитой, состоящей из двадцати самых знатных баронов, великолепно угощали местные графы и рыцари. В продолжение этих двух дней все войска, расположенные в этой стране, соединились с ним; после чего, начальствуя над многочисленной армией, он пошел к Валенсьеню, но вступил в него только с одиннадцатью рыцарями, оставив войска свои в окрестностях города; прибывшие прежде него граф Гейнау, мессир Иоанн Бомон, сир Енгиен, сир Фаноэл, сир Вершни и другие знатные дворяне выехали к нему навстречу до ворот города. Из них один только граф Гейнау остался во дворце и встретил его на лестнице со всем двором своим.
Прибыв на главную площадь, король Эдуард остановился перед дворцом; и епископ Линкольнский спросил громким голосом:
— Гильом Оксонь, епископ Камбрейский, увещеваю вас, как уполномоченного короля Эдуарда, наместника Римского Императора, отворить город Камбрей, иначе вы преступите долг ваш против Империи, и мы войдем насильно.
Но так как ответа на эти слова не последовало, может быть, за отсутствием епископа, то он вторично сделал следующее воззвание:
— Граф Гильом Гейнау, мы взываем к вам именем Римского Императора, служить королю Англии, его наместнику в городе Камбрей, который он намерен осаждать с обещанными вами ему войсками.
Граф Гейнау отвечал:
— Охотно исполню мою обязанность. — И в ту же минуту сошел с лестницы, принял стремя сходящего с лошади короля и проводил его в главную аудиенц-залу, где приготовлен был великолепный ужин.
На другой день король Англии прибыл в Гаспр, пробыл в нем двое суток для отдыха, ожидая свои войска из Англии и союзников из Германии, где и присоединились к нему сперва молодой граф Гельдр со своими людьми, маркиз Жюлие со своим отрядом, маркграф Мисньи, граф Мон, граф Сальм, сир Фокемон, мессир Арнуль Блангейм и множество других знатных рыцарей и баронов. И когда все, кроме одного только герцога Брабандского, обещавшего соединиться с ним в Камбрее, прибыли, то они отправились и по прибытии расположились под своим городом. На шестой день прибыл верный своему слову и герцог Брабандский с девятьюстами копьеносцев, не считая других воинов, и остановился на берегу реки Еско, — противоположном тому, на котором находился Эдуард, и велел устроить через нее мост для сообщения между обеими армиями и, расположившись лагерем, послал вызов королю Франции.
Пока приготовления эти происходили в Камбрее, дворяне, желавшие прославить себя военными подвигами, разъезжали в окрестностях от Авена до Дуэ, и находили везде обилие, плодородие и большие запасы, потому что в этой стране с незапамятных времен не было войны. В один из этих разъездов мессир Иоанн Бомон, мессир Генрих де Фландр, сир Фокемон, сир Ботерзен и сир Кюк в сопровождении пятисот воинов, заметили вдали город Гайнекур, в укрепления которого окрестные жители перенесли все свое имущество. Это обстоятельство, кроме желания отличиться военным подвигом, усиливало мужество рыцарей того времени, которые почитали всякую добычу даром неба. Поэтому, надеясь напасть врасплох, приблизились к городу; но так как довольно большие отряды неприятеля были часто видимы в окрестностях, хотя, впрочем, и не так многочисленные, чтобы сделать нападение, то одно появление их заставило жителей принять все меры осторожности. Сверх этого в городе находился один аббат, предприимчивый и отважный человек, который, по обычаям того века, с равным искусством мог управлять копьем и посохом, почему, приняв на себя распоряжения по защите города, велел за воротами Гайнекура сделать с величайшей поспешностью палисад, оставив довольно большое пространство между ним и воротами; разместил людей по валу, назначив из них часовых, снабдил их камнями, известью и всеми воинскими снарядами, бывшими тогда в употреблении; избрал для себя место с самыми храбрыми, каких только мог набрать, между палисадом и городом, оставив ворота за собою, чтобы в случае отступления можно было укрыться за ними. Сделав все эти расположения, он ожидал неприятеля, который вскоре после этого подступил, но, заметив, что внезапного нападения сделать невозможно, начал с осторожностью приближаться к городу, хотя со стороны ожидающих приступа не было никакого к тому препятствия.
Шагах в двадцати от города, мессир Иоанн Бомон, мессир Генри де Фландр, сир Фокемон и другие рыцари сошли с лошадей, чему последовали и все воины; спустив забрала шлемов и обнажив мечи, пошли прямо к палисаду. Когда с вала увидели решительное нападение, то град камней посыпался на осаждающих, равно как и полились потоки извести; но так как они все были в шлемах, латах и панцирях, то продолжали подступление до самого палисада, который сперва хотели уничтожить, чтобы открыть себе путь, но это оказалось невозможным, потому что столбы глубоко были врыты в землю, и за недостатком необходимых вещей, которыми можно было сокрушить палисад, он устоял против всех усилий неприятеля; это принудило рыцарей Эдуарда изменить нападение, и они, просунув копья и мечи в отверстия палисада, начали ими колоть и рубить защитников, на что и те отвечали подобным же образом. Аббат был впереди всех, — он первым получал и наносил удары, а в это время осажденные беспрестанно бросали камни, брусья и горящие головни. Мессиру Генриху де Фландру пришлось быть против аббата Гайнекура; первый из них был искуснее, а последний хотя и сильнее, но уступал ему в ловкости, почему, заметив свою невыгоду, аббат, бросив меч, схватился за лезвие меча рыцаря, уперся ногами и потащил к себе своего противника, который, опасаясь быть обезоруженным, не выпускал меча из руки, и поэтому сперва сквозь палисад показался клинок меча, потом рукоять его, и наконец и рука рыцаря; тогда аббат, проворно оставив лезвие, схватил руку и втащил ее до самого плеча, так что если отверстие было шире, то и остальная часть туловища последовала бы за нею; в продолжение всего этого времени Генрих де Фландр был в большой опасности, потому что никак не мог защищаться; и пока аббат одной рукой тащил его к себе, то другой кинжалом бил его в забрало шлема, стараясь вогнуть его; другие рыцари, увидев опасность Генриха де Фландра, бросились к нему на помощь и успели спасти его, но он, спасая жизнь, уронил меч, который аббат с торжеством поднял и впоследствии сохранял в зале собрания города Гайнекура, где спустя сорок лет после того, монахи показывали его Фруассару, рассказывая, каким образом он им достался. Осаждающие по первой этой неудаче увидели, что делать больше нечего, поэтому отправились обратно в Камбрей, где и соединились с королем Эдуардом, герцогом Брабандским и рыцарями Империи, которые, окончив работы в осаде города, готовились сделать приступ.
Новоприбывшие приняли участие в сражении, желая отомстить за испытанную ими неудачу и особенно мессир Иоанн Гейнау за смерть молодого рыцаря Германа, убитого в этой неудачной сшибке; почему он и присоединился к отряду сира Фокемона, сира Енгиена и мессира Готье-Мони, которые должны были осаждать город со стороны ворот Роберта, тогда как Гильом, его племянник, шел на штурм к воротам Сент-Кентена.
Граф Гейнау, молодой дворянин, желавший нетерпеливо доказать свою храбрость, одним из первых достиг заставы, и начал сражение; но им пришлось не так легко осаждать этот город, как Гайнекур, потому что он был хорошо укреплен и имел храбрый гарнизон, много огнестрельных орудий и других боевых снарядов. Так что, несмотря на чудеса их храбрости, мессир Иоанн Бомон и Готье-Мони были отражены и возвратились израненные и измученные без малейшего успеха.
В ту ночь дошли слухи до короля Англии, что противник его узнал о приближении его к Камбрею, прислал в Сент-Кентен своего военачальника Рауля, графа д’Е и де Гина, с многочисленным отрядом, для охраны города и его окрестностей; кроме этого еще владетели Куси и де Гам прибыли в свои земли, находившиеся на пути во Фракцию; а так как по всему пространству, находящемуся между Сент-Кентеном и Пероном, расположены были французские войска, то вероятно было, что король Франции Филипп Валуа не замедлил и сам встретиться со своим двоюродным братом.
В самом деле Филипп Валуа, узнав о прибытии герольда герцога Брабандского, приказал тотчас же допустить его до аудиенции в замке Компиен и в этот раз, так же как и прежде, пригласил присутствовать при ней своего престарелого и верного заложника Леона Кренгейма, который, надеясь на слово, данное его владетелем, спокойно сел подле короля; но при первых словах герольда, понимая возложенное на него поручение, встал со своего места и хотел удалиться. Тогда Филипп, не спуская глаз с посланного своего двоюродного брата, протянул руку, остановил рыцаря, который из уважения к нему, должен был выслушать до конца вызов, делаемый его владельцем королю Франции. Когда герольд окончил свою речь, Филипп Валуа, выслушав ее, обратился с улыбкой к рыцарю и сказал:
— Ну, мессир Кренгейм! Что вы на это скажете?
— Ваше величество, — отвечал старый воин, — я ручался моей жизнью за герцога Брабандского, и скажу только, что если он изменил своему слову, то я не изменю моему.
Пять дней спустя после этого, когда король Филипп собирался отправиться в Перон, ему доложили, что рыцарь Леон Кренгейм, отпущенный им обратно к своему владетелю, скончался в эту ночь.
Старый рыцарь не мог пережить стыда от неисполнения обещания; он уморил себя голодом.
Глава XII
Однако, так как осада Камбрея, несмотря на храбрость осаждавших, не имела никакого успеха, и по дошедшим слухам, Филипп Валуа, обнародовав манифест в Пероне, прибыл со всеми своими силами в Сент-Кентен, король Англии собрал совет из самых храбрых и опытных своих воинов, между которыми были Роберт д’Артуа, мессир Иоанн Бомон, епископ Линкольна, граф Салисбюри, маркиз Жюлие и Готье-Мони, для разрешения вопроса: продолжать ли осаду или идти навстречу противнику. Совещание было непродолжительно; все единогласно положили: что так как Камбрей был укреплен стенами, охраняем хорошо вооруженным многочисленным гарнизоном, поэтому покорение его сомнительно; следовательно, лучше идти и встретить неприятеля в открытом поле, нежели терять перед укрепленным городом бесполезно время, которого до наступления зимы оставалось немного; за этим последовало повеление всем войскам наступать. Палатки и шатры снялись, все встали под свое знамя и, разделясь на отряды, пошли на гору Сент-Мартен, к аббатству епархии Камбрея, находящегося на границе Пикардии. И тогда, как мессир Иоанн Бомон исполнил обет свой, справляя должность маршала армии, пока она находилась на землях Империи или Гейнау, король Англии сам принял начальство над нею, разделив на три части, и поручил по одной из них графу Нортамптону, Глочестеру и Суфольку, а остальную главную армию доверил графу Варвику, который, достигнув высоты горы Сент-Мартен, перешел Еско без всякого препятствия со стороны французов. Переправившись на противоположный берег этой реки, граф Гейнау приблизился к Эдуарду, сошел с лошади, преклонил колено и просил увольнения, по его обещанию, чтобы соединясь с королем Франции сдержать и ему верное свое слово, потому что желал служить так же дяде своему королю Франции в его королевстве, как служил зятю своему королю Англии на землях Империи. Эдуард, зная его обещание, не хотел препятствовать в его исполнении и подняв графа, сказал ему: «да благославит вас Бог»; потом, сняв перчатку, подал ему руку и Гильом Гейнау, поцеловав ее, сел на лошадь; поклонился в последний раз королю, и удалился от армии со всеми воинами и друзьями, за исключением одного только его дяди Иоанна Бомона, который как изгнанник Франции, за помощь, оказанную им Изабелле, не почел для себя предосудительным остаться между рыцарями Империи, хотя они и находились уже во Франции.
По удалении графа Гильома, вторично был собран совет для определения: идти далее во Францию или в ожидании приближения французской армии держаться ближе к Гейнау, откуда будут доставляться беспрепятственно оружие и съестные припасы. Мнение были различны; но герцог Брабандский был на стороне последнего, поэтому и все другие потом согласились с ним; вследствие чего армия была разделена на три отдельные корпуса; первый — под начальством маршалов, второй — под начальством самого короля, а третий — герцога Брабандского. После чего пошли дальше, сжигая и опустошая все встречаемое на пути, проходя не больше трех миль в день, чтобы удобнее истреблять города, деревни, дачи; и с ними вместе леса, виноградники и хлеба, словом сказать, не щадя ни произведений земли, ни даров неба; и переход армии можно было сравнить с потоком лавы, которая после себя оставляет опустошенным и неудобным все, что прежде было плодородно и населено.
По временам армия останавливалась, и, как огненный дракон, размахивая крыльями, отделяла отряды к Пикардии или Иль-де-Франсу, грабила и сжигала города, так что в самой середине государства отзывались вопли несчастных, и видно было зарево пожаров; подобная участь постигла Ориньи Сент-Бенуа и Гиз; наконец, король Эдуард узнал в Боери, аббатстве Сито, находящемся в Лаонской епархии, что король Филипп выступил из Сент-Кентена к нему навстречу со ста тысячами войска, желая показать неприятелю, что он никак не намерен укрываться от него. Эдуард возвратился назад, пробыл сутки в Ферварке, где получил это известие; другие — в Монтреле, а на третий день прибыл в Фламанжери, около которого, заметив удобное местоположение для расположения своей армии, состоящей из сорока пяти тысяч войска, остановился, решившись ожидать короля Филиппа, отвратив своим возвращением всякое подозрение во избежание встречи с войсками Франции.
Слух о выступлении войск короля Франции был справедлив, и точно армия его выступила из Сент-Кентена, и скоро достигла Биронфоса, где остановилась вследствие полученного повеления расположиться на квартирах; намерением Филиппа было ожидать тут короля Англии и всех его союзников, находившихся на расстоянии не более двух миль. Граф Гильом, узнав о расположении французских войск в Биронфосе, оставил Кесной, где до сих пор находился, соединился с французской армией и явился к дяде своему с пятьюстами копьеносцев. Несмотря на эту великолепную свиту, король Филипп принял очень холодно, потому что не мог забыть, что эти же самые воины осаждали и Камбрей. Но граф Гильом представил в свое оправдание ту зависимость, в которой он находился от императора, точно так же как и от короля Франции; почему совет и сам король, приняв в уважение справедливость его оправданий, назначил отряду его место в середине армии и в самом близком расстоянии от королевского шатра.
Эдуард скоро узнал о расположении своего противника, и о столь близком расстоянии, разделявшим обе армии, поэтому, собрав совет из владетелей Империи, своих маршалов, всех баронов и прелатов Англии, спросил их: имеют ли они намерение сражаться, и если так, то спросил ответа, как действовать в настоящих обстоятельствах? Владетели в молчании посмотрели друг на друга, потом предоставили говорить за себя герцогу Брабандскому, который, встав со своего места, сказал: что он считает долгом и обязанностью всех и каждого сражаться, несмотря на малочисленность войск, и что находит необходимым немедля послать герольда к королю Франции и требовать от него сражения с назначением дня, который он заблагорассудит избрать. Это предложение принято было со всеобщим одобрением, и герольду герцога Гельдра, знавшему французский язык, поручили от имени короля и всех владетелей вызвать на бой короля Франции, посему он сел на коня и сопутствуемый приличною свитою пустился в путь, и спустя два часа после своего отъезда, достиг передовой цели Филиппа Валуа — так близко находились одна от другой обе армии, и потребовал, чтобы его немедленно представили королю.
Король Франции принял его в полном собрании совета и с удовольствием выслушал его как человека умного, и исполнившего с твердостью и благоговением свое поручение; потом узнав, что противник остановился в ожидании появления войск и требовал генерального сражения, в полном составе обеих армий, на что Филипп Валуа, изъявив согласие, назначил пятницу, то есть на послезавтра, говоря, что этот день он считает приличным для сражения; потом, сняв с себя мантию из горностаева меха, с золотой цепью, которой она застегивалась, подарил ее герольду в знак своего благоговения, и того, что принесенная им весть была ему очень приятна. Герольд в тот же вечер возвратился к Эдуарду, объявил благосклонный прием, сделанный ему королем Франции, и день, назначенный им для сражения; о чем узнав владетели Империи провели большую часть ночи в осмотре оружия и других приготовлениях.
Назавтра, граф Гейнаузский поручил сиру Тюпиньи и сиру Фаньолю, пользовавшимся полным его доверием из-за их благоразумия и храбрости, осмотреть войска короля Англии. Вследствие чего они, сев на лучших коней своих, поехали опушкой леса, находящегося на всем протяжении линии, на которой расположена была английская армия, почему и могли удобно заметить все расположение. Только лошадь сира Фаньоля, дурно взнузданную, вдруг ударила древесная ветвь по спине, отчего она, закусив удила, понесла его из леса прямо к армии короля Эдуарда, и сбросила в середине ставок владетелей Империи. Пять или шесть немцев в ту же минуту окружили сира Фаньоля, объявив, что без выкупа он не получит свободы, но так как он не был взят в сражении, а случайно попал к ним в плен, то они его освободят, если он представит кого-либо из уважаемых людей на поруки. Сир Фаньоль потребовал тогда, чтобы его вели к мессиру Иоанну Бомону, который чрезвычайно удивился, выходя из церкви, по окончании обедни, встретив старого и доброго знакомого. Пленник рассказал ему, каким случаем он попал в руки немцев и на каком условии обещана ему свобода. Мессир Иоанн Бомон поручился за него в сумме, требуемой за его выкуп, оставив его у себя обедать, и во время десерта велел подвести лошадь, вручил ему его меч с одним условием только, чтобы он поклонился от него его племяннику графу Гильому. Сир Фаньоль, обещал исполнить его поручение, возвратился к своему начальнику, которому мог дать точные сведения об армии Эдуарда, потому что видел ее лучше, нежели как предполагал, отправляясь по этому поручению.
В этот вечер, в то время, как король Франции занимался в своей палатке делами, ввели к нему запыленного и утомленного путника, который с той минуты, как ступил на твердую землю, делал по двадцать миль в день на одной и той же лошади, и прямо явился к Филиппу; он прибыл с острова Сицилии и привез письмо от Роберта графа Прованского и короля Неаполитанского. Король, зная благоразумие двоюродного брата и познания его в астрологии, просил его совета при первом известии об этой войне, и желал знать, что ему ожидать от нее. Король Роберт, наблюдая течение звезд, знал, которые из них благоприятны и которые зловещи, по соединению некоторых из них мог предугадывать будущее, поэтому, получив известие о предполагаемой войне, начал делать свои вычисления, которые при многократном повторении показывали ему все одно и то же, что во всяком сражении, в котором Эдуард будет находиться, Филипп будет побежден и разбит с большим вредом для всего государства Франции; он писал королю: «Ни в каком случае не сражаться, хотя бы войска его были в несколько раз многочисленнее Эдуардовых, потому что последствия битвы начертаны рукою провидения в вечной книге судеб, которых никакая сила людей изменить не может». Филипп скрыл от всех полученные известия, опасаясь привести в робость всю армию, и несмотря на воспрещение короля Сицилии, своего двоюродного брата, решился: ежели король Эдуард вступит в сражение, то не отступать ни на шаг; потому что день боя был им самим назначен; но и не идти вперед, хотя бы по местоположению и освещению лучей солнечных и было это необходимо.
На другой день обе армии, готовясь к сражению, отслушали обедни; оба короля и множество знатных дворян исповедались и причастились, как люди, готовящиеся на смерть, чтобы быть готовыми предстать пред Всемогущим; потом пошли друг против друга по двум противоположным берегам большого вязкого болота, состоящего вместе из травы и воды, переход через которое был чрезвычайно труден и подвергался величайшей опасности того, кто бы первый осмелился пуститься через него; после часового похода обе армии были одна против другой, и каждый из королей подал знак к сражению.
Король Эдуард, которому благоприятствовало местоположение, разделил свою армию на три колонны, и, спешив всех, приказал лошадей и всю упряжь оставить в лесу, а из телег и фур сделать укрепление. Первая из восьми тысяч человек, двадцати двух знамен и шестидесяти штандартов (штандартом в тот век называлось знамя с длинным хвостом, которое имел право носить только дворянин, имеющий у себя 20 человек подчиненных ему оруженосцев) состояла вся из немцев, под начальством герцога Гельдрского, графа Жюлие, маркиза Брандебургского, мессира Иоанна Гейнаузского, маркграфа Миснийского, графа Монского, графа Сальмского, сира Фокемона и мессира Арнуля Блакенгейма.
Начальником второй был герцог Брабандский; в распоряжении его находились самые богатые и храбрые бароны его владений, так же как и Некоторые знатные дворяне Фландрии, присоединившиеся к его отряду; поэтому он и имел под своим начальством двадцать четыре знамени, восемьдесят штандартов и семь тысяч хорошо снаряженных и вооруженных храбрых и смелых воинов.
Третье отделение, самое сильное, состояло под начальством самого короля Англии, окруженного всеми знатными дворянами его королевства, в числе которых находились двоюродный его брат граф Генрих Дерби, сын мессира Генриха Ланкастера Кривошеи, епископ Линкольский, епископ Дургамский, граф Нортамптон, Глочестер, Суфольк и Ертфор; мессир Роберт д’Артуа, мессир Реноль Кобам, сир Перси, мессиры Людовик и Иоанн Бошан, мессир Гуг Гастинг, мессир Готье-Мони, и, наконец, граф Салисбюри, который спустя две недели после своего бракосочетания, расстался с молодой женою, развязав вследствие исполненного обета прежде завязанный невестою глаз, с новым рвением к службе присоединился к армии. Сверх этого моря из стали, — моря, в котором каждый боец составлял буйную волну, — моря, которое колеблясь все двигалось далее и далее над этими десятью тысячами копьеносцев и шестью тысячами стрелков, развевались двадцать четыре знамени и девяносто штандартов; кроме этих трех отделений, был еще четырехтысячный арьергард под начальством графа Варвика, графа Пемброка, сира Мильтона и других храбрых рыцарей, готовый подкрепить собою ту часть армии, которая начала бы ослабевать.
Что же касается короля Франции, то около него находилось такое множество воинов, дворян и рыцарей, что трудно было бы и описать их. И в то время, как войска его выстроились в боевой порядок, то у него было двести двадцать семь знамен, пятьсот шестьдесят штандартов, четыре короля, шесть герцогов, тридцать шесть графов, четыре тысячи рыцарей и больше шестидесяти тысяч воинов из жителей Франции, оружие которых было так блестяще, что солнечные лучи отражались на нем, как на зеркале; но все это рыцарство столь страшное и вместе с тем приятное для глаз, было различного мнения на счет событий, долженствовавших совершиться в этот день; одни говорили, что стыдно стоять на виду неприятеля, не вступая в бой, а другие утверждали, что безумно сражаться тогда, как король Франции в этом сражении может потерять все, и ничего не выиграть; потому что в случае поражения, неприятель проникнет вдруг в сердце королевства, а ежели победа и останется на его стороне, то псе же он не в состоянии будет завоевать Англию, как остров, так же как и владения Империи потому, что их будет твердо защищать Людовик V Баварский, верховный их властелин.
В продолжение этого времени король Англии на маленьком иноходце, в сопровождении мессира Роберта д’Артуа, мессира Реньоля Кобаля Кобама и мессира Готье-Мони, разъезжал впереди своих войск, побуждая рыцарей и их товарищей помогать ему исполнить обет и сохранить честь свою, показывая им всю выгоду избранного местоположения, по находившемуся за ними лесу, а впереди болоту, которое неприятель не мог иначе перейти, как подвергаясь большой опасности. Проехав по всем рядам и поговорив со всеми для того, чтобы возбудить или укротить их рвение, возвратясь к своему отряду, занял свое место и приказал объявить, чтобы никто не осмеливался бросаться вперед предводительских знамен.
По окончании с обеих сторон этих приготовлений, на которые употреблено было все утро, около полудня заяц, испуганный одним воином Английской армии, выбежал из леса и бросился в ряды французов, которые, желая застрелить его, пустились за ним в погоню. Англичане, заметив это, но не понимая причины, пришли в движение от этого шума, воображая, что неприятель на них нападает. Поэтому король, оставив маленького иноходца, сел на ратного коня, приготовясь отразить первое нападение. Со своей стороны знатные гасконцы и дворяне Лангедока, полагая, что на них нападают, надели шлемы и обнажили мечи, тогда как граф Гейнаузский вообразил, что уже сражение начинается, поспешил посвятить в рыцари многих дворян, которым он обещал эту честь; так что в одну минуту он их сделал четырнадцать, которые во всю жизнь свою потом назывались рыцарями Зайца.
После сего прошло еще довольно времени, и наконец солнце начало склоняться к западу, как вдруг посланный явился к Эдуарду, который принял от него письма и прочел их, не сходя с лошади; они были за подписью епископа Канторбери присланы из совета Англии и извещали его, что нормандцы и гейнаузцы высадились в Сутамптоне, грабили и жгли город, достигли до Дувра и Норвича, опустошая берега Англии, в числе сорока тысяч, охраняя так хорошо море, что прервали всякое сообщение с Фландрией; взяли два самые большие корабля, которые назывались Эдуард и Христоф; что сражение продолжалось целый день, тысяча человек англичан в нем погибла.
Известия эти были ужасны, однако в этих же письмах находились и другие еще опаснее первых. Эти были из Шотландии; пока Эдуард находился под Камбреем, Филипп Валуа, как сказано прежде, отправил послов к дворянам, бывшим на стороне юного короля Давида; они не привезли с собою подкрепления ни войском, ни оружием, но зато привезли значительную сумму денег, на которые можно было иметь и то и другое. Начальник посольства человек благоразумный и храбрый, пробрался невредимо через все посты англичан и достиг леса Иедар, где стояли как неприступная крепость граф Мюррай, мессир Симон Фразер, мессир Александр Рамзай и мессир Гильом Дуглас, племянник доброго лорда Джама, который, как мы уже сказали выше, умер в Испании в то время, как вез сердце своего короля на святую землю. Все эти знатные дворяне обрадовались, получив известия из Франции: король Филипп советовал им воспользоваться отсутствием Эдуарда и возмутить королевство Англию, давая им к тому все средства присланными с этим вместе сокровищами, которые они так скоро и искусно употребили в дело, что в непродолжительном времени имели и людей и лошадей; и тогда как они начальствовали уже над сильным и многочисленным отрядом, английские губернаторы считали их дикими зверями, укрывшимися в лесу Иедар, куда они спустились с гор, как стадо волков, и силою или хитростью взяли несколько крепостей; так что, в свою очередь, англичане в это время имели в своем владении только семь или восемь городов и крепостей, между которыми были Бервик, Стерлинг, Роксбург и Эдимбург. Шотландцы, ободренные своими успехами, оставив позади себя Бергик, перешли реку Тинь, и старинную римскую стену, достигли Дурома на самой почти границе Нортумберланда, то есть на расстоянии трехдневного перехода до королевства Англии, грабя и сжигая все на пути своем; потом удалились беспрепятственно обратно другой дорогой, потому что англичане не препятствовали их отступлению и даже не подозревали, что у молодого шотландского льва так скоро прорезались зубы и выросли когти.
Эдуард прочитал эти письма со спокойным видом и ни одна черта лица его не обнаружила душевной тревоги; приказал угостить и наградить посланного так, как будто он привез добрые вести. Потом окинул взором находившуюся пред ним армию, внутренне прося Всевышнего отвратить битву, которой он сам желал, и для которой зашел так далеко; потому что победителем или побежденным, завлеченный в центр государства, или по отступлении во владения Империи, — в любом случае он не мог скоро возвратиться в свое отечество, куда его призывали важные дела. По счастью, французская армия была все в одном положении, и как день начал уже склоняться к ночи, то казалось, что в этот день сражения не будет.
В самом деле, прошло еще два часа и ни один из противников не решился перейти болота; потом наступила ночь, и обе армии разошлись на прежние занимаемые ими накануне места. Король Эдуард, собрав совет, прочитал громко донесения, полученные им из Англии, и желал знать мнение английских баронов и владельцев Империи; все единогласно объявили, что присутствие его в Лондоне необходимо, что ему без отлагательства нужно отправиться непременно в Англию, посему, пользуясь темнотою ночи, он велел снять палатки, увязать снаряды, и, снявшись с места в ту же ночь, прибыл с герцогом Брабандским в Авень, находящийся в Гейнау: на утро, простившись с немецкими владетелями и брабандцами, оставшимися под ружьем для охранения своего отечества, он прибыл со своим двоюродным братом герцогом Иоанном в Брюссель.
На другой день, король Франции не знал, что произошло в продолжении ночи, пошел снова навстречу англичанам, приказав войскам своим занять ту же позицию, как и накануне; но, не встретив неприятеля на прежнем месте, полагал, что в лесу, простирающемся на противоположном берегу болота, сделаны были засады, почему и потребовал охотника, который, перебравшись через неприступное болото, устрашавшее накануне обе армии, осмотрел бы лес, казавшийся ему подозрительным по царствующей в нем тишине. Явился молодой рыцарь, готовый исполнить опасное поручение, это был мессир Есташ Рибомон, происходивший от древней дворянской фамилии, которому хотя и было только двадцать один год от роду, но уже в продолжение пяти лет он находился на военной службе; отпуская его на такую опасность, Филипп Валуа хотел в случае неудачи, чтобы молодой человек умер, по крайней мере, рыцарем, поэтому велел ему преклонить колено, сам вооружил и обнял его, так что, обрадованный этой честью и гордясь ею, мессир Есташ вскочил на лошадь, моля Бога встретить какого-нибудь неприятеля, чтобы оказаться достойным полученной от короля милости. Потом, пустившись по болоту, перебрался через него на виду всей армии, и, достигнув противоположного берега, взял копье наперевес и направился прямо к лесу, в котором исчез скоро из виду. Высмотрев его во всех направлениях, и найдя его совершенно пустым, подобно заколдованному лесу, в котором из одного дерева Танкред пролил кровь Клоринды, он, проехав его весь, не найдя ничего подозрительного, показался опять на возвышении горы, с которой видна была вся окрестность, и, достигнув ее вершины, не встретил никого; водрузил в землю копье в знак совершенного ею владения, положил подле него шлем, длинные перья которого развевались ветром, сошел с горы тихо с непокрытой головой, и явился пред королем, отдав ему отчет в исполнении поручения, убеждал следовать за ним со всей армией до того места, на котором накануне расположены были войска Эдуарда. Филипп Валуа немедленно приказал идти вперед, и мессир Есташ Рибомон, как путеводитель для показания пути, занял место впереди всей армии и переправил все войска через болото, из которого многие из рыцарей выбрались с большим трудом по причине тяжести коней и своего вооружения; это доказало королю Филиппу, что он был прав накануне не отважившись перед неприятельской армией перейти это опасное место, через которое в настоящую минуту он переправился, не подвергаясь никакой опасности. Мессир Есташ не обманулся: действительно никого не было во всей стране, поэтому он в сопровождении небольшого отряда, отправился на вершину горы, и взял обратно оставленный им шлем и воткнутое копье. Король Филипп остановился на том самом месте, где были расположены войска Эдуарда, и пробыл на нем целые два дня, в продолжении которых узнал от окрестных жителей, что король Англии удалился в Гейнау со всеми рыцарями и баронами Империи; ласково поблагодарив королей, герцогов, графов, баронов и рыцарей, собравшихся к нему на помощь, простился с ними, предоставляя всякому на волю, удалиться кому куда угодно; возвратился с Сент-Кентен, распустил по гарнизонам войска свои в Турнай, Лиль и Дуе; потом, увидев, что ему не оставалось ничего более делать на границах своего государства, возвратился в Париж.
Эдуард, достигнув Антверпена, сел на корабль и отправился через море, оставив в знак скорого возвращения, под охранением своего кума Иакова Дартевеля, королеву Филиппу в его город Ганде, поручив графам Суфольку и Салисбюри защищать Фландрию в случае, если бы король Филипп вздумал наказать ее за оказанные и за предполагаемые впоследствии ему услуги. Выйдя в открытое море и не встретив ни одного из нормандских и генуэзских пиратов, прибыл 21-го февраля 1340 года в Лондон, и в тот же день отправился в Вестминстер. Возвращение его обрадовало все королевство.
Глава XIII
Со времени полученных королем Эдуардом известий в тот день, когда назначено было сражение, дела его в Шотландии сделались еще хуже; последнее отважное и не менее того успешное предприятие, заставило его обратить все внимание на Шотландию, где неизбежно угрожала ему опасность.
Мы сказали выше, что в числе укреплений, удержанных за собою Балиолем, или точнее сказать, Эдуардом, в Шотландии, самым неприступным был замок Эдинбург; но Гильом Дуглас думал о нем иначе, поэтому собрав графа Патрика, сира Александра Рамзая и Симона Фразера, старинного наставника в делах рыцарства молодого короля, объяснил им свое намерение, предлагая исполнить его без их помощи, или разделить с ними честь и опасность успеха. Чем опаснее было предприятие, тем больше оно могло нравиться этим людям; так что они охотно приняли предложение Дугласа и начали готовиться к исполнению его замысла.
Первой их заботой был выбор двухсот самых храбрых и диких шотландцев, которым назначено было местом соединения небольшими группами, чтобы не возбудить подозрения, пологий берег в Фифском графстве, куда прибыли и они сами ночью, на корабле, нагруженном овсом, мукой и соломой, и посредством шлюпки, на которую садилось по десять человек, перевезли их всех к себе на корабль; потом пустились на веслах по причине безветрия к берегам Шотландии, и сделали высадку в трех милях от Эдинбурга, где, разделясь на две части, оставили из них около себя только двенадцать человек самых отважных. Гильом Дуглас, Симон Фразер и сир Александр Рамзай послали остальных засесть в засаду, в противоположном направлении того пути, который избрали сами, в старом оставленном аббатстве, расположенном у подошвы горы и на близком расстоянии от замка, так чтобы они могли, услышав условленный знак, немедленно поспеть на помощь своим товарищам; после чего одевшись вместе с двенадцатью горцами, в самые ветхие платья, изорванные шляпы, чтобы быть похожими на бедных купцов, навьючили на двенадцать лошадей по мешку муки, овса или соломы, и, скрыв оружие под плащами, начали на рассвете дня подниматься на утес, который был так крут, что ежели бы лошади не были выбраны так же, как и люди, из привыкших взбираться на горы, то никак не смогли бы на нем удержаться. После неимоверных усилий, они, наконец, взобрались до половины ската, где, остановясь, Гильом Дуглас и Симон Фразер отделились от прочих, оставив их в распоряжении сира Александра Рамзая, и продолжая путь, достигли до опускной решетки ворот. Тут часовой преградил им путь; тогда они просили вызвать к ним привратника, который в ту же минуту, как ему об этом сказали, вышел к ним навстречу; они объявили ему, что они купцы, до которых дошли слухи, что жизненные припасы и корм лошадей гарнизона на исходе, и что по преданности своей к Балиолю и вместе с тем, чтобы выручить что-нибудь, они решились, подвергаясь опасности, попасть в руки шотландцев, разъезжавших шайками в окрестностях, пуститься с двадцатью лошадьми, навьюченными хлебом, овсом и соломою, и продать им все это не за дорогую цену. Вместе с этим, отведя привратника на край утеса, показали ему небольшую толпу людей и лошадей, ожидающих только знака, чтобы продолжать путь. Привратник отвечал, что охотно будут куплены припасы для гарнизона, в которых в самом деле оказывался уже недостаток, но потому, что было очень рано, он не смел беспокоить губернатора и казначея; а до тех пор, пока они проснутся, обещал отворить им и их товарищам, ежели они хотят, первые ворота. Этого только и желали Гильом Дуглас и Симон Фразер; дали знать товарищам соединиться с ними, почему те и начали продолжать путь с таким скромным видом, что невозможно было иметь никакого подозрения. Достигнув площадки, они встретили вышедшего навстречу им привратника, который повел их в середину первой ограды; потом отворив рогатки, сказал мнимым купцам, что они во всяком случае могут сложить с лошадей свой товар, который, вероятно, будет до последнего мешка у них куплен по той цене, какую они назначат; горцы не заставили повторить себе это предложение, сбросили мешки в самых воротах, так что их невозможно было затворить; потом один из них, приблизившись к привратнику, державшему в руке связку ключей, ударил его вдруг в грудь кинжалом так сильно и проворно, что тот упал не вскрикнув. В эту минуту все другие сбросили с себя плащи и изорванную одежду. Симон Фразер схватил ключи, а Гильом Дуглас пронзительно и протяжно затрубил в рог.
Это был условный знак; и лишь только остальная часть отряда, скрывавшегося в старом аббатстве, услышала знакомый звук рога, то бросившись из засады начала взбираться с быстротой горских серн на утес. Часовой, удивленный звуком рога, угадал все и, заметив бегущих людей, закричал изо всех сил: «Измена! Измена! Скорее, рыцари! Выходите и отражайте!» — Крик этот разбудил кастеляна и некоторых других, которые, вооружившись, выбежали и бросились к воротам, чтобы затворить их, но встретили Гильома Дугласа и его товарищей; часовой со своей стороны хотел тоже бежать к воротам и затворить их, но ключи были у Симона Фразера. В эту минуту остальная часть отряда вбежала в ворота, и жителям замка пришлось только защищать другие ворота, но не отбивать уже тех, которые были взяты неприятелем.
Двор был так тесен, что неминуемо одна какая-нибудь сражающаяся сторона должна была погибнуть, и осаждающие, в лице кастеляна, имели дело с храбрым рыцарем Готье-Лимусином, который защищался как лев, от рогатки до рогатки, и от ворот до ворот; наконец, когда около него осталось только шесть оруженосцев, он принужден был сдаться. Генералы короля Давида на его место назначили храброго шотландца Симона Вержи, дав ему в гарнизон тот отряд, что взял замок, а сами отправились к исполнению других предприятий.
Эдуард, хотя и оставил Фландрию, но не отказался от войны с Филиппом Валуа, и от исполнения данного им обета, расположиться лагерем около церкви Сент-Дени; но так как положение дел Англии, находящейся между нормандских пиратов и шотландских беглецов, было довольно затруднительно, чтобы король мог тогда возвратиться и присутствием своим поддержать доверие и мужество. Эдуард оставался в нерешимости: с которыми из неприятелей своих, морскими или сухопутными, начать действия, как вдруг узнал об успехе отчаянного предприятия, исполненного Гильомом Дугласом. Поэтому и решился прежде всего обратить внимание на границы Шотландии, и усилить гарнизоны. Пробыв только две недели в Лондоне, приказав к своему возвращению снарядить флот, он отправился в Анлеби и Карлиль, осмотрел все границы своего государства от Брамптона до Невкастля, взяв с собою Иоанна Нефвиля, бывшего там губернатором, пустился далее в Бервик, где находился Эдуард Балиоль, и пробыв в нем несколько дней, проведенных в совещании с ним о делах обоих государств, поднялся вверх по реке Твиди до самого Норама и оставил в нем свою свиту; потом в сопровождении одного только Иоанна Нефвиля продолжал путь целые полдня и к ночи прибыл к воротам замка Варк.
Это тот самый замок, в котором Алисса Гранфтон после исполнения обета графом Салисбюри исполнила и произнесенный ею. И по отъезду мужа, оставалась в совершенном уединении, мужественно обитая в этом замке, не страшась набегов шотландцев. Конечно, замок был хорошо укреплен, имел многочисленный гарнизон и был заботливо охраняем Гильомом Монтегю, который, узнав, что два английских рыцаря просят позволения провести ночь в замке Варк, все еще занятый известием о взятии Эдинбурга, решился сам их принять и расспросить; поэтому, выйдя к потаенной двери, спросил имена прибывших и что им нужно. Вместо всякого ответа, Иоанн Нефвиль поднял забрало своего шлема и Гильом Монтегю узнал в нем губернатора Нортумберланда. Что же касается другого, прибывшего с ним рыцаря, то он назвал его посланным от короля Эдуарда, которому поручено было вместе с ним осмотреть всю область, чтобы убедиться, что все было в порядке в случае нападения шотландцев. Гильом Монтегю принял их с уважением, приличным их званию, назначив для приема их лучшие комнаты, а так как они объявили желание изъявить свое почтение графине, то он и пошел сказать ей об этом.
Лишь только он вышел, Эдуард снял свой шлем; впрочем, принятая им предосторожность не поднимать забрала, возможно, была и излишняя, — более двух лет, как он не был в этой стороне Англии, в продолжении которых борода и усы его так выросли, и волосы на голове сделались так длинны, что эта новая прическа, принятая всеми рыцарями того времени, так изменила лицо, что те, которые хорошо его знали, могли только узнать его, или те, кому по ненависти или любви нужно было узнать его. Впрочем, он безо всякого намерения прибыл, по одному желанию только увидеть прекрасную Алиссу, и это желание, война и отсутствие могли только ослабить, но не изгнать из его сердца, и оно возобновилось с новой силой в то время, когда он был так близко от того замка, в котором она жила. А чтобы скрыть волнение больше, чем лицо свое, сел в углу залы, куда едва проникал свет; так что, в то время, когда Гильом Монтегю вошел, то король случайно или с намерением сидел в такой темноте, что его невозможно было никак узнать, если бы даже и наружность его не изменилась. Что же касается до Иоанна Нефвиля, который не имел никакой причины скрываться, и не подозревая того, что происходило в душе короля, облокотясь на камин, пил мед из большой стопы, которую стоявшие позади него два служителя только что принесли и поставили перед ним на стол.
— Итак! — сказал он вошедшему Гильому Монтегю, прерывая речь свою глотками меда; — какие вести принесли вы нам, добрый кастелян? Угодно ли графине Салисбюри сделать нам эту милость, на которую, впрочем, никто более нас права не имеет, ежели для этого достаточно быть обожателями красоты?
— Графиня благодарит вас, мессир, за внимание, — отвечал сухо молодой человек, — но она удалилась в свою комнату, прочитав роковые письма, полученные сего дня, и так огорчена, что надеется по этой причине, что вам угодно будет, извинив ее, позволить мне занять ее место.
— Можно ли, по крайней мере, — спросил Эдуард, — ежели не утешить ее, то хотя для того только, чтобы разделить ее горе, узнать причину, которая ее так огорчила, и что за ужасные известия получены ею сего дня?
Гильом вздрогнул, услышав этот голос, и невольно сделал шаг вперед к Эдуарду; потом вдруг остановился, устремив на него взор, как будто глаза его могли рассмотреть в этой темноте черты лица; но не отвечал ни слова. Король повторил снова вопрос. — В этих письмах, — сказал наконец прерывающимся голосом Гильом, — известили ее, что граф Салисбюри попал в плен к французам; и она не знает, жив ли он или убит?
— Где и каким образом попал он в плен? — вскричал Эдуард, встав с места, и придавая голосом вопросу своему вид приказания, отвечать немедленно.
— Под Лилем, Ваша Светлость, — отвечал Гильом, говоря с ним так, как говорили в то время графам, герцогам и королям; — в то время как он с графом Суфольком отправлялись по своей обязанности на помощь Иакову Дартевелю, ожидавшему их близ Турнаи, почти под самым Ион де Фером.
— Плен его не имел ли еще каких последствий? — спросил с беспокойством Эдуард.
— Одно, Ваша Светлость, — отвечал хладнокровно Гильом, — что король Эдуард лишился самого храброго и верного из всех своих рыцарей.
— Да, да, вы, правы, молодой кастелян, это справедливо, — отвечал Эдуард, садясь; — король будет глубоко поражен этим известием; но в письме сказано, что граф в плену, но не убит, а это не все равно. И есть надежда, что король Эдуард, не пощадит ничего, и пожертвует всем, чтобы выкупить такого благородного рыцаря.
— Графиня завтра отправляет к нему посланного, Ваша Светлость, надеясь на то великодушие и милость, за которые вы сами ручаетесь.
— Это будет бесполезно, — сказал Эдуард, — потому что я берусь исполнить ее поручение.
— Но позвольте мне узнать, кто же вы, Ваша Светлость, — отвечал Гильом, — чтобы я мог передать тетке моей имя того, кому она будет так много обязана?
— Это не нужно, — сказал Эдуард, — но вот господин Иоанн Нефвиль, заслуживающий полное доверие как губернатор провинции, поручится вам за меня.
— Ежели это так угодно Вашей Светлости, — отвечал Гильом, — то я пойду за приказаниями графини, которая теперь молится в своей домовой церкви.
— Нельзя ли вам в ожидании ее ответа, прислать к нам посланного, который привез эти письма? Потому что мы с графом Нефвилем желаем знать, что происходит во Франции, а так как этот вестник недавно оттуда, следовательно, может удовлетворить наше любопытство.
Гильом поклонился в знак согласия и вышел; минут десять спустя посланный вошел, и это был оруженосец графа; он точно прибыл в тот же день прямо из Фландрии, и участвовал в сшибке, в которой Салисбюри и Суфольк попали в плен.
Отъезд Эдуарда в Англию и возвращение Филиппа Валуа в Париж не прекратили военных действий; графы Суфольк и Салисбюри; Нортамптон и мессир Готье-Мони остались, как мы уже сказали, для поддержания войны в городах Фландрии; тогда как сир Годемар Дюфай в Турнези, сир Боже в Мортань, предводитель Каркасон в городе Сент-Аман, мессир Емери Пуатье в Дуэ, мессир Галуа де Бом, сир Девилье, маршал Миренуа и сир Морель в окрестностях Камбрея, делали ежедневные новые вылазки, надеясь встретить какой-нибудь отряд английских войск, чтобы сразиться. Однажды вслед за отъездом короля Франции, который никак не мог простить своему племяннику помощь, оказанную им его неприятелю, разные гарнизоны Камбрези собрались вместе и, соединившись, вооружились в числе шестисот человек; с наступлением ночи отправились в путь и, слившись с другими отрядами Като-Камбрези и Момезона, пошли прямо к городу Асир, который был хотя многолюден и окружен рвами, но ворота его не были заперты. Впрочем, так как война не была объявлена между Гейнау и Францией, и, напротив, всем было известно, что граф Гильом вошел в прежнюю милость своего дяди, то жители и не подозревали никаких неприятельских действий, так что французы, занявшие город, нашли всех жителей спящих в своих домах, и поэтому завладели золотом, серебром, драгоценными тканями и каменьями; в заключении же всего подожгли город и превратили его в пепел, так что ни одно строение не уцелело, и, кроме одних каменных обгоревших стен, его окружающих, ничего не осталось; потом, уложив на воза и навьючив на лошадей всю награбленную ими добычу, возвратились в Камбрей.
Это происшествие случилось часов в десять вечера; один посланный в то самое время, как французы входили в город, выезжал из него, посему пустясь во весь опор, он прибыл около полуночи с этим известием к графу Гильому, который спокойно спал во дворце своем в Сале, никак не воображая, чтобы неприятель грабил и жег один из его городов; узнав об этом, он вскочил с постели, поспешил вооружиться, разбудил своих людей, выбежал на площадь и велел звонить во все колокола на подзорной башне. По этой тревоге все собрались, и граф Гейнаузский в сопровождении самых проворных, приказав остальным следовать за ним, выехал из города и пустился быстро в погоню за неприятелем, желая непременно, во что бы то ни стало, его догнать.
Въехав на гору, с вершины которой видна была вся окрестность, он увидел по направлению к Мани большое зарево, которое ясно доказывало ему, что город объят пламенем; с новым рвением он пустился вперед, и был уже почти на половине пути, как вдруг другой посланный явился с известием, что французы, оставив город с добычей и пленниками, отправились обратно, и было бесполезно спешить в город.
Это известие он получил подле аббатства Фонтенель, где была его мать, поэтому вместо того, чтобы возвратиться в Валенсьень, он, раздраженный, поехал просить пристанища у настоятельницы, говоря, что заставит Францию дорого заплатить ему за это внезапное нападение и истребление города Гапр, на которое они не имели никакого права. Добрая старушка старалась всеми силами успокоить своего сына и оправдать короля Филиппа, своего брата; но граф Гильом, не внимая ее убеждениям, клялся отомстить своему дяде, говоря, что он только тогда будет покоен, когда заставит его потерять вдвое против того, что он у него отнял.
Поэтому по возвращении своем в Валенсьень, в ту же минуту разослал гонцов ко всем рыцарям и прелатам своего владения, с приказанием соединиться всем в назначенный им день в Мон-Гейнау.
Это известие получено было скоро мессиром Иоанном Гейнаузским в его местопребывании в Бомоне, и так как он был предан королю Англии, то, сев на коня, пустился в путь с предложением помощи своему племяннику, и на другой день, прибыв в Валенсьень, явился к графу во дворец его в Сале; граф, узнав о его приезде, вышел к нему навстречу и, едва увидев его, не успев даже поздороваться с ним, сказал: «Война ваша, дядюшка, с французами опять возгорается».
— Слава Богу, любезный племянник, — отвечал сир Бомон, — я очень рад, и мне приятно слышать эту новость, хотя, впрочем, ты и говоришь это по причине убытка, понесенного тобой; но ты был так предан королю Филиппу и служил ему так верно, что тебе необходимо было узнать, как он награждает за преданность и услуги. Теперь скажи, с которой стороны ты думаешь вступить во Францию; и отправимся. Впрочем, откуда бы ты ни вздумал идти, я везде за тобой последую.
— Прекрасно, — отвечал граф, — не переменяйте намерения вашего; потому что поспешность необходима, и я думаю, что все скоро сделается.
Действительно, на другой день после того, как все собрались на назначенном им месте, Тибо Жиньо и аббату Креспи поручено было вызвать Филиппа Валуа от имени графа и всех владетелей, баронов и рыцарей области, и пока они исполняли это поручение, граф запасся войском, сообщил и всем находящимся в Брабанде и Фландрии; так что, к возвращению его посланного у него было десять тысяч вооруженных воинов. И лишь только они собрались, граф, предводительствуя ими, пошел к Обантону, городу многолюдному, производящему большую торговлю сукнами и полотном.
Но как поспешно ни действовали они, однако не могли взять его врасплох, потому что жители подозревали вооружение графа Гильома и дяди его, мессира Бомона, поэтому, уведомив об этом начальников в Вермандуа, просили у них помощи, которые и выслали к ним г-на Вервеня, начальника епископских войск, и мессира Иоанна Бова, с тремястами вооруженных воинов; они нашли, что город был дурно защищен; но так как у них было еще несколько дней свободного времени, то они и употребили его на укрепление города, велели рыть рвы, подкреплять стены, устраивать завалы за рвами, и, наконец, окончив эти приготовления, ожидали нападения. В следующую после сего пятницу неприятельское войско показалось из леса. Тиераш, потом, отойдя от него на расстоянии мили, остановилось на возвышении одного пригорка, для того, чтобы увидеть, с какой стороны город был слабее защищен. Сделав этот осмотр, они расположились на этом месте лагерем, потом на рассвете следующего дня разделились на три отряда; первый под начальством графа Гильома, второй — мессира Иоанна Бомона, третий — сира Фокемона, и пошли прямо к городу. Осажденные, со своей стороны, расставили по стенам множество стрелков, а других поместили в засадах; и пользуясь последней минутой, которая оставалась до сближения обеих армий начальник войск Шалонского епископа сделал рыцарями трех своих сыновей, прекрасных и храбрых молодых людей, хорошо образованных и искусных в военном деле Приступ начался с остервенением, и это показало жителям, что последствием этого сражения будет месть и истребление, поэтому в случае поражения им нельзя ожидать пощады; но вместо того, чтобы оробеть от ожидающей их участи, они с новым мужеством бросились к обороне. Однако, несмотря на тучи стрел, которые летели на него, граф Гейнаузский достиг первый завалов и встретился с начальником войск Вандомского епископа и тремя его сыновьями; почти в это же самое время, на мосту, мессир Иоанн Бомон напал на Вервеня — своего личного врага, который сжег и разграбил его город Шимай; с обеих сторон удары были ужасны. Осажденные бросали на осаждающих камни, брусья и известь, а осаждающие, со своей стороны, уничтожали палисады, рубя их топорами, и поражали длинными своими копьями всех, кто отважился защищать их. Наконец, один палисад был разрушен и начался рукопашный бой. В эту минуту три молодых человека, которых только что отец сделал рыцарями, желая заслужить полученное ими звание, пока начальник войск Шалонского епископа сражался против сира Фокемона, бросились на графа Гильома, но он как искусный и ловкий рыцарь первым ударом меча своего пробил щит и латы старшего из трех братьев, и удар его был так силен, что железо из груди вышло насквозь между плеч; два других, несмотря на то, что брат упал, не заботясь, считая его мертвым, подавать ему бесполезную помощь, напали на графа, который, казалось, имел в эту минуту исполинскую силу, потому что с ужасным жаром возвращал получаемые им удары; но так как они сильно теснили его, один с копьем, а другой с мечом, и потому, что он никак не мог достать того, который сражался копьем, почел себя в большой опасности, но вдруг один из братьев заметил, что сир Фокемон сильно наступал на его отца, полагая, что брат один в состоянии будет защититься, и увлекаясь чувством привязанности, которая была сильнее к отцу, нежели к брату, бросился к нему на помощь в ту минуту, когда сир Фокемон, вооружась дубиною, и повалив его, старался убить, потому что мечом никак не мог пробить его лат и брони. Заметив внезапное нападение с тылу, сир Фокемон принужден был, оставив старика, защищаться от молодого человека, за это время горожане увлекли в город начальника войск епископа Шалонского, который был без чувств; но лишь только подняли забрало его шлема, то он пришел в себя и поспешил в свою очередь на помощь сыну, точно так же, как и тот прежде бросился выручать его.
Граф же Гейнаузский сражался с другим молодым человеком, который нападал на него с копьем; Гильом понял, что трудно ему будет победить своего противника до тех пор, пока это оружие останется у того в руках; поэтому вдруг ударил тупой стороной меча по древку копья и так сильно, что оно переломилось, и конец, оправленный в железо, упав, воткнулся в землю; молодой человек, отбросив оставшееся у него в руках древко как вещь совершенно для него бесполезную, нагнулся взять секиру, приготовленную им позади себя на случай, ежели бы копье его сломалось. В это мгновение Гильом, взяв обеими руками меч и подняв высоко, вдруг со всего размаха ударил им с такой силой по затылку своего противника в том месте, где шлем был тоньше, что рассек его, как будто кожаный, и лезвие меча проникло до мозга, так что молодой человек упал мертвым, не успев поручить душу свою милосердию Божию.
Когда два молодых рыцаря пали, то отец, взяв третьего за руку, отвел назад и хотел возвратиться в город, но осаждающие, сделав сильный натиск, вошли вместе с ним.
Со своей стороны, сир Бомон творил чудеса; при виде неприятеля своего сира Вервеня, храбрость его еще более увеличилась, хотя и прежде этого она была велика; так что в продолжении одного часа битвы он разорил и уничтожил все палисады, которые с этой стороны только и защищали город. Сир Вервень, заметив злобу, выразившуюся на лице его при встрече с ним, понял, что невозможно ожидать пощады или выкупа в таком случае, когда он будет взят в плен; посему, приказав подвести себе лучшего коня, и прежде, нежели противники его сели на лошадей, находившихся в готовности, на расстоянии десяти минут ходьбы от дороги, вскочил на него и поскакал в противоположные ворота, которые назывались Вервенскими; но лошади мессира Иоанна Бомона и его свиты были приведены с такою поспешностью, что в ту минуту, как он выезжал, как мы уже сказали, в эту сторону, неприятель, сев на лошадей, мчался во весь опор с распущенными знаменами через город, и не останавливаясь, не преследуя бегущих, не смотря даже на них, стремился только за ним одним, и достиг до Вервенских ворот в то мгновение, как преследуемый ими исчез на повороте дороги в облаках пыли. Тогда, рассудив, что племянник его был довольно силен и без него, мессир Иоанн Гейнаузский пустился за ним в погоню, называл Вервеня подлым трусом, и кричал ему, чтобы он остановился; но этот последний, не переставая понуждать коня, успел, наконец, добраться до ворот своего города, которые, по счастью, были отворены и в то же мгновение затворились, как только он въехал в них. Мессир Иоанн, увидев, что ему ничего не оставалось более делать, возвратился обратно, взбешенный тем, что враг его успел от него скрыться, вымещая эту неудачу на бегущих по той же дороге его воинах, которых прежде увлеченных погоней, он обогнал, не причинив им не только никакого вреда, но даже и не заметив их.
В продолжение этого времени граф Гильом занял город, преследуя своих неприятелей, собравшихся на главной площади, где он опять напал на них и разбил, и как никто из них не мог спастись, то все и были ими взяты в плен или убиты; после чего он велел собрать множество лошадей и телег, и погрузить на них все, что только мог найти драгоценного, и поступил точно так же с этим несчастным городом, как поступили неприятели с его собственным, велел поджечь его со всех четырех сторон, чтобы истребить все, чего он не мог увезти с собой, и когда город превратился весь в пепел, он отступил к реке, и на другой день отправился с дядей своим, торжествуя тем, что так ужасно отомстил врагам, к Мобер-Фонтен.
Как скоро Филипп Валуа узнал об истреблении Обантона, то немедленно сделал распоряжение, чтобы герцог Нормандии, сын его, отправился в Гейнау, с самым многочисленным войском, какое только он в состоянии будет собрать, предавая огню и мечу все города и жителей своего двоюродного брата, и вместе с тем послал новые наставления Гугу Кирету, Богюше и Барбеверу охранять под опасением смерти берега Фландрии, и никак не допускать королю Эдуарду сделать на них высадку.
Поэтому и все другие, находящиеся в Дуэ, Лиле и Турнае, узнав эти обстоятельства, вооружив тысячу воинов и триста стрелков, отправились во Фландрию, и на рассвете другого дня прибыли под Куртрай, но так как город был хорошо укреплен и охраняем многочисленным гарнизоном, то они и не могли его взять, а ограничились только тем, что успели разграбить и сжечь его предместья, и увезти на другой берег Ли награбленную ими добычу.
И так как это касалось уже собственно добрых людей Фландрии, то Иакову Дартевелю принесены были от них жалобы в городе Ганде, бургомистром которого он был. Это известие его поразило, и он поклялся отомстить жителям Турнезии за такое коварное злодеяние; почему и сообщил об этом происшествии всем городам Фландрии, графам Салисбюри и Суфольку, которые, как нам известно, были преданы королю Эдуарду, и просил соединиться с ним, назначив день, между городами Одернард и Турнаи, в одном месте, называемом Пон-де-Фер.
Оба английские графа отвечали ему, что они непременно будут на назначенном месте в определенное им время.
Поэтому для исполнения своего обещания и отправились в путь с мессиром Вафларом де ла Круа, который служил им проводником, зная хорошо местность, потому что много раз воевал в этой стране; но случилось так, что выступавшие из Лиля узнали об избранном ими пути и о малочисленности их отряда, состоявшего только из пятидесяти копьеносцев и сорока стрелков; и, взяв с собой полторы тысячи воинов, устроили три засады, так что с какой стороны ни показались бы графы Салисбюри и Суфольк, в любом случае погибель их была бы неизбежна. Впрочем, все это не привело бы ни к чему; потому что мессир Вафлар повел их противною дорогой и довел бы их другим путем, если бы случайно не сделан был один из окопов именно на том месте, где им пришлось пробираться. При виде этого, недавно глубоко вырытого рва, мессир Вафлар советовал рыцарям возвратиться и не думать больше об исполнении данного обещания, потому что всякая другая дорога, кроме той, которую он избрал, подвергнет их неизбежной гибели; но рыцари не хотели ничего слушать, смеясь над опасением своего проводника и велели ему по другой дороге вести их вперед, потому что не хотели никак изменить Иакову Дартевелю в данном ими обещании. Мессир Вафлар согласился; но, желая сделать последнее усилие, чтобы отвратить их от этого намерения, сказал им: «Честные рыцари, вы избрали меня проводником в этом походе, и я обещался довести вас, что и исполню и поведу по той дороге, какую вы мне сами назначили; потому что я считаю для себя честью быть вашим спутником; но предваряю вас, что ежели мы попадем на скрывшихся где-нибудь в засаде воинов Лиля, и как тогда всякое сопротивление будет бесполезно, то я оставлю вас и в бегстве буду искать собственного спасения, и уверяю вас, что употреблю к этому все усилия». При этих словах рыцари снова начали смеяться, отвечая ему, что лишь бы только он ехал вперед, и вел их, где он хочет, к Пон-де-Феру, а они дают ему полную свободу действовать так, как ему заблагорассудится в случае встречи с неприятелем. И они отправились далее, разговаривая и шутя, никак не предполагая, чтобы предсказание Вафлара могло сбыться, до тех пор, пока они спустились в глубокий ров, окруженный густыми деревьями и кустарниками, где вдруг увидели заблестевшие кругом их шлемы стрелков, которые, вскочив, закричали: «Смерть, смерть, англичанам!» — и вместе с этим тучи стрел и пращей полетели со всех сторон на малочисленный отряд. Вафлар в одно мгновение заметил, что опасения его были основательны, посему, поворотив лошадь, успел скоро выскочить и кричал рыцарям, чтобы они последовали его примеру, а сам во весь опор пустился назад так, как предполагал прежде, но рыцари, напротив, начали защищаться, и когда Вафлар в своем бегстве оглянулся на них, то увидел, что они, спешившись, храбро дрались; только это и мог он заметить, потому что скоро потерял их из вида, и из всех тех, кого он провожал, никто не возвратился назад, и только один он мог известить о случившемся несчастии с графом его оруженосца, которого и послал с этим злополучным известием в Англию к графине.
Эдуард и Нефвиль слушали с большим вниманием рассказ его обо всем случившемся во Фландрии, потому что во все время своего пребывания в Шотландии они ничего не знали, что делалось за морем. Король щедро наградил вестника за поспешность, с которой он исполнил это поручение, и отпустил его, ожидая возвращения Гильома Монтегю.
Однако ночь наступила, а Гильом не возвращался; наконец пробило полночь, и Иоанн Нефвиль и Эдуард удалились в приготовленные для них комнаты; но Эдуард вместо того, чтобы раздеться и лечь в постель, снял только панцирь и в сильном волнении начал ходить скорыми шагами по комнате; мрачные мысли волновали его душу, и он думал, что граф, пленный или мертвый, во всяком случае оставлял беззащитную жену в его власти. Скрестив руки, с преступным желанием в душе и озабоченным лицом, ходил он, временами останавливаясь у окна и устремив взор на противоположную оконечность здания, в котором через небольшое с острым сводом окно и разноцветные его стекла виден был свет лампады домовой церкви; он знал, что там Алисса, отказавшая принять его, догадываясь, может статься, что это был он, молилась от всей непорочной и любящей души своей Всевышнему, за мужа пленного или умершего. Тогда Эдуард, прислонясь к стене и не сводя глаз с освещенного окна, мысленно видел прекрасное, вечно улыбающееся лицо, омраченное горестью и слезами; ему казалось, что он даже слышит ее рыдания, и в эту минуту она казалась ему еще прелестнее; потому что ревность усиливает любовь, и он почел бы непостижимым блаженством отереть устами своими те слезы, которые проливались о другом. Он решился непременно увидеть графиню, хотя на одну минуту; чтобы только сказать ей несколько слов, и после стольких военных трудов, утешить себя очаровательными звуками ее голоса; свет все еще был виден в окне домовой церкви и блистал на разноцветных святых одеждах рубинами и сапфирами. И он воображал, что этот же свет освещал прелестную женщину, которую он любил в продолжение целых трех лет, не говоря ей никогда о том, что происходило в его сердце, и это было без намерения, без особенной на это воли, а так, как будто какая-то непреодолимая сила его удерживала; он отворил дверь и пошел по темному коридору и на повороте его увидел впереди себя вдали луч света, который проникал в непретворенную дверь и освещал длинною чертою угол стены и пол коридора, выстланного плитами. Он пошел прямо на него, затаив дыхание, и стараясь идти так тихо, чтобы шаги его не были слышны, до самого входа в церковь; дойдя до двери, он заметил, устремив взор до самого алтаря, графиню на коленях с опущенными руками, склонившую голову на аналой, в то время как молодой человек, стоявший прежде у колонны в таком неподвижном положении, что его можно было принять за статую или привидение, начал подходить к Эдуарду, но так тихо, что шаги его не были слышны на украшенных гербами плитах, которыми вымощен был пол церкви; король узнал в нем Гильома Монтегю.
— Я пришел за ответом, мессир, — сказал он, — потому что не мог дождаться вашего возвращения, не понимая причины такой медленности.
— Посмотрите, ваша светлость, — сказал Гильом, — истомясь слезами и молитвою, этот ангел уснул.
— Да, — продолжал Эдуард, — и вы ожидали ее пробуждения?
— Я охранял ее сон, ваша светлость, — сказал Гильом, — это мой долг по поручению графа, который для меня теперь еще священнее, потому что, может быть, в эту самую минуту он с высоты небес смотрит, как я его исполняю.
— И вы намерены провести здесь ночь? — спросил Эдуард.
— Останусь, по крайней мере, до тех пор, пока она проснется; и что прикажете тогда сказать ей от вас?
— Скажите, — отвечал Эдуард, — что молитва ее, которую она воссылала к небу, услышана на земле, и что король Эдуард клянется ей своей честью, что если только граф Салисбюри жив, то он будет выкуплен, в случае же, если убит, то будет отомщен.
После этих слов, король удалился медленными шагами и вошел в свою комнату с любовью еще большей, нежели раньше укоренившейся в его сердце, и бросился, не раздеваясь, на постель; лишь только начало рассветать, он, разбудив мессира Иоанна Нефвиля, оставил замок графини Салисбюри, не говоря с нею, ожидая всего от обстоятельств, надеясь на будущее.
Глава XIV
Когда Эдуард возвратился в Лондон; то нашел, что приказания его исполнены и флот готов; а так как теперь он имел двойную причину возвратиться во Фландрию, потому что, кроме продолжения исполнения своего предприятия, ему нужно было поспешить на помощь зятю, вступившему за него в неравное состязание графа с королем; потом ему надо было препроводить целый двор дам и камергерш королеве, находившейся все еще в добром городе Ганде, под защитой Иакова Дартевеля, и кроме этих придворных, увеличить войска, прибавив к прежним еще стрелков и вооруженных людей, чтобы продолжать войну в случае, если бы даже владетели Империи и отошли от него; чего он начинал уже опасаться по полученным известиям от Людовика V Баварского, который предлагал ему быть посредником между ним и королем Франции для заключения перемирия.
22 июня он сел на корабль и пустился в сопровождении прекрасного, никогда еще не виданного флота по реке Темзе и, спустившись по ней, вышел в открытое море с таким величием, что можно бы было сказать, что он покорит весь свет. Два дня продолжая путь, вечером последнего увидел вдоль берегов Фландрии, между Бланкенбергом и Эклюзом, такое множество корабельных мачт, что их легко можно было принять за лес, выросший на море. В ту минуту он позвал к себе кормчего, который тоже смотрел с удивлением на это неожиданное зрелище; и спросил его, что это значит? Тогда кормчий отвечал ему, что это должна быть армия нормандцев и французов, по повелению короля Филиппа, охраняющая море, чтобы ожидать вашего возвращения, воспрепятствовать вам пристать к берегам Фландрии.
— Следовательно, это те самые люди, — сказал Эдуард, выслушав с вниманием сказанное кормчим, — которые взяли два самых больших моих корабля, Эдуарда и Христофа, разграбили и сожгли добрый мой город Сутамптон.
— Вероятно, они, — отвечал кормчий.
— В таком случае, — сказал Эдуард, — остановимся здесь, потому что я давно желал встретиться и сразиться с ними; а так как теперь они у нас на виду, то я не упущу этого случая, и если будет угодно Богу и святому Георгию, то мы в один день заставим их поплатиться за все грабежи в продолжение целых трех лет. Велите бросить якорь и наблюдать всю ночь, чтобы не потерять их из вида.
Однако, прежде чем кормчий мог исполнить полученные им приказания, король сделал все распоряжения к сражению так, чтобы на другой день, поднимая якорь, весь флот был бы уже расположен в назначенном им порядке, чтобы, снявшись с якоря, осталось только идти вперед и сражаться. С помощью темноты, которая препятствовала противникам видеть его движения, он велел самые сильные корабли поставить в первую линию, а между каждыми двумя кораблями, на которых были рыцари и вооруженные люди, поместить по одному со стрелками; потом еще по обоим крыльям составить линию из людей с дротиками, которых можно бы было назначить туда, где бы необходимость того потребовала. На самых же лучших из всех кораблей и известных быстротой своего хода перевести всех графинь, баронесс, камергерш и дворян Лондона, которые назначены были к королеве, в Ганд, дав им для защиты триста человек вооруженных воинов и пятьсот стрелков; после чего, переезжая с корабля на корабль, он убеждал всех поддержать честь корабля в предполагаемом сражении, и когда все обещали ему свято исполнить свою обязанность, то он возвратился на королевский корабль, чтобы, немного отдохнув, сделаться свежее и сильнее и самому участвовать в сражении.
На рассвете король проснулся и вышел на палубу; все было в том же порядке, как и накануне, и не только французы и нормандцы не располагали бежать, но, напротив, они со своей стороны сделали все приготовления к сражению. Эдуард с первого взгляда заметил, что они сделаны худо; потому что за исключением только некоторых кораблей, которые, как казалось, отделились от флота, все остальные теснились у берега; чем затруднялись все их движения и в случае неудачи, им невозможно было бы действовать. Он сосчитал все главные суда и насчитал их сто сорок, кроме барок, и на этих ста сорока судах находилось сорок тысяч генуэзцев, пикардцев и нормандцев.
По сделанным этим замечаниям король и начальник его флота увидели, что если они пойдут всей линией расположенных на ней кораблей вперед, то есть с запада на восток, то солнечные лучи будут им прямо в глаза и это помешает стрелкам прицеливаться, — английская армия лишится того преимущества, которое имела всегда по искусству своих стрелков над всеми другими войсками; поэтому король приказал идти на веслах против ветра, до тех пор, пока английский флот будет полумилею выше французского, — потом, повернув по ветру, идти прямо на него так, чтобы солнце светило им в спину. Движение это было исполнено немедленно; и флот, несмотря на опущенные паруса, быстро подвигался вперед с помощью своих длинных весел; заметив это, французы и нормандцы подняли ужасный шум, испуская дикие крики, воображая, что, несмотря на присутствие самого короля по поднятому на одном корабле королевскому флагу, флот принял это направление от них; но скоро заметили свою ошибку и начали поворачивать медленно корабли свои от берега, в эту минуту, подняв паруса с помощью попутного ветра, весь английский флот, исполнив в точности назначенный маневр, стал быстро огибать бухту, в которой теснились французские корабли, сохраняя порядок, накануне назначенный королем и начальником его флота.
Тогда французские адмиралы, убедившись вполне, что неприятель не бежит от них, поспешили сделать последние распоряжения к сражению и поместили впереди всего своего флота в виде укрепления большой, взятый ими прежде у англичан, корабль, называвшийся Христофом, на котором находилось для его защиты множество генуэзских стрелков, потом раздались звуки труб и рогов на всем протяжении линии, извещавшие, что они готовы с большой радостью вступить в бой.
Сражение началось перестрелкой между английскими стрелками и теми, которые находились на большом корабле Христофе; король Эдуард, заметив, что французы поместили на него почти всех стрелков своих, решился прежде всего овладеть им и велел на том самом корабле, где находился он сам, изготовить длинные железные крючья, укрепленные цепями к борту, и пошел прямо на неприятельских стрелков, приказав флоту завязать сражение по всей линии и идти корабль на корабль. Он был окружен всем лучшим своим рыцарством, — графом Дерби, графом Гертфором, графом Гунтингтоном, графом Глочестером, мессиром Робертом д’Артуа, мессиром Ренолем Кебамом, мессиром Ришаром Стафором и мессиром Готье-Мони, которые все были в полном вооружении, и стрелы генуэзских стрелков, не причиняя им вреда, притуплялись об их железные латы, поэтому они величественно подавались вперед, не уклоняясь от линии, и не шевелясь, с распущенными в руках мечами; потом, достигнув известного расстояния, бросили на неприятельский корабль крючья и железные латы, от чего оба судна со страшным треском сошлись вместе. В эту самую минуту помост опустился с одного борта на другой, и рыцари бросились по нему на неприятельский корабль. Тут начался ужасный рукопашный бой, потому что не было места к отступлению; и хотя генуэзские стрелки были не так хорошо вооружены, но зато их было вчетверо больше, нежели англичан; впрочем, когда они увидели, что стрелять стало невозможно, то все, кроме только тех, которые, поместившись на паруса средней большой мачты, осыпали осаждающих градом стрел, и начали храбро защищаться, потому что Генуя была в то время могущественным городом, и владела морем, с которым по своей торговле сдружилась в начале тринадцатого века.
Однако как ни были храбры ее воины и искусны матросы, но принуждены были уступить; потому что нападающие на них были самые знаменитые рыцари целого света, и так искусно скрепили оба судна, что сражались на них как будто на сухом пути. Отступая шаг за шагом с передней части корабля к корме, теснимые этой железной стеною, которую составляли собой рыцари, потому что их невозможно было ни победить, ни даже разделить, бедные стрелки столпились на задней части корабля, стесненные в своих движениях, уменьшившиеся числом, в одних толь ко легких своих кольчугах и кожаных кафтанах, выдерживали удары длинных мечей, клинки которых были за калены, чтобы удобнее рассекать сталь и железо, поэтому им и приходилось сдаваться, умереть или броситься в море; многие из них исполнили последнее, ибо по легкой своей одежде, они могли еще плавать, тогда как для рыцарей это было совершенно невозможно, а если бы кто-то из них упал в воду, то, наверное, пошел бы ко дну под тяжестью своего вооружения. И они под летящими с других кораблей стрелами, плыли к своим судам, которые заметив их, готовы были принять. Некоторые из них добрались благополучно, но большая часть потонула или погибла от английских стрелков, — тем удобно было целиться в людей, которые должны были плыть под самыми их кораблями или неминуемо утонуть в открытом море.
Лишь только корабль был взят, как Эдуард посадил на него своих стрелков, и, оставив свой корабль, перешел на него и сам, потому что он был лучше защищен; велел водрузить свой флаг и пошел прямо на генуэзцев.
В это время сражение происходило на всей линии с обеих сторон с большим мужеством; все корабли фран цузские и нормандские сцепились крючьями с английскими кораблями и на всех происходил кровавый бой, к невыгоде французов, потому что весь их флот состоял из матросов, привыкших драться на коротких саблях, кинжалах и рогатинах, тогда как на флоте английском посажены были сухопутные войска, вооруженные луками, которыми они могли наносить издали урон неприятелю, и рыцари, имеющие большое преимущество по их вооружению и длинным мечам. Один только Барбевер предвидел эту для себя невыгоду, и вместо того, чтобы столпиться вместе с другими, он держался в открытом море; и когда заметил, что пикардцы и нормандцы проиграли сражение, то вместо того, чтобы идти к ним на помощь, пошел далее в море. В это время берега покрылись жителями Фландрии, которые, услышав о сражении, прибежали к морю и, бросившись на свои барки, спешили помогать своим союзникам-англичанам, так что нормандцы и пикардцы, стесняемые со стороны моря, не могли отступить сухим путем, потому что фламандцы этому препятствовали; но так как они были храбрые и честные воины, то и сражались отчаянно, не помышляя о сдаче: и сражение, начавшееся с раннего утра, продолжалось до обеда, то есть с шести часов и до полудня. К этому времени все погибло для союзного флота и сражением под Эклюзом начался для англичан тот ряд морских побед, который заключился сражением под Трафальгаром и Абукиром.
Из сорока тысяч человек нормандцев, пикардцев и генуэзцев, никто не спасся, кроме только тех, которые, как мы сказали выше, ушли в море. Все остальные были взяты в плен, убиты или утоплены. Гуг Кирет умерщвлен хладнокровно после сражения; Богюше, как говорят старинные летописи, любивший больше приобретать, нежели воевать, был повешен как морской разбойник, на большой мачте своего корабля.
Король Эдуард, участвовавший в этом сражении наравне с каждым из своих рыцарей, был ранен стрелою в ногу; но несмотря на это, провел вечер и всю ночь на корабле, при ужасном звуке труб, литавр и всех других, бывших в употреблении инструментов, за которым, по словам Фруассара, не слышно было бы и грома Господня. На этот шум сбежались все жители окружных деревень и городов; и на другой день, то есть 26-го, король со своей свитой и войсками вошел на берег, истребив французский флот, так что как будто рука Всевышнего погребла его со всеми людьми и судами силою ужасной бури на морском дне. Спешившись, он сам и все его рыцари пешком отправились на поклонение пресвятой Деве Арденбургской, где король, отслушав обедню, и отобедал; потом, сев на коня, приехал прямо в Ганд, где королева, ожидавшая его возвращения, встретила его с большой радостью.
Первой заботой Эдуарда было, по приезде его в Ганд, исполнить данное им Алиссе обещание, — узнать, что сделалось с графами Салисбюри и Суфольком. И он узнал, что после отчаянного сопротивления они оба были взяты в плен и заключены сперва в тюрьме Лиля, потом отправлены во Францию к королю Филиппу, который чрезвычайно обрадовался, что два таких храбрых рыцаря попали к нему в плен, и поклялся, что не примет за них выкупа золотом, но только даст им свободу обменом за какого-нибудь знатного дворянина, равного им достоинством и храбростью. Поэтому, заметил Эдуард, в настоящую минуту невозможно было ничего предпринять к их освобождению, тем более, что король Франции, раздраженный проигранным им сражением под Эклюзом, вероятно, не захочет сделать для своего двоюродного брата короля Англии никакого снисхождения. И он занялся единственно собранием парламента в Виллеворде, где должен был возобновиться союз между Фландрией, Брабандом и Геинау, и назначил для этого день 10 июля, то есть через несколько дней после его приезда.
В назначенный день Эдуард, король Англии, герцог Иоанн Брабандский и граф Гильом соединились в Виллеворде и при них были герцог Гельдр, маркиз Жюлие, мессир Иоанн Бомон, маркиз Брандебургский, граф Мон, мессир Роберт д’Артуа и сир Фокемон. При Иакове Дартевеле находились четыре обывателя главных городов Фландрии, составлявшие его совет, — рассуждая с ними вместе о всяком важном постановлении и согласясь в мнении, они предоставляли ему право скрепить его своею подписью и объявлять всенародно. Здесь положено было, то три владения, то есть Фландрия, Гейнау и Брабанд, с этого дня будут взаимно помогать друг другу во всяком случае, и во всяком деле; так что ежели бы одно из этих государств имело дело с кем-нибудь, то два других должны непременно ему содействовать; и ежели бы между двумя из них произошел раздор, то прочие должны непременно их примирить, а в случае, когда не в состоянии было успеть в этом, то должны были призвать на помощь короля Англии, который как порука в их взаимном обещании берет на себя укрощать их ссоры. Во всем этом они поклялись Эдуарду; в воспоминание этого договора и в знак союза между этими тремя государствами, была отчеканена монета, долженствовавшая ходить одинаково в Брабанде, Фландрии и Гейнау, и которую назвали товарищами или союзниками.
Еще положено было, что около дня святой Магдалины, король Эдуард оставит Фландрию со всеми своими силами и отправится осаждать Турнай.
В это время король Филипп прибыл в Арран к сыну своему герцогу Иоанну и находился в армии, как простой рыцарь; узнав о всех решениях парламента в Виллеворде, он послал графа Рауля д’Е, вождя Франции, двух своих маршалов мессиров Роберта Бертрана и Матье де ла Три, предводителя Пуато, графа Шина, графа де Фуа с братьями, графа Амери Нарбона, графа Емара Пуатье, мессира Жофруа Шарньи, мессира Жирара Монтфокона, мессира Иоанна Ланда и владельца Шатильона, то есть всех знатных людей своего государства в тот город, которому угрожала опасность, поручив им защищать его для поддержания его и их собственной чести, чтобы не причинено было им малейшего вреда этому прекрасному городу, составившему собою преддверие Франции; потом, следуя принятому им намерению и полагая, что наконец настало время нанести решительный удар, отправил в Шотландию множество рыцарей с большими запасами оружия и денег; король же Давид с женой оставался при дворе Франции в ожидании, пока мало-помалу их приверженцы снова покорят им королевство, так как мы говорили уже об этом в предыдущей главе.
Во время всех приготовлений к войне, и тогда как от Британии до самой середины Германской Империи все помышляли только о военных действиях, только два существа, подобные ангелам мира, летающим над этими битвами, желали окончания всех войн, — один из них был Роберт, названный добрым, его все еще называли королем Сицилии, хотя он и не имел уже в своем владении этого острова, которого лишился дед его, Карл д’Анжу в день Сицилийских Вечерен; он писал к королю Филиппу, чтобы он не воевал с королем Эдуардом, потому что по наблюдению течения звезд ему было известно, что всякая встреча этих двух монархов будет гибельна Франции; другая была Иоанна Валуа, сестра Филиппа и мать молодого графа Гейнаузского, которая с грустью помышляла о войне между своим сыном и своим братом, то есть между дядею и племянником, и они между собою вели переписку. Король Неаполитанский в таком важном случае решился оставить свое королевство и отправился к Папе Клименту VI, в Авиньон; он был один из тех королей, которые в го время были очень редки, потому что по собственному образованию любили просвещение, понимая, что согласие есть истинное счастье для государств; и что нет царствования великого и блистательного, ежели оно не освещено лучами поэзии; и когда коронование Петрарки было назначено в Италии, то король Неаполитанский избран был экзаменовать его; и, может быть, этой педантической учености и покровительству, которое он оказывал ученым, больше, нежели благоденствию своего государства и чести своего оружия, обязан он славою великого короля всего христианства. То же самое было впоследствии и по той же самой причине с Франциском I и Людовиком XIV, которых чудный щит ученых защищает еще и теперь от ударов историков.
Впрочем, он нашел Папу и кардиналов готовыми вмешаться в эту гибельную для обоих государств войну; убедившись в добром расположении папского двора, он возвратился под чистое небо своего прекрасного королевства перечитывать Данте и короновать Петрарку.
Эдуард, не зная всего этого, чтобы исполнить данное обещание, во время жатвы отправился из города Ганда с целой армией, в которой находилось два прелата, семь графов, двадцать восемь знаменитых рыцарей, имевших право распускать знамя для собрания войск, четыре тысячи воинов, девять тысяч стрелков, не считая пехоты, которой было от пятнадцати до восемнадцати тысяч. Едва он расположился лагерем перед городом, против Сент-Мартенских ворот, как двоюродный брат его Иоанн Брабандский присоединился к нему с двадцатью тысячами войска и со всеми рыцарями и их оруженосцами, и расположил лагерь свой около Понт-а-Рень, подле аббатства Святого Николая; потом за ним вслед явился Гильом Гейнаузский с лучшим своим рыцарством и с множеством голландцев и зеландцев, и остановился между королем Англии и герцогом Брабандским; наконец, и Жакемар д’Артевель, более нежели с шестьюдесятью тысячами фламандцев, разбросившими свои шатры около ворот Сент-Фонтена, на обоих берегах Эко, перебросив через нее мост для удобного сообщения между всеми войсками, потом еще владетели Империи, — герцог Гельдр, маркиз Жюлие, маркиз Брандебургский, маркиз Мисньи и Востока, граф Мон, сир Фокемон, мессир Арнуль Блакенгейм и все немцы, ожидаемые в Гейнау, помогли совершенно обнести город железной стеной на протяжении более двух миль.
Осада продолжалась одиннадцать недель, в течение которых были жестокие приступы, в которых самые храбрые рыцари с обеих сторон имели случай ратоборствовать, хотя и без всякой пользы. По временам отделялись отряды, скучавшие около стен города в бездействии, и отправлялись по окрестностям, сжигали замки, грабили города и силою врывались в аббатства. В это время Папа Авиньонский послал через своего кардинала письма к королю Франции, в которых убеждал его согласиться на мир, тогда как Иоанна Валуа, сестра Филиппа и теща Эдуарда, переезжая из одного лагеря в другой, обнимала колена обоих государей, умоляя их заключить перемирие и посылая к ним беспрестанно, за отсутствием сына, который был так раздражен, что не внимал ничему, мессира Иоанна Бомона и маркиза Жюлие, и так успела убедить последнего, что тот написал Императору, который в другой раз послал гонца к Эдуарду, предлагая, как и прежде, себя в посредники между ним и королем Франции; эта война, по той причине, по которой она возгоралась, не в состоянии была решить участи ни одного из государств, но только могла их оба разорить, что можно было, наверное, заключить из двухлетнего опыта. Но мир был невозможен, особенно со стороны Эдуарда, произнесшего обет, который он решился исполнить, вследствие чего он и предполагал только перемирие; Иоанна Валуа так усердно об нем хлопотала и, убедившись, что нельзя исходатайствовать мира, согласила обоих королей назначить день, в который они должны прислать каждый со своей стороны по четыре поверенных, уполномочив их, обсудив все основательно, заключить условия, которые потом короли сами должны непременно утвердить. Местом этого собрания была избрана часовня, находящаяся посреди полей и называвшаяся Эсплешин. В назначенный день все уполномоченные, отслушав обедню, собрались в часовню, где их уже ожидала Иоанна Валуа. Со стороны Филиппа Валуа были: герцог Иоанн, король Богемский, Карл д’Алансон, брат короля, епископ Льежский, граф Фландрии и граф д’Арманьяк; а от Эдуарда Английского — герцог Иоанн Брабандский, епископ Линкольнский, герцог Гельдр, маркиз Жюлие и мессир Иоанн Бомон.
Совещания продолжались три дня, в продолжение первого дня ни в чем не могли согласиться, и уполномоченные хотели было без всякого успеха разойтись, но Иоанна Валуа сумела упросить их собраться еще раз; так что на другой день рассуждения начались снова, и к концу дня успели согласиться в некоторых пунктах, но так поздно, что не успели письменно утвердить того, в чем согласились; но обещали завтра опять собраться на том же месте, чтобы довершить остальное, и наконец, вновь собравшись на совет, на этот раз, к великой радости Иоанны, условия перемирия были положены с обеих сторон и подписаны, и оно заключено на год.
В тот же день, это сделалось известно в обеих армиях, и обрадовало более всех брабандцев и генуэзцев, потому что в продолжение целых двух лет они несли на себе всю тяжесть войны; жители города Турнай не менее их были рады: из-за недостатка жизненных припасов, который начал сказываться у них в городе, они должны были бы выслать из города всех бедных бесполезных людей. Целая ночь проведена была при свете огней, разложенных в лагере и на валу, окружающем город, при радостных криках осажденных и осаждающих, последние на рассвете дня сняли шатры свои, уложили их в повозки и, покрыв полотном, отправились с веселым пением обратно, как жнецы, окончившие жатву.
Король Эдуард, взяв в Ганд королеву Филиппу, отправился с нею через море и прибыл в Лондон 30 ноября того же года.
Глава XV
Как ни велики были усилия Иоанны Валуа, чтобы достигнуть заключения условия в Турнае, но очевидно было, что это перемирие походило больше на отдохновение двух ратоборцев, готовых снова после минутного отдыха вступить с новыми силами в бой, нежели на предвещание мира. Впрочем, по возвращении Эдуарда в Лондон, две причины, — одна уже существующая, другая, готовая произойти, заставили его безуспешные военные действия во Фландрии перенести на два другие пункта; и как они не были скрыты, но опытный политик, следующий за происшествиями того времени, сейчас бы узнал их начало.
Первая из этих причин — возвращение короля Давида. Брюса в его королевство: после счастливого переезда на корабле, который находился под начальством Малькольма Флеминга Кумирнальда, он вышел на берег с королевою Иоанною Английскою, его женою, в Инвербериче, состоящем в графстве Кинкардин, был встречен с торжеством шотландским дворянством и в сопровождении его отправился в Сент-Ионстон; скоро слух о возвращении отсутствующего в продолжении целых семи лет короля, распространился по всему королевству и каждый из подданных спешил увидеть его, посему толпы народа стекались туда, где он должен был проезжать, стесняя до такой степени иногда проезд по улицам, что он с трудом мог пробираться, преследуя его даже в жилища, куда входил он. Эти доказательства привязанности в первое время трогали юного короля, но скоро наскучили, потому что толпы народа, преследуя беспрестанно, один раз стеснили его в столовой зале с такой безотвязчивостью, что он, потеряв терпение, схватил из рук одного своего стража оружие, и немилосердно ударил одного честного горца, который в эту минуту трогал его платье, чтобы рассмотреть тонкость сукна. Эта вспыльчивость короля имела прекрасное следствие. С этого дня, Давида Брюса не мучили больше любопытные, а он, сделавшись спокойнее, начал наконец заниматься делами государства.
Первою заботой его было послать вестников ко всем друзьям своим, чтобы они поспешили к нему на помощь в его войне с королем Англии и просить их сообщить ему все, что они сделали в его отсутствие. На это приглашение явились немедленно граф Оркенай, его зять, малолетние принцы Гебрида и Оркада, рыцари Швеции и Норвегии, и, наконец, больше шестидесяти тысяч вооруженных воинов.
Другая из этих причин, противная первой, как мы и сказали выше, — нечаянная и непредвиденная, возмутившая спокойствие всей Франции. По возвращении своем с осады Турная, Иоанн III, названный добрым, герцог Бретанский, оставивший свое владение по приказанию короля Филиппа, явился к своему властителю с самою блистательнейшею свитою; но, прибыв в лагерь, занемог так сильно, что принужден был слечь в постель, и потом умер. К довершению этого несчастия герцог Бретанский не имел детей, и герцогство осталось без прямого наследника.
Но взамен детей у него были два брата, — один родной по отцу и матери, а другой только по отцу; после смерти в 1334 году от одного из них, осталась единственная дочь Иоанна, вступившая в замужество с графом Карлом Блуа; а другой же, Иоанн, граф Монтфорский, одного с ним отца, но от другой матери, то есть от второго брака Артура II с Иоландой Дре. При жизни своей, не имея наследников и потеряв надежду их иметь, этот герцог Бретанский, рассудив, что дочь его родного брата и имела больше прав на наследство его герцогства, нежели его не единокровный, а только по отцу брат, поэтому, обещав ей свое герцогство Бретань, выдал ее за Карла Блуа, племянника Филиппа Валуа, надеясь, что это знатное родство воспрепятствует Иоанну Монтфорскому, как он его и основательно в том подозревал, завладеть его герцогством; умирающий не обманулся в этом предположении; и лишь только весть о смерти брата дошла до графа Монтфорского, то он, несмотря на то, что по завещанию был лишен наследства, прибыл немедленно в Нант, главный город всей Бретани, и щедростью и милостями к жителям города и окрестных мест, довел их до того, что они приняли его как властителя и герцога, и присягнули ему в верности.
По окончании этой церемонии, граф оставил в Нанте графиню, жену свою, женщину с жестоким львиным сердцем, и отправился в Лимож, где сохранялись сокровища, которые копил в продолжение всей своей жизни покойный герцог. Там он был принят, так же как и в Нанте, поэтому, приняв благосклонно дворянство и духовенство городского общества, которые в свою очередь присягнули ему как своему властителю в верности, причем с общего согласия ему была вверена вся казна, потом, пробыв еще несколько дней в Лиможе, он возвратился в Нант, где, употребив большую часть этих денег, составил себе из пеших и конных воинов армию, и когда число этих войск сделалось достаточным для исполнения его предположений, он выступил в поход, чтобы завоевать всю область, и взял постепенно Брест, Ренн, Орай, Ван, Енебон и Каре; и когда все эти города находились уже в его владении, он сел на корабль в Коредоне, переправился через море, вышел на берег в Шестеи и, узнав, что король был в Виндзоре, отправился к нему, рассказав ему обо всем случившемся, и объяснив свои опасения на счет того, чтобы король Филипп не вздумал лишить его герцогства, предложил присягнуть в верности королю Эдуарду, как верховному своему властелину с тем условием, чтобы он принял его под свое покровительство и удержал ему его владение.
Эдуард с радостью принял предложение графа Мон-тфорского, потому что оно было полезно собственным его делам. Рассуждая, что по истечении перемирия, вход во Францию ему будет открыт через Бретань, тогда как радость брабандцев и владетелей империи при прекращении военных действий, заставляла его сомневаться, что по прошествии года, они захотели опять в них участвовать. Поэтому, согласясь на исполнение желания и просьбы графа Монтфорского, в присутствии всех баронов Англии и тех, которые прибыли вместе с графом, он принял присягу герцогства, обещая взамен ее графу охранять и защищать его, как своего подданного, против всех, хотя бы даже и против короля Франции, если бы он начал оскорблять его.
В продолжение этого времени Карл Блуа, имевший, как сказано выше, по жене своей права на то же герцогство, прибыл в Париж, с жалобой королю Филиппу, своему дяде, на похищение принадлежащего ему, графом Монтфорским. Король Филипп, обсудив важность дела, собрал двенадцать пэров, чтобы посоветоваться с ними, что ему нужно было делать. Мнением их было непременно вызвать графа Монтфорского, чтобы узнать оправдание, которое он даст на принесенную на него жалобу. Поэтому и отправили к нему послов с приказанием явиться в назначенный день; в это время он только что прибыл в Нант и праздновал свое возвращение из Лондона.
Послы вежливо и осторожно изъяснили порученное им приказание. Граф, выслушав их, отвечал, что готов выполнить приказание короля и явиться к нему в назначенное им время; потом угостил посланных, и наградил при отъезде такими дарами, какие они могли бы только получить от какого-нибудь короля.
Когда наступило время явиться к королю Филиппу, по его приказанию, граф Монтфорский приготовился к отъезду с роскошью и пышностью, и выехал из Нанта с великолепной свитой рыцарей и оруженосцев. Путешествуя с большею поспешностью, прибыл, наконец, в Париж, и въехал в него в сопровождении больше, нежели четырехсот человек конницы, и отправился в свой дворец под охраной свиты, где и пробыл остаток дня и следующую ночь; на другой день, сев на коня, с той же свитой, поехал во дворец, где ожидал его король Филипп с графом Карлом Блуа и знатнейшими дворянами и баронами королевства.
Приехав ко двору, граф Монтфорский сошел с лошади, взошел медленно по ступеням крыльца и вступил в залу, где находился весь двор; поклонясь всем присутствующим, он, приблизившись, низко поклонился королю, потом, подняв голову:
— Ваше Величество, — сказал он с видом человека, принявшего твердое решение, несмотря на последствия, — вы приказали мне явиться, и я с удовольствием исполнил приказание ваше.
— Граф Монтфорский, — отвечал король, — благодарю вас за то, что вы прибыли, и объясню вам причину. Я удивляюсь, как и почему вы завладели герцогством Бретань, не имея на то никаких прав, отнимая его у ближайшего родственника, — покойного герцога, и потом вы присягали в верности моему противнику, королю Эдуарду, по крайней мере, я так слышал.
— Мне кажется, Ваше Величество, — отвечал поклонясь опять граф, — ошибаетесь на счет прав моих, я никого не знаю ближе по родству с моим братом, кроме себя, — его единственного наследника. Ежели, впрочем, против моего ожидания, вы находите, что кто более меня имеет прав на это наследство, то я, как ваш верный и преданный, предаю себя без стыда и замедления на суд; что же касается присяги моей королю Эдуарду, я могу только отвечать, что Вашему Величеству несправедливо донесли.
— Я доволен ответом вашим, — отвечал король. — Почему и приказываю вам владеть тем, что вы от меня имеете, и пробыть в Париже две недели, пока бароны и двенадцать пэров, обсудив родство ваше, определят, кто должен получить это наследство — вы или граф Карл Блуа. Ежели же не исполните моего приказания, то подвергните себя жестокому моему гневу. — После чего король сказал: — Да сохранит вас господь Бог.
— Ваше Величество, покоряюсь воле вашей, — сказал граф и, откланявшись, возвратился в свой дворец обедать.
Но вместо того, чтобы сесть за стол, он с озабоченным видом удалился в свою комнату, размышляя, что ежели он останется ожидать решения пэров и баронов, которое, может быть, примет невыгодный для него оборот; потому что нетрудно предполагать, что король, вероятно, будет на стороне графа Карла Блуа, своего племянника, нежели на его, постороннего ему человека; и ежели это решение будет не в его пользу, то, без сомнения, король немедленно велит взять его под стражу, до тех пор, пока он не отдаст все города, замки и все, чем завладел, и наконец найденные им и отчасти уже растраченные сокровища.
Почему и думал, что благоразумнее и осторожнее будет возвратиться в Бретань, несмотря на то, что это раздражило и прогневало бы короля, нежели, оставаясь в Париже, ожидать последствий этого опасного суждения. Вследствие этого решения, он в тот же вечер оставил Париж, в сопровождении только двух рыцарей, чтобы не возбудить подозрение, приказав остальной своей свите, разделясь на немногочисленные отделения, выехать так же, как и он, ночью, сам благополучно возвратился в Бретань в то время, когда король Филипп полагал, что он еще в Париже.
Однако по приезде своем, он тотчас заметил всю опасность своего положения и, не теряя времени, с помощью жены своей, которая вместо того, чтобы отклонять от замышляемого им возмущения, воспламеняла его мужество, объехал все города и замки, отдавшиеся ему, подготовив везде хорошую защиту и назначив опытных начальников, сделал большие запасы жизненных припасов, устроив и распределив все к защите в случае надобности, возвратился в Нант к графине и обывателям города, которые их обоих любили за щедрость и ласковое с ними обращение.
Легко можно себе представить, как рассердился король Франции и граф Блуа, когда узнали об отъезде графа Монтфорского. Впрочем, не решаясь ни на что против него, они ожидали истечения двухнедельного срока, назначенного для определения пэров и баронов: кому должно достаться герцогство Бретань. Карл Блуа имел неоспоримо более прав на это наследство, но со дня отъезда графа Монтфорского сомнения исчезли и он надеялся, что решение будет в его пользу. Так и случилось: графу Карлу Монтфорскому отказано в иске прав на наследство герцогством Бретанским и общим мнением положено, что оно должно принадлежать графу Карлу Блуа; но этим еще дело не могло быть кончено, потому что надобно было его отнять у похитителя.
Лишь только все пэры и бароны произнесли общий приговор по этому делу, король позвал к себе мессира Карла Блуа.
— Любезный племянник, — сказал он ему, — общим решением назначено вам прекрасное наследство, теперь хлопочите сами отнять его у того, кто им несправедливо завладел, просите всех друзей ваших, чтобы они помогли вам в этом случае, что же касается меня, то я вас не оставлю, и кроме денег, которые я дам в ваше распоряжение, — а вы их можете брать столько, сколько вам будет нужно, — я скажу сыну моему, герцогу нормандскому, чтобы он взял на себя труд быть вашим начальником, но советую и приказываю не терять времени, потому что ежели король Англии, наш противник, которому граф Монтфорский присягал в верности, вступит в ваше герцогство, то наделает много вреда нам обоим, потому что для него лучшего и обширнейшего входа в наше королевство Францию нет, как через герцогство Бретань.
Мессир Карл Блуа при этих обрадовавших его словах короля поклонился своему дяде, благодаря его за доброжелательство, потом, обратясь к пэрам и баронам, просил герцога Нормандии, своего двоюродного брата графа Алансона, своего дядю графа Блуа, своего брата герцога Бургонского, мессира Людовика Испанского, мессира Иакова Бурбонского, графа и вождя Франции, графа Шина, виконта Рогана, наконец, всех принцев, графов, баронов и знатных, находящихся тут, дворян, помочь в этом важном предприятии, и все ему единогласно обещали свое содействие, говоря, что они с удовольствием пойдут с ним и со своим государем, герцогом Нормандии; после чего, все разошлись делать приготовления к этому походу в такую отдаленную страну.
Все знали, что король Филипп принимал большое участие в делах своего племянника, поэтому приготовления были сделаны скоро, и в начале 1341 года бароны и знатные дворяне, которые должны были стать под знамена герцога Нормандии, собрались в городе Анжер, откуда все вместе и отправились в Ансен, находящийся на границе королевства.
Пробыв в нем три дня для приведения в известность сил своих, они нашли, что у них было три тысячи вооруженных воинов, кроме генуэзцев, так что, найдя это число достаточным, они смело вступили в Бретань и осадили Шантонсо. Первые покушения против этой крепости были неудачны, особенно для генуэзцев, которые, желая показать свое рвение, безрассудно бросившись вперед, потерпели сильное поражение. Но мало-помалу осаждающие устроили машины, и начали атаковать; граждане, заметив большое рвение осаждающих, и не имея надежды на помощь, решились сдаться французам, которые их пощадили, и считая это благополучное начало военных действий хорошим предзнаменованием, пошли прямо к Нанту, где находился их неприятель граф Монтфорский. Придя к городу, они раскинули шатры и разбили палатки под самыми его стенами, в прекрасном и правильном расположении, так как это и было в обыкновении французских рыцарей. Жители города и гарнизон его, подкрепляемый присутствием графа Монтфорского и мессира Гервея Леона, командовавшего теми, кого он содержал на своем жаловании, готовились отразить неприятеля.
Военные действия начались незначительными ошибками, но потом случилось происшествие, последствия которого были довольно важны, и мы изложим его с некоторыми подробностями.
Однажды утром воины, находившиеся на жаловании графа, вышли из города, чтобы осмотреть окрестность, и встретили обоз, состоящий из пятидесяти телег с жизненными припасами, которые следовали в армию под прикрытием шестидесяти человек. Но так как городских было более двухсот, то они и бросились на них, — часть прикрытия перебили, других обратили в бегство, и, повернув телеги, повели их к городу. Но как не спешили они, весть об этом нападении через бегущих дошла до лагеря прежде, нежели они успели добраться до городских стен. И в ту же минуту все вооружились, вскочили на коней и догнали обоз у заставы. Здесь завязалось жестокое сражение, потому что осаждающие прибыли в большем числе и, вероятно, осажденные, сделавшие эту вылазку, были бы непременно истреблены, но гарнизон поспешил к ним на помощь и уравновесил силы сражающихся. Некоторые, пока их товарищи сражались, отпрягли лошадей и угнали их в город, с тем, что если бы французы и оставались победителями, то они не могли бы увезти к себе возов с хлебом. Сражение происходило с остервенением, но сильное подкрепление из лагеря поспело на помощь своим товарищам, и горожане и люди, находящиеся на жаловании графа, увидев с вала, что силы их товарищей начинают ослабевать, бросились во множестве t ужасными криками в гущу сражающихся. Тогда мессир Гервей Леон, заметив, что с его стороны сражающиеся действуют в ужасном беспорядке и поэтому долго устоять не могут, велел отступить. Воины, привыкшие исполнять военные приказания, отступили в порядке, но горожане, не понимая, с какою точностью нужно исполнять повеления во время сражения, в беспорядке замешались в ряды французов, без начальника, следственно без всякого согласия и единодушия нападали или отступали. Поэтому много из них было убито, и еще более взято в плен, воины же, отступая в порядке, вошли в город с небольшим уроном, тогда как горожан было сто убитых, двести раненых и столько же попавших в плен.
Следствием этого сражения был сильный ропот горожан против воинов за то, что будто они их оставили на совершенную погибель. До того, что они желая спасти свое имущество, подверженное грабежу, и выкупить своих отцов, сыновей и друзей из плена, вступили в тайные сношения с герцогом Иоанном, обещая, ежели французы, пощадив их жизни и имущество, и возвратят пленных, отворить одни ворота города, чтобы осаждающие могли войти в город, и взять герцога Монтфорского в его дворце. Предложения эти были слишком выгодны для герцога нормандского, чтобы он не воспользовался ими. Словом, условия скоро были заключены, и в назначенный день французы вошли в отворенные для них ворота, и прежде нежели герцог Монтфорский мог думать о защите, его взяли и отвели в лагерь, обещание было исполнено, они малейшего вреда городу не сделали. Король Блуа, оставив свой сильный гарнизон в Нанте, возвратился со своим племянником к королю Филиппу Валуа, который чрезвычайно обрадовался, что виновник этой вновь возгоревшейся войны попался к нему в руки, и приказал заключить графа Монтфорского в Луврскую башню, как преступника и изменника.
Во время этих происшествий в Нанте и Париже, в конце декабря 1341 года Эдуард, узнав, что военные действия начались между Францией и Британией, готовился по своему обещанию послать вспомогательное войско своему новому подданному, как вдруг Иоанн Нефвиль приехал однажды утром в Невкастль, где, как мы уже сказали, он был губернатором, известил короля, что по большому стечению собственных дел своих, он не в со стоянии в настоящее время разбирать дела других.
Мы уже сказали выше, с какой готовностью все друзья короля Давида по любви к нему или ненависти к Эдуарду спешили принять участие в его делах. Поэтому вскоре его армия составилась из шестидесяти пяти тысяч войск, между которыми находилось три тысячи рыцарей. Король вошел в Англию, оставив слева замок Роксбург, который был на стороне англичан, и город Бервич, где заперся Эдуард Балиоль, его соперник, и расположился лагерем перед крепостью Невкастль на реке Тинь. Поход этот начался не совсем под счастливыми предзнаменованиями, потому что в тот самый вечер, когда прибыл король Давид со своими войсками, сильный отряд осажденных сделал вылазку через потаенный выход, проник в центр шотландского лагеря и, захватив в постели графа Мюррая, увел его пленником в город. Храбрый этот рыцарь наследовал после отца своего регентство по несовершеннолетию короля Давида, любовь к отечеству и верность своему государю. На другой день Давид велел идти на приступ, но после двухчасового сражения у заставы города, он принужден был отступить с большими потерями своих воинов, и отправился к Дураму.
Лишь только Иоанн Нефвиль, начальствующий в Невкастле, увидел удаляющегося неприятеля, то, оседлав самого лучшего своего коня, проселочными дорогами, которые были только известны местным жителям, в пять дней прибыл в Шертсей, где тогда находился король Англии. Он был первым вестником этого нападения, и король поспешил, в свою очередь, сделать воззвание, заключающееся в вызове всех англичан, начиная от пятнадцатилетнего и до шестидесятилетнего возраста. Но желая лично удостовериться в силах неприятеля и узнать его намерения, он назначил пункт соединения своим рыцарям, оруженосцам и встал войском под Портумберландом, а сам отправился морем в Бервик. И лишь только приехал в него, то узнал, что Дурам был взят приступом, и все жители города без пощады и выкупа преданы смерти, не исключая монахов, женщин и детей, без всякого уважения к святым местам, многие были сожжены в церквах, где искали убежища.
Приезд короля в Бервик, несмотря на то, что город был отдален от всех других городов, заставил Давида Брюса отступить, и он пошел обратно к границам Шотландии, где и достиг Твиди, а так как день начинал уже склоняться к вечеру, то он расположился лагерем на некотором расстоянии от замка Варк, в котором прекрасная графиня Алисса Салисбюри, бывшая Гранфтон, ожидала возвращения своего мужа, находившегося военнопленным в тюрьме Парижа. Этот замок, который можно было назвать во всех отношениях крепостью, защищал старинный наш знакомый Гильом Монтегю с несколькими храбрыми воинами. Молодой рыцарь в продолжение истекших последних четырех лет возмужал, и по происхождению своему, не мог слышать о присутствии на таком близком расстоянии неприятелей, без того, чтобы жажда войны не закралась в его сердце. Поэтому, выбрав сорок хорошо вооруженных воинов, напал в одном ущелье на последний отряд шотландской армии, человек двести убил, и отнял сто двадцать лошадей, навьюченных драгоценными вещами, золотом, серебром и материями. Стоны раненых и звук оружия раздались по всей армии и дошли до Гильома Дугласа, начальствующего передовыми войсками. Змея, которой наступили на хвост, оборотясь, хотела пожрать небольшой отряд, но он уже скрылся со своими пленниками и добычею.
Гильом Дуглас пустился в погоню за Гильомом Монтегю и почти мог достать копьем своим до ворот в то время, как они затворились за похитителями. Дуглас завязал сражение с теми, которые находились на валу; рыцари Швеции и Норвегии, принцы Оркада и Гебрида, увидев, что их воины стремятся на вал, поспешили на помощь осаждающим, наконец, сам Давид Брюс с остальной армией вмешался в сражение, которое было продолжительно и кровопролитно, замок был мужественно осаждаем и храбро защищаем, два Гильома делали чудеса. Наконец, король заметил, что без военных орудий ничего невозможно сделать, и что самые храбрые из его воинов пали около вала, приказал прекратить этот неожиданный приступ, но сражающиеся были так раздражены, и особенно Дуглас, которого Гильом Монтегю, узнав по изображению кровавого сердца на его оружии, вызывал на бой и насмехался над ним со стены, и Давид принужден был обещать им, что он не удалится от замка, пока не отомстит за них, и не отнимет похищенную у него добычу, что каждый из воинов считал за личную для себя обиду.
Тогда осаждающие удалились на расстояние двух перелетов стрелы от замка, и унесли с собой раненых и убитых знатных рыцарей. Тела же прочих оставались около вала. Назначив линию и расположившись лагерем, войска Давида начали приготовлять орудия для предположенного на другой день приступа, некоторые из них жарили целых быков и баранов, не снимая с них кож, а на бляхи, находившиеся в то время на оружии каждого из воинов, клали по горсти смоченной водою муки и поджаривали ее на огне, отчего скоро они превращались в лепешку.
Этот способ приготовления пищи избавлял шотландцев от лишних хлопот возить с собою кухонные принадлежности и котлы, которые всегда замедляют движение войск. Почему они и могли делать во время нападения или отступления ускоренные переходы по восемнадцати и двадцати миль, удивлявшие и смущавшие совершенно их противников.
Все это происходило в тысячи шагах от замка Варк, сцена жизни и одушевления подавала, так сказать, руку сцене кровопролития и смерти, потому что на всем пространстве между замком и лагерем, где происходило сражение, лежали трупы убитых и раненых, которых, не почитая важною потерею для войск, товарищи оставили умирать на месте. Поэтому временами из этого пространства мрака как из пропасти, выходили и разносились по ветру крики, стоны и невнятные жалобы, непохожие на голос человека, и заставляли содрогаться самых храбрых часовых, находившихся на валу. Тогда пущенная воспламененная стрела, блеснув падающею звездою в воздухе, вонзалась в землю и догорала, осветив в продолжение нескольких мгновений место сражения. Целью осажденных было, — повторяя каждые четверть часа это действие, воспрепятствовать войскам из лагеря оказывать помощь раненым, а раненым добираться до лагеря, потому что лишь только, при свете этих военных факелов, замечали человека, который поднимался с поля смерти, то он делался целью, для кого-нибудь из стрелков Англии, до того уверенных в меткости своего удара, что они сами говорили, что у каждого из них, вместо стрел, по двенадцати мертвых шотландцев за плечами, посему тот несчастный. который, собрав последние силы, приподнимался, чтобы дотащиться до лагеря, получить помощь, сохранить жизнь свою, падал от нового удара стрелы, и в этот раз она не достигала своей цели, потому что разила полумертвого. Иногда же этот дрожащий и обманчивый свет, мерцанием своим, приводил как будто в движение некоторые из этих неподвижных тел, и бесполезно пущенная стрела вонзалась в окостенелый труп.
Точно, этот вид, как мы и сказали выше, мог тронуть сердце всякого воина; но, однако, над главными воротами замка Варк, молодой вооруженный воин, стоял на страже со снятым только шлемом, лежащим у его ног, и все происходившее, казалось, не производило на него никакого впечатления; он даже до того погружен был в свои размышления, что не заметил, как прекрасная женщина, которую по неприметному почти ее приближению и легкости шагов, можно было принять за привидение, достигла через потаенную лестницу площадки, и подошла к нему. Но приблизившись, в нескольких шагах от него остановилась, как будто не решаясь идти дальше, оперлась на зубец и осталась неподвижна на месте. Несколько минут спустя, как она застыла в этом положении, с отдаленной части стены замка послышался крик, и приближаясь от одного часового до другого, достиг слуха молодого воина, который оборотившись, чтобы в свою очередь передать его следующему часовому, заметил на расстоянии длины копья от него женщину в белой одежде, неподвижную и безгласную, как статую. От чего крик замер на устах его; он хотел было сделать шаг вперед, чтобы приблизиться к предмету, который так неожиданно находился близ него, но в ту же минуту остановился прикованный к своему месту, как определил бы неискусный наблюдатель, почтением. Ближний к нему часовой заметил, что крик его не был передаваем более, и повторил его громче прежнего; молодой человек, сделав над собой усилие, повторил дрожащим, обнаруживающим сильное волнение, голосом; этот ночной и бдительный крик, который, повторяясь по удалению, ослабевал, и наконец затих на том самом месте, откуда начался.
— Хорошо, кастелян мой, — сказало приятным гармоническим голосом, приблизившись к молодому рыцарю, это белое видение, — вижу, что вы хорошо охраняете нас, и что мы поэтому в безопасности, потому что можно подойти к вам так близко и не быть замеченным.
— Да, это непростительно, — отвечал молодой человек, — но не потому, что я не слыхал приближения вашего, — оно менее было чувствительно земле, чем эти скользящие со стороны Шотландии облака небу, но потому что я не угадал вас; я не думал, что мое сердце так бесчувственно.
— От чего, — продолжало улыбаясь видение, — прекрасный мой племянник лишил меня удовольствия видеть его за ужином, которым я угощала всех наших храбрых рыцарей? Мне кажется, что труды дня должны были вечером возбудить его аппетит.
— Потому что я не хотел никому передать попечения об охранении вверенного мне залога. Мог ли я лишить себя этого удовольствия, если бы присутствие мое не было здесь необходимо?
— А я думаю, Гильом, — отвечала улыбаясь графиня, — что вы этим наказываете себя за то безрассудство, которым привлекли к себе на шею всю эту армию. И ежели по этой причине вы удаляетесь от нас, то я нахожу, что положенное вами себе наказание заслужено, и поэтому не желаю уменьшить его строгости. Однако, так как совет имеет необходимость в вашем опытном благоразумном мнении, то поставьте кого-нибудь на свое место, которое, по окончании совета, снова можете занять.
— О чем рассуждают в совете? — спросил Гильом, — надеюсь, что не о сдаче; вероятно, они помнят, что я кастелян замка и следственно главное лицо в военных действиях этой крепости, во все времена отсутствия дяди моего, графа Салисбюри.
— Боже мой! кто говорит вам о сдаче, господин начальник? Будьте покойны; никто об этом и не думает, и оказанная мною храбрость во время сегодняшнего приступа, как мне кажется, должна бы меня, собственно, избавить от этого подозрения.
— Виноват! Виноват! — сказал Гильом, сложив руки на груди, — вы очень храбры, благородны, прекрасны, как Валькирии, дочери Одина, которые в песнях саксонских бардов, посещают поля битвы для принятия душ умирающих воинов.
— Но я не имею подобно им белой кобылицы, извергающей из ноздрей своих пламя, и золотого копья, которое разрушает все, что к ним прикасается; что делать, несмотря на то, что я кажусь при всех спокойною, но при вас, Гильом, перестану притворяться и сброшу эту маску надежды, чтобы вы могли видеть все мои опасения; сочтите, ежели вы можете, из скольких тысяч состоит эта армия, которая нас окружает; посмотрите, какими ужасными приготовлениями они занимаются; потом взгляните на нас; сочтите защитников наших, и сообразите наши средства!.. Гильом! неблагоразумно надеяться на собственные наши силы.
— С Божьей помощью, их будет для нас достаточно, графиня, — отвечал гордо Гильом, — и я думаю, что два или три приступа такие, как сегодня, заставят неприятелей наших, несмотря на их многочисленность, потерять не только надежду взять замок, но даже и желание попробовать это еще раз. Вы вызываете меня считать живых, а я предлагаю вам счесть мертвых.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Глава XVI
В ту же самую минуту после разговора Гильома с графиней Салисбюри воспламененная стрела полетела со стены замка и вонзилась в землю посередине места битвы, усеянного трупами, простиравшегося от самого вала до первой линии лагеря. Алисса следовала взором за военным метеором, который, догорая, освещал кругом себя значительное пространство. В оконечности этого круга к стороне лагеря можно было при этом свете заметить преходившего от одного трупа к другому человека, вероятно, искавшего кого-нибудь; он стал на колени подле одного из них и поднял ему голову. Но в самое это мгновение свист раздался в воздухе; человек приподнялся на ноги, желая как будто удалиться, потом упал подле того, которого искал, почти в то же время, когда пылавшая стрела угасла, и снова все потонуло во мраке; только изредка из этой темноты вылетали стоны, затихали в свою очередь так же, как потухал огонь; молчание водворилось снова.
Гильом почувствовал тяжесть ослабевающей графини на руке своей, отвернулся в сторону; потому что под железным его вооружением дрожь пробежала по его телу, и ему казалось, что рука его горит: колени Алиссы подгибались и она готова была упасть; Гильом поддержал ее.
— Ах! — сказала Алисса, проведя рукою по лбу, — что за ужасная вещь поле битвы! — днем еще ничего. Вы видели, какое я имела присутствие духа, как была храбра, но все люди, которые пали в сражении во время битвы, все эти крики, которые я слышала, не тронули меня так сильно, как смерть несчастного, искавшего, может быть, труп отца, сына или друга, чтобы отдать ему последний святой долг погребения, и этот стон, вырвавшийся у него в минуту смерти. Мне кажется, что и теперь еще доходят до меня его разрывающие сердце вопли!
— Может быть, графиня, — отвечал Гильом, — многие из этих несчастных, которые лежат на окровавленном смертном ложе, не испустили еще последнего дыхания и томятся в предсмертных муках. Но это воины, они так и должны кончить жизнь свою.
— Но воину умереть в пылу битвы и шума, в глазах товарищей и начальников, при звуке инструментов, возвещающих победу, это еще ничего; но умереть продолжи тельною мучительною смертью, далеко от всех близких сердцу, далеко от тех, кто их любит, в такую темную ночь, умереть на чужой, смоченной их кровью, земле… О! Это смерть отцеубийцы, еретика или осужденного!.. И когда я думаю, что есть еще на свете муки ужаснее этих, то мне простительно потерять присутствие духа, дрожать, ужасаться.
— Что вы хотите этим сказать? — вскричал Гильом со страхом.
— Разве вы не слыхали, как жестоко неприятели поступили со всеми жителями Дурама? Они их всех растерзали, как кровожадные волки, спустившиеся с гор из лесов Шотландии, не пощадив никого, ни стариков, ни детей, ни женщин и из этих последних, хотя некоторых и оставили в живых, но только для того, чтобы предать их такому поруганию, которое ужаснее самой смерти.
— Но вы, я надеюсь, не боитесь за себя, — клянусь, когда всех нас перебьют до одного, то только через труп мой достигнут вас.
— Знаю, Гильом, знаю, — отвечала спокойно Алисса — но после… Замок все же будет взят; и в последнюю минуту крайности, может быть, у меня не достанет твердости самой себя лишить жизни, потому что я женщина, и следственно рука и сердце мое ослабеют перед смертью!
— О, тогда! — вскричал Гильом, — я… Ах! несчастный, какая ужасная мысль пришла мне в голову! Что было я сказал!
— Благодарю, Гильом, — сказала Алисса, подавая руку молодому рыцарю, — вы угадали мысль мою; муж мой, вручив меня вашей защите, заботился о моей чести, вероятно, столько же, как и о жизни; и поэтому, ежели вы не в состоянии будете отдать меня живой и не обесчещенной, какой от него приняли, то, по крайней мере, отдайте мертвую и чистую, и тогда он скажет, что вы ежели не в точности, то честно и мужественно выполнили обязанности, и за живую или мертвую он будет благода рить вас, а может и благословлять память вашу; но это, Гильом, в самой последней крайности; посмотрим, может, еще есть средство к спасению.
— Какое? — спросил поспешно молодой человек, когда графиня едва успела окончить слова свои.
— Говорят, король в Бервике и собирает армию; Бервик от Варка недалеко.
— Вы хотите, графиня, просить помощи Эдуарда? — спросил побледнев Гильом.
— Я уверена, что он в ней мне не откажет, — отвечала графиня.
— О Боже мой! Я в этом не сомневаюсь, — сказал поспешно Гильом. — И вы, графиня, расположены принять его в вашем замке?..
— Почему же нет? Он наш государь, монарх. Муж мой присягал ему в верности. И ежели он исполнит мою просьбу, поспешит ко мне на помощь и спасет мне жизнь, а может, и больше, нежели чем жизнь, то, конечно, он будет иметь право на мою признательность!
— Да, да, и на любовь вашу, — сказал тихо, ударив себя рукою по лбу Гильом…
— Господин рыцарь! — сказала с холодной важностью графиня.
— Ах! простите» простите! — вскричал молодой человек, — вы не знаете, графиня, потому что добродетель набрасывает на все покров невинности. Но ежели бы вы подобно мне следили за его взорами, устремляемыми на вас, замечали голос его, когда он говорит с вами; видели, как он краснел и бледнел, беспрестанно приближаясь к вам, если бы проснулись в ту ночь, когда я охранял вас, о, тогда вы не сомневались бы, что этот человек вас любит. И этот человек король…
— Что мне до этого, — сказала Алисса, — что безумная любовь, которую я имела несчастье внушить, закралась в сердце человека, который выше или ниже меня?.. Я так искренне люблю и уважаю моего мужа, и поэтому уверена, что никакое обольщение не заставит меня изменить ему, нарушить клятву в верности, данной перед алтарем Господа Бога, и как ни привлекательна красота моя, но я надеюсь, что она не может вселить такой страсти, которая принудила бы того, кем она овладела, прибегнуть к насилию. Поэтому, Гильом, ежели вы не имеете ничего больше возразить на мое предложение, то я его исполню, и прошу вас узнать, нет ли между жителями замка человека храброго и мне преданного до такой степени, чтобы решился пробраться сквозь шотландский лагерь и доставить просьбу мою королю Англии.
— Я знаю, графиня, одного, который готов умереть по одному вашему слову, и почтет это счастьем, — отвечал грустно Гильом. — Возвратитесь к ожидающим вас в совете рыцарям. Напишите письмо, и через четверть часа посланный будет готов.
Графиня пожала руку Гильому, в знак признательности, и удалилась так же тихо, как и приблизилась. Гильом проводил ее взором до тех пор, пока она как тень исчезла на повороте лестницы. Тогда, обратившись к оруженосцу, j в верности и неусыпной бдительности которого был вполне уверен, поставил на свое место и, надев на него свой шлем, вздохнув, медленно удалился.
Графиня, возвратясь в зал, где ожидали ее рыцари, с помощью их советов написала королю письмо. И лишь только она успела его запечатать, как явился Гильом Монтегю. В это короткое время он успел переменить костюм свой; и вместо тяжелого воинственного одеяния одел полосатый черного и голубого цвета полукафтан, какой носили стрелки, и такое же исподнее платье, легкие полусапожки и бархатный берет; оружие его заключалось в коротком мече в виде охотничьего ножа, лука, согнутого из тутового дерева, и колчана, наполненного стрелами. Он подошел к графине и поклонился ей. — Готово ли письмо, графиня? — спросил он. — Что это значит? — вскричали рыцари, — неужели вы сами хотите исполнить это поручение?
— Доверие мое в храбрость и верность вашу неограниченно, почему я и поручаю вам защиту замка. Что же касается меня, то в честь любви и преданности моей к царице моего сердца и вам, мне вздумалось испытать счастье, подвергая опасности жизнь мою в исполнении этого поручения, потому что я предчувствую, что оно исполнится к чести моей и вашей, и что я проведу сюда короля Эдуарда прежде, нежели вы вступите в переговоры с неприятелем.
Это предложение и решимость молодого человека восхитила всех рыцарей. Графиня вручила ему письмо, которое он, преклонив колено, принял, и сказала ему:
— Я буду молиться за вас.
— Как желал бы я умереть во время молитвы вашей, — сказал Гильом, — тогда бы душа моя полетела прямо на небо.
Часы начали бить на башне замка и снова послышались крики часовых на стенах.
— Полночь! — сказал Гильом, сосчитав со вниманием удары часового колокола, — надо спешить, не теряя ни минуты. — И выбежал из комнаты.
Глава XVII
Гильом велел отворить себе потаенную дверь замка и, не взяв с собою ни одного из своих оруженосцев, ни из слуг, пустился один через поле сражения, которое и прошел безо всякого препятствия. Ночь была темна, дождлива, следственно благоприятна исполнению его предприятия, так что он, никем не примеченный, достиг самых окопов; а так как проливной дождь принудил шотландцев укрыться в шатры, то он, перебравшись через окопы, очутился в неприятельском лагере; не зная, в состоянии ли будет выйти так же из него, как вошел, и, не вдаваясь в середину лагеря, пошел налево, где должна была быть Тведь, рассуждая основательно, что в случае, ежели бы его заметили, то разлившаяся река даст ему хотя шанс на спасение. И точно: шагах в ста от того места, где вошел в неприятельский лагерь, он был уже на берегу реки; и пошел по нему с большой осторожностью; минут десять шел он, не встречая никого подозрительного; но вдруг послышался шорох; он в ту же минуту остановился с вниманием человека, которого жизнь зависит от верности его слуха. В самом деле, небольшой отряд верховых воинов приближался, следуя навстречу к нему по берегу реки. Броситься направо, в лагерь, — значило бы подвергнуть себя неминуемой опасности; поэтому он опустился в густую траву, которая росла по самому берегу, и, ухватившись за древесные корни, прилег над самою водою; шум текущей воды на минуту заглушил шум приближающихся людей, и ему начинало казаться, что он ошибся, но скоро ржание лошади доказало справедливость его опасений; несколько минут спустя, он явственно услышал голоса людей, слова которых долетали до него. Гильом попробовал, удобно ли можно было обнажить его меч; потом взглянул на воду и увидел, что достаточно только отпустить корень, за который он держался, чтобы упасть в воду. Убедившись в защите отступления, в случае необходимости, он обратил все внимание к приближающемуся шуму.
— Вы думаете, капитан, — говорил один из подъезжающих воинов, которого по повелительному го полосу можно было принять за начальника отряда, — что по ми лости темноты этой адской ночи работники не в состоянии будут ранее рассвета приняться за работу, посему наши военные снаряды будут готовы завтра не ранее вечера.
— Точно так, — отвечал почтительным голосом тот, к кому относился вопрос, — начальник работ уверил меня в этом.
— И это еще замедлит штурм, — сказал нетерпеливо первый. — Грегор!
— Что прикажете, — отвечал новый голос.
— Завтра с развернутым моим знаменем и трубачом, ты отправишься к замку, прибьешь перчатку мою к одним из ворот его, вызовешь Гильома Монтегю и скажешь ему что Гильом Дуглас предлагает в честь Господа и царицы сердца его преломить с ним копье.
В эту минуту ночной объезд под начальством Дугласа приблизился так близко к тому месту, где скрывался Гильом, что, вынув меч, Дуглас мог бы достать им того, кого предполагал завтра вызвать на поединок, разумеется, никак не думая, чтобы тот находился от него так близко. В этом случае инстинкт животного был превосходнее чувства человека; потому что, поравнявшись с Гильомом, лошадь Дугласа остановилась, протянула шею, опустила морду так близко к молодому и отважному рыцарю, что он чувствовал на лице своем ее теплое дыхание.
— Что с тобой, Фенгал? — сказал поправясь в седле Дуглас.
— Кто там? — закричал Грегор, ударив мечом по хворосту.
— Какая-нибудь выдра, которая стережет рыбу, или лисица, которая промышляет себе добычу после нашей стряпни, — сказал с насмешкой капитан.
— Не прикажете ли сойти с лошади и осмотреть? — спросил Грегор.
— Нет, — отвечал Дуглас, — не нужно, Раслинг прав. — Ступай, Фенгал, — продолжал он, пришпорив лошадь; — пора, не нужно терять время. И ты скажешь еще, — прибавил он, обратясь к Грегору, — что я предлагаю ему все выгоды места и света.
— Что касается этого условия, — сказал Раслинг, — то ваша светлость без опасения можете ему предложить это, лишь бы только он принял вызов.
— Да, я готов на все, — отвечал с пренебрежением Дуглас.
Больше ничего Гильом не мог слышать, потому ли, что разговор прекратился, или расстояние между ними сделалось велико. Он вложил опять в ножны до половины вынутый меч, вышел на берег реки и продолжал беспрепятственно путь до самого последнего рва около лагеря, сделанного недавно шотландцами, который он перепрыгнул с проворством и легкостью истинного горца и очутился вне неприятельского стана. Часа два шел Гильом, не встретив никого, наконец первые лучи дневного света осветили вершины гор, внизу которых он пробирался по узкой тропинке; мало-помалу свет этот начал разливаться и по отлогам; как вдруг туман, сгустившийся в продолжение ночи в глубине долины, стал приходить в движение и в виде медленно зыблющихся морских волн подниматься кверху; несколько минут этот туман находился между Гильомом и видным горизонтом; казалось, он будто с сожалением расстался с землею, наконец, поднялся как занавес театра, представляя сквозь нижний прозрачный и сырой слой свой ландшафт, освещенный тем полусветом, который нельзя назвать ни светом дня, ни мраком ночи, и среди этого прозрачного поэтического света послышались звуки шотландской песни. Гильом узнал сразу резкий голос горного жителя и, остановившись, начал прислушиваться. В эту минуту в шагах пяти от него на возвышении небольшого пригорка показались два шотландских солдата, которые вели пару волов, вероятно, отнятых на соседней мызе; один из них был верхом на маленьком иноходце, и следуя за быками, острием копья понуждал их идти скорей.
Увидевший их Гильом натянул висевший у него на левой руке лук, вынул из колчана стрелу и стал на середине дороги, выжидал, пока они приблизятся к нему на перелет стрелы; шотландцы приготовились так же к защите, как и он к нападению; эти приготовления с обеих сторон были неизбежны потому, что тропинку, на которой им должно было встретиться, стесняли с одной стороны крутой скат горы, а с другой — река.
Шотландцы заметили, что Гильом остановился, продолжали путь, но когда приблизились к нему на такое расстояние, что могли слышать его голос, то он закричал м на чистом галльском наречии, на котором он как пограничный житель объяснялся свободно.
— Гей вы, красноногие, ни шагу вперед, пока мы не объяснимся.
— Что тебе нужно? — отвечали шотландцы, не зная, как счесть — другом или недругом Гильома, который говорил с ними их языком.
— Я хочу, чтобы ты уступил мне лошадь, на которой едешь, приятель, — отвечал Гильом, обращаясь к погонщику, — потому что мне еще ехать далеко, а тебе до лагеря остается не больше двух миль, следовательно, ты можешь дойти пешком.
— А что сделаешь, ежели я не уступлю тебе моей лошади? — спросил шотландец.
— Клянусь, что тогда я отниму ее у тебя насильно, — отвечал Гильом. Шотландец засмеялся, и не отвечая ни слова, начал понуждать быков своих идти вперед. Гильом, заметив, что словами невозможно убедить горца уступить ему лошадь, натянул лук; но шотландец при первом неприязненном движении молодого рыцаря спрыгнул с лошади и, ухватив быка за хвост, скрылся за него, подражая своему товарищу, который, следуя за другим животным, был им защищен от выстрелов.
— А! а! — сказал Гильом, улыбаясь, — кажется, лошадь твоя будет мне стоить двух стрел, следовательно дороже, чем я предполагал; но делать нечего, она мне нужна, и я торговаться не стану.
С этим словом он медленно поднял левую руку, двумя пальцами правой натянул тетиву так сильно, что казалось, хотел, чтоб оконечности лука сошлись вместе; потом на минуту остановился неподвижно; стрела со свистом полетела и воткнулась больше, нежели до половины одному из быков, за которого прятались шотландцы.
Смертельно раненное животное задрожало на всех ногах; потом, заревев ужасно, бросилось с такою быстротою вперед, что самая лучшая лошадь не в состоянии бы была догнать его; но, сделав шагов тридцать, ослабев, упало на колени; стараясь подняться, бороздило рогами землю; и тяжестью своею опиралось на стрелу, почему та и вонзилась в него по самое оперение, — в это время последние силы изменили животному, задние колена согнулись и оно упало, приподнялось еще раз, втянуло шею и испустило жалобный рев, упало снова, на этот раз уже совершенно мертвым.
В это время Гильом вынул еще одну стрелу и утвердил ее на лук. Предосторожность была небесполезна, потому что шотландец, не защищаемый падшим животным, поскакал к Гильому, но заметив, что Гильом прицеливается, прилег так плотно к шее лошади, что самый искусный стрелок не мог бы убить человека, не ранив коня, — почему Гильом хотел было бросить лук и схватил меч, но лошадь, поровнявшись с убитым быком, испугалась и бросилась в сторону, от этого движения шотландец, потеряв равновесие, отделился от шеи животного, и этого мгновения для молодого человека было достаточно; стрела полетела, и всадник, пронзенный ею насквозь в грудь, свалился на землю; испуганная лошадь продолжала скакать прямо к Гильому, который, когда она приблизилась к нему шагов на десять, свистнул так, как горные шотландцы кличут своих лошадей, когда они пасутся в поле; животное, услышав этот знакомый ей свист, остановилось и подняло уши, Гильом снова позвал его, и оно тихо подошло к нему. Монтегю поспешил схватить поводья, вскочил на седло и поскакал навстречу другому шотландцу, который был также ранен, при приближении его упал на колени и просил пощады.
— Соглашаюсь, — сказал Гильом, — потому что сколько мне нужна лошадь, столько же нужен и посланный, клянись мне исполнить в точности мое поручение и я пощажу твою жизнь.
Воин произнес требуемую клятву.
— Теперь, — сказал Гильом, — иди к Давиду шотландскому и скажи ему, что Гильом Монтегю, кастелян замка Варк, пробрался ночью через его лагерь, и что ты его встретил на пути к королю Эдуарду, который находится в Бервике, и что я ранил тебя и убил твоего товарища; потом скажи Дугласу, что Гильом сам слышал его вызов и принимает его с удовольствием, предполагая, что он не захочет дожидаться его возвращения, обязывается сам известить его о избранном им оружии и месте для сражения. Наконец, ты должен здесь убить и последнего быка, для того, чтобы мясо его не послужило в пищу ни тебе, ни твоим товарищам; теперь встань, иди и исполни мои поручения.
После этого Гильом пустился вперед и продолжение его путешествия было несравненно спокойнее начала, через пять часов он был уже в Бервике, где в ту же минуту явился к Эдуарду, окруженному всею его свитою, и подал ему письмо Алиссы.
Лишь только король узнал опасность, в которой находилась графиня, то приказал в ту же минуту готовиться к выступлению; и в тот же вечер армия в числе шестидесяти тысяч человек пехоты, десяти тысяч стрелков и шести тысяч конных рыцарей, двинулась к замку; сделав половину пути, король потерял терпение следовать медленному движению войск, выбрал тысячу самых храбрых рыцарей, велел каждому из них посадить позади себя по стрелку, приказав следовать за собой этому незначительному отряду, пустился с Гильомом Монтегю вперед большой рысью. На рассвете дня Гильом узнал по двум убитым быкам то место, где накануне он сражался с шотландцами. Спустя час времени, при первых лучах солнца, они достигли возвышения, с которого виден был замок и его окрестности; предложения Гильома сбылись, шотландцы не сочли за нужное ожидать появления Эдуарда и его армии, а во время ночи Эдуард Брюс снял осаду; но не прошло и пяти минут с того времени, как они достигли возвышения, по движению на валу, окружающему замок, они заметили, что их узнали, поэтому Эдуард, взяв с собою свиту только из двадцати пяти человек и Гильома, поскакал с ними через неприятельский лагерь к замку и был встречен радостными криками. Лишь только Эдуард сошел с лошади, то ворота замка растворились и в них показалась графиня Салисбюри в драгоценном, возвышающем красоту ее, уборе, которая преклонила перед королем колено в знак признательности за оказанную ей помощь; но Эдуард поднял ее, не сказав ни слова; он не в состоянии был говорить, потому что смятение, причиненное видом Алиссы, было слишком сильно — он в молчании подал ей руку и пошел с ней.
Графиня Салисбюри сама повела короля в приготовленные ею для его приезда комнаты. Несмотря на все эти заботы и внимание, Эдуард хранил молчание; но зато смотрел на нее, не спуская глаз, так страстно, что Алисса, покраснев, оставила его руку. Король, вздохнув, подошел к окну и погрузился в глубокую задумчивость. Графиня, воспользовавшись этой свободной минутой, чтобы встретить других рыцарей и отдать приказание к завтраку, оставила короля одного, вышла из комнаты.
Гильом узнал, что раненый шотландец исполнил в точности его поручение; потому что в десять часов утра, жители замка, заметив движение в неприятельском лагере, бросились на вал и стены замка, воображая, что осаждающие готовятся на новый приступ; но скоро убедившись, что причиною их движения была, вероятно, весть об ожидаемой ими от Эдуарда помощи, посему и успокоились. В самом деле, около вечерен, вся неприятельская армия, оставив свою позицию, потянулась на расстоянии выстрела от замка в сторону, чтобы переправиться через реку Тведь в брод, находящийся выше замка. Осажденные подняли ужасный шум, заиграли на трубах и ударили в литавры; но Давид Брюс, как будто бы не замечая этого воинственного вызова на бой, шел далее и к вечеру скрылся совершенно со своею армией из вида жителей замка.
В эту минуту графиня, проходя мимо Гильома, подошла к нему; пригласила его к столу, отдавая полную справедливость его мужеству и благоразумию; потому что молодой рыцарь с необыкновенным счастьем и храбростью исполнил свое предприятие, но Гильом отказался от приглашения своей прекрасной тетки, извиняясь усталостью Причина эта была довольно правдоподобна, чтобы принять ее в уважение, или показать вид, что ей верят. Алисса не настаивала больше и пошла со своими гостями в зал, где был приготовлен завтрак.
Короля еще там не было, Алисса приказала трубить в рог к столу, по тогдашнему обычаю, чтобы дать знать Эдуарду, что все его ожидали, но извещение осталось тщетно. Король не вышел из своих комнат, и графиня должна была идти сама звать его к столу.
Она нашла его на том же месте у окна, где оставила в то время, когда вышла, — он находился в глубокой задумчивости, устремив взоры в поле, которого, вероятно, не видал; Алисса подошла к нему. Эдуард, по приближении ее, протянул руку; графиня, преклонив колено и взяв руку короля, хотела поцеловать ее; но Эдуард отнял поспешно руку, оборотился к ней и устремил на нее страстный, продолжительный взгляд. Алисса покраснела снова, и будучи приведена в смущение этим молчанием более, нежели каким бы то ни было разговором, решилась прервать его.
— Ваше Величество, — сказала она, улыбаясь, — о чем вы так задумались? Благодаря милостивому вспомоществованию вашему, устрашенный неприятель не только снял осаду с замка, но даже и удалился со всею армией; Государь! оставьте размышления о военных делах, и позвольте принести Вам нашу благодарность и угостить Вас.
— Прекрасная Алисса, — сказал король, — не принуждайте меня быть участником вашего пиршества; клянусь, что я в нем буду самым скучным собеседником. Точно я только и думал прежде, что о войне, но вид этого замка вселил в мое сердце совершенно противоположные чувства, которые так глубоко укоренились в нем, что никакая забота о делах моего государства изгнать их не могут!
— Пойдемте, государь, пойдемте, — сказала Алисса, — я надеюсь, что признательность спасенных Вашим приездом успеют рассеять мысли, которые омрачают чело Ваше. Слава Богу, все враги Ваши страшатся Вас, бегут при одном известии о приближении Вашем; и только вступление их в Ваше королевство не делает им чести, но напротив, по постыдному их бегству, служит им посрамлением. Да, государь, отбросьте Ваши заботы и пойдемте] в зал, где Вас ожидают все Ваши рыцари.
— Я не так выразился, графиня, — продолжал король, оставаясь в прежнем положении и сжигая Алиссу своими взорами; — да, я решительно не так выразился, сказал вам, что вид этого замка поселил в моем сердце те чувства, о которых я предался в эту минуту размышлениям; я бы должен был сказать, что он пробудил их, потому что заботы о войне только усыпили их, но не истребили, как я полагал. Четыре года тому назад эти же самые чувства i погрузили меня в задумчивость в Вестминстере в то время, когда Роберт д’Артуа явился с роковой цаплею, над которой было произнесено столько обетов; и когда я клялся покорить Францию, то никак не мог предполагать произнесенного вами обета, который вы уже и исполнили, в то время, как я встречаю еще много препятствий к исполнению моей клятвы; потому что эти военные действия нельзя назвать настоящей войной; но вы, графиня, вы, исполнив обет ваш, заключили вечный, неразрывный союз!..
— Позвольте мне напомнить Вам, государь, что брак мой заключен с соизволения Вашего Величества; доказательством чему служит пожалованное Вами в то время нам графство, которое теперь называется по имени мужа моего — графством Салисбюри.
— Да, — сказал, грустно улыбаясь, Эдуард, — я был не осмотрителен, я еще не вполне постигал то сокровище, которое он похищал у меня, и поступал с ним, как с другом и верным подданным, тогда как надобно было бы смотреть на него, как на изменника.
— Позвольте напомнить Вашему Величеству, — продолжала тихо Алисса, — что этот изменник находится теперь в плену, как верный Ваш подданный, государь, и заключен в тюрьме Парижа. Простите, что осмеливаюсь об этом напомнить; но мне казалось, что Ваше Величество забыли в настоящую минуту то положение, в котором находится граф, и я даже полагала, что отсутствие его должно было бы быть чувствительным в совете Вашем, и Вашей армии, государь.
— Не говорите мне о совете и армии, Алисса! Что мне до моего королевства? Что мне до войны? Неужели вы думаете, что они причиною моих размышлений. Нет, Алисса, еще вчера все это меня занимало, потому что вчера я еще не видел вас, но сегодня!..
Алисса отступила назад. Король протянул к ней руки, не осмеливаясь однако до нее дотронуться. Это ее движение его остановило.
— Сегодня, — продолжал Эдуард, — я не могу ничем заняться, не могу ни о чем думать, как только о вас, потому что нашел вас еще прекраснее, еще очаровательнее, нежели как вы были прежде; да, все мои помышления об одной вас, Алисса, потому что целые четыре года страстно и безмолвно люблю вас, несмотря на то, что старался всеми силами искоренить эту страсть из моего сердца. Но все тщетно, среди двора, в шуме лагеря, в пылу битвы, ум мой был занят Англией, но душа и сердце с вами. Ах, Алисса, Алисса! Когда сердце любит так страстно, то необходимо что-нибудь одно, — взаимность… или смерть.
— О! мой повелитель! — вскрикнула бледная Алисса. — Вы мой король, мой гость, не употребляйте во зло Вашей власти и эти два священные наименования!., обольстить меня, я полагаю, Вы не надеетесь; как же Вы можете надеяться, чтобы я любила Вас? Вы, Великий монарх! Благороднейший рыцарь! Нет, эта мысль не может закрасться в Ваше сердце, не правда ли? Обесчестить имя человека, которого Вы называли своим другом, и тогда еще, когда этот друг, служа Вам верою и правдою, находится пленным в Париже!., государь, Вы никогда не простили бы себе, ежели бы имели несчастье поступить так бесчестно, и ежели бы я осмелилась отдаться кому-то другому, кроме графа.
Сказав это, Алисса хотела удалиться, но король, бросившись к ней, остановил ее за руку; в эту минуту поднялся дверной занавес, и Гильом Монтегю показался в дверях.
— Ваше Величество, — сказал он Эдуарду, — так как в присутствии короля нет больше ни начальника, ни кастеляна, потому что в то время всякий город и всякая крепость находится в распоряжении самого государя, — то не угодно ли будет Вашему Величеству отдать пароль; и принять во все время пребывания Вашего Величества в замке Варк, жизнь и честь всех его жителей под свое покровительство, с тем, что Вы будете отвечать за них графу Салисбюри.
Минутный гнев, как молния, вспыхнули было в глазах короля; выражение лица сделалось сурово, и взор его медленно обратился к занавесу, скрывавшему дверь, который так кстати поднялся, — казалось, Эдуард хотел угадать, давно ли Гильом находился так близко от него, но скоро строгость с лица его исчезла и уступила место совершенному спокойствию.
— Вы правы, мессир, — отвечал он молодому рыцарю спокойным голосом, в котором невозможно было заметить ни малейшего смущения, — на сегодняшний день и следующую ночь пароль будет: верность, и я надеюсь, что его никто не забудет. Передайте его вместе начальникам стражи и приходите к нашему завтраку; мне надобно дать Вам особое поручение, не забудьте этого, ибо я завтра оставлю этот замок.
По окончании этих слов, в то время, как Гильом поклонился в знак уважения и повиновения, Эдуард подал почтительно трепещущей и безмолвной Алиссе руку.
— Клянусь, графиня, — сказал он ей, сходя с первой ступени лестницы, ведущей в зал, — я чрезвычайно несчастлив; я должен нести на себе свою тяжесть управления королевством, поддержание двух смертельных войн, и сана королевского, и прошедшие огорчения бросают мрачную тень на настоящее мое положение. Я надеялся, что любовь ваша озарит мрачные дни мои, теперь я потерял эту надежду и с нею вместе и мое счастье. Завтра я вас оставлю. Когда же мы увидимся?
— Отсутствие моего мужа принуждает меня, Ваше Величество, жить в уединении; потому что отсутствие считается полусмертью, следственно, и полутрауром. Прежде возвращения графа я не выеду из этого замка.
— Но, — сказал Эдуард, — в Виндзор я назначил большие торжества по случаю основания храма Святого Георгия. Кто же будет царицей турнира, ежели вы не приедете?
— Я бы почла это для себя величайшей честью и удовольствием; но все-таки не иначе, как в присутствии графа.
— А без него, графиня?
— Я не поеду, Ваше Величество.
Эдуард и графиня молча вошли в зал и сели на свои места, все рыцари последовали их примеру. Но обед был скучен, потому что король не говорил ни слова. Алисса не смела поднять глаза, чувствуя, что на нее были непрестанно устремлены взоры Эдуарда. Никто из собеседников не смел прервать этого молчания, и никто из них не постигал причины задумчивости короля; многие предполагали, что неожиданное удаление шотландской армии, и поэтому неудачная поспешность, с которою он стремился со всеми своими войсками отомстить им за вторжение в его королевство, раздражали его; но в душе его происходило совсем другое — любовь, и любовь безнадежная, овладевшая вполне его сердцем, приводила его в отчаяние.
К концу обеда Гильом Монтегю вошел, приблизился к Эдуарду и заметил, что он в задумчивости своей не обращает на него внимания.
— Ваше Величество, — сказал он, — пароль отдан всем стражам внутренних и наружных ворот, и я ожидаю приказаний ваших.
— Хорошо, молодой человек, — сказал Эдуард, медленно подняв голову, — вы искусно выполняете возлагаемые на вас поручения, поэтому теперь я поручу вам еще однс(, очень важное. Будьте готовы отправиться в шотландскую армию с письмом от меня к королю Давиду Брюсу; возьмите необходимую для безопасности вашей свиту и лучших коней с моих конюшен для скорейшего исполнения этого поручения.
— Ваше Величество, у меня есть ратный конь, который, повинуясь голосу, идет тихо или скачет скоро; меч и кинжал дая нападения или для защиты; а поэтому мне ничего более не нужно.
— Впрочем, как хотите; идите и приготовьтесь.
Гильом вышел.
— Позволите ли вы мне, графиня, написать письмо в вашем присутствии? — сказал Эдуард.
По знаку Алиссы один из пажей положил перед Эдуардом пергамент, чернила, перо, воск и красный шелк для прикрепления печати.
\ Когда Эдуард написал письмо, то встал, подошел к столу, подал написанное им письмо графине. Она начала читать его с увеличивающимся волнением; а при последних строках бросилась к ногам Эдуарда; потому что этим письмом он предлагал Давиду Брюсу обменять графа Мюррая на графа Салисбюри; и хотя граф Салисбюри был пленником короля Франции, а не короля Шотландии, но, вероятно, этот последний, по отношениям своим с Филиппом Валуа, легко мог просить свободу мужу Алиссы.
Признательность графини утешила на минуту Эдуарда; и он грустно посмотрел на нее; воображая, что одно чувство, которое она может питать к нему; потом поднял ее со вздохом и, отворотившись от нее, взор его встретил Гильома Монтегю, который, приготовившись к отъезду, ожидал его приказаний, — тогда он, оставив Алиссу, возвратился тихо на свое место, сложил письмо, перевязал его шелком и, сняв перстень с руки своей, приложил его вместо печати к воску, на котором отпечатался оттиск его герба.
— Мессир Гильом, — сказал Эдуард, — вот письмо, поезжайте к Брюсу шотландскому, даже если для этого вам нужно было бы проехать все его королевство, вручите в его королевские руки послание и ответ привезите мне в Лондон, где я буду ожидать вас. Потом мы позаботимся в награду за вашу верную службу о церемонии посвящения вашего в рыцари, чтобы вы могли преломить копье на турнире, в котором, я надеюсь, граф Салисбюри будет участником, а графиня царицею.
После чего Эдуард, поклонясь вежливо Алиссе и не ожидая изъявления благодарности от нее и от Гильома, удалился в свои комнаты.
Гильом в ту же минуту отправился и продолжал с такой поспешностью путь свой, что через шесть дней настиг шотландскую армию в Стирлинге. Объявив приказание Эдуарда вручить лично письмо его Давиду Брюсу, просил дозволения ему представиться. Когда Гильом вошел, то Дуглас был подле короля. Молодой рыцарь, преклонив колено, подал письмо Давиду, который, прочитав его с большим вниманием, вышел в другую комнату, чтобы написать ответ. Гильом Монтегю и Гильом Дуглас остались вдвоем. Оба молодых человека начинали еще свое поприще славы и рыцарства и соперничали между собой, поэтому, встретившись взорами, посмотрели гордо один на другого, не произнеся ни слова. Но Гильом Дуглас первый прервал молчание.
— Вы узнали, мессир, — сказал он, — хотя я и не знаю, каким образом мое намерение вызвать вас на бой под стенами замка Варк, преломить с вами копье, и отличиться в глазах прекрасной Алиссы и короля Давида.
— Да, мессир, — отвечал улыбаясь Гильом, — я пожалел, что вы убрались так поспешно, что я не нашел вас по моему возвращению, посему могу только сегодня дать вам ответ. Вызов ваш для меня очень приятен, поэтому я и поспешил сам изъявить вам, что я принимаю его с удовольствием.
— Вы знаете, — сказал надменно Дуглас, — что я предоставил вам выбор времени и места, следственно это теперь зависит от вас.
— К несчастью моему, мессир, возложенное на меня поручение принуждает меня отложить на некоторое время окончание нашего дела; но ежели вам угодно, то я избираю для этого празднества, назначенные королем в Виндзоре; место и условия сражения будут те же, как и для всех.
— Но вы забыли, мессир, что мы в войне с Англией.
— В письме, привезенном мною, предложено перемирие. Я надеюсь до тех пор получить звание рыцаря из рук короля Эдуарда и при этом попрошу у него в виде подарка, в котором он, вероятно, не откажет, паспорт вам, мессир, на свободный проезд в Англию.
— Следовательно, встреча наша несомненна, — отвечал Дуглас, — и я надеюсь, что вы не забудете вашего обещания.
В эту минуту два пажа вошли в зал, предлагая провести Гильома в назначенные для него комнаты на все время пребывания его в Стирлинге; он пошел за ними, но воротившись почти от самой двери, подошел к будущему своему противнику и сказал ему:
— Итак, мессир, в Виндзоре?
— В Виндзоре, — отвечал Гильом Дуглас. После этого оба молодые рыцари поклонились один другому с надменною вежливостью, и Гильом вышел. В тот же вечер он получил ответ Давида Брюса к Эдуарду, в котором он обещал свое ходатайство к освобождению графа Салисбюри, и несмотря на убеждения высокого своего хозяина пробыть у него дольше, Гильом на другой же день по получении ответа отправился в Лондон. А так как ему приходилось ехать мимо замка Варк, то он, заехав, пробыл в нем один день, но не видал графини. Что же касается Эдуарда, то он на другой день после отъезда Гильома оставил замок.
Глава XVIII
По возвращении своем в Лондон, Эдуард нашел посланного от графини Монтфорской, которая требовала помощи и исполнения обещания, данного ее мужу во время его присяги в верности королю Англии. И чтобы упрочить этот союз, графиня просила в замужество сыну своему одну из дочерей короля Англии, которая впоследствии должна будет носить звание герцогини Бретанской. Это предложение в настоящую минуту чрезвычайно обрадовало Эдуарда. Бретания была прекрасным герцогством и, кроме этого, по предлагаемому союзу, доставляла ему свободный во Францию вход через Нормандию, который для него теперь был открыт; к тому же, он оставался верен своему обету, потому что война, прекращенная с одной стороны, возгоралась с другой, и английский леопард оставил грызть голову своего неприятеля для того только, чтобы с новым остервенением впустить когти в его ребра. Поэтому Эдуард призвал к себе верного своего товарища Готье-Мони, приказал ему взять с собой значительный отряд войск, с довольным количеством рыцарей, отправиться на помощь графине. Готье-Мони, по приказанию короля, сделал воззвание к рыцарям, и под его знамя собралось множество охотников, которые беспрестанно мечтали о сражениях и искали случая в них участвовать. Вскоре этот отряд войск, в числе шести тысяч стрелков, был посажен на суда и выступил в море; но по причине неблагоприятных ветров плавание их продолжалось два месяца, в продолжение которых дела графини Монтфорской приняли в Бретани дурной оборот.
Карл Блуа, взяв Нант и отправив неприятеля своего Иоанна Монтфорского пленником в Париж, думал, что дело его уже совсем выиграно; но скоро убедился, что ему еще нужно преодолеть сильное препятствие. Графиня была в Рене. И как мы сказали выше, эта женщина с необыкновенной твердостью характера соединяла в себе и необыкновенное мужество, и вместо того, чтобы оплакивать своего мужа, которого считала погибшим, она решилась отомстить за него; приказав звонить в колокола, собрала на главную площадь все войска и всех жителей города, вышла сама на балкон замка, держа за руку своего сына; все находящиеся на площади встретили ее с изъявлениями любви и преданности, потому что графиню и мужа ее все любили за их щедрость и ласковое обращение. Доказательства эти еще более укрепили ее мужество; и она, подняв на руки сына, чтобы все могли лучше видеть, сказала.
— Друзья мои! Не отчаивайтесь! Вот сын мой, его зовут Иоанном, именем отца его. Мы лишились графа, но потеря эта заключается в одном только человеке. Надейтесь на милость Божию и верьте в его святой Промысел. Благодаря Бога, у нас довольно денег, довольно мужества, неустрашимости, потеря вашего начальника и покровителя даст другого, который заставит вас не жалеть, сделанных вами потерь. Это она намекала на ожидаемую защиту от Англии, так как она надеялась, что сам Эдуард поспешит к ней на помощь.
Речь эта и раздача больших сумм ободрила жителей Рена; тогда графиня, убедившись, что они решились мужественно защищаться, оставив им начальником Гильома Кадудаля, отправилась с сыном своим убеждать жителей других городов; наконец, укрепив собственным примером мужество всех своих подданных и приняв присягу в верности, заперлась в обширном и хорошо укрепленном городе Геннебон-Сюр-Мер, занявшись приготовлением к обороне, ожидала известий из Англии.
В продолжение этого времени знаменитые дворяне Франции под предводительством Карла Блуа и начальством мессира Людовика Испанского, оставив значительный гарнизон в Нанте, обложили и город Рен. Но как нападение, так равно и оборона были мужественны. Впрочем, жители города не привыкли к шуму военных действий, решились против воли своих начальников сдать город. Поэтому и взошли сами ночью в замок, схватили внезапно Гильома Кадудаля и, заключив в темницу, отправили депутацию к Карлу Блуа, с предложением сдать город так, чтобы приверженцам графини Монтфорской, предоставлена была свобода удалиться со всем их имуществом. Карл Блуа охотно согласился на такое выгодное для него предложение. Депутаты возвратились в город, а так как обывателей было гораздо больше, нежели воинов, и они всем располагали, то и обнародовали на этом условии сдачу крепости, предлагая от Карла Блуа Гильому Кадудалю всякое вознаграждение, какого бы он не потребовал, с тем, чтобы он перешел на сторону французов. Но честный бретанец отказался от этого предложения, не требуя от изменивших своей клятве жителей ничего более, кроме своего коня и оружия. И, получив их, с некоторыми товарищами, которые не захотели изменить ему, проехал через весь город и отправился уведомить графиню, находившуюся, как сказано выше, в Геннебоне, что неприятели заняли Рен.
Французы предполагали, что для окончания этой войны им непременно нужно взять графиню и ее сына, так как муж ее давно уже был у них в плену, затем и пошли прямо к Геннебону. Однажды в половине мая месяца, рано утром, часовые на стенах города, в котором находилась графиня, подняли тревогу. Французская армия начала показываться вдали.
В эту минуту графиня находилась вместе с епископом Леонским в Бретани, его племянником, мессиром Гервеем, защищавшим уже Нант, мессиром Ивом Трезегиди, сиром Ландернау, кастеляном Гингамом, двумя братьями Кири-ками, мессирами Генрихом и Оливье Пеннефорами. Все они по этому военному знаку бросились на вал, окружавший город. Графиня при колокольном звоне разъезжала на ратном коне в мужской одежде и в полном вооружении по городским улицам. Словом, при приближении своем французы нашли, что не только город был хорошо укреплен валом и стенами; но даже и охраняем многочисленным гарнизоном, состоящим в распоряжении опытных в военном искусстве начальников, что и принудило их расположиться лагерем на расстоянии выстрела от города, чтобы приготовиться к осаде. Несколько молодых генуэзцев, французов и испанцев приближались к валу для того, чтобы завязать небольшую сшибку, ежели осажденные только захотят участвовать в ней; но эти последние, сделав вылазку, вступили в бой, и как число противников с обеих сторон было почти равное, то сражение началось с жаром и остервенением, поэтому и можно было полагать, что ежели нападение будет упорно, то и защита отчаянна. После двухчасового кровавого боя, осаждающие должны были отступать, оставив между убитыми, по большой части, генуэзцев, безрассудно бросившихся вперед.
На другой день французы, по общему согласию, произнесенному в их совете, решились на следующее утро идти на приступ, с тем, чтобы испробовать посерьезнее храбрость бретанцев. Вследствие чего, с рассветом дня, оставив свои шатры, пошли на осаду. Осажденные, отворив ворота, вышли храбро защищать первые свои укрепления. Приступ, начавшись так рано, продолжался до самых вечерен с тем же ожесточением, как и накануне, но французы были в этот раз опрокинуты и отступили, взяв с собою раненых и оставив множество убитых. Это поражение раздражило знатных французских дворян, которые из лагеря смотрели на сражающихся; поэтому, подкрепив свежими войсками осаждающих, велели им опять идти на штурм. Жители города, ободренные первыми успехами, с новою охотою бросились к защите своего города, надеясь и в этот раз отразить неприятеля. Как осаждающие, так и осажденные сражались храбро. В это время графиня, находясь на башне и наблюдая за сражающимися, вдруг заметила, что знатные французы, бросившись на подкрепление войскам своим, оставили шатры без всякой защиты; она ту же минуту сошла с башни, бросилась на лошадь и, взяв с собою триста храбрых конных воинов, выехала с ними в противоположные ворота, объехала стороною место сражения и, появившись с тыла, бросилась со своим отрядом в неприятельский лагерь, в котором оставались только одни прислужники, разбежавшиеся в минуту ее появления. Тогда свита ее, имея в руках горящие факелы, зажгла шатры и сделанные из древесины и ветвей шалаши, так что в несколько минут весь лагерь объят был пламенем. Французы по ужасному дыму, поднявшемуся над их лагерем и по крикам бегущих, угадали случившееся, посему, оставив приступ, бросились к лагерю, но графиня была уже далеко, скрывшись почти из вида по дороге к Ораю, потому что она прежде знала, что, исполнив свое намерение, ей невозможно будет скрыться опять в Геннебоне. Мессир Людовик Испанский, заметив малочисленность отряда, наделавшего им столько вреда, бросился с пятьюстами воинами в погоню; но это было бесполезно. Графиня со своим отрядом успела удалиться на такое расстояние, что он мог настигнуть только несколько человек, лошади которых не могли поспеть за всеми, почему и были убиты или взяты в плен, графиня добралась благополучно с двумястами восьмидесятью своими спутниками до замка Орай, построенного, как говорят, королем Артуром, в котором находился многочисленный гарнизон.
Однако французы, успокоившись от причиненного им графиней страха и лишившись шатров и шалашей своих, решились устроить новые, на другом месте и ближе к городу. Для постройки их вырубили почти весь лес, находившийся в близком расстоянии от города, увещевая жителей Геннебона спешить на помощь к их графине, которая будто бы погибла; все начали опасаться, потому что графиня не возвращалась, и полагали, что с нею случилось какое-нибудь несчастье. Она также со своей стороны опасаясь, чтобы отсутствие ее не ослабило мужества осажденных к защите замка, подкрепила отряд свой вооруженными воинами, присутствие которых не считала необходимым для защиты Орая, и, назначив в нем начальниками мессиров Генриха и Оливье Пеннифоров, на верность которых могла положиться, отправилась со своим отрядом, состоящим из пятисот человек, в Орай вечером, и тихо, в глубокую ночь, объехав французскую армию, въехала в Геннебон, теми же воротами, через которые оставила его накануне; лишь только ворота за нею затворились, как весть об ее приезде разнеслась по всему городу. Вдруг раздались звуки труб и барабанов, от чего произошел такой шум, что осаждающие, проснувшись, думали, что из крепости, сделав вылазку, нападают на их лагерь, почему и вооружились поспешно. Но так как нападения не было, а они были совершенно готовы к бою, то чтобы не пропал труд их даром, решились идти еще раз на приступ. Жители города, ободренные прежними успехами и неожиданным возвращением графини, с радостью бросились на стены города, и по мере того, как французы подходили к валу, бретанцы сходили к заставам. Хотя на этот раз сражение продолжалось с самого рассвета и до полудня, но счастье не благоприятствовало французам, которые принуждены были отступить, потому что они убедились в бесполезной потере своих войск, не имея ни малейшей надежды на успех.
Поэтому и решились действовать иначе; заметив, что людей у них было много, но не доставало военных снарядов, для чего и положили разделить армию на две части, из которых одна, в сопровождении Карла Блуа, должна была идти осаждать Орай, а другая, под начальством мессира Людовика Испанского, оставаться под Геннебоном. Потом отправить отдельно отряд с оставленными французами в Рене двенадцатью огромными машинами, и в тот же самый день исполнили все эти предложения. Карл Блуа отправился к Ораю, а Людовик Испанский остался под городом в ожидании прибытия машин.
Это продолжалось целых восемь дней, и осажденные не постигали причины их бедствия, жестоко насмехались со стен своих над леностью неприятелей; но наконец, увидев приближение этих гигантских машин в виде дви жущихся башен, которые в те времена составляли необходимую принадлежность военных снарядов для взятия крепостей, угадали, почему неприятель оставался так долго в бездействии и не делал нового приступа. Французы, не теряя времени, поставили машины в линию и начали с них осыпать город градом камней, которые не только давили прохожих на улицах, но даже опустошали дома, проламывая крыши и разбивая в них окна. И мужество, столько раз показанное осажденными, начало ослабевать, и епископ Леонский по духовному своему званию, не имевший подобно другим рвения к упорному отражению неприятелей и защите города, начал первый внушать жителям Геннебона, что благоразумнее было войти в сношения с Карлом Блуа, нежели продолжать защищать права, которые опровергал могущественнейший король Франции. Предложения, согласующиеся с реальной выгодою каждого, никогда не отвергаются, поэтому сперва начался тихий ропот, потом стали говорить громко о сдаче города на условии и о заключении договора, так что слух об этом дошел до графини, ожидавшей с минуты на минуту помощи из Англии, и она умоляла всех жителей города подождать еще три дня.
Опасения, посеянные епископом, были так сильны, что те же самые люди, которые клялись защищать город до последней минуты своей жизни, находили трехдневный срок, назначенный графинею, слишком продолжительным; и некоторые из них, не соглашаясь, требовали, чтобы завтра непременно сдали город. Целая ночь прошла в совещаниях с обеих сторон, и вероятно, ежели бы французы в это время вздумали сделать приступ, то взяли бы без малейшего сопротивления город; но они не подозревали того, что происходило за стенами, в которых начали уже делать пролом. Наконец, партия епископа восторжествовала, и толковали только об избрании депутатов, которых нужно будет отправить к Людовику Испанскому, и графиня с сердцем, стесненным силою, скорбно удалилась в свою комнату, потому что она не знала, позволят ли ей с сыном оставить город, или выдадут пленницею французам; но вдруг, взглянув в окно, увидела на море бесчисленное множество кораблей. Она с радостью выбежала на балкон замка. — Смотрите! Смотрите! — кричала она жителям города и воинам, теснившимся на площади, — вот помощь, которую я вам обещала. Ни слова больше о сдаче города, взойдите на стены города, взгляните на море и убедитесь в справедливости слов моих.
В самом деле, графиня была права. И лишь только вся эта толпа с высоты стен замка увидела многочисленный флот, состоящий больше, чем из сорока разной величины кораблей, которые все были прекрасно вооружены, как с противодействием, свойственным черни, начала упрекать епископа Леонского в проявленной им трусости и малодушии. В итоге он, заметив, что ему не остается ничего больше делать в городе, поспешил с племянником своим Герве Леоном выехать из него и, явившись к Людовику Испанскому, известил о полученной графиней помощи. Лишь только флот вошел в гавань, то графиня вышла навстречу тем, под начальством которых он находился, потому что в настоящем положении ее дел они явились к ней не как союзники, но как спасители.
Рыцари были размещены в замке, а воины в городе; впрочем, все были приняты с радостью и признательностью. Всякий хозяин угощал своего гостя с необыкновенным радушием, графиня же на следующий день пригласила всех рыцарей к своему столу. Мессир Готье-Мони, который был столько же любезен в обществе дам, сколько храбр против неприятеля, не отказался от этого лестного приглашения, и графиня со своей стороны старалась нравиться как женщина, хотя в душе и была истинной героиней, она угощала английских рыцарей с такой любезностью и с таким вниманием, что они почитали для себя счастьем случай, который им доставила судьба, — переплыв море, явиться на защиту такой прелестной союзницы.
После обеда графиня повела своих гостей на башню, с которой виден был весь французский лагерь; осаждающие продолжали громить город градом камней, и это зрелище страданий приводило в отчаяние графиню, потому что эти бедные люди претерпевали за нее такие бедствия. Готье-Мони, заметив, как огорчали ее их страдания и желая скорее сделаться достойным оказанного ему гостеприимства, сказал, обращаясь к английским и британским рыцарям:
— Не угодно ли вам, господа, попробовать со мною вместе уничтожить эти проклятые машины, причиняющие столько огорчений нашей прекрасной хозяйке. Ежели так, то скажите одно слово, и дело будет сделано.
— Клянусь Пресвятою Девою, вы правы, мессир, — отвечал Ив Трезегиди, — и что касается меня, то я не отстану от вас в этом первом предприятии.
— И я также, — сказал сир Ландернау, — для того, чтобы после никто не мог сказать, что вы, переплыв море, работали за нас. Итак, к делу, мессир, а мы всеми силами будем помогать вам.
Английские рыцари приняли со своей стороны с радостью предложение своего начальника и пошли приготовляться; но графиня вздумала сама возложить оружие на Готье-Мони. Молодой рыцарь принял этот знак признательности с восхищением, и она исполнила его с такой ловкостью и искусством, которых он никак не ожидал. Но графиня была так же искусна в военном деле, как самый благородный паж и опытный оруженосец.
Когда рыцари были совсем уже готовы, то, взяв триста самых ловких стрелков, велели отворить ближние к машинам ворота, и лишь только их отворили, то стрелки, рассыпавшись по полю, начали стрелять с обыкновенною своею ловкостью, так что управлявшие машинами все легли на месте, пронзенные длинными стрелами английских стрелков. За стрелками следовали рыцари с секирами и двуручными мечами, которыми они в одну минуту изрубили самую огромную машину; что же касается остальных, то они, намазав их горючими веществами, зажгли, а сами бросились с таким проворством к неприятельскому лагерю, что французы не успели стать в оборонительное положение. Англичане начали бросать во все стороны горящие головни, отчего в одну минуту вспыхнувшее в разных местах пламя и поднявшийся густой дым дали знать жителям города, что предприятие исполнено с успехом.
Этого только и желали рыцари английские и бретанские; почему и начали отступать в большом порядке, но в это время отряд французов, наскоро вооружившийся, бросился с ужасными криками за ними в погоню. Рыцари, заметив это, пустились в галоп; но Готье-Мони остановился первый и сказал, что ни за что на свете не согласится услышать приветствие из уст прекрасной графини, пока не опрокинет несколько из этих дерзких, которые осмеливаются его преследовать; и говоря это он оборотился, поднял меч и бросился на них. Два брата Лейнондаля, мессир Ив Трезегиди, мессир Галеран Ландернау и еще многие последовали его примеру; отчего и завязалось настоящее сражение, потому что из лагеря беспрестанно подоспевали свежие войска, заменявшие собою убитых товарищей. Это принудило Готье-Мони и всех его товарищей к отступлению, что они и исполнили в большом порядке, оставив на месте сражения множество убитых французов и несколько своих убитых и раненых. Достигнув рва и окопов, они вдруг опять обратились на неприятеля с тем, чтобы дать время рассыпавшимся своим стрелкам войти в город; тогда французы хотели опять напасть на них, но завлеченные так близко к крепости, были осыпаны тучею стрел, пущенных с городских стен стрелками, которые оставались в городе, и принуждены были удалиться на перелет стрелы, оставив множество убитых людей и лошадей. Английские и бретанские рыцари вошли в крепость и встретили внизу лестницы замка графиню, которая хотела своими руками снять с них шлемы и, обняв каждого из них, благодарила за оказанную ей помощь.
В ту же ночь осаждающие, по причине полученного неприятелями подкрепления и из-за потери осадных своих машин, положили в совете снять осаду с города, так как не было никакой возможности взять его, и соединиться с Карлом Блуа; на другой день, осыпанные насмешками английских и бретанских рыцарей, оставили свой лагерь и удалились. Прибыв к замку Ораю, они уведомили Карла Блуа обо всем случившемся с ними, почему принуждены были снять осаду. Он принял уважительно объясненные ими причины, без всякого на них негодования, и не имея надобности в этой части армии, велел Людовику Испанскому, под начальством которого они находились, идти осаждать город Биньян, находившийся на стороне графини.
Мессир Людовик, исполняя полученное им приказание, выступил в поход. И в первый день, встретив на пути своем хорошо укрепленный замок Конкес, который также был за графа Монтфорского, и кастеляном в нем был ломбардский рыцарь, славный и отважный воин по имени Мансион. Поэтому мессир Людовик не захотел пройти так близко от бретанского гарнизона, чтобы не отомстить за неудачные свои покушения под Геннебоном; и остановись, начал готовиться к приступу. Осажденные, со своей стороны тоже не оробев, приготовились к отражению, и когда неприятель подступил к стенам замка, то они так храбро защищались, что принудили осаждающих без всякого успеха с наступлением ночи отступить. Мессир Людовик расположился лагерем под самыми стенами укрепленного замка.
Но так как Конкес находился только на расстоянии нескольких миль от Геннебона, то скоро дошла до Готье-Мони весть о том, что происходило под стенами этого замка: почему молодой рыцарь, собрав своих товарищей, предложил им преследовать мессира Людовика Испанского и принудить его и с Конкеса снять осаду. Общим мнением было, что удачное исполнение этого предложения принесет им много чести и будет истинным рыцарским поступком; посему они, отправившись с большою поспешностью под предводительством храброго своего начальника, скоро прибыли к стенам крепости, но делать было нечего, потому что замок находился уже во власти неприятелей, и гарнизон был весь перерезан. Войска Людовика Испанского, оставив в Конкесе шестьдесят храбрых воинов под начальством нового кастеляна для защиты замка, отправились далее по пути к Биньяну. Но этому намерению английских рыцарей не суждено было исполниться. Они думали уже возвратиться в Геннебон, но Готье-Мони объявил им, что хочет непременно узнать число и силу гарнизона, поэтому и пустился около стен крепости. Все товарищи его последовали за ним и скоро увидели пролом, через который мессир Людовик Испанский вошел накануне в замок, потому что новый гарнизон не имел еще времени его заделать. Оставив лошадей под надзором оруженосцев и слуг, сами рыцари, обнажив мечи, бросились через этот пролом в середину крепости. Испанцы хотели было защищаться, но так как они не могли сравниться с нападающими ни числом, ни храбростью, то через час времени замок был взят, и Готье-Мони взошел в замок в тот же самый пролом; в который вошел и Людовик Испанский Гарнцзон был весь истреблен за исключением только десяти человек, которых англичане, пощадив, отпустили, потом Готье-Мони, убедившись, что ему трудно будет удержать за собою взятый замок, отправился в обратный путь к Гиннебону, оставив в крепости только мертвые тела обоих гарнизонов.
По возвращении своем в Геннебон мессир Готье-Мони нашел в нем Роберта д’Артуа, прибывшего с новым подкреплением, присланным королем Эдуардом, для продолжения в Бретани войны против его врага Филиппа Валуа, которую он должен был с большим прискорбием прервать во Фландрии.
Глава XIX
Эдуард хотел непременно исполнить свое обещание Алиссе, так же свято, как исполнил данное им графине Монтфорской. Перемирие, вследствие последнего посольства Гильома Монтегю, было заключено на два года с королем Давидом, и одним из условий этого перемирия было возвращение в Англию графа Салисбюри. Король Давид настаивал, чтобы Филипп Валуа возвратил свободу своему племяннику, потому что за него должен был получить свободу Мюррай, один из четырей баронов шотландских, завоевавших ему обратно его королевство. И как не значителен был такой пленник для Филиппа Валуа, как граф Салисбюри, но он не мог отказать в требовании своего союзника; поэтому в конце мая, в то самое время, как Готье-Мони действовал так успешно в Бретани, граф Салисбюри, получив свободу, возвратился в Англию.
Большого над собою усилия стоило Эдуарду освободить Салисбюри, но ревность принудила его через несколько дней по приезде графа в замок Варк, вызвать его поспешно в Лондон, под видом важного поручения, которое он должен был исполнить; приглашая также и графиню, потому что время назначенным торжествам в Виндзоре приближалось, и прекрасная Алисса по возвращении мужа своего обещала в них участвовать. Граф не подозревал ничего, потому что Алисса не хотела огорчить его, открыв ему внушенную ею невольно любовь Эдуарду, надеясь, что она скоро угаснет, потому что была уверена в себе, и нимало ее не страшилась. Почему граф и отправился в сопровождении Алиссы в Лондон, так как она теперь не имела более причины отказываться от приглашения короля.
Эдуард встретил графиню с видом такого равнодушия, что она сочла любовь его угасшею, или думала, что безнадежность излечила его от этой страсти; тем более что он, желая скрыть свои чувства и заставить ее не думать больше о прошедшем, предложил ей помещение во дворце между штате дамами королевы. В чем со своей стороны настаивала также и королева Филиппа, обрадовавшись свиданию с прежним своим другом. Алисса, приняв без всякого опасения это предложение, совершенно успокоилась.
Поручением, возложенным на графа, доказывалось, что доверие к нему короля было, как и прежде, неограниченно. Важные преступники, между которыми находились Оливье Клиссон, мессир Годефруа Гаркур и мессир Гервей Леон, взятые несколько дней спустя после того, как они, оставив графа Монтфорского, передались Карлу Блуа, были привезены в Англию и заключены в замке Маргат. По важности их преступления для присмотра за ними нужно было избрать человека, заслуживающего полного доверия короля; и Эдуард назначил графа Салисбюри начальником в Маргате. Граф, получив от короля необходимые для действий своих наставления, отправился к месту своего назначения.
В это время король, желая упрочить основания благородного учреждения общества Табль-Ронд, из которого произошло столько храбрых и честных рыцарей, что слава их распространилась по всему Свету, приказал перестроить замок Виндзор, основанный королем Артуром, и окончание этой перестройки, как уже и сказано выше, хотел праздновать турниром и разными увеселениями; поэтому и разослал герольдов в Шотландию, Францию и Германию обнародовать, что всякий благородный рыцарь, кто бы он ни был, друг или недруг, приглашается преломить копье в честь царицы своего сердца, на турнир в Виндзор.
Приглашение подобного рода, и сделанное от имени такого могущественного монарха, как король Англии, привело в движение все рыцарство: из Шотландии, Франции и Германии собрались как будто депутаты от всего дворянства, все самые храбрые бойцы того времени; некоторые из них встречались уже между собою в сражениях, и могли определить друг другу взаимное уважение; но большая часть, не встретившись еще ни разу, знали только друг друга понаслышке, и поэтому тем нетерпеливее желали познакомиться на месте боя. По приезде своем они являлись к старшинам, назначенным для турнира, и записывались, — некоторые под собственным своим именем, а другие под вымышленным; после чего на другой день каждый из них получал от короля Эдуарда подарок, приличный происхождению и достоинству имени, под которым кто записался. Турнир должен был продолжаться три дня, и для каждого из них назначено было по сподвижнику, который должен был биться в продолжении своего дня со всеми, кто бы его не вызвал. В первый день был назначен сам король Эдуард, во второй Готье-Мони, оставивший Бретань на время этого торжества, а в третий Гильом Монтегю, получивший звание рыцаря от самого короля по его обещанию, чтобы он мог преломить копье в присутствии графини. Сподвижникам предоставлялось право избрать оружие для поединка, как-то: копье, меч или секиру, потому что кинжал только был воспрещен.
Накануне праздника Святого Георгия, то есть дня, назначенного для начала празднества, весь Лондон огласился звуками труб и литавр. Рыцари, собравшиеся со всех сторон Света в этот город, должны были занять назначенные для них королем шатры, на равнине близ Виндзора, потому что в замке невозможно было поместить такое множество рыцарей. Уже с восьми часов утра все улицы, ведущие из Лондонского замка, то есть с площади Святой Екатерины, были убраны коврами и древесными ветвями; с обеих сторон в пяти или шести футах от домов натянуты были канаты, обвитые цветочными гирляндами в виде фестонов, — для того, чтобы это пространство могла занять чернь, оставив улицы свободными для проезда рыцарей. Все деревья, окна и даже крыши унизаны были головами людей, не говоря уже о балконах, на которых как колосья в обильную жатву стеснены были зрители, и при малейшем шуме в ожидании появления поезда, колыхались как будто от ветра.
Ровно в полдень выехали из замка двадцать четыре трубача, играя на трубах, и были встречены радостными криками народа, дождавшегося наконец ожидаемого с самого утра зрелища. За ними следовали на прекрасных конях, убранных для сражения, шестьдесят оруженосцев, из которых каждый имел знамя своего владетеля. За оруженосцами следовали король и королева в королевских одеждах, король был в короне и со скипетром в руке, между них находился на прекрасном коне, блестящие косы гривы которого висели до земли, молодой принц Галльский, будущий герой Креси и Пуатье, который на этом турнире должен был приобрести первый опыт военных действий. За ними следовали шестьдесят дам, в богатых одеждах, убранных золотом и драгоценными каменьями; каждая из них вела на серебряной цепочке своего рыцаря в полном вооружении для поединка и опоясанного шарфом избранного ею цвета. Вслед за дамами ехало в беспорядке до трехсот рыцарей, некоторые с поднятыми забралами своих шлемов, другие с опущенными, судя по тому, желал ли кто-то из них быть узнанным или остаться в неизвестности, все в блестящем вооружении, со щитами, на которых изображались гербы или девизы. Наконец, шествие заключалось бесчисленным множеством оруженосцев и слуг, из которых некоторые держали на руке сокола в шапочке, а другие по своре собак и на их ошейниках означались гербы тех, кому они принадлежали.
Этот великолепный поезд в большом порядке проехал по всему городу шагом и отправился в Виндзор, находившийся в двадцати милях от Лондона. Несмотря на это расстояние, большая часть народа следовала за поездом, и так как он занимал всю дорогу, то любопытные принуждены были бежать полем. Король, предвидев это обстоятельство, приказал за шатрами рыцарей устроить род лагеря из шалашей для помещения десяти тысяч народа; поэтому всякий был уверен, что найдет приличное своему званию помещение: знатные люди в замке, рыцари в шатрах, а народ в шалашах.
Поздно ночью прибыли в Виндзор. Замок был великолепно освещен разноцветными огнями и казался волшебным жилищем. Шатры были разбиты прямыми линиями, и в промежутках между ними горели необыкновенной величины факелы, от которых было светло как днем, так что на недалеком расстоянии можно было заметить устроенные кухни, где хлопотало множество поваров, приготовлявших ужин; и запах этого дыма был очень привлекателен для голодных желудков, которые с самого полудня были в дороге.
Всякий занялся своим помещением и ужином. До двух часов, утра продолжались радостные крики народа, и потом постепенно все затихло; огни в окнах замка погасли, исключая только одного окна, в котором виден был свет.
Этот свет был в той комнате, где бодрствовал Эдуард. Салисбюри возвратился из Маргата для того, чтобы быть старшиною турнира вместе с мессиром Иоанном Бомоном, и прибыл в эту ночь с важными известиями. Переговоры его с пленниками были успешны. Оливье Клиссон и сир Гаркур не только соглашались сами сделаться подданными Англии, но и ручались за многих знатных дворян Бретани и Бери, что они последуют их примеру. Эти знатные дворяне были Иоанн Монтобан, сир Малетруа, сир Лавал, Ален Кедилак, Гильом, Иоанн и Оливье Брие, Дени Плесси, Иоанн Малар, Иоанн Сенедари и Дени Кайлак.
Известия эти обрадовали Эдуарда, потому что Британия была для него свободным путем во Францию, и как он один только не исполнил своего обета из числа всех произнесенных с ним вместе, то изъявил Салисбюри всю радость, которую он ему доставил, исполнив так удачно его поручение. По окончании турнира Салисбюри должен был возвратиться в Маргат для того, чтобы заставить Оливье Клиссона и Годефруа Гаркура подписать их обещание; после чего рыцари должны были получить без выкупа свободу и возвратиться в Бретань.
Наконец свет и в этом окне угас так же, как и в других, и везде воцарилось спокойствие и мрак. Но эта тишина продолжалась недолго. На рассвете дня все начало приходить в движение; сперва народ, который не только был не совсем хорошо помещен, но опасаясь, чтобы не опоздать занять выгодные места, взяв с собою запас пищи на целый день, отправился, не дожидаясь завтрака. Вся эта толпа бросилась в заставу и разлилась широким потоком по пространству, оставленному между ристалищем и галереями. Опасения любопытных были основательны. Половина прибывшего из Лондона народа могла только поместиться на назначенном для него пространстве. Но это не заставило любопытных отказаться от зрелища. И они, убедившись в невозможности всем поместиться на назначенном для них месте, рассыпались по полю и заняли все окрестные возвышения, с которых можно было видеть середину ристалища.
В одиннадцать часов утра трубы возвестили выезд королевы из замка. Король находился уже в своем шатре как сподвижник этого первого дня турнира, с правой стороны от королевы Филиппы находился Готье-Мони, а с левой — Гильом Монтегю, герои следующих двух дней. Прекрасная Алисса следовала за королевой в сопровождении герцога Ланкастера и мессира Иоанна Гейнау; потом за ними ехали шестьдесят дам со своими рыцарями.
Когда все эти знатные особы заняли назначенные для них в галерее места, то взорам представился как будто ковер из разноцветного бархата, испещренный цветами, золотом, жемчугом и драгоценными камнями. Королева Филиппа и графиня Алисса сели друг против друга, на одинаковых тронах, потому что в этот день они обе были царицы, и, вероятно, в эту минуту каждая из зрительниц, если бы была и в самом деле царицею по происхождению, то с радостью променяла бы сан свой на звание царицы, которой была прекрасная Алисса.
Место ристалища имело вид параллелограмма, с двух его сторон были сделаны барьеры, которые должны были отворяться с одной стороны для въезда рыцарей бойцов, а с другой — для сподвижников. На восточной стороне ристалища устроена была возвышенная платформа, и на ней раскинут малинового бархата, вышитый золотом шатер Эдуарда, над этим шатром развевалось знамя с королевским гербом, щит которого разделен был на четыре части, в первой и третьей находились леопарды Англии, а во второй и четвертой лилии Франции. С одной стороны входа в шатер привешен был щит мира, а с другой — щит войны сподвижника; и смотря до которого из них рыцари дотрагивались сами, или приказывали ударить копьем своим оруженосцам, означало в первый — вызов на простой поединок, а во второй — на смертный бой.
Старшины турнира настаивали, чтобы ни под каким видом противники не употребляли другого оружия, кроме карусельного, то есть не отпущенного и тупого; потому что король должен был участвовать в турнире, как сподвижник этого дня, и сражаться со всеми, кто бы его ни вызвал.; Они опасались, чтобы какая-нибудь личная ненависть или измена, не воспользовались этим случаем и не употребили во зло снисхождение короля; но Эдуард на это не согласился, объявив, что он не народный рыцарь, но истинный воин, и что ежели у него есть враг, то он готов с ним сразиться. Поэтому условия были изменены к успокоению зрителей, опасавшихся, что по предлагаемому оружию не произойдет серьезных поединков; потому что хотя и редко, но иногда случалось, что эти поединки превращались в настоящие битвы; и ожидание, что и на этот раз это может случиться, придавало более занимательности и участия при каждой новой встрече противников. И когда простой поединок превращался в борьбу, то даже женщины часто повторяемыми ободрениями невольно обнаруживали пристрастие к такому зрелищу, в котором действующие лица играли роль опасную, а иногда даже и смертельную.
Другие условия поединка не отступали ни в чем от общепринятых правил. Когда рыцарь, выбитый из седла, упадет на землю и не в состоянии будет без помощи своих оруженосцев подняться, то должен считаться побежденным; равно как и тот, который, сражаясь мечом или секирою, при отступлении заставит лошадь свою попятиться до самого барьера. Наконец, ежели происходящий между двумя противниками поединок стал бы кому-нибудь из них угрожать смертью, то старшины турнира должны были, скрестив копья между сражающимися, прекратить предоставленной им властью поединок.
Когда обе царицы заняли места свои и герольд выехал на середину ристалища, прочел громким голосом условия сражения, то музыканты, помещенные возле шатра Эдуарда, заиграли на трубах и литаврах знак вызова; другие музыканты, находившиеся на противоположной стороне, звуком труб отвечали, что вызов принят. Барьер отворился, и вооруженный рыцарь выехал на середину ристалища. Несмотря на то, что забрало его шлема было опущено, но по лазурным и серебряным полосам и золотому полю герба его, находившегося на щите, все узнали в нем графа Дерби, сына графа Ланкастера Кривошеи.
Принуждая коня идти красивою поступью, он выехал на середину ристалища; поворотился в ту сторону, где находилась королева, и отдал ей честь преклонением до земли копья; потом, оборотясь к графине Салисбюри, отдал ей такую же честь при громком рукоплескании всего общества, в продолжение этого времени оруженосец его, проехав через все место ристалища и поднявшись на платформу к шатру Эдуарда, ударил копьем своим в герб мира.
В ту же минуту король вышел из шатра во всем вооружении, кроме только щита, который оруженосцы поспешили подать ему; он, легко вспрыгнув на приготовленного для него коня, выехал с приятностью и величием на ристалище и взял копье на перевес.
Рукоплескания раздались снова. На Эдуарде была венецианская броня, испещренная золотыми бляхами и украшенная блестящею проволокой в виде чудного в восточном вкусе узора. Вместо королевского герба, на щите была изображена звезда, сквозящая сквозь облако, с надписью кругом: Ничто ее не затмит. Тогда старшины турнира, заметив, что противники готовы, подали знак к сражению. В эту минуту оба пришпоренные коня встретились на середине ристалища и оба копья, направленные в забрала шлемов, достигли своей цели, но по округленным оконечностям своим, не пробив стали, соскользнули, не причинив ни одному из сражавшихся никакого вреда, почему оба противника возвратились на свои места и по второму знаку снова бросились один к другому.
Этот раз удары были устремлены в середину щитов, то есть в самую грудь; и несмотря на то, что удары были сильны, рыцари удержались в седле с той только разницей, что граф Дерби потерял стремя и уронил копье, а у Эдуарда осталась в руках одна часть изломанного копья, а две другие полетели в сторону. Оруженосцы то дал и графу Дерби уроненное им копье, а Эдуард взял другое: потом противники, разъехавшись снова в противоположные стороны, устремились в третий раз друг против друга.
Граф Дерби опять направил копье свое на щит своего противника, но Эдуард, следуя первому намерению, метил в шлем графа; и в этот раз оба равно доказали свою силу и искусство, потому что от полученного Эдуардом удара конь его, остановившись, присел на задних ногах, в ту минуту как копье короля, ударившись в середину шлема его противника, оторвало придерживающие его пряжки и он слетел с головы графа Дерби.
Поединок происходил с равным с обеих сторон мужеством; но по утомлению, или из вежливости граф Дерби не хотел продолжать его, поклонился королю, признавая себя побежденным, и удалился с ристалища, при громких рукоплесканиях обоим противникам.
Эдуард вошел в свой шатер. Трубы снова заиграли вызов, и опять ответ был дан с противоположной стороны. Лишь только звуки их умолкли, как другой рыцарь выехал на место ристалища, и по короне, украсившей шлем его видно было, что он был знатного происхождения; и в самом деле, этот противник был Гильом Гейнаузский, зять короля.
Поединок этот был, как и первый, скорее поединком чести и вежливости, нежели настоящим сражением; хотя, впрочем, он был очень любопытен для глаз искусных бойцов, составлявших не только действующих лиц, но даже и зрителей этой сцены; потому что происходил с необыкновенным искусством и ловкостью. Впрочем, в наносимых друг другу противниками ударах заметно было искусно скрытое снисхождение для того, «тобы производимое этим поединком на зрителей впечатление было подобно тому, какое бы произвела в наше время превосходно сыгранная интересная комедия взамен ожидавшейся трагедии. Посему по окончании этого поединка, как ни сильны были рукоплескания, но видно было, что публика ожидала в последующих чего-нибудь важнее и серьезнее. Король и его противник переломили каждый по три копья, потом граф Гильом, признав себя побежденным, удалился так же, как и граф Дерби.
Эдуард, недовольный этими легкими победами, вошел в свой шатер, сожалея, что не вздумал под вымышленным именем вмешаться в число бойцов, вместо того, чтобы согласиться на предложение объявить себя поборником этого дня.
Лишь только король скрылся, как позывные звуки труб с его стороны раздались снова, но ответа на них не было. Все начали было роптать, что турнир так скоро должен был прекратиться; но вдруг на противоположной стороне трубы заиграли французскую арию. Это доказывало, что французский рыцарь требует сражения.
Взоры всех присутствующих обратились к барьеру, в который въезжал рыцарь, хотя, впрочем, среднего роста, но по управлению конем и ловкости, с которою он держал копье, можно было заметить в нем необыкновенную силу и искусство. В щите герба его были три золотые с распущенными крыльями орла, — два, помещенные внизу, а третий над ними, и были все увенчаны французскою лилиею. По одному этому значению, вероятно, никто не мог бы в наше время определить, кто был этот новый противник. Но граф Салисбюри узнал в нем того молодого рыцаря, который на другой день после встречи при Биронфосе по приказанию Филиппа Валуа перебрался через болото, разделявшее накануне английскую и французскую армию, осмотрел покрывающий склон горы лес и, не найдя в нем никого, на самой вершине горы водрузил в землю, как сказано выше, свое копье. Отправляя его с этим опасным поручением, Филипп, посвятив его в рыцари, возложил на него сам оружие, а по возвращении, в награду за оказанное мужество, позволил прибавить к прежним изображениям его герба лилию, что по герольдике называется — увенчать герб лилией.
Молодой рыцарь при въезде своем па ристалище возбудил воинственным своим видом всеобщее любопытство, с вежливостью, свойственной всему дворянству Франции того времени, он, остановившись перед королевою, поклонился ей так низко, что шлем его коснулся гривы коня, преклонив в то же время и копье до самой земли; потом, осадив коня, принудил его с одного раза оборотиться прямо к графине Салисбюри, которой поклонился точно так же, как и королеве; после чего, важно, без излишней медленности и поспешности, приблизился сам к шатру короля, вероятно, для того, чтобы оказать больше чести своему противнику, и железным концом копья смело ударив в щит войны, спустился с возвышения, принуждая коня выполнять самые трудные движения конской поступи.
Король вышел из шатра в полном вооружении, прика зал привести себе другого коня и как ни был уверен в своих оруженосцах, однако, осмотрел сам с особенным вниманием, исправно ли был оседлан и взнуздан конь; потом, обнажив меч, осмотрел как клинок, так и рукоять его и, убедившись в исправности того и другого, опустил меч в ножны; после чего, приказав пристегнуть себе другой щит, вспрыгнул с такою легкостью на коня, какой невозможно было ожидать от человека, так тяжело вооруженного.
Любопытство зрителей было в высшей степени возбуждено потому, что хотя мессир Есташ Рибомон и исполнил вызов свой со всевозможною вежливостью, но очевидно было, что этот раз должно было ожидать настоящего сражения; и хотя побудительною к нему причиною не была личная ненависть, но не менее того, соперничество обеих наций давало больше важности этому поединку, нежели двум предшествующим. Эдуард занял свое место на ристалище при глубоком молчании всех присутствующих. Мессир Есташ при приближении Эдуарда взял так же, как и король, копье на перевес, старшины подали знак, и оба противника устремились друг к другу.
Рыцарь направил копье свое в забрало шлема противника, а король против щита рыцаря, и оба удара были верны, шлем Эдуарда слетел с головы его в ту минуту, как копье его, преломившись на фут от оправы, осталось вонзенным в вооружение рыцаря. Все думали, что мессир Есташ ранен; но железо, пронзив вооружение, остановилось в железных петлях латного ошейника; и он к успокоению зрителей, опасение которых обнаружилось ропотом, освободив остановившееся в его вооружении железо, отбросил его в сторону и поклонился обеим королевам в знак того, что удар этот не причинил ему никакого вреда. Королю подали другой шлем и другое копье, и оба противника, разъехавшись, остановились на прежних местах, тогда старшины подали опять знак к бою. Этот раз оба удара попали прямо в грудь каждому из противников, и от силы их обе лошади, присев на задние ноги, поднялись передними, но рыцари остались в седле неподвижны, как статуи; оба копья разлетелись на несколько частей и обломки их отлетели к самой галерее, где помещались зрители. Оруженосцы подали противникам новые копья, и всякий, взяв свое, приготовился в третий раз к сражению.
И как ни поспешно подан был знак к бою, но для противников он казался замедленным; и лишь только они его заметили, то бросились с таким стремлением один к другому, что, казалось, будто оба коня разделяли нетерпение рыцарей; мессир Есташ повторил опять тот же удар, но Эдуард переменил свой, и копье его, ударив прямо в забрало, сбросило шлем с головы рыцаря, ув ту минуту, как Есташ Рибомон ударил короля прямо в грудь с такою силою, что осевший назад конь Эдуарда оборвал подпругу, от чего седло соскользнуло со спины его, но король, не упав, стал на ноги; противник его, спрыгнув с коня, нашел Эдуарда, освободившегося из стремян. Поэтому, закрыв голову щитом, обнажил меч, но Эдуард, остановив его, дал знак, что не возобновит сражения до тех пор, пока он не наденет другой шлем. Мессир Есташ повиновался, и король, увидев его в шлеме, в свою очередь обнажил меч.
Но прежде чем они успели начать снова поединок, оруженосцы привели с противоположных сторон коней, и пока рыцари садились на них, слуги подобрали обломки сломанных копий. Когда оруженосцы и слуги удалились, старшины турнира подали знак к сражению.
Эдуард был самый храбрый воин из всего королевства, и мессир Есташ по первым полученным от него ударам заметил, что ему надо сражаться со всей силой и всей ловкостью, на какие он только был способен. Но он и сам, по свидетельству тогдашних летописей, был также одним из числа самых мужественных рыцарей свел о времени; ни сила, ни быстрота нападений не приводила его в смущение, и он возвращал каждый получаемый им удар с твердостью и хладнокровием, что и подтверждало мнение Эдуарда, что он находится против достойного ему противника.
Ожидание зрителей вознаградилось; потому что перед их глазами происходило настоящее сражение. Оба меча, по блестящим в них солнечным лучам, казались огненными, и удары были так быстро наносимы и отражаемы, что можно было только заметить: на чго они падали, — на щит, шлем или броню, по сыпавшимся из них искрам. Оба противника больше всего устремляли удары в шлемы, и по учащенным, полученным мессиром Есташем ударам, перья из его шлема все исчезли, а Эдуард лишился из драгоценных камней короны, украшавшей его шлем. Наконец, меч Эдуарда обрушился с такою силою на голову его противника, что несмотря на всю твердость шлема, он рассек бы ее непременно, если бы мессир Есташ не прикрылся вовремя щитом своим. Ужасное лезвие рассекло металлический, щит пополам, как будто кожаный, и одна из застежек лопнула. Мессир Есташ отбросил оставшуюся у него на голове половину шлема, которая вместо защиты сделалась для него помехой; и, взяв меч в обе руки, нанес в свою очередь такой жестокий удар по шлему короля, что клинок разлетелся на мелкие части, и одна рукоять осталась у него в руках.
Молодой рыцарь отступил шаг назад, чтобы взять другой меч у своего оруженосца, но Эдуард, подняв забрало своего шлема, сделал шаг вперед и, взяв за клинок меч свой, рукоятью подал его своему противнику.
— Мессир, — сказал он ему с той благосклонностью, с которою говорил всегда в подобных случаях, — не угодно ли вам принять этот меч? У меня, как у Ферагуса, всегда семь мечей в готовности, и все семь чудного закала. Такая искусная и сильная рука, как ваша, должна непременно владеть таким оружием, на которое можно бы было положиться; возьмите же, мессир, мой меч, и мы начнем опять поединок, с одинаковым равенством.
— Принимаю с удовольствием, Ваше Величество, меч ваш, — отвечал Есташ Рибомон, поднимаю в свою очередь забрало шлема, — но сохрани меня Бог, чтобы я употребил лезвие этого меча против того, от кого его получил; признаю себя побежденным, государь, сколько вашим мужеством, столько же и снисхождением; этот меч будет мне драгоценен, я клянусь над ним и им, сохранить его навсегда, и ни в турнире, ни в войне не отдать его никому, кроме вас. Теперь окажите мне последнюю милость, государь, представьте побежденного вами Ее Величеству королеве.
Эдуард подал руку молодому рыцарю и пошел с ним при громких рукоплесканиях всех зрителей к трону королевы Филиппы, которая, сняв со своей шеи драгоценную золотую цепь, обвила ею руку побежденного, в знак его неволи, и объявила, что в продолжение всех трех дней турнира не желает иметь другого невольника. Почему и посадила его у ног своих; Эдуард вошел в свой шатер и, надев другой шлем, приказал трубачам подать знак вызова; но из уважения, или опасения, трубы противоположной стороны не отвечали; и на три повторенных вызова ответа не было. Герольды явились на место ристалища и, обращаясь на все стороны, кричали: милости щедрых наград, господа благородные рыцари!., и золотые монеты посылались с амфитеатра на арену.
Так как день склонялся уже к вечеру и время ужина приближалось, то старшины, подняв свои копья, украшенные флюгерами с изображением наверху герба Англии, а внизу собственного, дали этим знать, что турнир первого дня кончен. В ту минуту обе музыки, находящиеся на противоположных сторонах, затрубили отступление, и поезд отправился прежним порядком обратно в замок.
Эдуард угощал ужином всех английских и иностранных рыцарей, а королева — дам и девиц; после ужина все общество, — как дамы, так и рыцари, отправилось в другую залу, где ожидали их множество фокусников, музыкантов и плясунов.
Король открыл бал с графинею Салисбюри, а королева с мессиром Есташем Рибомоном. Эдуард был в восхищении, потому что вся честь этого дня принадлежала одному ему, как королю и как рыцарю, и все это в глазах страстно любимой им женщины. Успокоенная Алисса безо всякого опасения предалась удовольствию танцевать со всею беззаботностью молодости и счастья. Эдуард, пользуясь этой доверенностью, как будто без намерения жал ей руку, которую она в танцах ему подавала, или касался устами развевающихся ее локонов, чтобы насладиться пленительным и жгучим благоуханием, разливающимся всегда около женщин в теплой атмосфере бала. В середине запутанных фигур, составлявших в то время основу танцев, одна и) подвязок графини, которые были голубого цвета, вышиты серебром, упала, так что она этого не заметила. Эдуард бросился ее поднимать, но как ни быстро было его движение, но многие, заметив это, угадали причину похищения короля и, встретив многозначительные взоры и улыбки, обвязал поднятую им ленту около своей ноги и сказал: да будет бесчестен тот, кто зло об этом помышляет!
Этот случай был основанием ордена подвязки.
Глава XX
На другой день в то же самое время, как и накануне, галереи были снова наполнены зрителями; ристалище готово, и старшины на своих местах, но шатер изменился; наружность его была проще и воинственнее. И вместо вчерашнего знамени, украшенного гербами Англии и Франции, над ним развевался простой зеленый с золотыми полосами флаг. Потому что сподвижником этого дня был Готье-Мони, и шатер принадлежал ему. Известная храбрость этого молодого рыцаря была для зрителей верным ручательством, что они увидят в этот раз чудеса военных подвигов.
Те из рыцарей, которые накануне не смели вызывать на бой короля, предоставили себе это право в настоящее время; и желающих было так много, что с аршины должны были бросить жребий, чтобы избрать только десять противников, полагая, что и из этого числа рыцарей трудно будет сподвижнику выдержать с каждым особый поединок. Словом, написав всех желающих на лоскутках пергамента, бросили их в шлем и первые десять рыцарей, шлема которых вынутся, должны будут сражаться в продолжение этого дня, и в том порядке, как их имена одно за другим последуют. Избранные судьбою для этого дня были: граф Мерфор, граф Арондель, граф Суфольк, Рожер граф Марк, Ион граф Лисль, сир Вальтер Павели, сир Ришар Фиц Симон, лорд Голанд, сир Ион Лорд Грей Коднор, и неизвестный рыцарь, который был вписан под именем молодого искатели приключений.
Готье-Мони поддержал приобретенную им славу; потому что пять первых противников были выбиты из седла, трое потеряли шлемы, и один только граф Суфольк с равною Готье-Мони ловкостью и силой окончил поединок.
Очередь неизвестного рыцаря наступила. Вызванный звуками труб и литавр так же, как и его предшественники, он, выехав в ристалище, велел своему оруженосцу, не следуя примеру своих предместий, которые дотрагивались до щита мира, ударить в щит войны.
Готье-Мони, в котором первые поединки возбудили только желание настоящего боя, поспешно вышел из шатра, подобно ратному коню, услыхавшему призывный звук трубы; потому что эти легкие, похожие на игру, поединки его утомили. Пока подводили ему свежего коня и подавали новое копье, он обратил взор на ристалище; казалось, хотел узнать своего противника, но ничего не изобличало ни его происхождения, ни звания; и на щите не было ни украшения, ни герба, и одни только золотые шпоры означали рыцарское достоинство, но больше ничего нельзя было заметить. Конь, меч и военная секира составили его вооружение. Готье-Мони, застегнув щит, въехал на место ристалища и, остановясь, приказал прицепить секиру к луке седла, потом, приняв от своего оруженосца копье, взял его на перевес; в это время противник его, удалившись на свое место, готовился также к бою.
По данному знаку оба рыцаря с ужасной быстротой бросились один против другого. Удар копья Готье-Мони направлен был в забрало шлема неизвестного, но не нашел препятствия на поверхности шлема за недостатком украшений, сталь скользнула по стали, не причинив ни малейшего вреда, противник же ударил копьем Готье-Мони с такою силою прямо в щит, что оно по прочности своей, не переломясь, вылетело у него из рук. Оруженосец, в ту же минуту подняв, подал ему опять копье. Рыцари снова заняли свои места и приготовились к вторичной встрече.
Этот раз опять убедил Готье-Мони направить удар в грудь своего противника, действовавшего так же, как и прежде. Почему и получил каждый из них удар в щит, и они были сделаны с такой силой, что оба коня, остановившись, задрожали на всех ногах: сила рыцарей была и при этой встрече почти одинакова. Неизвестный рыцарь опрокинулся назад, как дерево, преклоненное ветром, но в ту же минуту поднялся. Готье-Мони потерял стремена, но нашел их с такою поспешностью, что с трудом можно было заметить, как он пошатнулся; оба копья разлетелись ча мелкие части.
Оруженосцы хотели подать другие, но, едва укрепясь в седле, неизвестный рыцарь обнажил меч; Готье-Мони последовал его примеру, так что, не успев сделать ни одного шага с места, бой возобновился к величайшему любопытству зрителей.
Оружие, на котором происходил бой, было ужасно в руках Готье-Мони: он был столько же ловок, сколько и силен, поэтому мало встречал людей, которые могли бы устоять против силы его руки и верно рассчитанного удара. Противник его, очевидно, не имел такого превосходства, однако, защищаясь, как человек, хотя и уступающий в силе и ловкости своему неприятелю, не менее того подвергал и его опасности. Казалось даже, что победа должна быть на стороне неизвестного рыцаря, потому что клинок меча Готье-Мони разлетелся на части, и он, оставшись безоружным, должен был приняться за секиру. Пока он ее отстегивал, нанесенным ему в голову ударом оборвались обе застежки шлема и он остался с открытой головой; но в то же почти мгновение, прикрыв себя щитом, он начал так сильно теснить своего противника секирой, что тот должен был, оставив нападение, заботиться только о защите. Тщетно старался он отразить ужасное оружие клин ком меча своего, — меч его разлетелся вдребезги, и Готье-Мони, воспользовавшись этим случаем, который минутой прежде подверг было его опасности, нанес сильный удар острием секиры по шлему своего противника, от которого неизвестный рыцарь, вскрикнув, распростер руки и, упав на землю, остался без движения. Старшины турнира ту же минуту скрестили копья между сражающимися; оруженосцы, поспешив на помощь побежденному, отстегнули застежки его шлема, он был без чувств, и кровь ручьем лилась из полученной им в голову раны.
Взоры всех с любопытством устремились на неизвестного рыцаря. Он был лет двадцати пяти, смугл лицом, черные волосы и выразительные черты его лица доказывали южное происхождение. Но ко всеобщему удивлению никто из присутствующих не знал его, и Готье-Мони напрасно старался припомнить себе эти бледные и окровавленные черты лица, которых невозможно было по их выразительности забыть: если кто хоть один раз их видел, то сразу и убедился, что он никогда не встречался с этим молодым человеком. Турнир этого дня кончился, король и королева отправились обратно в замок Виндзор, где роскошный обед ожидал все общество, в той же зале, как и накануне; и невероятным казалось, чтобы могло собраться вместе такое множество знатных особ; потому что в этот день находились за одним столом: король, двенадцать принцев, восемьсот рыцарей и пятьсот дам.
По окончании обеда присланный от неизвестного рыцаря оруженосец, вызвав Готье-Мони, сказал ему, что раненый пришел в себя, и прежде смерти хочет открыть тайну тому, кто его так ужасно наказал за безрассудно сделанный им вызов. Готье-Мони пошел за оруженосцем, и по поспешности, с которой шел посланный, заметил, что нельзя терять времени, почему и прибыл скоро к шатер умирающего. Он лежал на медвежьей коже, лицо его было чрезвычайно бледно, и жизнь приметна была только в глазах, оживленных жаром лихорадки. Увидев Готье-Мони, умирающий узнал в нем своего победителя, черты лица которого видел только в ту минуту, как во время поединка упавший шлем открыл его лицо; подняв голову, он приказал слугам своим удалиться и знаком просил Готье-Мони сесть подле себя. Рыцарь поспешно исполнил его желание. Раненый наклонением головы поблагодарил его; и потом, утомленный этим усилием, опять упал, испустив стон, которою не мог удержать, несмотря на все свое мужество.
Готье-Мони думал, что он умирает; но час его еще не наступил; спустя несколько секунд раненый, собравшись и силами, открыл глаза.
— Мессир Готье, — сказал он слабым голосом, — мне кажется, вы дали обет?
— Да, — отвечал Готье-Мони, — я поклялся отомстить за смерть отца моего, умерщвленного в Гвиенне, найти сперва его могилу, потом убийцу, и убить его на том самом месте, где покоится прах моего отца.
— Вы не знаете, в каком городе он убит?
— И вы не знаете, где похоронено его тело?
— И этого не знаю.
— У меня, мессир, есть также мать, которая не будет знать, в каком городе я был смертельно ранен, и где будет моя могила; мать, которой необходимо оплакать сына, так же, как и вам, мессир, необходимо оплакать отца; обещайте же мне исполнить то, о чем я буду просить вас в последнюю предсмертную минуту.
— Что вам нужно?
— Клянитесь мне, что, по смерти моей, вы, положив труп мой в дубовый гроб, отправите его в то место, которое я вам назначу, для того, чтобы прах мой покоился в земле родной подле предков моих; а я взамен этого, скажу вам, мессир, как был убит отец ваш и где он ожидает всеобщего воскресения.
— Клянусь исполнить все, что вы хотите, — вскричал Готье-Мони; — только ради Бога, говорите!
— Слыхали ли вы о славном турнире, бывшем в Камбре, около тысячи триста двадцать второго года?
— Слыхал, — отвечал Готье-Мони, — потому что мой отец приобрел себе большую славу в этом турнире.
— Точно так, — продолжал раненый, — и в одном из поединков этого турнира до того изуродовал одного молодого рыцаря, что он не в состоянии был сесть на коня, но должен был велеть нести себя на носилках обратно в город Реоль, где находились его родители. Отец этого молодого рыцаря был Иоанн Леви, а мать Констанция Фуа, дочь Рожера Бернарда, графа Фуа. Несмотря на все старания его родителей, для которых это несчастье тем более было ужасно, что у них другой сын был еще в колыбели, этот молодой рыцарь не мог выздороветь и умер в тех самых летах, в которых и я теперь умираю.
— Года два спустя после его смерти, когда скорбь, причиненная этой потерей, была еще свежа в его семействе, мессир Леборн-Мони, отец ваш, отправился на поклонение Святому Иакову в Галицию; и возвращаясь, исполнив этот обет, узнал, что Карл граф Валуа, брат короля Филиппа, находится в Реоле, почему и поехал в этот город, чтобы засвидетельствовать почтение своему августейшему родственнику[15], где и пробыл довольно долго, потому что граф Валуа был очень рад свиданию с ним; слух о его приезде в Реоль дошел и до опечаленного им семейства. И это было чрезвычайно неблагоразумно с его стороны, согласитесь сами, мессир, подвергать себя мщению отца; поэтому последствия были те, каких и надо было ожидать. Однажды вечером мессир Леборн-Мони, возвращаясь из отдаленной части города во дворец графа Валуа, встретил двух человек — господина и его слугу; господин, обнажив меч, кричал отцу вашему, чтобы он защищался. Отец ваш начал обороняться так мужественно, что скоро стал теснить своего противника; слуга, заметив это, приблизился со стороны к мессиру Леборн-Мони и пронзил его насквозь мечом.
— Убийцы! — сказал тихо Готье.
— Не прерывайте меня, ежели хотите все знать, — я чувствую, что мне только несколько минут остается жить.
Граф Гильом Гейнаузский женился на дочери графа Валуа; поэтому мессир Леборн-Мони и сделался родственником графа Валуа.
— Прежде всего, — вскричал Готье, — скажите, верно, они оставили тело его без погребения?
— Нет. Успокойтесь, — продолжал умирающий, — тело отца вашего было унесено и предано с исполнением всех церковных обрядов земле, потому что тот, кто напал на него, желал поединка, но не убийства. И он предполагал, что отданные убитому почести погребения послужат ему очищением греха, невольного и непредвиденного убийства, почему, похоронив тело, велел поставить над ним мраморный памятник с высеченным на нем крестом и вместо надписи вырезал одно только латинское слово: Orate, для того, чтобы молящиеся на его могиле молились вместе за убитого и за убийцу.
— Где же его могила? — спросил Готье-Мони.
— Тогда она была за городом, — отвечал раненый, — но так как город с того времени распространился то она теперь находится внутри его стен; и вы можете ее найти в саду монастыря братьев Кордилиеров[16] в конце улицы Фуа.
— Хорошо, хорошо, — сказал Готье-Мони, замечая что молодой рыцарь ослабевал, — теперь, пожалуйста, скажите последнее слово. Этот Иоанн Леви, убийца отца моего, где он?
— Больше десяти лет, как он уже умер.
— Но вы мне сказали, что у него был сын, и теперь он должен быть совершенных лет.
— Этот сын его умрет сегодня от руки вашей, мессир, — отвечал слабым голосом умирающий, — поэтому обет вашего мщения исполнен; теперь исполните только обет милосердия. Вы обещали отослать труп мой к моей матери. Ради Бога, не забудьте этого!
И молодой человек, упав на свое военное ложе, тихо произнес женское имя и умер.
В тот же вечер мессир Готье-Мони просил у короля Англии позволения сопутствовать графу Дерби, который должен был, по окончании турнира, отправиться с большим отрядом войск на помощь англичанам в Гасконь тогда как Томасу Агворту поручено было вооруженной рукой продолжать дела графини Монтфорской, которые непременно должны были улучшиться по заключенному договору графом Салисбюри с мессиром Оливье Клиссоном и сиром Годефруа Гаркуром, подпись которого должна была через несколько дней возвратить свободу обоим рыцарям.
Глава XXI
Третий день турнира принадлежал, как сказано выше, Гильому Монтегю, возведенному в достоинство рыцаря королем Эдуардом, по обещанию, данному в замке Варк, чтобы он мог участвовать в поединках в присутствии графини Салисбюри, и молодой рыцарь считал этот день для себя праздником, потому что решился остаться победителем или умереть. Для того, чтобы в первом случае быть увенчанным ею, а во-вторых, умереть в глазах ее, — и то и другое считал для себя одинаковым счастьем.
Впрочем, чтобы сделать честь своему крестнику, Эдуард хотел первый преломить с ним копье, потом для второго с ним поединка королева возвратила на этот день свободу своему пленнику мессиру Есташу Рибомону, наконец, третий поединок предоставлен был всеми рыцарями Гильому Дугласу по вызову, сделанному им перед замком Варк и принятому в Стирлинге, в то время, как Гильом Монтегю прислан был с письмом короля Эдуарда к королю Давиду; следствием этого письма по ходатайству короля Давида перед королем Франции был размен графа Мюррая и мессира Петра Салисбюри.
Первые два поединка были совершенно карусельные в виде наших состязаний в фехтовальном зале; каждый из противников оказал довольно силы и ловкости; два или три копья были преломлены, и Гильом Монтегю вышел из боя с одинаковой честью, как и два храбрейшие рыцаря целого Света; но в третий раз все знали, что игра должна была превратиться в серьезный поединок; потому что слух о вызове, сделанном прежде Гильомом Дугласом Гильому Монтегю, разнесся по всему собранию, и, оплакивая смерть неизвестного рыцаря, все надеялись испытать еще раз волнение, произведенное накануне над всеми, поединком, в котором он пал.
Вызов, сделанный музыкантами на платформе, произвел в зрителях сильное участие и нетерпение. Опасения любопытных, что вызов не будет принят, рассеялись звуком четырех шотландских волынок, которые горной шотландской песней отвечали на вызов труб и литавр. В ту минуту барьер отворился, и Дуглас въехал на место ристалища. Все его узнали по новому в гербе украшению, щит которого был разделен надвое, верхняя часть его была лазуревого цвета, а нижняя серебряная, — на лазуревом поле находилась золотая корона, а на серебряном кровавого цвета сердце; это последнее украшение герба Дугласов, на котором прежде находились три красные звезды на серебряном поле, получено ими было после геройской смерти доброго лорда Жама Дугласа, павшего в Гренаде, как сказано выше, в то время, когда он вез в святую землю сердце своего короля и друга Роберта Брюса Шотландского.
Общий ропот участия и любопытства встретил Дугласа, потому что он вдвойне был знаменит как подвигами своего отца, так и своими собственными. Слух о его отважных предприятиях, верности королю Давиду и ужасных потерях, причиненных им англичанам, с десятилетнего почти его возраста, когда он впервые взял в руки копье и меч, делал его предметом участия мужчин и удивления женщин. Гильом Дуглас, подняв забрало своего шлема, отвечал на это участие поклоном королеве Филиппе и графине Салисбюри. В эту минуту все увидели черты лица молодого двадцатилетнего человека; и удивление усилилось, потому что всем невероятным казалось, как мог он в таких юных летах составить себе такую славу. Гильом Дуглас, поклонясь обеим королевам, опустил забрало шлема и, поднявшись на платформу, ударил острием копья своего в щит войны Гильома Монтегю.
Гильом Монтегю в то же мгновение показался в дверях шатра.
— Хорошо, мессир, — сказал он, — вы исполнили ваше обещание, явились на свидание со мной, и я вам за это очень благодарен.
— Вы говорите, молодой рыцарь, так, как будто вызов сделан вами; но вы заблуждаетесь: вызов сделал я, мессир, и от меня зависит исполнение в точности этого дела.
— Кем бы он не был сделан, мессир, это все равно, ибо он равно храбро как сделан, так и принят. Почему и прошу вас, немедля, занять ваше место, потому что я прежде буду на своем, нежели вы на вашем.
Дуглас поворотил коня, и пока Гильом Монтегю пристегивал щит и выбирал себе копье, он проехал снова все ристалище; потом, достигнув того барьера, через который въехал, опустил забрало шлема, взял копье на перевес и, оборотив коня, увидел, что противник его стоит уже на месте. Гильом в одну минуту взял тоже копье на перевес, и старшины турнира, заметив, что противники готовы к удовлетворению общего нетерпения, подали знак к сражению.
Оба молодые рыцари устремились с такой быстротой друг против друга, что им невозможно было принять предосторожностей; поэтому, хотя оба копья и достигли шлемов, но они соскользнули со стали, блеснули только огненными искрами, а противники, увлеченные быстротой коней, проскакали мимо, не сделав ни малейшего вреда один другому. Однако оба, остановив с силой и искусством истинных наездников коней своих, заняли каждый места свои для вторичной встречи.
Этот раз Дуглас направил острие копья в щит противника и ударил его с такой силой в грудь, что копье преломилось на три части, а Гильом Монтегю упал на спину своего коня. Его же удар был так верен, что шлем слетел в головы Дугласа и кровь хлынула из носа и рта шотландца. В первую минуту все почли его тяжело раненым; но он сам знаком дал знать, что хочет еще раз встретиться со своим противником; и, надев другой шлем, взяв новое копье, возвратился на свое место. Что же касается Гильома Монтегю, то он выправился в одно мгновение, как гибкое преклоненное ветром дерево и, оборотив коня, в ожидании, пока Дуглас будет готов, поехал к своему месту. Дуглас не заставил себя дожидаться, и по данному старшинами знаку оба молодых рыцаря с остервенением бросились друг против друга.
Эта встреча была так жестока, что конь Дугласа присел, а подпруга седла Гильома Монтегю лопнула, от чего оба противника свалились на землю, — Дуглас встал на ноги, а Монтегю на одно колено. Но прежде, нежели шотландец смог приблизиться на половину расстояния, отделяющего его от противника, зашатался и по текущей из-под брони его крови видно было, что он опасно ранен. Старшины в ту же минуту скрестили копья в знак прекращения поединка. И тогда только заметили, что и Гильом Монтегю был также тяжело ранен; потому что он, стараясь подняться, упал сперва на оба колена, а потом на руку. В самом деле, противники ранили друг друга; копье Гильома Монтегю прокололо щит и, соскользнув по нагруднику Дугласа, вонзилось ему ниже плеча, тогда как копье Дугласа, пробив забрало шлема, остановилось выше брови во лбу Гильома Монтегю и, переломившись, пригвоздило шлем к голове.
Старшины поняли в ту же минуту опасность обеих ран и, спрыгнув с лошадей, бросились на помощь раненым; мессир Иоанн Бомон к Дугласу, а Салисбюри к Гильому Монтегю, и пока шотландца уводили с ристалища, граф Салисбюри хотел вынуть из раны острие преломившегося копья, но Гильом остановил его руку.
— Нет, дядюшка, подождите, — сказал он, — я боюсь умереть в ту минуту, как копье будет вынуто из раны; позовите священника, я хочу кончить жизнь, как христианин.
— Не позвать ли прежде врача? — спросил Салисбюри.
— Священника, дядюшка, священника, и поскорее ради Бога!
Граф Салисбюри позвал громко сидящего подле королевы епископа Линкольнского, объявив ему, что рана опасна и может быть смертельной.
Графиня тихо вскрикнула, многие дамы упали в обморок, другим сделалось дурно; епископ сошел с возвышения и приблизился к графу Салисбюри.
Тогда посреди ристалища, собрав последние силы для священного действия, Гильом Монтегю стал на колени, скрестил на груди руки и исповедался в полном вооружении; епископ Линкольнский дал кающемуся отпущение грехов, в присутствии всех женщин, молившихся о раненом, и всех рыцарей, которые как милости от Бога просили себе такой же прекрасной смерти, какую он посылал Гильому Монтегю.
Получив отпущение грехов, раненый, не страшась уже более смерти, не противился тому, чтобы железо было вынуто из раны; поэтому граф Салисбюри, приблизившись к племяннику, положил его на спину и, упершись коленом в грудь его, с большим усилием успел выдернуть из раны обломок копья; потом отстегнув шлем, которого прежде невозможно было снять, потому что он, как сказано выше, был пригвожден к голове раненого; и, освободив его от этой тяжелой железной оболочки, заметил, что Гильом Монтегю был без чувств; оруженосцы бросились к нему на помощь, и граф Салисбюри перенес с ними раненого в его шатер.
Присланный Эдуардом придворный доктор осмотрел рану. Салисбюри, любивший Гильома Монтегю как сына, со страхом ожидал проговора; но к довершению его опасений он был для молодого рыцаря неблагоприятен. Доктор приказал подать себе обломок вынутого из раны копья и по запекшейся на нем крови заметил, что оно на два дюйма глубины вонзилось в рану. Доктор значительно покачал головой, как человек, теряющий последний луч надежды. В эту минуту явились слуги от короля с приказанием перенести Гильома Монтегю в назначенные для него комнаты замка Виндзора; но по слабости, в которой находился раненый, доктор воспротивился исполнению желания Эдуарда.
Салисбюри принужден был оставить Гильома Монтегю прежде, чем он пришел в чувство. Обязанности службы призывали его к королю, потому что в тот же самый вечер он должен был отправиться в Марган для того, чтобы Оливье Клиссон и сир Гаркур подписали свое обещание, получили через него от короля свободу. Салисбюри был из числа тех людей, которые для исполнения обязанностей службы жертвуют сердечными привязанностями; так что, поручив Гильома Монтегю как сына своего попечениям доктора, отправился к Эдуарду.
Графиня Салисбюри просила позволения короля не присутствовать за ужином, на что король изъявил согласие; потому что и он так же, как и все присутствующие, понимал огорчение, причиненное ей этим несчастным случаем. Всем было известно, с каким почтением и верностью молодой человек охранял ее во все время плена графа; и хотя некоторые и подозревали в поведении племянника привязанность нежнее той, которая должна бы быть по одному только родству, но добродетель графини Алиссы так была всем известна, что эти подозрения нимало не повредили ей в общем мнении. Впрочем, хотя и отдавали справедливость графине в непорочности чувств ее к молодому кастеляну, но надо признаться, что она имела к нему чувство истинной, нежной братской дружбы, к которой присоединялась жалость, ощущаемая всегда женщиной, как бы добродетельна она не была к человеку, который ее тайно и безнадежно любит.
Алисса при входе Салисбюри не старалась скрыть своего огорчения, она была уверена, что он не упрекнет ее за слезы, проливаемые ею по его племяннику. И в самом деле, Салисбюри, собрав только все свое мужество, мог и сам воздержаться от слез. Он пришел проститься с графиней, потому что, несмотря на все убеждения Эдуарда отложить на несколько дней поездку в Маргат, непоколебимый посланник понимал всю важность поручения, спешил его исполнить и в тот же вечер отправился, поручив Гильома попечениям графини.
Эта разлука, как ни казалась она кратковременной, происходила при несчастных предзнаменованиях и была с обеих сторон сопровождаема грустными предчувствиями; и ежели бы сердце графа Салисбюри было менее предано королю и не так твердо в исполнении своих обязанностей, то он, наверное, упросил бы Эдуарда выбрать кого-либо другого, вместо него, для окончания начатого им дела. Но граф отвергнул эту мысль, пришедшую ему в голову, как преступление и, черпая новую силу в обвинении себя за то, что хотя и на одно мгновение, но мужество его поколебалось, он простился с Алиссой, предоставив ей на волга ожидать его возвращения в Лондон или отправиться обратно в замок Варк.
Когда графиня осталась одна, то все эти грустные мысли наполнили ее душу сильнейшей грустью, и несчастье, случившееся с Гильомом, представилось ей во всем его ужасе. По этой причине, желая разрешить сомнение, позвала одного из пажей и приказала ему узнать о состоянии здоровья раненого. Паж через несколько минут возвратился; потому что, как сказано выше, шатры рыцарей отделены были от замка только ристалищем. Гильом все еще был без чувств, поэтому доктор и не мог изменить прежних своих определений; по его мнению, рана была смертельна, и хотя и можно было ожидать, что раненый придет в чувство, но не было никакой надежды, чтобы он мог прожить более суток. Ответ этот, несмотря на то, что Алисса должна была ожидать его, по словам графа, поразил ее жестоко, она припомнила неограниченную его к ней преданность, робкую безмолвную любовь в продолжение целых четырех лет, в которые Гильом Монтегю не оставлял ее ни на минуту, кроме только кратковременной по ее приказанию и для ее же спасения отлучки из замка Варк. В продолжение этих четырех лет она все происходящее в сердце молодого человека читала, как в книге, листы которой перевертывало в ее глазах время, и в этом сердце видела только чистую любовь. Представив себе несчастного раненого молодого человека, который еще накануне был весел, здоров, с прекрасными надеждами на будущее, она думала, что он сего дня придет в себя для того только, чтобы узнать всю опасность своего положения и чувствовать приближение смерти. Оставленный всеми, лежал он один в шатре своем, и ей казалось, что если она даст ему умереть в отсутствие двух единственно им любимых существ, то совесть будет укорять ее во все продолжение ее жизни. Несколько времени она не решалась, раза два вставала, потом в раздумье опять падала в кресла; опасаясь, чтобы не перетолковали в дурную сторону замышляемое ею посещение, сознавая чувство свое к нему сильнее одних родственных связей. Наконец, сердце превозмогло мнение Света и она, накинув на голову покрывало, одна без пажа или слуги, вышла из замка Виндзора и пошла к шатру Гильома Монтегю.
Предположение доктора оправдалось; Гильом пришел в себя, и медик, получивший приказание Эдуарда беспокоиться равномерно об обоих раненых, воспользовался этой минутой, чтобы навестить Дугласа, который хотя и безопасно, но однако же был тяжело ранен. Гильом Монтегю был в горячке и по временам в бреду; едва несколько человек могли удерживать его в постели. В эти минуты ему представилась тень, к которой, употребляя все усилия, он хотел броситься, и несмотря на то, что находился в бреду, но осторожность его была так велика, что ни одного раза не произнес имя той, которую любил, призывая ее только мольбою и жалобными стонами. В одну из этих восторженных минут графиня приподняла занавес, прикрывающий вход в шатер, и присутствием своим осуществила лихорадочный бред, предшествовавший ее появлению. Люди, удерживавшие Гильома, увидев осуществившееся видение, им призываемое, невольно его оставили, даже сам Гильом вместо того, чтобы броситься к ней навстречу, откинулся назад в постель, устремил неподвижно взор, скрестил руки на груди и, казалось, как будто молился. По данному графиней знаку, слуги вышли из шатра, но остановились за занавесом, чтобы успеть явиться опять по первому приказанию.
— Вы ли это, графиня, — сказал Гильом, — или ангел, принявший образ ваш, явился, чтобы усладить переход мой из этой жизни в вечность?
— Я, Гильом, — отвечала графиня, — дядя ваш не мог прийти к вам, потому что по обязанности службы и по велению короля должен был ехать, а я не хотела оставить вас одних и пришла сама вйесто графа.
— Да, это ваш голос, — сказал Гильом, — я видел вас тогда, как вы не были здесь, но не слыхал вашего голоса; приход ваш прервал мой бред и разогнал призраки! Вы ли это? Если так, то я умру спокойно.
— Нет, вы не умрете, Гильом, — продолжала графиня, подавая раненому руку, которую он с невыразимым благоговением и любовью поспешно взял. — Положение ваше не так безнадежно, как вы думаете.
Гильом печально улыбнулся.
— Послушайте, — сказал он. — Бог все делает к лучшему, лучше умереть, нежели быть несчастным; не обманывайте меня, и не обольщайте меня в последние минуты моей жизни пустой надеждой; я знаю, я должен умереть, и, умирая, более всего жалко, что не буду охранять вас.
— Охранять меня, Гильом! но от кого же? Слава Богу, неприятель перешел обратно границы.
— О! графиня, — прервал ее Гильом, — не те ваши неприятели, которых вы боитесь; а есть у вас один враг, который опаснее и ужаснее для вас всех этих истребителей городов и покорителей крепостей; его, графиня, вы и не подозреваете, но я два раза, может быть, защитил вас от него. Сию минуту я был в бреду, но бред умирающего есть, может быть, созерцание того, что сокрыто от глаз смертного. В бреду моем я видел вас в руках этого человека, слышал вопли ваши; вы звали на помощь и никто не поспешил спасти вас, меня как будто сверхъестественная сила удерживала в постели, и я отдал бы не только жизнь мою, потому что я и так умираю, но душу мою, понимаете ли вы? — душу в продолжение целой вечности за то, чтобы только спасти вас, но это было свыше сил моих. Я невыразимо страдал, и благодарю вас, что вы приходом своим прервали мои страдания.
— Это было ни что другое, как бред лихорадки, Гильом, я понимаю, вы говорите о короле?
— Да, о нем говорю я, может быть, прежде точно был бред; но теперь я в памяти, вы видите, я в полном рассудке. Но мне стоит только закрыть глаза и я снова опять вас также вижу, слышу ваши вопли; и, признаюсь, это может лишить меня совершенно рассудка.
— Гильом, друг мой Гильом, — вскричала графиня, приведенная в ужас убеждением, с которым говорил умирающий, — успокойтесь ради Бога, успокойтесь!
— Да, успокойте меня для того, чтобы я мог умереть спокойно.
— Что же для этого нужно? — спросила Алисса с видом сожаления, — скажите, если это только в моей власти, то я все готова сделать.
— Надо удалиться, — сказал поспешно Гильом, — сию же минуту удалиться от этого человека. Я теперь умру спокойно, потому что видел вас; обещайте только мне уехать отсюда, как можно скорее.
— Но куда же мне ехать!
— Куда хотите, только туда, где его нет. Вы не знаете, как он вас любит; вы не могли этого видеть, потому что одни только глаза ревности могут это сидеть. Любовь к вам этого человека может сделать его способным на всякое злодеяние.
— Вы ужасаете меня, Гильом.
— Боже мой! Я чувствую, что скорее умру, нежели успею убедить вас, что этот человек готов на все! Клянитесь мне, что вы уедете завтра, в эту ночь… Клянитесь!
— Клянусь, — сказала Алисса. — Только не умирайте, я возвращусь в замок Варк, куда, по выздоровлении вашем, и вы ко мне приедете: что с вами, Гильом?
— Боже, Боже мой! — говорил тихо Гильом.
— Гильом, Гильом! — вскрикнула, наклонясь к нему, графиня, — что с ним, Боже мой?
— Алисса, Алисса, — шептал Гильом, — прощай. Я люблю тебя.
И, собрав последние силы, он приподнялся и обвил руками шею графини, склонив ее к себе и запечатлев на устах ее первый поцелуй любви, и последний — жизни, упал на изголовье.
Она получила первый его поцелуй и приняла в нем последний вздох его.
Назавтра графиня, по обещанию, данному ею Гильому, откланялась королеве Филиппе, которая не хотела более ее удерживать за уважение законной причины, принудившей Алиссу не участвовать в окончании празднеств, и изъявила только сожаление, что должна была так скоро расстаться с ней. Эдуард сделал так же, как и королева, несколько возражений, согласился на отъезд графини с таким равнодушием, что оно убедило графиню в несправедливых заключениях молодого человека, кончину которого она оплакивала. Эдуард требовал только, чтобы Алисса взяла с собою прикрытие, из опасения нападений беглых неприятельских воинов, вторгавшихся за границу, и чтобы она обещала ему останавливаться на ночлег только в городах и укрепленных замках.
Графиня отправилась в путь, и в первый день остановилась ночевать в Гертфорте, потому что, выехав поздно, не успела в продолжение дня проехать больше десяти миль; она нашла в нем приготовленное для себя помещение, так как гонец, отправленный перед ее выездом, ехал вперед, как во время путешествия королевы, и извещал о прибытии графини Салисбюри. Это распоряжение было последним вниманием к ней со стороны Эдуарда, и графиня, не подозревая ничего, полагала, что причиной этого внимания была дружба короля к графу Салисбюри.
Следующую ночь она провела в Нортамитоне, где, благодаря расположению короля, помещение ее было достойно того, кем было предложено; только начальник прикрытия известил ее, что назавтра надо выехать рано, если она хочет остановиться в назначенном для нее месте.
Графиня на рассвете следующего дня отправилась в путь, в полдень она остановилась в Лейчестере, и около трех часов пополудни выехала опять. Хотя в то время года дни были долги, но вечер наступил прежде, нежели она успела заметить вдали какой-нибудь город или замок. Посему продолжала путь еще часа два, и наконец увидела во мраке ночи вдали светившийся огонь. Несколько минут спустя, вышедшая из-за облаков луна осветила башни и стены укрепленного замка. По мере приближения к нему графини, по некоторым приметам, замок, назначенный для ее отдыха, казался ей знакомым и, приблизившись к воротам, последнее сомнение исчезло. Она точно была в замке Нотингаме.
Графиня содрогнулась невольно, замок этот пробудил в ней воспоминания об ужасных кровавых, рассказанных ей королевой, происшествиях. Алисса вошла, и ужас ее усилился еще больше, когда в приготовленной для нее комнате она узнала ту самую, в которой был взят под стражу Мортимер и убит Дугдаль; поэтому она не имела духа ужинать, выпила только немного подслащенного и приправленного пряными кореньями вина. Впрочем, ей невозможно было ошибиться, что это была не та комната; она ее очень хорошо знала; потому что узнала даже место, где сидела королева Филиппа, рассказывая ей это несчастное происшествие в самый вечер приезда в этот замок Готье-Мони и графа Салисбюри. И несмотря на то, что королева была окружена всеми своими придворными дамами и охраняемая верным кастеляном Гильомом Монтегю, не могла победить чувства того страха, который теперь испытывала графиня, тем более, что она одна находилась в этом замке, между людей совершенно ей неизвестных, со свежей раной в сердце, причиненной смертью молодого человека, и каждый предмет, представлявшийся ее взору, напоминал ей почтительную и внимательную любовь его! Но бедный юноша с преданным ей сердцем не существовал более для ее защиты, и все его опасения невольно представились в эту минуту ее воображению. И она осталась в кресле, облокотившись рукой на стол, где горела лампа, не смея пошевельнуться и оборотить назад голову и опасаясь увидеть предмет своих мечтаний, хотя перед глазами ее и была вся действительность воспоминаний, доказательством которых было это углубление в одном из мраморных столбов, поддерживающих камень, оставшееся от удара меча Мортимера. Вид этого углубления принудил невольно Алиссу привести себе на память все подробности взятия под стражу Мортимера. Она вспомнила о подземном ходе, идущем до самого рва замка, и о скрытой под резьбой части панели, которая открывалась; хотя, впрочем, королева и сказала ей, что подземный ход заделан и что часть панели не отворяется; но она не в силах была победить своего страха. И это усиливало его еще больше, это чувствуемое непреодолимое оцепенение, которое она приписывала утомлению дороги, и, желая его преодолеть, выпила еще немного подслащенного вина, но вместо того, чтобы найти в нем противодействие ощущаемому ее оцепенению, вино усилило еще более. Она хотела встать и пройтись по комнате, но силы, изменив ей, принудили остаться в кресле; все вертелось в глазах ее, и, находясь под влиянием невидимой силы, она чувствовала только, что не в состоянии владеть собой; ей казалось даже, что она перенесена в другой мир и все, окружающее ее прежде, исчезло. Трепещущий свет лампы оживлял неподвижные предметы, и изображения резной работы в карнизах, казалось, двигались во мраке; ей казалось, что она слышит отдаленный скрип отворяющейся двери, но все это как будто во сне. Наконец она стала подозревать, что выпитое ею вино было усыпительного свойства; поэтому хотела позвать кого-нибудь, но голос замер в устах ее, и она, с ужасом собрав последние силы, бросилась к дверям; но едва успела сделать несколько шагов, как ужаснейшая действительность сменила все видения. Часть панели отворилась, и человек, бросившись в комнату, удержал ее в своих объятиях в ту же минуту, как она падала, лишаясь чувств.
Глава XXII
Два несчастных события с Иоанном Леви и Гильомом Монтегю, и отъезд графа Салисбюри в Маргат, а графини в замок Варк, прекратили празднества, происходившие в Виндзоре. Впрочем, и сам Эдуард недолго должен был пробыть в Лондоне. Он говорил, что желает осмотреть южные гавани, чтобы ускорить начатое им вооружение. Поэтому и выехал в тот же самый день, как и Алисса, не дождавшись возвращения своего посланного, и, казалось, был озабочен до того, что забыл важность дела, окончание которого было поручено графу Салисбюри, и об успехах этого дела Салисбюри должен был донести королю по возвращении своем в Лондон.
Последствия этого дела были точно те самые, каких ожидал граф. Оливье Клиссон и мессир Годефруа Гаркур скрепили подписью свое обещание, и по уполномочию сира Авогура, мессира Тибольта Монтморилона, сира Лаваля, Иоанна Монтобана, Аленя Квидилака, Гильома Иоанна и Оливье Брио, Дени Плесси, Иоанна Малара, Иоанна Сенедари, Дени Кайлака и сира Малетруа подписались и за них; поэтому Оливье Клиссон и Годефруа Гаркур в ту же минуту получили свободу; Салисбюри видел сам, как они сели на корабль и отправились в свое отечество. О смерти же Гильома Монтегю граф узнал только по возвращении своем в Лондон.
Граф любил своего племянника, как родного сына; но граф был рыцарь своего времени и имел сердце четырнадцатого столетия, то есть был таким человеком, который, подвергаясь сам ежедневно опасностям, считал смерть гостьей, которую должно встретить, несмотря на весь ее ужас, спокойно и благочестиво.
Почему и решился отправиться для представления подписанного обещания французскими баронами Эдуарду и, откланявшись королеве, в тот же день оставил Лондон.
Эдуард, соединявший в себе в одинаковой степени три редких качества того века: искусного политика, отважного воина и пылкого в любви рыцаря; во время празднеств, происходивших в Виндзоре, вел с одинаковым успехом три важные, совершенно противоположные одно другому дела.
Иаков Дартевель, которого мы в продолжение двух лет потеряли из вида, пользовался постоянно доверием и привязанностью добрых людей Ганда и поддерживал дружеские отношения с королем Эдуардом, даже более: Рютвер, благоразумно рассуждая, что союз с Англией по выгодам торговли необходим его соотечественникам по получаемой ими из Валлиса шерсти и из Иорского графства кожам, полагал, что не трудно будет его упрочить. И средством к продолжительному союзу полагал заместить молодым принцем Валлисским наследником Фландрии, Людовика Кресси. Потому что, по мнению Иакова Дартевеля, наступило время произвести в действие этот важный политический переворот, к которому, как писал он Эдуарду за несколько месяцев до празднеств, бывших в Виндзоре, умы были расположены.
Эдуард предвидел, что время этого переворота скоро наступит, почему и расположил все к его исполнению; полечив письмо от Иакова Дартевеля, он не открыл никому этой тайны, из опасения, чтобы ее не разгласили. По союзу дочери его с молодым графом Монтфорским, Бретань была на его стороне; по избранию принца Валлисского на место Людовика Кресси, Фландрия тоже должна быть за ним. И этими событиями осуществлялась исполинская мечта, которая могла только представиться воображению короля Англии; потому что, оставаясь на своем острове, он держал как будто в руках своих Францию; но для приведения в совершенное исполнение этого предложения необходим был в продолжение целого года мир. И он заключенным и подписанным договором с герцогом Нормандии обеспечил себя в продолжение этого года перемирием, которое должно было продолжаться до дня Святого Михаила 1346 года, то есть в продолжение восемнадцати месяцев. Это перемирие, впрочем, не изменяло ничего в одинаковых правах Карла Блуа и графа Монтфорского; приверженцы обоих соперников могли даже продолжать свои сшибки, так что ни один из королей, принявших в них участие, не принимал на себя ответственности в этих частных встречах; короче сказать, все было устроено таким образом, чтобы каждый воспользовался всеми, зависящими от него средствами; мог по истечении срока перемирия с новым рвением возобновить войну; почему и необходим был Эдуарду договор, заключенный графом Салисбюри с Оливье Клиссоном и Годефруа Гаркуром. Этим договором упрочивалось помоществование Англии двенадцати владетельных особ, тогда как Бретань и Нормандия доставляли ему такие вещественные силы, которым трудно было сопротивляться Филиппу Валуа.
Уверенный, что в начатых переговорах графом Салисбюри, в его отсутствии будет равный успех, как бы и в его присутствии; Эдуард обратил все свое внимание на Фландрию, и когда граф, спустя восемь дней до отъезда короля, прибыл в Сандвич, где он должен был найти Эдуарда, ему сказали, что король накануне отправился дальше с графом Суфольком, Иоанном Бомоном, графом Ланкастром, графом Дерби и многими баронами и рыцарями, которым он велел ожидать себя в этой гавани, не объявив им своего намерения, для которого они должны были собраться. Салисбюри сперва удивился, что его исключили из числа особ, избранных, вероятно, для исполнения важного предприятия, но зная, как скор был всегда Эдуард в своих решениях, он заключил, что какое-нибудь неожиданное известие было причиной поспешного исполнения этого предположения; почему и решился отправиться к графине в замок Варк и там ожидать повелений короля.
Граф, оставив берега моря, поехал сухим путем и продолжал путь тихо, потому что ехал без свиты совершенно один. И так как в те времена беспрестанных войн все рыцари имели обыкновение, находясь в пути, быть в полном вооружении, и коню графа трудно было, несмотря на всю его силу, нести двойную тяжесть всадника и его вооружения, так что через каждые десять или двенадцать миль Салисбюри принужден был останавливаться для отдыха. И не раньше, как на шестой день своего путешествия, с высоты, господствующей над Роксбургом, увидел наконец замок Варк. Замок казался ему в том же самом положении, в каком он его оставил; и сердце его стеснилось неизъяснимым чувством грусти при виде стен его, и это чувство было так сильно и непреодолимо, что вместо того, чтобы пустить коня в галоп, несколькими минутами ускорить свидание с возлюбленной своей Алиссой, он поехал шагом и приближался к месту ее пребывания с трепетом, как человек, которому грозит ужаснейшее неизвестное ему несчастье, в существовании которого убеждало только его предчувствие. Впрочем, никакая очевидная перемена не оправдывала этого предчувствия; флаг развевался на башне, часовые прохаживались по валу тихими и ровными шагами, что доказывало совершенное спокойствие внутри стен замка. Крестьяне, привозившие жизненные припасы, выезжали из главных ворот и разъезжались по окрестным деревням; Салисбюри, остановясь, хотел было спросить их, но о чем? Он сам этого не знал, и, победив эту слабость, убеждаясь представлявшимися взору предметами, что воображение его обманывало, он, понудив коня, поехал скорее, и через несколько минут достиг покатости пригорка, на котором построен был замок. Подъехав ближе, он увидел по знаку, данному часовым, что его узнали, почему и пустился поспешно по тропинке к платформе. Приблизившись к воротам, он нашел всех служителей, вышедших к нему навстречу; но не ожидал их он увидеть первых. Всегда Алисса первая встречала его, и поэтому ее одну искал он, но ее не было. Однако, как не скоро проехал он тропинку, ведущую к платформе, но, вероятно, успели ее известить о его прибытии. Разве ее не было в замке? Но где же ей быть? И первое слово, произнесенное им, было имя жены. Но, не отвечая ни слова, оруженосец, принимавший коня, показал рукой на замок; граф, страшась сделать ему еще вопрос, спрыгнул с коня и бросился во двор замка, тут опять он на минуту остановился, потому что и на крыльце, где он непременно надеялся ее встретить, не было графини, и обратил взор на окно, думая в одном из них ее увидеть, но все окна были затворены; тогда он пошел по лестнице так скоро, как только позволяло ему тяжелое его вооружение, и, взойдя наверх, бросился прямо к комнате жены. Все комнаты, через которые он должен был проходить, были пусты; наконец, отворив дверь последней, он увидел на пороге графиню, всю в черном, и с такой бледностью на лице, что она походила на мертвеца.
Граф остановился и смотрел безмолвно и с ужасным трепетом на Алиссу, не понимая, что случилось с ней; но так как она не приближалось к нему и стояла на одном месте, то он, прервав молчание, спросил ее трепещущим голосом:
— Что с вами сделалось, графиня, и по ком вы в трауре?
— Граф, — отвечала Алисса таким слабым голосом, что Салисбюри едва мог слышать ее слова. — Я ношу траур по чести вашей, похищенной у меня подлым обманом в замке Нотингаме Эдуардом.
ББК 84.4Фр.
Д 95
Дюма А.
Д 95 Ущелье Дьявола; Графиня Салисбюри: Романы /Пер. с фр.; Художник Б. Жапаров. — Алма-Ата: Кайнар, 1992.— 512 с.
ISBN 5-620-00690-5
В настоящую книгу включены два романа А. Дюма «Ущелье Дьявола» и «Графиня Салисбюри», ранее практически неизвестные нашему читателю.
Текст печатается по изданию: А. Дюма (отец). Собрание сочинений. Спб., 1912.
Д 4703010100-013 Без объявл.
403(05)-92
ББК 84.4 Фр.
ISBN 5-620-00690-5
© Составление, оформление, Кайнар, 1992
ДЮМА АЛЕКСАНДР
УЩЕЛЬЕ ДЬЯВОЛА. ГРАФИНЯ САЛИСБЮРИ.
Романы
Ответственный за выпуск М. П. Губина
Редактор И. Ф. Самойлюк
Художественный редактор Б. Жанаров
Технический редактор Т. В. Суранова
ИБ № 4196
Сдано в набор 10.12.91. Подписано в печать 18.03.92. Формат 84×1081/32. Бумага тип. Гарнитура «Тип таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 26,88. Уч. — изд. л. 29.49. Уел. кр. — отт. 27, 72. Тираж 50 000 экз. Заказ 3727. Цена договорная.
Издательство «Кайнар» Министерства печати и массовой информации Республики Казахстан. 480124, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.
Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кггап» Министерства печати и массовой информации Республики Казахстан, 480124, Алма-Ата, пр. Гагарина, 93