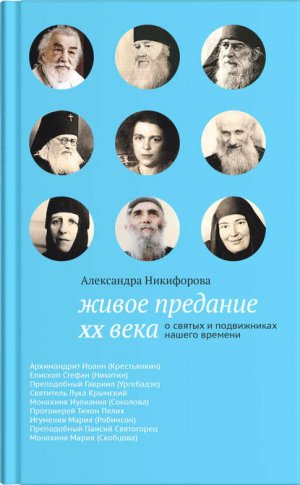
Светлой памяти протоиерея Александра Куликова
В книге использованы фотографии из семейных архивов героев, из архива журнала «Православие и современность», из фотобанка Shatterstock, а также фотографии Н. Горского, В. Ештокина, В. Лучанинова, А. Никифоровой, А. Тополова
Предисловие
Предание – то, что передается из уст в уста. Это не просто истории, семейные или профессиональные, хотя и они тоже. Предание – передача опыта с помощью личного примера. Невозможно стать аристократом, прочитав книгу по этикету, или хирургом, только на основании теоретических знаний. Ведь все самое важное передается через живой пример.
Каждый из нас – это совокупность наших встреч. Мы такие, потому что встретили на своем пути определенных людей, и сами в свою очередь полученное от них передаем окружающим.
Так сохраняются честь, вера, ценности, традиции в истории человечества. Это и есть его живая, неписаная история.
Все герои книги – наши с вами современники. И рассказывают они о встречах с людьми, которые определили их жизнь, – с людьми Церкви. Кто такие люди Церкви? Чем отличаются они от людей светских, нерелигиозных (ведь сама по себе этика добрых дел общая у людей верующих и неверующих)? С этих вопросов начиналась книга, которую вы держите в руках.
Перед вами девять историй об очень разных людях. Тут и грузинский монах, проповедовавший Евангелие через юродство в пивбарах и на улицах советского Тбилиси, и шотландская аристократка, на Святой Земле перешедшая в Православие и основавшая там русский монастырь, и греческий монах, удалившийся в пустыню Афона, живший в полной нищете и своей любовью и милостивым сердцем притягивавший, как магнит, людей со всех уголков земли.
При разности характеров, национальностей и судеб их всех объединяет одно – явно различимый в каждом из них образ Христа. В дневнике одного из героев книги, священника Тихона Пелиха, есть запись: «Христианская мораль направлена не на поведение, а на самобытие». Самобытие, в центре которого Христос. Личность Христа определяет мировоззрение и мироощущение человека верующего. Благодаря Христу верующий человек никогда не одинок, он всегда чувствует присутствие Бога рядом. Благодаря Христу он усматривает во всем, что происходит в его жизни, Промысел Божий, и в час испытания это знание дает ему силу пережить скорбь или болезнь. Благодаря Христу он понимает, что смертью жизнь не заканчивается, а начинается, и эта жизнь – вечная и прекрасная.
Когда христианин совершает поступки, принимает решения, он всегда видит перед собой Христа, Распятого и Воскресшего. Именно это помогает ему не бояться, когда по-человечески страшно, прощать и любить, когда по-человечески это не нужно и невозможно. Иначе как можно объяснить, почему выдающийся хирург, доктор медицины и лауреат Сталинской премии, архиепископ Лука (Войно-Ясенец-кий), утирая плевки в лицо специально нанятых туберкулезных больных, продолжал свой путь по улицам Ялты со словами «Боже, прости им, ибо не ведают, что творят»? Или как могла мать Мария (Скобцова) ответить гестаповцу, обрекшему ее и ее сына на верную погибель, что она, наверное, помогла бы ему, своему убийце, приключись с ним беда?
В основу книги легли беседы, прошедшие в эфире радиопрограммы «Благовещение». Некоторые из них были в том или ином виде опубликованы на интернет-порталах «Правмир», «Православие. Яи», «Татьянин день», в журнале «Православие и современность», и я благодарю эти издания за разрешение напечатать переработанный вариант бесед. Многие из них были записаны по инициативе и с благословения приснопамятного настоятеля храма Свт. Николая в Кленниках на Маросейке протоиерея Александра Куликова, светлой памяти которого мне хотелось бы посвятить эту книгу.
За разного рода помощь я сердечно благодарю игумена Тихона (Борисова), скитоначальника Оптиной пустыни, протоиерея Савву Михаилидиса, протоиерея Андрея Спиридонова, Алевтину Волгину, Анну Данилову, Маю Гагуа, Ольгу Гусинскую, Георгия Борисовича Ефимова, Николая Николаевича Лисового, Михаила Моисеева, Антона Поспелова, Татьяну Романову. И совершенно особая благодарность Елене Борисовне Делоне, моему соредактору этой книги.
«Никто не может повернуться к вечности, если не увидит в глазах хоть одного человека сияние вечной жизни», – сказал однажды митрополит Антоний Сурожский. Это сияние видели герои книги и этим опытом делятся с вами.
Александра Никифорова
Под сенью ялтинского храма
О святителе Луке Крымском и протоиерее Михаиле Семенюке
На фото: святитель Лука Крымский
Владыка Лука очень любил моего дедушку, а дедушка любил владыку. На них обоих было клеймо «ссыльных попов». Дедушка с владыкой Лукой могли разговаривать часами. И дедушка, и владыка считали, что вера – это состояние души, образ жизни, уважительно относились к любой вере и никогда не употребляли слова «иноверцы».
Рассказчик:
Анна Николаевна Гаранкина (род. 1946) – выпускница историко-филологического отделения Крымского педагогического института (1968). На протяжении 45 лет работает в Ялтинском историко-литературном музее.
Анна Николаевна Гаранкина помнит святителя Луку Крымского. Ее дедушка, протоиерей Михаил Семенюк, и архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) были друзьями. Познакомились они в ссылке и были очень близки по духу. Оба – высоко эрудированны, безразличны к жизни тела и строги к жизни души, для обоих было непреложным законом любому человеку, оказавшемуся в беде, в любое время суток и при любом физическом состоянии – идти и помочь.
Отец Михаил окончил Тульскую семинарию, учился в Варшаве, Петербурге, Париже, владел многими европейскими и древними языками, рисовал, был блестящим знатоком Библии. Владыка, убежденный в том, что в Крыму должны служить образованные пастыри, пригласил отца Михаила на служение в Ялту.
Анна Николаевна вспоминает о своем дедушке, протоиерее Михаиле Семенюке, и о святителе Луке.
Кукла от святителя
Мой дедушка, протоиерей Михаил Семенюк[1], родился в 1892 году на Украине. Его родители были помещиками. Благодаря своим способностям он рано окончил гимназию и поступил в Тульскую духовную семинарию, которую окончил блестяще. После он учился в Варшавском университете и в Петербурге, прослушал курс лекций в Сорбонне в Париже. Рукоположен он был митрополитом Варшавским Дионисием[2], и сразу же, молодым, направлен в Варшавскую миссию. Когда в 1939 году Восточную Галицию присоединили к Советскому Союзу, дедушку арестовали. Он попал в лагерь, где и познакомился с архиепископом Лукой[3]. Так началась их дружба, которая продолжилась в Крыму.
Мы приехали в Крым по приглашению владыки Луки в 1951 году. Мне было пять лет. До того дедушка служил настоятелем Успенского собора во Владимире-Волынском. После очередной опалы оказался в Шацке, в Полесье (сейчас это известный курорт, а тогда был небольшой хуторок). И вот тогда владыка Лука позвал дедушку в Крым, во-первых, потому, что они были знакомы и многое перестрадали вместе. Во-вторых, дедушка был очень образованный, владыка это ценил: после войны очень не хватало образованных священников.
Сильный процесс в легких, который у меня развивался, способствовал принятию решения о нашем переезде. Но, конечно, прежде всего, для дедушки большой честью было приглашение владыки Луки. Мне кажется, что если бы владыка служил где-то в Сибири или в Средней Азии, дедушка все равно бы к нему поехал.
Меня готовили к встрече с владыкой. Моя бабушка, очень строгих правил, происходила из знатного дворянского рода и старалась мне, ребенку, прививать уважение к священнослужителям. Она много рассказывала о том, какой владыка Лука хороший врач и добрый человек, какое благо он делает для нашей семьи. Мне же было гораздо важнее, что мы едем в Ялту, и там есть море, есть пальмы. Выросшая в болотах Полесья, я не могла представить, что где-то почти круглый год светит яркое солнце.
Дедушка первым отправился в Крым «на разведку», а мы с бабушкой и мамой ждали его в Шацке. Наконец он вернулся.
– Ну что, мы едем?
– Да, мы обязательно едем. И там есть море.
Вокруг дедушки собрались дети, они никак не могли понять, что же такое море. И дедушка объяснил: «Это озеро Свитязь, еще одно озеро, и еще, и еще, и конца-краю не видно». Мы ехали в Крым, и мне так хотелось поскорее увидеть это море!
Конечно, я тогда не понимала, что жизнь сводит меня не просто с другом дедушки и замечательным человеком, но с будущим великим святым земли Русской.
Мы вышли на перрон в Симферополе. За нами прислали злополучную «Победу», из-за которой потом столько грязи было вылито на святителя. Нас встречали секретарь Крымской епархии отец Виталий Карвовский и Евгения Павловна Лейкфельд, личный секретарь владыки, очень порядочный человек. Она была его глазами (ведь владыка постепенно слеп), а в какой-то степени даже и душой – именно она переписывала проповеди святителя Луки, его книгу «Дух, душа и тело». После войны ее хотели депортировать из Крыма за немецкое происхождение вместе с огромным числом татар, греков, немцев, армян. И только по просьбе владыки Луки (он редко просил, за себя никогда, только за близких ему людей) ее оставили в покое.
Мы прибыли на Госпитальную (теперь это улица Курчатова), в епархиальное управление. Там, в двухэтажном домике, всего в пяти минутах ходьбы от Свято-Троицкого кафедрального собора находилась квартира владыки Луки (сейчас на месте дома стоит часовенка в память о нем). Квартира была обставлена просто – железная кровать, диван, обтянутый дерматином, стол, киот с иконами, печатная машинка Евгении Павловны, много фотографий. И большая картина, написанная владыкой, – поле, цветущее маками, и идущий по этому полю Иисус Христос.
Я увидела высокого и, как мне показалось, даже величественного человека, но – старого, больного, в домашних войлочных ботах «прощай, молодость», в скромном ветхом подряснике. Моему разочарованию не было предела! Я подошла под благословение (это было неукоснительно, так нас воспитывали), но мне уже хотелось бежать во двор, где я видела детскую компанию. Владыка понял, что я не нахожу себе места, и обратился к своей помощнице: «Евгения Павловна, вот вам деньги, возьмите Аню и пойдите с ней в универмаг. Купите ребенку игрушки». До этого момента у меня не было настоящих игрушек, только куклы, сшитые бабушкой и разрисованные дедушкой, – мы жили скудно. А тут мне купили потрясающую куклу и книжки.
Иногда меня спрашивают: «А вы сохранили куклу, которую вам подарил святой Лука?» Да нет, конечно. Моей куклой играл весь наш двор, она быстро претерпела всевозможные изменения и была выброшена. Но у меня и сегодня есть игрушка из подаренных владыкой – пластмассовая обезьяна с оторванными руками. Не знаю, каким чудом она уцелела – ведь тогда для меня была важна моя детская любовь к владыке, бескорыстная и наивная, а отношение к нему как к святому появилось позднее.
«Девочка в штанах»
С детства меня заставляли выучить наизусть – не написать на бумажке, а выучить! – адреса людей, к которым, если дедушку и бабушку заберут, я должна была пойти и остаться с ними жить. В наволочке на этот случай всегда были приготовлены трое трусов и маечка. Родители не верили, что могут наступить лучшие времена. Мне всегда повторяли: «Разговоры, которые ты слышишь дома, сразу забудь!» Я, например, не знаю, где сидел мой дедушка. От меня в детстве это скрывали, чтоб я нигде и никому случайно не проболталась.
Протоиерей Михаил Семенюк с внучкой Аней
«Девочка в штанах», я лазала по всем крышам, играла со всеми собаками и котами нашей округи, дедушка с бабушкой к этому относились спокойно. При этом я была очень самостоятельным ребенком – дети священников рано взрослели. В Ялте собор стоял в центре города, а часть священнослужителей жила в отдаленных районах – Васильевке или на Ломоносова. Когда поступали требы, меня, пятилетнюю, посылали на другой конец города, и я сообщала диакону Григорию: «Отец Григорий, отпевание – во столько-то, вы служите».
Когда я шла по улице вместе с дедушкой (священники тогда ходили не в цивильной одежде, а в подряснике), то нам вслед улюлюкали, плевали, бросали в нас камни. В ребенка – камни! Все это было. Но я шла. Мне было очень больно за дедушку, я понимала, как это мерзко, что его обзывают, и старалась крепко держать его за руку, чтоб он чувствовал, что я – с ним! И только сейчас, достигнув возраста моего дедушки, я понимаю, что это значило для него – знать, что твои близкие, те, кого ты очень любишь, с тобой, и никогда тебя не оставят, не предадут. Это – огромное счастье.
В Ялте мы жили в маленькой комнатушке возле собора[4], те, кто приходил к нам, называли ее «хатынкой». Наш дом не запирался, и вечно у нас кто-то ночевал. В комнате стояли письменный стол, дедушка за ним рисовал и много писал, столик, за которым я делала уроки, маленький шкафчик, стул и одна кровать. На кровати спал дедушка, а мы с мамой и бабушкой – на полу. Плюс к этому у нас оставались ночевать приехавшие в Ялту люди, которым негде было остановиться. Они спали и там, где стоял умывальник, и повсюду спали, где можно было найти свободное место.
Как в нашу комнату вмещалось иногда до 20 человек, я не представляю! Стол всегда накрывали белой накрахмаленной простыней, ставили на него сахар, и каждого гостя с порога угощали чаем с сахаром, когда больше нечем было угостить. И ни бабушке, ни дедушке не приходило в голову, что кто-то может быть им за это «обязан». В наше время все жили так, как наша семья: и в церковном доме на Ломоносова, и в домах моих подруг.
Мы, дети, бегали в квартиры друг к другу, нас сажали за стол, и все делилось между нами поровну. Мои подруги были из семей ялтинской интеллигенции, они не ходили в храм, но по образу жизни были верующими – не сознавая того, они жили, как заповедал Христос. Ведь вера – это образ жизни, бывает, люди говорят, что нужно жить по заповедям Христа, а сами не живут. Те же не говорили, и даже заповедей не знали, но их исполняли! Как-то раз, много лет спустя, одна моя подруга сказала: «Я только сейчас поняла, как много дало мне то, что мы все выросли под сенью храма». Действительно, ялтинский храм осенял нас своей благодатью, это святое место. Мы все жили около храма, играли на церковном дворе. «Церковка», «пошли играть в церковку», «встречаемся в церковке»…
Мы играли и в мяч, и в классики, и в скакалки. «Бабушки» выговаривали нам за это, и дедушка всегда предупреждал меня: «Смотри, чтобы особенно они не видели». Сам же он считал великим счастьем, что дети играют около храма, что им там весело и радостно. Нас, детей, никогда не заставляли выстаивать всю службу. Конечно, на Символ веры, на «Отче наш» я должна была молиться в храме. А так – идет служба, мне надо что-то взять у бабушки или спросить, я забегала, и бабушка всегда спокойно мне отвечала.
Меня не воспитывали так, как сейчас иногда принято воспитывать в верующих семьях: «Ты должна то, то и то.» Воспитывала сама жизнь и пример родных, их взгляды, их разговоры. Главное – «Не предай! Ни в любви, ни в вере, ни в дружбе». Слово «порядочность» было в моей семье самым главным. Всегда в разговорах бабушки, дедушки, мамы я слышала слово «порядочный», для них оно было мерилом человека. Порядочность – это исключительная честность, это свойство не предавать другого, не склоняться перед обстоятельствами и властью. Когда дедушку пригласили в КГБ и потребовали, чтобы он разглашал им тайну исповеди, он повернулся и ушел. Это тоже порядочность, то есть ненарушение данного обета. Безвозмездная помощь другому, сострадание, доброта – это все тоже порядочность. Очень большое слово, и для меня оно значит много.
Дедушка невероятно ценил дружбу. Когда он оказался за штатом, и ему по почте из епархии приходили несчастные 20 рублей, он рассылал по 5 рублей по четырем адресам вдовам своих друзей. Большего он не мог послать, но считал, что для людей это много значит – даже не в материальном смысле, а то, что о них помнят, их любят. Позднее, оказавшись в трудной ситуации и получая помощь от моих друзей, я тоже почувствовала, как важна не только материальная поддержка, но подтверждение великого братства дружбы, когда о тебе помнят и заботятся, независимо от того, есть ли от тебя «польза» или нет.
Я научилась разграничивать два слова – милосердие и благотворительность. Благотворительность – это, наверное, очень великая миссия, многие в ней сегодня участвуют для создания своего имиджа. И как часто бывает, что получишь помощь и тяготишься ею, чувствуя себя в долгу перед давшим! Милосердие – это совсем другое. Милосердие – это милость, оказанная сердцем, когда ты отдаешь то, чего сам не имеешь в достатке. Так жили мои родные. Не имея, они отдавали. Отдавали потому, что иначе им самим становилось тяжело на душе. А когда их благодарили, они не понимали, за что их благодарят. Вот эта легкость отдачи и помощь в беде были очень характерны для окружавших меня с детства людей.
Валерка Малогорский
У нас в «хатынке», за фанерной стенкой, жила семья Малогорских. Валера учился со мной в одном классе. Его отец погиб на фронте, мама очень бедствовала, воспитывала сына одна. Она работала в столовой, уходила из дома в пять утра, возвращалась поздно. Валерка был толстый, неуклюжий, плохо учился. И моя бабушка сразу взяла над ним шефство. Он приходил к нам кушать, делал со мной уроки. Дедушка заставлял его читать, давал ему книжки. Рая, его мама, успокоилась. Она потом всю жизнь приходила в церковь и писала записочки об упокоении Анны и Михаила. Она говорила: «Благодаря им Валерочка остался жив и вырос, и не свихнулся, и не пошел по плохой дороге».
А Валерка… он настолько был ленивый, что ему вскоре надоело ходить ко мне. Для этого нужно было выйти из одной двери, пройти три шага и зайти в другую. И что он сделал? Он взял и лобзиком вырезал большую дырку в стене. И через эту дырку кричал:
– Отец Михаил, решите мне задачку.
А дедушка:
– Ну, Валерка, ты даешь, иди сюда!
– Нет, я устал.
– Ну ладно, Валерочка.
Напишет на бумажке: «Аня, объясни ему». А я начинаю:
– Как тебе, Валерка, не стыдно? Я тебе бумажку не дам, пока ты не придешь.
Начнем ругаться, дедушка слушает-слушает:
– Давай, Валерочка, я тебе сам все объясню.
Подходит, меня от дырки отодвигает и начинает ему в дырку объяснять, как решать задачу. При большой твердости и несгибаемости в главном дедушку отличал легкий характер.
Вот такой был Валерка Малогорский. Он уже умер, и мама его умерла. Он жил в Ялте, иногда выпивал… И когда выпьет, сразу брал такси, ехал к дедушке на могилку и там горько плакал. Так искренне, спустя столько лет! А потом приходил ко мне. Он своего отца не знал и к моему дедушке относился как к отцу.
Бульдозером по храму
Конечно, годы атеизма и надругательства над священством были страшные. Но владыка Лука и мой дедушка самыми страшными считали не послереволюционные, а 1950-е – 1960-е годы, потому что в послереволюционные уничтожали священство физически, а в хрущевские[5] – морально. Это для них было самое страшное, когда священник публично вставал и говорил: «Я, такой-то, понял: Бога нет. Отрекаюсь от Бога, буду служить верой и правдой своему народу». Нахлынула волна массовых публичных отречений от Христа, которые печатались в газетах на первой полосе.
Кроме того, в хрущевские годы началось повальное закрытие церквей, священников отчисляли за штат без прихода и без средств к существованию. Когда дедушку отправили за штат, ему выдали от епархии 20 рублей (это меньше студенческой стипендии, мне платили тогда 28!). Дедушку выгнали из Ялты, несмотря на ходатайство владыки Луки перед Патриархом, и направили во Введенскую церковь в Керчи. Но и ее в 1961 году снесли, бульдозер проехал по храму прямо у дедушки на глазах.
И если бы не мой отчим, Иван Васильевич Мясоедов, человек партийный, но крайне порядочный, – не знаю, как бы мы выжили. Отец бросил маму, когда мне исполнился год, потому что ему сказали: «Или поповская дочь, или карьера». Он выбрал карьеру. Но судить нельзя, такое время было. Владыка Лука говорил: «У каждого есть свой предел боли, физической, психической и моральной». У отца предел был таким. Отчим взял на себя заботу о нас и все финансовые трудности не только наши с мамой, но бабушки, дедушки, наших многочисленных бедных родственников, прошедших ужасы «красного колеса». О нем дедушка говорил: «Если бы все члены партии были такими, то, наверное, на земле был бы рай!» Когда дедушка умер, отчим с другими людьми на руках трижды обносил его гроб вокруг церкви. На следующий день его вызвали в обком и стали читать мораль, как он, дескать, мог хоронить попа. А он ответил: «Этот поп мне дороже очень многого», – и положил партбилет на стол. Положить партбилет на стол в те времена – это почти то же самое, что расстаться с жизнью. Поступок произвел на коммунистов такое сильное впечатление, что отчиму позвонили, извинились, и он остался на своем высоком посту.
Потрясающие люди были и в советское время: если кто-то писал гадкие фельетоны, находился и тот, кто приходил поддержать и извиниться за написавшего. Был такой случай: в ялтинской газете опубликовали омерзительную статью о том, что бабушка, мама и я развратничаем, а дедушка, протоиерей, «сожительствует» с молодыми женщинами – ну редкостная гадость! И директор моей школы (а школа находилась рядом с собором, и дедушку там безмерно уважали), Мария Петровна Тараненко, награжденная орденом Ленина, пришла и просила прощения за автора статьи!
И признанный советский писатель Константин Георгиевич Паустовский[6] очень дружил с дедушкой, приезжал к нему. Бывала у нас и Мария Павловна Чехова, сестра Антона Павловича[7], художник Ромадин[8] (много его картин хранится в Третьяковской галерее), советские учителя, дети советских работников.
Когда я вступила в пионеры, я принимала активное участие в тимуровских отрядах, кострах, походах, в помощи людям. Дедушка не препятствовал этому, но предупреждал: «Аня, ты помни всегда одно – то, что хорошо, то хорошо, но то, что они говорят о вере в Бога, ты должна забыть. Бог есть, ты верующий человек». И я как-то легко это поняла. Я всегда очень верила в Бога. И в школе об этом знали. Во всяком времени есть что-то свое, и хорошее и плохое, и, наверное, я все равно до какой-то степени идеализирую то время.
«Ссыльные попы»
Владыка Лука очень любил моего дедушку, а дедушка любил владыку. На них обоих было клеймо «ссыльных попов». Дедушка с владыкой Лукой могли разговаривать часами. И дедушка, и владыка считали, что вера – это состояние души, образ жизни, уважительно относились к любой вере и никогда не употребляли слова «иноверцы». Дедушка вообще этого слова не признавал: «Если люди так верят, мы должны уважать их выбор. Если они верят в Бога, то это уже прекрасно». У владыки Луки есть много проповедей в защиту еврейского народа. Он всегда говорил: «Не забывайте, что это народ, давший нам Матерь Божию». Вот в таких убеждениях меня воспитали.
Крайний слева – архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), крайний справа – протоиерей Михаил Семенюк
Дедушка в совершенстве знал многие иностранные языки: немецкий, французский, английский, польский, чешский. Знал он и латынь, арамейский, греческий, церковнославянский – говорил, что священник обязан владеть языками Библии. Он великолепно рисовал, расписал иконостас ялтинского собора, сам вырезал рамы для икон, был блестящим оратором и знатоком Ветхого Завета. И даже раввин Симферополя по рекомендации владыки Луки приезжал к дедушке брать уроки по библейской истории. Приходил в нашу ялтинскую квартиру на улице Ломоносова и пастор из молитвенного дома баптистов, что находился напротив нас, и дедушка толковал ему многие страницы ветхозаветной истории. Приезжал и ксендз (позже его замучили бандеровцы[9], закопали живыми в землю).
Владыка всегда приезжал в Ялту на большие праздники, и тут появлялись люди, специально нанятые, которые за определенные «блага» делали страшные вещи. Вот выходит владыка из храма (его, полуслепого, под руки обычно вели отец Виталий и водитель Рахманов, дедушка шел впереди). «Наемники» подходили и могли облить чем-нибудь, стараясь попасть прямо в лицо. Но самое ужасное, когда больные открытой формой туберкулеза, а их в Ялте было много, подходили и харкали в лицо мокротой. Владыка, утираясь, шел дальше со словами: «Боже, прости им, ибо не ведают, что творят».
Несмотря на Сталинскую премию и на общегосударственное признание как врача, владыка Лука был в немилости и у правительства, и у Патриарха. Он находился в опале, потому что никогда не молчал. Я хорошо помню его рассказ о том, как его пригласили в Мединститут – и выгнали оттуда за то, что он пришел в облачении. Ему сказали: «Или снимайте рясу и крест, или вон!» Он предпочел второе. И когда он рассказывал об этом дедушке, из его полуслепых глаз текли слезы.
Владыку так часто обижали, унижали, презирали! В донесениях уполномоченного – а это был не просто человек, который отвечал за дела религии в епархии, но местный «царь», вершивший судьбы людей, – читаешь, что владыка служит потому, что скуп и жаден. Этого не было, он так много всем помогал и никогда не брал денег! Мы часто приезжали с дедушкой в Симферополь, и владыка при нас вел прием. Даже полуслепой, обремененный огромной епархией, он никому не сказал: «Я занят».
В Симферополе владыку боготворили, к нему шли, шли и шли. Старики, женщины, больные шли за помощью, за советом. Он всегда находил доброе слово, давал верный медицинский совет, нуждающимся помогал материально. Когда мы оказались в страшной беде, он купил нам квартиру. Я уже потом видела документы, как он каждый месяц платил епархии в рассрочку за нас из своего жалования. В донесениях упоминается дача владыки в Алуште, но это была даже не дача, а маленькая татарская хатка, вокруг нее – сад. Там, в тишине, владыка отдыхал не столько даже от трудов, сколько от бесконечной советской суеты вокруг храма и от общения с уполномоченными.
История с белугой
Владыка никогда не оправдывал роскошь у священнослужителей, как и мой дедушка. Они считали, что священники не могут жить богато, когда вокруг так много бедных людей. Свою Сталинскую премию, за исключением очень небольшой суммы, владыка направил в Фонд помощи детям-сиротам войны. «Я, – говорил он, – не имею права пользоваться тем, чего нет у других, тем более у обездоленных детей послевоенной поры». У владыки не было личных дорогих вещей: ни одежды, ни ваз, ни картин, в его доме все было предельно скромно. Он имел полное безразличие к жизни тела (она мало интересовала его!), но очень строг он был к жизни души.
Дедушка был таким же. В Ялте жила Елизавета Петровна Алчевская, известная в дворянских кругах, верующая и состоятельная женщина, она всегда нам помогала. В детстве я тяжело болела туберкулезом, и Елизавета Петровна старалась купить для меня дорогие продукты. Я хорошо помню – как-то я сидела дома, в нашей «хатынке», играла с кошкой на кровати. Пришла Елизавета Петровна и говорит бабушке:
– Анна Харитоновна, я не застала вас дома и оставила в соборе у отца Михаила белугу, сварите бульон для Анечки.
Бабушка так обрадовалась, белуга была очень дорогой рыбой, ее называли «царская рыба». Приходит дедушка. Бабушка:
– Миша, где белуга?
Дедушка:
– Как где? Мы сварили суп и раздали всем бедным у собора. Они так давно этого не ели!
Бабушка говорит:
– А как же Аня?
Вы знаете, лицо дедушки стало таким холодным-холодным, и голос совершенно неузнаваемым:
– Если Аня будет кушать белугу, когда кругом нищие, она никогда не поправится. Мы не имеем права жить так, чтобы кушать белугу.
И все, больше к этой теме мы не возвращались.
Прощание
Дедушка хоронил владыку Луку, он служил панихиду и нес гроб. Собрались тысячи людей. Мне рассказывала моя свекровь, она была на похоронах, что процессия от Свято-Троицкого собора до кладбища, которое расположено неподалеку, двигалась девять часов. КГБ скрывало дату погребения, переносило ее, грозилось уволить тех, кто придет на прощание с владыкой. Но людей было море, они залезали на заборы, толпились повсюду, сыпали розы под ноги двигавшейся процессии. И сейчас, когда отмечают день кончины святителя Луки и выносят его мощи, то путь усыпают лепестками крымских роз.
Почитание владыки Луки в Крыму было огромным уже при его жизни. Если узнавали, что владыка служит, то, несмотря на вероятные последствия, собирались толпы верующих. Всюду владыку встречали хлебом-солью на красивом рушнике, прекрасными букетами цветов, украшали к его приезду собор. Так бесхитростно люди выражали свою любовь, хотя и знали, что владыка всего этого увидеть не сможет! Я с детства понимала, при всей грязи, которая лилась на владыку, что он – человек великой силы, великой души, великой молитвы. И когда он умер, то ходила к нему на могилу, молилась ему, приводила людей. Простая ограда, крест – но там происходили чудеса, всегда было множество народу. Незадолго до кончины владыки дедушка подарил ему икону, на оборотной стороне которой написал: «Да святится имя Твое». Его слова стали пророческими. В моей голове не умещается, что я рассказываю о святом. Вплоть до канонизации владыки, поминая своих родных, я в записках всегда писала его имя, а теперь не пишу, это уже всё, Небеса, с Богом рядом.
После освобождения из лагеря дедушке предлагали уехать за границу, где он мог прожить вполне сытно и достойно. Но он говорил: «Я останусь на Родине, потому что Родина – это не государство, не управленческий аппарат. Родина – это леса, поля, люди, звери, травы, цветы. Я хочу лежать в своей земле. Я хочу, чтобы хоронили меня родные руки и провожали меня в последний путь те, кого я любил и кто любил меня». Дедушка был намного моложе владыки Луки, но пережил его всего на шесть лет. На его проводы собралось тоже очень много людей. Гроб стоял в ялтинском соборе три дня, и все три дня тянулись проститься с дедушкой люди. Приехали его прихожане из Керчи, монахини Топловского монастыря[10]. Сейчас я иногда прихожу на могилу и вижу: то яблочко лежит, то конфетки, то люди стоят. Дедушку помнят, хотя столько лет прошло со дня его кончины (он умер в 1967 году), а до сих пор приходят внуки знавших его людей!
Анна Николаевна Гаранкина
Дедушка часто повторял: «Я прошел через все – нищету и богатство, почет и поношения и понял, что лишь три вещи нужны человеку: вера в Бога, любовь близких, дружба».
Дедушка любил меня безмерно, и именно он своим примером заложил во мне сострадание к людям и искреннее желание прийти на помощь. У нас в семье это было непреложным законом: любому человеку, оказавшемуся в беде, в любое время суток и при любом твоем физическом состоянии, как бы плохо и больно ни было тебе самому, идти и помочь. И делалось так не потому, что нужно, но по зову души. Дедушка, владыка Лука и близкие мне люди сформировали во мне душу. Все-таки главное в человеке – это жизнь души!
Маленькая женщина с лучистыми глазами
О монахине Иулиании (Соколовой)
На фото: монахиня Иулиания (Соколова)
Когда ей было лет 13, кто-то из близких посоветовал пойти в храм Святителя Николая на Маросейку, к отцу Алексию Мечеву. Удивительный это был священник: молитвенник и утешитель москвичей! Увидев Марию, батюшка произнес: «Давно я ждал эти глаза».
Рассказчик:
Наталья Евгеньевна Алдошина (род. 1956) – художник-реставратор высшей категории, зав. реставрационной мастерской Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и преподаватель Иконописной школы при Московской духовной академии. Автор книг о монахине Иулиании – «Благословенный труд» (2001), «Труд иконописца» (1996, 1998), «Смысл и содержание иконы» (2005), «Иконописец монахиня Иулиания» (2012).
«Блестками Руси уходящей» назвал старец Иоанн (Крестьянкин) иконописца Марину Николаевну Соколову. Она сочетала в себе лучшие черты русского человека: благородство, ровное отношение к людям, добрый юмор, хорошую меру строгости. О ней говорили – гранит в нежной оболочке. Эта маленькая женщина с лучистыми глазами перевернула художественное мировоззрение целого поколения: тот, кто увлекался академической живописью, оценил и полюбил древнюю икону. Вся ее жизнь была связана с жизнью общины храма Святителя Николая на Маросейке. Совсем юной она стала духовной дочерью праведного старца Алексия Мечева и запечатлела нам его облик, записав воспоминания очевидцев. В годы гонения на Церковь, когда священники находились в ссылках, она участвовала в сохранении знаменитого прихода московской интеллигенции на Маросейке, собирая людей на квартирах для продолжения строя церковной жизни, и до открытия храма в 1990-е годы донесла традиции, заложенные основателем общины праведным Алексием Мечевым.
О Марии Николаевне Соколовой, монахине Иулиании, вспоминают ее внучатая племянница Наталья Евгеньевна Алдошина, Ирина Васильевна Ватагина, Владимир Владимирович Быков и архимандрит Лука (Головков).
– В 1999 году мы отмечали столетний юбилей монахини Иулиании[11], – рассказывает ее внучатая племянница, Наталья Евгеньевна Алдошина. – О том, что необходимо устроить юбилейный вечер памяти монахини Иулиании в стенах Московской духовной академии, сказал тогда отец Иоанн (Крестьянкин). Его благословение встрепенуло людей. И из разных уголков России приехали ученики, близкие друзья, совсем тогда уже старенькие чада маросейской общины. Насколько же вечер оказался драгоценным! Через несколько лет его уже было бы невозможно повторить, ушли от нас живые свидетели той особой эпохи в жизни нашей Церкви. Вечер продолжался около шести часов при полном актовом зале – это тысяча человек. Все были объяты каким-то особым чувством тепла. Воспоминания собравшихся вошли потом в книгу «Благословенный труд».
«Давно я ждал эти глаза»
Мария Николаевна была дочерью священника, Николая Александровича Соколова[12], настоятеля храма Успения Божией Матери на Таганке. Он умер, когда дочери едва исполнилось двенадцать лет. За этот короткий период он заложил в ней прочный фундамент для дальнейшего укрепления веры в Бога. А в обществе уже начинались сильные колебания в сторону полного неверия.
Мария Николаевна рано почувствовала необходимость духовного руководства. Когда ей было лет 13, кто-то из близких посоветовал пойти в храм Святителя Николая на Маросейку, к отцу Алексию Мечеву[13]. Удивительный это был священник: молитвенник и утешитель москвичей! Увидев Марию, батюшка произнес: «Давно я ждал эти глаза». Отец Алексий стал духовником Марии Николаевны. С первой же исповеди она начала записывать все его слова в дневник, который вела в течение десяти лет, практически до конца жизни отца Алексия. В дальнейшем она составила наиболее полное жизнеописание батюшки. «Отец Алексий, – писала Мария Николаевна, – всегда возводил руководимых им к подвигу духовному, т. е. наиболее трудному и существенному. Но все трудное начинается с легкого. Внешний подвиг необходим. Хотя и самый малый, он воспитывает силу воли, без которой невозможен никакой, тем более духовный подвиг. Надо прежде взвесить силы и возможности». «Семь раз примерь, – говорил батюшка, – один раз отрежь.
А уж на что решился, того надо держаться во что бы то ни стало. Иначе цель достигнута не будет. Например, молитвенное правило пусть будет небольшое, но оно должно выполняться неукоснительно, несмотря на усталость, занятость, на другие помехи».
Отец Алексий советовал направлять душу свою и характер так, чтобы ближнему было легко с нами жить. И забывать свое «я», забывать себя, быть как бы чуждым себе, а жить скорбями и радостями всякого человека, с которым нас Господь поставил. Так и в молитве нужно искать не для себя радости и утешения, а отстраняясь от себя, просить только силы у Господа исполнить Его повеления на земле, куда он нас послал для того, чтобы мы, исполняя Его волю, работали Ему и трудились для Него.
Этот путь и избрала Мария Николаевна.
Революция
Каждую субботу, по воспоминаниям монахини Иулиании, после всенощной отец Алексий выходил на краткий молебен перед чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери[14]. Однажды во время такого молебна из глаз Царицы Небесной полились слезы. Вскоре настал 1917 год. Марии Соколовой было 18 лет.
Сестра Марии Николаевны, Лидия Николаевна, рассказывала: «С наступлением зимы 1918 – начала 1919 годов Москва стала похожа на убогую деревню. Дома собственников отбирались, туда сажались управдомы. Улицы и тротуары не чистили. Трамваи перестали ходить. Народ передвигался пешком посередине улицы с мешками за спиной в надежде что-нибудь достать себе для пропитания. Распространялись рассказы о бандитах, прозванных „прыгунчиками". Они по вечерам нападали на одиноких прохожих. Но две девушки, одна из них будущая монахиня Иулиания, а другая Павла Федоровна Хватова, ходили в храм утром и вечером каждый день. Батюшка благословил их дружить и поочередно ночевать друг у друга. Жили они не близко, но с батюшкиным благословением ничего не страшно.
Бывало, по окончании праздничной всенощной, когда храм был переполнен, батюшка начинал сам, встав на колени, петь: „Под Твою милость прибегаем…" И вся церковь вторила ему. После все расходились из храма в полной уверенности, что наступающая ночь, чреватая всякими последствиями, пройдет спокойно».
По воспоминаниям Марии Николаевны, когда в Москве наступил голод, бывало, что хлеба не видели по 2–3 месяца. Карточная система на их семью не распространялась, так как мама попала в разряд «лишенцев» за то, что была женой священника и дочерью священника. В это тяжелое время не было ни работы, ни заработка. Мама заболела и слегла, и Мария Николаевна попросила отца Алексия причастить ее. Он посетил их, помолился и сказал: «Манюша, я на столике пролил воду и намочил салфетку. Ты уж приведи в порядок, вытри столик». Когда Мария Николаевна проводила батюшку и стала снимать салфетку, то под ней увидела конверт, а в нем сто рублей. Отец Алексий помогал бедствующим.
Когда возникла мысль уехать куда-нибудь, чтобы спастись от голодной смерти, Мария Николаевна пошла к отцу Алексию за благословением, но услышала такие слова: «Если мы будем убегать от посылаемых нам Богом испытаний, то они постигнут нас там, куда побежим, поэтому лучше потерпите здесь».
Духовная диссертация
Благодаря маросейским знакомым Мария Николаевна поступила в Объединение научнотехнических издательств, где стала работать художником-графиком. Такая работа давала ей возможность располагать своим временем. А в маросейский храм в эти тяжелые годы приходило все больше и больше людей, община увеличивалась. Мария Николаевна ходила в храм каждый день. Между духовными детьми отца Алексия были распределены послушания, и Мария заведовала ризницей и следила за порядком во время исповеди. По благословению батюшки был установлен сбор средств для помощи нуждающимся, престарелым и многодетным, и члены общины каждый месяц отдавали десятую часть своего заработка. Мария Николаевна выполняла это благословение – отдавать десятину нуждающимся – до конца своей жизни.
В 1923 году отец Алексий окончил свой земной путь, и все попечение о пастве и храме передал сыну, иерею Сергию[15]. У отца Сергия был богословский ум, он много беседовал с молодежью из интеллигенции, и эти беседы становились настоящим откровением для них. Глубокий почитатель древней иконы, он благословил Марию Николаевну, художественные таланты и духовное устроение которой увидел еще отец Алексий, заниматься иконописью с Василием Осиповичем Кириковым[16], опытным реставратором, иконописцем и копиистом древних икон.
– В 1928 году Мария Николаевна создала для маросейских сестер и братьев иконописный кружок, – вспоминает Владимир Владимирович Быков[17], один из старейших маросейских прихожан. – Вдумчиво и долго она занималась со своими ученицами. В 1932 и 1933 годах Мария Николаевна и моя жена Елена[18] на месяц ездили в Новгородскую и Псковскую области делать зарисовки с икон старинных храмов. Монастыри и соборы были закрыты или порушены. Музейные работники пускали в них неохотно, но, к счастью, иногда храмы сторожили обыкновенные сторожа, и они за деньги пускали. Там Мария, иногда при свече, делала зарисовки фресок и икон, привозила их в Москву. Многие мотивы впоследствии вошли в иконописное творчество Марии, она написала огромное количество икон, прекрасных и духовно совершенных.
В конце 20-х годов Мария Николаевна по благословению ныне прославленного владыки Афанасия, епископа Ковровского[19], начинает работать над иконой «Собор всех святых, в земле Русской просиявших».
– В моей памяти свежо воспоминание о том, как писалась икона «Всех святых, в земле Русской просиявших», – рассказывает Владимир Быков. – Марии в то время было около тридцати лет. Она просмотрела сотни житий святых, сказаний, книг, подняла огромный иконографический материал.
Этот образ по количеству духовных знаний и труда, вложенного в него, по моему мнению, равен большой духовной диссертации. Она советовалась с отцом Сергием, ездила к нему, когда он был в ссылках. А также с отцом Борисом (Холчевым)[20], с владыкой Стефаном (Никитиным)[21], с владыкой Афанасием (Сахаровым), который кратковременно выходил на свободу. Создав образ «Всех святых, в земле Русской просиявших», Мария Николаевна Соколова стала уже не иконописицей маросейской общины, а иконописцем Русской Православной Церкви.
Образ был освящен в 1934 году. На обороте этой иконы владыка Афанасий попросил Марию Николаевну записать ее историю в таком виде: «Сей святый образ всех святых, в земле Русской просиявших, первый в такой композиции по благословению и указанию Преосвященного Афанасия, епископа Ковровского, написан в граде Москве иконописцем Марией Николаевной Соколовой в лето от Рождества по плоти Бога Слова в 1934 году в январе – мае месяцах. Освящен сей святый образ Преосвященным Афанасием после малой вечерни под Неделю всех святых, в земле Русской просиявших, 27 мая того же года»[22].
«Нет священника – идите к Марии Николаевне»
В 1929 году отец Сергий был арестован. Вскоре после его ареста начались преследования прихожан, духовных чад и духовенства маросейского храма. Как раз тогда отец Сергий благословил обращаться за духовной поддержкой к Марии Николаевне и с полной откровенностью доверять ей так же, как ему самому.
– Когда отец Сергий находился в заключении, он написал нам оттуда: «Если около вас нет священника, идите к Марии Николаевне Соколовой, и она даст вам всегда точный и ясный ответ», – рассказывает Владимир Быков. – Когда бы мы ни пришли к ней, то видели одно и то же: она сидела за небольшим столиком, выполняя очередную графическую работу для издательства, или писала икону. Наклонив голову, слушала она собеседника, и ты понимал, что она сейчас вся в тебе, вся в твоем горе, в твоих сомнениях, бедах. Внимательно выслушав тебя, она поднимала голову и всегда давала точный и ясный ответ.
В 1932 году храм Святителя Николая в Кленниках был закрыт, но община продолжала жить. Марии Николаевне были переданы и хранились у нее почти до самой ее кончины чтимый образ храма – икона Феодоровской Божией Матери, складень алтаря.
Отец Сергий желал, чтобы и после закрытия храма богослужения не прекращались, поэтому всю маросейскую общину поделили на отдельные группы так, чтобы в каждой был человек, хорошо знавший богослужение. Встречи групп проходили на квартирах прихожан. По рассказам Елизаветы Александровны Булгаковой[23], духовной дочери отца Сергия Мечева, в группу Мария Николаевна приходила каждый день часов в пять вечера. Служили всенощные, молебны (литургии совершались редко из-за того, что священников почти не осталось, они были арестованы). После богослужения предлагалось скромное угощение, во время которого Мария Николаевна читала вслух что-нибудь интересное: духовную литературу, свои воспоминания о батюшке Алексии, общие письма к членам мечевской общины отца Сергия из заключения.
– Одной из групп руководила моя жена Елена, – вспоминает Владимир Быков. – У Марии Николаевны была своя группа. Иногда она просила разрешения собрать свою группу у нас на квартире. Помню, однажды Мария Николаевна читала письмо отца Сергия, присланное из ссылки. Письмо отца Сергия ранее разбиралось моей женой на нашей группе, и когда все разошлись, она сказала мне: «Ты знаешь, я сгораю от стыда: мой разбор письма и разбор Марии Николаевны – это небо и земля. Слушая ее, я поняла, на сколько ступеней стою ниже Марии». И я, слушая тогда Марию, поражался ее необыкновенному пониманию мыслей отца Сергия, выраженных в этом письме.
Никогда в нашем общении не было осуждения, пустых разговоров. При Марии это было бы даже и невозможно. Все разговоры, так или иначе, касались религиозных тем: вспоминали ушедших, говорили о жизни Церкви, о прочитанных духовных книгах, о сказаниях и преданиях, дополняющих жизнь святого. Иногда разбирался отрывок из учения святых отцов. Тему и тон разговора всегда задавала Мария Николаевна. И мы уезжали домой радостные и обновленные душою.
Очень ценные были эти вечера! После этих встреч почти всегда кто-нибудь из присутствующих провожал ее домой, чтобы побеседовать по дороге. Жила Мария Николаевна с мамой на Большой Коммунистической улице в двухэтажном старом доме с деревянными высокими воротами и калиткой, которая скрипела. В левом углу комнаты был уголок Марии Николаевны, с двух сторон отгороженный шкафами. В углу – столик. Во время богослужения он покрывался, как в церкви, соответственно празднику: в Богородичные праздники – голубой салфеткой, в воскресные – белой и т. д. Она написала маленькие иконы каждого праздника, икона ставилась на столик, и перед ней – лампада и Евангелие, цветы, или зимой – ветка сосны. Так жизнь и шла. Бывало, придешь к ней воскресным днем, видишь – перед Марией Николаевной раскрыт толстый том «Толковой Библии» Лопухина или разложены воспоминания об отце Алексии. Видимо, она готовилась к предстоящему занятию. Очень многие из тех, кто знал Марию Соколову, говорили, что от общения с ней «душа оживала». Сама она в одном из писем к Елизавете Александровне Булгаковой писала: «В отношении с людьми нужно стараться или учиться, или давать самой. Когда тебя ругают, ты должна сознавать, что действительно виновата, заслуживаешь того, чтобы тебя ругали. Если даже в том, что сейчас ругают, ты и не виновата, то есть другое, в чем ты виновата, чего, может быть, никто не знает. Старайся делать всем, что можешь, несмотря на то, есть расположение к человеку или нет: часто мы не знаем, а человеку очень трудно.
Бойся больше всего самооправдания, потому что оно закрывает доступ благодати к душе. Перед кем оправдываешь себя? Перед Богом!
Любовь к людям – не чувство любви, а дела любви, без всякого вкуса, только через много лет, если будут в душе складываться эти дела любви, может появиться к ним чувство.
Каждый день читаешь: „Господи, даруй мне зрети моя прегрешения": „мои", а не „ее". А мы до сих пор служим только для смирения других.
Что всего сильнее приводит ко Христу? Терпение чего бы то ни было, хоть маленькое, но терпение.
Ты живешь в своих мыслях, и тебя ничего не задевает, а когда будешь жить жизнью, тебя все больше и больше будет задевать, и тогда понадобится тебе молитва.
Куда ни поедешь, куда ни бросишься – везде твое сердце и все, чем полно оно будет, с тобой неразлучно.
Делай каждый день что-нибудь для других, хоть маленькое. Можно покормить кого-нибудь или почитать с кем-нибудь, или нищему подать, или поклончик положить за кого-нибудь. Старайся каждый день обязательно что-нибудь сделать, и тот день, в который сделала что-нибудь, значит, не совсем зря прошел, а если ничего не сделала, – значит, тот день прошел совсем зря».
Из записок Марии Николаевны мы узнали, что батюшка отец Алексий хотел, чтобы у нее во всем был порядок. Она установила себе точное расписание, когда и сколько заниматься тем или иным делом. Мария Николаевна всегда вставала в пять часов утра, часа 2–3 молилась, затем примерно до двух часов дня занималась графической работой. Кроме того, она принимала людей, приходящих к ней за советом. Многие тогда обращались к Марии Николаевне за духовной поддержкой, а ей ведь было всего тридцать с небольшим лет! Ирина Сергеевна Мечева, дочь отца Сергия, рассказывала, что, несмотря на свою занятость, Мария Николаевна неустанно уделяла внимание христианскому воспитанию детей маросейской общины, занимаясь с ними Священной историей. Она была талантливым педагогом.
Всенощные под елью
– В 1936 году мы решили снять две дачи рядом, чтобы в одной жили отпускники, а в другой – Мария Николаевна с семьей, – вспоминает Елизавета Булгакова. – Сняли в Опалихе. Сейчас это Москва, а тогда была деревня, окруженная со всех сторон густым лесом. Мы вставали в определенное время, приходила Мария Николаевна, и мы по очереди читали утренние молитвы, часы, изобразительны, затем Мария Николаевна уходила. В обед она приходила вновь, мы обедали, а она читала житие святого следующего дня. Около пяти часов вечера – всенощная или будничная служба, а если праздник, то – праздничная служба. Среди леса у нас стояла большая развесистая ель. На ее ствол прикреплялись иконы. Все молящиеся залезали под густые ветви, а один ходил кругом и стерег, чтобы никто не подошел. Чудные это были всенощные! Поскольку за обедом уже было прочтено и объяснено житие святого, служба оживала, все делалось понятным. По дороге домой беседовали. Потом Мария Николаевна с Лидией Петровной, своей мамой, приходили читать к нам вечерние молитвы. На следующий год сняли дачу только для Марии Николаевны, поскольку в сельсовете говорили, что «пропустили организацию». Собираться всем вместе стало опасно.
Среди лета отпустили отца Сергия. Мне и еще нескольким чадам сообщили, что он остановится у Марии Николаевны в Опалихе, и разрешили приехать. Он принимал в лесу. Сильно изменившийся, в очках, в гражданской одежде. Вскоре уехал под Тверь в деревню, где жили его близкие духовные чада.
Мешочек для нищих
– В 1938 году, когда умерла мама Марии Николаевны, ее сестра с маленькими детьми собралась уехать из Москвы, – рассказывает Наталья Алдошина. – Она хотела, чтобы дети росли на воздухе. Вместе с Марией Николаевной она по благословению отца Сергия поехала в Рыбинск к слепой матушке Ксении, женщине высокой духовной жизни. Марии Николаевне она сказала: «Марфа и Мария, Марфа и Мария». Мария Николаевна поняла, что ей нужно соединиться со своей сестрой Лидией Николаевной. Искали подходящее место, и за месяц до войны она вместе с сестрой переезжает в окрестности Загорска, современного Сергиева Посада. Все эти годы Мария Николаевна постоянно чувствовала слежку за собой.
С началом войны службы, которые совершали маросейские прихожане на дому, не прекращались. Елизавета Александровна Булгакова была арестована вместе с отцом Сергием. Четыре месяца она просидела в одиночке, в течение месяца ожидая расстрела. Но документы вернули чистыми, и ее освободили. Это было чудо по молитвам отца Сергия.
Она вспоминала, что в Москву ей требовался особый пропуск[24], и так она попала в Загорск: «Уже в сумерках легко нашла дом, где жила Мария Николаевна. Дверь была не заперта, вошла в кухню. Уголок Марии Николаевны был отгорожен темно-красной старинной занавеской. Занавеска приоткрылась, и выглянула Клавдия Никаноровна, тоже чадо батюшки отца Алексия. Они с Марией Николаевной в этот момент читали всенощную. Я тоже подключилась. Мария Николаевна никогда без нужды не прерывала богослужения; когда же закончили, конечно, посыпались вопросы, рассказы о пережитых ими первых месяцах войны. И тут я заметила у Марии Николаевны над кроватью мешочек. Оказалось, что это мешочек для нищих – когда получат хлеб, отрезают часть и кладут в этот мешочек». Из письма Марии Николаевны к Елизавете Александровне становится понятно, какой на самом деле это был подвиг – отложить кусочек хлеба для нищих: «Дорогой Лизочек, наконец предоставляется возможность написать тебе все более подробно, чем раньше… Беспокойство, от которого ты уехала, все еще продолжается там: Елену Сергеевну все таскают, остальных будто бы оставили „пока". Все очень голодают. Борис Васильевич и Мария Петровна, да и все питаются главным образом комбикормом и тем, что смогут достать. За это время умерло много людей, перечту тебе их: Николай Николаевич и Василий Михайлович, Павлик Оленин, прислали недавно извещение о смерти Миши Мамонтова, скончавшегося еще в феврале прошлого года в саратовской тюрьме <…>. Всех выпишу тебе в отдельном списочке. Умирает совсем Катя Синельщикова. Муж ее пропал без вести на фронте, она совсем одна. Ируська черненькая по-прежнему обслуживает всех окрестных старушек и дум о поездке к тебе не имеет. Удивляться на нее приходится, но сила Божия в немощи совершается.
Жили мы всю зиму исключительно на то, что Лида продавала наш белый хлеб на рынке, и на эти деньги покупала пшеницу стаканами на два дня. Теперь хлеба белого стали давать только 100 граммов на карточку. На этом выгадывать очень трудно. Словом, Лида – мученица, но благодаря ее трудам мы лучше чувствуем себя. Я уже не имею того звериного голода, какой был прошлой осенью и зимой, когда я готова была есть из помойки, могу теперь терпеть голод и спокойно уже смотрю на хлеб. В связи с этим стали уже приходить мысли о посте.
Хочу с тобой поделиться опытом своим в этом отношении. В прошлый Великий пост решила я отделять раз в день от своего кусочка хлеба маленькую дольку, может быть, граммов 15–20 для нищих. Этому последовал потом Женя[25], так что эти кусочки мы могли подать случающимся нищим. Главная трудность была не в том, что голодно после: такой крошкой все равно не наешься, но трудность сделать именно так, как решила. Нечто вроде, но несколько иначе, я проделала в Петровский. И видела в этом для себя большую пользу. Душа встает в какое-то положение трудящейся, бодрствующей, трезвящейся, и так как это трудно, то она чаще прибегает к сердечной просьбе и мольбе к Господу о помощи, чтобы выдержать, не сдать. От частой сердечной молитвы пробуждается сознание и ощущение вездеприсутствия Божия. Вот так все одно за другое цепляется, а начинается с такого маленького и, казалось бы, ничтожного. Не говорю уже о том, что когда переешь, то омрачение какое-то находит на душу, отяжеление, трудно молиться. Вот почему, наверное, все святые так крепко держались за воздержание в пище: оно ведь ведет к воздержанию и в слове, и в взгляде, и во всем другом. Душа не может оставаться на одном месте, она, как говорит епископ Феофан, приснодвижна и, преодолев одно препятствие, ей уже хочется преодолевать еще и еще что-нибудь.
Заметила, что очень хорошо брать на себя что-нибудь на определенный отрезок времени, например, на неделю, на две или на пост и т. д. Помнишь, и святые ведь тоже, предпринимая что-либо, предпринимали на время: на год, на три года и т. д. Опасность тут та: можно удариться в сухое подвижничество, забыв о главном – о любви и милосердии, при нашем жестоком и сухом сердце это очень легко, но надо помнить об этом всегда, это все только средства, так сказать, кисти и краски, которыми надо писать портрет души, а не самый портрет.
Когда почувствуешь, в чем тут дело, можно оставить одно и взять другое, особенно, например: не говорить лишнего или слушать терпеливо, не досадуя на болтовню другого, или не говорить, например, о пороках других, каковы бы они ни были, и т. п. Это будет прямо учить любви. Душа почувствует – и не может не почувствовать пользы ото всего этого – и потянется сама во след Креста Христова, по стопам Господа.
Сейчас подходит Успенский пост. Матерь Божия была и есть самая кроткая и самая смиренная из всех людей, и хочется взять что-либо такое, именно, что вело бы к этому, хоть малое, что было бы Ей приятно. Причем все взятое полезно только, пока это трудно хоть немножко для души. Как только перестало быть трудно, то уже надо что-то другое, иначе будет застой.
Ну вот, сколько тебе написала: целое откровение помыслов.
Милая моя, родная, дорогая, старайся и заботься, чтобы тебе быть во всем верной Господу, чтобы тебе быть принадлежащей Ему, и Одному Ему. Старайся об этом, и со смирением, по-детски, исповедуй Ему свои немощи, горести, трудности. Умоляй Его, припади к Его ногам, чтобы Он научил тебя быть Его во всем. Пусть не пугает тебя бездна твоих грехов, якобы непростительных… Море Его любви больше бездны твоих грехов. Со слезами пишу тебе – старайся быть Его.
Ты пишешь, что часто разговариваешь с мамой. Кого разумеешь – Божию Матерь? Если да, то очень хорошо. Продолжай читать часто „Богородице, Дево, радуйся". Она особенно благоволит к тем, кто часто воссылает Ей это приветствие архангельское, и не лишит таковых Своего покрова и милости.
Утешаюсь я сейчас тем, что каждую неделю езжу в Москву рисовать со старых икон, это мне столько придает бодрости.
Целую тебя крепко-крепко.
М.Н. 1942-й год».
«Вот, вот мой монастырь»
Роспись Серапионовой палаты – места кельи преподобного Сергия, создание и реставрация икон для лаврских храмов, преподавание студентам иконописного кружка[26] при Московской духовной академии – это особая страница в жизни Марии Николаевны.
Мария Николаевна как-то рассказывала о себе, что когда она была совсем маленькой, сидела с мамой и рассматривала альбом с видами разных монастырей. Мама ей говорит:
– В какой монастырь ты пошла бы?
И она показала на изображение Троице-Сергиевой Лавры.
– Это мужской монастырь, ты выбирай себе женский: вот смотри, какой красивый…
– Нет, вот это мой монастырь.
В свое время так и произошло. Когда в 1946 году открылась Троице-Сергиева Лавра, Мария Николавна стала там трудиться.
– В Лавре будущая монахиня Иулиания продолжала традицию древней иконы, и первая ее значимая работа – роспись Серапионовой палаты – была выполнена в традициях Руси начала XVI века, – рассказывает архимандрит Лука (Головков)[27]. – Любимое ее время, XV – начало XVI века, служило ориентиром для написания фресок Серапионовой палаты, особой лаврской святыни. В каждом лаврском храме есть иконы, написанные Марией Николаевной. Кроме того, многие иконы были ею отреставрированы – например, иконы преподобного Андрея Рублева, благодаря чему это сокровище не было перенесено в музей и по сей день пребывает в Троицком соборе Лавры. Монахиня Иулиания создавала образы не только для Троице-Сергиевой Лавры. Ее иконами украшены многие храмы. Она написала очень много икон, и точного их количества мы даже не знаем. Один из студентов иконописного кружка, который монахиня Иулиания вела в Московской духовной академии, игумен Марк Лозинский[28], в 70-е годы фотографировал все, что она тогда создавала. Неизвестно, где находится целый ряд отснятых им икон, но иногда случайно в каком-то храме можно встретить иконы монахини Иулиании. Они очень узнаваемы: узнается не только ее рука, узнается особое выражение, одухотворенность лика. Ее подвиг молитвы, ее жизнь, ее служение Церкви не могли не отразиться на иконе. Эти иконы написаны святым человеком, который все богатство души вложил в образ.
Гранит в мягкой оболочке
– Мне в конце войны было 20 лет, и очень хотелось работать для Церкви, – вспоминает ученица Марии Николаевны Ирина Васильевна Ватагина[29]. – Я как раз окончила Суриковский институт, живописное отделение, и узнала, что в Троице-Сергиевой Лавре есть художница, которая пишет для Церкви, Мария Николаевна Соколова. Поехала ее искать. В Лавре я поселилась у знакомых и стала писать этюд. Этюд-то уже закончила, а Марию Николаевну никак не могу найти – никто ее не знает. Однажды мне показалось, что я увидела ее в церкви. Это была маленькая женщина с лучистыми глазами, как две звезды, и я подумала: «У Марии Николаевны должны быть такие глаза».
А попала я к ней так. Приехала к своим подругам, тоже художницам, Кате и Маше Чураковым, которые жили в Семхозе[30], и выяснилось, что они хорошо знают Марию Николаевну и меня познакомят с ней.
В назначенный день я была в Семхозе с рюкзаком своих работ. Катя и Маша повели меня к Марии Николаевне. Это действительно была та «маленькая женщина с лучистыми глазами». Потом я уехала в Тарусу, и вдруг меня вызывают на почту, к телефону. Катя спрашивает: «Ты куда запропастилась? Мария Николаевна тебя ищет – Серапионову палатку помогать расписывать». Я, помню, буквально сорвалась! Мы с Катей помогали на самых последних ролях, но это было такое счастье! Больше у меня в жизни не было такого восторга, это была не жизнь, а какая-то сказка.
Постоянно приходили монахи, Патриарх Алексий I (Симанский)[31]. Люди, о которых я читала в книжке самиздата «Жизнеописание отца Алексия»[32], оказались живыми и реальными! И сама Мария Николаевна, ближайшая духовная дочь отца Алексия, и отец Константин Всехсвятский приходил – «дедушка», так его называли. Присутствие таких людей вдохновляло. Я просто «залезла на облака» и не спускалась оттуда.
Потом Мария Николаевна, посоветовавшись с отцом Константином, бывшим на тот момент ее духовным отцом, организовала группу занятий по иконописи, по воскресеньям мы ездили к ней заниматься. Это тоже было замечательно. Родные, правда, решили, что я ушла в монастырь.
Так у нас пролетело лето. Потом наместником стал Пимен[33], который очень Марию Николаевну чтил. Мы работали почти напротив его кельи, и он часто заходил к ней, да и нас запомнил и потом узнавал.
Знаете, она была такая маленькая, хрупкая, типичная представительница священнической семьи. Но сильнейший характер. Когда у нас случились семейные неприятности, я приезжала к ней и всем делилась, и она всегда успокаивала. Она была очень мягким человеком, но одновременно – как гранитная скала. Вот так – гранит, но с нежной и мягкой оболочкой.
Когда у меня что-то в иконе не получалось, я давала знать Марии Николаевне, она приезжала и помогала. Есть одна икона в храме в Медведкове, которую я писала, – недавно я была там, и мне говорят: «А вы знаете, что она чудотворная?» Я отвечаю: «Этого я не знаю, но знаю, что, конечно, икона Марии Николаевны может быть чудотворной. Она написала мне лик на этой иконе».
Мария Николаевна была великим человеком. Создав иконописный кружок в 50-е годы, она ведь жутко рисковала. Писать иконы – «идеологическая пропаганда», четыре года тюрьмы. А держать целую группу молодежи – тем более! В результате из этого кружка выросла современная иконописная школа. Силой своего авторитета Мария Николаевна перевернула мировоззрение целого поколения. В то время все были увлечены академической живописью, в лучшем случае Васнецовым[34], икон не понимали, и в Лавре в том числе. А благодаря ей все полюбили древние иконы. Теперь если кто и не понимал, то скрывал, потому что это уже считалось «неудобным».
Вот что писала о разнице между иконой и академической живописью сама Мария Николаевна в своем очерке «Картина и икона»: «Откуда шли иконы древности? Из монастырских мастерских, где смиренный инок под надзором своего наставника и старшего мастера тщательно прилежал своему послушанию – писанию икон, постепенно возрастая и духовно, и художественно. Эта среда была так высоко развита в обоих отношениях, что безымянные иконописцы работали, как подлинные большие мастера. <…> Все древние иконы были чудотворны. Начиналась икона молитвой, по правилам Церкви писалась молитвой, завершалась молитвой. Первый, кто ей молился, был сам иконописец.
Однажды в доме Виктора Михайловича Васнецова собралось московское общество любителей и почитателей его искусства. После чая художник повел гостей в свою мастерскую. Все восторгались его работами, среди которых было очень много картин на религиозные темы. После обозрения картин он предложил всем осмотреть его собрание древних икон – оно у него занимало почти две комнаты. И сам он очень любил и почитал древнюю икону.
Здесь одна дама в удивлении обратилась к нему с вопросом:
– Виктор Михайлович, как вы можете, создавши такую дивную красоту в своих картинах, интересоваться такою примитивностью и неумелостью?
– А вы, сударыня, газеты читаете? – неожиданно спросил он ее.
– Конечно, – ответила гостья, удивившись странности вопроса.
– Вы знаете, конечно, что в газетах бывают передовые статьи, а бывают и фельетоны.
– Да, бывают.
– Так вот, это, – он указал на древние иконы, – передовая статья, а моя работа – фельетон. Перед этой иконой я поставлю свечку, а перед своей – подумаю».
Однажды встретить святого
– Это была цельная личность, человек, который не менялся ни в той, ни в другой обстановке, – вспоминает внучатая племянница Марии Николаевны Соколовой Наталья Алдошина. – С кем бы она ни общалась, со всеми была ровная, но у нее был и добрый юмор – могла пошутить со студентами иконописного кружка. Всегда собранная, она смотрела за тем, чтобы и у них был порядок во всем. Все, кто приходили к ней, подтягивались внутренне перед ее благородством и духовной сдержанностью. Марии Николаевне была присуща очень хорошая мера строгости.
Наталья Евгеньевна Алдошина
Это та русская строгость людей, которые вели жизнь в церковных канонах, в традициях старого русского воспитания. Это отмечали при общении с ней все: студенты, искусствоведы, реставраторы. Они чувствовали в ней особого человека. Манера ее вести разговор, держаться, отвечать на вопросы – всегда с настоящим достоинством христианина и человека, который, прежде всего, боится Бога и предстоит перед Ним.
Многие догадывались, глядя на ее образ жизни, что она – в постриге. Хотя постриг был тайный, и никто до ее кончины не знал об этом.
Я была совсем маленькая, но хорошо помню, как однажды Мария Николаевна упомянула о том, что очень важно не просто прочитать о святом, а встретить святого в своей жизни. Я тогда спросила: «Бабушка, а вы видели когда-нибудь святого в жизни?» Она ответила: «Да, это батюшка отец Алексий. Я видела, как во время своей молитвы он оторвался от земли». Такое однажды увиденное меняет всю жизнь.
С ним ходит ангел
О протоиерее Тихоне Пелихе
На фото: протоиерей Тихон Пелих
Во время литургии Тихон вдруг почувствовал, что ему необходимо получить личное благословение Патриарха на новую жизнь.
В конце службы, нимало не колеблясь, он вошел в алтарь. Святейший как раз присел отдохнуть после причастия, и тут у его ног оказался незнакомец. Молодой Тихон стоял на коленях и просил благословить его на жизнь и учение в Москве. Патриарх ласково обнял его, поцеловал и спросил, откуда он и как его зовут. «Тихон», – назвался молодой человек. «Меня тоже Тихон», – улыбнулся Святейший. Но тут Тихона, стоявшего на коленях перед Патриархом, заприметили иподиаконы, взяли его за полы шинели и вывезли из алтаря.
Рассказчик:
Екатерина Тихоновна Кречетова (1938–2009) – дочь протоиерея Тихона Тихоновича Пелиха. Окончила с отличием среднюю школу в Загорске и курсы английского языка в Москве, но как дочь священника не смогла получить высшего образования. Работала в библиотеке Академии наук. Почти 40 лет была прихожанкой Николо-Кузнецкого храма, а с 1991 года помогала супругу, протоиерею Николаю Кречетову (род. 1934), в возрождении храма Спаса Преображения на Болвановке. С 1996 года исполняла обязанности секретаря Москворецкого благочиния.
Всю жизнь отец Тихон Пелих, получивший в молодости благословение святого Патриарха Тихона, безраздельно служил Церкви. Смиренный, кроткий, молитвенный человек, он умел ладить с каждым, говорил, не повышая голоса, а его лицо светилось добротой. За утешением к нему стремились очень разные люди: лаврские монахи, московские священники, а бывало, приезжали на правительственных «чайках». Двери его дома были открыты всегда – ранним утром, днем и даже ночью. О своем отце, протоиерее Тихоне, рассказывает матушка Екатерина Тихоновна Кречетова.
Тоска «по своим родненьким»
Мой отец Тихон Пелих[35] родился в Харьковской губернии в семье кузнеца. В шесть лет он остался круглым сиротой. Первое время его воспитывал старший брат, уже тогда женившийся. Потом он отдал мальчика в церковно-приходскую школу, где внимание на него обратил священник, преподаватель Закона Божия. Село, где учился Тихон, находилось рядом с поместьем барина, замечательного, глубоко верующего человека. И тот, по просьбе священника, взял сироту к себе в дом, усыновил и воспитал наравне со своими детьми. Отец Тихон любил приемных родителей, но очень тосковал «по своим родненьким», как он говорил. В общем, детство грустное было. Вскоре революционные события раскидали всех, его приемные родители эмигрировали, взяв с собой дочерей, а он с сыном помещика остался в районе военных действий.
Во время эпидемии сыпного тифа Тихон вместе с братом заболели и попали в лазарет. Папа рассказывал, как видел смерть, которая переходила от его койки к койке брата и как будто колебалась, кого выбрать. Потом села на кровать брата, и тот скончался. Тихон выздоровел, выжил и снова оказался на попечении добрых людей в одном из приходов Пятигорска. Там его устроили на работу в местную библиотеку, и какое-то время он трудился при храме и в библиотеке, помогая священнику. В 1923 году по совету друзей отправился в Москву и поступил на биологическое отделение Московского государственного педагогического института.
Благословение Святейшего
Когда он приехал в Москву, то прямо с вокзала направился в храм – это было утро воскресного дня. И попал на богослужение, которое совершал Святейший Патриарх Тихон[36]. Во время литургии Тихон вдруг почувствовал, что ему необходимо получить личное благословение
Патриарха на новую жизнь. В конце службы, нимало не колеблясь, он вошел в алтарь за благословением, и никто его не остановил. Святейший как раз присел отдохнуть после причастия, и тут у его ног оказался незнакомец. Молодой Тихон стоял на коленях и просил благословить его на жизнь и учение в Москве. Патриарх ласково обнял его, поцеловал и спросил, откуда он и как его зовут. «Тихон», – назвался молодой человек. «Меня тоже Тихон», – улыбнулся Святейший. Но тут Тихона, стоявшего на коленях перед Патриархом, заприметили иподиаконы, взяли его за полы шинели и вывезли из алтаря. Папа часто вспоминал об этом случае с улыбкой.
Велика была сила первосвятительского благословения! Она хранила Тихона во многих обстоятельствах жизни – и в студенчестве и в последние годы его жизни. Пока он учился в институте, то жил в общежитии, и не скрывал своих убеждений. Он вел дневник, иногда оставлял его открытым на столе. С ним в комнате жили еще человек семь, и никогда не возникло никаких неприятностей.
Вот что он запишет в своем дневнике: «1927 год. 3 апреля, Москва, Балчуг, общежитие. Вчера была суббота – Великий и святой день для меня. Однако насколько же наша человеческая природа способна быстро загрязняться! Стоит побыть в другой атмосфере, и уж ты непременно мыслью, или словом, или взглядом, или движением – тем или иным оттенком реагирования – кладешь отпечаток на очистившийся лик души. Трудно, очень трудно блюсти себя и следить за собой, будучи не в уединении. Так же было и сегодня. Так как этот дневник должен явиться зеркалом моей души, то да поможет мне Господь, и Пресвятая Матерь Его, и святой Ангел-Хранитель выполнить точно это мое намерение.
8 апреля. Накануне Благовещения Миша, с которым я живу в одной комнате, выразился хульно о Божией Матери, а я преступно промолчал. И только за всенощной необычайный стыд обуял меня. И я решил предупредить Мишу, чтобы он так не выражался, сказав ему, что я – верующий».
Однажды в студенческие годы их повезли с экскурсией по действовавшим храмам Москвы. Вошли они во время литургии в один храм, где пели «Тебе поем». И, как рассказывал папа, – «я не мог стоять». Он тут же опустился на колени и простоял до конца весь Евхаристический канон на коленях. И когда он встал, товарищ его спрашивает: «А где же ты был?» То есть никто этого даже не заметил!
Каждое лето студенты занимались изысканиями в астраханских степях. И там он находил место для молитвы, никогда не афишируя своих убеждений, но и не таясь. Как мне кажется, его всегда хранило благословение святого Патриарха Тихона. И снова мы обратимся к дневнику отца: «1927 год. 25 июля. Утро, 6 часов. Степь под Богучаром. Солнышко. Роса – редкое явление для степи, нет ветерка, далекие петухи и куры… Иду по степи, надо помолиться.
27 июля. Я человек не компанейский и не общественный. Люблю одиночество и ищу его, а говорить с людьми люблю только на темы философского характера и попадаю в глупое положение, когда мне приходится через силу вести <досужие> разговоры. Тогда и не знаю, о чем говорить.
21 августа. <…> человек ежедневно должен часть времени уделять пребыванию наедине с собой. Спросят: „Зачем это? Ведь это так скучно". Проделайте опыт, и вы узнаете, что только в уединении человек делается самим собой. Только уединение приносит с собой всю глубину загадок и вопросов бытия, ставит перед человеком проблемы философского и религиозного содержания».
Встреча в мезонине
В 1929 году Тихон Тихонович окончил институт, и его направили работать в Сергиев Посад, тогдашний Загорск. Он преподавал сразу несколько предметов: математику, физику, химию, биологию. Так продолжалось до войны. А в 1937 году он женился. Произошло это чудесным образом: в Загорске Тихон снимал комнатку в мезонине на краю города в районе Красюковка. Этот дом с мезонином купил отец Георгий (Лавров)[37]для духовных чад. Но тогда почти все духовные чада отбывали наказание в тюрьмах, в том числе и хозяйка этого мезонина, моя мама, Татьяна Борисовна Мельникова.
Мама была тоже необыкновенным человеком. В юности она духовно окормлялась у будущего священномученика Петра (Зверева)[38], он обучил ее уставу и пению. Потом, когда в 1921 году его арестовали, она стала ходить в храм Христа Спасителя к отцу Александру Хотовицкому[39], тоже будущему святому. А после прихода в храм Христа Спасителя обновленцев[40]в 1923 году мама обратилась за духовным руководством к архимандриту Георгию из Данилова монастыря. За отцом Георгием в 1928 году она пошла в ссылку на вольное поселение в Казахстан, причем не самовольно. Ему в помощницы ее выбрали духовные чада. Бабушка Тани, глубоко верующий человек, часто возмущалась: «Таня – такая красавица, и вечно спиной к зеркалу. Повяжет платок, и бегом на службу». Такими переживаниями она делилась с соседкой Мельниковых по московской квартире, но никогда маме не препятствовала, благословила на то, чтобы ехать за отцом Георгием в ссылку. И там, в ссылке, конечно, продолжалось изучение устава. Отец Георгий служил ежедневно, и все это ей пригодилось потом.
Между прочим, многих подруг Тани Мельниковой отец Георгий постригал, а ей говорил так: «Подожди, деточка, будешь еще матушкой» (хотя она хотела стать монахиней, не стремилась к семейной жизни). Будучи старцем, отец Георгий предвидел их знакомство с Тихоном Тихоновичем в мезонине ее дома. И сколько я себя помню, в нашей скромной комнатке всегда висел большой портрет отца Георгия, и пока он не был прославлен, всегда служилась панихида в день его памяти. На каждое дело, на каждую поездку «бралось у него благословение» возле портрета.
Мама до последнего оставалась с отцом Георгием. Он скончался уже после освобождения по дороге из Кара-Тюбе домой в Нижнем Новгороде от рака гортани. А Татьяну Борисовну спустя полгода арестовали и отправили в Забайкалье. В этой ссылке она провела еще три года. Тем временем в мезонинчик, записанный на ее имя, и вселился молодой Тихон Тихонович. Соседи сдали ему пустовавшее помещение.
Татьяна Борисовна вернулась в 1936 году. А ей говорят: «Ваш дом занят». Поехать к родителям в Москву она не могла, ей дали «минус сто», и она рискнула приехать назад в Сергиев Посад, это около 70 километров от Москвы, где ее приютили соседи. Она имела намерение поступать в медицинский институт, поскольку по образованию была медсестрой, и ей посоветовали за помощью обратиться к Тихону Тихоновичу: «Жилец, который снимает ваш мезонин, преподаватель, он подготовит вас». Он действительно ей очень помог и по физике, и по химии. Она успешно сдала экзамены. А Тихон Тихонович очень скоро понял, что без нее жить дальше не может. Он поехал к ее родителям просить руки, сделал ей предложение, которое она приняла. Венчались они у духовника Тихона Тихоновича, отца Вениамина Воронцова[41]. Это был 1937 год.
С супругой Татьяной Борисовной и дочерью Екатериной. 1940 г.
Лаврский антиминс
После окончания университета и распределения в Сергиев Посад Тихон Тихонович стал окормляться у последнего наместника Лавры отца Кронида (Любимова)[42]. Отец Кронид так доверял ему, что незадолго до своего ареста завещал антиминс Лавры. Когда немцы были под Москвой, родители вместе с другими святынями положили антиминс в ковчежец, для большей сохранности закопали в саду и просили меня хорошо запомнить это место.
Незадолго перед открытием Лавры, в 1945 году, папа во время чтения акафиста Царице Небесной сподобился чудесного явления преподобного Серафима Саровского, о чем так рассказал своей жене: «Родная моя Танюшенька! Странно тебе покажется, что вместо устной беседы с тобою я пишу тебе письмо, но так надо… Проводив тебя, я пришел домой и стал читать акафист Божией Матери со слезами на глазах. Вдруг меня обуял такой внутренний трепет, что я должен был опустить голову наземь, закрыл глаза и ясно почувствовал, что в комнату нисходят Силы Небесные. Это такой ужас, который не передашь словами. Я ясно почувствовал присутствие в комнате преподобного Серафима Саровского Чудотворца.
И тут началось самое страшное: таинство исповеди. Он меня исповедовал. Он мне в картинах показал всю мою жизнь, и, так как я по временам сомневался, не бред ли, не мерещится ли все это мне, он после исповеди каждого моего греха давил мою голову, как молотом, причем ни руками, ни ногами я не мог пошевельнуть. В продолжение всей исповеди я был в полном сознании. В исповеди мне был показан один страшнейший грех, к которому причастна и ты. Преподобный, укоряя меня, перечисляя мои грехи, вдруг открыл бездну святости, которая хранится у нас. Мне приказано в ближайшее же время привести святыню в надлежащий порядок. Деточка, под нашей крышей хранится величайшая святыня, и грозный суд за небрежение я пережил».
Тем временем готовилось открытие Лавры, первый лаврский наместник, отец Гурий[43], жил при Ильинском храме. За всеми хлопотами он позабыл, что у него нет антиминса. И вот подходит время первой литургии: а как служить-то? Об этом он и не подумал. Вот как об этом пишет протодиакон Сергий Боскин: «У тогдашнего настоятеля обители архимандрита Гурия было много хлопот: устанавливали колокола, приводили в надлежащий вид Успенский собор. Из окон сосульки, слой пыли на всем. Ни подсвечника, ни аналоя. Пустота, холод и запустение. Отцом Гурием овладело новое беспокойство – нет антиминса. Тут раздается стук: „К вам пришли".
Это был Тихон Тихонович Пелих, который вручил ему лаврский антиминс, тот самый, который хранился у нас в саду, в целости и сохранности. На антиминсе, раскрытом отцом Гурием, было написано: „Антиминс с престола Успения Божией Матери Успенского собора Троице-Сергиевой Лавры". Так преподобный Серафим позаботился о святыне Лавры преподобного Сергия».
Праздник сияющий
Вообще воспоминания о военных годах для меня самые тяжелые: очень хотелось есть, мы голодали, ели все, даже угли из печки доставали и ели. Для того чтобы нас прокормить, мама ходила по ближайшим селам и меняла вещи на продукты (после ссылки она была «лишенкой»[44] – без карточек и возможности устроиться на работу, а отец в годы войны служил в стройбате под Москвой). Все, что у нас было, она выменивала на муку и картофель. Это был ее подвиг. И вот мебели никакой, все продано, сосед сколотил стол, спали на топчанах. И при этом, вы знаете, открытие Лавры, а потом начало папиного священнического служения настолько захватили нас, детей, что мы жили в постоянной радости, не было обиды на эти условия жизни.
Весь Великий пост мама с верующими женщинами целыми днями отмывала Лавру. Появились первые монахи, они были больные, изможденные, старенькие, почти все из лагерей. Первая Пасха в Лавре – это было удивительно. Нас, конечно, мама не взяла на ночную службу (мне было восемь лет, брату – шесть), но мы стояли у открытой форточки и ждали звона. И честно вам говорю: мы плакали, мы так ощущали этот праздник. А утром мы отправились к поздней литургии. Даже в военные годы мама всегда старалась испечь маленький куличик и покрасить несколько яичек. Красила мама их всегда красной тушью, они получались такие торжественные. Так что Пасха у нас даже в самые голодные годы была праздником сияющим. И вот эта радость осталась благодаря маме на всю жизнь.
«Наш папа теперь не совсем наш – он священник»
Послевоенный год для Тихона Тихоновича стал во многом определяющим. Он много читал духовной литературы и обдумывал свою дальнейшую жизнь, хотя мысли о принятии сана ему приходили давно, и на это было благословение его духовника. 1 августа 1946 года, в день памяти преподобного Серафима Саровского, отец был посвящен в диаконы, а 26 августа 1947 года, в день своего ангела, в Малом соборе Донского монастыря рукоположен во иерея. На всю жизнь мне запомнился этот день, как весь такой светящийся, лучезарный отец в белом облачении дает крест после литургии.
Екатерина Тихоновна у мольберта
Хиротония отца произошла «на гробнице»[45]Патриарха Тихона, в их общий день ангела и день рождения папы. Удивительно все это… После службы очень долго незнакомые люди подходили к нему, брали благословение, и он неспешно осенял каждого. У меня было такое нетерпение: когда же, наконец, можно будет приблизиться к папе? И вот мы его дождались, идем вдоль монастырской стены – и такая радость необыкновенная внутри! Наш папа теперь не совсем наш – он священник!
Первые годы отец Тихон служил в сельских храмах Подмосковья. Домой приезжал редко, только затем, чтобы позаниматься пением и разобраться в церковном уставе, в котором мама его превзошла. Я очень хорошо помню эти вечера, когда они сидели, иногда при свечах, и мама напевала гласы. Мои родители жили строго по церковному уставу: приближается праздник – они заранее к нему готовятся, службу изучают. И часто мы, дети, засыпали и просыпались под их пение. Жили мы все в одной комнате, и первым словом моего младшего братца было «Аллилуйя».
Навсегда в проповедях отца Тихона сохранилось влияние его биологического образования: «Учение о том, как войти в Царство Небесное, и составляет сущность христианской религии. Наша религия учит, что люди потому страдают, что они являются изгнанниками Рая на земле. Но для того, чтоб снова вернуться в Царство Небесное, для этого надо снова родиться в Жизнь, которой мы лишились. Но как родиться?.. Сами себя родить мы не можем – вот простая истина, которая проповедуется в Евангелии Господа нашего Иисуса Христа… Для того, чтобы минерал – представитель мира неорганического, мог сделаться участником жизни органического царства, для этого необходимо, чтобы само растение своей таинственной жизнью всосало в себя минеральные соли и затем вознесло бы их, облагороженных и преображенных, в жизнь более высокую.
Только когда живое вещество нисходит в неорганический мир, только тогда его атомы приобретают новую структуру жизни – только тогда камень делается растением. Вне этого предварительного соприкосновения с жизнью минеральные атомы остаются навсегда в области неорганического мира… В неясном, но тождественном явлении духовного мира, согласно слову Божию, существует такая же непроходимая пропасть. Переход от животного мира к духовному никак иначе невозможен, как только с помощью Сшедшего с Небес Иисуса Христа.
Никакие органические изменения, никакие перемены окружающей среды, никакая умственная работа, никакие нравственные усилия, никакое развитие характера, никакое преуспеяние образованности не в силах одарить ни единую человеческую личность свойствами духовной жизни. Духовный мир отделен и огражден от мира нижестоящего законом: „.если кто не родится свыше. если что не родится от воды и Духа – не может внити в Царствие Божие". – Никто! И так как никто с небес не сходил, как только Сшедший с Небес Иисус Христос[46], то мы говорим, что Он единственный способен вознести нас с Собою в Новую Жизнь.»
В 1950 году отца Тихона перевели в Сергиев Посад. В тот год в Россию вернулся из Болгарии необыкновенный священник – отец Всеволод Шпиллер[47]. За месяц-два до этого папу вызвал митрополит Николай (Ярушевич)[48] и предупредил, что переводит его в Ильинский храм в помощники отцу Всеволоду и для создания благоприятной атмосферы. Они близко сошлись и очень друг друга полюбили, а я стала духовной дочерью отца Всеволода. Когда его в 1951 году перевели в Москву, он несколько раз приглашал папу туда, но тот не хотел – боялся столичного шума во всех смыслах. Тогда отец Всеволод ходатайствовал перед Святейшим Патриархом Алексием I, чтобы отца Тихона назначили настоятелем Ильинского храма. И так папа стал настоятелем Ильинского храма и духовником семинарии и академии в Загорске.
В доме отца Тихона собирались многие из духовенства и мирских, самых разных людей. Приходили и ранним утром, и днем, и даже ночью. Отец Тихон никому не отказывал. Бывало, он еще не вернулся из храма, а в садике, в беседке и в доме его уже ждут люди. К отцу Тихону ехали со всех концов земли Русской, ему писали письма. В его помяннике напротив имен можно прочесть в скобках: «с Урала», «из Сибири», «Пятигорские», «из Киева», «из Печор», «из Крыма», «из Владивостока».
В своем дневнике он тогда писал: «26 августа 1975 года. <…> Быть священником было моей мечтой с детства. Как много несет ответственности священник за свои пастырские обязанности. Я теперь только, в конце жизни, осознал значение пастырского служения и надеюсь на молитвы Святой Церкви, в которой сознательно всю жизнь состою как верное чадо церковное. Я люблю Святую Церковь и молю об одном: до последнего вздоха быть чадом ее и трудиться, трудиться на пользу Церкви».
Наверное, нужно отнести к особенностям характера отца то, что он всегда жил Церковью. Круг церковных праздников был кругом его жизни, а иначе он просто не мог и не умел. Каждый праздник, особенно двунадесятый, он переживал, как космическое событие, происходящее здесь и сейчас, и основательно готовился к нему: прочитывал службу наступающего праздника, выделяя особо какую-то стихиру или прокимен, близкий его сердцу, пропевал его и часто размышлял вслух о таинственном смысле празднуемого события. Трудно словами передать его состояние. Приближается, скажем, праздник Богоявления, и отец уже весь в ожидании освященной водной стихии. Он радостно переживает и «трепет Предтечи», и явление благодати Божией, «спасительной всем человеком». И мы, дети, тоже с нетерпением ждем этого события, когда вся вода (а значит, и снег тоже) будут «дрожать» от благодати. Или приближается Страстная неделя – дни великой скорби. Мы чувствуем, что отец всем своим существом погружен в эту скорбь: он – там, в Гефсиманском саду, на Голгофе. И, глядя на него, понимаешь, что значит «да молчит всякая плоть человеча… и ничтоже земное в себе да помышляет.» Но вот настает Великая Суббота, и папу трудно узнать!
Надо было видеть, как отец Тихон служил литургию Великой Субботы. Нам он всегда говорил, что не пережив Великой Субботы, не ощутить и полноты пасхальной радости. До сих пор помню свое детское недоумение в связи с пасхальными днями: нельзя было сказать, что папа в те дни ходил по земле. Он почти летал! И из храма после службы на первый день Пасхи он не мог уйти, и мы, его домашние, это понимали. Прошла Пасха, и опять «взлет» – от радости Вознесения Господня, затем – дни ожидания Пятидесятницы, ожидания Духа Святого. Среди них отец особо выделял родительскую субботу и, готовясь к ней, с какой-то светлой печалью говорил об усопших: «Как ждут они наших молитв!» Вообще родительские субботы были большим испытанием для домочадцев. С утра, после литургии, отец Тихон ехал на кладбище и возвращался только вечером, в полном изнеможении. Ильинские прихожане караулили отца настоятеля у семейных могил и упрашивали батюшку послужить «еще панихидку». В такие дни отец Тихон служил по нескольку десятков панихид.
В Ильинском храме
В обычные будние дни отца Тихона ожидали бесконечные требы. К нему обращались за помощью не только жители Сергиева Посада, но и окрестностей. В 50-е – 60-е годы частенько за батюшкой приезжали на «конной тяге». И так, день за днем, отец Тихон в повозке, запряженной лошадью, неспешно объезжал огромную паству – исповедовал, причащал, соборовал…
Осенью 1979 года отец Тихон вышел за штат. Он трагически переживал разлуку с приходом и храмом, где прослужил тридцать лет. Он говорил: «У меня еще столько сил, чтобы служить Богу и людям». «Последние годы жизни отца Тихона, – вспоминает протоиерей Валериан Кречетов[49], – удивительный пример для всех нас. Он много потрудился для Православной Церкви, безраздельно ей служил, как сказано, „всем сердцем, всею душею, всею мыслию“. Он был известен архиереям, Патриарху. Большая часть духовенства, если не сказать все духовенство, прошедшее тогда духовные школы Троице-Сергиевой Лавры, знало его. „Венчальный батюшка" – звали отца Тихона в те годы. Всех, почти всех студентов семинарии, будущих батюшек, венчал отец Тихон. Так вот, после этого, при всем содеянном им, – изгнание из родного храма, в котором он так беззаветно трудился. Когда я узнал, что его как бы отстраняют, я этого не понял. Думаю: „Что же это такое? Как же это может быть?!" Я дерзнул пригласить отца Тихона к себе на приход. Батюшка согласился.
Отец Тихон помогал мне. Он ходил медленно (у него были галоши большие, так: „Ш-ш-ш"), бывало, двигается-двигается, и вот дойдет до жертвенника, стоя вынимает частицы из просфорочек. Все очень медленно. Но пока я служу, все просфоры, какие есть, он вынет… Однажды на пасхальных днях был такой случай. Отец Тихон один уже не служил. В тот день он стоял сбоку от престола, а Коля Архипов, который ему помогал, стоял рядом с ним. В храм зашла наша повариха Аполлинария Сергеевна Огородова, человек абсолютно духовно трезвый, без какой-либо экзальтации, и рассказывает: „Смотрю я в отверстые Царские двери алтаря и вижу, что кто-то загораживает отца Тихона, будто кто-то над ним наклонился. Присмотрелась – вижу вроде как крылья". А батюшка во время литургии голосом серьезным и немножечко встревоженным спросил: „Кто еще с нами служит?" Я в растерянности, не знаю, что сказать. Он показывает на левую сторону престола: „А кто там стоит?" Я говорю: „Батюшка, никого". – „А-а, ну ладно". И опустил голову. То есть, видимо, он видел ангела. У нас в Акулове был мальчик, он, будучи из нецерковной семьи, видел ангелов, видел нечистую силу – мир духовный. И он говорил, что когда поют „Иже Херувимы", весь храм наполняется ангелами, а алтарь – пламенем: „Там только огонь, там ничего не видно". Об отце Тихоне он говорил: „Этот батюшка – святой. Когда он ходит, с ним все время ходит ангел"».
Отец Тихон в Акулове, как обычно, принимал множество людей, которые приезжали к нему на исповедь, за советом и утешением. Он всех выслушивал, и никогда в нем не возникало и тени возмущения. У него было величайшее смирение и непостижимое терпение. Он учил своим примером: все, что мы делаем в храме, и вообще если что-то доброе делаем, то это милость Божия к нам, а не какой-то наш труд. До последнего своего дыхания отец Тихон служил Богу. Последний его день на земле был воскресный. С утра, пока в храме совершалась литургия, отец Тихон не закрывал глаз и взглядом спрашивал, когда слышал благовест и звон к Евангелию и к «Достойно». Я, стоя у постели, отвечала ему, что сейчас происходит в храме, и он благодарно прикрывал глаза, потом снова их открывал и, уже не видя никого и ничего вокруг, молился. Это была такая мольба, такой вопль к Богу – словами не передашь! По окончании литургии пришел священник со Святыми Дарами, причастил его, и спустя три часа батюшка отошел ко Господу.
В моей памяти отец Тихон – мой родной отец – остался прежде всего пастырем добрым, смиренным, усердным молитвенником и нежно любящим отцом…
43-й километр во времена гонений
О семье Ефимовых, о владыке Стефане (Никитине) и тайном священнике Романе Ольдекопе
На фото: епископ Стефан (Никитин)
Мир, в котором мы жили, – особый, замечательный мир, его центром были верующие люди. Это было самым главным, понимаете? Этот мир создали вокруг нас старшие. Нам он давал радость, полноту жизни, но теперь я понимаю, каких трудов это стоило родителям!
Рассказчики:
Георгий Борисович Ефимов (род. 1938) – старший научный сотрудник Института прикладной математики РАН им. М.В. Келдыша, кандидат физико-математических наук. Автор работ по механике космического полета, программированию, истории науки.
Андрей Борисович Ефимов (род. 1940) – профессор, доктор физико-математических наук. Работал во ВНИИ физико-технических и радиотехнических измерений Госстандарта СССР, в Институте физики Земли РАН, на кафедре МИЭМ, в Вычислительном центре РАН. Преподавал в МИСиС, МИЭМ, Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, где с 2006 г. – заместитель декана миссионерского факультета. Автор многих научных трудов.
Это воспоминания двух братьев – Георгия Борисовича и Андрея Борисовича Ефимовых о владыке Стефане (Никитине), священнике Романе Ольдекопе, о своей семье и жизни простых верующих людей в XX столетии. Ефимовский гостеприимный дом на 43-м километре под Москвой привечал многих, кому нужно было помочь: монахинь из закрытых обителей, многодетные семьи, не имевшие крова; бывали здесь и архиереи, и священнослужители. В этом доме царил, по рассказам, совершенно особый мир, центром которого были верующие люди.
Под кровом преподобных Сергия и Серафима
Георгий Борисович: Я вспоминаю детство на нашей даче на 43-м километре, недалеко от Лавры. Когда мы приходили в монастырь преподобного Сергия, нас встречала надвратная икона «Преподобные Сергий и Никон перед Святой Троицей». Они были изображены на фоне обители, а кругом – леса, леса, и нам казалось, что наш 43-й километр находится где-то на окраине этих лесов. Так что мы жили под покровом преподобного Сергия. И преподобного Серафима – через основательницу Серафимо-Знаменского скита[50] игумению Фамарь, которую родители считали покровительницей нашей семьи. Она любила родителей, познакомилась с ними по отдельности еще до их знакомства и радовалась их соединению.
Круглый год на нашей даче жили две монахини матушки Фамари: ее келейница Евдокия (няня Дуня[51], как мы ее звали) и мать Вероника. Няня Дуня была человеком волевым, молитвенным, организованным. Она сберегла многие святыни и иконы из скита: высокую икону преподобного Серафима с вставленным в нее большим куском камня, на котором он молился, вещи преподобного. Когда в войну горела соседняя дача и головешки с искрами уже летели на наш дом, беспомощные женщины в отчаянии взмолились преподобному, ветер переменился, и дача была спасена.
Свою комнату няня Дуня содержала в идеальной чистоте и порядке, никто из посторонних в нее не входил. И только нам разрешалось там молиться по воскресеньям, а моя маленькая сестра Елизавета[52] могла даже оставаться ночевать. Няня была прописана как домработница, к нам, детям, она отношения почти не имела, занималась огородом, замечательно готовила и создавала часть прекрасной атмосферы в доме.
Вот воскресенье. Лето, солнце. Утром мы встаем и заходим в комнатку няни Дуни. Ее комнатка полна икон. Сама няня с вечера уехала в город на службу. А мы собираемся здесь: четверо детей, папа, мама, кто-то из близких. Нас маленьких водить в церковь было немыслимо – церкви переполнены, добираться далеко. Закрываем форточку, занавешиваем окно, запираем входную дверь на засов, закрываем двери в кухню и из кухни в нянину комнату, начинаем петь обедницу, читаем Апостол, Евангелие. Если кто-то стучится, мы выходим, вешаем замочек на дверь няниной комнаты. А когда люди уйдут, все приводим в исходное положение и возвращаемся к службе.
Екатерина Александровна Ефимова с сыновьями Андреем и Георгием
Соседи знали о том, что мы – верующие. Один из них, военный инженер-строитель, партийный, к нам никогда не заходил, чтобы в случае, если спросят о нас, мог бы честно сказать: «Не знаю». На другом участке, при папиной помощи, построили дачу Елена Васильевна Гениева[53]и ее крестница Елена Владимировна Вержбловская, в монашестве инокиня Досифея. У Елены Васильевны была хорошая библиотека, мы часто приходили к ней, сидели и читали. На Рождество всегда устраивалась елка, и нас, детей, ждало угощение – орехи, конфеты, пряники, сардельки в томате, – настоящий пир горой. К Гениевым приезжали и служили тайные священники, у них на даче отдыхал наместник Лавры, будущий патриарх Пимен (Извеков).
В нашем доме тоже гостило много верующих людей. Я помню, как на Пасху 1941 года у нас гостил отец Константин Ровинский[54], у него был «минус сто». Этот священник, в прошлом большой чиновник, во время Гражданской войны попал в заложники. Когда белые подходили к городу, большевики хватали всех подряд «бывших» и расстреливали. Он попал в их число, и, сидя в тюрьме и ожидая расстрела, пересмотрел свою жизнь. Когда его супруга обратилась к оптинскому старцу Анатолию в письме с просьбой молиться о муже, тот ответил: «Он сейчас сидит и славит Бога». Так и было. Вскоре он принял священство.
Когда мы стали постарше, то ездили к литургии в открывшуюся в 1946 году Лавру. Там нам купили детские молитвенники в половинку листка, в зеленой суровой обложке. Их печатали в оккупации в Прибалтике у митрополита Сергия (Воскресенского)[55]. По ним мы выучили довольно большой объем утренних и вечерних молитв. А потом нам подарили маленький набор из четырех Евангелий, напечатанных в Америке[56], каждому из нас – по Евангелию.
Мы, дети, хорошо знали законы конспирации. Нам вышивали белыми нитками на белой майке крестик, потому что с настоящим крестиком в школу ходить не разрешалось. В Москве мы ездили в храмы Воскресения в Сокольниках и Ильи Обыденного с бабушкой – мама с целым выводком детей могла попасть на заметку. Будучи маленькими, мы уже знали, что со знакомыми здороваться в храме нельзя. Когда в 90-е годы в храмах начали здороваться и целоваться, мне это казалось нарушением норм исповеднического времени.
В нашем доме никогда не было мрака, «шипа» (как говорил папа) и осуждения. Мир, в котором мы жили, – особый, замечательный мир, его центром были люди верующие. Нам этот мир дорог и прекрасен благодаря вере в Бога. Мы всегда понимали, какие мы счастливые, и что многие этого счастья веры в жизни лишены. А теперь я осознаю, каких трудов стоило родителям создать этот мир вокруг нас!
Родители
Наш отец, Борис Петрович Ефимов, родился в провинциальной многодетной семье. Дедушка, Петр Николаевич Ефимов, работал горным инженером на заводике в Жигулях. Небольшого роста, вспыльчивый, очень энергичный и глубоко верующий человек, он вымолил папу и двоих его младших братьев (четверо старших умерли – двое детьми, а двое от тифа в Гражданскую войну). Дедушка говорил: «Мне нравится программа большевиков. Я был бы с ними, если бы они, во-первых, выполняли свои обещания, а во-вторых, не трогали бы Церковь». За эти слова его посадили, а в родовом доме устроили заводской клуб.
16-летним юношей папа провел лето на пасеке, чтобы помогать семье. А когда дедушку выпустили из тюрьмы и он переехал в Самару, отец отправился в Ленинград, где поступил в Горный институт, студентом ездил руководить экспедицией в Армению, стал успешным специалистом.
Наши родители познакомились в 1934 году на похоронах дяди моего отца, юриста Евгения Николаевича Ефимова. Наша бабушка с маминой стороны, Евгения Александровна Нерсесова, была хорошо знакома с его женой, Еленой Алексеевной Ступиной-Ефимовой, ученицей Герье[57] и блестящим педагогом. После революции бабушка организовала домашнее обучение для своих дочерей (старое образование в школах развалилось, а в новых школах появлялись не устраивавшие ее антирелигиозные моменты). Она пригласила
Елену Алексеевну преподавать историю, и та делала это так замечательно, что некоторые из учениц, в том числе наша мама, продолжали общаться с нею долгое время.
Елена Алексеевна, как многие среди интеллигенции в то время, потеряла веру. Но когда в 1934 году ее супруг попал в тюрьму, она пришла к отцу Алексию Мечеву (о нем впервые она услышала в поезде и подумала: «Мы знаем, что такие люди были в древности, а этот человек живет рядом с нами»), и отец Алексий снял груз с ее души. В другой раз она была у него уже верующим человеком и посетовала:
– Вы знаете, мне трудно ходить в церковь. Там много народу, я многое не понимаю в службе и плохо чувствую там Бога, – сказала она отцу Алексию.
– А где Вы чувствуете Бога? – спросил он.
– Я Его чувствую, когда пишу письма друзьям, за письменным столом.
– Вот и хорошо!
Я помню, как Елена Алексеевна приходила к нам, когда мы были маленькими. Она уводила нас в лес, на опушке леса рассказывала про Куликовскую битву. И мы себя чувствовали в этих кустах как полк Андрея Серпуховского[58] в засаде.
Умерла она у нас же на даче в 1948 году. Приехала отдохнуть, и ее хватил инсульт. Тайный священник Сергей Алексеевич Никитин[59], который был с Еленой Алексеевной очень близок и называл ее «наш апостол», соборовал ее.
Так вот, когда папа познакомился с нашей будущей мамой Екатериной Нерсесовой и стал ухаживать за ней, то Елена Алексеевна его предупредила: «Она выйдет замуж только за верующего человека». И папа, тогда отошедший от своей детской веры, активно вошел в Церковь вновь. Он был человеком очень светлым, его тяга к Богу не была окрашена в мрачные тона.
В фамильной истории есть такой эпизод. Папа снимал для тетушки на лето избу на берегу Оки, в деревне Кременье. Туда приезжали гости. И как-то между Александром Борисовичем Салтыковым[60] и папой произошел интересный разговор. Салтыков говорил о том, что его в церковных службах вдохновляют покаянные молитвы. Это больше всего соответствует его мыслям, настроению, в них он обретает встречу с Богом. Папа же говорил, что он чувствует Бога в радости. Этот коротенький эпизод я часто вспоминаю, потому что, действительно, в Церкви есть и то и другое; и то и другое является правильным и стержневым.
Об отце говорили: вот один из немногих людей, который выполнил все то, что задумывал. А задумывал он иметь пятерых детей, свой дом, чтобы «строить» семью в атмосфере веры. Хотел создать пристанище для опекаемых им монахинь Серафимо-Знаменского скита и место для летнего отдыха дедушке и родственникам. Дом отец построил в 1939 году, незадолго до войны. Я, старший, родился в 1938 году, но хорошо помню, как низко над домом пролетел немецкий самолет, пытаясь бомбить железную дорогу, как в сентябре 1941 года во время очередной паники вереница людей в яркий сентябрьский день шла на платформу, чтобы уехать в Москву: с рюкзаками, на некоторых – по два пальто, дети на плечах. Поезд не пришел, кто-то вернулся, а у кого не было тяжелых вещей, отправились по шпалам пешком.
Это был наш собственный дом, в котором родители созидали семью, ее мир, ее уклад жизни и работы. В этом доме мы провели войну и еще долгие годы после. У нас, детей, был четкий распорядок дня – утром подъем, зарядка, обтирание, молитва и завтрак. Летом папа уезжал на работу, а нам давалось задание – например, до обеда полоть и собирать клубнику, убираться. Свободное время и игры – только после обеда и тихого часа. Папа иногда приезжал поздно, но если была срочная работа по дому (стройка, уборка урожая), бросался в авральный труд, а мы ему помогали, и как это было интересно, как мы гордились совместной работой с отцом! Иногда он целые выходные просиживал над привезенной из Москвы дополнительной работой, ведь ему надо было содержать большую семью, дом и всех его обитателей. Летом после завтрака, бывало, мы бежали с отцом купаться на пруд за два километра, а после работы и обеда играли на нашем большом участке в волейбол с соседскими детьми, и папа возглавлял женскую команду.
Наша мама, Екатерина Александровна Ефимова-Нерсесова, с детства имела особый дар общения. Еще маленькой девочкой она была предводительницей целого выводка детей – своих сестер и подруг, руководила играми, утешала, наставляла. Так было и потом, всю ее жизнь. Кто-то приходил к ней посоветоваться, рассказать о своих бедах и обидах, и мама мирила и разбирала недоразумения между близкими людьми, жалела их. Ее жизнь была нелегкой: на смену светлому благополучному детству пришли лишения революционных лет, трагедии репрессий, война. Мама поступила на физико-математический факультет МГУ – одна из двух женщин на 120 мужчин, но была вынуждена уйти со второго курса, когда узнали о том, что она ходит в храм, и заканчивать обучение экстерном. Потом у нее появилась большая семья, шестеро детей (одна дочка прожила лишь три года). Мама брала на себя и заботу о соседях, родственниках, живших у нас на даче в разные годы в зимний период семьях имевших трудности с жильем, – Апушкиных[61], Амбарцумовых[62], Калед[63]. Свой подвиг общения мама несла с любовью, пониманием непохожести людей друг на друга и сочувствием к ним.
Бабушка: 254 чуда жизни
Мамина семья, как и папина, тоже была очень интересная. Ее центром была наша бабушка, Евгения Александровна Нерсесова, в девичестве Бари. Она принадлежала к большой и благополучной семье: 9 человек детей, замечательный отец, Александр Вениаминович Бари[64], которого все обожали, яркий, солнце для всех, кто его знал, бесконечно помогавший многим вокруг. Он был талантливым инженером, строил мосты по всей стране, стеклянные крыши над Киевским вокзалом и Пушкинским музеем в Москве, нефтяные баржи, с ним работал гениальный инженер Шухов[65]. На своей фабрике он открыл бесплатную столовую, организовал школу для рабочих. Для бабушки было утешением, когда она встречала людей, помнивших его добро много лет спустя.
При этом семья изначально была лютеранская и практически неверующая. Однажды бабушка в шкафу нашла Евангелие и стала его читать. Это событие она считала чудом, и Евангелие стало ее сокровищем. Следующим чудом (а чудес у нее произошло много, в одной ее тетрадке есть заголовок «254 чуда моей жизни») было знакомство с дедушкой на балу, на даче в Перловке. Она, 15-летняя красивая и веселая девушка, танцевала с 19-летним студентом, потом они отошли в сторонку, и он сделал ей внушение по поводу ее кокетства. Бабушка стала объяснять, что «балы и кокетство» – только часть ее жизни, как в сказке у царевны-лягушки: днем она такая, а дома – другая, дома – ее сокровище, Евангелие. Тогда дедушка, Александр Нерсесович Нерсесов[66], решил, что эта девушка станет единственной дамой его сердца. Год или два он приходил на бал в гимназию, где мог ее встречать. Потом сумел войти к ним в дом, и десять лет добивался бабушкиной руки. Бабушка вспоминала: «Я плакала на свадьбе, пугая всех кругом, боялась: как я буду с ним жить? Он мне казался таким мрачным!» А дедушка оказался необыкновенно чутким, мягким, глубоким и внимательным человеком.
Дедушка происходил из той молодежи, которая из-за формализма и схоластики в Церкви (что особенно ощущалось в сухом преподавании Закона Божия) искала смысла жизни в толстовстве, немецком идеализме и левых учениях. Он пришел к вере через большие испытания, и они научили его молитве и миру душевному, который передавался окружающим. Наша мама рассказывала такой случай: война, зима, бомбежки. Ей снится, что между нашим домом и Меншиковой башней – пожар, огонь движется в сторону нашего дома. Мама в панике мечется, нужно одевать детей, собирать вещи. Вдруг огонь словно упирается в стеклянную стену и останавливается. Мама поражена, она слышит голос: «Разве ты не знаешь, что если кто-то в доме крепко молится, Бог хранит дом?» И сразу же понимает: «Это отец». Утром оказалось, что во двор Меншиковой башни упала большая бомба и не взорвалась, – как мама считала, по молитвам Александра Нерсесовича. Бабушку привела в Православие Екатерина Сергеевна Сильвачева, ее друг, высоко духовный человек. Чин присоединение к Православию совершил отец Владимир Воробьев[67].
Бабушкиной основой всегда была жизнь духа. Она совершала подвиги, привечала несчастных старушек, помогала им словом, когда могла – делом. Когда арестовали отца Сергия Дурылина[68], были организованы сборы для него, и наша бабушка пробралась через охрану на запасные пути к вагону, передала узелок. Бабушка всегда откликалась на беду, независимо от обстоятельств и встававших на пути преград.
Слева: Александр Нерсесович Нерсесов с внуками Михаилом Базилевским и Андреем Ефимовым
Внизу: Евгения Александровна Нерсесова с внуками
Она рассказывала, что однажды ей приснился отец и сказал так: «Знаешь, здесь каждое доброе дело и доброе слово сияет вечно. Понимаешь? Вечно!» Нас, детей, подобные рассказы погружали в связь с загробным миром. Причем при моем оптимистическом характере в этом не было ничего страшного, трагического. Мама рано стала брать меня на отпевания близких верующих людей в церковь (из-за моей непоседливости со мной никто не соглашался оставаться), и заупокойные молитвы стали для меня привычными и светлыми. А проводы человека, пускай и неверующего, но хорошего, – светлым событием, торжеством подведения итогов большой и яркой жизни.
В начале 20-х годов бабушка попала на Маросейку и еще застала отца Алексия Мечева. Ее сестра, Лидия Александровна, необыкновенно бурный человек, всегда находилась в гуще маросейской жизни, а наша семья – с краешку. Бабушка не могла, перейдя в Православие, полностью отвернуться от своего лютеранского прошлого (ведь лютеранином был ее любимый покойный отец!), как того требовал отец Сергий Мечев. Поэтому когда в 1927–1928 и последующие годы маросейская община ушла в катакомбы, в «непоминающие»[69], наша семья не примкнула к общине и не ушла в подпольную церковь. Тем более папа считал, что по своему характеру он не сможет быть в подполье. А мама говорила, что она трусиха, в случае ареста всех выдаст. И Господь ее хранил от непосильного испытания. Однажды она пришла к знакомой взять духовные книги в обмен на прочитанные. Они сели пить чай. И тут нагрянули с обыском, который продолжался три часа, хозяйку забрали, а маму отпустили, так как духовные книги остались лежать на столе.
Маросейская община была разбита на группы, и эти группы окормлялись священниками из числа прихожан – отцом Романом Ольдекопом, отцом Константином Апушкиным, отцом Сергием Никитиным и другими. Некоторых из них я помню с детства, они бывали на нашей даче.
Андрей Борисович Ефимов: Владыка Стефан, в миру Сергей Алексеевич Никитин[70], был близок нашей семье еще с 20-х годов, по маросейскому храму. В то время уже начали сажать в тюрьму и отправлять в лагеря священников. Когда в ссылку отправили отца Сергия Дурылина, Сергей Алексеевич Никитин вместе с нашей бабушкой, Евгенией Александровной Нерсесовой, на протяжении всех 9 лет ссылки собирали ему посылки. Каждый месяц нужно было отправить отцу Сергию хотя бы одну посылку, иначе ему не выжить. Господь помогал, но и с их стороны это было подвигом, все «через силу», а у бабушки отчасти за счет родных. Я помню, как-то мама пришла к владыке Стефану жаловаться на бабушку и говорила, что из-за нее они всю жизнь прожили, как на проходном дворе (какие-то люди, чьи-то проблемы, непрерывно надо куда-то бежать, кого-то спасть, вести к священнику или в больницу), ну что это такое! Владыка Стефан молча слушал, и вдруг его лицо радостно просияло! Мама все поняла и затихла.
В 30-е годы Сергея Алексеевича Никитина рукоположили и он стал общаться с нашей семьей уже как тайный священник. Помню, он, одетый в светский костюм, приезжал из Струнино навестить бабушку, с которой всегда поддерживал связь, писал ей письма на Рождество, Пасху, по другим праздникам и поводам. В 50-е годы Сергей Алексеевич вышел на открытое служение в Средней Азии, а в 1959 году был пострижен в монашество с именем Стефан в честь преподобного Стефана Махрищского (ближайшего друга и сотаинника преподобного Сергия, самого любимого святого владыки), переведен в Днепропетровск, но прослужил там совсем недолго – летом 1959 года, в разгар хрущевских гонений, варварски закрыли женский монастырь, где служил отец Стефан. Из Днепропетровска он вернулся в Москву под впечатлением от страшного разгрома, в котором принимали участие и священники. 200 монахинь монастыря были окружены войсками, солдаты погрузили их вещи и отвезли кого домой, а кого просто высадили в степи.
И вот в Москве уже началось мое более глубокое общение с отцом Стефаном. Я учился на механико-математическом факультете МГУ и пытался начинать духовную жизнь. Время было непростое, духовного отца у меня, по существу, не было. И Господь даровал мне отца Стефана. Я знал, что это человек святой, и его молитва очень сильная (в этом я доверял бабушке), что за веру и за Церковь он прошел через лагеря.
Первый же наш разговор владыка начал с вопроса: «Андрей, как преподобный Серафим говорил? В чем заключается цель человеческой жизни? В стяжании Святого Духа Божия». До меня далеко не все доходило, но то, что он говорил от своего опыта, было очевидно. Бабушка мне рассказывала, как однажды владыка (тогда еще отец Сергий) служил у себя в Струнино ночью всенощную, а потом литургию в день преподобного Стефана Махрищского. Служил один – сам читает, сам поет. Из Москвы привезли парафиновые свечи, они не стоят, оплывают, падают, чадят, не хотят гореть, не могут. И владыка взмолился: «Преподобный Стефан! Ты же знаешь, сегодня твой день, и никто нигде не служит тебе, как я сейчас служу. Сделай так, чтобы я больше свечами не занимался». И больше свечи не оплывали. Так он жил.
Весной 1960 года на Благовещение отца Стефана рукоположили во епископа. Владыка Гермоген (Голубев)[71], хорошо знавший Сергея Алексеевича по Ташкенту, рекомендовал его Святейшему Патриарху, и тот после продолжительной беседы отвел его к митрополиту Николаю (Ярушевичу), который после разговора с отцом Стефаном объявил: «Или он, или никто» (тогда вдовствовала Можайская кафедра). По Божией воле отца Стефана рукоположили.
Он поселился в храме Ризоположения на Донской улице в комнатке, имевшей выход в коридорчик притвора и в трапезную часть храма. Эту комнатку он называл «каменным мешком», потому что имел уже надорванное сердце, и там ему было трудно, особенно летом. Помогала келейница, тетя Катя – монахиня Августа, неграмотная, но очень светлая, преданная, внутренне очень надежная. В этом закуточке она готовила владыке на плитке, ухаживала за ним, как могла. К владыке пошли люди. И я иногда приходил, мы обсуждали совсем простые, азбучные вещи о первых шагах в духовной жизни, о церковном образовании, о богослужении. Часто я приходил и просто сидел, а он «светился».
Довольно скоро у владыки случился инсульт: отнялась правая половина тела, но чудом сохранилась речь. Он рассказывал о тех видениях, которые ему были даны в болезни: однажды он видел груды разбитых сосудов, и понимал, что эти разбитые сосуды есть его испорченные добрые дела: одно – тщеславием, другое – обидой, третье – еще чем-то. И не осталось у него ни одного доброго дела, но лишь упование на милосердие Божие, могущее его спасти.
Когда владыка болел, на него нападали бесы, и молитва уходила. Он повторял: «Моя задача – молитва. Как Антоний Великий говорил: я сплю, а сердце мое бдит. Нужно стараться достичь такой молитвы». Понемножку владыка поправлялся: помогали лекарства и простейшая гимнастика, которую ему налаживала тетя Катя. Эта древняя маленькая старушка старалась сделать для больного и немощного владыки все, что могла.
Летом владыка жил на даче у Гениевых, наших соседей по 43-му километру, – в покойном месте, на зеленом лесистом участке, на котором можно было прочитать и вечернее богослужение, и всю череду. Там владыка чувствовал себя хорошо, и мы могли общаться. А затем пришла трудная зима, сил становилось все меньше. Временами у него случались такие боли, что он просил ночью тетю Катю выйти, а сам кричал. «Вот я немножко покричу, и легче становится».
В 1962 году владыку Стефана назначили на кафедру в Калугу. Много было и хорошего, и тяжелого. Разгар хрущевских гонений, закрывали храмы. А он в Калужской епархии их открывал: отстоял два храма, в которых не было священников. Он даже говорил, что уполномоченный верит в Бога, настолько удавалось с ним решать вопросы жизни Церкви. Главной же болью владыки были, конечно, люди. Когда рушились храмы, их можно было восстановить, но когда разрушались души близких ему людей, это было непоправимо. Такие беды он переживал очень и очень глубоко.
Скончался владыка во время проповеди в Калужском соборе. Когда он собирался служить в Неделю Жен-мироносиц, тетя Катя ему говорит: «Владыка, ведь умрете». А он ответил: «Если бы твои слова сбылись». И поехал служить. Отслужил, поскорей причастился. Вышел, как всегда, сказать слово. Владыка был очень сильным проповедником, он чувствовал аудиторию, обращался именно к этим людям и настолько глубоко, насколько они могли услышанное воспринять. Он всегда советовал: когда готовишься к проповеди, не думай о том, чтобы звучало красиво, но чтобы дошло до сердца.
И в тот день он говорил: «Жены-мироносицы служили Христу во время Его земной жизни… оставив все свое имение, дома свои и все мирские заботы… А как мы в наших условиях можем быть с Господом?.. Мы должны спешить в храм, как можно чаще бывать в храме и как можно дольше пребывать там, чтобы быть с Господом, служить Ему искренней молитвой, соблюдать Его заповеди, любить друг друга». Это были его последние слова. Он стал оседать, его подхватили – но он уже скончался. В соборе его облачали и там же отпевали, а потом на простом грузовичке близкие ему священники, которые к нему прилепились в Москве и в Калуге, перевезли в Отрадное, где гроб с телом владыки встретил его духовник, отец Сергий Орлов[72].
У каждого человека есть своя иерархия ценностей. У кого-то на первом месте стоит наука, у кого-то семья, у некоторых искусство, творческая или организационная деятельность. У владыки Стефана всегда на первом месте была Церковь и связь с общинной жизнью. Этому он научился на Маросейке: в Церкви нельзя жить наполовину – только целиком. При этом владыка очень хорошо, например, знал русскую литературу. Говорил, что желающему стать священником необходимо в первую очередь знать богослужение, историю русской Церкви и русскую литературу. Русская литература всему научит, в ней очень много глубины. Сам он постоянно перечитывал наших великих и малых русских писателей и поэтов, много знал наизусть. Я помню, как он цитировал Некрасова, любил его «Храм Божий на горе мелькнул», «Влас», хотя всего Некрасова не принимал. Любил многое у Фета, Тютчева, Алексея Константиновича Толстого, хорошо знал и цитировал русских прозаиков в проповедях.
Он говорил о том, что такое целомудрие. Целомудрие – это цельность. Будьте цельны, яко же голуби! Голубь, особенно почтовый голубь, куда бы его ни занесло, знает, куда лететь, знает свой путь. Он целен на своем пути. Цельность, связанная с целью, целеустремленностью, с выбором – внутренним, крепким, настоящим, единственным, окончательным, – в нем была проявлена очень ярко.
Священник, бухгалтер и философ
Я знал и отца Романа Ольдекопа[73], ездил к нему в Коломну. Отец Роман, философ по образованию, пришел в общину отца Алексия и отца Сергия Мечевых молодым, был очень образованным, умным, интеллигентным человеком. Еще до войны он стал тайным священником. Анна Алексеевна, его супруга, была полностью с ним единодушна. Она училась с ним в Московском университете, была маросейской прихожанкой.
После относительно непродолжительного пребывания в лагере он имел «минус сто» и поселился в Завидово, по Ленинградской железной дороге, где жил отец Павел (Троицкий)[74]и сравнительно недалеко оттуда – отец Сергий Мечев. Все они служили дома, иногда им удавалось приехать в Москву навестить кого-то из близких духовных чад. Перед войной на них всех поступил донос от высокого духовного лица. Отца Павла (Троицкого) взяли, а Роман Владимирович с супругой уехали на юг и там затерялись, что помогло им избежать ареста. На юге он работал бухгалтером, а Анна Алексеевна преподавала в школе, давала уроки дома. Так они прожили довольно долго, а когда все затихло, в конце 50-х переселились в Коломну.
Отец Роман был тайным священником, по-прежнему работал бухгалтером, при этом регулярно служил в своей маленькой двухкомнатной квартирке. Две тумбочки под цветами служили жертвенником и престолом. Хорошо занавешивались окна, так, чтобы не было слышно на улице, и совершалось вечернее богослужение и литургия. Приезжала сестра матушки, Александра Алексеевна, приезжали люди из Москвы. Их было очень мало, но им можно было доверять. Это были люди надежные, воцерковленные, такие, кто не проболтается, не выдаст. Основное условие – чтобы не было слышно на лестничной площадке и под окном на улице. Как правило, в кухне включалось радио; конечно, в полный голос петь нельзя, но и читать, и петь тихо было возможно.
Я приезжал на эти службы первой электричкой, потому что путь был неблизкий. До домика, расположенного, конечно, не в центре города, надо было добираться на трамвае. Трамваи ходили редко, а пешком было довольно далеко. Важно, что уже ждали, Анна Алексеевна не назначала на этот день уроки, и если даже кто-то из соседей звонил в дверь, то не открывали, будто бы хозяева еще спят или пошли гулять.
Когда отец Роман приходил после работы, то обычно отдыхал, а после писал статьи по истории древней Церкви, по богословским вопросам. С ним было очень интересно, он открывал страницы жизни, которую мы, конечно, совсем не знали. Он рассказывал об Академии духовной культуры, которая действовала в Москве уже после революции, о ее преподавателях – Шпете[75] и Ильине[76]. Рассказывал, как они провожали своих учителей, уезжавших из России за границу в 1922 году на так называемом «философском пароходе», как писали им письма. Эта плеяда наших богословов и религиозных философов, эти на весь мир известные люди были для него знакомыми, родными, близкими.
Я учился в МГУ, когда попал к отцу Роману. И он прекрасно понимал, так же, как и владыка Стефан, что современным, глубоко верующим людям необходима культура. Великая, русская, и не только русская, но и мировая культура, да и не только христианская, нужно смотреть более широко. Культура нужна для того, чтобы в себе прежде всего раскрыть образ Божий, потому что образ Божий, как часто говорил отец Всеволод Шпиллер, это свобода, любовь и творческая активность. Творческое служение Богу, людям, миру требует образования и культуры. Тогда это служение действенно, если оно напоено, проникнуто христианским православным духом.
Радость жизни с Богом
Рассказывал отец Роман, конечно, и об отце Сергии и об отце Алексие Мечевых, о других святых людях. Он рассказывал, как отец Сергий Мечев возил своих прихожан в Угрешу пообщаться с живым святым – Макарием (Невским)[77]. Он так их и наставлял: «Мы едем к живому святому». Школа отца Сергия чувствовалась в отце Романе через пламенное, огненное горение к Богу и ученое, образованное христианство. Отца Сергия всегда окружали прихожане с университетским образованием, они прошли ссылки, лагеря, но остались верны маросейской общине. Один за всех, все за одного – узы верности, крепкие до смерти.
Все эти люди – и священномученик Сергий Мечев, и владыка Стефан (Никитин), и отец Роман Ольдекоп – имели один духовный корень, Маросейку, и этой маросейской общностью жили всегда и везде. Они владели «всеоружием» богословия, философии и великой культуры, от которой мы не вправе отказываться. Ведь именно она сегодня помогает нашему народу сделать шаг в Церковь.
К нам, Ефимовым, все это прямо относится. Наша семья – родители, бабушка, родные – подарила нам веру вместе с культурой, что дало нам глубокий и широкий взгляд на мир, на историю и происходящие события, на осмысление порядка жизни, иерархии ее целей и ценностей. «Добро не лихо, ходит по миру тихо», – гласит народная мудрость. Вера тихо притягивает людей, вызывает отклик в душе, высвобождает на свет дремавшее в ней добро. И хотя, казалось бы, это жизнь не облегчает, а напротив, добавляет ответственности и забот о других, но со Христом и самое нелегкое бремя «дает покой душам нашим». Такой урок мы получили от наших родителей и близких, батюшек и простых людей крепкой веры и самоотверженной любви к людям. Дар живого общения с ними, давно и недавно ушедшими, связь в молитве помогает нам по сей день в трудные минуты.
Каждый из нас по-своему усвоил заветы старших, идущие еще от прадеда, говорившего: «Я ни разу не уснул, не обратившись к Богу», – и принесшего весть о том, что «здесь (на небе) каждое доброе дело и доброе слово сияет вечно». Каждый из нас прошел свой путь, свои пути избрали наши дети и внуки. Так многое изменилось вокруг нас в мире. Но в центре жизни остается по-прежнему наше сокровище – вера и радость жизни с Богом.
Ключ к любви
О русских старцах XX столетия
На фото: архимандрит Серафим (Тяпочкин), архимандрит Авель (Македонов), архимандрит Ипполит (Халин), архимандрит Таврион (Батозский), схиигумен Савва (Остапенко), архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
Старец мне сказал: «Я даю тебе заповедь, которая тебе покажется легкой. На самом деле это делание всей жизни». И он дал мне ключ к стяжанию любви, а я передаю его вам: не судите людей.
Рассказчик:
Протоиерей Владимир Волгин (род. 1949) – настоятель храмов Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках и воссоздающегося храма Преображения Господня на Преображенской площади в Москве. Учился на режиссерских курсах Всесоюзного телевидения. Работал экскурсоводом в Останкинском музее творчества крепостных. В 1969 году принял крещение, служил алтарником в московских храмах, заочно окончил Московскую духовную семинарию и академию. В 1979 году рукоположен в священника, после чего 16 лет прослужил в селах Курской епархии. В 1995 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II (Ридигера) переведен в Москву.
Старцами называют в Церкви подвижников, наделенных от Бога особыми дарованиями милующего сердца и духовного зрения души человеческой. Они исполняют заповедь Христа о жертвенной любви к тем, кто нуждается в помощи, принимая и наставляя каждого приходящего со своей болью или вопросом. В советские времена вокруг таких старцев образовывались очаги духовной жизни. Из разных уголков Советского союза съезжались к ним верующие и ищущие веры люди, и одним из таких ищущих людей был протоиерей Владимир Волгин, в жизни которого по сей день исполняются сказанные старцами слова.
Нужен человек!
Я родился в советское время, в 1949 году, в атеистической семье. Религиозный процесс у меня начался в раннем возрасте: в 6 лет я интересовался проблемами смерти, много размышлял о них, это я точно помню. Меня, как магнитом, притягивали к себе покойники. Мы жили недалеко от Садового кольца, в густонаселенном квартале Москвы. На кладбище, расположенном неподалеку, часто хоронили людей, и я сразу же, как только слышал о похоронах, бежал туда, чтобы попытаться заглянуть в тайну смерти, понять, что же за пределами этой жизни существует. Никогда не мог я смириться с тем, что человек уходит в небытие. Вот первое религиозное движение в моей жизни.
Я всегда искал любви – любви не к противоположному полу, а к человеку, невзирая на пол; стремился найти в людях ту же любовь. К сожалению, моя жизнь была полна разочарований в этом отношении, потому что мы жили в атеистическом обществе, где без Бога хотели построить Царствие Божие на земле.
Протоиерей Владимир Волгин
Концентрацию всех своих идеалов я увидел в Евангелии, прочитав его, а когда в 20 лет принял крещение, то все стало на свои места, «разложилось по полочкам». И интуитивно я понимал: теперь мне нужен человек, который обладает большим духовным опытом и поделится этим опытом со мной (я был слепым котенком, выброшенным на улицу, ничего не знал о Церкви, о канонах христианской жизни). Советское время было особым: православные христиане, тем более молодые, преследовались, священники молодых людей, как правило, сторонились, потому что были на регистрации у уполномоченных. За активную деятельность их могли снять с регистрации и вручить «волчий билет»: священник терял приход, был вынужден искать работу не по призванию. Поэтому те вопросы, которые, естественно, возникали в моем юном сердце, не находили у священников ответа.
В 1970 году мой крестный, Глеб Сергеевич Лапшин – очень образованный человек, он окончил филологический факультет МГУ и работал ассистентом у известного Д.Н. Ушакова[78], – предложил мне, моему брату и его жене совершить полусветское путешествие в Ленинград, Пушкинские горы и Псково-Печерский монастырь[79]. И вот в то путешествие мы впервые познакомились с двумя старцами: тогда еще игуменом Саввой (Остапенко) и будущим нашим духовным отцом, тогда иеромонахом Иоанном (Крестьянкиным). С отцом Иоанном мы познакомились мельком, поначалу я даже его и не запомнил.
Схиигумен Савва (Остапенко): «Не осуждай людей»
Та поездка поразила меня в самое сердце, и я решил хоть изредка, но посещать Псково-Печерский монастырь. Через какое-то время я вернулся в Печоры, снова с братом и его женой (кстати, брат, как и я, потом стал священником[80]). Мы приехали поговорить об их венчании, и игумен Савва[81] сказал, что откладывать не нужно. Брат и его жена были удивлены, говорили, что не готовы, что у них нет свадебных костюмов. На что отец Савва им ответил: «Разве вам нужны внешние украшения, а не благодать Святого Духа? Ведь благодать Святого Духа превосходит все внешнее, весь мир!» Они согласились и были повенчаны по благословению старца. Тогда игумен Савва произвел на меня огромное впечатление: меня поразили его светлый взгляд, ясное лицо, особый голос.
Отец Савва, зная, что я занимался литературными трудами, предложил отредактировать его книгу (скорее всего, не для того, чтобы я проявил профессиональные способности) – машинописный текст, вложив в него молитву о духовном отце. Я слышал о нем как о человеке праведной жизни, но не знал, что такое прозорливость, и, будучи несколько тщеславным, подумал: «Как хорошо! Батюшка сам предлагает мне стать моим духовным отцом, а я нуждаюсь в разрешении многих волнующих меня вопросов. С другой стороны, такой великий человек – я не знал его величины, но понимал, что он великий (в нем существовало нечто невидимое, но ясно ощутимое; наверное, это и называется проявлением благодати Святого Духа), – будет моим духовным отцом!» И как-то после монастырской трапезы я брал у него благословение и спросил: «Батюшка, вы хотите, чтобы я был вашим духовным сыном?» Он ответил: «А ты хочешь?» Я говорю: «Да, хочу». Не подумавши, я захотел руководства этого праведного человека, тогда вовсе не понимая, что это такое. Но я осознавал, что как в любой области человеческого познания, так и в области духовной жизни мы нуждаемся в преподавателе. Благодарение Богу! Отец Савва согласился стать моим духовным отцом, но в таких отношениях я состоял с ним недолго, потому что, повторяю, это было мое поверхностное, эмоциональное желание.
Помню, как он благословил написать первую исповедь – он любил, чтобы люди исповедовались не устно, а писали исповедь. И я написал исповедь за всю мою жизнь, тогда немноголетнюю (но все же я уже успел совершить много ошибок, отступив от Христа и потеряв первоначальную благодать, дарованную мне Богом во время крещения), и, несколько стыдясь, передал ему. После прочтения он сказал знаменательные слова. Эти слова меня удивили, но они осуществляются в моей жизни: на много десятилетий вперед он видел, что будет со мной. Его прозорливость поражала!
Еще после первой исповеди он сказал: «Я даю тебе, Володя, заповедь, которая тебе покажется очень легкой. На самом деле это делание всей жизни». И он дал мне ключ к стяжанию любви, а я передаю его вам: не судите людей. «Не суди людей, – сказал он. – Не осуждай». Через пень-колоду я старался исполнять эту заповедь и с уверенностью говорю: она мне помогла. Даже ленивое ее исполнение помогло мне стяжать ту меру несовершенной любви, которой я обладаю. Если бы я с ревностью отнесся к его совету, то достиг бы большего. Неосуждение, постоянное стремление к молитве и к зрению своих грехов и страстей, желание изменить себя, не оправдывая ни в чем, – в этом путь возрастания человеческой души в Боге, а значит – в любви.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин): «Нет неважных вопросов»
К тому времени я уже встречался и с отцом Иоанном[82]. Надо сказать, чем отличался отец
Иоанн от отца Саввы. Когда я приходил к отцу Иоанну после встречи с отцом Саввой, то слышал от него то же, но он «разжевывал», объяснял, и его обстоятельные объяснения укладывались в моей душе. А отец Савва не имел такого обыкновения, добавит два-три слова, и все, мне порой этого бывало недостаточно. Так моя душа прилепилась к отцу Иоанну. Долгое время я не решался попросить его о руководстве моей жизнью. Духовные отношения между архимандритом Иоанном (Крестьянкиным) и мной начали складываться, когда он благословил меня на брак.
Нам с моей матушкой все время хотелось жить в воле Божией. Мы не знали, что такое послушание, но душа подсознательно к нему стремилась. И те незначительные вопросы, которые мы по-детски задавали старцу, будучи духовными младенцами, помогали очерчивать для нас всю рельефность узкого пути. Благодаря ответам батюшки мы не разбивали свои головы о препятствия, возникавшие на этом пути, вовремя пригибали головы и спины, чтобы не ушибиться. Люди могли бы недоумевать: зачем они с такими незначительными вопросами едут к старцу?
Но отец Иоанн учил, что «незначительных» вопросов нет. Он говорил, что тому, кто все прошел, они могут показаться незначительными, но для начинающего духовную жизнь имеют огромное значение для души и спасения. Поэтому вначале мы эксплуатировали старца огромным числом вопросов. Шли годы, вопросы постепенно исчезали, и в конечном итоге я «отцеживал комара» перед тем, как поехать к старцу, думая, о чем спросить. Ведь на все вопросы он уже ответил!
Удивительна батюшкина прозорливость: многое из того, что он говорил, совершилось и совершается по сей день. В какой-то момент мы с матушкой просто почувствовали, как прозорливость стала обычным явлением в нашей жизни при соприкосновении с людьми святой жизни. Эти люди не могли говорить иначе – благодать выплескивалась через них на нас. Конечно, от этой прозорливости у меня сначала мурашки бежали. В некоторых случаях слух мой слушал и не слышал, и только потом, вспоминая слова отца Иоанна, я понимал и удивлялся – сказанное действительно осуществлялось. А сразу я не обращал внимания на слова, потому что говорил старец их «в шутку», улыбаясь. У него всегда было желание не нарушать свободу личности.
За восемь лет до моего священства отец Иоанн сказал, что если я женюсь, то буду приходским батюшкой. Несколько раз я поступал в Московские духовные школы, несколько раз меня не пропускали. Наконец один из инспекторов мне объяснил: «Вас не пропускает ЧК». Власти относились ко мне отрицательно – я общался с диссидентами, иностранцами, был верующим, вокруг меня собиралась молодежь. А такие люди в советские годы стояли на заметке у КГБ, им ставились препоны и к обучению, и к рукоположению. И вот, когда мы с матушкой обвенчались, через полтора месяца архиепископ Курский и Белгородский Хризостом[83] вопреки властям рукоположил меня в священники, предупредив: «Готовьтесь быть священником без прихода, потому что вам никто не даст регистрацию»[84]. Он был дерзновенным владыкой. На свой страх и риск он убедил уполномоченного по делам религии принять меня в епархию и дать регистрацию. Уполномоченный согласился, но через полгода после этого был снят, хотя проработал на одном месте 25 лет. Так неумолимо исполнялось пророчество, независимо от внешних обстоятельств: я был рукоположен и шестнадцать лет служил на сельских приходах.
Перед рукоположением в священники я попросил отца Иоанна дать мне напутствие, сказать, каким должен быть священник. И он ответил: «Будьте предельно строги к себе и великодушны ко всем обращающимся к вам». Как-то в советское время мы приехали в монастырь, и батюшка говорил проповедь. Он говорил, что раньше по уставу святителя Василия Великого за блуд Церковь отлучала от причастия на 10 лет, за прелюбодеяние – на 15 лет. А сейчас мы, священники, как только к нам подойдут и исповедуются в этих грехах, сразу допускаем к причастию, понимая, что живем в неоязыческое время. Да, мы дадим ответ за то, что берем на себя эту ответственность. Но людей к причастию подпускать надо! Он был сторонником частого причащения, рекомендовал людям, ведущим христианский образ жизни, причащаться примерно раз в две недели плюс великие праздники.
В 1991 году я в очередной раз приехал к отцу Иоанну. Только что вышли законы о свободе совести и вероисповедания[85], можно было возвращаться в Москву (до того мы, москвичи, служили в деревнях Курской, Белгородской, Тверской и других областей). Я говорю: «Батюшка, меня приглашают стать настоятелем одного из приходов Москвы, который еще закрыт». А он отвечает: «Ну, для того, чтобы переехать в Москву, нужно договориться с Патриархом, он – епископ Москвы, с теми людьми, которые вас приглашают, убедиться в их согласии, а потом уже переезжать». Я спрашиваю: «А как с духовной точки зрения?» – «А с духовной точки зрения, – сказал отец Иоанн, – чтобы ни одного прошения перед глазами владыки от вас не лежало». Так старец ясно дал мне понять, что во всем нужно искать воли Божией, а не своей. И я послушался, потому что искал волю Божию и имел намерение, каковой бы она ни была, обязательно ее исполнить!
Однажды, когда я очень плохо себя чувствовал (а было мне 40 лет), и бабушки-старушки на сельском приходе переживали: «Батюшка наш к Рождеству помрет», – отец Иоанн сказал мне: «Вы проживете дольше, чем я». А отец Иоанн прожил почти 96 лет. И я верю ему непреложно, потому что он являл прозорливость постоянно, по своему смирению скрывая ее, но она выплескивалась наружу, не могла удержаться в нем.
Архимандрит Авель (Македонов): Нужный для пчел
С отцом Авелем[86], который в последние годы служил настоятелем Иоанно-Богословского монастыря под Рязанью, я познакомился в 1976 году, когда поступал в Ленинградскую духовную академию. Отец Авель был тогда настоятелем Свято-Пантелеимоновского монастыря на Афоне. Он был туда послан в числе монахов, отправленных на Святую Гору трудами очень влиятельного иерарха митрополита Никодима (Ротова)[87]. Незадолго до нашей встречи с отцом Авелем у меня произошел такой бессознательный, не оформленный интеллектуально, отход от Бога. Я переживал это искушение серьезно и глубоко, ощущал себя в духовном смысле живым трупом.
Архимандрит Авель, приехавший с Афона, поразил меня своим взглядом: что-то неотмирное было в нем. Я преисполнился к нему глубоким доверием и желал с ним поговорить о своем отступлении. Я подошел к нему и рассказал о случившемся. А он мне ответил: «Владимир, ну что ты так переживаешь? Вот у меня было отступление от Бога – так это настоящее отступление». И рассказал мне: когда он стал священником, то огненно служил Божественную литургию. А второй священник служил небрежно, невнимательно. И отец Авель этим постоянно искушался, внутренне осуждал его. И как-то в разговоре с этим священником, вразумляя его, он высказал это вслух. «И вы знаете, Владимир, – сказал он мне, – когда я приступил к служению литургии, то ощутил сухость в своем сердце, и так продолжалось очень долго. Я почувствовал окаменение. У меня был даже помысел оставить священство, потому что так Божественную литургию невозможно было совершать, как я совершал ее. Господь преодолел во мне это искушение, но с тех пор я больше не испытываю того огня в служении, который испытывал в первое время». Так он меня утешил. И сказал: «Владимир, молись обо мне, а я буду слышать твои молитвы и буду молиться о тебе». Я ему очень поверил, и когда молился за него, то верил в то, что эту молитву он слышит и ответно молится обо мне.
Вторая моя встреча произошла с архимандритом Авелем уже в Иоанно-Богословском монастыре[88]. Я приезжал с несколькими знакомыми, и всех он утешил, касаясь тончайших струн души каждого, ответил на самые сокровенные вопросы. У него был удивительный дар утешения людей.
Служение в этом монастыре предсказывал ему еще в юности его духовный отец, архиепископ Димитрий (Градусов)[89], о чем отец Авель неоднократно вспоминал: «Как-то я приезжаю к владыке по делам, он меня встречает, благословляет, обнимает, прижимает к сердцу и говорит: „Вот, ангел мой, я скоро уйду, а ты…“ – и сделал такую многозначительную паузу. Я с замиранием сердца жду, сейчас он скажет: „А ты потом, после меня, через 40 дней придешь ко мне“. А он вдруг и говорит: „А ты (это был 1953 год!) доживешь до тех времен, когда и церкви открывать будут, и новые строить будут, и монастыри откроют, и новые построят, и у тебя монастырь будет, купола золотить будут".
Я не мог ему не поверить, говорю: „Владыка, а в службе произойдет какое-нибудь изменение?" Он говорит: „Нет, только лишь одно изменение будет: сейчас мы служим в облачениях матерчатых, а тогда будем служить в настоящих, парчовых". Потому что, когда церкви закрывали, вывозили ризницы, а когда церкви стали открывать, там облачений-то нет. И вот люди жертвовали – кто какую-то штору принесет (тогда война шла, ничего не было), какая-нибудь барыня свое венчальное платье отдаст… все было из тряпок матерчатых. А сейчас-то действительно облачения парчовые.
„Только благодати будет очень мало, – продолжал владыка Димитрий. – Вот рядом церковь, а душа не лежит – нектара нет. Люди будут ходить в другую церковь, хоть и дальше. А ты не умрешь. ты еще будешь нужен для пчел, которые понимают толк в нектаре и в пыльце". Вот я и дожил, а теперь удивляюсь».
Архимандрит Ипполит (Халин): «Сколько любви, столько и крыльев»
Архимандрит Ипполит[90] был казначеем при архимандрите Авеле на Афоне. Человек удивительного смирения и тишины. Я с ним познакомился в Псково-Печерском монастыре, когда он только что вернулся с Афона. Потом он был настоятелем в Свято-Никольском Рыльском монастыре[91] Курской епархии. Как-то я встретил его в епархии, он ожидал встречи с архиепископом Ювеналием, ныне митрополитом[92]. Я подошел и стал говорить о том, что вот, у меня гордость, и так далее. И думал, что батюшка меня утешит, скажет: «Да нет, у вас никакой гордости нет!» А он неожиданно сказал: «Да, есть немножко». И мне вдруг оказалось не очень приятно это услышать, но он обратил мой взор в мою душу. Вот так незаметным образом, без прямого обличения: «Да, есть немножко». И эти его слова подействовали, как прожектор.
Отец Ипполит всегда умел обосновываться на новом месте, разводил коров, и в монастыре было молоко, творог, сметана. Излишки молока продавали местным жителям, которые с удовольствием скупали эту продукцию. Так он поднимал разрушенный в советское время монастырь, создавая экономическую основу жизни.
Несколько раз мы посещали отца Ипполита. О его прозорливости уже было известно, и отовсюду ехали автобусами паломники, чтобы увидеть человека святой жизни. Я, помню, вернулся с Афона, и там меня поразило, как в Свято-Пантелеимоновом монастыре быстро обедают монахи. Только я сел за трапезу – это была торжественная трапеза на Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, и не успел съесть первое блюдо, как уже зазвонил колокольчик, и призвали к благодарственной молитве. При этом пища на Афоне, может быть, в связи с моими желудочными болезнями, мне показалась острой и не очень вкусной. Сам Афон произвел на меня спокойное впечатление. Я чувствовал, что это благодатное место, но для меня самое великое в Церкви – причащение Святых Христовых Таин, а святыни для меня, при моем к ним почтении, стоят на втором месте. Поэтому не могу сказать, что я вернулся с Афона «под неизгладимым впечатлением». И вот мы приезжаем в Рыльский монастырь к отцу Ипполиту. И я спрашиваю (ведь отец Ипполит около 17 лет прожил на Афоне!): «Отец Ипполит, вы не скучаете по Афону?» И слышу в ответ: «Нет, отец Владимир, там невкусно кормят…»
Отец Ипполит славился невероятным смирением и терпением. Он принимал в монастырь бомжей, людей с преступной прошлой или настоящей жизнью. Между ними нередко случались потасовки. Но батюшка любовью покрывал их недуги, привнесенные извне, не от Бога, и своей волей никого из обители не выгонял. Были те, кто осуждал его, говорил: «Он превратил Рыльский монастырь в сборище пьяниц и наркоманов». Но отец Ипполит имел Божественную любовь в своем сердце.
Однажды отец Ипполит спросил у одного паломника:
– Сколько крыльев у ангела?
Тот отвечает:
– Два крыла.
– А у серафима?
– Шесть.
– А у человека сколько?
– Батюшка, не знаю.
– А у человека – сколько угодно. Сколько любви – столько и крыльев.
Архимандрит Серафим (Тяпочкин): Не от мира сего
С архимандритом Серафимом (Тяпочкиным)[93] я познакомился в 1980 году. Благословил меня на это знакомство архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Также он благословил мне исповедоваться у отца Серафима, который был духовником епархии. Конечно, на меня он произвел огромное впечатление. От него веяло удивительной, доброй тишиной. Он был достаточно молчалив, на свои именины или день рождения всегда молча возглавлял трапезу. «Не от мира сего» – так можно охарактеризовать его. Никогда я не видел в нем ни раздражения, ни гнева.
Уже к тому времени я слышал о «Зоином стоянии», чуде, которое произошло в Куйбышеве (нынешней Самаре), это было в 1950-е годы. Кинорежиссер Андрей Прошкин снял по этому сюжету фильм, который так и называется «Чудо». В нем рассказана реальная история о девушке Зое, которая стала танцевать с иконой святителя Николая Чудотворца и окаменела. И никто не мог взять икону из ее рук. Так вот, чудо взятия иконы из Зоиных рук было связано с отцом Серафимом. Я, помню, задал ему вопрос: «Отец Серафим, а с вами связана история с Зоей?» Он легонько махнул рукой: «Не будем об этом». То есть если бы не с ним, то он так и сказал бы. Но здесь он, с одной стороны, не стал уточнять, а с другой – не отказался от своего участия в чуде. Некоторые близко знавшие его люди считали, что эта икона святителя Николая находилась в алтаре храма в Ракитном, где служил отец Серафим.
У меня был знакомый – профессор Казанец, доктор психиатрии, специалист по шизофрении. Он однажды спросил меня: «Отец Владимир, насколько шизофрения связана с темными силами?» Это был вопрос не моего уровня, но я знал, что отец Серафим изгоняет бесов и отчитывает людей, имеющих «духов злобы поднебесной». И я говорю: «Давайте съездим с вами в Ракитное, и вы зададите этот вопрос отцу Серафиму. Он грамотно вам ответит». Мы приехали. Отвечая на его вопрос, отец Серафим тихо сказал: «Мне достаточно дотронуться рукой до руки другого человека, и мне тут же откроется, бесноватый он или нет. Сейчас больше психически больных людей, чем бесноватых».
Отец Серафим прошел тюрьмы и лагеря. Он редко об этом говорил, но очень ценил приобретенный там опыт. Многие старцы научились в ссылках и лагерях молиться, видеть скорбь людей. Когда священномученика Серафима (Чичагова)[94] в очередной раз выпустили из тюрьмы, и некоторые из его близких стали критически отзываться о советской власти, он сказал: «Детки мои, что вы так не любите советскую власть? Она нас, не желающих спасаться, вталкивает во врата Царствия Божия». Видите, какой взгляд! Такой же взгляд был, безусловно, присущ и отцу Серафиму.
Как-то из тщеславия я рассказал ему об одном деле, к которому нас с супругой готовил отец Иоанн (Крестьянкин). Отец Серафим ответил: «Это произойдет, но не сейчас, а намного-намного позже». И вы знаете, как будто бы припечатал. Сколько раз я ни пытался вернуться к этому вопросу и в разговорах с отцом Иоанном, так ничего и не получалось. И до сих пор дело отложено до назначенного Богом срока.
Помню еще один эпизод. Отец Серафим поручил мне опустить в почтовый ящик письмо. Ему было неудобно у себя это письмо отослать, а я мог через москвичей, которые приезжали, передать его. Но почему-то замешкался. Спустя два или три месяца я приехал к отцу Серафиму и говорю: «Батюшка, простите, пожалуйста, я до сих не передал ваше письмо». Я увидел, как, оставаясь в полном внутреннем покое, он тихо произнес: «Ну как же вы так поступили?! Я уж какое время жду важного ответа на это письмо». Он сказал это без всякого раздражения, без всякого гнева, но мне его слова запомнились на всю оставшуюся жизнь. Они меня обожгли огнем, и, конечно, в будущем я так не поступал.
Архимандрит Таврион (Батозский): Огненный человек
Несколько раз я приезжал в Преображенскую пустынь под Ригой[95], где духовником женской обители был отец Таврион[96], в свое время и он посидел в тюрьмах и лагерях.
Конечно, каждый старец обладает какими-то своими качествами. Отец Таврион был невероятно выносливый и трудолюбивый человек. Он собственными руками воздвигал кельи, дома, не гнушался никакой работы. С ним связан такой эпизод: глинские старцы[97] избрали его наместником. И он ввел строгий афонский устав, по которому монахи спали буквально несколько часов в день. Монахи не выдержали, и совет старцев снял с отца Тавриона обязанности наместника, потому что они видели, как его строгость к аскетической жизни непосильна другим.
Отец Таврион был ежедневным совершителем Божественной литургии и по нескольку раз за службу выходил к народу с проповедью. Обычно он закрывал глаза и начинал словами: «Чада мои! Какую любовь нам Господь явил!» Затем говорил краткую проповедь, преисполненную любви. Обычно здесь раскрывался его дар прозорливости, потому что каждый, кто стоял в храме, слышал ответ на свой вопрос.
Вспоминаю один замечательный случай – этот совершенно неоценимый опыт мне пригодился тогда и пригождается в моей священнической жизни. Обычно отец Таврион рано совершал Божественную литургию, часов в шесть он начинал службу и примерно в половине восьмого заканчивал. А я опоздал. Я проспал. Прихожу – уже «Отче наш» поется. Вдруг я почувствовал такую жажду причаститься, что мне показалось, что если я сейчас не причащусь (это было очень острое и ясное ощущение, может быть, надуманное), то умру. Когда отец Таврион вышел с Чашей, он передал ее диакону, подозвал меня, наложил на меня епитрахиль, прочел разрешительную молитву и причастил Святых Христовых Таин, невзирая на то, что я пришел к «Отче наш» и не простоял на богослужении. Вот это и есть любовь, которую он мне передал. Я тоже достаточно нестрого отношусь к людям, которые опаздывают в церковь. Я руководствуюсь такой мыслью, что вдруг, если я по строгости, по канону не допущу человека к причастию – «он опоздал, он пришел в конце службы», – то вдруг он выйдет из церкви и умрет? И на мне будет вина за то, что я не причастил человека и не напутствовал его в последний путь. Так опыт, вроде бы единственный раз яркой вспышкой прозвучавший в моей душе, стал руководством на всю жизнь.
Знаю, что отец Таврион тяжело болел, у него был рак. Он отказался от операции, мужественно переносил боли с благодарностью к Богу и таким образом подготовил себя к отшествию из сего мира.
Таким мне запомнился отец Таврион. Он был жертвенным человеком. Всегда, когда мы уезжали, он выносил деньги нам «на дорожку». Эти деньги поддерживали нас еще и по возвращении домой. Отец Таврион был человеком божественной любви, которая распространяется на весь мир, как по слову Христа: «Солнце светит и над добрыми, и над злыми». Это был огненный человек, растворяющийся в любви.
Любовь, мир и великодушие
В свое время отец Иоанн (Крестьянкин) говорил, что «нам были знакомы такие великие столпы Церкви, а мы сами уже не те. А вы знаете нас, и после нас останетесь вы, а вы будете далеко не те».
Я встречался в жизни с несколькими старцами, за каждого из них молюсь, все они уже отошли к Богу. И я с уверенностью скажу, что в моем сердце появился некий индикатор, который может отличить дух старческий от нестарческого. Старцы – это любовь, мир, великодушие, снисхождение к немощи человека и желание вывести его из этой немощи, видение и зрение души изнутри, личностная подсказка, касающаяся именно этого человека, видение его будущего. Это люди, которые находятся в постоянной благодати Божией – они могли бы воскликнуть вместе с преподобным Симеоном Новым Богословом, стяжателем Духа Святого: «Оставьте меня, дайте мне уйти в свою келью, замкнуться в ней, чтобы снова и снова беседовать лично с Богом». Старцы по-матерински пестуют душу преданного им христианина, как мать, выращивая дитя с младенческого возраста. Это люди, любящие Бога и по любви к Нему исполняющие заповедь жертвенной любви к тем, кто нуждается в их помощи.
Я счастлив, что мне пришлось увидеться с этими живыми святыми старцами.
Своей молитвой он держит мир
О святом старце Паисии Святогорце
На фото: преподобный Паисий Святогорец
Он никого не осуждал, даже диавола, и говорил о нем с большим сочувствием. Он никогда не называл его диаволом (чтобы не обижать!), но бедненьким «тангалашкой».
Рассказчик:
Митрополит Лимассольский Афанасий (род. 1959) – выдающийся проповедник, духовник, миссионер наших дней. После окончания богословского факультета университета в Фессалониках ушел на Афон, где в 1982 году принял монашество и священство. Спустя десять лет вернулся на родину, на Кипр. Там возглавлял древний монастырь Махерас, а с 1999 года избран митрополитом Лимассольским.
Старец Паисий Святогорец, малограмотный греческий монах, собрал вокруг себя образованнейших и сильнейших мира сего. В нищую каливу на Афоне, где он жил, людей со всех концов земли влекла его безграничная любовь к Богу, сводившая к нулю его любовь к самому себе. Когда люди встречали его, им было довольно одного слова, а иногда они просто видели старца, и это меняло всю их жизнь. Общаясь с отцом Паисием, они убеждались: то, что говорит Христос в Евангелии, – абсолютная правда.
МитрополитЛимассольский Афанасий рассказывает о святом наших дней, возле которого он провел около двадцати лет.
Старчик в зеленом одеяле
Сразу после окончания школы в 1976 году я стал студентом богословского факультета Фессалоникийского университета. От своих однокурсников я услышал о Святой Горе, и мне очень захотелось там побывать. И вот в сентябре 1976 года я впервые отправился на Афон[98].
Этот мой визит оказался трагичным. Мне там совсем не понравилось, и наутро следующего же дня я уехал. И сказал себе: «Все, и речи быть не может о том, чтобы я сюда вернулся еще раз!» – столь неприятным, мрачным, угнетающим показалось мне само место. Разумеется, это было искушение; не подумайте, пожалуйста, что там и на самом деле так! Виноват был я, а вовсе не место, однако вот такая картина нарисовалась в моем воображении. Не забывайте, что я происходил из среды, где не имели особого представления о монашеской жизни и об Афоне.
Вернувшись, я продолжал все время слышать от однокурсников, как же славно на Святой Горе, и было стыдно признаться, что мне там совсем не понравилось. Через пару недель я решился снова поехать на Афон. Тогда я уже слышал о старце Паисии[99], о батюшке Ефреме Катунакском[100], о некоторых других старцах, которые поистине сияли в тот период, подобно светильникам, на святогорском небосводе.
К старцу я отправился с одним иеродиаконом, ныне почившим. Отец Паисий жил тогда на Капсале[101], в келье Воздвижения Креста Господня[102].
Я с волнением ожидал встречи, потому что по дороге диакон рассказывал разные истории о чудесах и пророчествах старца. И я боялся, что старец разоблачит все сокровенные тайны моего сердца и пинками прогонит меня из своей кельи.
Мы позвонили в звонок и стали ждать. На двери кельи висела табличка, которая произвела на меня большое впечатление: «Лучше не занимайте меня пустыми беседами, я больше помогу вам молитвой».
В какое-то мгновение послышался голос. И я вижу старчика, завернутого в зеленое полосатое одеяло. Он потихоньку, пошатываясь, поднимался по дорожке, чтобы открыть нам калитку. Диакон мне говорит: «Это старец Паисий!» – «Это старец Паисий?» У меня моментально пропало всякое настроение. Я-то ожидал увидеть такого… Не знаю, что я там себе напридумывал, неважно. А увидел старчика, не старчика даже – он, точнее говоря, был моего теперешнего возраста, но так мне тогда показалось, что старчика. Слабенький, болезненный. Он отворил нам, мы вошли внутрь, расположились в его в буквальном смысле слова нищем архондарике[103], – вернее, это была просто комнатушка с двумя топчанами. Преисполненный недоумения и нетерпения, я жаждал увидеть, что же это за человек.
Старец стал нам рассказывать разные истории, однако они нам были совсем неинтересны. Внезапно он снял свою обувь и взобрался на топчан, желая изобразить нам что-то, о чем рассказывал. Окончательно разочаровавшись, я подумал: «Кажется, он не в себе, поэтому его и сделали святым, и приходят, чтобы на него поглядеть… Посмотрим, как он себя поведет, если перевести разговор на серьезную тему!» Представляете, до чего я дошел?!
– Геронда[104], вы очень известны в Фессалониках.
– Ты не шутишь?
– Да, да, многие говорят о вас.
На это он мне ответил:
– Деточка, вот там, чуть выше, на тропинке, по которой ты шел, мусор видел?
– Да.
– Взгляни-ка туда.
Я посмотрел: там валялась старая консервная банка из-под кальмаров – такие привозили тогда на Афон, на нее падал свет, и она блестела. Отец Паисий говорит:
– Ты видишь, как блестит эта консервная банка?
– Да.
– Вот так и я. Пустая консервная банка, выброшенная и никому не нужная. А люди смотрят на нее издали и думают, что это что-то такое!
Только я попытался спросить его еще о чем-то, он протянул мне лукум. Так я съел 15 кусочков лукума, пока не пришло время уходить.
Ничего особенного не сказал нам старец. Я разочаровался и больше ни о чем его не спрашивал, только перед самым уходом сказал:
– Геронда, а нам говорили, что у вас тут живут змеи. Это правда?
– Да. Хочешь посмотреть?
Ну что я мог ему на это ответить – что не хочу?!
– Да, здорово было бы их увидеть! – сказал ему я.
– Знаешь, завтра, когда ты станешь духовником, приходи, и я покажу их тебе, все они здесь, – ответил он, показывая на свое сердце.
Мы вышли наружу. Я был разочарован и думал: ничегошеньки он из себя не представляет, и зачем мы только сюда пришли! У ограды, возле калитки, я спросил его в последний раз, уже безнадежно:
– Скажите нам что-нибудь душеполезное! (Словно: «И о чем все это время вы нам говорили!»)
– Дети, – сказал он, – вы молоды, делайте много земных поклонов.
– Сколько?
– Много, много.
И ударил нас по спине. И в этот момент произошло великое событие: вся местность наполнилась благоуханием. Деревья, птицы, воздух, скалы – все, все. Это было страшно! В первый и единственный раз в моей жизни такое произошло со мной. Все благоухало невероятно, и неведомая сила овладела нами. А старец сказал:
– Давайте, ребята, ступайте, ступайте.
Он быстренько нас прогнал, запер калитку и ушел в домик. А меня и диакона охватило удивительное состояние. Я говорю ему:
– Послушай, ты благоухаешь?!
А он мне:
– Это неописуемо! Что происходит?!
Мы бегом побежали от кельи, и так, бегом, очень скоро достигли Буразери[105], мы просто не могли остановиться по дороге, и до самого Буразери все кругом благоухало. После этого я понял, что действительно этот человек таит в себе великое сокровище.
Приблизительно через 10 дней я снова навестил старца Паисия. Старец уже был совершенно другим. И с той поры, с октября 1976 года, по слову псалмопевца к Тебе прилепилась душа моя (Пс. 62: 9), моя душа прилепилась к этому старцу, и я чувствовал, что с ним был Бог, и Он был Сущим! Первое, в чем я окончательно убедился удивительным образом, общаясь со старцем Паисием, – то, что говорит Христос в Евангелии, то, что говорили святые отцы, о чем рассказывается в житиях святых, все то, что было написано и сказано в Церкви, – все это оказалось правдой. В моей душе не осталось ни малейшего сомнения ни в чем, сказанном в Евангелии.
В течение года я много раз приезжал к старцу, и уже решил остаться на Святой Горе, для чего хотел прервать свою учебу. На это отец Паисий меня не благословил, потому что у меня была стипендия от Кипрской Церкви. И он сказал мне: «Ну хорошо, оставайся на Святой Горе, но только уезжай на сессии и сдавай экзамены, потому что раз Церковь тебя направила и у тебя есть стипендия, неправильно сразу же, как только ты приехал, бросать учебу». Так все и происходило.
Человек, который превзошел законы природы
Многие его чудеса я видел своими глазами. Но я хотел бы обратить ваше внимание не столько на чудеса старца Паисия, сколько на то, что действительно отличало его от других, и на то, что сделало его, по моему смиренному мнению, столь великим святым. Его выделяла огромная любовь к Богу, безграничная любовь, которая сводила к нулю его любовь к самому себе. Этот человек превзошел законы природы, его жизнь была сильным и явным присутствием благодати. Отец Паисий был совершенно нестяжательным человеком, у него не было ничего, даже необходимого человеку пропитания. Там, где он жил, не существовало никакого человеческого утешения, абсолютно ничего, поэтому была так заметна любовь Божия, благодать Божия в жизни старца. И Бог пребывал с ним постоянно, и «рука Господня была присно на нем». Я верил и всецело верю, что речь идет о великом святом Православной Церкви наших дней, и в моем сознании он уже причислен к великим святым[106]. Как-то я спросил его: «Геронда, мы можем служить панихиды о святых, которые еще не канонизированы?» Он ответил: «Смотри, благословенный, святым вреда не будет. Когда мы молимся о них, они молятся о нас». Старец Паисий один из тех блаженных, которых избрал Господь и принял к Себе.
Видя, какой я немощный и несчастный, старец дал свое благословение, и многие ночи я проводил возле него, иногда до двух с половиной недель. Я следил за ним внимательно и старался подметить все вплоть до мелочей. Мне было любопытно увидеть всю его жизнь. У меня всегда создавалось впечатление, что этот человек держит в своей руке мир и на самом деле укрепляет его своей молитвой.
В первый раз, когда я остался у него с ночевкой, я помню, он мне предложил: «Пойдем поедим». Но что поедим?! Ведь там хоть шаром покати! Я не могу вам описать, какая у него была крайняя нищета, особенно в келье Честного Креста! И вот мы как бы пошли есть. Старец накрыл на земле, стола у него не было, а только квадратный кусок мрамора. На нем мы должны были есть. Отец Паисий достал пару луковиц, несколько сухарей и банку консервов, которую кто-то ему оставил. Говорит: «Сейчас я тебе ее открою, специально для тебя берег». Но как же ее открыть?! За неимением другого инструмента он открыл ее теслом. Мы поднялись, чтобы помолиться, прочесть «Отче наш». Отец Паисий встал посреди пустыни (такой была Капсала, келья Честного Креста – совершенно уединенное место), воздел руки к небу и произнес: «Отче наш, Иже еси на небесех…» И признаюсь вам, вот прошло столько лет, но я никогда больше не слышал Господню молитву звучащей с такой силой. Я ощущал, что Бог простер Свою руку с неба, чтобы благословить наше «ястие и питие». Это было что-то невероятное!
Я прожил подле него до 1992 года: очень часто приходил к нему, проводил у него многие ночи, многократно служил в его церквушке, но никогда не мог привыкнуть к этому человеку. Каждый раз, когда я снова встречал его, то ощущал то же волнение, что и в первый раз. Я не понимал, отчего так происходит, но это мое недоумение разрешил старец Софроний Эссекский[107]. Когда мы поехали к нему с нашим приснопамятным старцем, то в беседе среди прочего он сказал нам: «Встреча с духовным человеком ежесекундно содержит в себе некое пророческое событие. Никогда невозможно привыкнуть к человеку Божиему. Общение с ним всегда уникально и неповторимо».
На протяжении многих лет я учился у старца Паисия, но так и остался «второгодником». Старец Паисий – это откровение Бога в моей жизни. И каждый день, который я жил возле него, я не переставал изумляться той силе Святого Духа, которая обитала в нем.
«Я чувствовал, как мои кости тают»
На Рождество 1982 года, если не ошибаюсь, после всенощного бдения, когда мы уже немножко отдохнули, я пошел к старцу. Он был один в своей келье, в Панагуде, и пребывал в прекрасном расположении духа; стояла тишина, кругом ни души, из посетителей никого, и он говорит мне следующее: «Вот что я тебе скажу, диакон! – Я тогда еще был диаконом. – Однажды пылало мое существо от любви Божией так сильно, что я чувствовал, как мои кости тают, словно свечи. Я шел и даже остановился, потому что не мог двигаться дальше от любви Божией, которую ощутил внутри себя. Я привалился к стоявшему рядом дереву и сказал: „Только бы никто меня не увидел сейчас, а то поймет неправильно! Только бы никто не узнал, что я испытал". Так сильно возгорелась во мне любовь Божия, я весь пылал Божественной любовью. Прошло уже семь-восемь лет, и эта любовь не только не перестала гореть во мне, но она претворилась в любовь к миру, и я ежедневно растворяюсь в страждущих людях и не могу постичь, как Бог ради нас соделался человеком. Иногда я размышляю о том, как Христос родился и где Он родился, и – таю». Его глаза наполнились слезами, хотя он не позволял себе такого обычно при других. Доблестный воин, он избегал выказывать свой внутренний опыт, хотя его жизнь, особенно в Панагуде, поистине была каждодневной жертвой ради народа Божия и образцом совершенной любви.
Как Христос сказал Петру: …и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих (Лк. 22: 32), точно так произошло и со старцем Паисием.
Так как он достиг высоты созерцания Бога и обожения, он услышал от Бога это слово о том, что должен поддерживать своих братьев. В его каливе[108] собиралось множество людей, особенно же он любил страждущих и молодежь, искавшую свой путь в жизни, и с большой жертвенностью становился рядом с ними. Он выслушивал их, исцелял, советовал, успокаивал.
Поистине удивительным было его слово, я в этом сам убедился. Некоторое время я провел в Кутлумуше и нес там послушания архондаричего и привратника. Я всегда отличался болтливостью, мне нравилось строить из себя учителя, и каждого, кто проходил мимо меня, я мучил своими «проповедями». Когда же люди встречали старца, им было довольно одного его слова, а иногда он даже и ничего им не говорил – они просто видели его, и это изменяло всю их жизнь. Как говорится в Евангелии, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями (Мк. 16: 20). Христос заверял и запечатлевал слово старца последующими знаками благодати, которые являл на нем. Они были столь чисты, столь изобильны и многочисленны, что о них теперь написаны книги! А сколько еще чудес хранят в памяти люди как свой личный опыт встречи со старцем! Действительно, подобные знаки показывают нам великую святость и дерзновение этого человека.
Старец Паисий всегда учил иметь добрые помыслы и никогда не думать плохо о людях, обо всех он говорил с болью и любовью. Сам он был очень внимателен в этом. Он никого не осуждал, даже диавола, и говорил о нем с большим сочувствием. Он никогда не называл его диаволом (чтобы не обижать!), но бедненьким «тангалашкой» (это такой маленький зверек). И это при том, что он сражался с дикими бесами, и диавол мучил его в пустыне. Мне известны многие случаи, когда диавол восставал против старца.
Билет святого Максима Кавсокаливита
В один из вечеров я был у отца Паисия в очень расстроенных чувствах: наш старец Иосиф[109] находился на Кипре, в одном небольшом монастыре, который пытался тогда обустроить, и я не имел от него никаких известий. Отец Паисий спросил у меня:
– Что с тобой, чем ты озабочен?
– От старца Иосифа нет новостей, поэтому у меня на душе неспокойно.
– Зачем ты переживаешь, бедняжка? Давай купим билет и отправимся на Кипр!
– С удовольствием!
Он спрашивает:
– А какой авиакомпанией полетим, «Олимпиаки»?
– «Олимпиаки».
– Ладно, – говорит, – узнаем, когда есть рейсы, и летим на Кипр.
– Договорились, геронда.
– Но, – говорит он мне, – мы полетим по билету святого Максима Кавсокаливита.
– Что вы имеете в виду?
– Как что я имею в виду? Он съедал один сухарик и на крыльях переносился из Кавсокаливы в Ватопед[110]. И мы скушаем по сухарю сегодня вечером и отправимся на Кипр.
«А, он шутит», – думаю я про себя. Мы съели наши сухари, и я пошел спать. Старец молился.
Утром, когда я проснулся, он уже был на ногах. Спрашивает:
– И как ты вчера провел время?
– Хорошо.
– Замечательный там монастырь, – говорит.
– Прекрасный, – отвечаю.
И он описал мне в деталях место, где находился старец Иосиф, его келью, его кабинет, вплоть до того, где лежала его ручка, перочинный ножик, тапочки, все.
– Геронда, откуда вы знаете?
– Над нами пролетал самолет. Я заглянул к тебе, чтобы позвать с собой, но ты спал, и я отправился один. Твой билет пропал. Я полетел один и утром вернулся.
Вот таким чудесами была наполнена его жизнь.
«Богородица раскачала лампадку, чтобы нас поприветствовать»
А этот случай произошел в 1977 году в келье Честного Креста – это было в первый раз, когда я остался у отца Паисия ночевать. Я тогда был диаконом. Накануне утром я пошел к старцу. Как только он меня увидел, то, как обычно, шутя, говорит:
– Добро пожаловать, диакон! Мне как раз не хватало диакона для престольного праздника!
Я говорю:
– Ну, вот я и пришел.
А он:
– Я заказал 100 килограмм рыбы, придут из скита пророка Даниила, из кельи апостола Фомы, придут те и те… У нас будет владыка, будем отмечать престольный праздник.
В тот момент я ему уже поверил.
Тут он вдруг спрашивает:
– Ты останешься сегодня?
У меня душа взыграла от счастья. Вечером он говорит:
– Смотри, мы будем служить агрипнию[111]Честному Кресту, – и объяснил, что мне следует делать.
Разумеется, агрипнию по четкам[112], ведь петь было некому. Начали мы около 5 часов пополудни.
– Около полуночи я позову тебя, и мы прочтем последование ко Святому Причащению. Потом утром придет батюшка из Ставроникиты и послужит у нас.
– Да будет благословенно, геронда.
Он дал мне пространные рекомендации, как совершать молитву. И сам остался в одной келье, а я в другой. Каждые час-полтора он стучал мне в стену и спрашивал:
– Диакон, как ты, хорошо?
– Хорошо, геронда.
– Спишь?
– Нет, не сплю.
Он предупредил:
– Если услышишь шум, не пугайся: это дикие кабаны или шакалы.
Всю ночь я слышал его шаги. Поскольку у старца была только половина легкого, он глубоко вдыхал и затем говорил: «Слава Тебе, Боже», в своей собственной дивной манере.
Я чувствовал, что старец рядом со мной. Около полуночи он позвал меня, и мы пошли в церквушку рядом. Это была узкая, длинная церквушка с одной стасидией[113] и пятью иконами – Христа, Богородицы, Иоанна Крестителя, Воздвижения Честного Креста и одного русского святого (не помню, кого именно, некогда там жил отец Тихон Русский[114]). Старец говорит:
– Давай читать последование ко Святому Причащению.
Он поставил меня в стасидию, открыл Часослов, дал зажженную свечу и, стоя рядом со мной, сам произносил припевы к последованию: «Слава
Тебе, Боже наш, слава Тебе». Каждый раз, когда он произносил стих, он плавно полагал земной поклон. Я читал: «Хлеб живота вечнующаго да будет ми Тело Твое Святое…»
Вокруг нас непроницаемый мрак, ночь в пустыне. Когда мы дошли до стиха, в котором говорится: «Мария, Матерь Божия, благоухания священная скиния.», именно на этих словах я услышал, как будто ветерок вошел в церковь. Я подумал, что старец открыл окно, но он стоял возле меня. Неожиданно все пространство вокруг осветилось, и лампада Божией Матери начала сама собой раскачиваться. Всего лампад было пять, но раскачивалась только эта, другие оставались неподвижными. В церкви сделалось светло – я это понял, потому что свеча, которую я держал в руке, больше была мне не нужна. Я обернулся на старца. Он посмотрел на меня и сделал мне знак, чтобы я молчал. Я прекратил чтение, старец преклонил колена. Я остался стоять, ждал, ждал, прошло полчаса или больше, и все это время происходило следующее: лампада ходила взад и вперед, церквушка была освещена, старец стоял на коленях, а я, со свечой в руке, не знал, что мне делать. Прошло полчаса, я говорю: «Мне продолжать читать последование ко Святому Причащению?» Старец кивнул. И я стал читать, читать, не останавливаясь.
В какой-то момент, на седьмой песне, мы вернулись туда, где и были, – в полумрак. Лампада остановилась. Мы пошли, сели – там была маленькая передняя, снаружи у архондарика, со стороны церкви. Старец выглядел невероятно – он был просто преображенным духовно.
Я спросил:
– Геронда, что это было?
Он отвечает:
– А что такое?
– А лампада… разве вы не видели?
– А-а-а, лампаду я видел. А что еще ты видел?
Говорю:
– Я ничего не видел, только озарилась церквушка, и лампада раскачивалась.
– Больше ты ничего не заметил?
– Нет, ничего другого я не видел. А что еще было?
– Ничего не было, детка.
Я говорю:
– Ну разве так может быть, что ничего не было? И почему тогда мы не наблюдаем это каждодневно? И почему этого не видят все?
– Правда, ничего не произошло, деточка моя, но разве ты не слышал, что Богородица вечерами обходит Святую Гору и смотрит, что делают монахи?
Я и в самом деле за несколько дней до этого читал об этом.
– И вот Она прошла здесь, – говорит он мне, – увидела двоих полоумных, которые читали молитвы, и раскачала лампадку, чтобы нас поприветствовать.
Но потом он сказал мне, что в тот час видел Богородицу.
То, что случилось в ту ночь, было одним из самых потрясающих опытов, который я пережил рядом со старцем. Потом мы сидели до 6 часов утра, и старец рассказывал мне многие случаи из его духовной жизни, затем рассвело, и пришел батюшка из Ставроникиты, чтобы послужить у нас литургию.
Предсказание епископства
Я никогда не помышлял о епископстве, потому что на Святой Горе такой перспективы не существовало. Это было просто невозможно, и ни в каком самом безумном сне никто не мог бы себе этого вообразить. И вот, где-то в 1989 или 1990 году, в день праздника апостола Андрея, после литургии, которую мы отслужили в Карее[115] в скиту Апостола Андрея, я пошел проведать старца Паисия. Начался мелкий снег с дождем, погода стояла неустойчивая. И я сказал:
– Геронда, я пойду, надо поспешить, а то у меня даже зонта нет, промокну до нитки.
Он ответил:
– Не волнуйся, я дам тебе хороший саккос[116].
Я подумал: «Какой саккос он даст мне?» А он взял мешок для мусора[117], не знаю уж, где он его отыскал, посередине сделал дырку и говорит:
– Стань здесь, в центре, я его на тебя надену.
– Геронда, я сам его надену, не надо.
– Нет, стань, я его на тебя надену и пропою «Свыше пророцы»[118].
Я говорю:
– Геронда, что за шутки?
А он так серьезно:
– И шутки, отче, становятся серьезным делом.
Разумеется, он надел его на меня, этот мешок для мусора.
Чудо с водопроводчиком
А это чудо старец Паисий совершил недавно на Кипре, уже после своей кончины. Один человек из Пафоса рассказал мне об этом. Он сам водопроводчик, трудяга, простой человек, вовсе не воцерковленный, но имеющий народное благочестие, свойственное многим людям. Как-то он работал во дворе одного дома, наклонился, чтобы заменить трубу, и не заметил, как ему прямо в глаз вошло что-то наподобие рыболовного крючка – страшное дело! Он почувствовал, что глаз буквально выходит наружу. «Матерь Божия!» – воскликнул он и стал терять сознание. Вдруг он видит перед собой монаха в шерстяной шапочке. Монах берет его за руку и говорит: «Не бойся, потерпи и вытащи то, что вошло тебе в глаз, а затем ступай в больницу». Но этот человек держался за окровавленный глаз, который считал уже лопнувшим и потерянным. Еле живой, он закричал: «Я не могу, я умру». Монах схватил его, вытащил этот крючок из глаза, и человек почувствовал ту силу, с которой монах сделал это. Затем он сказал: «Теперь иди в больницу, у тебя ничего нет». В больнице офтальмолог подтвердил, что все в порядке, ничего нет, кроме небольшой царапины.
Спустя пять-шесть дней этот человек отправился в пекарню за хлебом. Там женщина за прилавком читала книгу отца Паисия, и он увидел фотографию старца на обложке, пришел в смятение и говорит: «Извините, а кто это?» – «Отец Паисий со Святой Горы Афон, святой наших дней». Тогда он говорит: «Но я его видел, он мне сделал то-то и то-то… это именно он». Конечно, она ему посоветовала: «Поезжай в Лимасол, там найдешь отца Афанасия, расскажи ему об этом». Он описал, разумеется, со всей ответственностью, эту историю и отослал ее в монастырь, где собирают свидетельства о посмертных чудесах старца.
Очень многие чудеса совершены старцем Паисием после его кончины. Господь даровал ему особую благодать – утешать души людские. После своей кончины он еще больше утешает страждущих, о чем свидетельствует его житие и изданные монахинями монастыря Суроти его слова, богатство нашей Церкви[119].
«Выбивание пыли»
Отец Паисий был большим патриотом и очень любил Грецию и «византийство». Но было две вещи, из-за которых он действительно переживал: первое – когда задевали его Родину, и кто-то ему говорил: «А знаешь, геронда, Македония-то ведь славянская». Тут он выходил из себя. И второе, что его расстраивало, – когда кто-то использовал его имя и говорил, что, дескать, отец Паисий сказал то-то, тогда как он этого не говорил. А слова передавались из уст в уста: «Отец Паисий сказал: закупайте продукты, ройте окопы, летом будет война», – и люди кидались скупать продукты. Старец никогда не говорил о сроках, по крайней мере я от него этого никогда не слышал. Он говорил, что «грядут трудные времена, мы должны быть в полной боевой готовности, жить в покаянии» – такое он точно говорил. Что «турки будут разорены и отдадут нам Константинополь» – это он тоже говорил. Но он не говорил, сколько лет осталось, не называл точных дат. Когда же он слышал, что его имя используют и приписывают ему подобные слова, это его очень печалило.
Поскольку мне несколько раз пришлось наблюдать, как он устраивал людям встряску, «выбивание пыли», как он это называл, то и я боялся, как бы не настал мой черед, и очень внимательно следил за своими словами, стараясь не сказать ничего больше того, чем старец говорил сам. Я знал его чуткое и внимательное к этому отношение, поэтому я боюсь говорить о старце. Ведь он хотя и почил, но присно живой, и встряску может устроить прямо сейчас. Ему ничто не мешает!
Воспитана Гефсиманиеи
Об игумении Марии (Робинсон) и сестрах русской Гефсимании в Иерусалиме
На фото: игумения Мария (Робинсон)
Игумения Гефсимании мать Мария – это фактически моя мать. Когда я уехала из Иерусалима, первое, что девочки спросили у матери Марии: «Почему вы так любили Лизу?» И она ответила: «Потому что это был мой „дикий" ребенок», что по-английски звучит очень мило: «Because she was my wild child».
Рассказчик:
Елизавета Павловна Озолина, урожденная Калюжная (род. 1939) – иконописец, реставратор. Обучалась у княжны Евдокии Голицыной при русском Гефсиманском монастыре в Иерусалиме. В 1965 году переехала в Париж и работала под руководством Леонида Успенского. Писала иконы для православных храмов в Париже, Брюсселе, Нью-Йорке, Бристоле (Англия), Роттердаме (Голландия). По приглашению мэрии Парижа преподавала иконописание на муниципальных курсах города. С 2002 года – профессор Православного Свято-Сергиевского богословского института в Париже.
Гефсимания – это тихая гавань для многих русских людей, после революции отрезанных от России. Первой игуменьей Гефсиманского монастыря стала англиканская монахиня шотландского происхождения Стелла (Робинсон), в Православии мать Мария. Кроткая, жертвенная, сострадательная ко всем, она с юности посвятила себя делам милосердия, работала в миссии в Индии. Оказавшись в Иерусалиме, приняла Православие и занялась благоустроением русского участка в Вифании, созданием школы и госпиталя. Она отказалась вернуться в Англию после прекращения действия Британского мандата в Палестине, продолжая служить обездоленным русским людям не в дни славы, а в дни страдания России.
О матери Марии, о русских людях, которых она собрала вокруг себя, рассказывает ее воспитанница, сейчас – реставратор и иконописец, Елизавета Павловна Озолина.
– Ваши предки из Саратова. Как получилось, что вы родились в Иерусалиме?
– Из Саратова был родом мой дед по материнской линии, звали его Петр Елеазарович Ладиков. Я его очень хорошо помню. Так вот, он служил на корабле «Потемкин» и после восстания 1905 года вынужден был покинуть Россию[120]. Человек замкнутый, молчаливый, он прошел через ужасные испытания: сначала оказался в Константинополе, потом – в Сирии. И, наконец, узнав, что в Палестине есть Русская духовная миссия[121] и много русских людей, он отправился туда и там поселился. Ездил по монастырям Святой Земли. Много лет спустя я встретила в Палестине монахиню, которая с благодарностью вспоминала о деде.
Русская колония в Иерусалиме, к которой принадлежала и наша семья, в 1930-е – 1940-е годы состояла из людей очень разных сословий: от послов до крестьян. Больше всего было тех, кто приехал на Святую Землю паломником и потом не смог вернуться в Россию из-за революции. Они жили обычной жизнью, зарабатывали, как могли. Мой отец, Павел Максимович Калюжный, попал в Иерусалим в 30-е годы. Устроился в архитектурное бюро, и я помню, как он ходил инспектировать работы по реставрации Храма Гроба Господня. Мой дядя Николай Петрович Ладиков работал инженером у англичан, а после войны стал преподавателем французского языка в университете в Газе. Моя мать, Елизавета Петровна, урожденная Ладикова, удивительно способный человек, была «ходячей легендой» в Иерусалиме. Она вращалась в английской и арабской среде, владела семью языками и помогала всем бедным и больным: переводила документы, устраивала нуждающихся в больницы.
Всех нас сплачивал Свято-Троицкий храм при Русской духовной миссии. Службы в нем проходили всегда торжественно, собиралось множество народа. Служил начальник миссии архимандрит Антоний (Синкевич)[122]. Были и другие священники, и целый причт – диаконы, иеродиаконы, хороший хор. Храм был очень просторный, и каждый имел в нем свое место. Наша семья стояла перед огромной иконой «Собор архангела Михаила». Я помню – мне тогда было лет пять, – как во время службы меня вдруг поразили сапоги архангела Михаила, и я подумала: «Оказывается, на небе тоже есть хорошие сапожные магазины, где архангел Михаил, наверное, их купил…» Еще в нашем храме меня занимал большой, довольно добродушный лев, сидевший у ног своего хозяина на иконе святого Герасима Иорданского. Проходя мимо, я его бесстрашно гладила.
«До сегодняшнего дня она мне снится»
– Вифанская школа при Гефсиманском монастыре – это единственная православная школа для девочек на Святой Земле. Как она возникла в Иерусалиме?
– Гефсимания[123], надо сказать, была удивительным островком. Там вокруг матери Марии (Робинсон)[124] и ее сподвижницы матери Марфы (Спрот) собрались русские верующие женщины. Эти две некогда англиканские сестры-миссионерки служили в Индии, оттуда приехали в Иерусалим, где Божиим промыслом поселились на русском участке при храме Марии Магдалины в Гефсиманском саду. В крипте храма покоились останки великой княгини Елизаветы, некогда вдохновившей мать Марию на дела милосердия[125]. Это и встреча с архиепископом Анастасием (Грибановским)[126], культурнейшим человеком, владевшим многими языками, произвело на них столь сильное впечатление, что в 1933 году они приняли Православие[127].
Мать Мария и мать Марфа на свои личные средства начали благоустраивать заброшенные постройки Вифании, находившиеся в ветхом состоянии (этот русский участок в Первую мировую войну был занят турецкими солдатами, которые перевернули там все вверх дном, а приток жертвовавших на поддержание святынь паломников из России после революции прекратился). Сестры решили создать в Вифании обитель, которая будет вести благотворительную работу в память о гостеприимстве евангельских Марфы и Марии, принявших у себя дома Иисуса Христа. А поскольку они происходили из влиятельных шотландских семейств, то в этом им содействовали английские власти Палестины. Сестры обновили вифанские корпуса и отстроили новое здание школы, куда я и попала в середине 1940-х годов.
Монастырь Св. Марии Магдалины в Гефсимании, современный вид
Школу[128] мать Мария задумала построить для арабского населения, и, конечно, среди воспитанниц большинство были арабские девочки-христианки из хороших семей, отданные в Вифанию из-за высокого уровня христианского образования. Преподавание велось по английским программам на английском, русском и арабском языках. Среди учителей были и арабки, выпускницы русских школ[129], и англичанки, и датчанки. Все это придавало школе неповторимый интернациональный колорит.
– Вы помните свой первый день в Вифанской школе?
– Когда отец впервые привел меня в школу еще шестилетней девочкой в 1945 году, я согласилась с ним поехать с предварительным условием: если мне разрешат взять с собой в интернат моего любимого медвежонка Мими и мою голубую курочку, сшитую из материи. В их сопровождении я торжественно вступила в Вифанскую школу, где первым меня приветствовал огромный пес, которого я сразу бросилась ласкать. Друзьями мы остались навсегда.
Меня встретили начальница школы мать Марфа, Анна Васильевна Голенищева-Кутузова и старшая учительница Ирина Николаевна. В школе я освоилась очень быстро. В первый день, гуляя по залам, я наткнулась на целый ряд стоящих, непонятных мне ламп с мешочками и решила: надо проверить, что это за мешочки. Тронула пальцем один мешочек – он распался. Надо было проверить и другие, и так до последнего… Наступил вечер. Ирина Николаевна подходит к столу, на котором стоят лампы, зажигает спичку, смотрит, а фитильков нет. И так весь ряд ламп – без фитильков! Начала искать виновников, а дети ей говорят: «Это сделала новенькая девочка!» Ирина Николаевна на них: «Дети, как вы смеете с первого же дня клеветать на бедную, невинную девочку!» С немалым трудом мне удалось уверить Ирину Николаевну в том, что этим ужасным разрушителем действительно была я! Я еще не умела читать по-русски, поэтому меня отправили наверстывать упущенное к монахине Сергии (Цветковой). Я приходила к ней на отдельный урок, и она говорила: «Ну, Лизочка, будем читать?» И я решительно отвечала: «Нет! Сначала расскажите мне сказку!»
В Вифанской школе меня приняли под свое попечительство Катя Роменская и арабская девочка Юлия, впоследствии игумения Елеонского монастыря Юлиания. Вдвоем они решили духовно проверить меня. Пол нашей церкви устилал огромный ковер, весь в крестчатом узоре. И вот мои «духовные попечительницы» затеяли испытать мою веру и говорят: «Если ты настоящая православная, то поцелуй каждый крестик на этом ковре». Не успели они договорить, как я бросилась на колени целовать каждый крест ковра, а они стояли надо мной и заливались хохотом, что меня нисколько не смущало. Я знала: в их глазах я – православная. Им обеим здорово попало от монахини Сергии (Цветковой), когда они ей признались в своем «духовном наставничестве».
В школе меня безумно баловали, а главное – любили. Каталась я как сыр в масле до 1948 года, когда перешла жить в интернат. Наступил жуткий момент в истории Иерусалима[130]. Мой отец, будучи знаком с игуменией Марией и предчувствуя грядущие невзгоды, оставил ей завещание, чтобы она меня воспитала, если с ним что-то случится. И однажды утром мать Мария, предупрежденная английским генералом о грядущих военных действиях, прислала за мной сестру из Гефсимании. Отец посадил нас в такси со словами: «Я приду тебя навестить через воскресенье». На месте нашего дома прошел фронт арабо-еврейской войны, и спустя два дня отец был убит вместе с дедом – говорят, их убили, когда они выскочили на улицу и бежали по направлению к французскому госпиталю.
В Гефсиманском монастыре мы засыпали и просыпались под безостановочную стрельбу из орудий, падали бомбы[131]. Как-то раз мы с подругой сидели в комнате, пуля пролетела через дверь, ударилась об стену и упала к нашим ногам. Другой раз мы с матерью Марией прогуливались по кладбищу в Гефсиманском саду, и недалеко от нас разорвался снаряд. Мать Мария схватила меня за руку, мы побежали. Я, конечно, даже не сразу поняла, что произошло. Жили опасно: умереть можно было на каждом шагу.
– Кем для вас была игумения Гефсимании?
– Мать Мария – это фактически моя мать. Она вырастила меня. До сегодняшнего дня она мне снится. Мы испытывали друг к другу необычайную нежность! Ее статус как игумении был особенным, почти недосягаемым, но для меня она казалась всегда доступной. Она жила в игуменском доме с матерью Варварой (Цветковой)[132]. И я, когда бы мне ни вздумалось, просто приходила к ней рассказать что-нибудь. Когда я уехала из Иерусалима, первое, что девочки спросили у матери Марии: «Почему вы так любили Лизу?» И она ответила: «Потому что это был мой „дикий" ребенок», что по-английски звучит очень мило: «Because she was my wild child».
В восемь лет я была шалунья. Каждую пятницу мать Мария приезжала из Гефсимании в Вифанию, чтобы проверить, как учатся воспитанницы, и поговорить с матерью Марфой. И в четверг я особенно не трудилась над уроками, зная, что завтра приедет мать Мария. В пятницу меня, конечно, наказывали – оставляли в классе и не позволяли выйти на переменке во двор. И вот мать Мария приезжала и спрашивала: «А где же Лиза?» Ей отвечали: «Наказана. Она не выучила урок». И вот я сижу в классе одна, и слышу шаги матери
Марфы: «Мать Мария желает вас видеть». Берет меня за руку и ведет меня по балкону к кабинету матери Марии (а все дети играют внизу). Я иду с повинной головой, мать Мария встречает меня словами: «Подойдите, мой ребенок, сядьте ко мне на колени. Да, эти взрослые никогда не понимают детей. Когда я была маленькая, я тоже не всегда знала свои уроки».
Вифания – моя колыбель, подготовка к жизни. Я иногда думаю, что если бы у меня такого основания не было, мне было бы трудней преодолеть мирские бури.
Вифанско-Гефсиманский мир
– Тогда обитель и школа переживали свой «золотой век», сегодня вы одна из немногих свидетелей той легендарной эпохи. Расскажите о людях, которых вы знали тогда.
– Школой занимались удивительно образованные и культурные люди. Анна Васильевна Голенищева-Кутузова, математик, вместе с тем и филолог, «ходячая энциклопедия» и очень верующий человек. Она получила образование в Германии до революции, говорила на четырех языках. В религиозной сфере она больше других повлияла на меня: своим примером, подлинным смирением она учила меня быть простой в жизни.
Заведующей классами была арабка из Дамаска Ирина Николаевна, воспитанница Русской женской учительской семинарии в Бейт-Джале[133], очень строгая, но замечательная. В Вифании мы ежедневно выполняли какую-нибудь работу. Однажды меня как «дочь» матери Марии благословили убирать ее бюро. В бюро стояли стол и диван, на столе чернильница. Я должна была вытереть пыль. И вот я сняла с письменного стола все на диван, вытерла пыль. Когда я обернулась, вижу: диван весь черный. Пока я вытирала пыль, чернильница меня подвела – перевернулась и залила его! С плачем выбегаю, а Ирина Николаевна, узнав, в чем дело, вместо того, чтобы отругать меня, говорит: «Ну как могли поручить маленькому ребенку такую работу!» Меня простили, а диван сменили на новый.
С детства мы хорошо знали Библию, изучали богословие (его вела Валерия Константиновна Хеке), историю Церкви, святых отцов, Вселенские соборы. Архимандрит Антоний (Синкевич) проводил духовные беседы в старших классах. Утром и вечером мы посещали службы, ежедневно читали утренние и вечерние молитвы. По субботам служилась литургия в Вифании, в воскресенье мы шли на литургию в Гефсиманский монастырь. Там мы общались с сестрами. Две сестры, мать Варвара и мать Сергия (Цветковы), – из Москвы, много рассказывали про московскую жизнь, и когда я впервые попала в Замоскворечье, мне все казалось знакомым! Мать Сергия работала у великой княгини Елизаветы Федоровны в Марфо-Мариинской обители и вспоминала, как Елизавета Федоровна всегда говорила очень тихо и как неловко было ее переспрашивать. А мать Варвара так часто цитировала оптинских старцев, что когда ей что-нибудь нужно было доказать, она произносила: «Оптинские старцы мне это сказали», а иногда «предсказали». Это шло у нее лейтмотивом. Они были очень разные, эти две сестры. Мать Сергия, некогда красавица, потеряла зрение и была внутренним, молитвенным человеком. Мать Варвара, второе лицо в монастыре после матери Марии (Робинсон), деятельная и активная, стала игуменией после ее кончины. В детстве я всегда ее в чем-то «убеждала», и гораздо позже, когда я уже жила в Голландии, кто-то приехал из Иерусалима и сказал: «Вы должны встретиться с матерью Варварой!» Я отвечала: «С матерью Варварой мы не могли сговориться даже в детстве…» – «Нет, вы ошибаетесь, мать Варвара вас ценит. Она сказала, что Лиза была прямолинейным человеком, и мы всегда знали, что она думает». Для меня эти слова оказались большим утешением.
Игумения Тамара (Романова)
Я была дружна с матерью Тамарой (Романовой), впоследствии игуменией на Елеоне[134]. Дочь великого князя Константина Константиновича, она была, как все Романовы, очень высокая. И вот однажды она решила, что я должна разделить с ней келью в игуменском «аристократическом» доме, где находились кельи игумении, матери Тамары и сестры Евдокии, княжны Голицыной. А я в то время жила с другой сестрой, латышкой Анастасией (русская няня в свое время привела ее к Православию). Мать Мария согласилась, и в один прекрасный день сестра Анастасия узнала, что меня переводят от нее к матери Тамаре. Она загрустила, и мы с матерью Тамарой каждый вечер после ужина ходили пожелать ей «спокойной ночи». Какое воспитание! У матери Тамары была ваза, большая, хрустальная, синего цвета, она стояла на ее письменном столе. Каждый день в эту вазу приносили букет цветов. Однажды я, маленькая, решила вытереть пыль: взяла в руки вазу, но не ожидала, что она такая тяжелая. Ваза выскользнула и разбилась. Я с ревом выбежала из комнаты в коридор, а по коридору мне навстречу шла мать Тамара. Поняв, что случилось, она спокойно сказала: «Ну, ничего….»
А ведь это единственное, что у нее осталось от ее прежней мирской жизни! Каждый вечер я провожала мать Тамару из трапезной в ее келью. Это было значительное расстояние, и по дороге она мне рассказывала о своей жизни. Мне было очень интересно, и когда мы доходили до ее кельи, я ее двумя руками поворачивала спиной к двери и спрашивала: «И что потом?»
Мать Тамара и сестра Евдокия (Голицына)[135]приехали на Святую Землю и приняли монашество с глубоким внутренним желанием молиться за воскрешение Святой Руси. Каждый вечер мы молились вместе. Их рассказы были исключительно о России, которую они так глубоко хранили в душе. Сестра Евдокия мне заповедала: как только будет возможно, поехать в Россию и написать фреску в память о погибших в начале двадцатого столетия русских людях. Господь исполнил ее желание, сподобив меня написать фреску Воскресения Христова на Ваганьковском кладбище. Наше детство и юность были пропитаны любовью эмигрантов к России, в их устах навсегда оставшейся Святой Русью.
Одно время я жила с «бабушкой Анастасией», сибирячкой из Благовещенска. Ее муж имел рыбный промысел на Амуре и был раскулачен, умер, а она попала в тюрьму. Однажды их из тюрьмы привезли и выбросили в тайге. Она скрывалась у кого-то, но нельзя же скрываться вечно! И тогда решила перейти через Амур в Китай. Дождалась зимы, и как-то ночью пошла. И вот идет она и видит черную полосу – и понимает, что если сделает шаг, провалится. Обошла, а наутро оказалась в Китае. Ее очень любил архиепископ Иоанн Шанхайский[136], это он прислал ее к нам в Иерусалим. Малограмотная, но Библию по складам она громко читала каждый день. И говорила мне, что за всю свою жизнь прочла ее от корки до корки.
Представляете, какие люди?!
Пасха в Иерусалиме
– Вы помните службы в Храме Гроба Господня?
– Конечно. Мы из Гефсимании часто ходили на эти службы. А знаете, кто веками хранит ключ от Храма Гроба Господня[137]? Мусульманская семья. Потому, что христиане в свое время не смогли договориться между собой, и, чтобы представители многочисленных конфессий, находящихся в храме, не ссорились, ключ отдали мусульманам. Я расскажу вам, как мусульмане относятся к Божией Матери. В Иерусалиме под праздник Успения совершается крестный ход из Гефсиманского подворья, близ Храма Гроба Господня, к гробнице Божией Матери с Ее плащаницей. В моем детстве мусульмане – кто босиком, а кто на коленях – шли за плащаницей до самой гробницы Божией Матери, и там 2–3 дня продолжались празднества. Мусульмане очень верят в Божию Матерь и Христа. Они Его, конечно, называют пророком Исой бин Мариам, «Иисусом, Сыном Марии», но верят истово.
– А как праздновали Пасху в Иерусалиме?
– О, я сейчас удивляюсь, как это бывало: десятки тысяч людей собирались здесь в Великую Субботу. Нас, детей, греки пускали в алтарь, он находится как раз напротив Кувуклии. Незабываемо это напряжение, молчание, полумрак… и вдруг появляется Патриарх Венедикт[138], выносит огонь, и моментально все загорается! Еще меня поражало, как греки пели пасхальные стихиры «Да воскреснет Бог…» на пятый минорный глас. Так красиво! Был случай: на пасхальную службу приехал Сербский Патриарх Герман[139]. У меня было красивое фарфоровое яичко, которое я ему подарила. На следующий день Иерусалимская Патриархия уведомила наш монастырь о желании высокого сербского гостя посетить обитель. И вот в сопровождении греческого духовенства к нам прибывает Его Святейшество! Встреча была торжественная, с трезвоном, и вдруг Патриарх спрашивает о послушнице, которая вчера подарила ему пасхальное яйцо, и говорит, что хотел бы ее отблагодарить. Он подарил мне свой портрет с надписью, который я до сих пор храню. Его способность запомнить жест семнадцатилетней девушки среди многотысячной толпы в Храме Гроба Господня и ответить на него поразила всех.
После окончания Вифанской школы я осталась преподавать в ней английский язык, литературу, историю, грамматику, географию, Закон Божий, и преподавала восемь лет. Военное время, учебников было мало. Помню, у нас по программе была Южная Америка, и я ночами по калькам срисовывала карту, потом раскрашивала ее, чтобы показать детям что-то наглядное. Я считала, что они запомнят урок, только если будут видеть. И на уроке показывала им, где – саванны, где – цепи гор. Еще я заведовала одним «трудным» классом. Девочкам было по тринадцать-четырнадцать лет. Вошла – они смотрят на меня испытующе! Сделала вид, что ничего не замечаю, и говорю: «Сегодня у нас английская литература, мы начнем читать книгу». – «А, нет, это нас не интересует». – «Хорошо, тогда я буду вам читать сама». И история оказалась столь захватывающей, что мы с ними сблизились, и год они окончили отличниками.
«Поняли ли мы, что такое икона?»
– Когда родился ваш интерес к иконописи?
– Иконы интересовали меня с раннего детства. В Вифанской школе по субботам в нашей домашней часовне совершалась литургия для детей. Роспись часовни была основана, естественно, на местных сюжетах: «Воскрешение Лазаря», «Явление Христа Марии Магдалине». На маленьком иконостасе находилось лишь две иконы, справа – икона Христа, слева – Богоматери. Они были необычные: Христос на руках держал нашу часовню, а Богоматерь – нашу школу. И у меня, ребенка, возникла дилемма: то ли Христос существовал до нашей школы, то ли наша школа существовала до Христа? Этот вопрос я не могла разрешить довольно долго.
Однажды я стояла на службе в чинных рядах наших учениц, и мое внимание приковала к себе икона «Не рыдай Мене, Мати». Я стремительно рванулась к ней, с воплем на всю церковь, перебивая пение и чтение: «Посмотрите! Ой, ой, ой! Как Ему больно, почему Его положили в сундук?! Смотрите! Его Мама плачет!» Все, кто мог, бросились меня успокаивать, но я громко убеждала всех, что Христу в сундуке больно! Одним словом, церковь, как магнит, притягивала меня к себе своей росписью. Я бегала в нее на всех переменках, чтобы изучать на иконах наши пейзажи, те места, по которым ходил Христос. Такими были мои первые иконописные переживания в жизни.
Позже, когда мне исполнилось 12 лет, я встретилась с иконописицей княжной Голицыной, которая приехала из Парижа в Иерусалим и приняла иночество с именем Евдокия. В первый же вечер мы подружились, она показала мне свои иконы, которые были очень красивыми. Она открыла иконописный класс, где мы занимались под ее руководством, так что она – моя первая учительница. Потом я переехала в Париж и познакомилась с Леонидом Александровичем Успенским[140]. Я приходила к нему почти ежедневно годами, писала, показывала, мы говорили об иконописи. Человека, более погруженного в размышления о сущности иконы, чем он, трудно было себе представить. Всю жизнь он хотел понять, что такое икона. И перед смертью он как-то спросил меня: «А поняли ли мы, что такое икона?» Я была поражена! Это после всех его трудов об истории и богословии иконы!
– Отличался ли подход к иконе Успенского от подхода сестры Евдокии?
– Совсем нет. Только он был намного талантливее. Иконы сестры Евдокии – более женственные, она писала свободнее, потому что так ее научил наставник-монах, иконописец Свято-Сергиевского подворья в Петербурге. Эту свободу она передала и мне: я не пишу копии, я пишу образ, как его себе представляю, но, разумеется, согласно канонам Церкви. Успенский тоже не писал копий, к концу жизни образ у него становился все более упрощенным: он не впадал в детали. У него икона – это ее сущность.
– Вы помните свою первую икону?
– Да. Я хорошо помню то счастье, которое ощущала, когда писала иконы. Первая икона была на бумаге – Божия Матерь. Вторая – на доске: поясное изображение правого ангела из «Троицы» Андрея Рублева.
– А первый иконостас?
– Это был заказ, сделанный в 1959 году нашему монастырю арабским приходом в Акабе, на Красном море, в Иордании. Мне было уже почти 20 лет. Много лет спустя, когда я жила в Голландии, как-то провожала на поезд свою парижскую подругу. Проходя мимо киоска на вокзале, купила «Le Figaro»[141], смотрю на первую страницу и вижу мои иконы. Читаю подпись: «В Акабе разбомбили церковь. Уцелел иконостас». Для меня это было поразительно!
Семья и иконопись
– Вы – многодетная мать. Как вам удавалось совмещать воспитание детей с иконописанием?
– Я очень счастливая мать. У меня трое детей: два мальчика и одна девочка. Для меня было большой радостью с ними возиться, настолько, что когда я их укладывала вечером спать, то скучала по ним и думала: «Когда же настанет утро!», чтобы снова их услышать. Я никогда не считала, что я работаю, – я жила иконописанием. Активнее всего я писала, пока дети были маленькие. Они уходили в школу в 8 часов, а приходили после обеда, в 4 часа, и все это время я занималась иконописью. На каникулы мы снимали дом у моря. Помню, мне нужно было закончить «Вход Господень в Иерусалим», я выпускала детей во двор и писала. Они приходили ко мне через окна, через двери, мешали, но как-то все продолжалось. У всех моих детей есть способности к рисованию. Старший сын Николай принял священство, любит Россию, он русская душа. Дочка Анастасия окончила школу реставрации памятников и работает в музеях. Младший сын Алексей – скульптор.
Православная икона на Западе
– А с чем связано появление на Западе интереса к византийской иконе?
– Это удивительно! Когда в 1960-е годы я приехала в Париж, там было всего четыре иконописца: Успенский, Морозов, Круг, Мерзлюкин. Думаю, интерес к иконе пришел из Германии, куда были вывезены прекрасные образа из России. В Реклингхаузене[142] есть замечательная коллекция русских икон, и там проходили большие выставки. Это дало толчок. И французы, которые сами из своих церквей вынесли всех святых, заинтересовались иконой. Теперь в каждом переулке Парижа существуют иконописные школы для католиков. В 70-е годы Жак Ширак[143], тогдашний мэр Парижа, попросил меня преподавать иконопись французам в такой школе. Я приняла его предложение и 28 лет им преподавала, объясняла, в чем разница между православным и католическим образом, рассказывала, что икона – это не просто изображение, но исповедание догматов православной веры. Были среди моих учеников даже такие, кто перешел в Православие.
– Насколько точно католики, исповедуя другие догматы, могут написать православный образ?
– Это очень хороший вопрос. Успенский говорил, что католики могут лишь копировать православную икону. Чтобы понять и создать образ, иконописец должен быть православным богословом.
– Византийский образ Богоматери при входе в Нотр-Дам – это результат увлечения иконой, которое длится вот уже около 40 лет?
– Да, и в каждом католическом храме обязательно присутствует византийский образ. Католики говорят, что икона им помогает молиться.
– Какие работы были вами созданы во Франции и в Голландии?
– Во Франции я реставрировала росписи храма на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, расписала церковь в румынском Благовещенском монастыре в Розье[144]. В Голландии, где мой супруг отец Николай[145] служил священником русского прихода Святой равноапостольной Марии Магдалины в Гааге, работала над иконостасами для церквей в Амстердаме и Роттердаме. Написала много икон на заказ для храмов и просто для людей.
– У вас есть любимая икона?
– Это икона «Не рыдай Мене, Мати».
Америка. Крествуд. Отец Иоанн
– Какой самый счастливый период вашего творчества?
– Работа в Америке под руководством протопресвитера Иоанна Мейендорфа[146]. Это был глубокий богослов, историк, византолог. Постройку семинарского храма в Крествуде начинал еще отец Александр Шмеман[147]. И первое, что сделал отец Иоанн, сменив его на посту ректора семинарии, – стал искать иконописца и обратился, к моему большому удивлению, ко мне. Мы обсудили с ним программу росписи, и я приступила к работе. Он говорил: «Я вам доверяю». И, может, кому-то и не нравится мой стиль, но мне повезло, что отец Иоанн его понимал и одобрял, называл его свободным. Когда я писала «Причащение апостолов» в алтаре, американцы-прихожане, глядя на роспись, говорили: «Апостолы – не греки и не русские, но они американцы».
– Это самая удивительная часть росписи – необычны размеры апостолов, они огромные, выше человеческого роста. Как восприняли роспись прихожане?
– Размер апсиды был 6 на 3 метра. Я подумала, что там не получится уместить еще один сюжет, и поставила огромных апостолов. Каждый – размером в два метра. Что меня поддержало? Во время работы (было лето, семинария опустела) в храм зашла матушка отца Павла Лазора и воскликнула: «Как красиво!» И этим меня ободрила. А был у нас священник, который всегда проходил с насмешкой: «О-о, мне будет так страшно служить в их присутствии, они такие огромные!» Когда я закончила, он сказал: «Вы знаете, я критически относился к вашей работе. Но теперь, когда она окончена, я вижу, что вы все сделали верно, и апостолы живут своей жизнью». Его слова были очень ценны для меня! Алтарь – небольшой, и во время литургии у священников создается впечатление, что они служат посреди апостолов.
– Вы очень чтите отца Иоанна, и в его память расписали часовню на Ваганьковском кладбище в Москве. Какой его образ сохранился в вашей душе?
– Образ праведника. У меня была привилегия – общаться в повседневной жизни с отцом Иоанном довольно близко. Я видела его подвиг, искренний, который он никогда не показывал. Он был кротким и скромным, и вы никогда бы не подумали, что перед вами – ученейший человек. Он был аристократом не только по рождению, но и по духу. Аристократом не в смысле светском, а в смысле возвышенном: в отношении к людям он был очень деликатен, никогда никого ни в чем не укорял. Все недостатки людей принимал на себя. И вы знаете, он так верил в Россию, он так любил Россию! У него одна мечта была после перестройки – служить России, ездить в Россию, чтобы делиться своими знаниями. Это было его последнее желание в жизни[148].
– Что было главным в тех прекрасных людях, которых вы встречали в Церкви – в Гефсимании, во Франции, в Америке?
– Это смирение. Думаю, только смирение.
Сквозь горлышко разбитого кувшина
О святом старце Гаврииле (Ургебадзе)
На фото: преподобный Гавриил (Ургебадзе)
Представьте себе картину: за рулем советского трехколесного мотоцикла сидит милиционер в форме, а рядом в коляске наш маленький отец Гавриил. Он встал, взял крест и громко, пока мотоциклет катился по центру Тбилиси, проповедовал о Боге, осенял прохожих крестом и благословлял их.
Рассказчик:
Митрополит Боржомский и Бакурианский Серафим (Джоджуа, род. 1961) – архиерей Грузинской Православной Церкви. Выпускник архитектурного факультета Тбилисской академии художеств (1990). В 1991 году ушел послушником в монастырь и был пострижен в монашество. Хиротонисан в епископа Боржомского в 1995 году, с 2009 года – митрополит. Награжден орденом святого Георгия.
Невысокий согбенный старичок, громогласный, в развевающейся мантии, с горлышком разбитого керамического кувшина на веревочке. Кто-то считает его пьяницей, безбожником, блудником. Кто-то, напротив, – святым. Он сам не обращает на это внимания. Вся его юродивая жизнь – поиск гибнущих душ и спасение их. Он заходит в пивной бар и через это горлышко высматривает, кому особенно тяжело, кто пришел сюда, чтобы вином залить свое горе и отчаяние.
О грузинском старце Гаврииле вспоминают знавший его при жизни митрополит Боржомский и Бакурианский Серафим, а также Зураб Георгиевич Варази и монахиня Анастасия.
Проповедь из коляски МИЛИЦЕЙСКОГО МОТОЦИКЛА
Митрополит Серафим: Мы познакомились с ним в 1989–1990 годах, когда я и мои друзья делали первые шаги к вере. Мы сразу поняли, что перед нами неординарный человек, и спросили: «Кто это?» Нам ответили: «Старец Гавриил[149], юродивый». Слова «юродивый» я тогда не знал. Когда мы встретили старца во второй раз, то поймали на себе его пристальный взгляд, услышали необычные слова… даже не юмор, а какое-то непонятное шутовство.
Отец Гавриил был невысокого роста, согбенный, в развевавшейся мантии, имел непонятную походку и слишком громкий голос, не соответствовавший правилам приличия и атмосфере церковной тишины. Его, как и других юродивых, было трудно сразу распознать. Иногда батюшка выносил гроб, ложился в него и из него пел грузинские народные или полуоперные песни. Проходившие мимо люди думали, что он сумасшедший. Какой нормальный человек во дворе монастыря будет распевать песни, лежа в гробу?! Некоторые считали отца Гавриила пьяницей, безбожником, блудником, а отец Гавриил всегда радовался, что подвергается клевете.
Святые отцы Церкви, в том числе преподобный Серафим Саровский, говорят, что юродство – наисложнейший путь. Из десяти юродивых девять – не от Бога, и нужна глубина духовного зрения, чтобы понять, что перед тобой именно юродивый, а не человек, пребывающий в состоянии прелести.
Главная черта отца Гавриила – его огромная любовь к каждому, только зачастую она выражалась в странной, юродивой форме. Он, например, мог зайти в пивной бар и там проповедовать (я сам не раз был этому свидетелем). Он чувствовал, кому было особенно тяжело, и подходил именно к нему, он знал, что этот человек пришел сюда, чтобы вином залить свое горе и отчаяние. Батюшка носил с собой горлышко от разбитого керамического кувшина на веревочке. В пивбаре он демонстративно становился посередине, и через это горлышко, как через бинокль, обводил взглядом зал, высматривая, к кому подойти. Он выбирал столик, за которым сидел тот, кому он был нужен, бесцеремонно подходил, садился и начинал разговаривать. Шутя, не шутя, иногда грозно, иногда пел. Но когда он выходил, как правило, люди окружали его, просили благословения, целовали, становились перед ним на колени – большинство понимало, что перед ними не простой человек. Из этих злачных мест он вытаскивал души пьяниц, тех, кто становился на путь погибели. Вся его юродивая жизнь – это поиск с помощью горлышка-бинокля гибнущих душ людей и спасение их.
Мне кажется, заслуга и подвиг отца Гавриила – в том, что он, начиная с 1960-х годов, когда невозможно было публично говорить о Боге, нашел действенную форму проповеди. Как-то на улице его задержала милиция, что он там говорил, я не знаю. Может, и пел, а может, и в рясе расхаживал по центральному проспекту Тбилиси. Его арестовал милиционер и повез в отделение. И представьте себе картину: за рулем советского трехколесного мотоцикла сидит милиционер в форме, а рядом в коляске наш маленький отец Гавриил. Он встал, взял крест и громко, пока мотоциклет катился по центру города, проповедовал о Боге, осенял прохожих крестом и благословлял их.
Отец Гавриил иногда становился прямо посреди дороги, раскрывал руки, и водитель останавливался, выходил, брал благословение. Даже те, кто не ходил в церковь, осуждал Церковь и священников, чувствовали к нему любовь и расположение. Почему? Он был «их». Другие требовали соблюдения правил благочестия, а этот вел себя иначе – мог и спеть, и пошутить, он был «свой», родной батюшка, который странными, юродивыми сетями затаскивал их в любовь свою, в любовь Христову.
Зураб Варази[150]: Отец Гавриил нам рассказывал, что в 1960-е годы, во времена гонений на
Церковь, на праздничной демонстрации он поджег большой портрет Ленина со словами: «Господи Иисусе Христе, я иду к Тебе!» Этот огромный плакат смяли и начали топтать, чтобы потушить, но все равно не могли погасить пламя. «А я радовался, что они его топтали, – вспоминал старец. – Поймали меня, доставили в милицию, раздели, отобрали иконы. Сижу я в комнате, захотел помолиться. Вижу в углу веник. Поломал его, маленькой ниточкой перевязал и сделал крест, поставил в углу, молюсь. Надзиратель в глазок увидел это, зашел ко мне и отнял мой крест. Я рассердился, встал у стены вот так: „Я сам крест!" А он спрашивает: „Ты что, помешался?" Отвезли меня в психиатрическую больницу. Пришли санитары, чтобы побрить меня и остричь. А я говорю: „Я монах, меня стричь нельзя". – „Нет, ты враг народа, мы тебя острижем!" Взял один машинку, подошел ко мне. Я взмолился: „Матушка Богородица, как Тебе угодно, пускай так и будет". Вдруг у этого человека отнялась рука. Другой санитар решил помочь: „Сейчас я его остригу!" – нагнулся за машинкой, так и остался – разогнуться не в силах! А я остался с бородой».
Митрополит Серафим: Случай с портретом Ленина мгновенно долетел до Москвы, и из Политбюро был получен приказ о расстреле отца Гавриила. Отец Гавриил молился Божией Матери, и Она явилась ему. Расстрел был заменен на
сумасшедший дом. В сумасшедшем доме старца пытали. Наш митрополит Фаддей Тианетский свидетельствовал, что однажды главврач психиатрической больницы принес молоток, большой гвоздь и стал вбивать его в колено отца Гавриила, чтобы тот отрекся от Бога. Но он не отрекся! Вот какое исповедничество! А мы видели только его юродство, слышали его песенки. Его собственный рассказ об этом событии напоминал скорее сцену из КВН, чем рассказ о подвиге.
«Какие мы птички, такая у нас и клетка»
Монахиня Анастасия[151]: Мы с матушкой Феодорой, нынешней игуменией монастыря равноапостольной Нины в Бодбе, были первыми послушницами отца Гавриила. Он произвел на нас такое впечатление, что мы слушались только его, буквально следовали за ним по пятам, хотя уже жили в монастыре, где был свой устав и настоятель. Так что мы оказались такими послушницами-непослушницами. Отец Гавриил смирял нас и смирил, как смог. Был случай, когда сила веры и духа отца Гавриила заставила нас просить милостыню с протянутой рукой тогда, когда нас, коренных жителей Тбилиси, все узнавали, но делали мы это не задумываясь, без колебаний.
Митрополит Серафим: Мне вспоминается случай, произошедший в одном русском монастыре незадолго до революции. В храм со сквернословиями вошел юродивый, монахи тотчас вывели его вон. Верующие были смущены: как он в Божием храме посмел произносить такие богохульные речи! Но очень скоро наступил 1917 год, и в тот же храм вошли большевики, именно с теми словами, которые тогда предрек юродивый. Отец Гавриил тоже иногда произносил вслух слова, приходившие на ум другому человеку (кстати, я с первой встречи даже боялся думать при нем о чем-то не духовном!). Он не сквернословил, но мог сказать такое, что вовсе не подобало лицу духовному. И люди понимали, что он читает их мысли и видит их поступки. Как-то отец Гавриил сидел во дворе церкви в Тбилиси. Служба уже началась, когда во двор храма впопыхах вбежала женщина. Отец Гавриил видел ее впервые, но очень громко назвал ее по имени – то ли Ирина, то ли Марина – и спросил: «Почему ты опаздываешь? Зачем ты вступила в спор с этим молодым человеком?» Оказалось, она опоздала из-за того, что по дороге в автобусе встретила иеговиста и поспорила с ним. Так отец Гавриил обличил ее в том, что свое время, свои духовные и физические силы она напрасно отдала этому юноше, который все равно ничего не понял и только хотел ее переспорить. А она из-за этого не только опоздала на службу, но и влетела во двор храма впопыхах, без надлежащего духовного настроения.
Зураб Варази: Однажды я спросил отца Гавриила:
– Отче, вот Вы произносите молитву за правительство. А если я, допустим, не люблю президента, моя молитва ведь неискренняя получается?!
Он улыбнулся:
– Кто самый маленький и самый любимый у вас дома?
Я ответил:
– Мой сын Николай.
– Ты за своего Николая молишься?
– Да.
– А кроме Николая, кто есть еще любимый у вас дома?
– Родители.
– За них тоже молишься?
– Да.
– Вокруг вас живут, наверное, соседи? И за них просим Бога?
– Да.
– А в городе есть люди, добрые и недобрые? Мы должны же просить, чтобы недобрые стали добрыми?!
– Да, – отвечаю.
– Ну как тебе не стыдно?! За всю страну молишься, и за одного президента помолиться не хочешь?! Всегда искренней будет такая молитва: «Пусть Бог наполнит его сердце добром, а голову мудростью». Так молитесь, и будет мудрым и добрым ваш президент. Ведь вы всегда хотите, чтобы вашим правителем была царица Тамара, а вашим священником – святитель Николай. Нет, какие мы птички, такая у нас клетка! Искренне молитесь Богу, и Он подаст вам все самое хорошее!
Монахиня Анастасия: Он всегда говорил, что самое главное – человек, надо просто любить человека. Неважно, мусульманин он или католик. Отец Гавриил любил каждого. Как-то священник, который навещал заключенных, спросил его, можно ли причастить такого-то. И отец Гавриил ответил: «Причащать надо всех. Те, кто в тюрьме, они страдают. Причащать или не причащать – не тебе судить! Это не твоя Плоть и Кровь. Ты не имеешь права дать Ее или не дать. Люди сами открывают свое сердце Богу и сами ответственны перед Ним и перед своей совестью, когда решают принять Христа». Он не любил фальшь. Он не любил слов ради слов и очень ценил в людях искренность.
Митрополит Серафим: Когда он чувствовал, что идет очень гордый человек, желая смирить его, мог закричать: «Стань на колени!» Как-то в 1992 году мы стояли во дворе Светицховели[152]: старец, две бабушки, одна – грузинка, другая – русская, и я. И вот одна из бабушек начала хвалить отца Гавриила, да так приторно, что я, молодой иеродиакон, повернулся к ней и, желая прекратить эту сахарную похвальбу, сказал: «Отец Гавриил, что она говорит? Разве она не знает, что ты самый грешный человек на земле?!» Бабушка от удивления разинула рот и ждет, что сейчас отец Гавриил меня стукнет посохом по голове. Но он посмотрел на меня, улыбнулся: «Смотри, какой язык!» И этим смирил и меня, и бабушку, и тем более, прежде всего, – себя самого.
Монахиня Анастасия: Как-то в Самтавро[153]в Страстную Пятницу вынесли Плащаницу и читали молитвы. Зашел отец Гавриил и закричал: «Как вы плачете по Господу? Разве это плач? Это не плач!» И, упав на колени, зарыдал перед Плащаницей, словно перед ним лежал Сам Христос. Его плач произвел на всех колоссальное впечатление! Но он не был театральным – стенала и вопияла душа отца Гавриила.
Иногда батюшка прямо во время службы, если ему что-то не нравилось, мог начать кувыркаться на полу. Как это: 70-летний старец кувыркается на каменном полу церкви! Представляете, что думали люди?!
Митрополит Серафим: Мои друзья рассказали мне, как однажды, на следующий день после такого «кувыркания», они стояли у входа в монастырь и обсуждали и даже осуждали отца Гавриила за это. Вдруг останавливается машина, из нее выходит отец Гавриил (он откуда-то возвращался в монастырь). «Мы замолчали. Отец Гавриил подошел не спеша, наклонил голову и говорит: „Что, меня осуждаете?" Мы сразу поняли, что отец Гавриил знает все наши мысли и слова».
«Главное, сынок, любовь»
Митрополит Серафим: Однажды мы с батюшкой стояли рядом и разговаривали. К нам подошел юноша, который был наслышан об отце Гаврииле и искал его. Догадавшись, что отец Гавриил – не я, он посмотрел на старца: «Отец Гавриил, это ты?» Тот ответил: «Да, я». – «Я пришел к тебе, потому что я очень грешный. Я хочу тебе сказать…» Отец Гавриил не дал ему закончить: «Я знаю, что ты сделал и прощаю тебя, но пойди к священнику, исповедуйся, причастись, и то, что ты сделал, не повторяй больше» (отец Гавриил через откровение узнал о его грехе). Юноша упал на колени, поцеловал старца и встал. «Запомни, сынок, самое главное – любовь», – добавил батюшка. Юноша ушел. А ровно через секунду батюшка распевал свои песенки. Вот важная отличительная черта истинного юродства: ложный юродивый ведет людей к себе, а истинный – к Богу. Поэтому отец Гавриил, будучи в то время еще не рукоположен, и послал юношу к священнику: по церковному канону путь каждого человека лежит, может быть, и через грешного, но священника, который совершает при содействии Святого Духа Таинство Исповеди, принимает твое покаяние и причащает Святых Христовых Таин.
Помню, в 1993 году пришел к старцу молодой украинский батюшка. Старец принял его в своей маленькой башне. Что там было, какие песни отец Гавриил ему пел, не знаю, долго отец Р. не выходил, но, в конце концов, когда наш грузинский священник зашел туда, он увидел картину: сидит отец Гавриил, перед ним на коленях, снявши с себя священнический крест, плачет отец Р.: «Недостоин я священства!» Так подействовало на него общение со старцем Гавриилом, что он почувствовал свое недостоинство быть священнослужителем и глубоко каялся.
Зураб Варази: Я всегда думал, что отец Гавриил имел духовное образование – такой мудрец он был! На самом же деле он не окончил и пяти классов – откуда он все знал?! Однажды он беседовал с нами, и мы даже немного веселились. Вдруг он замер, воздел в молитве руки перед иконой Спасителя, его лик преобразился. Мне показалось, что он не здесь. Я спросил матушку: «Что с ним?» – «Тихо, молчи!» – предупредила она. Старец неподвижно стоял минут пятнадцать, глядя на икону, потом сложил крестообразно руки и произнес: «Господь грядет! Весь космос дрожит перед Ним! Материальная жизнь кончается! Люди думают, что все эти „трали-вали, тайрам-байрам“ так и будут длиться бесконечно. Нет, скоро все закончится! И вы этому окажетесь свидетелями!» Мы испугались: «Что такое увидел старец?» А он продолжил: «Главное – исполнять Божии заповеди. Любите друг друга, любите ближнего! А я вашу любовь донесу до Бога».
Митрополит Серафим: Я, грешный, удостоился того, что он подарил мне свою мантию на постриг. И меня, молодого послушника, в 1992 году постригали в его мантии. Почему? Мы искали мантию, а мантий нигде не было. Время такое тогда было – гражданская война, экономические неурядицы… Матушки из Самтавро отыскали для меня все, кроме мантии, и я уже собирался уходить. Рядом стоял отец Гавриил. «Одну минуту», – сказал он. Зашел в свою келью и вернулся с новой мантией. У него их было две – старая, в которой он катался по полу, и другая, новая, «гробовая». У нас на почетном месте она в соборе в Боржоми сейчас выставлена, люди к ней подходят и с благоговением молятся старцу Гавриилу.
Митрополит Боржомский и Бакурианский Серафим (Джоджуа)
Он очень любил нашего Патриарха Илию[154]. Помню – я тогда еще был мирянином, – мы в Сиони[155] стояли и ждали Патриарха. Раздался колокольный звон, заходит отец Гавриил и своим зычным голосом, воздев руки, возглашает: «Идет Католикос». Потом еще сильнее: «Идет Католикос!» Это так на всех подействовало, что многие опустились на колени. В ту минуту он дал нам почувствовать, что мы без должного чувства ожидаем Патриарха. Не так должно ожидать Первосвятителя, а со страхом, трепетом и любовью.
Зураб Варази: Однажды утром у меня поднялось высокое давление и болело сердце. Когда боль прошла, я поехал к батюшке. Он посмотрел на меня и говорит: «Все вы, люди, боитесь смерти! Смерть – это ничего, это только мгновение, переход в новую жизнь. Человек даже не успеет закрыть глаза, как откроются очи духовные – он увидит свое тело и подумает: и зачем в него влезать обратно? Так хорошо без этого тела!» Я ответил: «Батюшка, столько видел я смертей в своей жизни, что у меня вообще пропал страх смерти». Он улыбнулся мне и говорит: «А ты знаешь, что одной ногой ты уже там?» Я вздрогнул: «Разве Вы что-то заметили?» – «Вот видишь, ты уже испугался! – улыбнулся он. И продолжил: – Человек, сотворивший добро, делает шаг навстречу Богу, а тот, кто поступает недобро, отступает вниз. Всю жизнь мы поднимаемся и спускаемся. Живите так, чтобы подниматься и подниматься ближе к Богу».
«Странный я, странный»
Зураб Варази: За несколько дней до кончины отца Гавриила я принял решение взять у него кровь для анализов. Когда я попросил его об этом, батюшка ответил: «Зачем тебе кровь?» Я объяснил, что необходимо проверить гемоглобин, функцию печени и т. д. «Не нужно! Меня эти ваши „гемоглобины" не интересуют!» Я погладил его по руке и сказал: «Отец Гавриил, если что-нибудь с вами случится, Бог меня накажет. Давайте так сделаем, чтобы Бог меня не наказал». – «Ой, чтобы Бог тебя не наказал, бери, пожалуйста, сколько ты хочешь!» Я взял кровь, не подозревая, что это станет началом чуда.
В обыкновенную пробирку мы поместили 10 мл крови. Мой коллега сел в машину и отправился в Тбилиси. В пути пробирка упала, пробка откупорилась, и кровь вытекла, осталось всего 2 мл. В лаборатории меня успокоили, что этого вполне достаточно, и сделали анализ.
На другой день у отца Гавриила произошло защемление паховой грыжи, я ее вправил, но защемление повторилось. Мы упрашивали батюшку сделать операцию, но он отказывался: «С двенадцати лет я иду за Тобой, Господи, я устал! Забери мою душу грешную, больше я не могу!» – «Батюшка! Мы все принесем сюда, в келью, и я прямо здесь сделаю вам операцию». – «Нет! Спасибо тебе за все, я монах, нечего мне больше здесь делать». Я удалился с тяжелыми мыслями: ведь когда прекращаешь жизнь человека путем эвтаназии[156], это страшный грех, а когда ты человеку не помогаешь, это та же эвтаназия. В тревоге я приехал к Святейшему Патриарху Илие. Он меня подробно обо всем расспросил и благословил: «Он сам сказал „я устал, Господи". Так что вам за все большое спасибо, не переживайте, вы свое дело сделали. Монахам насильно ничего нельзя делать. На все воля Божия».
Вскоре меня вызывают: «Отец Гавриил в тяжелом состоянии». Когда я приехал, он лежал и смотрел на икону святителя Николая Чудотворца, не сводя с нее глаз и не моргая. Я спросил: «Вас что-то беспокоит?» Батюшка глазами показал, мол, не мешай. Вечером, около половины десятого, прибыл владыка Даниил (Датуашвили)[157]и прочитал молитву на исход души. Как только молитва окончилась, отец Гавриил улыбнулся, по его телу пошла дрожь, и сердце остановилось. Он ушел.
Спустя несколько лет мне звонит коллега: «У нас был ремонт, и я в столе нашел пробирку с кровью, которую мы взяли у отца Гавриила четыре года тому назад. Знаешь, эта кровь – как свежая!» Я говорю: «Срочно ко мне, давай посмотрим». Действительно, кровь выглядела свежей: не свернулась, не высохла, не разложилась. Я достал шприцом одну каплю, сделал мазок и отнес в лабораторию. Анализ показал: лейкоцитарная формула крови в норме! Когда мы сказали, что кровь четырехлетней давности, нам не поверили! Мы тоже не понимали, с чем мы столкнулись. Отнесли пробирку заведующей кафедрой патологической анатомией, она в недоумении развела руками: «Не знаю, в жизни такого не видала, о таком не читала. Сдайте мазок в Институт переливания крови, анонимно, пусть там посмотрят». Но и оттуда нам пришло то же заключение: «Все в норме, немного уменьшены размеры кровяных телец».
Я поехал к Святейшему: «Ваше Святейшество! Мы взяли кровь у отца Гавриила четыре года тому назад, а она до сих пор имеет такой состав, словно ее взяли вчера. Это чудо?» Наш Святейший никогда не спешит: «Давайте повременим с выводами, – сказал он, – Бог даст знать, что это такое. Кровь не выбрасывайте, предайте ее земле там, где покоится человек». Так мы закопали эту пробирку в могилу старца в монастыре Самтавро.
Митрополит Серафим: Слава Богу, что мы, те, кто был знаком с отцом Гавриилом, дождались радостной минуты его канонизации. Осуществилось пророчество, которое он сам произносил в шутливой форме: «Вы увидите, придет время, и на открытие могилы Гавриила соберется половина Грузии…» – и начинал петь. Действительно, люди не просто ждали, они требовали причисления старца к лику святых. Многие просто останавливали нас на улице или писали письма с просьбой как можно скорее канонизировать отца Гавриила. В Грузии не было семьи, где бы не хранилась фотография отца Гавриила. И я думаю, что та любовь, которую он оставил в нашем народе, – это основной итог его жизни.
Перед канонизацией старца Гавриила на заседании Синода в 2012 году высказывались сомнения, говорилось о ее преждевременности, так как со дня кончины батюшки прошло лишь 17 лет. Эта ситуация напоминала сложности с подготовкой к официальной канонизации преподобного Серафима Саровского в 1903 году. И как тогда царь Николай II, так сейчас Его Святейшество Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поставил точку в обсуждении этого вопроса.
Когда после заседания Синода, на котором совершилась канонизация, мы пришли на могилу старца Гавриила, мгновенно собралось множество людей. И я пошутил (отец Гавриил простил бы меня за это): «Какой он был странный при жизни, так странно и его прославление», – потому что было принято решение открыть могилу, а в Грузии ведь могилы не открывают, мощи святых хранятся под спудом. Поэтому я так сказал. Он и сам любил шутить: «Странный я, странный»[158].
После кончины старца просто хлынул поток чудотворений. Нас часто спрашивали, от Бога эти чудеса или нет, и мы отвечали (а сейчас отвечаем тем более уверенно), что такое изобилие чудес – это от Бога. Чудеса не от Бога – они временные: после испытания временем ложные «чудеса» оказываются пустым звуком. А на могиле отца Гавриила вот уже 17 лет не перестают происходить исцеления детей и взрослых. Еще очень важно то, что исцелить может и гуру, но истинное исцеление всегда ведет к Богу: происходит духовное исцеление через покаяние за грехи и вступление на верный, смиренный путь навстречу Христу. Именно такое исцеление давал и дает людям старец Гавриил.
Конечно, его присутствие несомненно и в моей жизни. И когда я проезжаю мимо Мцхеты, то всегда вспоминаю, что там лежит наш отец Гавриил. Это значит, что он жив. А особенно вспоминаю, когда плохо становится, когда беда придет…
Зураб Варази: Я каждую минуту чувствую, что он мне близок. Когда у меня случается беда, я сразу его призываю. Вплоть до мелочей: однажды у меня сломалась машина, мотор заглох в каком-то безлюдном месте, я был в отчаянии и не знал, как доберусь до дома. Смотрю: на сидении календарь с портретом старца, и батюшка улыбается мне. Я взмолился: «Отец Гавриил, помоги!» Вдруг откуда не возьмись «мерседес», из него выходит человек. «Я вам помогу», – говорит, и на буксире довез меня до дома. Так ведь само собой не бывает, чтобы водитель «мерседеса» остановился, залез под чужой «запорожец», да еще и домой доставил!
Митрополит Серафим: Отец Гавриил был посланником Бога иверскому народу и Иверии. Теперь, когда Церковь свободна, проповедь через юродство уже не нужна. Но в те времена его личность и его поступки были своевременны.
Житие отца Гавриила переведено на русский и на английский языки, готовится греческое издание. Я надеюсь, что Господь молитвами отца Гавриила исполнит и ваши чаяния, исцелит скорби, недомогания, болезни. Батюшка любил русский народ. И я думаю, что его молитвами Господь откроет дорогу, и многие паломники из России посетят Грузию, помолятся у грузинских святынь, придут на могилку к старцу Гавриилу. Я желаю всем нам единения двух братских народов – русского и грузинского. Так желал наш любимый, маленький и уже великий отец Гавриил.
В пустыне человеческих сердец
О монахине Марии (Скобцовой)
На фото: монахиня Мария (Скобцова)
Путь к Богу лежит через любовь к человеку, и другого пути нет.
Гестаповец Гофман кричал маме монахини Марии, Софии Пиленко: «Вы дурно воспитали свою дочь, она только жидам помогает!» На это та ответила: «Это неправда, моя дочь настоящая христианка, и для нее нет „ни эллина, ни иудея“, но есть человек. Если бы вам грозила беда, она и вам помогла бы». Мать Мария улыбнулась и сказала: «Пожалуй, помогла бы».
Рассказчик:
Елена Борисовна Делоне (род. 1941) – москвичка, сотрудник различных научно-исследовательских институтов Российской академии наук. В 1987 году по благословению иеромонаха Павла (Троицкого) перешла работать в Церковь, была членом церковно-приходского собрания и казначеем храма Святителя Николая в Кузнецкой слободе, секретарем Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
31 марта 1945 года в Равенсбрюке была сожжена «узница № 19263», Елизавета Скобцова – мать Мария. Русская дворянка, она училась на Бестужевских курсах, участвовала в собраниях на «Башне» у Вячеслава Иванова, дружила с Александром Блоком, писала стихи. Довольно скоро на смену благополучной жизни пришел опыт страданий: горечь революционной лихорадки в России, ужас нацистского режима во Франции. Она похоронила троих детей, окончила свои дни в концлагере. И в этих страданиях осталась верна себе и своей вере.
О матери Марии рассказывает ее двоюродная племянница Елена Борисовна Делоне.
В нашей семье есть святая
Моя мама и мать Мария[159] – двоюродные сестры. Мать Мария, в девичестве Елизавета Пиленко, была дочерью Юрия Дмитриевича Пиленко и Софии Борисовны, урожденной Делоне, родной сестры моего дедушки Николая Борисовича Делоне. Пожалуй, впервые я услышала о матери Марии в начале 1960-х. Кажется, в «Комсомольской правде» появилась маленькая заметка о Елизавете Пиленко – монахине и героине движения Сопротивления. Маме позвонил ее старший брат, известный математик, член-корреспондент Академии наук СССР, Борис Николаевич Делоне, и рассказал об этой заметке, утверждая, что Елизавета – святая. С этого он начал разговор: «Ты знаешь, что в нашей семье есть святая?» Это известие заинтересовало меня, и мама рассказала мне все, что знала о Лизе Пиленко, хотя мама никогда с ней не встречалась, возможно, из-за большой разницы в возрасте: Лиза была старше нее на 15 лет. Кроме того, мамино семейство с 1906 года жило в Киеве, где и встретило революцию и Гражданскую войну. А Пиленки жили в Петербурге. Знал Лизу Борис Николаевич. С детства они виделись в родовом поместье Пиленок «Джемете» близ Анапы (сейчас это известный курорт), а потом, в студенческие годы, – в разных компаниях в Петербурге. Дядя, как и Лиза, любил поспорить на разные философские и политические темы, хотя сам не принимал участия в каких-либо партиях или кружках. Мама с его слов рассказала мне о горячем нраве Лизы, о ее бесстрашной, мятущейся натуре, о поэтическом даре и близости к кругам декадентов, о том, что она принимала участие в вечерах на «Башне» Вячеслава Иванова, была дружна с Александром Блоком, рано вышла замуж за Дмитрия Кузьмина-Караваева[160]. Брак был недолгим, в 1913 году они развелись.
Мы стали узнавать о ней постепенно – из рассказов знакомых, из небольших публикаций. В 1976 году мне, как родственнице матери Марии, подарили редчайшую в Советском Союзе книгу «Мать Мария: стихотворения, поэмы, мистерии, воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк», изданную в Париже в 1947 году трудами ее второго мужа Даниила Скобцова и ставшую для нас откровением. В 1982 году вышел на экраны фильм «Мать Мария», главную роль в нем блестяще сыграла Людмила Касаткина. Так перед нашей семьей все ярче вырисовывался образ необыкновенного человека: поэтессы, художницы, философа. Мать Мария всегда находилась в вихре общественных и политических событий – то она член партии эсеров, выполняющий рискованные поручения, то городской голова в родной Анапе, то агитатор-миссионер и активист Сопротивления во Франции. И всюду ее первое стремление – помочь страждущим.
Ее отличала кипучая энергия и неиссякаемый творческий азарт во всех занятиях, будь то высокохудожественное шитье или поэзия и философско-публицистические статьи на актуальные темы. И все это – на фоне полнейшей отдачи себя несчастным, брошенным и сбившимся с пути людям. Поражала совершенная ее небрезгливость к любой «черной» работе, умение быть всегда и во всем на передовой, ее духовная стойкость и необыкновенная физическая выносливость, всеобъемлющая любовь к человечеству. Ей хотелось обнять, укрыть, накормить, утешить всех.
Она была готова отдать людям всю себя без остатка. Чувство сострадания к ближнему и жертвенность были ей присущи с рождения. В формировании ее личности сыграли большую роль и семейные традиции, и необыкновенная дружба с обер-прокурором Священного Синода Константином Петровичем Победоносцевым[161]. Ей было лет пять, когда он впервые увидел ее у своей крестной Елизаветы Александровны Яфимович («бабушки» – как называла ее Лиза), которая жила в квартире напротив и с которой у него была старинная дружба. Победоносцев очень любил детей и умел, как редко кто из взрослых, понимать их. «Я помню, – говорит мать Мария, – что в минуты всяческих детских неприятностей и огорчений я садилась писать Константину Петровичу, и мои письма к нему были самым искренним изложением моей детской философии…
Помню, как взрослые удивлялись: зачем нужна Победоносцеву эта переписка с маленькой девочкой? У меня на это был точный ответ: потому что мы друзья». В одном из писем Победоносцев писал: «Слыхал я, что ты хорошо учишься, но, друг мой, не это главное, а главное – сохранить душу высокую и чистую, способную понять все прекрасное». Однажды, когда Лизе было 15 лет, она пришла к нему с одним-единственным вопросом: «Что есть истина?» Я думаю, мало кто в ее возрасте мог столь серьезно задать этот лаконичный и глубочайший вопрос. И вот что на него ответил этот умудренный жизненным опытом, уже немолодой человек: «Милый мой друг Лизанька! Истина в любви, конечно. Но многие думают, что истина – в любви к дальнему. Любовь к дальнему – не любовь. Если бы каждый любил своего ближнего, настоящего ближнего, находящегося действительно около него, то любовь к дальнему не была бы нужна. Так и в делах: дальние и большие дела – не дела вовсе. А настоящие дела – ближние, малые, незаметные. Подвиг всегда незаметен. Подвиг не в позе, а в самопожертвовании, в скромности». Лиза запомнила эти слова на всю жизнь и несла их в сердце до своей крестной кончины. Эти слова были для нее как знамя, с которым она бросалась в бой с обыденщиной. Эти слова были для нее как доспехи, которые защищали ее, когда она спасала несчастных русских беженцев от отчаяния, еврейских детей от преследования фашистами, измученных узниц немецкого концлагеря от зверств мучителей.
Русские беженцы во Франции
Когда разразилась революция, Лиза примкнула к партии социал-революционеров, соединившей идеи западной демократии с русским народничеством, с его жаждой правды. В 1918 году в разгар Гражданской войны Лиза живет со своей матерью и дочерью Г аяной в Анапе, принимает активное участие в выборах в Городскую думу и становится членом муниципального совета, отвечающего за образование и медицину, а вскоре, волей обстоятельств, и городским головой. Ей приходится искать выход из самых невероятных ситуаций, которые порождает Гражданская война, с ее трудностями и постоянной сменой власти. Так, при красных Лиза бесстрашно противостояла матросам-красноармейцам, спасая городские культурные ценности. Когда же город захватили белогвардейцы, ее обвинили в сотрудничестве с местными Советами, дело было передано в военный трибунал, но, к счастью, обошлось двумя неделями домашнего ареста. На благополучный исход процесса во многом повлиял Даниил Ермолаевич Скобцов[162]. Вскоре после суда Елизавета Юрьевна стала его женой. О событиях тех дней мать Мария подробно рассказала в статье «Как я была городским головой», впервые опубликованной в Праге в 1925 году в еженедельной газете «Воля России».
Красная армия занимает юг России, и Белое движение приходит к концу. Даниил Скобцов решает, что они должны эвакуироваться. Елизавета, которая ждала второго ребенка, ее мать Софья Борисовна Пиленко и дочка Гаяна отправляются из Новороссийска в Грузию, и уже в Тифлисе в феврале 1921 года на свет появляется сын Юрий. Продолжая путь беженцев, они переезжают в Константинополь, где к ним примыкает Скобцов, эвакуировавшийся с остатками казачьего войска. Вскоре семье удалось переехать в Сербию, где в 1922 году родилась дочь Анастасия. В 1923 году, вслед за многочисленными русскими беженцами, они перебрались в Париж, который быстро становится настоящим центром русской эмиграции. Как и многие другие русские люди, во Франции Скобцовы столкнулись с крайней нуждой. Для того чтобы выжить, надо было действовать. На руках у Елизаветы Юрьевны было трое детей, престарелая мать и муж, которому не всегда удавалось найти работу. В русской газете «Последние новости», выходившей в Париже, она дает объявление: «Чищу, мою, дезинфицирую стены, тюфяки, полы, вывожу тараканов и других паразитов». Она не гнушалась никакой работой и, обладая недюжинным здоровьем, могла сутками не спать, а если и спала, то всего пару часов.
В то время оторванные от Родины и выброшенные на чужбину русские люди поняли, что без помощи Божией им не выжить. Многие, даже отошедшие от Бога, обрели веру. В Париже один за другим открывались храмы, часто устроенные в старых гаражах или городских квартирах. Появлялись приходы, которые сплачивали людей. В 1923 году прошел учредительный съезд Русского студенческого христианского движения (РСХД)[163], собравший активную верующую молодежь. Тогда же были организованы детские летние лагеря, приходские школы. Устраивались съезды и семинары, на которых выступали отец Сергий Булгаков, Василий Васильевич Зеньковский, Антон Владимирович Карташев, Лев Александрович Зандер. Елизавета Скобцова погружается с головой в деятельность РСХД. Она выступает перед молодежью с яркими рассказами о недавно пережитых в России грандиозных событиях, и благодаря своему юмору и дару общения быстро находит всеобщее признание: после ее лекций люди спешат поговорить с ней наедине, излить ей душу.
В 1926 году произошла трагедия – от менингита на руках у Елизаветы Юрьевны умирает ее младшая дочь Настя, которой было четыре годика. С разрывающимся сердцем мать приняла испытание. «Это называется, – записала она, – „посетил Господь". Чем? Горем? Больше чем горем, вдруг открыл истинную сущность вещей…» После этого события будущая мать Мария, которая в эмиграции оставила поэтическое творчество, снова взялась за перо, именно тогда она сочинила свои знаменитые мистерии «Анна» и «Семь чаш». В эмиграции она вернулась и к философско-религиозному творчеству, опубликовала работы о Хомякове, Достоевском, художественную и автобиографическую прозу, сборник литературно обработанных житий святых «Жатва духа».
В 1930 году Елизавета – уже разъездной секретарь РСХД. Она посещает самые отдаленные уголки Франции, где на шахтах, заводах и в портах трудились русские люди. Она видела тех, кто все ниже опускался на дно жизни. Молодые женщины выходили на панель, старики в одиночку, впроголодь, не имея крыши над головой, доживали свои дни.
Вверху: Лиза Пиленко, 1903 г.
Слева: Елизавета Кузьмина-Караваева, начало 1910-х гг.
Внизу: Елизавета Скобцова с детьми в Сербии
«В сентябре 1930 года я попала на Общий съезд РСХД, который проходил недалеко от Парижа, в местечке Монфор, – вспоминала Тамара Милютина[164], активный член РСХД в Эстонии. – Мне было 19 лет… Я видела мать Марию впервые и была совершенно поражена и пленена. Внешне она была, наверное, даже не привлекательная: очень беспорядочная, совершенно не обращающая внимания на свою одежду, очень близорукая. Но эти близорукие глаза так умно поблескивали за стеклами очков, румяное лицо улыбалось, а речи были до того напористы, такая убежденность была в ее высказываниях, так страстно она была одержима какой-нибудь идеей или планом, что невозможно было не верить в ее правоту, в абсолютную необходимость того, что сейчас так горело, так жгло ее душу. Я никогда не слышала, чтобы она о чем-нибудь говорила равнодушно».
В пустыне человеческих сердец
Путь к монашеству матери Марии был непростым. В 1913 году, когда ей было 23 года, по благословению митрополита Петербургского она, первая женщина в России, прослушала курс богословия в Петербургской духовной академии и успешно сдала экзамены. А в 1926 году, уже в Париже, записалась слушательницей на богословские курсы Свято-Сергиевского института[165]. Многие из ее преподавателей, выдающиеся мыслители – Николай Александрович Бердяев, Георгий Петрович Федотов, Константин Васильевич Мочульский, – впоследствии сделались ее близкими друзьями. А отец Сергий Булгаков[166] стал ее духовником.
В эмиграции она все отчетливее понимала, что ее призвание – в том, чтобы выслушивать и утешать, оказывать практическую помощь людям во имя Христа! Сколько раз она повторяла евангельские слова: Придите ко Мне все страждущие и обремененные, и Я успокою вас (Мф. 11: 28). Принятие ею монашества после всего пережитого и передуманного мне кажется вполне естественным завершением духовных поисков: быть каждую минуту с Богом и постоянно служить страждущим и обремененным.
После смерти дочери отношения с мужем, Даниилом Скобцовым, стали натянутыми, он не разделял кипучего желания Лизы всем помогать и дал разрешение на церковный развод, что канонически позволило Елизавете принять монашество. При этом до конца дней между ними сохранились дружеские отношения, Даниил Скобцов помогал матери Марии, не оставлял заботой и своего сына Юрия. Решение о принятии монашества поддержали ее духовник отец Сергий Булгаков и митрополит Евлогий[167], который благословил Елизавету на служение в миру (предполагалось, что она примет на себя духовные обеты, а внешне мало что в ее жизни переменится)[168]: «Нарекаю тебя в честь Марии Египетской. Как та ушла в пустыню к диким зверям, так и тебя посылаю в мир к людям, часто злым и грубым, в пустыню человеческих сердец».
Свято-Сергиевское подворье в Париже, современный вид
«О Имени Твоем я все могу»
Летом 1932 года, после пострига, мать Мария посещает православные женские монастыри в независимой в то время Прибалтике. Они представляются ей теплым и уютным убежищем, «защищенным высокими стенами, куда не проникают грязь и скорбь мира». Сама она мечтает о монашестве ином – не в пустыне и не за высокими монастырскими стенами: «Все больше убеждаюсь в том, что мне дано жить не во дворце Хозяина, а где-то подальше, на хуторах… Когда я постриглась, я думала, конечно, о своей духовной жизни, но вот с тех пор, как я стала монахиней, я поняла: Бог сделал меня орудием, чтобы с моей помощью расцветали другие души. На Страшном Суде меня не спросят, успешно ли я занималась аскетическими упражнениями и сколько я положила земных и поясных поклонов, а спросят: накормила ли я голодного, одела ли нагого, посетила ли больного и заключенного в тюрьме. И только это и спросят. О каждом нищем, голодном, заключенном Спаситель говорит „Я": „Я алкал и жаждал, Я был болен и в темнице"[169]. Подумайте только: между каждым несчастным и Собой Он ставит знак равенства. Я всегда это знала, но вот теперь это как-то меня пронзило. Это страшно».
Ее постриг вызвал бурю противоречивых суждений в эмигрантских кругах. Бердяев[170], близкий друг матери Марии, сетовал на то, что облачение (которое она, несмотря на свое «монашество в миру», носила постоянно) будет мешать ей в делах и творчестве. Некоторые «парижские» русские считали, что расхаживать по городу в подряснике, в грубых мужских башмаках – это не comme il faut, неприлично. Ей припоминали и то, что она не раз была замужем, и то, что у нее дети, и то, что она курит. Мать Мария была непонятна и самим монашествующим, обращаясь к которым, писала: «Пустите за ваши стены беспризорных воришек, разбейте ваш прекрасный уставной уклад вихрями внешней жизни, унизьтесь, опустошитесь, умалитесь, – и как бы вы ни умалялись, как бы ни опустошались – разве это может сравниться с умалением, с самоуничижением Христа. Примите обет нестяжания во всей его опустошающей суровости, сожгите всякий уют, даже монастырский, сожгите ваше сердце так, чтобы оно отказалось от уюта. Тогда скажите: „Готово мое сердце, готово"».
За такие слова, за такую жизнь многие ее не принимали. Да и сейчас не принимают, находя для успокоения своей совести изъяны в ее биографии.
Начало 1930-х годов ознаменовалось во Франции суровым экономическим кризисом, безработица среди русских эмигрантов приняла размеры настоящего бедствия. В 1935 году, при активной поддержке друзей-единомышленни-ков – Константина Мочульского, Федора Пьянова, Ильи Фондаминского, мать Мария основывает объединение «Православное дело». Почетным председателем объединения становится митрополит Евлогий – глава русских православных приходов в Западной Европе. «Православное дело» разворачивает обширную социальную деятельность. Мать Мария решает открыть дом-общежитие, где будет принят всякий нуждающийся. Мочульский[171] тогда писал: «Денег никаких нет, риск огромный, но она не боится». – «Вы думаете, что я бесстрашная? Нет, я просто знаю, что это нужно, и что это будет… С трезвой точки зрения это – безумие, но я знаю, что будет и церковь, и столовая, и большое общежитие, и зал для лекций, и журнал. Со стороны я могу показаться авантюристкой. Пусть! Я не рассуждаю, а повинуюсь». Да, денег на это начинание у нее не было, но беспредельная вера в помощь Божию окрыляла. Был куплен запущенный особняк на улице Лурмель, 77, в котором устроили общежитие и столовую. Мать Мария считала совершенно необходимым, чтобы обитатели общежития ежемесячно вносили незначительную сумму за проживание, а посетители столовой платили за обед хотя бы су, чтобы не чувствовать себя униженными. Со временем появились приходская школа, курсы для псаломщиков, лекторов, миссионеров, журнал «Православное дело».
На Лурмель нашли приют две-три монахини, повар, мастер на все руки, несколько семей, не имеющих средств к существованию, и здесь же – душевнобольные, которых выручила мать Мария из психиатрических лечебниц, безработные, бездомные, женщины легкого поведения, наркоманы (мать Мария пыталась вернуть их к нормальной жизни). Многие из тех, кого она спасла от неминуемой гибели, становились ее преданными помощниками. Но главной опорой всегда были ее близкие: хорошо понимавшая ее мама, Софья Борисовна, и дети – старшая дочь Гаяна и сын Юрий, поступивший в Свято-Сергиевский институт, возведенный в чин чтеца, затем иподиакона.
Слева: вилла де Сакс, 1935 г.
Внизу: столовая на улице Лурмель, в торце сидят С.Б. Пиленко и мать Мария
«Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо»
Мать Мария раздражала многих своей неуемной энергией, своим видом, своими выступлениями. Не всем нравится, когда их пробуждают от сна или безделья, будоражат их тихую, повседневную жизнь. Еще хуже, если им напоминают, что нужно принять участие в помощи страждущим. С другой стороны, есть те, кто сам не способен организовать помощь нуждающимся, но рад поучаствовать в ней. Часто матери Марии помогали неожиданные люди: кто-то инкогнито жертвовал крупные суммы денег, кто-то приходил после трудового дня на улицу Лурмель и помогал по хозяйству, кто-то приносил одежду. А французы-лавочники на ночном рынке «Чрево Парижа», завидев высокую фигуру матери Марии с заплечным мешком и повозкой, подзывали ее и отдавали товар по самой дешевой цене или даром. Там же, вокруг центрального рынка, она выискивала русских бродяг, а найдя, приглашала их «на Лурмель», чтобы попытаться разрешить их трудности. Молва о матери Марии быстро разлетелась среди русских в Париже. Татьяна Манухина, писательница Русского Зарубежья, вспоминает: «Приехал один безработный в Париж, высланный из Бельгии, и не знает, куда ему деваться. Слышит русскую речь на вокзальной площади – русские шоферы. Разговорился с ними, один и говорит: „Делать нечего, придется тебя к матери Марии везти, есть у нас такая, она тебя как-нибудь обдумает"». Она имела дар всеобъемлющей любви и сострадания. Недаром после пострига многие стали звать ее просто «Мать». Мать Мария писала: «У меня отношение ко всем им такое: спеленать и убаюкать – материнское. То, что я даю им – так ничтожно, поговорила, уехала и забыла. Но я поняла, почему не получается полных результатов. Каждый из них требует всей вашей жизни, ни больше ни меньше. Отдать всю свою жизнь какому-нибудь пьянице или калеке, как это трудно! А вот я знаю, что это значит: в какую-то минуту воспылать любовью и внутренне как-то всю себя бросить под ноги другому человеку – и этой минуты достаточно. И тут же немедленно получится, что вы свою жизнь не потеряли, а получили вдвойне».
«Мать все умеет делать, – писал о ней Мочульский, – столярничать, плотничать, малярничать, шить, вышивать, вязать, рисовать, писать иконы, мыть полы, стучать на машинке, стряпать обед, набивать тюфяки, доить коров, полоть огород. Она любит физический труд и презирает белоручек. Еще одна черта: она не признает законов природы, не понимает, что такое холод, по суткам может не есть, не спать, отрицает болезнь и усталость, любит опасность, не знает страха и ненавидит всяческий комфорт – материальный и духовный».
Как-то в день годовщины пострига матери Марии Татьяна Манухина отправилась ее поздравить: «…Стучусь в ворота. Открывает ее мать, ласковая старушка. – „Дома, дома мать Мария, в кухне обед стряпает…" Верно, мать Мария на кухне, у плиты: юбка подогнута, рукава засучены, апостольник, в руке ножик. Радостная, веселая. Я привезла ей белой сирени. Она в ликовании! Именно цветов-то и не хватало для торжественной трапезы. Ведут меня в церковь. Мать Мария показывает сшитую ею фелонь. Край искусно вышит простой веревочкой и красным шелком. „Это чтобы фасон держала, – поясняет старушка, – а вот епитрахиль работы матери Марии" (сплошь вышита гладью). – „Это она вышивала, когда в поездах от Монпарнас в командировку ездила". Я смотрю на мать Марию, и так мне ясно, что она действительно „The right man at the right place"[172]: подлинная, Богом предуготовленная основательница монастыря. В ней есть все, что для этого надо: необычайная работоспособность, физическая выносливость, многообразие способностей, религиозная талантливость и душевное богатство: ум, сердечность, незлобие, большая и стремительная воля, склонность к жертвенности и дар личного обаяния. На восхищение всем она с равным усердием возится с топкой, стряпает, стирает, моет окна, таскает мешки с Halles[173], читает доклады, молится, пишет статьи и руководит религиозным просвещением своих „трудниц“… Митрополит Евлогий сказал мне как-то: „Мать Мария – мое большое утешение". Я со стороны на нее гляжу и тоже утешаюсь. Хоть она-то! Хоть ее-то Бог избрал из всей нашей женской эмигрантской рати!»
Отдыхом для нее было любое творчество. Мать Мария появлялась на съездах РСХД – высокая, статная, добрая, улыбчивая, в очках и всегда с рукоделием в руках. Вокруг нее собирались люди и завороженно наблюдали за удивительными узорами, выходившими из-под ее иглы. Работала она быстро, никогда предварительно не нанося на ткань контура вышивки, и всегда за вышивкой вела задушевную беседу. Она не расставалась с рукоделием и в бесконечных поездках по стране. По сей день в храмах Парижа хранятся вышитые ею иконы и облачения, например, икона «Голубой ангел» и Богородичное облачение с образами на оплечье. В Нуазиле-Гран[174] мать Мария устроила из сарайчика в саду часовню, и все в ней сделала своими руками, вплоть до оконных витражей. А во дворе дома на улице Лурмель она превратила в церковь гараж – расписывать этот храм во имя Покрова Божией Матери помогала Юлия Рейтлингер[175], будущая сестра Иоанна, но большинство облачений, хоругви и иконы мать Мария выполнила сама.
Нет ни эллина, ни иудея, есть человек
В августе 1936 года мать Марию посетило новое горе: она узнала, что в Москве при невыясненных обстоятельствах внезапно умерла ее старшая дочь Гаяна, которая за год до этого вернулась в Советский Союз и вышла замуж за советского студента.
В 1939 году в Европе разразилась Вторая мировая война. Осенью 1940 года в Париже началась немецкая оккупация, настали трудные времена. Мочульский пишет в своих воспоминаниях: «Мать спокойна.
– Я не боюсь страданий и люблю смерть.
– А как будет после смерти?
– Не знаю… просторно. И там мы узнаем маленькую тайну, что ад уже был. Если немцы возьмут Париж, я останусь со своими старухами. Куда мне их девать?.А потом буду пробираться на восток, пешком, с эшелонами. Уверяю вас, что мне более лестно погибнуть в России, чем умереть с голоду в Париже. При первой возможности поеду в Россию, куда-нибудь на Волгу или в Сибирь. В Москве мне нужно пробыть только один день, пойти на кладбище на могилу Гаяны. А потом где-нибудь в Сибири буду странствовать, миссионерствовать среди простых русских людей».
Бердяев отмечал, что свойственное матери Марии бесстрашие особенно ярко проявилось в последний период ее жизни, когда «она стремилась к жертве и страданию». Крестный путь матери Марии неразрывно связан с крестным путем ее сына Юрия и отца Димитрия Клепинина[176], без которых было бы невозможно осуществление миссии на Лурмель. Назначенный священником Покровской церкви в октябре 1939 года, отец Димитрий органично влился в жизнь прихода, стал соратником матери Марии, другом и духовником ее сына. Митрополит Евлогий вспоминал об удивительном, покоившемся на взаимном понимании и доверии контакте, который сразу возник между отцом Дмитрием и матерью Марией и не прерывался до конца их земного пути.
Дом на Лурмель быстро становится известен как убежище. Там скрывают тех, кому угрожает опасность, для них получают поддельные документы и переводят в «свободную зону». Мать Мария тесно связана с Сопротивлением[177], друзья организованного ею «Православного дела» составляют список заключенных русских и евреев и организуют пересылку писем и посылок. Отец Димитрий выдает свидетельства о крещении тем, кто просит. Тем временем ужасы немецкой оккупации продолжаются: в ночь с 4 на 5 июля 1942 года арестованы 13 000 евреев и доставлены на зимний велодром, в двух шагах от Лурмель. Мать Мария проникает туда и проводит там три дня, утешая подругу-еврейку и вместе с добровольцами Красного Креста оказывая помощь больным. В этих невероятных условиях она бесстрашно спасает троих детей, пряча их в ящике для мусора.
В Париже наступает крайний дефицит продуктов, но мать Марию он не застает врасплох. Она не только обеспечивала запасы питания, но и установила контакт с мэрией Пятнадцатого округа, которая взяла под свое покровительство дом на Лурмель и выдавала матери Марии продуктовые карточки и продукты.
Мать Мария ни секунды не сомневается в том, как надо действовать. Она делится с Мочульским: «Нет еврейского вопроса, есть христианский вопрос. Неужели вам непонятно, что борьба идет против христианства?.. Теперь наступило время исповедничества». 8 февраля 1943 года арестовали отца Димитрия Клепинина, Юру Скобцова, еще нескольких человек. Матери Марии, которой в то время не было в Париже, сообщили, что ее сына освободят, если она явится в гестапо. Мать Мария явилась в гестапо, и в результате, никого не освободив, схватили и ее. Как вспоминала Софья Борисовна Пиленко, гестаповец Гофман кричал на нее: «Вы дурно воспитали свою дочь, она только жидам помогает!» На это она ответила: «Это неправда, моя дочь настоящая христианка, и для нее нет „ни эллина, ни иудея", но есть человек. Если бы вам грозила беда, она и вам помогла бы». Мать Мария улыбнулась и сказала: «Пожалуй, помогла бы». Дальше были лагеря Компьень, Равенсбрюк и страшный Югендлагерь.
После длительных допросов вся группа была доставлена в форт Романвиль, затем – в этапный лагерь Компьень, где мать Мария смогла последний раз увидеть сына. Ее соузница И.Н. Вебстер была невольной свидетельницы этой встречи: «Наутро, часов в пять, я вышла из своей конюшни и, проходя коридором, окна которого выходили на восток, вдруг застыла на месте в неописуемом восхищении от того, что увидела. Светало, с востока падал какой-то золотистый свет на окно, в раме которого стояла мать Мария. Вся в черном, монашеском, лицо ее светилось, и выражение на лице такое, какого не опишешь, не все люди даже раз в жизни преображаются так. Снаружи под окном стоял юноша, тонкий, высокий, с золотыми волосами и прекрасным чистым прозрачным лицом. На фоне восходящего солнца и мать, и сын были окружены золотыми лучами… Они тихо говорили. Мир не существовал для них. Наконец она нагнулась, коснулась устами его бледного лба. Ни мать, ни сын не знали, что это их последняя встреча в этом мире. Долго она стояла у окна уже одна и смотрела вдаль, слезы медленно текли по ее щекам. Незабываемая картина скорби и молчаливого страдания, и. надежды». День кончины Юры Скобцова точно неизвестен, по некоторым данным он погиб в концлагере Дора (Бухенвальд) в феврале 1943 года от истощения.
Во дворе на ул. Лурмель с о. Львом Жилле, С.Б. Пиленко (крайняя слева) и неизвестной
Конец огнепальный
Пожалуй, самое трудное – рассказать о последних днях матери Марии. Казалось, она всегда знала, как она умрет. О том свидетельствуют ее стихи:
И еще до войны, в 1938 году она написала:
Сохранились свидетельства тех, кто был рядом до ее последнего шага навстречу Христу. Как всегда, мать Мария старалась всем помочь и несла слово Божие. Вспоминает еще одна ее соузница, племянница Шарля де Голля Женевьева де Голль-Антониоз: «На своем тюфяке она устраивала настоящие кружки, где рассказывала о русской революции, о коммунизме, о своем политическом и социальном опыте и иногда, более глубоко, – о своем религиозном опыте. Мать Мария читала отрывки из Евангелия и Посланий по „Настольной книге христианина", которая уцелела у одной из соузниц во время обыска. Она толковала прочитанное в нескольких словах. Подле нее мы молились и порой пели тихими голосами. Мать Мария часто посещала блок русских девушек, „солдаток", которые принимали ее с любовью. Она с восхищением рассказывала нам об их мужестве. Быть может, в этих юных лицах она находила лицо своей дочери Гаяны…»
«О состоянии духа матери Марии, – писал Даниил Скобцов, – все отзывы лагерных с нею сидельцев, буквально, восторженные. Она не только сама не падала духом, но и других поддерживала. Одна девушка, спасшаяся, по ее уверению, от отчаяния и сохранившая свою жизнь только благодаря самой чуткой и неотступной моральной поддержке матери Марии, рассказывала, как мать Мария умела обратить самое страшное в обстановке лагеря в средство ободрения, в средство проповеди своей заветной думы и своей глубокой веры. Высокие трубы крематория на виду у всех испускали клубы дыма от горевших в печи тел замученных в лагере. Мать Мария говорила окружающим: „Только здесь, над самой трубой, клубы дыма мрачны, а поднявшись ввысь, они превращаются в легкое облако, чтобы затем совсем развеяться в беспредельном пространстве. Так и души наши, оторвавшись от грешной земли, в легком неземном полете уходят в вечность для этой радостной жизни. Через смерть на земле человек рождается для вечной жизни"».
Даже в лагере мать Мария продолжала писать стихи, вышивать и тут же раздаривать или выменивать на хлеб или нитки свои работы. Тайком она на лагерной косынке вышила в стиле средневекового гобелена из Байе[178] высадку союзников в Нормандии. Многие ее товарки принимали посильное участие в создании вышивки: кто-то подарил рабочую косынку (что носили узницы на работах в подземных заводах Рейха), кто-то приносил с риском для жизни кусочки шелковых ниток, которыми обматывали для изоляции провода, кто-то стоял на страже, пока уже полуслепая мать Мария, стоя у окна, вышивала очередной сюжет. А надпись она воспроизвела благодаря своей феноменальной памяти, запомнив текст, написанный одной из соузниц на староанглийском языке. Косынка сохранилась чудом, ее нашли в складках обвисшей от истощения кожи на талии одной из сокамерниц матери Марии, выжившей и попавшей в тяжелом состоянии в больницу после освобождения союзными войсками лагеря Равенсбрюк.
Весной 1945 года, когда она уже совсем изнемогала и с трудом передвигалась из-за отека ног, то начала вышивать необычную икону Богородицы: Божия Матерь держит на руках распятого Младенца Христа. Одна из узниц Югендлагеря вспоминала: «Как ни просили многие у матушки эту иконочку, она никому не хотела ее дать, говоря: „Вернемся в Париж, я ее даром отдам, но не здесь. Если я ее успею закончить, она мне поможет выйти отсюда живой, а не успею – значит, умру“». Она не успела.
По многочисленным свидетельствам соузниц, главным образом Жаклин Пери (которая дожила до дня прославления матери Марии в соборе Александра Невского в Париже), «к началу 1945 года мать Мария достигла крайнего предела своих сил. В промежутках между перекличками она всегда лежала, больше не говоря – или почти не говоря, предаваясь бесконечному созерцанию… На ее лицо было невозможно смотреть без волнения, не из-за искаженных черт – к этому зрелищу мы привыкли – но из-за напряженного выражения потаенного страдания. Она держала глаза закрытыми и как будто находилась в постоянном молитвенном состоянии. Это был, мне кажется, ее Гефсиманский сад». В последние дни мать Мария уже не могла вставать на перекличку. 30 марта в Великую Пятницу мать Марию отобрали в группу тех, кто не мог передвигаться. В списке «газированных» от 31 марта 1945 года значится ее имя.
О ее готовности идти до конца говорят последние слова, по ее просьбе переданные отцу Сергию Булгакову и митрополиту Евлогию: «Мое состояние сейчас – это то, что у меня полная покорность к страданию, и это то, что должно быть со мною, и что если я умру, в этом я вижу благословение свыше».
Современные французы знают ее как участницу Сопротивления и русскую монахиню. После войны появились воспоминания узников концлагерей, в том числе Женевьев де Голль-Антониоз. О матери Марии выходили книги на французском языке. О ней говорили православные, протестантские и католические богословы Европы. В конце 1990-х годов по французскому телевидению прошла серия документальных фильмов, созданных профессором Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Озолиным. В 2003 году была установлена памятная доска, посвященная матери Марии и отцу Димитрию Клепинину, перед входом в здание на Лурмель. Французы гордятся этой необыкновенной монахиней, отдавшей жизнь «за други своя». Недаром уже после ее канонизации Константинопольской Церковью в 2004 году на иконах с образом матери Марии появились надпись «Святая мать Мария Парижская».
Быть для каждого каждым
Мать Мария считала, что «путь к Богу лежит через любовь к человеку, и другого пути нет». В своей работе «Вторая евангельская заповедь» она приводит слова Исаака Сирина, христианского писателя и аскета VII века: «Пусть тебя гонят, ты не гони. Пусть тебя распинают, ты не распинай. Пусть тебя обижают, ты не обижай. Пусть на тебя клевещут, ты не клевещи… Веселись с веселящимися и плачь с плачущими, ибо это признак чистоты. С болезными болезнуй. С грешными проливай слезы. С кающимися радуйся. Будь дружен со всеми людьми, а мыслью своею пребывай один». И дальше говорит: «Мне представляются эти слова воистину огненными». «К плоти брата своего у человека должно быть более внимательное отношение, чем к своей плоти. Мы должны дать ему и нашу последнюю рубашку, и наш последний кусок хлеба. Тут одинаково оправданы и нужны как личное милосердие, так и самая широкая социальная работа. В этом смысле нет сомнения в призвании христианина к социальной работе… Важно лишь, чтобы его общественная работа строилась на любви к ближнему, не имела подспудных личных, карьерных или материальных целей. К каждому из нас предъявляются требования напрячь все свои силы, не бояться никакого самого трудного подвига, аскетически самоограничиваясь, жертвенно и любовно, отдавая душу свою за други своя, идти по стопам Христовым на нам предназначенную Голгофу».
Точнее всего суть личности матери Марии сформулировал митрополит Антоний Сурожский[179]: «Она была среди нас вызовом, камнем преткновения: для одних незыблемым основание, для других – Судом Божиим. Она восприняла и в жизни показала „безумие Креста", безумие Божественной Любви – воплощенности до конца, приобщенности чужому и вместе до умирания возлюбленному миру, Крестной самозабвенной жертвенной Любви Всесвятой Троицы. Многие из нас, которые после многих лет начали прозревать, соблазнялись ее отказом от всякой условности, от всего, что „кажется", а не „есть", брошенным ею вызовом всему, что не есть сущность жизни… Она сумела, следуя по стопам своего Господа и Учителя, любить „напрасно", „безрезультатно": любить людей пропащих, безнадежных, тех, „из кого все равно ничего не выйдет", кого „и могила не исправит", – потому только, что они ей были „свои", русские, обездоленные, погибающие; а позже, во время войны, просто потому, что они были люди, в смертной опасности, в страхе, в гонении, голодные, осиротелые – свои по крови не потому, что они принадлежали той или другой национальности, а потому, что для них Свою Кровь излил Христос, потому что ею овладела до конца Божественная Его Любовь.
Она пошла путем подлинного юродства во Христе: прожила, судя по человеческому разуму, безумно. Но разве не все Евангелие „безумие" в глазах мудрых, опытных по земному людей? Разве вообще любить, то есть совершенно о себе забыть ради Бога и ради ближнего – не сплошное безумие? И разве не так – именно так – нас любит Бог: „до смерти, смерти крестной"? Мать Мария, подобно древнему многострадальному Иову, не поддалась соблазну „приписать безумие Богу". Она прожила в разрывающих душу и плоть противоречиях сострадания и ответственного несения своего христианского имени: любовью Любви ради, в умирании ради Жизни, в отдаче своей жизни ради правды Царствия Божия. Ее образ будет становиться светлей и светлей, ее духовное значение будет для нас все возрастать по мере того, как и мы начнем понимать последний смысл Любви воплощенной и распятой».
Использованные источники и интернет-ресурсы
Алдошина Н.А. Благословенный труд. М., 2001.С.52–53, 71–73, 53–54.
Выступление митрополита Афанасия Лимассольского на конференции, посвященной старцу Паисию Святогорцу (Коница, сентябрь 2011 г.): ’Epneipfe<; тои МцтролоМтц ца<; ало xov цакарюто Героута Пагаю // Парак^цац. Лецеао^, 2012. Теих. 66 (а. 6–8), теих– 67 (а. 1–3), теих– 68 (а. 1–3).
Кузьмина-Караваева Е. Жатва Духа. СПб, 2004.
Кузьмина-Караваева Е. Равнина русская. СПб., 2001.
Мать Мария (Скобцова), 1891–1945. Материалы для канонизации / Сост. Е.Д. Аржаковская-Клепинина и Т. Викторова (рукопись).
Старец протоирей Тихон Пелих. Жизнеописание. Проповеди. Дневники / Автор-сост. Е. Т. Кречетова (Пелих). Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2009. С. 91–92, 303–304, 312, 314, 328, 336–337.
Сайт Гефсиманского монастыря в Иерусалиме – http://www.russgefsimania.com.
Сайт храма святителя Николая Чудотворца в Кленниках – http://www.klenniki.ru.
Об авторе
Александра Никифорова – филолог, переводчик, журналист.
Родилась в Ленинграде в 1976 году. Выпускница кафедры классической филологии МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат филологических наук. Работает в Институте мировой литературы РАН и Боннском университете, исследует византийскую поэзию. Автор монографии «Из истории Минеи в Византии. Гимнографические памятники VIII–XII вв. из собрания монастыря святой Екатерины на Синае». Выступала на международных конференциях в Москве, Санкт-Петербурге, Риме, Флоренции, Бари, Лондоне, Белграде, Будапеште; работала с греческими средневековыми рукописями на Синае, в Гроттаферрате, Вене, Софии, Фессалониках, Афинах. В разные годы преподавала в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. С 2000 года занимается журналистикой: автор передач о вере и культуре в России и за рубежом на радио «Благовещение», журналист интернет-порталов «Православие. ги», «Православие и мир», «Татьянин день», различных периодических изданий. Член Ассоциации искусствоведов. Член Международного общества восточной литургики (Societas Orientalium Liturgiarum). Лауреат премии имени митрополита Макария (Булгакова). Стипендиат Фонда Александра Гумбольдта.
Об издательстве
«Живи и верь»
Для нас православное христианство – это жизнь во всем ее многообразии. Это уникальная возможность не пропустить себя, сделав маленький шаг навстречу своей душе, стать ближе к Богу. Именно для этого мы издаем книги.
В мире суеты, беготни и вечной погони за счастьем человек бредет в поисках чуда. А самое прекрасное, светлое чудо – это изменение человеческой души.
От зла – к добру! От бессмысленности – к Смыслу и Истине! Это и есть настоящее счастье!
Мы работаем для того, чтобы помочь вам жить по вере в многосложном современном мире, ощущая достоинство и глубину собственной жизни.
Надеемся, что наши книги принесут вам пользу и радость, помогут найти главное в своей жизни!
О серии «Люди Церкви»
Церковь – это в первую очередь люди, собранные Богом. Неповторимые человеческие судьбы, многообразие путей к Богу и жизни по вере представлены в серии «Люди Церкви». Построенная по тематическому или хронологическому принципу, серия знакомит читателя с самыми разными людьми, составляющими Православную Церковь.
В каждой книге представлено девять бесед с людьми Церкви: мирянами и священниками, монахами и архиереями. Среди них и широко известные имена (бывшая актриса, инокиня Ольга Гобзева, протоиерей Валериан Кречетов, писатель Олеся Николаева и другие), и те, о ком знают лишь немногие. Но за каждой историей, рассказанной искренне, живо, с неповторимыми индивидуальными интонациями, – уникальная человеческая личность и новая грань жизни Церкви.