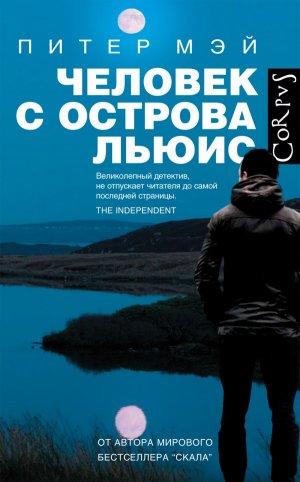
Пролог
На продуваемом всеми ветрами острове в трех часах пути от северо-западного побережья Шотландии скудная почва дает людям и пищу, и тепло. Принимает их мертвецов. А иногда, как, например, сегодня, возвращает их людям.
Резка торфа — неотъемлемая часть жизни острова. Семьи, соседи, дети — все собираются на болоте. Дует легкий юго-западный ветер, он подсушивает траву и прогоняет мошкару. Аннаг всего пять лет. Это ее первая резка торфа, и она запомнит ее на всю жизнь.
Аннаг провела утро на кухне с бабушкой, глядя, как варятся яйца на старой плите. В плите горит прошлогодний торф. Сейчас женщины выходят на болото с корзинами. Аннаг бежит впереди по колкому вереску, вся в радостном предвкушении сегодняшнего дня. Она бежит босиком, разбрызгивая коричневую болотную воду. Вокруг только огромное небо — в разорванных облаках, с редкими просветами. Белые шарики пушицы раскачиваются под порывами ветра. Скоро бурые пустоши покроются желто-фиолетовым ковром цветов весны и раннего лета. Но пока они только приходят в себя от зимнего сна.
Вдалеке видны силуэты полудюжины мужчин в комбинезонах и кепках. Позади них ослепительно сверкает на солнце океан, бьющийся о скалы из черного гнейса.[1] Аннаг прикрывает глаза рукой; мужчины нагибаются, и специальные ножи — тараскерр — режут мягкий черный торф на квадратные куски. Земля острова изрыта многими поколениями добытчиков торфа — вокруг окопы глубиной до восемнадцати дюймов. Свежесрезанные брикеты раскладывают вдоль окопов, переворачивая по мере просушки. Через несколько дней добытчики торфа вернутся, чтобы сложить брикеты в треугольные пирамидки, которые ветер будет обдувать со всех сторон. Когда торф окончательно просохнет, его погрузят на тачки и развезут по домам. Брикеты сложат «елочкой» во дворе, и они будут обогревать людей и помогать им готовить пищу всю следующую зиму. Так жители Льюиса, самого северного из Гебридских островов,[2] живут уже много веков. И сейчас, во времена финансовой нестабильности, когда цены на топливо растут, многие владельцы открытых очагов и плит вернулись к традиционному способу отопления. Ведь все, что в таком случае требуется от человека, — это потрудиться и показать преданность Богу.
Но для Аннаг резка торфа — просто приключение. Над болотом дует ветер, девочка смеется и зовет отца и деда. Мать и бабушка громко переговариваются у нее за спиной. Аннаг не понимает, что резчики торфа, на которых она смотрит, чем-то озабочены. А мужчины столпились у торфяного разреза, стенка которого осыпалась у них под ногами. Отец слишком поздно замечает, что девочка бежит к нему, и кричит ей: «Назад!». Аннаг не успевает остановиться, не успевает среагировать на панику в голосе. Мужчины встают, поворачиваясь к ней, и она видит лицо брата — белое, как простыня. Девочка смотрит туда же, куда и он, — на осыпавшийся торф и торчащую руку. Кожа на ней задубевшая, коричневая, как пергамент, а пальцы согнуты, словно держат невидимый мяч. Одна нога тела зацепилась за другую, голова повернута к болоту, как будто в поисках потерянной жизни. На месте глаз — черные дыры.
Секунду Аннаг барахтается в море непонимания. Потом ее накрывает волной осознания, и ветер срывает с ее губ крик.
Глава первая
Инспектор Ганн увидел машины, припаркованные у края дороги, еще издали. Небо было мрачным, черно-синим; со стороны океана накатывали низкие сплошные облака. Дворники размазывали по ветровому стеклу первые капли дождя. По свинцовой глади океана катились белые барашки невысоких волн. На фоне этого пейзажа синий маячок полицейской машины был едва заметен.
Потрепанные дома Сиадера сгрудились под натиском непогоды. Они выглядели словно бы усталыми, но уже явно притерпевшимися к ветрам и дождю. Линию горизонта не нарушает ни одно дерево, только виднеются старые столбы вдоль дороги да ржавые останки тракторов и машин в пустых дворах. Упрямые кусты, вцепившись корнями в скудную почву, храбро размахивают зазеленевшими ветками. Пушица перекатывается под ветром, как океанские волны.
Ганн припарковался возле полицейской машины и вышел. Порыв ветра сразу подхватил и растрепал его густые темные волосы. Ганн закутался в черную стеганую куртку и пожалел, что не надел сапоги. Первый же шаг на мягкую землю — и холодная болотная вода затекла в его туфли, промочила носки. Инспектор добрался до первой торфяной выработки и двинулся вдоль ее края, обходя кучи торфа, выложенные для просушки. Полицейские воткнули в мягкую почву металлические стержни, оградив ужасную находку. Сине-белая полицейская лента гудела и скручивалась под порывами ветра. От домов, стоявших над скалами в полумиле от места происшествия, несло торфяным дымом.
Над телом стояла группа людей, сутулясь на ветру. Санитары в ярко-желтых куртках, готовые увезти тело; полицейские в черных водонепроницаемых плащах и клетчатых шляпах. После такой находки полицейские перестанут думать, что видели в жизни все. Люди молча расступились, пропуская Ганна. Он увидел полицейского врача, тот осматривал тело, опустившись на корточки, аккуратно сметая крошки торфа затянутыми в медицинские перчатки руками. Врач поднял голову, когда инспектор навис над ним. Ганн впервые увидел, насколько коричневая и сморщенная кожа у трупа.
— Он… цветной? — Ганн нахмурился.
— Нет, это из-за торфа. У нас тут представитель белой расы, совсем молодой — лет двадцать с небольшим, или вообще подросток. Классический «болотный человек», отлично сохранился.
— Вы таких уже видели?
— Нет, никогда. Но я про них читал. Здесь хорошо растет болотный мох, потому что ветер с океана приносит соль. А когда корни мха гниют, образуется кислота. Она-то и сохраняет тело, практически мумифицирует его. Все внутренние органы должны быть невредимы.
Ганн с любопытством уставился на мумифицированное тело.
— Как он умер, Мёрдо?
— Похоже, его убили. В области груди ножевые ранения, и горло перерезано. Но настоящую причину смерти назовет только патологоанатом, Джордж, — врач встал, снимая перчатки. — Надо увезти тело, пока дождь не пошел.
Ганн кивнул, не отводя глаз от молодого человека, найденного в торфяном болоте. Черты его лица немного ссохлись, но все же любой из прижизненных знакомых узнал бы его. Разложилась только слабая, незащищенная ткань глаз.
— Сколько он здесь пролежал?
Мёрдо рассмеялся, но ветер унес его смех.
— Кто знает? Сотни лет, а может, и тысячи. Это сможет определить только эксперт.
Глава вторая
Мне не нужно смотреть на часы, чтобы узнать время.
Так странно: коричневое пятно на потолке утром кажется светлее. Следы плесени вокруг трещины, которая проходит через пятно, выглядят более белыми. И еще странно — я всегда просыпаюсь в одно и то же время. Это не из-за света, который пробивается сквозь занавеску: в это время года ночью и так не очень темно. Нет, просто у меня работают внутренние часы. Я каждое утро просыпался с рассветом, доил коров, а потом брался за другую работу. Теперь всего этого нет.
Мне нравится смотреть на пятно на потолке. Не знаю почему, но утром оно похоже на лошадь. Породистая, она стоит под седлом, чтобы унести меня в светлое будущее. А ночью, в темноте, картина кажется иной. Злобное, рогатое создание хочет утащить меня во тьму.
Я слышу, как открывается дверь, поворачиваюсь и вижу в проеме женщину. Она кажется знакомой, но я никак не могу ее вспомнить. Пока не слышу голос.
— Ох, Тормод…
Конечно, это Мэри. Я всегда узнаю ее голос. Интересно, почему она такая грустная? И еще — уголки губ у нее кривятся, словно от отвращения. Я знаю, она любила меня; а вот я не уверен, любил ли ее когда-нибудь.
— Что такое, Мэри?
— Ты опять наделал в постель.
Теперь и я чувствую запах. Ну и воняет здесь! Почему я раньше не заметил?
— Ты что, не мог встать? Не мог, да?
Не понимаю, за что она меня ругает. Я же не нарочно! Я никогда не делаю это нарочно. Мэри откидывает одеяло, и вонь становится сильнее; она зажимает рот рукой.
— Вставай, — говорит она. — Постель придется снять. Положи пижаму в ванну и прими душ.
Спускаю ноги с кровати и жду, пока Мэри поможет мне встать. Раньше так не было. Я всегда был сильным. Помню, как она подвернула ногу у старой овчарни, когда мы сгоняли овец на стрижку. Мэри не могла идти, и мне пришлось нести ее домой — почти две мили! Руки у меня болели, но я ни разу не пожаловался. Почему она этого не помнит? Она что, не понимает, как все это унизительно? Я отворачиваюсь, чтобы она не видела слез в моих глазах, и стараюсь скорее сморгнуть их. Делаю глубокий вдох.
— Дональд Дак.
— Дональд Дак?
Смотрю на Мэри, и на лице у нее написана такая злость, что внутри у меня все сжимается. Я что, так и сказал? Дональд Дак? Не может быть, чтобы я хотел это сказать. Но что же я имел в виду? Я твердо повторяю:
— Да, Дональд Дак.
Она рывком поднимает меня на ноги и толкает к двери:
— Убирайся с глаз моих!
На что она так злится?
Ковыляю в ванную, снимаю пижаму. Мэри сказала, ее надо положить… Куда? Не помню. Бросаю пижаму на пол и смотрюсь в зеркало. На меня оттуда смотрит старик с седым пушком на голове и бледно-голубыми глазами. Секунду я думаю, кто бы это мог быть, потом поворачиваюсь к окну и смотрю в сторону побережья, на махер.[3] Вижу, как ветер перебирает тяжелые зимние шкуры овец, а те хрустят сочной солоноватой травой, но ничего не слышу. Волны разбиваются о берег, вода тянет за собой песок, поднимается белая пена, а шума океана нет. Это все двойное остекление! На ферме такого не было. Там я чувствовал себя живым. Ветер свистел в оконных рамах и задувал торфяной дым обратно в трубу. Там дышалось легко, там было место для жизни. А здесь комнаты такие маленькие, и в них ты отрезан от мира. Живешь, как в пузыре.
Из зеркала на меня снова смотрит старик. Я улыбаюсь, и он улыбается в ответ. Конечно, я знал, что это я! Интересно, как поживает Питер.
Глава третья
Фин наконец выключил свет, и в комнате воцарилась темнота. Но это не помогало: слова словно выжжены на его глазных яблоках, и спасения от них нет.
Кроме Моны, показания дали еще два свидетеля. Ни один из них не запомнил номер машины. То, что его не видела Мона, не удивительно: при столкновении ее подбросило в воздух, сильно ударило о капот и ветровое стекло, потом швырнуло в сторону; она несколько раз перекатилась по металлизированному покрытию дороги. Удивительно, что жена почти не пострадала.
У Робби центр тяжести был расположен ниже. Его затянуло под колеса машины.
Каждый раз, когда Фин читал отчет, он представлял, что был там и все видел; и каждый раз у него в горле вставал ком. Картина столкновения рисовалась так ярко, как будто была настоящим воспоминанием. И так же он «помнил» лицо, которое Мона разглядела за ветровым стеклом, — такое четкое в памяти, хотя видела она его какую-то долю секунды. Мужчина средних лет, отросшие волосы мышиного цвета. Двух-трехдневная щетина. Как она успела все это рассмотреть? Но она дала предельно точное описание. Фин даже попросил полицейского художника сделать по нему рисунок. Он остался в материалах дела, а лицо продолжало являться ему в снах даже спустя девять месяцев.
Фин повернулся и закрыл глаза — очередная попытка заснуть. Открытое окно его номера было задернуто занавеской, и вместе с воздухом внутрь проникал и шум транспорта с Принсес-стрит.[4] Фин подтянул колени к груди, прижал локти к бокам, а руки сложил перед грудью — будто плод, который решил помолиться в животе у матери. Завтра закончится все, что составляло его взрослую жизнь. Всё, чем он был, чем стал и еще мог стать. Всё, как в тот день много лет назад, когда тетка сказала, что его родители умерли. Тогда он впервые за свою недолгую жизнь почувствовал себя абсолютно одиноким.
Утро не принесло облегчения — только тихую решимость пережить этот день. Вдоль мостов дул теплый ветер, по садам у замка бежали тени облаков. Фин решительно двигался через толпу людей в легкой весенней одежде; вокруг все болтали и смеялись. Это поколение забыло завет отцов: «плащ не снимай, пока не кончился май». Люди продолжали жить, будто ничего не случилось, и Фину казалось, что это нечестно. С другой стороны, кто может представить себе, что за боль таится за его маской нормальности? Так откуда ему знать, что творится в душе у других?
Фин зашел в копи-центр на Николсон-стрит, потом убрал копии листов дела в свой кожаный портфель и продолжил путь к Сент-Леонардс-стрит и штаб-квартире полиции, куда ходил на работу последние десять лет. Два дня назад он устроил прощальную вечеринку для коллег в пабе на Лотиан-роуд. Посиделки вышли мрачные. Было много воспоминаний и сожалений, хотя были и знаки искренней дружбы. Сейчас встречные в коридорах кивали Фину, некоторые пожимали руку. Сбор личных вещей с рабочего места в картонную коробку занял всего несколько минут. Вот и все, что осталось от его работы.
— Я должен забрать твое удостоверение, Фин.
Он обернулся на голос. Старший инспектор Блэк чем-то напоминал грифа — казался таким же голодным и настороженным. Фин кивнул и протянул ему документ.
— Мне жаль, что ты уходишь, — сказал Блэк. Только на самом деле ему не было жаль. Он никогда не сомневался в способностях Фина — только в его мотивации. И сейчас Фин был готов признать его правоту. Они оба знали, что он хороший полицейский. Но потребовалось много времени и смерть Робби, чтобы он осознал: эта работа не для него.
— Мне сказали, ты запросил дело водителя, который сбил твоего сына, — Блэк помолчал в ожидании реакции. — Его надо вернуть.
— Конечно, — Фин вытащил папку из портфеля и бросил на стол. — Вряд ли его еще кто-нибудь откроет.
— Возможно, — кивнул Блэк. — Тебе тоже пора его закрыть. Оно сожрет тебя изнутри и не даст жить нормально. Отпусти его, сынок.
— Не могу, — Фин смотрел мимо старшего инспектора. Он взял коробку со своими вещами и вышел.
Выйдя из здания полиции, он обошел его, поднял крышку большого зеленого мусорного бака и высыпал туда содержимое коробки. Потом смял саму коробку и запихнул ее туда же. Все это было ему больше не нужно. Фин постоял, глядя вверх на окно своего кабинета. Оттуда он все эти годы любовался тенистыми склонами Солсбери Крэгс[5] в солнце, дождь и снег.
Он постоял еще немного, вышел на Сент-Леонардс-стрит и поймал такси.
Фин вышел из машины на круто уходящей вниз, мощеной булыжником Королевской Миле,[6] у Собора Святого Эгидия. На Парламентской площади его ждала Мона. Она еще не рассталась с серой зимней одеждой и терялась на фоне классической архитектуры «северных Афин» — зданий из песчаника, почерневших от дыма и времени. Видимо, одежда отражала настроение женщины. Впрочем, подавленностью дело не ограничивалось. Мона была явно взволнована.
— Ты опоздал.
— Прости.
Фин взял Мону под руку, и они поспешили через пустую площадь, к аркам между высокими колоннами. Фин подумал, что его опоздание могло иметь психологическое объяснение. Он не хотел отпускать прошлое — и не хотел один смотреть в лицо будущему. Он боялся неизвестности, жалел об отказе от удобных для него отношений.
Муж и жена поднялись по ступеням здания, где когда-то размещался Парламент Шотландии. Триста лет назад землевладельцы и торговцы, заседавшие здесь, продали народ, интересы которого представляли, англичанам. В итоге образовался союз, которого никто из шотландцев не хотел. Вот и союз Фина и Моны был дружбой без любви и создавался только ради удобства. У истоков его стоял случайный секс, а вместе супругов держала только любовь к сыну. Теперь, когда Робби нет, все закончится здесь, в здании Сессионного суда[7] — они покинут его уже разведенными. Всего один листок бумаги закроет главу их жизни, которую они вместе писали шестнадцать лет. Фин взглянул Моне в лицо — в нем было столько боли, что он начал заново винить себя во всех ошибках своей жизни.
Понадобилось всего несколько минут, чтобы отправить годы совместной жизни на свалку истории. Все — и горе, и радость, и ссоры, и слезы, и смех. Когда Фин и Мона вышли на улицу, брусчатку заливало яркое солнце. На Королевской Миле шумели машины. Жизни других людей продолжались, а их жизни словно поставили на паузу. Вокруг все двигалось быстро, как в фильме с ускоренной съемкой. Шестнадцать лет — и вот они опять чужие и не знают, что сказать друг другу, кроме «прощай». И боятся сказать это вслух, несмотря на бумаги, которые держат в руках. Они попрощаются, а что потом?.. Фин открыл кожаный портфель, чтобы положить туда бумаги, и ксерокопии из бежевой папки выпали и разлетелись вокруг. Он быстро наклонился собрать их, и Мона присела рядом, чтобы ему помочь.
Она подняла несколько листов и медленно повернулась к Фину. Конечно, она сразу поняла, что это — ведь там были и ее показания. Несколько сотен слов об отнятой жизни и разрушенном браке. Набросок, сделанный полицейским художником с ее слов. Мона ничего не сказала об одержимости Фина. Собрала бумаги, подала ему и смотрела, как он засовывает их в сумку.
Они спустились на улицу, и расставание нельзя было больше откладывать. Бывшая жена спросила:
— Мы будем звонить друг другу?
— А есть смысл?
— Наверное, нет.
И с этими словами все, что они вложили в совместную жизнь за все эти годы — общий опыт, радости и боль, — исчезло, растворилось без остатка, как падающий в реку снег.
Фин взглянул на Мону:
— Что ты будешь делать, когда дом продадут?
— Вернусь в Глазго. Поживу с отцом немного, — она взглянула ему в глаза. — А ты?
Он пожал плечами:
— Не знаю.
— Знаешь! — это звучало как обвинение. — Ты вернешься на остров.
— Мона, я всю сознательную жизнь избегал этого.
Она покачала головой:
— Ты сам знаешь, что вернешься. Тебе не убежать от острова. Он все эти годы стоял между нами, как тень. Он не давал нам быть вместе. Ты не хотел делить его со мной.
Фин глубоко вздохнул, поднял лицо к небу, ощутил тепло солнца. Потом взглянул на Мону:
— Да, между нами была тень. Но это был не остров.
Конечно, она права. Ему больше некуда деться — только вернуться туда. Как в материнское лоно, которое вскормило его, а потом исторгло из себя. Фин понимал, что только там он сможет снова найти себя. Среди своего народа, говорящего с ним на одном языке.
Он стоял на палубе «Острова Льюис» и смотрел, как плавно поднимается и опускается нос парома в такт движению по необычайно спокойным водам Минча.[8] Горы материка давно скрылись из вида. Восточное побережье острова встречало гостей густым весенним туманом. Гудок корабля звучал в нем как-то особенно одиноко. Фин внимательно всматривался в серую муть, оставлявшую на лице тончайший слой влаги. Вот, наконец, впереди что-то показалось — призрачный силуэт, словно тень прошлого. Постепенно остров начал обретать форму. Фин ощутил, как волосы у него на затылке встают дыбом. Чувство, что он наконец-то возвращается домой, обрушилось на него без предупреждения.
Глава четвертая
Ганн сидел за столом и щурился, глядя на компьютерный экран. Со стороны Минча прозвучала сирена — значит, скоро паром пристанет к острову. Кабинет располагался на втором этаже, и Ганн делил его с двумя другими детективами. Из окна был виден благотворительный магазин Blythswood Care («Христианская забота о душе и теле!») на другой стороне Черч-стрит. Вытянув шею, Ганн мог бы разглядеть даже индийский ресторан «Бангла Спайс», расположенный дальше по той же улице. Там подавали вкуснейший рис с чесночной приправой и яркие разноцветные соусы. Но то, что сейчас красовалось на экране его компьютера, заставляло забыть о еде.
Болотные тела, или болотные люди — это хорошо сохранившиеся тела, которые находят в сфагновых болотах Северной Европы, Великобритании и Ирландии. Такую информацию предоставила «Википедия». Кислотный состав воды, низкая температура и недостаток кислорода способствовали сохранению кожи и внутренних органов до такой степени, что в некоторых случаях у болотного тела получалось снять отпечатки пальцев. Ганн мысленно вернулся к телу, которое сейчас хранилось в холодильнике морга больницы. Как быстро оно начнет разлагаться после того, как его вытащили из болота? Полицейский двинул мышку вниз и уставился на фотографию головы тела, которое достали из торфяного болота в Дании шестьдесят лет назад. Шоколадно-коричневая кожа, четкие черты лица. Одна щека слегка сплющена там, где она была прижата к носу. Над верхней губой и на подбородке — рыжая щетина.
— А! Толлундский человек!
Ганн поднял глаза и увидел высокого сухопарого человека с худым лицом и облаком темных редеющих волос. Тот склонился к его экрану, чтобы лучше видеть.
— Радиоуглеродный анализ волос установил, что он родился лет за четыреста до новой эры. Идиоты, которые проводили вскрытие, отрезали голову, а все остальное выбросили. Правда, остались еще ноги и один палец, их хранили в формалине, — пришедший усмехнулся. — Профессор Колин Малгрю.
Ганн удивился силе его рукопожатия. Он казался таким хрупким! Профессор Малгрю словно прочитал его мысли — или заметил, как он морщился при рукопожатии. Он улыбнулся.
— У патологоанатома должны быть сильные руки, сержант. Вы не поверите, как тяжело пилить кость и разрывать скелет на части, — в его речи слышался легкий ирландский акцент. Он снова повернулся к экрану:
— Удивительно, правда? Прошло две тысячи четыреста лет. Но все же удалось определить, что его повесили, а когда он в последний раз ел, ему досталась каша из зерен и семян.
— В его вскрытии вы тоже участвовали?
— Нет, конечно. Это было до меня. Я работал с телом Старого Крохана, его нашли в болоте в Ирландии в две тысячи третьем году. Это тело оказалось почти таким же старым — точно больше двух тысяч лет. И очень высоким для своего времени. Шесть футов шесть дюймов, представляете? Это был просто гигант! — Малгрю почесал в затылке, потом усмехнулся. — А как мы назовем наше болотное тело? Льюисский человек?
Ганн повернулся в кресле, жестом указал профессору на свободный стул, но тот только затряс головой:
— Я насиделся в дороге! А в самолетах на Льюис даже ноги не вытянешь.
Ганн кивнул. Сам он был немного ниже среднего роста, поэтому с такими проблемами не сталкивался.
— А как умер этот ваш Старый Крохан?
— Его вначале пытали, потом убили. Под обоими сосками у него глубокие порезы. После пыток его ткнули в грудь ножом, потом у тела отрезали голову, а само тело разрубили пополам, — Малгрю подошел к окну и принялся рассматривать улицу. — Странная вышла история. Он не был рабочим — слишком ухоженные руки. Он явно питался мясом, но в последний раз перед смертью ел пшеничные зерна с пахтой. Мой приятель Нед Келли из Национального музея Ирландии считает, что Старого Крохана принесли в жертву богам, чтобы обеспечить хороший урожай на королевских землях, — профессор повернулся к Ганну. — Индийский ресторан дальше по улице — он как?
— Ничего.
— Сто лет не ел индийской еды! А где сейчас наше тело?
— В холодильнике, в морге больницы.
Профессор Малгрю потер руки:
— Пойдемте на него посмотрим, пока не начало разлагаться! Потом и пообедать можно будет. Умираю с голода!
Тело, разложенное на прозекторском столе, выглядело каким-то скукоженным, хотя при жизни человек явно был неплохо сложен. Кожа его была цвета заварки, а черты лица казались вырезанными из каучука.
Под белым халатом на профессоре Малгрю был темно-синий спортивный костюм, рот и нос закрывала ярко-желтая маска. Над ней красовались огромные защитные очки в черепаховой оправе, из-за которых голова профессора казалась меньше. Он напоминал карикатуру на самого себя, но, казалось, совершенно не осознавал, как по-дурацки выглядит. Он ловко двигался вокруг стола, производя измерения. Тихо шуршали зеленые бахилы, надетые на белые кроссовки. Малгрю отошел к висевшей на стене доске, чтобы записать полученные данные. Маркер скрипел, а профессор говорил не переставая:
— Бедняга весит всего сорок один килограмм. Немного для человека ростом сто семьдесят три сантиметра, — он посмотрел на Ганна поверх очков и пояснил: — Это чуть больше пяти футов восьми дюймов.
— Думаете, он был болен?
— Не обязательно. Тело неплохо сохранилось, но оно должно было потерять много жидкости за время пребывания в болоте. Нет, мне кажется, он был вполне здоров.
— А возраст?
— Немного меньше двадцати. Или немного больше.
— Нет, я не о том. Сколько он пролежал в болоте?
Профессор Малгрю приподнял бровь и укоризненно посмотрел на полицейского.
— Будьте терпеливы. Я же не машина для радиоуглеродного анализа, сержант!
Он вернулся к телу и перевернул его на живот, наклонился, убирая фрагменты бурого и желто-зеленого мха.
— На теле была одежда?
— Нет, не было, — Ганн придвинулся ближе, пытаясь понять, что привлекло внимание профессора. — Мы все вокруг него перевернули. Ни одежды, ни вещей.
— Хм. Тогда я бы сказал, что перед погребением он был завернут во что-то вроде одеяла. И пролежал так несколько часов.
Брови сержанта удивленно взлетели вверх:
— Как вы это узнали?
— В первые часы после смерти, мистер Ганн, кровь скапливается в нижней части тела, вызывая красновато-фиолетовое окрашивание кожи. Мы называем это «синюшность». Внимательно посмотрите на спину, ягодицы и бедра: здесь кожа темнее, но в синюшности просматривается более светлый рисунок.
— И что это значит?
— Это значит, что после смерти он восемь-десять часов пролежал на спине, завернутый в какое-то одеяло, ткань которого оставила на потемневшей коже свой рисунок. Можно помыть его и сфотографировать. Если хотите, художник зарисует этот узор.
С помощью пинцета Малгрю собрал с кожи несколько ниточек.
— Похоже на шерсть. Это будет нетрудно проверить.
Ганн кивнул. Он решил не спрашивать, зачем восстанавливать узор и ткань одеяла, которое изготовили сотни, а может, и тысячи лет назад. Патологоанатом вернулся к осмотру головы.
— От глаз почти ничего не осталось, так что цвет радужек определить невозможно. Волосы темные, рыже-коричневые, но это вовсе не их первоначальный цвет. Их, как и кожу, окрасил торф, — профессор уже ощупывал нос. — А вот это интересно! — Он осмотрел свои затянутые в латекс пальцы. — У него в носу много тонкого серебристого песка. Такой же песок виден в повреждениях кожи на коленях и тыльных сторонах стоп, — профессор перешел к осмотру лба, стер грязь с левого виска и волос над ним.
— Черт возьми!
— Что такое?
— У него изогнутый шрам на левой передней височной доле. Длина — примерно десять сантиметров.
— Рана?
Малгрю покачал головой в задумчивости.
— Больше похоже на операционный шрам. Я бы сказал, что этого молодого человека оперировали из-за травмы головы.
Ганн был поражен.
— Значит, труп гораздо свежее, чем мы думали?
Малгрю улыбнулся с некоторым превосходством:
— Все зависит от того, что понимать под «свежим», сержант. Операции на голове — одни из самых древних. Об этом говорят обширные археологические данные. Такие операции делали еще во времена неолита, — он помолчал, потом добавил для Ганна: — В каменном веке.
Профессор перенес внимание на шею, на которой зиял широкий и глубокий разрез — длиной восемнадцать сантиметров и четыре миллиметра. Ганн спросил:
— Эта рана его и убила?
Малгрю вздохнул.
— Полагаю, сержант, вы посещали не так много вскрытий.
Тот покраснел:
— Вы правы, сэр.
Он не хотел признаваться, что до сих пор был всего на одном вскрытии.
— Я просто не смогу определить причину смерти, пока не вскрою тело. И даже тогда я ничего не смогу гарантировать. Да, ему перерезали горло. Но у него также множественные колотые раны на груди и одна — в районе правой лопатки. На шее специфические повреждения кожи, как будто там была затянута веревка. Такие же повреждения кожи на щиколотках и запястьях.
— У него были связаны руки и ноги?
— Вот именно. Возможно, его повесили — оттого и разодрана кожа на шее. А возможно, его за эту веревку протащили по берегу моря. Это объяснит наличие песка в ссадинах на коленях и стопах. В любом случае, пока рано выдвигать теории о причине его смерти. Вариантов слишком много.
Внимание профессора привлек более темный участок кожи на правом предплечье тела. Он протер его тампоном, затем взял с раковины губку и начал скрести верхний слой кожи.
— Господи Иисусе, — произнес он.
Ганн наклонил голову, пытаясь рассмотреть руку трупа.
— Что там такое?
Малгрю долго молчал, потом поднял взгляд на полицейского.
— Почему вы так хотели узнать, сколько времени тело пролежало в болоте?
— Чтобы мы могли передать его археологам и забыть о нем.
— Боюсь, у вас это не получится, сержант.
— Почему?
— Потому что оно пролежало в торфе не больше пятидесяти шести лет.
Ганн покраснел от возмущения.
— Вы мне десять минут назад сказали, что вы не машина для радиоуглеродного анализа! — он сдерживался, чтобы не закричать. — Как же вы это узнали?
Малгрю снова улыбнулся.
— Посмотрите на правое предплечье, сержант. У нас тут грубо вытатуированный портрет Элвиса Пресли, а под ним надпись «Отель разбитых сердец». Я уверен, что Элвис жил уже в нашей эре. И, как его давний поклонник, я могу сказать вам, что песня «Отель разбитых сердец» была хитом номер один в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году.
Глава пятая
Профессор Малгрю вернулся к вскрытию только через два часа. Он сделал перерыв и с аппетитом пообедал луковым бхаджи,[9] ягнятиной в соусе бхуна,[10] чесночным рисом и мороженым кулфи. Джордж Ганн съел сэндвич с сыром у себя в кабинете и сейчас уже жалел об этом.
Кожа трупа задубела, поэтому разрезать ее на груди обычным скальпелем не получилось. В конце концов патологоанатом взял большие ножницы. И только после этого он с помощью скальпеля убрал с грудной клетки оставшуюся кожу и мышцы. Теперь тело лежало выпотрошенное, как туша в лавке мясника. При жизни это был здоровый, сильный молодой человек, и вскрытие только подтвердило: он не умер сам, а был жестоко убит. Причем его убийца теоретически мог быть еще жив.
— Очень интересный труп, сержант! — в морщинах на лбу профессора собрались капельки пота, но он был явно доволен собой. — А вот последний раз перед смертью он ел не так хорошо, как я. Хлопья мягкого мяса и мелкие прозрачные кусочки, похожие на рыбьи кости. Возможно, рыба с картошкой, — Малгрю усмехнулся. — Наконец-то я могу предположить, как он умер.
Ганн был удивлен. Насколько он знал, патологоанатомы редко были готовы утверждать что-то с определенностью. Однако его визави был исключительно уверен в себе. Он закрыл грудную клетку трупа, вернул на место разрезанные ткани и кожу. Затем указал на раны скальпелем.
— Четыре колотых раны на груди. Удары нанесены под углом. Значит, нападавший был гораздо выше жертвы — или жертва стояла на коленях. Мне кажется, второе ближе к истине. Но мы еще вернемся к этому. Раны нанесены длинным тонким обоюдоострым лезвием. Это кинжал Ферберна-Сайкса[11] или подобный ему стилет. Вот эта, например, — профессор указал на верхнюю рану, — пять восьмых дюйма в длину и с обоих концов имеет клиновидную форму. Это явно указывает на тонкое обоюдоострое орудие. Глубина раны пять дюймов. Она проходит через верхушку левого легкого, правое предсердие и межжелу-дочковую перегородку. Рана довольно длинная, остальные три похожи на нее.
— Эти раны его и убили?
— Любая из них за несколько минут могла привести к смерти. Но я думаю, прикончил его глубокий разрез в передней части шеи, — патологоанатом перешел ближе к нему. — В длину он больше семи дюймов, тянется от области сосцевидного отростка слева, прямо под ухом, до грудинно-ключично-сосцевидной области справа. Как вы можете видеть, — он снова улыбнулся и вернулся к ране, — разрез рассекает левую яремную вену, отделяет левую сонную артерию и прорезает правую яремную вену. Максимальная глубина — три дюйма. Разрез доходит до позвоночного столба.
— Это важно?
— С моей точки зрения, угол и глубина пореза говорят о том, что он был сделан сзади и другим оружием. Колотая рана в спине подтверждает это. Длина ее полтора дюйма, верхний конец квадратный, нижний клиновидный. Нанесена, вероятно, большим однолезвийным ножом, лучше подходящим для глубоких разрезов.
Ганн нахмурился.
— Я не могу себе это представить, профессор. Убийца использовал два вида оружия? Бил его в грудь одним, потом зашел сзади и перерезал горло другим?
На лице патологоанатома появилась мягкая снисходительная улыбка. Правда, она скрывалась за маской, и Ганн видел ее только в глазах, что светились по ту сторону очков.
— Нет, сержант. Я пытаюсь сказать, что нападавших было двое. Один держал беднягу сзади, заставил его встать на колени, а другой бил его стилетом в грудь. Рана в спине могла появиться случайно, когда первый убийца доставал нож, которым перерезал жертве горло.
Малгрю перешел к голове трупа и начал отодвигать кожу и плоть с лица и черепа вокруг разреза.
— Постарайтесь представить себе картину. Его связали по рукам и ногам, завязали на шее веревку. Если бы его повесили, повреждения кожи располагались бы под углом к точке подвешивания. Но это не так. Так что, я думаю, за эту веревку его тащили вдоль берега. В его носу и во рту, а также в ссадинах на коленях и ступнях я нашел мелкий серебристый песок. Покойного бросили на колени, били в грудь ножом, затем перерезали горло.
Картина, которую описал патологоанатом, проявилась перед глазами Ганна. Почему-то он решил, что все происходило ночью. Фосфоресцирующие волны накатывали на мокрый серебряный песок, блестевший в лунном свете. Потом белую пену прибоя окрасила кровь. Больше всего сержанта потрясло, что такая жестокость совершилась именно здесь, на острове Льюис, где больше чем за сто лет произошло всего два убийства.
— Можно будет взять отпечатки пальцев? — спросил он. — Нам придется устанавливать его личность.
Профессор Малгрю ответил не сразу. Он пытался отделить от черепа кожу, не порвав ее.
— Кожа пересохла, — сообщил он наконец. — Она хрупкая как я не знаю что, — он поднял глаза. — Подушечки пальцев сморщились от потери жидкости. Но я могу ввести туда формалин, кожа расправится, и вы получите четкие отпечатки. Можно также взять образцы ДНК.
— Полицейский врач уже отправил образцы на анализ.
— Правда? — казалось, профессор недоволен. — Вряд ли это нам поможет, но кто знает, кто знает… Ага! — внезапно он сосредоточился на черепе, с которого, наконец, убрал всю кожу. — Любопытно.
— Что там? — Ганн с неохотой подвинулся ближе.
— Под этим шрамом металлическая пластина. Ее поставили сюда для защиты мозга.
И действительно — прямоугольная пластина тускло-серого металла длиной примерно два дюйма была прикреплена к черепу металлическими скобами. Ее частично закрывала светло-серая рубцовая ткань.
— Здесь явно была травма. И, возможно, повреждение мозга.
По просьбе Малгрю полицейский вышел в коридор и смотрел сквозь окно в стене секционного зала, как патологоанатом вскрыл череп вибрационной пилой, чтобы вытащить мозг. Когда Ганн вернулся, профессор уже выложил мозг в резервуар нержавеющей стали и осматривал его.
— Да, как я и думал, — он указал пальцем. — Кистозное размягчение левой лобной доли.
— И что это значит?
— Это значит, мой друг, что бедняге не повезло. В результате такого повреждения мозга он был… как бы сказать… немного не в себе.
Профессор осторожным движениями скальпеля снял с металлической пластинки наросшую ткань:
— Если не ошибаюсь, тантал.
— А что это?
— Весьма устойчивый к коррозии металл. Начал применяться в краниопластике[12] в первой половине двадцатого века. Во время Второй мировой войны часто использовался в обработке шрапнельных ран, — Малгрю еще ниже склонился над пластиной. — Биосовместимый материал, но вызывал ужасные головные боли. Это как-то связано с электропроводностью. В шестидесятые годы его заменили на пластик. Сейчас тантал в основном используют в электронике. Ага!
— Что там? — Ганн, преодолевая естественную брезгливость, придвинулся еще ближе.
Вместо ответа профессор начал рыться в инструментах, разложенных возле раковины. Он нашел трехдюймовое квадратное увеличительное стекло и принялся рассматривать пластину.
— Я так и думал! — в голосе Малгрю явно слышался триумф.
— Что вы думали? — а вот Ганн был само нетерпение.
— Производители пластин гравировали на них серийные номера. А в данном случае — еще и год, — и он отодвинулся, приглашая сержанта посмотреть. Тот взял увеличительное стекло и нагнулся над черепом, сощурившись. Под десятизначным серийным номером стояли римские цифры MCMLIV.
— Это тысяча девятьсот пятьдесят четвертый год, если вы не поняли, — патологоанатом просто светился. — Примерно через два года ему сделали татуировку с Элвисом. И, судя по росту рубцовой ткани, через три-четыре года убили на морском побережье.
Глава шестая
Фин был полностью дезориентирован. В ушах стучало так, что шум ветра и прибоя был едва слышен. Ему было жарко, он вспотел, но лицо и руки при этом замерзли. Глаза слепило, к яркому солнечному свету добавлялось синеватое свечение. Прошло не меньше полминуты, прежде чем Фин понял, где находится. Над его головой белая подкладка палатки раздувалась и опускалась, как грудь бегуна в конце дистанции. Вокруг громоздились горы одежды, бумаг, полураспакованная холщовая сумка и ноутбук. В сумерках Фин выбрал относительно ровный участок земли и поставил двухместную палатку. Сейчас он понимал, что земля все же опускается к скалам и морю за ними. Он посидел, слушая, как поскрипывают веревки, дергая колышки. Потом вылез из спального мешка и надел свежую одежду.
Фин расстегнул палатку и вылез на холм. Дневной свет ослепил его. Ночью был дождь, но ветер уже высушил траву. Океан ослепительно сверкал, отражая солнце. Но вот просвет в облаках закрылся, словно кто-то выключил свет. Надев носки, Фин подтянул к груди колени, обнял их и сидел так, вдыхая соленый воздух, запахи торфяного дыма и мокрой земли. Ветер раздувал его короткие, светлые вьющиеся волосы, обжигал лицо и заставлял чувствовать себя живым. Это было восхитительно.
Фин оглянулся через левое плечо на полуразрушенный родительский дом. За ним виднелись руины старого «черного дома», где его предки жили веками. Там он играл, когда был ребенком, счастливым и беззаботным, и не знал, что выпадет на его долю в жизни. Чуть дальше дорога вилась вниз по холму, сквозь собрание разнородных домиков, составлявших деревню Кробост. Красные жестяные крыши над сараями, где стояли ткацкие станки; беленые или покрытые розоватой штукатуркой стены; покосившиеся заборные столбы; на колючей проволоке торчат клоки шерсти. Узкие полоски возделанной земли тянутся вниз, к скалам. На одних выращивают зерно и корнеплоды, на других пасутся овцы. На заросших участках стоят старые трактора и уборочные комбайны — ржавые символы процветания, которое так и не наступило.
За изгибом холма видна темная крыша Церкви Кробоста. Церковь доминирует над пейзажем и управляет жизнями людей, на которых отбрасывает тень. Кто-то в доме священника вывесил белье для просушки, и теперь белые простыни яростно хлопают на ветру. Как сигнальные флаги, призванные напомнить людям о страхе Божьем. Фин презирал церковь и все, что за ней стоит. Но эта церковь была частью дома. При взгляде на нее становилось веселее.
Кто-то окликнул его, когда Фин надевал ботинки. Он встал на ноги, повернулся и взглянул в сторону своей машины, которую прошлым вечером оставил у ворот. Около нее стоял молодой человек. Пока Фин шел к нему по высокой траве, он рассмотрел улыбку гостя — и недоверие на его лице.
Молодому человеку было на вид лет восемнадцать — вдвое меньше, чем Фину. Светлые волосы торчат на голове, как иглы дикобраза. Васильковые глаза так пронзительно похожи на глаза его матери, что у Фина до сих пор мурашки по коже. Секунду они стояли, рассматривая друг друга. Затем Фин протянул руку, и парень пожал ее — коротко, но крепко.
— Привет, Фионлах.
Тот мотнул головой в сторону голубой палатки:
— Ты здесь проездом?
— Это временное жилье.
— Давно тебя не было.
— Давно, да.
Фионлах сделал паузу, чтобы следующие его слова прозвучали с большим значением:
— Девять месяцев, — и сказано это был обвиняющим тоном.
— Мне надо было завершить прежнюю жизнь.
Юноша наклонил голову:
— Значит, ты приехал навсегда?
— Возможно, — Фин повернулся к развалинам. — Это мой дом. Люди возвращаются домой, когда им больше некуда идти. А навсегда или нет — там посмотрим, — и снова взгляд его зеленых глаз застыл на Фионлахе. — Все уже знают?
Двое помолчали, вспоминая прошлый год.
— Все знают, что мой отец погиб на Скерре в августе, во время охоты на гугу.
— Ясно, — Фин кивнул. Затем повернулся, открыл ворота и пошел по направлению к тому, что когда-то было дверью его старого дома. Самой двери, конечно, давно не было, осталось несколько кусков истлевшей балки. На них еще виднелись чешуйки фиолетовой краски, которой отец Фина когда-то покрыл все деревянные поверхности в доме, включая полы. Крыша уцелела, но ее дерево прогнило, и дождевая вода пропитала стены. Доски пола отсутствовали. От дома остался скелет. Здесь не найти и следа той любви, что когда-то его согревала. Фин услышал, как подошел Фионлах, и обернулся.
— Я выпотрошу этот дом. Начну строить его заново изнутри. Не хочешь помочь мне на летних каникулах?
— Может быть, — Фионлах неопределенно пожал плечами.
— Ты отправишься в университет осенью?
— Нет.
— Почему?
— Надо найти работу. Я теперь отец, у меня есть обязательства перед дочерью.
Фин кивнул.
— Как она?
— Хорошо. Спасибо, что спросил.
Он решил не обращать внимания на сарказм.
— А как Донна?
— Живет дома с родителями и ребенком.
Фин нахмурился:
— А как же ты?
— Мы с мамой все еще живем в бунгало, — он качнул головой в направлении дома, который Маршели унаследовала от Артэра. — Преподобный Мюррэй не позволяет мне встречаться с семьей в доме пастора.
Фин не мог поверить своим ушам:
— Почему?! Бога ради, ты же отец ребенка!
— Мне не на что содержать ни свою дочь, ни ее мать. Иногда Донна может принести малышку в бунгало, показать ее мне. Но обычно мы встречаемся в городе.
Фин сдержал свой гнев — ведь направлен он был не на Фионлаха. Но в другом месте, в другое время и перед другим человеком он даст ему волю.
— А твоя мать дома? — Вопрос звучал достаточно невинно, но оба понимали, что за ним стоит.
— Она ездила в Глазго, сдавать вступительные экзамены в университет, — Фионлах отметил, как удивился его собеседник. — Она тебе не сказала?
— Мы не общались.
— А, — юноша снова посмотрел в сторону бунгало Макиннесов. — Я думал, вы с мамой снова будете вместе.
Фин грустно улыбнулся.
— Мы с Маршели не смогли быть вместе много лет назад, — в его голосе сквозило сожаление. — Почему сейчас что-то должно измениться? — Он помолчал. — Она все еще в Глазго?
— Нет. Маме пришлось прилететь сегодня утром. У нас в семье проблемы.
Глава седьмая
Я слышу, как они разговаривают в коридоре. Как будто я глухой! Как будто меня здесь нет! Или я уже умер. Иногда я хочу умереть.
Не понимаю, зачем мне надевать плащ. В доме тепло, и плащ не нужен. И шляпа тоже не нужна. Моя старая мягкая шляпа. Сколько лет она грела мне голову!
Когда я выхожу из спальни, я никогда не знаю, какой будет Мэри. Иногда она добрая, иногда — злая. Они выглядят одинаково, но внутри это разные люди. Сегодня с утра Мэри была злой. Она повышала голос, заставляла меня что-то делать. Надеть плащ. И вот я сижу здесь и жду. Но чего?
И что в чемодане? Она сказала, там мои вещи. Но как такое может быть? Одежды у меня полный гардероб, она сюда не влезет. И мои бумаги тоже. Там счета за много лет, фотографии, письма… Все это просто не поместится в чемодан. Может, мы едем отдыхать?
Теперь я слышу голос Маршели:
— Мама, это просто нечестно!
«Мама». Ну конечно! Я забываю, что Мэри — ее мама. Она отвечает Маршели — конечно, по-английски, потому что гэльский так и не выучила:
— Нечестно? А по отношению ко мне это честно?.. Мне семьдесят лет, Маршели. Я так больше не могу! Он дважды в неделю, не меньше, ходит под себя. Теряется, если выходит из дома один. Как собака! Ему ничего нельзя доверить. Его приводят домой соседи. Если я скажу «да», он скажет «нет». Скажу «белое» — он скажет «черное»!
Ничего я такого не говорю. О чем это она? Вот что значит «злая Мэри».
— Мама, вы женаты сорок восемь лет, — опять Маршели.
— Он не тот, за кого я выходила замуж, — это Мэри. — Я живу с незнакомцем. Он со всем спорит. Просто не хочет признать, что впал в маразм и ничего не помнит. Я всегда во всем виновата. Он что-то делает, а потом отрицает это. Вчера он разбил окно на кухне. Не знаю зачем. Просто взял молоток и разбил! Сказал, что должен впустить собаку. У нас нет собаки с тех пор, как мы уехали с фермы. Через пять минут он спросил меня, кто разбил окно. Я сказала, что он, а он сказал — нет, наверное, я разбила. Я!.. Я устала от этого, Маршели.
— А как же социальный центр? Он ходит туда три раза в неделю. Может, удастся записать его на пять дней или даже на шесть.
— Нет! — Мэри уже кричит. — От этого мне только хуже! Каждый день несколько часов нормальной жизни, я одна в доме, а думать могу только о том, что вечером он вернется, и моя жизнь снова превратится в ад.
Я слышу, как она плачет, шумно всхлипывая. Я уже не знаю, добрая это Мэри или злая. Не люблю, когда она плачет — мне становится грустно. Пытаюсь выглянуть в холл, но мне говорящих не видно. Надо пойти, спросить, могу ли я чем-то помочь. Но злая Мэри велела мне сидеть здесь. Наверное, ее успокоит Маршели. Интересно, что ее так расстроило? Я помню день, когда мы с Мэри поженились. Мне было всего двадцать пять, а ей и того меньше — двадцать два. В тот день она тоже плакала. Мэри была милая девушка. Англичанка, но тут уж ничего не поделаешь.
Наконец плач прекратился. Мне приходится вслушиваться изо всех сил:
— Я хочу, чтобы его здесь не было, Маршели.
— Мама, так нельзя. Куда он пойдет? Я не могу с ним возиться, а частный дом престарелых — это слишком дорого.
— Мне все равно, — голос Мэри полон злости и жалости к себе. — Придется тебе что-то придумать. Он должен убраться прямо сейчас.
— Но мама…
— Он одет и готов, и я собрала его вещи. Я все решила, Маршели. Я не потерплю его здесь больше ни минуты.
Они долго молчат. Интересно, о ком они говорили? Я поднимаю глаза — и внезапно вижу в дверях Маршели. Я даже не слышал, как она вошла. Моя малышка! Я люблю ее больше всего на свете. Надо будет сказать ей об этом. Но сейчас она выглядит бледной и усталой, и ее лицо в слезах.
— Не плачь, — говорю я. — Я еду отдыхать. И я скоро вернусь.
Глава восьмая
Фин стоял и смотрел на дело рук своих. Он начал работу над домом с того, что убрал все прогнившее дерево. Теперь оно лежало огромной кучей во дворе между домом и старым каменным сараем с проржавевшей жестяной крышей. Если дождя не будет достаточно долго, ветер высушит дерево. Потом его можно будет накрыть и хранить до ноябрьских костров. Стены и фундамент сохранились неплохо, но крышу придется снять и обновить. Иначе дом будет и дальше протекать, и просушить его не удастся. Начать нужно с шифера — снять его и сложить. А для этого нужна стремянка.
Ветер раздувал синий комбинезон Фина, теребил клетчатую рубашку, высушивал пот на лице. Жизнь вдали от острова заставила его забыть, что здесь ветер дует почти всегда. На Льюисе ветер замечали, когда он прекращался. Фин посмотрел в сторону бунгало Маршели. Ее машины не было, значит, она еще не вернулась. Фионлах должен быть в школе в Сторновее.[13] Надо будет зайти попозже, попросить стремянку.
Юго-западный ветер оставался теплым, но чувствовалось, что пойдет дождь. На далеком горизонте собирались черно-синие тучи. По контрасту с ними солнечный свет казался очень ярким. Звук мотора заставил Фина обернуться. Маршели подъехала на старой «Воксхолл Астре»,[14] принадлежавшей еще Артэру. Она остановилась у края дороги и смотрела вниз с холма. В машине с ней был кто-то еще. Фин долго стоял, глядя на нее издали. Но вот Маршели вышла из машины и начала спускаться к нему по дорожке. Ветер растрепал ее длинные волосы. Лицо в их обрамлении было бледным и худым, безо всякой косметики, фигура Маршели тоже казалась тоньше. Она остановилась в ярде от Фина. Сначала они просто смотрели друг на друга.
— Я не знала, что ты приедешь.
— Я и сам все решил только пару дней назад. Когда получил развод.
Женщина запахнула непромокаемую куртку и сложила руки на груди, словно ей было холодно.
— Ты останешься?
— Не знаю. Пока займусь домом, а там посмотрим.
— А как же твоя работа?
— Я ушел из полиции.
Маршели явно удивилась.
— И что ты будешь делать?
— Еще не знаю.
Она улыбнулась своей ироничной улыбкой, которую он так хорошо помнил:
— Здесь лежит Фин Маклауд. Он ничего не знал.
Он улыбнулся в ответ:
— Я получил степень по вычислительной технике.
— Да? — Маршели вздернула бровь. — В Кробосте тебе это очень поможет.
— Верно, — на этот раз Фин засмеялся. Она всегда могла его рассмешить. — Посмотрим. Может, пойду работать на верфь в Арнише, как отец и Артэр.
При его упоминании лицо Маршели затуманилось.
— Ты этого не сделаешь, Фин.
Верфь всегда была последним местом, куда шли мужчины острова, если не могли найти работу на рыболовецком судне или попасть в университет на материке. Хотя платили там неплохо.
— Верно.
— Тогда не говори чушь. Ты ее и так достаточно наговорил, пока мы были молоды.
— И то правда, — он усмехнулся, потом указал на «Воксхолл». — А кто в машине?
— Мой отец, — голос Маршели сразу изменился.
— Ясно. Как он?
Этот невинный вопрос заставил глаза женщины наполниться слезами.
— Что случилось? — Фин даже испугался. Но Маршели молчала, как будто боялась не справиться с голосом. Наконец она смогла вымолвить:
— Мама выгнала его. Говорит, она так больше не может. Теперь мне придется смотреть за ним.
— Почему?..
— У него маразм, Фин. Когда ты видел его в последний раз, все было не так плохо. Но ситуация быстро ухудшается. С каждым днем он все беспомощней, — Маршели оглянулась на машину, и из глаз ее потекли слезы. — Но я не могу смотреть за ним. Не могу!.. Я только начала приходить в себя после двадцати лет жизни с Артэром и его матерью. У меня впереди экзамены, надо думать о будущем Фионлаха, — она посмотрела на Фина в отчаянии. — Это звучит ужасно, да? Я просто эгоистка.
Фин хотел обнять ее и прижать к себе, но не мог. С последней встречи прошло слишком много времени. Поэтому он просто сказал:
— Вовсе нет.
— Но это мой отец!
— Я думаю, социальная служба что-нибудь найдет для него. Хотя бы временно. А дом престарелых?
— Мы не можем себе его позволить. Ферма была не наша — мы ее арендовали, — Маршели вытерла слезы тыльной стороной ладони, постаралась взять себя в руки. — Я звонила в социальную службу, еще из маминого дома. Я им все объяснила, но там сказали, мне надо приехать и поговорить с ними лично. Сейчас я хотела отвезти отца в социальный центр и подумать, что делать дальше, — она покачала головой, борясь с подступающими слезами. — Я просто не знаю, как быть.
— Я переоденусь и съезжу с вами в город, — предложил Фин. — Пообедаем с твоим отцом в пабе, потом оставим его в центре и поедем говорить с социальной службой.
Маршели всмотрелась в его лицо грустными синими глазами:
— Зачем тебе это, Фин?
— Мне нужно передохнуть, — усмехнулся он. — И я хочу выпить пива.
«Краун-Отель» располагался на узком перешейке под названием Саут-Бич, разделявшем внутреннюю и внешнюю бухты Сторновея. Бар там на втором этаже, и из него открывается вид на обе бухты. Рыболовецкий флот стоял на якоре во внутренних водах, покачиваясь на волнах прилива. Траулеры и краболовные суда, старые и ржавые, но при этом ярко раскрашенные. Как старухи, которые прячут за слоями косметики следы неумолимого времени.
Тормод был дезориентирован. Вначале он не узнал Фина, но потом тот заговорил с ним о своем детстве, о том, как навещал Маршели на ферме. Тогда он уже был влюблен в нее по уши, и судьба их была предрешена. Тут лицо Тормода осветилось — он вспомнил друга своей дочери, каким он был в детстве.
— Ты быстро вырос, мальчик! — и он взъерошил Фину волосы, как будто тому было всего пять лет. — Как твои родители?
Маршели смущенно взглянула на Фина и тихо произнесла:
— Пап, его родители погибли в аварии больше тридцати лет назад.
Лицо Тормода стало печальным. Он повернулся к собеседнику — синие глаза влажно блеснули за стеклами круглых очков в серебристой оправе. Такие же глаза были у его дочери и ее сына; вот она, неразрывная связь поколений.
— Мне очень жаль, сынок.
Фин усадил Маршели с отцом за столик у окна и отошел к барной стойке — взять меню и заказать напитки. Когда он вернулся, Тормод пытался вытащить что-то из кармана брюк, вертясь на стуле. «Вот черт», — повторял он.
— Что он делает?
Женщина с унылым видом покачала головой:
— Он снова начал курить. А ведь бросил двадцать с лишним лет назад! У него в кармане пачка сигарет, но он не может ее достать.
— Мистер Макдональд, здесь нельзя курить, — предупредил Фин. — Для этого придется выйти на улицу.
— Но там дождь!
— Нет, дождя пока нет. Я могу постоять с вами, пока вы курите.
— Не могу вытащить эту дрянь из кармана! — Тормод говорил громко, почти кричал. Бар понемногу заполнялся жителями Сторновея и туристами — близилось обеденное время. На них начинали поглядывать.
— Папа, не надо кричать, — театральным шепотом заметила Маршели. — Хочешь, я достану их?
— Я и сам прекрасно справлюсь!
К ним стали оборачиваться. Бармен принес их напитки. Это оказался парень лет двадцати, с польским акцентом. Тормод поднял на него глаза и заявил:
— Подбавь огоньку!
— Он хочет курить, — извиняющимся тоном сказала Маршели. Потом Фину:
— Мать стала прятать от него спички, так что он будет их просить.
Бармен только улыбнулся, оставил напитки и ушел. Тормод все еще пытался вытащить сигареты из кармана.
— Они там! Я чувствую. Но достать не могу!
Люди за соседними столами смеялись.
— Давайте я вам помогу, мистер Макдональд, — Фин решил взять дело в свои руки. Тормод наотрез отказывался от помощи Маршели, но его предложение принял с радостью. Фин взглядом попросил у женщины прощения, встал на колени около старика и запустил руку ему в карман. При этом он спиной ощущал, что на них направлено всеобщее внимание. И тут его ждала неожиданность. Фин, как и Тормод, чувствовал сигареты, но не мог их достать. Казалось, они не в кармане, а скорее под ним. Пришлось поднять пуловер старика, чтобы проверить брюки на предмет потайных карманов. То, что Фин увидел, заставило его улыбнуться.
— Мистер Макдональд, на вас две пары брюк.
За соседними столами начали хохотать.
— Правда? — Тормод нахмурился.
Фин взглянул на Маршели:
— Сигареты в кармане тех брюк, которые внизу. Я отведу его в туалет и сниму лишнюю пару.
В кабинке туалета Фин смог уговорить Тормода снять ботинки и помог ему избавиться от лишних брюк. Потом усадил его на унитаз, чтобы зашнуровать обувь. Сложил брюки, помог старику подняться. Тот слушался беспрекословно, как хорошо воспитанный ребенок. Единственное отличие — Тормод все время его благодарил.
— Ты хороший парень, Фин. Ты всегда мне нравился. А на отца как похож! — Тут он погладил молодого мужчину по голове и сообщил: — Мне надо пописать.
— Конечно, мистер Макдональд! Я вас подожду.
Фин пустил в раковине воду, чтобы старику было не холодно мыть руки. Он обернулся, услышав за спиной:
— О черт!
Очки Тормода соскользнули с носа и упали в писсуар. При этом струя мочи продолжала литься прямо на них. Фин вздохнул: было уже понятно, кому придется доставать очки. Как только Тормод закончил, он наклонился и аккуратно вытащил их из писсуара. Старик молча смотрел, как Фин тщательно ополоснул его очки под краном, потом намылил руки и ополоснул и их тоже.
— Вымойте руки, мистер Макдональд, — предложил он, а сам взял из кабинки немного туалетной бумаги, чтобы вытереть очки. Когда Тормод вытер руки, Фин надел на него очки, закрепив их за ушами и на переносице.
— Берегите их, мистер Макдональд. Вы же не хотите писать себе на ноги?
Почему-то эта идея показалась Тормоду смешной. Маршели выжидательно смотрела на подходящих мужчин, при виде смеющегося отца на ее лице тоже заиграла улыбка.
— Что у вас случилось?
— Ничего, — и Фин отдал ей аккуратно сложенные брюки. — Просто у твоего отца хорошее чувство юмора.
Он усадил старика за стол и сел сам. Тормод посмотрел на него с благодарностью, как будто понимал, как было бы унизительно, если бы Фин рассказал про случай в туалете. Но что он на самом деле чувствовал? Что думал? Насколько отдавал себе отчет в происходящем? Этого никто не знал. Он словно потерялся в тумане внутри собственного разума. Бывали дни, когда этот туман немного рассеивался. Но были и такие, когда он сгущался и полностью скрывал свет — в точности как туман у побережья острова.
Социальный центр «Солас» стоит на северо-восточной окраине Сторновея — Вествью-Террас. Это современное одноэтажное здание, перед его фасадом и с обратной стороны — парковки. Рядом расположен дом престарелых «Дун Эйсдин», вокруг — деревья и аккуратно подстриженные лужайки. Дом престарелых находится в ведении Совета Западных островов. За зданием центра начинается торфяное болото. Сейчас оно блестит в последних отсветах солнца. Желтые лучи падают под углом, и болото кажется золотым полем; оно тянется до мыса и залива. С юго-запада ползут новые тучи, темные и набрякшие дождем. Ветер крепчает.
Маршели припарковала машину с задней стороны здания, напротив ряда жилых фургонов. Их поставили здесь, чтобы обеспечить центру дополнительные места. Первые крупные капли дождя упали на землю, когда она и Фин вели Тормода ко входу. Но как только они подошли, дверь открылась. Ее придерживал темноволосый мужчина в черной стеганой куртке. Только войдя в помещение, Фин смог узнать его.
— Джордж Ганн!
Ганн удивился так же сильно. Впрочем, поздоровался он вежливо:
— Мистер Маклауд! — мужчины пожали друг другу руки. — Я не знал, что вы на острове, сэр, — затем он так же вежливо кивнул Маршели, — миссис Макиннес.
— Макдональд. Я снова взяла девичью фамилию.
— И я больше не «сэр», Джордж. Просто Фин. Я ушел из полиции.
Ганн поднял брови:
— Да? Мне очень жаль, мистер Маклауд.
Пожилая женщина с седыми волосами, выкрашенными в голубоватый цвет, подошла к ним, взяла отца Маршели за руку и увела:
— Здравствуй, Тормод. Я не ждала тебя сегодня. Пойдем, заварим тебе чаю.
Ганн посмотрел им вслед, потом повернулся к Маршели.
— Вообще-то, мисс Макдональд, я хотел поговорить с вашим отцом.
— Зачем вам с ним говорить? Да и вряд ли вы сможете у него что-то узнать.
— Я понимаю, — Ганн серьезно кивнул. — Я ездил на ферму Мелнесс, говорил с вашей матерью. Но раз уж вы здесь, будет хорошо, если вы мне тоже кое-что расскажете.
Фин положил ладонь на руку полицейского:
— Что все это значит, Джордж?
Тот аккуратно убрал руку:
— Пожалуйста, проявите терпение, сэр.
И Фин сразу понял: происходит что-то необычное.
— Что я должна рассказать? — спросила Маршели.
— Кое-что про вашу семью.
— Например?
— У вас есть дяди, мисс Макдональд? Или кузены? Любые родственники, кроме ближайших.
Маршели нахмурилась.
— По-моему, у мамы есть дальняя родня где-то на юге Англии.
— Со стороны отца.
— А-а… — женщина глубоко задумалась. — Я таких не знаю. Папа был в семье один — ни братьев, ни сестер.
— А кузены?
— Тоже нет. Он из деревни Силбост на острове Харрис. Насколько я знаю, он единственный из семьи до сих пор жив. Однажды он возил нас посмотреть ферму, на которой вырос. Конечно, она была уже заброшена. И он показывал нам школу Силбоста, где учился в детстве. Очень красивая школа, маленькая, с отличным видом на пляж Ласкентайр. А вот о родственниках отец не говорил.
— Что происходит, Джордж? — Фину оказалось очень трудно проявлять терпение.
Ганн посмотрел на него как-то смущенно. Пригладил темные волосы, росшие «вдовьим мыском» у него на лбу. Наконец решился и заговорил:
— Несколько дней назад в торфяном болоте у Сиадера, на западном побережье, нашли тело. Отлично сохранившееся тело мужчины лет двадцати, мистер Маклауд. Он был жестоко убит, — полицейский помолчал. — Вначале мы думали, что телу несколько сот лет. Оно могло относиться ко временам скандинавского владычества. А может, даже к каменному веку. Но Элвис Пресли, вытатуированный на правой руке трупа, отправил нашу теорию на помойку.
— Еще бы, — кивнул Фин.
— В любом случае, сэр, патологоанатом установил, что этого парня убили в конце пятидесятых годов двадцатого века. А значит, его убийца может быть еще жив.
Маршели в ужасе трясла головой:
— А при чем здесь мой отец?
Ганн втянул воздух сквозь стиснутые зубы.
— Дело в том, мисс Макдональд, что рядом с телом не было ни одежды, ни вещей, которые помогли бы его идентифицировать. Полицейский врач взял образцы жидкостей и тканей и отправил их на анализ.
— А потом ДНК проверили по базе данных? — спросил Фин. Ганн слегка покраснел:
— Ну да, вы же помните. В прошлом году почти все мужчины Кробоста сдавали образцы ДНК, когда мы расследовали убийство Ангела Макричи.
— Эти образцы уже должны были уничтожить.
— Донор должен сам потребовать этого, мистер Маклауд. И подписать бумаги. А мистер Макдональд этого не сделал. Ему должны были все объяснить, но не объяснили, похоже. Или он ничего не понял, — Ганн взглянул на Маршели. — И вот база данных выдала совпадение. Кто бы ни был этот парень из болота, он приходился родней вашему отцу.
Глава девятая
В окно громко стучит дождь. Конечно, на болоте его не было слышно. Там вообще ничего не слышно, кроме ветра. Зато прекрасно чувствуешь, как дождь хлещет по лицу, особенно если его подгоняет ветер. Иногда он даже летит горизонтально! Мне это всегда нравилось — стоять под дождем наедине с огромным небом. Но теперь меня держат взаперти. Злая Мэри говорит, мне нельзя доверять. Мы сидим в большой пустой гостиной, и все на меня смотрят. Я не знаю, чего они ждут. Может, они заберут меня домой? Я узнаю Маршели, конечно. И этот парень с кудрявыми светлыми волосами — он кажется знакомым. Я еще вспомню, как его зовут. Я всегда вспоминаю. А этот, второй тип? Я его не знаю! У него круглое красное лицо и блестящие черные волосы.
Маршели наклоняется ко мне и спрашивает:
— Пап, а что стало с твоей семьей? У тебя были кузены или дяди, о которых ты нам не рассказывал?
Я не понимаю, о чем она. Все мои родные умерли. Это всем известно!
Фин! Конечно! Кудрявый парень — это Фин. Теперь я его вспомнил. Он приходил на ферму, ухаживал за моей малышкой Маршели, когда они еще считать не умели. Интересно, что с его родителями? Мне нравился его отец. Хороший был мужчина, серьезный.
Своего отца я не видел, только слышал рассказы о нем. Конечно, он был моряком. В те времена все, кто хоть чего-то стоили, шли на флот. День, когда мама позвала нас в гостиную, чтобы сообщить новости, выдался довольно мрачным. До Рождества оставалось совсем немного, и мама постаралась украсить дом. Нам было ужасно интересно, что за подарки мы получим. Ничего особенного мы не ждали, но сюрприз есть сюрприз.
На улице шел снег — правда, очень быстро он превратился в снег с дождем. Но в воздухе успела повиснуть зеленовато-серая дымка. Да и света в окна доходного дома проникало совсем не много.
Если верить моей памяти, наша мать была красивой женщиной. Правда, помню я о ней мало. Помню, какая она была мягкая, когда обнимала меня; помню запах ее духов и еще фартук в синий цветочек, который она всегда носила. Она посадила нас с братом на кушетку, а сама встала перед нами на колени и положила мне руку на плечо. Мама была очень бледная — такого же цвета, как снег. И я видел, что она плакала. Мне тогда было всего четыре года, а Питеру — на год меньше. Его зачали во время увольнительной, до того, как отца отправили в море. Мама сказала нам: «Мальчики, ваш папа не вернется». Ее голос дрогнул. Больше ничего из того дня я не помню. И рождество в тот год было невеселым. Все мои воспоминания о временах детства — цвета сепии, как выцветшая чернобелая фотокарточка. Тусклые и невзрачные. Лишь потом, став старше, я узнал, что корабль отца потопила немецкая подводная лодка. Он шел в одном из конвоев, на которые эти подлодки всегда нападали в Атлантическом океане, между Англией и Америкой. Когда я это узнал, у меня возникло чувство, что я тону вместе с отцом, падаю сквозь толщу воды во тьму.
— У вас остались родственники на Харрисе, мистер Макдональд? — Фин очень серьезно смотрит на меня. Он-то и задал этот вопрос. У Фина красивые зеленые глаза. Не понимаю, почему Маршели вышла не за него, а за этого никчемного Артэра Макиннеса. Мне он никогда не нравился.
Фин все еще смотрит на меня, и я пытаюсь вспомнить, что он спрашивал. Что-то о моей семье.
— Я был с матерью в ту ночь, когда она умерла, — говорю я ему. И вдруг чувствую, что на глазах у меня слезы. Ну почему мама ушла?.. В той комнате было так темно. Темно, жарко, и воздух пах болезнью и смертью. На тумбочке стояла электрическая лампа, она бросала бледный свет на мамино лицо. Сколько мне тогда было лет? Сейчас трудно вспомнить. Наверное, лет тринадцать-четырнадцать. Я был уже достаточно взрослый, чтобы все понимать, но не дорос до ответственности. И не был готов отправиться в одиночное плавание по бурному морю жизни. Да и можно ли быть к этому готовым? Я даже представить себе не мог, какой станет моя жизнь. До этого я знал только тепло и безопасность своего дома да мать, которая меня любила.
Не знаю, где в ту ночь был Питер. Наверное, он уже спал. Бедный Питер! После падения с карусели на детской площадке он так и не стал прежним. Как глупо — один раз проявил беспечность, сходя с карусели до того, как она остановилась, и его жизнь изменилась раз и навсегда.
У мамы были темные глаза, в них отражалась лампа, что стояла на тумбочке. Но я видел, как этот свет меркнет. Она повернулась ко мне. В ее глазах была такая грусть! Я знал: грустит она не о себе, а обо мне. Мама подняла правую руку и сняла с левой, лежавшей поверх одеяла, кольцо. Я никогда не видел такого кольца — массивное, серебряное, с двумя переплетающимися змеями. Его привез откуда-то из-за границы один из родичей моего отца, и с тех пор оно передавалось в семье из поколения в поколение. Когда отец женился на матери, у него не было денег, и он подарил это кольцо маме в качестве обручального.
Сейчас мама взяла мою руку, положила на ладонь кольцо и сложила свои пальцы поверх моих.
— Я прошу тебя присмотреть за Питером, — сказала она мне. — Он не выживет один. Пожалуйста, обещай мне, Джонни. Обещай, что будешь заботиться о нем.
Конечно, тогда я не понимал, какая это ответственность. Но это была последняя просьба моей матери. Я торжественно кивнул и дал обещание. Она улыбнулась и слегка сжала мои пальцы. Я видел, как угас свет в ее глазах и как они закрылись. Ее рука расслабилась и отпустила мою.
Священник пришел только через пятнадцать минут.
Проклятье! Что это звенит?
Глава десятая
Маршели, взволнованная и смущенная, кинулась искать в сумочке телефон. Она невольно помешала беседе; впрочем, ее отец мало что им рассказал. Но он сумел вспомнить, что был с матерью в момент ее смерти, и по его лицу покатились слезы. Он явно переживал какую-то эмоциональную бурю. Звонок телефона помешал ему.
— Какого черта? — раздражался Тормод. — Даже дома честным людям нет покоя!
Фин наклонился вперед, положил руку ему на плечо.
— Ничего страшного, мистер Макдональд. Просто Маршели кто-то позвонил.
— Секундочку, — женщина прикрыла микрофон, тихо проговорила: «Я выйду в коридор», и поспешила покинуть большую гостиную. Большинство пациентов социального центра уехали на экскурсию на микроавтобусе, и здание почти пустовало.
Ганн кивнул на дверь. Они с Фином встали и, тихо переговариваясь, отошли от Тормода. Сержант был лет на шесть-семь старше Фина, но на голове у него не было ни единого седого волоса. Бывший полицейский задумался, не красит ли он их. Хотя не такой это был человек. Да и на лице у Ганна до сих пор ни единой морщины. Озабоченная гримаса — не в счет.
— Сюда пришлют кого-нибудь с материка, мистер Маклауд, — сообщил сержант. — Расследование убийства не поручат парню с острова. Вы же сами понимаете.
Фин кивнул.
— Кого бы они ни прислали, он не будет так внимателен к людям, как я. Единственное, что мы знаем о парне из болота — это то, что он приходится родственником Тормоду Макдональду, — Ганн помолчал, потом озабоченность на его лице сменилась виноватым выражением. — Значит, сам Тормод будет первым подозреваемым.
Из холла вернулась Маршели, убирая в сумочку телефон.
— Звонили из социальной службы. В «Дун Эйсдин» освободилось место в отделении Альцгеймера.
Глава одиннадцатая
Дома моя комната больше, чем здесь. Зато здесь недавно делали ремонт: пятен на потолке нет, и стены белые, чистые. На окнах двойное остекление. Ветра не слышно, и стука дождевых капель по стеклу тоже. Только видно, что окно снаружи залито водой, как будто слезами. Если плакать в дождь, никто ничего не заметит. Но плакать надо в одиночестве. Стыдно было сидеть там в слезах, пока все смотрели на меня.
Сейчас я не плачу, хотя мне грустно. Не знаю, почему. Интересно, когда Маршели придет и заберет меня домой? Надеюсь, там будет добрая Мэри. Иногда она гладит меня по лицу и смотрит на меня так, будто когда-то я ей нравился.
Открывается дверь, и в комнату заглядывает приятная молодая женщина. Она мне кого-то напоминает, но я не могу вспомнить, кого.
— Вы все еще в плаще и шляпе, мистер Макдональд, — замечает она. — А можно звать вас по имени — Тормод?
— Нет! — я как будто пролаял это слово. Девушка вздрагивает:
— Зачем вы так, мистер Макдональд? Мы же все здесь друзья. Давайте снимем ваш плащ и повесим в шкаф. И надо распаковать вашу сумку, разложить одежду по ящикам. Вы сможете сами решить, что куда класть.
Она подходит к кровати, на которой я сижу, и хочет помочь мне встать. Я стряхиваю ее руки:
— Мой отпуск закончен. Маршели придет и заберет меня домой.
— Нет, мистер Макдональд. Никто не придет. Теперь ваш дом здесь.
Я сижу и думаю: что это значит? Что она хотела сказать? Тем временем женщина убирает мою шляпу, потом поднимает меня на ноги и помогает снять плащ. Я ничего не понимаю! Это не мой дом. Маршели скоро придет. Она не может бросить меня здесь. Ведь правда? Она же моя любимая малышка.
Я снова сажусь. Матрас на кровати довольно жесткий. Маршели все нет. И я чувствую… Что же я чувствую? Как будто меня обманули. Предали. Сказали, что я поеду в отпуск, и бросили меня здесь. Все как в тот день, когда меня привезли в Дин. Он был нашей тюрьмой, а мы — заключенными.
Когда мы с Питером приехали в Дин, был конец октября. Трудно было поверить, что для детей построили такой громадный дом. Длинное двухэтажное каменное здание на холме, с обеих сторон от центрального возвышения — четырехугольные колокольни. Правда, колоколов в них не было, стояли каменные урны. Главный вход располагался в портике, его треугольную крышу поддерживали четыре гигантские колонны. На крыше тикали огромные часы. Их золотые стрелки отсчитывали время, которое мы провели в Дине. Иногда нам казалось, что время идет вспять. Думаю, дело было в нашем возрасте: в юности год составляет значительную часть жизни и тянется бесконечно. В старости таких лет уже прошло очень много, и каждый новый проходит быстрее. Мы движемся от рождения к смерти — вначале медленно, потом все быстрее и быстрее.
В тот день нас привезли в большой черной машине. Не знаю, кому она принадлежала. Было холодно, начинался снег с дождем. С верхней ступеньки лестницы открывался вид на жилища плотников внизу в долине, серые шиферные крыши и мощеные брусчаткой улицы. Еще дальше виднелся город. Нас окружала зелень: деревья, огромный огород, фруктовый сад, — и при этом до центра было рукой подать. Со временем я узнал, что в тихие ночи здесь можно было услышать шум машин, а иногда даже увидеть их фары.
Это был последний раз, когда мы видели свободный мир. Пересекая порог Дина, мы прощались со всем человеческим. В этом мрачном месте царили темные стороны человеческой натуры. В частности, эти темные стороны воплощал управляющий. Его звали мистер Андерсон, и другого такого грубого и злого человека надо было поискать. Я часто спрашивал себя, кем надо быть, чтобы получать удовольствие, помыкая несчастными детьми и наказывая их. Часто я мечтал встретиться с мистером Андерсоном на равных. Тогда мы посмотрели бы, насколько он силен! У себя в кабинете он держал двухвостую кожаную плетку. Длиной она была почти восемнадцать дюймов, толщиной — полдюйма. Когда мистер Андерсон хотел кого-то выпороть, он отправлял его к лестнице, ведущей в спальню мальчиков. Нужно было встать на первую ступеньку, чтобы стоять выше уровня пола, а руками держаться за третью ступеньку. И управляющий хлестал нас по задницам, пока наши ноги не начинали подгибаться.
Мистер Андерсон казался нам высоким, почти гигантом. На самом деле он был ненамного выше кастелянши. Свои редеющие пепельные волосы он зачесывал назад, и они казались нарисованными на его узком черепе. Верхнюю губу управляющего украшали тонкие, черные с проседью усики. Он носил темно-серые костюмы, и брючины собирались гармошкой над черными туфлями из толстой кожи. Туфли скрипели на плитках пола. Я всегда вспоминал крокодила из «Питера Пэна», который проглотил часы. Скрип туфель мистера Андерсона был для нас как «тик-так» крокодила. Управляющий курил трубку, и вокруг него всегда висел запах застоявшегося табачного дыма. В углах рта у него собиралась слюна. Когда он говорил, слюна пенилась на губах, становясь все гуще и белее с каждым словом. Он никогда не обращался к нам по имени. «Мальчик!» или «Эй, девочка!» — вот и все. И еще он говорил слова, которых мы не понимали — например, «провизия» вместо простого и понятного «конфеты».
Я первый раз увидел мистера Андерсона, когда люди, которые привезли нас в Дин, зашли со мной в его кабинет. Он был сама учтивость и все убеждал их, что за нами здесь отлично присмотрят. Но стоило им выйти за дверь, как мы быстро поняли, что такое «присмотр» в его понимании. Вначале он прочел нам короткую лекцию. Мы, дрожа, стояли на линолеуме перед его огромным полированным столом. Управляющий устроился по другую сторону стола, сложив на его поверхности руки. По бокам от него поднимались к самому потолку огромные окна.
— Начнем с начала. Вы всегда должны обращаться ко мне «сэр». Это понятно?
— Да, сэр, — ответил я. Питер ничего не сказал, и я ткнул его локтем.
— Что?..
Я указал головой на мистера Андерсона и повторил:
— Да, сэр.
Питер немного подумал, потом улыбнулся и повторил:
— Да, сэр.
Управляющий холодно посмотрел на него и продолжил:
— Мы здесь не поощряем римско-католическую церковь. Вы не должны петь гимны и читать библию вместе с нами. Оставайтесь в спальне, пока утренние молитвы не закончатся. Не пытайтесь обжиться: надеюсь, долго вы здесь не задержитесь, — он наклонился вперед, и костяшки его пальцев на столе ярко забелели в сумерках. — Пока вы здесь, помните: есть только одно правило, — тут он помолчал, потом громко и четко проговорил: — Делайте. То. Что. Вам. Говорят, — он снова встал. — Все понятно?
Питер взглянул на меня. Я едва заметно кивнул.
— Да, сэр, — хором сказали мы.
Иногда мы с Питером читали мысли друг друга. Если я думал за двоих.
Затем нас проводили в кабинет кастелянши. Это была незамужняя женщина средних лет. До сих пор помню ее рот с опущенными уголками и потухшие глаза в окружении глубоких теней. Никогда нельзя было понять, о чем она думает. Казалось, у нее всегда плохое настроение — даже если она улыбалась, что случалось крайне редко, уголки рта все равно оставались опущены.
Нам пришлось целую вечность стоять перед ее столом. Вначале она заводила дела на нас с Питером, потом велела раздеться. Мой брат отнесся к этому спокойно, а мне было неловко. Кроме того, я боялся, что у меня случится эрекция. Конечно, в кастелянше не было совершенно ничего сексуального. Но ведь заранее не знаешь, когда это с тобой случится! Кастелянша осмотрела нас обоих в поисках особых примет, потом принялась искать в волосах гнид. Ничего не нашла, но сказала, что волосы у нас слишком длинные, и придется их постричь. Потом короткие толстые пальцы, от которых во рту было горько, как от антисептика, ощупали наши десны и зубы. Как будто мы были животными, которых привезли на рынок.
Я хорошо помню, как мы шли в ванную. Раздетые, со стопками сложенной одежды в руках, спотыкаясь от тычков в спину. Не знаю, где в этот день были другие дети. Наверное, в школе. Но я рад, что нас никто не видел. Это было унизительно. В большую цинковую ванну налили шесть дюймов едва теплой воды. Мы сели в ванну вдвоем и тщательно намылились карболовым мылом под пристальным взглядом кастелянши. Больше в Дине я никогда не делил ванну всего с одним человеком. Все мылись раз в неделю, в одну ванну садилось четыре человека, а воды полагалось столько же. В тот день нам очень повезло.
Спальня мальчиков находилась в восточном крыле, на втором этаже. Ряды кроватей стояли вдоль противоположных стен длинного зала. В его торцах были высокие арочные окна, а в наружной стене прорублены меньшие, четырехугольные. Когда пришла весна, спальню заполнило яркое, теплое солнце. Но сейчас комната казалась очень мрачной. Нам с Питером выделили кровати, стоявшие рядом в дальнем конце спальни. Пока мы шли между кроватями, я заметил, что все они аккуратно заправлены, и в ногах каждой лежит небольшой джутовый мешок. Между нашими кроватями стоял чемодан, а поверх него лежали два мешка — для нас с Питером. Ни тумбочек, ни комодов здесь не было. Как я вскоре выяснил, иметь личные вещи — и сохранять связь с прошлым — здесь считалось нежелательным.
Мистер Андерсон зашел в спальню вслед за нами.
— Можете переложить вещи из чемодана в мешки, — сообщил он. — Эти мешки должны все время находиться в ногах ваших кроватей. Понятно?
— Да, сэр.
Кто-то аккуратно сложил все наши вещи. Я отделил свою одежду от вещей Питера и заполнил мешки. Питер какое-то время сидел на кровати, рассматривая единственную вещь, которая осталась от отца — альбом с сигаретными пачками. Такие альбомы делали для марок, но отец на каждую страницу клеил картинки с пачек сигарет. У некоторых были странные названия — «Палочка радости», «Летящее облако», «Мятный джулеп». На всех яркие картинки — молодые мужчины и женщины радостно дымят, во рту у них набитые табаком трубочки, которые непременно их убьют. На самом деле альбом был мой, но я с радостью отдал его брату. Он готов был рассматривать его не переставая. Я никогда его не спрашивал, но, думаю, так он чувствовал прямую связь с нашим отцом. А вот я гораздо сильнее ощущал связь с матерью. Кольцо, которое она отдала мне, я был готов защищать ценой своей жизни. Никто не знал, что оно у меня, даже Питер. Ему нельзя было доверить секрет — он немедленно разболтал бы всем. Я был уверен, что такую вещь постараются украсть или отобрать у меня, и хранил его в свернутых носках.
Столовая находилась на первом этаже. Там мы и встретили остальных обитателей Дина, когда они вернулись из школы. В то время их было человек пятьдесят или чуть больше. Мальчики жили в восточном крыле, девочки — в западном. Конечно, мы вызвали всеобщий интерес. Наивные новички, домашние дети, да к тому же католики! Остальные-то — сироты со стажем, если можно так сказать. Откуда-то все узнали, что мы католики, и это провело невидимую черту между нами и остальными. Никто не хотел говорить с нами. Кроме Кэтрин.
Она тогда была настоящим сорванцом. Короткие каштановые волосы, белая блузка под темнозеленым пуловером, серая юбка в складку, серые носки гармошкой вокруг щиколоток и тяжелые черные ботинки. Мне в ту пору было примерно пятнадцать, а Кэтрин на год меньше. Но я заметил, что у нее уже довольно большая грудь. Впрочем, ничего женственного в Кэтрин не было. Она любила ругаться, у нее была невероятно нахальная улыбка, и она никому не давала спуску, даже старшим мальчикам. Мы должны были носить галстуки как часть школьной формы. Но в тот день свой она уже сняла, и в вырезе блузки у нее виднелся медальон со Святым Христофором на серебряной цепочке.
— Вы паписты, да? — сразу спросила она.
Я поправил:
— Католики.
— Ну, я и сказала — паписты. Меня зовут Кэтрин. Пошли, я вам покажу, что тут и как.
И мы пошли за ней к столу, взяли деревянные подносы и встали в очередь у кухонного окошка, чтобы получить порцию ужина.
— Еда — дерьмо, — шепотом наставляла нас Кэтрин. — Но вы не переживайте. У меня есть тетка, она присылает мне еду. Наверное, чтоб не чувствовать вины. Тут многие на самом деле не сироты — просто из неполных семей. И многим присылают еду. Только ее надо быстро есть, а то эти черти все заберут, — она таинственно улыбнулась и прошептала:
— Ночью мы пируем на крыше.
Насчет еды Кэтрин была права. Она подвела нас к столу, и мы сидели среди общего шума, прихлебывая жидкий безвкусный овощной суп, а потом вылавливая кусочки зеленой картошки и жесткого мяса, плавающие в жире. Я почувствовал, что настроение у меня портится. Кэтрин только ухмыльнулась:
— Не переживайте. Я тоже папистка. Католиков тут не любят, так что надолго мы не задержимся. Святоши могут приехать за нами в любой момент.
Не знаю, как долго она успокаивала себя этой фразой. Прошел еще год, прежде чем случай на мосту привел в наши стены священника.
В школе папистов тоже не любили. Деревенская школа располагалась в строгом здании из серого гранита и песчаника с высокими арочными окнами. В башне находился колокол, который звал нас на уроки. Ниже башни был выбит в камне герб попечительского совета школы, а под ним — дама в длинных одеждах, которая рассказывает ученику о чудесах света. Когда я смотрел на этого ученика — или ученицу? — в юбке, с короткими волосами, я всегда думал о Кэтрин. Хотя создатель изображения, скорее всего, имел в виду мальчика времен античности. Под всем этим красовалась дата: 1875.
Поскольку мы были католиками, нас не пускали на утренние собрания. Это была исключительно протестантская традиция. Не то чтобы я огорчался. К Богу я пришел гораздо позднее, и, как ни странно, это был протестантский Бог. Но мы должны были стоять на площадке возле школы в любую погоду до самого конца собрания. Нас, промокших до нитки, часто пускали в здание, где мы сидели в холодном классе, стуча зубами. Не понимаю, как мы живы остались. Что еще хуже, мы были из Дина, и это отделяло нас от остальных. После уроков все могли побегать на улице или пойти домой, где их ждали родители, братья и сестры. Мы же строились парами под свист и улюлюканье других детей и отправлялись в приют, где еще два часа сидели в тишине, делая домашнее задание. Относительно свободно мы себя чувствовали только за едой. Да еще перед сном нам давали немного свободного времени, а потом загоняли в холодные темные спальни. Зимой эти часы занимал мистер Андерсон своими уроками шотландских танцев. Удивительно, но танцы были его страстью. К рождественскому балу мы все должны были уметь танцевать па-де-ба и рилы. А вот летом слишком светло, чтобы заснуть по сигналу отбоя. В июне в одиннадцать вечера на улице было еще светло как днем. Я просто не мог лежать в кровати, зная, что в мире вокруг полно приключений. Очень быстро я нашел черную лестницу, которая вела с первого этажа восточного крыла в погреб. Там я мог отпереть дверь в задней части здания и выйти в надвигающийся сумрак. Перейдя на бег, я очень быстро оказывался под защитой деревьев, росших вдоль границы территории приюта. Оттуда я мог идти куда хотел. Правда, я никогда не уходил далеко. Я всегда был один. Питер быстро засыпал, а другие, если и видели, что я ухожу, никак этого не показывали.
Впрочем, такие одиночные выходы я совершал всего три-четыре раза. Все закончилось в тот вечер, когда я обнаружил кладбище. Было уже поздно: когда я выскользнул из спальни, сумерки уступили место темноте. У двери я остановился и прислушался. Кто-то из мальчиков тихо похрапывал — словно кошка урчала. Один из младших говорил во сне, без умолку рассказывал о своих тайных страхах. Спускаясь в темноту, я чувствовал, как от лестницы поднимается холод. В погребе было темно и влажно, там стоял какой-то кислый запах. Я так и не узнал, что там держали, потому что боялся задерживаться. Задвижка на двери немного покапризничала, но открылась, и я вышел. Осмотрелся, потом рванул с места вперед и бежал, пока не оказался под защитой деревьев. Обычно я переваливал холм и спускался к деревне. Там фонари отражались в реке. Когда-то в этом месте вращались колеса больше десятка мельниц. Сейчас там было тихо и пусто, только мерцали огоньки в нескольких окнах. По обоим берегам реки круто поднимались деревья и дома. Футах в ста над рекой протянулся мост. Однако сегодня в поисках чего-нибудь нового я повернул в другую сторону — и вскоре обнаружил металлические ворота в высокой стене, охватывающей сад с востока. Из окон Дина этого места не было видно за высокими деревьями. Я даже не подозревал, что здесь есть кладбище! Открывая ворота, я чувствовал себя Алисой, уходящей в Зазеркалье. С той только разницей, что я уходил из мира живых в мир мертвых.
Влево и вправо уходили целые улицы надгробных плит, над ними клонились плакучие ивы. По левую руку от меня лежала Фрэнсис Джеффри, умершая 26 января 1850 года в возрасте семидесяти семи лет. Не знаю, почему, но эти имена отпечатались у меня в памяти так же четко, как были вырезаны на могильных камнях. Дэниэл Джон Камминг, его жена Элизабет и их сын Алан. Я позавидовал им: они были вместе при жизни и остались вместе после смерти. Моя мать похоронена неизвестно где, а кости отца покоятся на дне моря.
На одном участке стены могильные плиты были вмурованы прямо в ее толщу. Перед ними находились ухоженные травяные прямоугольники, а у самого подножия стены рос папоротник. До сих пор не понимаю, как я не боялся. Мальчик, один, в темноте, на кладбище… И все же мне казалось, что живые могут причинить мне куда больше вреда, чем мертвые. И я уверен, что казалось мне правильно.
Я шел по дорожке из известняка. По обе стороны от нее теснились кресты и могильные камни. Небо было ясное, луна уже вышла, и все было отлично видно. Я двинулся по изгибу тропинки к югу, когда какой-то шум заставил меня остановиться. Сейчас сложно сказать, что же я тогда услышал; наверное, какой-то глухой стук, потом шуршание в траве где-то слева. И чей-то кашель. Говорят, лисы издают звук, очень похожий на человеческий кашель. Возможно, я слышал именно это. Но вот кашель раздался снова, а затем в тени деревьев что-то задвигалось — что-то гораздо крупнее лисы. Я замер. Снова стук — и я пустился бежать. Пятна тени и света чередовались, лунное сияние слепило. Может, мне просто показалось, но я услышал шаги за спиной. Воздух стал очень холодным, и пот охлаждал мое разгоряченное лицо. Я не понимал, где я и как вернуться к воротам. Споткнулся и упал на бегу, ободрал колени, вскочил и кинулся в сторону, по траве. И вот я скрылся в сумраке за высоким надгробием, увенчанным каменным крестом. Я пытался задержать дыхание, чтобы не шуметь. Но сердце мое стучало прямо в ушах, а легкие жадно втягивали кислород, чтобы быстро выдохнуть и набрать новую порцию. Я весь дрожал. Однако шагов преследователя не было слышно. Я начал успокаиваться и ругать свое неуемное воображение… И тут чьи-то ноги захрустели по гравию. Я едва удержался от крика.
Я осторожно выглянул из-за креста и увидел, как по тропинке ковыляет человек, подволакивая левую ногу. Еще несколько шагов — и он вышел из тени огромного бука под яркий лунный свет. Тогда я смог разглядеть его. Лицо мужчины было бледным, скорее даже белым — как у мамы в тот день, когда она сказала нам, что отец погиб. Глаза терялись во впадинах под выдающимися вперед надбровными дугами. Казалось, глазницы его пусты. Одет он был в рваные брюки, потрепанный пиджак и серую рубаху с расстегнутым воротником. На левой руке мужчины болтался мешок с пожитками. Бродяга, ищущий ночлега в гостях у мертвецов? Я не знал, да и не хотел знать. Я просто дождался, пока он пошаркает дальше своей дорогой, вышел из-за надгробия и, наконец, увидел, что за имя было на нем выбито. И волосы у меня встали дыбом.
Мэри Элизабет Макбрайд.
Имя моей матери. Конечно, я знал, что здесь лежит не она — этому надгробию было почти двести лет. Но я не мог отделаться от ощущения, что именно мама помогла мне спрятаться в ту ночь. Она взяла с меня обещание присматривать за братом, но за мной присматривала сама.
Я повернулся и побежал в ту сторону, откуда пришел, и сердце мое стучало о ребра. Но вот наконец впереди показались черные металлические ворота. Я проскользнул в них и кинулся по асфальтовой дорожке к задней двери Дина. Наверное, впервые в жизни я был рад, что вернулся туда. В спальне я долго лежал в своей постели и дрожал. Наконец меня сморил сон, но в какой-то момент меня разбудил Питер. Он наклонился надо мной. Я хорошо его видел, потому что он попал в прямоугольник лунного света, падавшего из окна. Питер касался моего лица, и в глазах его была тревога.
— Джон! — шептал он. — Джонни! Почему ты плачешь?
Это Алекс Карри был виноват в том, что сборище на крыше закончилось катастрофой. Он был старше остальных и пробыл в Дине дольше всех. Грубый парень, он вымахал ростом с мистера Андерсона и был не слабее его физически. Старожилы говорили, Алекс всегда был бунтарем, и его пороли чаще, чем любого другого мальчика. За последние три года он сильно вырос, и теперь его сила вполне отвечала бунтарской натуре. Думаю, мистера Андерсона это очень беспокоило. Алекс отказывался стричь свои густые черные волосы и отрастил из них подобие прически Элвиса Пресли. Думаю, именно тогда мы впервые узнали о том, кто такой Элвис. О внешнем мире мы имели очень слабое представление. Пороть Алекса уже прекратили; поговаривали, что его отправят жить в студенческое общежитие. Для Дина он был уже слишком взрослый, и мистер Андерсон не мог с ним справиться.
Кэтрин подошла к нам за день до этого, заговорщически улыбаясь. На той неделе она и еще несколько девочек получили посылки. Следующей ночью на крыше должен состояться пир.
— А как подняться на крышу? — спросил я.
Она покачала головой, дивясь моей неосведомленности:
— Лестницы на крышу есть и в вашем крыле, и в нашем. Посмотри с вашей стороны. На лестничной площадке дверь, а за ней — узкая деревянная лесенка. Дверь никогда не запирают. На крыше совсем не опасно, если держаться подальше от края. Только там мальчики и девочки могут встречаться так, чтобы чертовы служители не видели, — Кэтрин сладострастно улыбнулась. — Бывает очень интересно.
Я почувствовал напряжение в паху. Мастурбировать я давно научился, но до сих пор даже ни разу не целовался. А то, как Кэтрин на меня смотрела, можно было истолковать только одним образом.
Весь следующий день я едва мог сдержать волнение. Уроки тянулись медленно, и к концу дня я не мог вспомнить ни слова из объяснений учителей. За ужином никто не наедался — все хотели к полуночи нагулять аппетит. Впрочем, на полночный пир были приглашены не все обитатели Дина. Кто-то был еще мал, кто-то слишком боялся. Но меня бы даже дикие звери не удержали. А Питер не умел бояться. Нас было человек десять — мальчиков, которые вышли на площадку лестницы незадолго до полуночи. Алекс Карри — впереди всех. Не знаю, как ему это удалось, но он где-то раздобыл пару дюжин бутылок светлого пива. Он раздал их остальным и велел нести на крышу. Я никогда не забуду, как мы выходили на широкое пространство крыши из узкого темного лестничного колодца. Крытую толем поверхность ярко освещала луна. На меня обрушилось чувство свободы. Ничего подобного я не ощущал даже во время своих одиноких прогулок. Мне хотелось поднять лицо к небу и закричать во все горло. Но я, конечно, этого не сделал.
Мы встретились посередине крыши, за большими часами, рядом с потолочным окном верхнего этажа. Девочки принесли еду, мальчики — пиво; мы сидели широким кругом и ели сыр, пироги и бисквиты, а джем доставали пальцами прямо из банок. Вначале мы говорили тихим шепотом. Но по мере того, как бутылки пива пустели, мы становились смелее и беспечнее. Я тогда первый раз пробовал алкоголь. Мне понравилось, как горькая жидкость пенится на губах, уносит прочь все заботы и запреты. Не помню, как я оказался рядом с Кэтрин. Мы сидели бок о бок, подобрав ноги, касаясь друг друга плечами. Я чувствовал тепло ее тела через джемпер, а ее запах… Я мог бы вдыхать его вечно. Понятия не имею, откуда он брался, но этот тонкий аромат сопровождал Кэтрин всегда и везде. Возможно, так пахли ее духи или мыло; может быть, их присылала ей тетка. Этот запах всегда возбуждал меня.
Я был уже слегка пьян и сделал то, чего никогда от себя не ожидал: обнял мою соседку за плечи. Она прижалась ко мне.
— А что случилось с твоей семьей? — спросил я. Мысли о прошлом у нас не поощрялись, и таких вопросов мы обычно не задавали. Кэтрин долго не отвечала.
— Мать умерла.
— А отец?
— Он быстро нашел новую жену. Она смогла нарожать ему детей, как добрая католичка. Когда мама рожала меня, у нее возникли осложнения, и больше она не могла иметь детей.
— Не понимаю, — я совсем запутался. — А почему ты не живешь дома?
— Она не захотела.
Я услышал боль в голосе Кэтрин и пожалел ее. Одно дело — когда твои родители умирают, совсем другое — когда отказываются от тебя. Особенно твой собственный отец! Я украдкой взглянул на девушку и был поражен, увидев серебряные дорожки слез у нее на щеках. Маленькая, сильная Кэтрин! Мое возбуждение словно испарилось. Сейчас я хотел просто обнимать ее, дать ей почувствовать, что она нужна кому-то.
И тут я услышал, что по другую сторону застекленного участка крыши что-то происходит. Кто-то забрал у Питера его бутылку пива, еще не открытую, и несколько парней перебрасывали ее друг другу. Питер бегал между ними кругами, пытаясь вернуть ее. Заводилой был Алекс Карри: он подначивал других и дразнил моего брата. Все знали, что он немного не в себе и может стать легкой добычей, когда я его не защищаю. Конечно, физической силой я не мог равняться с Алексом. Но ради брата я готов был сразиться с кем угодно. Я обещал матери присмотреть за ним и не собирался нарушать данное слово.
Я тут же встал.
— Эй! — я почти кричал. Сразу стало тихо. Парни прекратили кидаться бутылкой. Несколько голосов зашипели: «Тише!». — А ну прекратили!
— Ты никак армию завел? Как ты меня остановишь?
— Я тебе и без армии зад надеру, Карри.
На самом деле я не чувствовал себя таким уж храбрым. И я знаю, кому бы надрали задницу в ту ночь, если бы не вмешалась судьба. Раньше, чем Карри успел ответить, Питер бросился к нему забрать свою бутылку, но только выбил ее у него из рук. Ночная тишина разлетелась осколками: бутылка разбила потолочное окно, секунда — и она приземлилась на полу коридора верхнего этажа, расколовшись и разбросав вокруг пену. Сверху посыпалось битое стекло. Звук был такой, будто взорвалась бомба.
— Святая Мария, матерь Божья, — прошептала Кэтрин. И тут же все вскочили и побежали. Тени брызнули в разные стороны — кто к восточному крылу, кто к западному. В спешке и панике про еду и пиво все забыли. Мы толкались на темной лестнице, стремясь скорее попасть на второй этаж. Как крысы, мы стаей ворвались в двери спальни, а оттуда разбежались по кроватям. К тому моменту, как двери распахнулись и зажегся свет, все лежали под одеялами, притворяясь спящими. Мистера Андерсона это, конечно, не обмануло. Он встал в дверном проеме, лицо его налилось краской, черные глаза метали молнии. Голос, напротив, прозвучал почти спокойно. От этого нам стало еще страшнее. Впрочем, заговорил управляющий не сразу. Он подождал, пока мы поднимем головы и повернем к нему притворно-сонные лица.
— Я понимаю, что не все из вас в этом замешаны. Прошу тех, кто не участвовал, признаться, если они не хотят разделить с остальными наказание.
За плечом управляющего появился смотритель Дина. Он был в халате и тапочках, волосы растрепаны. Обычно он лучше всех из персонала относился к детям. Но сейчас в его карих глазах плескался страх, а лицо было болезненно бледным. Он что-то шептал в ухо мистеру Андерсону — слишком тихо и быстро, чтобы мы могли расслышать. Тот выслушал, распрямился. Смотритель тут же ушел.
— Еда и алкоголь на крыше. Глупые мальчишки! Это прямая дорога к гибели. А ну-ка, поднимите руки те, кто не был там!
Он стоял, скрестив руки, и ждал. Прошла всего пара секунд, и вверх потянулись неуверенные руки. Теперь стало видно, кто виноват. Мистер Андерсон хмуро покачал головой.
— А кто достал алкоголь?
В ответ — мертвая тишина.
— Да бросьте! — голос управляющего громом раздавался в ночи. — Если не хотите, чтобы всех наказали одинаково, невинные должны назвать виновных.
Мальчик по имени Томми Джек, один из самых младших в Дине, произнес:
— Это был Алекс Карри, сэр.
И настала такая тишина, что можно было услышать, как в Англии падает булавка.
Мистер Андерсон уставился на Карри, который уже сидел в кровати, уперев руки в колени.
— Что будешь делать, Андерсон? Выпорешь меня? Только попробуй.
По лицу управляющего скользнула мерзкая улыбка.
— Увидишь, — только и сказал он. Потом обратился к маленькому Томми, и в голосе его звучало презрение:
— Я не люблю мальчиков, которые выдают друзей. Думаю, еще до конца ночи тебе преподадут урок.
Он выключи свет и закрыл двери. В наступившей тишине раздался испуганный, дрожащий голос Томми:
— Я не хотел! Честно!
Алекс Карри прорычал в ответ:
— Ты, мелкий ублюдок!..
Мистер Андерсон был прав. Маленький Томми узнал, причем самым неприятным способом, что ябедничать на товарищей не стоит. Такой же урок получили все те, кто поднимал руки. А остальные могли только с ужасом ждать утра — и возмездия управляющего.
К нашему удивлению, ничего не случилось. За завтраком напряжение в Дине было физически ощутимо. В столовой стояла необычная тишина — казалось, и персонал, и дети боятся говорить. К тому времени, как мы выстроились парами, чтобы идти в школу, волнение немного улеглось. К концу уроков мы почти забыли обо всем. Вернулись в приют, как обычно. Изменилось только одно — Алекс Карри исчез. Он покинул Дин навсегда.
А потом мы пришли в спальни. И сразу увидели, что мешки с нашими пожитками, стоявшие в ногах кроватей, исчезли. Все до единого.
Я был в ужасе. Кольцо матери лежало в моем мешке! Я бросился вниз, полный праведного гнева, и столкнулся со смотрителем в коридоре нижнего этажа.
— Где наши вещи? — закричал я. — Что он с ними сделал?
Лицо у смотрителя было пепельное, вокруг глаз проступала зелень. Взгляд переполнен тревогой и чувством вины.
— Я никогда его таким не видел, Джонни, — сказал он. — Когда вы все ушли в школу, он выбежал из своих комнат, как одержимый. Обошел спальни и собрал все мешки. Заставил меня и еще пару человек помогать, — слова катились изо рта смотрителя, как яблоки из бочки. — Собрал все мешки в подвале. Потом я держал дверцу топки центрального отопления, а он бросал туда мешки. По одному. И не успокоился, пока все не побросал.
Гнев ослепил меня. Погибло все, что осталось мне от матери! Ее кольцо с переплетающимися змеями, альбом сигаретных пачек Питера… Все связи с прошлым порваны. И это сделал мистер Андерсон из мелкой мести.
Если бы я мог, я бы убил его. И ни секунды не жалел об этом.
Глава двенадцатая
Фину было неловко. Очень странно вдруг оказаться в доме, наполненном детскими воспоминаниями. В этом доме мистер Макиннес давал уроки ему и Артэру. Здесь они играли детьми — ведь Фин и Артэр были лучшими друзьями с тех пор, как научились ходить. Дом полнился мрачными тайнами, которые оба мальчика хранили в молчаливом согласии. А для Маршели это был просто дом, в котором она жила. Здесь она провела двадцать безрадостных лет в браке с человеком, которого не любила, здесь заботилась о его матери-калеке и растила их сына.
Когда все вернулись из Сторновея, Маршели пригласила Фина поужинать вместе с ней и Фионлахом. Он с благодарностью согласился — ведь иначе ему пришлось бы разогревать банку супа на походной газовой горелке. Световой день еще не кончился, но низкая черная туча превратила весенний вечер в ночь. Жестокий ветер свистел вокруг дверей и окон, гнал ливень волну за волной, задувал ветер в трубу и наполнял дом острым запахом горящего торфа. Маршели готовила ужин молча. Фин подозревал, что она испытывает чувство вины из-за того, что оставила отца одного в незнакомом месте.
— Ты хорошо с ним ладишь, — внезапно сказала она, не отрываясь от кастрюли на плите.
Фин сидел у стола со стаканом пива.
— О чем ты?
— Ты хорошо ладишь с отцом. Как будто умеешь общаться с маразматиками.
Он сделал еще глоток.
— У матери Моны была болезнь Альцгеймера с ранним началом, Маршели. Процесс развивался медленно, и вначале все шло не так плохо. Но потом она упала, сломала бедро, и ее положили в больницу Виктории в Глазго. В гериатрическую палату.
Женщина сморщила нос:
— Ей это вряд ли понравилось.
— Это было ужасно, — что-то в голосе Фина заставило ее повернуться к нему. — Я думал, такое бывает только в книгах Диккенса. Там все пропахло мочой и калом. Больные кричали по ночам. Медсестры сидели на кровати моей тещи, заслоняли телевизор, за который платила она, и смотрели сериалы, пока калоприемники больных переполнялись.
— О боже! — на лице Маршели был написан ужас.
— Мы просто не могли оставить ее там. Однажды вечером мы приехали с сумкой, упаковали тещины вещи и перевезли ее к нам. Я нанял сиделку, и старушка прожила у нас полгода, — Фин сделал еще глоток, погружаясь в воспоминания. — Я научился с ней общаться. Понял, что не надо спорить и ссориться. Осознал, что злится она из-за того, что недовольна собой, а забывчивость делает ее упрямой, — он покачал головой. — Кратковременная память у нее не работала, зато она очень ясно помнила события детства. Мы с ней могли часами говорить о прошлом. Мать Моны мне нравилась.
Маршели некоторое время молчала, потом все же спросила:
— Почему вы с Моной расстались? — и сразу же поправилась, чтобы вопрос не выглядел безжалостно прямым. — Из-за той катастрофы?
Фин снова покачал головой.
— Да, это точка невозврата, но… Вся наша совместная жизнь была удобной ложью. Если бы не Робби, каждый давно мог бы пойти своим путем. Мы были друзьями, и я не был несчастен с ней. Просто никогда ее не любил.
— Тогда почему вы поженились?
Он посмотрел Маршели в глаза и заставил себя признать правду — возможно, впервые:
— Наверное, потому, что ты вышла за Артэра.
Она пристально смотрела на него в ответ. В несколько футов, которые их разделяли, словно втиснулись все их потерянные годы. Женщина снова повернулась к кастрюле, чтобы выиграть несколько секунд.
— Ты не можешь винить меня за это! Ты фактически прогнал меня.
Дверь дома открылась, и вошел Фионлах. Ветер и дождь попытались залететь следом, но он быстро захлопнул дверь. С куртки юноши капало, сапоги был залеплены грязью, щеки покраснели от ударов ветра. Он явно удивился, увидев Фина у стола.
— Раздевайся и садись, — поторопила Маршели. — Ужин почти готов.
Фионлах сбросил сапоги, повесил куртку и взял из холодильника бутылку пива.
— Так что там с дедушкой?
Его мать убрала с лица волосы и подала на стол три тарелки чили кон карне[15] с рисом.
— Твоя бабушка больше не хочет видеть его в своем доме. Сейчас он в доме престарелых «Дун Эйсдин». Мне надо подумать, что с ним делать дальше.
— А почему ты не привезла его сюда?
Маршели бросила быстрый взгляд на Фина, отвернулась. «Она винит себя», — понял мужчина и ответил за нее:
— Он нуждается в профессиональном уходе, Фионлах. И физически, и морально.
Но юноша по-прежнему смотрел на Маршели:
— Ты долго ухаживала за матерью Артэра. А она даже не была твоей родственницей!
И двадцать лет недовольства выплеснулись на него:
— А, может, ты готов менять ему постель, когда он в нее наделает? И искать его, когда он потеряется? Уговаривать его поесть? И напоминать ему все, что он забудет?
Юноша ничего не ответил. Он едва заметно дернул плечами и продолжал есть.
— Тут есть одна сложность, Фионлах, — вмешался Фин. И удостоился в ответ короткого взгляда:
— Да?
— Несколько дней назад в торфяном болоте у Сиадера нашли тело. Это молодой мужчина, примерно твоего возраста. Тело пролежало в болоте с конца пятидесятых годов.
Вилка Фионлаха замерла на полпути между тарелкой и ртом.
— И что?
— Его убили.
Вилка вернулась в тарелку.
— А мы тут при чем?
— Погибший приходился родственником твоему деду. А значит, и тебе, и Маршели.
— Как можно было это выяснить? — нахмурился Фионлах.
— По ДНК.
Юноша удивленно посмотрел на мать. Потом на него снизошло понимание:
— Мы же сдавали пробы в прошлом году!
Женщина кивнула.
— Я так и знал! Их должны были уничтожить. Я подписывал бумагу о том, что не согласен на их хранение в базе данных.
— Все подписали такие бумаги. Как выяснилось, этого не сделал только твой дед. Возможно, он просто не понял.
— И его внесли в базу данных, как преступника?
— Если тебе нечего скрывать, чего бояться? — возразила Маршели.
— Мам, это вторжение в частную жизнь. Откуда мы знаем, кто получит доступ к этим данным? И что он с ними сделает?
— Это вполне весомый аргумент, — признал Фин. — Но сейчас проблема не в этом.
— А в чем?
— Кто был убитый и кем он приходится твоему деду.
Фионлах посмотрел на мать:
— Наверно, это какой-нибудь кузен.
Маршели покачала головой:
— Мы знаем, что у него нет родственников.
— Значит, есть кто-то, о ком ты не знаешь.
Она пожала плечами:
— Видимо, да.
— Ну ладно, этот парень — родственник дедушки. И что?
— С точки зрения полиции Тормод будет главным подозреваемым в убийстве, — объяснил Фин.
Над столом повисла напряженная тишина. Даже Маршели еще не слышала об этом.
— Это правда?
— Да, — кивнул Фин. — Когда с материка прибудет старший следователь и откроет дело, твой отец будет главным подозреваемым в списке из одного человека, — он глотнул еще пива. — Пора начать думать о том, кто же этот погибший.
Фионлах доел и отставил тарелку.
— Вот и займитесь этим. А мне надо думать о другом, — он взял с вешалки куртку и начал надевать ботинки, от которых по плитке пола разлетались куски подсохшей грязи.
— Ты куда? — Маршели беспокойно наморщила лоб.
— Мы с Донной встречаемся в клубе Кробоста.
— О! Отец решил отпустить ее на этот вечер? — голос женщины сочился сарказмом.
— Не начинай, мам.
— Если бы у нее была хоть капля инициативности, она сказала бы отцу, куда он может пойти. Я сто раз тебе говорила: вы можете жить здесь. И ты, и Донна, и малышка.
— Ты не знаешь, на что он способен! — Фионлах почти выплевывал слова.
— А я думаю, что знаю. Мы вместе росли, ты забыл?
Маршели снова исподтишка взглянула на Фина, отвела взгляд.
— Да, но тогда он еще не пришел к Богу! Мам, ты же знаешь, что происходит, когда к человеку приходит курам. С ним невозможно спорить. Зачем ему слушать тебя или меня, если с ним уже говорит Бог?
У Фина мороз пошел по коже. Ему показалось, что он слушает сам себя. С тех пор, как погибли его родители, жизнь Фина была постоянной борьбой между верой и гневом. Поверив в Бога, он мог только гневаться на Того, кто допустил ту давнюю аварию. Проще было не верить. И к верующим он относился без большой любви.
— Пора тебе уже поговорить с ним, — в голосе Маршели звучала усталость. Фин понял: она не верит, что Фионлах когда-нибудь решится выступить против Дональда Мюррэя.
Ее сын тоже услышал это — и принялся защищаться.
— И что я ему скажу? Какие у меня перспективы? Какое будущее я могу предложить его дочери и внучке? — Он пошел к двери, и его последние слова были едва слышны за шумом ветра:
— Отстань, наконец, от меня!
Маршели покраснела от смущения.
— Прости.
— Не извиняйся. Он просто мальчик, на которого слишком рано свалилась большая ответственность. Ему надо закончить школу, пойти в университет. Тогда у него будет будущее, которое он сможет предложить им.
Женщина покачала головой:
— Он этого не сделает. Слишком боится их потерять. Он хочет уйти из школы в конце года, найти работу. Хочет показать Дональду Мюррэю, что серьезно относится к своей семье.
— И потерять свой единственный шанс? Он же не хочет закончить жизнь, как Артэр.
В газах Маршели полыхнул гнев, но она промолчала.
— И еще одно, — быстро добавил Фин. — Дональд Мюррэй точно не будет уважать его за это.
Женщина начала убирать со стола.
— Как мило с твоей стороны приехать после стольких лет и рассказать, как нам надо жить.
Грязные тарелки опустились на стол возле мойки. Маршели оперлась на него руками, опустила голову.
— Я устала, Фин. Устала от всего. От Дональда Мюррэя и его святошества. От бесхребетности сына. Устала от самообмана: я решила учиться в расчете на будущее, а его может у меня и не быть, — она сделала глубокий вдох, снова выпрямилась. — А теперь еще и это!
Она повернулась к Фину, и он увидел: женщина держится из последних сил.
— Что мне делать с отцом?
Было бы так легко встать, обнять ее и сказать, что все будет хорошо. Но это был бы обман, бесполезное притворство. Поэтому Фин сказал:
— Садись и расскажи мне, что ты знаешь об отце.
Маршели тяжело оттолкнулась от стола, так же тяжело опустилась на стул. Ее лицо было усталым и напряженным, бледным в электрическом свете. Но в ней до сих пор видна была та девочка, которая понравилась Фину столько лет назад. Девочка со светлыми хвостиками, которая с первого дня школьных занятий сидела рядом с ним. Она предложила переводить для него, потому что по какой-то необъяснимой для него причине Фин пришел в школу, говоря только на гэльском языке. Он потянулся через стол и убрал волосы с ее синих глаз. Она подняла руку и прикоснулась к его руке — только на миг. Это было просто воспоминание о том, что когда-то было между ними. Она сразу вернула руку на стол.
— Отец приехал с острова Харрис, когда ему еще не было двадцати. Лет в восемнадцать или девятнадцать. Он получил место работника на ферме Мелнес, — Маршели встала, взяла полупустую бутылку красного вина и налила себе. Фин от выпивки отказался. — Уже после этого он встретил мою мать. Ее отец был смотрителем маяка на мысе Батт — там они и жили. Каждый вечер после работы отец приходил к маяку, чтобы ее увидеть. Хоть на несколько минут, в любую погоду! Он каждый день проходил четыре с половиной мили. Наверное, это была любовь.
— Наверное, — улыбнулся Фин.
— Они ходили на все танцы в клубе, на все фермерские праздники. И вот они встречались уже четыре года, когда в Мелнес умер фермер, и ферму решили сдать в аренду. Отец подал заявление, и его согласились одобрить — при условии, что он женится.
— Какое романтичное предложение!
Маршели улыбнулась, несмотря на усталость.
— Я думаю, мама обрадовалась, что отец наконец-то попросил ее выйти за него. Отец Дональда Мюррэя поженил их в Церкви Кробоста. А дальше они бог знает сколько лет прожили, работая на ферме и воспитывая нас с сестрой. За всю мою жизнь я не помню случая, чтобы отец покинул остров. Вот и все, что я знаю.
Фин наконец прикончил свое пиво.
— Завтра мы поедем поговорим с твоей матерью. Она наверняка знает гораздо больше, чем ты.
Маршели тоже допила вино.
— Я не хочу отвлекать тебя от работы.
— Какой работы?
— Ты же восстанавливаешь родительский дом.
Фин грустно улыбнулся.
— Он простоял в руинах тридцать лет, Маршели. Может и еще постоять.
Глава тринадцатая
Из-под двери видна тонкая полоска желтого света. Время от времени кто-то проходит по коридору, и его тень движется от одного конца полоски до другого. Я понимаю, что шагов не слышно. Может, тут все носят туфли на резиновой подошве? Чтобы мы не слышали, как они подходят. А вот мистер Андерсон носил туфли, которые громко скрипели. Он хотел, чтобы мы его слышали, как слышно было тиканье крокодила в «Питере Пэне». Он хотел, чтобы мы боялись. И мы боялись.
Но сейчас я не боюсь. Я всю жизнь ждал этого! Они держат меня там, где я не хочу быть. Я убегу от них. Пусть идут к черту! Как же приятно это сказать! Ну ладно, подумать. «Всех к черту!» — шепчу я. Получается так громко, что я подскакиваю на кровати.
Если кто-нибудь сейчас войдет, все будет кончено. Он сразу увидит, что я в плаще и шляпе, а моя сумка собрана и стоит в ногах кровати. Тогда позовут мистера Андерсона, и он меня как следует выпорет. Хоть бы свет поскорее выключили! Утром я должен быть далеко. Надеюсь, остальные не забыли.
Я не знаю, сколько прошло времени. Я что, заснул? Под дверью больше нет света. Я внимательно слушаю — все тихо. Беру сумку с кровати и медленно открываю дверь. Черт! Надо было сходить пописать. А сейчас нет времени.
Комната старого Экана рядом. Я видел его в столовой сегодня — и сразу вспомнил. Он руководил пением псалмов на гэльском в церкви. Мне они нравились, хотя поначалу казались странными. В детстве я ходил в католическую церковь, там был хор. Гэльские псалмы звучали, как песни на собрании доисторического племени. Открываю дверь к Экану — и сразу слышу храп. Закрываю за собой дверь, включаю свет. На комоде стоит коричневый портплед, а Экан свернулся под одеялом и спит. Хочу позвать его шепотом, но вдруг понимаю, что забыл его имя. Черт, как же его зовут? Я все еще слышу, как он поет псалмы. Сильный, чистый голос, полный спокойствия и веры. Трясу его за плечо. Он поворачивается, и я стягиваю одеяло. Отлично! Он полностью одет, готов к побегу. Может, он просто устал ждать?
Я слышу свой голос:
— Экан!
Да, точно. Так его зовут.
— Вставай! Нам пора.
Он ничего не понимает.
— Что происходит?
— Мы устроим побег.
— Правда?
— Ну конечно. Мы об этом говорили. Ты что, забыл? Смотри, ты полностью одет.
Экан садится, осматривает себя.
— Да, точно.
Спускает ноги с постели, и его туфли оставляют грязные следы на простыне.
— Куда мы бежим?
— Подальше от Дина.
— А что это?
— Ш-ш! Мистер Андерсон может услышать.
Беру его за руку, веду к двери. Открываю ее, смотрю в темноту.
— Постой! Моя сумка!
Экан берет ее с комода. Я выключаю свет, и мы выходим в коридор. В дальнем его конце виден свет на кухне, и там двигаются тени. Вдруг кто-то из мальчиков все рассказал? Тогда с нами покончено. Мы в ловушке. Я чувствую, как старый Экан держится сзади за мой плащ. Мы медленно идем по коридору, стараясь не издавать ни звука. Теперь я слышу мужские голоса — и резко захожу в дверь, чтобы удивить их. Кто-то говорил мне: когда противников больше, их лучше всего удивить. Но на кухне всего два человека, двое старичков в плащах и шляпах, полностью одетые. Они расхаживают из угла в угол, а их сумки стоят на столе.
Одного из двоих я знаю. Он очень взволнован и смотрит на меня сердито:
— Ты опоздал!
Откуда он знает, что я опоздал?
— Ты сказал: сразу, как выключат свет. Мы уже сто лет ждем!
— Сейчас мы сбежим, — говорю я.
— Я знаю. Но ты опоздал!
Он очень зол. Второй мужчина просто кивает. Глаза у него большие, как у кролика, когда тот попадает под свет фар. Я понятия не имею, кто он такой.
Кто-то толкает меня сзади. Это Экан. Что ему надо?
— Давай, давай, — говорит он.
— Я?
— Ну да, ты, — говорит злой. — Это твоя идея, тебе и делать.
Второй все кивает и кивает.
Я оглядываюсь, пытаясь понять, чего они от меня ждут. Что мы вообще здесь делаем? Потом я вижу окно. Побег! Я все вспомнил. Окно выходит на задний двор, за ним стена и болото. Нас не поймают! Мы побежим как ветер — по асфальту, к деревьям.
— Помогите мне, — я подтаскиваю стул к раковине. — Кто-то должен будет передать мне сумку. Там кольцо моей матери, она отдала его мне.
Экан и кивающий старик поддерживают меня, пока я забираюсь на стул, а с него — в раковину. Теперь я достаю до задвижки. Но она не поддается, как я ни стараюсь! Мои пальцы белеют от напряжения.
Внезапно в коридоре зажигается свет. Я слышу голоса и шаги, и у меня начинается паника. Кто-то предал нас. О боже! Я снова поворачиваюсь к окну. По другую его сторону темно, дождь все еще течет по стеклу. Надо выбираться! На той стороне — свобода. Я начинаю стучать по стеклу кулаком. Оно прогибается с каждым ударом.
Кто-то кричит:
— Остановите его! Ради бога, остановите!
Наконец стекло трескается. Я чувствую боль в руках, по ним льется кровь. В лицо ударяет порыв ветра с дождем. Кричит женщина.
Но я вижу только кровь. Пятна крови на песке. Фосфоресцирующая пена в лунном свете, и она становится алой.
Глава четырнадцатая
Фин вел машину мимо клуба Кробоста и футбольного поля за ним. Вдоль улиц Файфпенни и Европы дома взбирались на холм беспорядочными группами. Они смотрели окнами на юго-запад, прямо навстречу преобладающим ветрам весны и лета. На гребне холма дома словно пригибались, не желая подставлять бока зимним арктическим бурям. Море пенилось и бурлило вдоль изрезанной береговой линии. Бесконечные табуны белых лошадей без седоков разбивались об упрямый камень черных скал. Солнце то появлялось, то снова пряталось в разорванных ветром облаках. Их тени гнались друг за другом по махеру, где могильные камни, вкопанные в мягкую песчаную почву, отмечали места упокоения поколений островитян. Немного к северу была ясно видна верхняя треть маяка на мысе Батт. Фин решил, что к старости мать Маршели начала следовать инстинкту, который возвращает людей в детство. Возможно, она вспоминала необычно солнечные дни или жестокие шторма, когда вокруг маяка, где жила ее семья, разбивались о скалы бушующие волны. Чета Макдональдов на пенсии решила жить в небольшом современном бунгало. Кухня находилась в задней его части. Из окна были прекрасно видны беложелтые дома, где когда-то жила миссис Макдональд, и башня красно-коричневого кирпича, которая много лет выдерживала дождь, снег и ветер, чтобы предупреждать моряков об опасностях.
Пока миссис Макдональд делала чай, Фин выглянул из окна. Он увидел радугу, особенно яркую на фоне черной тучи. Поверхность океана под солнцем выглядела как медная гравюра. Торфа в саду на заднем дворе оставалось мало; Фин подумал о том, кто теперь будет его резать. Он не очень внимательно слушал болтовню старой леди. Но она, конечно, была рада его видеть. С тех пор, как они последний раз встречались, прошло столько лет! Как только Фин вошел в дом, он сразу почувствовал запах роз, который всегда сопровождал мать Маршели. Он вызвал лавину воспоминаний: домашний лимонад в кухне на ферме, где пол был из каменной плитки. Игры, в которые они с Маршели играли среди стогов сена в амбаре. Мягкое английское произношение ее матери, которое ничуть не изменилось за все эти годы. В детстве оно казалось Фину таким странным.
— Нам нужна дополнительная информация об отце, — говорила тем временем Маршели. — Попросили в доме престарелых, — они решили, что будет лучше пока не говорить старой леди правду. — И я бы хотела взять старые фотоальбомы, поразбирать их с отцом. Говорят, фотографии помогают стимулировать память.
Миссис Макдональд была просто счастлива достать старые фотографии. Она предложила посмотреть их прямо сейчас. Ведь у них так редко бывают гости! Она говорила во множественном числе, как будто не выгоняла мужа из дома. Возможно, так работал психологический механизм вытеснения. Или же она давала понять: эту тему лучше не поднимать.
Альбомов оказалась почти дюжина. Самые новые — в ярких цветочных обложках, более давние — в строгих переплетах в зеленую клетку. Самые старые миссис Макдональд унаследовала от родителей. В них хранились поблекшие черно-белые снимки давно умерших людей, одетых по моде прошлого века.
— Это твой дедушка, — мать Маршели указала на выцветший, передержанный снимок с потрескавшимся глянцевым покрытием. На нем стоял высокий мужчина с копной кудрявых темных волос. — А вот твоя бабушка.
Это оказалась невысокая женщина с длинными светлыми волосами и слегка ироничной улыбкой.
— Что скажешь, Фин? Маршели — ее копия, правда?
Маршели и правда была так похожа на свою бабку, что жуть брала.
Затем миссис Макдональд перешла к своим свадебным фотографиям. Это уже были шестидесятые годы — яркие цвета, брюки-клеш, майки на бретельках и рубашки с цветочным рисунком, со слишком длинными воротниками. Длинные волосы, челки, бакенбарды. Фину было немного неловко смотреть на этих людей. Он задумался о том, как будут выглядеть фотографии его молодости с точки зрения грядущих поколений. Все, что сегодня в моде, при взгляде в прошлое кажется смешным.
Тормоду в то время было лет двадцать пять. Волосы, вьющиеся вокруг лица, очень шли ему. Фин мог бы и не связать этого юношу с тем человеком, чьи очки вылавливал из писсуара только вчера. Но у него сохранились воспоминания детства о высоком, сильном человеке в синем комбинезоне и кепке, постоянно сдвинутой на затылок.
— А у вас есть более ранние снимки Тормода? — спросил он.
Миссис Макдональд покачала головой.
— Нет, до свадьбы — ничего. Когда мы встречались, у нас не было камеры.
— А фотографии его семьи? Детские снимки?
— У него их не было. Или он не взял их с собой, когда покидал Харрис.
— А что случилось с его родителями?
Пожилая женщина налила себе еще чаю из чайника под вязаной грелкой. Предложила подлить Фину и Маршели.
— Нет, спасибо, миссис Макдональд.
— Мама, ты собиралась рассказать нам о папиных родителях.
Она выдохнула сквозь неплотно сжатые губы.
— Тут нечего рассказывать, дорогая. Они умерли до того, как мы познакомились.
— И на свадьбе не было никого из его родственников?
— Никого, — пожилая женщина снова покачала головой. — Он был единственным ребенком в семье. По-моему, его родичи почти в полном составе эмигрировали в Канаду в пятидесятых годах. Он о них почти не говорил.
Она помолчала, глубоко задумавшись. Гости ждали довольно долго, и, наконец, она промолвила:
— Как странно…
А потом снова замолчала.
— Что странно, мама?
— Как ты знаешь, твой отец был очень религиозным человеком. Ходил в церковь каждое воскресенье, днем читал Библию, а перед каждой едой — благодарственные молитвы.
Маршели взглянула на Фина с грустной улыбкой.
— Как бы я могла забыть?
— Он был хорошим человеком. Честным и без всяких предрассудков. Кроме одного…
Ее дочь усмехнулась:
— Я помню. Он ненавидел католиков. Называл их «паписты и фении».
Мать покачала головой:
— Мне это не нравилось. Мой отец принадлежал к англиканской церкви, а она близка к католицизму. Только без Папы Римского. А твой отец ненавидел католиков безо всяких причин.
Маршели пожала плечами.
— Я не могла понять, серьезен он или шутит.
— Для него это было серьезно.
— Так что в этом странного, миссис Макдональд? — Фин попытался вернуть ее к мысли. Она непонимающе смотрела на него, пока не вспомнила, о чем шла речь.
— Ах да. Вчера вечером я разбирала вещи твоего отца. За эти годы он накопил много мусора. Не знаю, зачем ему все эти вещи. Он хранил их в старых коробках из-под обуви, в шкафах и комоде в гостевой комнате. Целыми часами рассматривал и перебирал все это. Не понимаю почему, — она отпила чаю. — Так вот, на дне одной из коробок я нашла вещь, которая… ну, не в его характере.
— Что это, мама? — Маршели была заинтригована.
— Я сейчас покажу, — пожилая женщина встала и вышла из комнаты. Вернулась она полминуты спустя и снова села между гостями на диване. Раскрыла правую ладонь над журнальным столиком, и на свадебные фотографии упал небольшой круглый потускневший медальон на серебряной цепочке.
Фин и Маршели наклонились, чтобы рассмотреть его. Женщина взяла медальон, перевернула.
— Святой Христофор, покровитель путешественников.
Фин наклонил голову набок и смог рассмотреть изображение святого с посохом, несущего маленького Христа через бурную реку. По краю медальон было выгравировано: «Святой Христофор, защити нас».
— Насколько я понимаю, — говорила миссис Макдональд, — католическая церковь лет сорок назад лишила его статуса святого. И все же он принадлежит к католической традиции. Не понимаю, откуда эта вещь у твоего отца.
Фин протянул руку и взял медальон у Маршели.
— Можно нам взять его, миссис Макдональд? Вдруг он поможет Тормоду вспомнить хоть что-нибудь.
— Конечно, — пожилая женщина взмахнула рукой. — Берите его, оставьте себе или выбросьте. Мне совершенно все равно.
Фин высадил недовольную Маршели возле бунгало. С трудом, но он смог убедить ее, что лучше ему вначале поговорить с Тормодом один на один. У старика так много воспоминаний связано с Маршели, что это может помешать пробуждению памяти о более дальнем прошлом. Фин не сказал только, что собирается по дороге сделать еще кое-что.
Как только машину стало невозможно увидеть из дома, он свернул с главной дороги на узкую асфальтовую дорожку, миновал решетчатое ограждение и вкатился на парковку Церкви Кробоста. Это было мрачное, суровое строение. Никакой резьбы по камню, бордюров с орнаментами, витражей — даже колокола на башне нет. Здешний Бог не терпел подобных излишеств. Развлечения считались грехом, искусство — сотворением кумиров. В церкви не было ни органа, ни фортепиано; только голоса верующих разносились под ее сводами в воскресенье.
Фин остановил машину у входа в дом священника, вскарабкался по ступеням. Солнечный свет еще скользил по зелено-бурой мозаике махера, головки пушицы колыхались под ветром вдоль окопов, оставленных резчиками торфа. Здесь, на вершине холма, было голо и пусто. Возможно, постоянное испытание веры суровыми природными условиями приближало к Богу.
Фин звонил в дверной колокольчик не меньше минуты. Наконец дверь открылась, и бледное, бескровное лицо Донны уставилось на него из темноты. Мужчина испытал шок, почти такой же сильный, как тогда, когда увидел девушку в первый раз. Тогда она не казалась достаточно взрослой, чтобы быть на третьем месяце беременности. Став матерью, она не начала выглядеть старше. Густые волосы песочного цвета — такие же, как у отца, — были убраны с узкого, без всяких следов косметики лица. Обтягивающие джинсы и белая футболка только подчеркивали ее худобу. Донна была хрупкой и маленькой, как ребенок. Но глаза у девушки были взрослыми, все понимающими.
Она помолчала. Потом раздалось:
— Привет, мистер Маклауд.
— Привет, Донна. Твой отец дома?
По ее лицу скользнуло разочарование:
— А я думала, вы пришли посмотреть на малышку.
Фин почувствовал себя виноватым. Конечно, это следовало сделать сразу. Но почему-то никаких эмоций по поводу внучки он пока не испытывал.
— В другой раз.
На детских чертах Донны, как пыль, осело недовольство.
— Отец в церкви. Чинит дыру в крыше.
Фин спустился на несколько ступеней. Остановился, оглянулся и понял, что девушка смотрит ему вслед.
— Они знают? — спросил он.
Она покачала головой.
Фин услышал удары молотка уже в вестибюле, но источник их увидел, только войдя в саму церковь. Дональд Мюррэй стоял на стремянке, установленной на балконе. Он балансировал среди стропил и приколачивал новые рейки на восточную сторону крыши. На священнике был синий рабочий комбинезон. Его волосы песочного цвета начали редеть и явно седели. Священник так сосредоточился на работе, что не заметил Фина. А тот стоял внизу среди церковных скамей и смотрел на него. За это время он успел вспомнить о приключениях перед днем Гая Фокса, о вечеринке на пляже, о поездке по западному побережью в красной машине с открытым верхом. Тут Дональд потянулся за гвоздями, и удары молотка стихли.
— Похоже, ты больше бываешь в церкви как разнорабочий. Проповедуешь явно меньше, — крикнул ему Фин.
Он застал Дональда врасплох: тот чуть не свалился с лестницы. Схватился за стропила, взглянул вниз, но узнал гостя не сразу.
— Работать во славу Божию можно по-разному, Фин, — сказал Дональд, когда наконец понял, кто это.
— А я слышал, что Бог создает работу для ленивых рук. Может, он проделал дыру в твоей крыше, чтобы ты не бездельничал.
Священник не удержался от улыбки.
— Другого такого циника, как ты, я не встречал, Фин Маклауд.
— А я не встречал таких упрямцев, как ты, Дональд Мюррэй.
— Спасибо. Я буду считать это комплиментом.
Фин тоже ухмыльнулся:
— И правильно. Я мог бы сказать что-нибудь похуже.
— Не сомневаюсь, — Дональд оценивающе посмотрел вниз, на гостя. — Это профессиональный визит или личный?
— Профессии у меня больше нет, так что личный, наверное.
Священник нахмурился, но расспрашивать не стал. Он повесил молоток в петлю на поясе и начал осторожно спускаться. Когда он оказался в церковном зале, Фин заметил, что его старый приятель слегка запыхался. Когда-то подтянутая фигура спортсмена, бунтаря и любимца девушек начала тяжелеть. Его возраст выдавала кожа вокруг глаз, потерявшая упругость и покрытая мелкими морщинами.
— Что я могу для тебя сделать? — он пожал протянутую руку Фина.
— Твой отец поженил мать и отца Маршели.
Лицо Дональда отразило удивление. Он ждал чего угодно, только не этого.
— Поверю тебе на слово. Наверное, он половину Несса поженил.
— Какие удостоверения личности ему были нужны?
Дональд смотрел на него несколько долгих секунд.
— Это звучит, скорее, как профессиональный вопрос.
— Поверь мне, это личное. Я уволился из полиции.
Священник кивнул:
— Хорошо. Идем, я тебе покажу.
Он прошел между скамьями в дальнюю часть церкви и открыл дверь в ризницу. Фин последовал за ним. Отперев ящик стола, Дональд достал распечатанный документ.
— Вот брачный формуляр. Этот — для пары, которую я женю в следующую субботу. В загсе такой формуляр выдают только после того, как пара предоставит все необходимые документы.
— Что туда входит?
— Ты же женат, верно?
— Был женат.
Возникла микроскопическая пауза. Дональд продолжал, как будто не услышал ничего особенного:
— Тогда ты должен знать.
— Мы быстро поженились в загсе почти семнадцать лет назад. Если честно, Дональд, я почти ничего и не помню.
— Нужны свидетельства о рождении жениха и невесты, свидетельство о разводе, если кто-то из них раньше был женат, или свидетельство о смерти супруга, если это вдовец или вдова. В загсе не выдадут формуляр, пока все документы не будут предоставлены, а все нужные формы — заполнены. Священник просто подписывает формуляр по окончании церемонии. Муж, жена и свидетели тоже ставят подписи.
— Значит, твой отец не имел оснований сомневаться в личностях жениха и невесты.
Дональд сощурил глаза в удивлении:
— Что все это значит, Фин?
— Ничего. Просто глупости. Забудь о том, что я спрашивал.
Священник убрал брачный формуляр в ящик, запер его.
— Значит, вы с Маршели снова вместе?
Фин улыбнулся:
— Ревнуешь?
— Не говори глупости.
— Нет, мы не вместе. Я приехал восстанавливать родительский дом. Поставил там палатку и буду в ней жить, пока не заменю крышу и не налажу канализацию.
— Значит, ты приходил только из-за этих «глупостей»?
Фин долго смотрел на него, пытаясь погасить пламя гнева, которое разгоралось у него в душе. Он не собирался начинать, но… Это была неравная борьба.
— Знаешь, Дональд, я думаю, ты чертов ханжа.
Тот отшатнулся, как от пощечины.
— О чем ты говоришь?
— Думаешь, я не знаю, что Катриона была беременна, когда вы поженились?
Священник покраснел.
— Кто тебе рассказал?
— Но это правда, верно? Великий Дональд Мюррэй, свободный человек, любитель женщин, похерил все и обрюхатил девушку.
— Я не буду слушать такие слова в доме Господа.
— Почему? Это просто слова. Думаю, Иисус и сам умел ругаться. Да и ты, насколько я помню…
Дональд скрестил руки на груди.
— К чему ты ведешь, Фин?
— А вот к чему. Ты можешь совершить ошибку. Но если ошибется твоя девчушка или Фионлах — помоги им Бог. Ты дал себе еще один шанс, потому что тебя было некому судить. А своей дочери ты шансов не даешь. Почему? Фионлах недостаточно хорош для нее? Интересно, что думали о тебе родители Катрионы.
Священник побелел от гнева, его сжатые губы превратились в тонкую линию.
— Да, ты не устаешь судить других.
— Нет, это твоя работа, — Фин потыкал пальцем в потолок. — Твоя и Его. Я просто наблюдатель.
Он повернулся к выходу из ризницы, но Дональд схватил его. Сильные пальцы впились в плечо.
— Какого черта тебе надо, Фин?
Тот повернулся, высвободил руку.
— Думай, что говоришь, Дональд. Мы в доме Господа, помнишь? Тебе ли не знать, что кого-то из нас, и правда, ждут черти.
Глава пятнадцатая
В морге было холодно и мрачно. Это место хорошо подходило для мертвых. Ассистент в белом халате открыл один из ящиков холодильного шкафа, и Фин увидел удивительно хорошо сохранившееся лицо с мальчишескими чертами, коричневое от торфа. Это лицо принадлежало молодому человеку вряд ли старше Фионлаха.
Ганн кивнул ассистенту, и тот молча вышел.
— Это только между нами, мистер Маклауд. Если об этом кто-то узнает, я труп, — полицейский слегка покраснел. — Простите, само вырвалось.
— Не думай, что я не знаю, чего это тебе стоило, Джордж.
— Я знаю, что вы все понимаете. Но вы все равно попросили.
— Ты мог отказать мне.
Ганн согласно наклонил голову:
— Да, мог. Давайте быстрее, мистер Маклауд. Эксперт говорил, что разложение будет идти очень быстро.
Фин вытащил из кармана маленький цифровой фотоаппарат и сделал снимок лица трупа. Казалось, вспышка отразилась от каждой плитки. Фин сделал несколько снимков под разными углами, потом убрал фотоаппарат.
— Мне надо знать что-то еще?
— Несколько часов после смерти он лежал, завернутый в какое-то одеяло. Узор переплетения остался у него на спине, ягодицах, голенях и задней части бедер. Я жду фотографий от патологоанатома. А полицейский художник потом зарисует узор.
— Но у вас не с чем его сравнить?
— Да. Рядом с телом не нашли ничего — ни одеяла, ни одежды.
Ганн постучал в дверь, ассистент вернулся и закрыл шкаф. Неизвестный молодой человек, найденный в болоте, снова погрузился во тьму.
Снаружи ветер принялся трепать брюки и куртки мужчин. Порывы ветра несли водяную пыль, но до дождя было далеко. Солнце еще прорывалось сквозь облака, но его быстро закрывали новые тучи. На вершине холма возводили пристройку к больнице. Ветер доносил шум дрелей и перфораторов; светоотражающие оранжевые жилеты и белые шлемы строителей блестели на солнце.
После того, как мы ощутим присутствие смерти, непременно наступает момент внутренней тишины. Мы заново осознаем то, что сами смертны. Двое мужчин молча сели в машину Ганна и просидели так около минуты. Наконец Фин спросил:
— Джордж, а у меня есть шансы получить копию отчета о вскрытии?
Он слышал, как Ганн резко втянул воздух.
— Господи, мистер Маклауд!
Фин повернулся к нему:
— Если не можешь, так и скажи.
Сержант сердито уставился на него, дыша сквозь стиснутые зубы.
— Посмотрим, что получится сделать, — и добавил голосом, полным иронии:
— Чем еще я могу вам помочь?
Фин улыбнулся и поднял камеру:
— Скажи мне, где я могу распечатать снимки.
Фотосалон Малькольма Дж. Маклауда размещался на Пойнт-стрит, в доме, покрытом штукатуркой с каменной крошкой. Пойнт-стрит иначе называли Теснина. Здесь многие поколения подростков острова собирались, чтобы выпить, подраться, покурить травку и пофлиртовать. Ветер доносил запах горячего масла и жареной рыбы из ресторанчика неподалеку.
Когда фотографии мертвеца с камеры Фина появились на экране компьютера, работник фотосалона начал смотреть на клиентов с большим любопытством. Но Джорджа Ганна хорошо знали в городе, так что вопросов его спутнику никто задавать не стал. Фин внимательно рассмотрел получившиеся снимки. Вспышка сделала черты лица более плоскими, но в целом оно осталось вполне узнаваемо. Бывший полицейский выбрал лучший кадр и указал на него:
— Распечатайте этот, пожалуйста.
— Сколько копий?
— Одну.
Когда Фин пришел в дом престарелых «Дун Эйсдин», его перехватили в коридоре. Молодая женщина с темными волосами, забранными в хвост, привела его к себе в кабинет. Она была явно взволнована.
— Вы были с дочерью Тормода Макдональда, когда она вчера привезла его, верно? Мистер…
— Маклауд. Все верно. Я друг семьи.
Женщина нервно кивнула.
— Я все утро пыталась ее найти, но у меня не вышло. У нас небольшие проблемы.
Он нахмурился:
— Что за проблемы?
— Мистер Макдональд… как бы вам сказать… пытался сбежать.
Брови Фина взлетели вверх в удивлении:
— Сбежать? Но здесь же не тюрьма!
— Конечно, нет. Жители могут приходить и уходить, когда захотят. Но это случилось ночью. Естественно, двери в целях безопасности были заперты. Оказывается, вчера вечером мистер Макдональд уговорил еще несколько человек бежать. Всего их было четверо.
Фин не сдержал улыбку.
— Он сам организовал побег?
— Ничего смешного, мистер Маклауд. Мистер Макдональд встал в раковину и разбил окно кухни голыми руками. Он серьезно порезался.
Веселье Фина как рукой сняло.
— Он в порядке?
— Его пришлось отвезти в больницу. Порезы на одной из рук зашивали. Сейчас он у себя, весь перевязанный. Ведет себя агрессивно, кричит на персонал, не хочет снимать плащ и шляпу. Говорит, что ждет дочь, и она отвезет его домой, — женщина вздохнула, подошла к столу, открыла бежевую папку. — Мы хотим обсудить с мисс Макдональд медикаментозное лечение.
— Какими препаратами?
— Это мы можем обсуждать только с членами семьи.
— Вы хотите притупить его чувства.
— Это не вопрос чувств, мистер Маклауд. Он сейчас очень возбужден. Его надо успокоить, пока он не причинил вреда себе. Или другим, что тоже возможно.
Фин прикинул возможные последствия применения транквилизаторов. Память, уже дающая сбои, может совсем отказать. Их попытки пробудить воспоминания Тормода и установить, кем ему приходится покойник, будут обречены на провал. С другой стороны, нельзя рисковать безопасностью старика.
Наконец он сказал:
— Тогда попробуйте дозвониться до Маршели и поговорите с ней. Посмотрим, может, мне удастся его успокоить. Я собирался прокатить его на машине. Вы не против?
— Я думаю, это отличная идея, мистер Маклауд. Это покажет ему, что здесь не тюрьма, а он — не заключенный.
Глава шестнадцатая
Ну кто там еще! Я с места не сдвинусь. Пусть все идут к черту!
Дверь открывается, на пороге стоит молодой мужчина. Я его уже где-то видел. Он здесь работает?
— Здравствуйте, мистер Макдональд, — говорит он, и его голос меня успокаивает. Голос тоже знакомый.
— Я тебя знаю?
— Я Фин.
Фин, Фин… Странное имя. Что-то связанное с финансами? А может, он финн?
— Это что еще за имя?
— Сокращенное от «Финлей». Пока я не пошел в школу, меня звали Фионлах. А там мне дали английское имя — Финлей. Фином меня стала звать Маршели.
Он садится рядом со мной на кровати. У меня появляется надежда:
— Маршели? Она здесь?
— Нет. Но она попросила меня покатать вас на машине. Она сказала, вам понравится.
Я разочарован. Но выбраться будет неплохо: я уже довольно долго сижу взаперти.
— Да, мне понравится.
— Я вижу, вы одеты и готовы к выходу.
— Всегда готов, — и я начинаю улыбаться. — Хороший ты парень, Фин. И всегда таким был. Но тебе не стоило приходить на ферму, когда родители тебе это запретили.
Фин тоже начал улыбаться:
— Вы это помните?
— Конечно! Твоя мать была в ярости. Мэри боялась, она подумает, что это мы тебя пригласили. Кстати, как твои родители?
Он не отвечает. Смотрит на мои руки, потом берет меня за правую.
— Мне сказали, вы порезались, мистер Макдональд.
— Правда? — я смотрю на руки: они все в бинтах. Что со мной случилось? Я чувствую укол страха. — О боже, — даже мой голос дрожит, — наверное, мне должно быть больно. Но я ничего не чувствую. Сильно я порезался?
— Вам наложили швы в больнице. Вы пытались сбежать.
— Сбежать? — от этого слова становится веселее.
— Ну да. Но вы не заперты здесь, мистер Макдональд. Вы можете приходить и уходить, когда захотите. Как в гостинице. Только сообщайте о своих планах, и все.
— Я хочу домой, — упрямлюсь я.
— Знаете, как говорят, мистер Макдональд? «Мой дом там, где моя шляпа».
— Правда? И кто так говорит?
— Люди.
— Ну, и где моя шляпа?
Фин ухмыляется:
— У вас на голове.
Я ужасно удивляюсь. Но я тяну руку проверить — и действительно, шляпа у меня на голове. Снимаю ее, рассматриваю. Старая добрая шляпа! Мы провели с ней вместе много лет. Я начинаю смеяться:
— И правда! Я не замечал.
Фин помогает мне подняться на ноги.
— Постой! Мне надо взять сумку.
— Оставьте ее тут, мистер Макдональд. Вещи вам понадобятся, когда вы вернетесь.
— А я вернусь?
— Конечно. Вам надо будет вернуться и повесить шляпу. Помните? Дом — там, где ваша шляпа.
Смотрю на шляпу, которую держу в забинтованных руках, и опять начинаю смеяться. Снова надеваю ее.
— Ты прав! Я почти забыл.
Люблю смотреть на океан, освещенный солнцем. Глубокие места сразу видно — вода там темно-синяя. Это на песчаных отмелях она зеленая или бирюзовая. Но здесь их нет. Песок уходит вниз почти отвесно. Это все из-за глубинного течения. Здесь все время кто-нибудь тонет — в основном новички или туристы. Песок их обманывает. Он такой мягкий, тонкий, желтый, безобидный… А местные жители не решаются зайти в море иначе как на лодке. Они в основном и плавать-то не умеют. Черт, как называется этот пляж?
— Далмор, — говорит Фин.
Я не заметил, что сказал это вслух. Все верно, Далмор. Я узнал этот пляж, как только мы свернули на дорогу вдоль берега, мимо коттеджей и мусорных контейнеров, к кладбищу. Когда несчастных закапывают в махер, к ним сразу начинает подбираться море.
Галька крупная, по ней трудно ходить. Песок гораздо приятнее. Фин помог мне снять туфли и носки, и я чувствую песок между пальцами ног — тонкий, нагретый солнцем.
— Прямо как на Пляже Чарли, — говорю я.
Фин останавливается и странно на меня смотрит.
— А кто такой Чарли?
— Ты его не знаешь. Он давно умер, — и я смеюсь.
У Фина в багажнике коврик для пикника. Он достает его, расстилает на песке, чуть ниже укрепленной кладбищенской стены, и мы садимся. Еще у него нашлось пиво — прохладное, но не слишком холодное. Как надо. Он дает мне бутылку, и пиво пенится у меня во рту — совсем как тогда, в первый раз, на крыше Дина.
Море сегодня волнуется под ветром, бросает белую пену на скалы. Даже сидя на берегу, я чувствую на лице мелкие легкие брызги. Зато ветер сдул все тучи. На болоте бывали дни, когда я готов был убивать за такое синее небо.
Фин что-то достает из портфеля, чтобы показать мне. Он говорит, что это фотография. Большая, между прочим. Я вдавливаю донышко моей пивной бутылки в песок, чтобы она не упала, и беру снимок. Руки забинтованы, и мне немного неудобно.
— О! — поворачиваюсь к Фину. — Он цветной?
— Нет, мистер Макдональд. Возможно, вы его знали.
— Он что, спит?
— Нет. Он умер, — я смотрю на фото, Фин молчит. Как будто ждет, что я что-то скажу. — Это Чарли, мистер Макдональд?
Я громко смеюсь.
— Нет, это не Чарли. Откуда мне знать, как он выглядел? Дурачок ты!
Он улыбается, но как-то неуверенно. Не понимаю, почему.
— Смотрите внимательно, мистер Макдональд.
Я делаю, как он просит. Теперь я вижу не только цвет кожи, и эти черты начинают казаться знакомыми. Странно… Слегка повернутый в сторону нос, как у Питера. Маленький шрам на верхней губе в правом углу рта — у Питера был такой же. Он порезался об отбитый край стакана, когда ему было года четыре. Ах да! Шрам на левом виске. Как я его раньше не заметил?
Внезапно я понимаю, кто это, и кладу фото на колени. Смотреть на него я больше не могу. Я обещал! Поворачиваюсь к Фину:
— Он умер?
Он кивает, смотрит на меня очень странно.
— Почему вы плачете, мистер Макдональд?
Питер однажды тоже это у меня спросил.
Суббота была у нас лучшим днем. Днем свободы от бога, от уроков и от мистера Андерсона. Если у нас были деньги, мы могли пойти в город и потратить их. Не то чтобы у нас часто бывали деньги, но в город мы все равно бегали. Пятнадцать минут — и вокруг уже другой мир. Замок нависал над городом. Он стоял на огромной черной скале и бросал тень на сады внизу. По улицам ходило множество людей, они заходили в кафе и магазины. Машины и автобусы выбрасывал в воздух огромные клубы выхлопных газов.
У нас с Питером был свой маленький обманный бизнес. Мы шли в город с утра в субботу, надев самую старую одежду и ботинки, у которых отваливались подошвы. На шею Питеру я вешал картонную табличку с надписью «СЛЕПОЙ». Хорошо, что у нас было хоть какое-то образование и мы знали, как это писать! Мы тогда не представляли, что нам обоим придется однажды надеть на шею таблички. Питер закрывал глаза, клал левую руку мне на правое плечо и брал в свободную руку шапку. Так мы и ходили среди нарядной публики. Добрые горожанки всегда нас жалели. «Ах ты бедняжка!» — говорили они и, если нам везло, бросали в шапку шиллинг. Так мы смогли накопить на татуировку Питера. Для этого нам больше месяца понадобилось попрошайничать по выходным.
Питер сходил с ума по Элвису. Тогда о нем писали все газеты и журналы; вряд ли нашелся бы человек, который не знал бы его и не слышал его песен. В те годы, после войны, все американское считалось самым лучшим. До того, как мы начали копить на татуировку, мы ходили в «Манхэттен Кафе» рядом с кинотеатром «Монсеньор». Зал кафе был длинным и узким, разделенным на секции с диванами, как в американской закусочной. На стенах висели зеркала с гравировкой в виде небоскребов Нью-Йорка. Учитывая, как мы проводили остальные шесть дней недели, здесь для нас был рай. Здесь мы мечтали о том, как могла бы сложиться наша жизнь. Кофе или кока-кола — вот и все, на что у нас хватало денег. Но мы сидели, потягивая напиток, и слушали Элвиса из музыкального автомата.
Heartbreak Hotel, «Отель разбитых сердец». Это название навевало такие романтические образы! Улицы Нью-Йорка, неоновые вывески, над крышками люков поднимается пар. Бас-гитара отмеряет медленный ритм, на заднем плане слышится джазовое пианино. И этот глубокий, чувственный голос:
Тату-салон находился на Роуз-стрит, рядом с пабом для рабочих. Он занимал одну довольно убогую комнату, часть которой была отгорожена занавесом мерзко-зеленого цвета с обтрепавшимся краем. Пахло там чернилами и кровью. На стенах висели выцветшие рисунки и фотографии татуированных рук и спин. У самого мастера были татуировки на обеих руках: разбитое сердце, пронзенное стрелой; якорь; морячок Папай из мультфильма; женское имя Энджи, все в завитушках. Лицо у мастера было худое, с жесткими вьющимися бакенбардами. Остатки волос зачесаны назад, так, чтобы прикрывать блестящую, почти лысую макушку. Зато на шею спускалась роскошная грива набриолиненных завитков. Под ногтями у него я заметил грязь и испугался, что Питер подхватит какую-нибудь ужасную заразу. А может, это были просто чернила.
Не знаю, какие тогда были законы насчет татуировок. Скорее всего, делать наколку мальчику возраста Питера было просто нельзя. Но тату-мастера с Роуз-стрит такие вещи не волновали. Он очень удивился, когда мы потребовали татуировку с Элвисом Пресли. Сказал, что никогда таких не делал. Думаю, он воспринял это как своего рода вызов. Мастер назвал нам цену — два фунта; в те времена это было целое состояние. Наверное, он решил, что мы не сможем столько найти. Когда через шесть недель мы пришли к нему с деньгами, он, даже если удивился, никак этого не показал. У него был готов рисунок, снятый с фотографии в журнале. Под ним он написал название песни — «Отель разбитых сердец». Надпись выглядела как узкий флаг, развевающийся на ветру.
Работа заняла несколько часов. Было очень много крови, но Питер не произнес ни слова жалобы. По его лицу я видел, что ему больно, но он стоически терпел. Чтобы исполнить мечту, он пошел на муки. Я просидел рядом с братом весь день. Слушал жужжание машинки для татуировок, видел, как иглы вонзаются в плоть, как кровь и чернила выступают на коже, и восхищался мужеством Питера. Ради брата я был готов на все. Я знал, как он устает, как мучается из-за своей неполноценности. Но он никогда не злился и не ругался. Мой брат был хорошим человеком — гораздо лучше меня. Я всегда это понимал. Он заслуживал лучшей участи.
К концу работы рука Питера выглядела ужасно. Татуировки не было видно под кровью, которая уже начинала подсыхать, образуя корки. Мастер вымыл руку водой с мылом, вытер бумажными полотенцами, потом наложил повязку и закрепил ее английской булавкой.
— Через пару часов сможешь снять, — сказал он, — регулярно мой татуировку, а потом прикладывай салфетку. Только не три! Чтобы рана хорошо заживала, нужен воздух, так что не закрывай ее.
Потом дал мне баночку с желтой крышкой.
— Это мазь для татуировок. Втирай в рану после каждого мытья — немного, только чтобы увлажнить. Тогда корочка не образуется. А если все-таки появится, ее нельзя срывать, а то чернила с ней уйдут. Кожа будет заживать, и образуется мембрана, которая потом сойдет. Если все делать правильно, заживет недели через две.
Тату-мастер знал свое дело. Рука зажила дней через двенадцать, и тогда мы увидели, как хорошо все получилось. Сразу было видно, что на правой руке у Питера именно Элвис. А надпись под портретом выглядела, как воротник рубашки. Конечно, нам пришлось потрудиться, чтобы никто ничего не заметил. В Дине и в школе Питер ходил только в рубашках с длинными рукавами, хотя еще стояло лето. На время купания он перевязал руку и не окунал ее в воду. Другим мальчикам я сказал, что у него псориаз — кожное заболевание, о котором я прочел в каком-то журнале. Так что татуировка оставалась нашим секретом.
До того самого дня в конце октября.
Питер просто не мог хранить секрет, как дырявое ведро не держит воду. Он был настолько открыт, настолько не способен на обман или нечестность, что рано или поздно рассказал бы кому-то про татуировку. Хотя бы ради того, чтобы ее показать. Он часто сидел, рассматривая наколку. Наклонял голову так и сяк, поворачивал руку, чтобы видеть ее под разными углами. Больше всего ему нравилось смотреть на свое отражение в зеркале. Так он как будто видел татуировку на ком-то другом, кого можно было уважать и любить. Между «разбитыми сердцами» и «отелем» было маленькое красное разбитое сердце — единственное цветное пятно во всей картинке. Питеру оно очень нравилось; иногда я видел, как он его трогает, будто гладит. Но больше всего ему нравилось, что Элвис теперь принадлежит ему и всегда будет с ним. До последнего дня его, как оказалось, короткой жизни.
В тот год рано выпал снег. Его было немного, но он лежал на крышах, на карнизах, на ветвях деревьев, которые стояли голыми после необычно сильных осенних ветров. На контрасте с ним все остальное казалось темнее — вода в реке, закопченный камень старых мельниц, домики рабочих в деревне. Небо закрывали свинцовые тучи, но сверху их подсвечивало солнце. В итоге свет рассеивался, не оставляя теней. Воздух был холодным, бодрящим и щипал нос. Снег замерз и хрустел под ногами.
В школе была утренняя перемена, и все вышли на улицу. Наши голоса далеко разносились в морозном воздухе, а пар от дыхания плыл над головами, как дым из пасти дракона. Я заметил, что Питер стоит у ворот в окружении группы парней. Когда я подошел, было уже поздно. Вряд ли можно было найти более опасную компанию, чтобы хвастаться татуировкой. Три брата Келли и несколько их друзей, все — неприятные типы. Мы общались с Келли только потому, что они, как и мы, были католиками. Нас всех заставляли стоять на холоде, пока протестанты не закончат утреннюю молитву. В таких условиях даже враги чувствуют, что у них есть что-то общее. А так Келли были плохой компанией. Четыре брата, один еще не учился в нашей школе, потому что был младше всех. Дэниэл и Томас — примерно моего возраста, с разницей в год. И Патрик — на год старше. Говорили, что их отец связан с какой-то известной эдинбургской бандой, что он сидел с тюрьме. По слухам, у него был шрам, который тянулся от левого угла рта до мочки левого уха, как продолжение нижней губы. Сам я никогда его не видел, но легко мог представить по описанию.
Кэтрин оказалась у ворот раньше меня. Она уже тогда начала защищать Питера. Она была младше меня, примерно одного возраста с братом, но опекала нас по-матерински. Причем ничего сентиментального в этом не было. Она опекала нас свысока, даже грубовато; возможно, так же поступала ее мать. Кэтрин скорее могла дать пинка под зад и наорать, чем предупредить или, не дай бог, похвалить.
Я подбежал к воротам как раз вовремя, чтобы увидеть, с каким удивлением она смотрит на татуировку Питера. Мы же ничего ей не рассказывали. Она взглянула на меня, и я сразу понял, как она обижена. Мой брат тем временем стоял без куртки, с закатанным рукавом. Даже братья Келли, которых трудно было удивить, глазели на него разинув рот. Первым выгоду в ситуации увидел Патрик.
— Тебе попадет, когда об этом узнают, дурачок, — сказал он. — Кто это сделал?
— Секрет! — Питер принялся опускать рукав, но Патрик схватил его за руку.
— Тут работал мастер, верно? У него теперь будут проблемы. Тебе сколько, пятнадцать? Ты должен был получить разрешение родителей! — и старший Келли злобно рассмеялся. — Но родителей у тебя нет, так что это будет нелегко.
— Лучше быть сиротой, чем иметь отца, который в тюрьме сидел! — голос Кэтрин словно прорезал смех парней. Патрик хмуро взглянул на нее:
— Заткнись, ты, мелкая тварь!
Он сделал шаг к ней. Я сразу же встал между ними.
— Сам заткнись, Келли.
Патрик уставился на меня своими бледно-зелеными глазами. Он был уродлив: рыжие волосы, кожа цвета овсянки, вся в веснушках. Сейчас он явно пытался просчитать последствия нашего столкновения. Патрик был рослым, но я ему ни в чем не уступал.
— Тебе-то что? — наконец спросил он.
— Не люблю, когда ругаются.
Кто-то из парней рассмеялся. Старшему Келли это не понравилось.
— Заткнитесь! — прикрикнул он на братьев. Потом повернулся ко мне:
— Значит, в Дине всем разрешают делать наколки? — я не ответил, и он усмехнулся:
— У меня такое чувство, что дурачок будет по уши в дерьме, если ваши все узнают.
— Откуда они все узнают?
— Кто-то может им сказать, — и Патрик улыбнулся особенно мерзко.
— И кто же?
Он перестал улыбаться, наклонился ко мне:
— Например, я.
Я не шелохнулся, только сморщился: зубы у него были плохие, и изо рта воняло.
— Только трусы бегут докладывать.
— Ты что меня, трусом назвал?!..
— Тебя я никак не назвал. Трус выдаст себя своими действиями.
Ярость и унижение от того, что кто-то оказался находчивее, придали Патрику сил.
— Мы посмотрим, кто тут трус, — он кивнул в сторону моста, который соединял город с западными окраинами. Как я узнал гораздо позже, это была предпоследняя работа знаменитого Томаса Телфорда.
— Снаружи моста прямо под парапетом идет уступ. В ширину он дюймов девять. Встречаемся на мосту в полночь — ты и я. Посмотрим, кто сможет там пройти.
Я поглядел на мост. Даже отсюда было видно, что по всей длине уступа намерз снег.
— Ну уж нет.
— Боишься, да?
— Да он просто трус, — вставил один из младших братьев.
— Просто я не дурак, — ответил я.
— Жаль твоего брата! Его могут выгнать из приюта — с таким-то дерьмом на руке. Отправят дурачка в общежитие. Вряд ли вам понравится жить врозь!
Это могло случиться. Я чувствовал, что запутываюсь в сетях неизбежного.
— А если я соглашусь?
— Элвис будет нашим секретом. Но если струсишь и не придешь, я все расскажу.
— И ты тоже пройдешь по уступу?
— Конечно.
— А что я получу в итоге?
— Возможность назвать меня трусом, если я не приду.
— А если придешь?
— Тогда я докажу, что ты не прав.
— Не надо, — тихо, со значением сказала Кэтрин позади меня.
— Заткнись, ты! — Келли обрызгал меня слюной.
Я повернулся к Питеру. Я не знал, понимает ли он всю серьезность ситуации, понимает ли, во что втравил меня своим хвастовством.
— Я пойду с тобой, — серьезно сказал он.
— Видишь? Даже наш дурачок храбрее тебя, — глумливо заявил старший Келли. Он уже понял: я на все согласен.
Я пожал плечами. И постарался, чтобы мой голос звучал как можно равнодушнее:
— Ну ладно. Только давай сделаем поинтереснее: я пойду первым. Мы замерим время. И тот, кто прошел мост медленнее, пройдет еще раз.
Впервые я увидел, как Патрик Келли колеблется. Теперь он оказался в ловушке.
— Без проблем.
Мы были просто глупыми мальчишками. О чем Кэтрин не преминула мне сообщить, когда я отвел Питера в сторону, чтобы объяснить ему, что он наделал.
— Ты с ума сошел. Этот чертов мост сто футов в высоту! Ты убьешься, если упадешь. Это точно.
— Я не упаду.
— Надеюсь! Иначе я не смогу тебе сказать: «Ну я же говорила!», — она помолчала. — Как ты собираешься выбраться из Дина?
Я никогда никому не рассказывал про свои ночные прогулки в деревню и на кладбище. Мне и сейчас не очень хотелось раскрывать секрет.
— Есть способ, — сказал я туманно.
— Давай, говори уже! Потому что я пойду с тобой.
— И я тоже, — вставил Питер.
Я мог только переводить злобный взгляд с одного заговорщика на другого.
— Вы не пойдете! Никто из вас.
— А какой говнюк нас остановит?
— Да! Какой говнюк нас остановит? — Питер даже выпятил грудь. Было так странно слышать, как он ругается. Да, Кэтрин могла плохо повлиять на кого угодно. А главное, я понял: они меня переспорили.
— Зачем тебе идти туда? — спросил я у Кэтрин.
— Вы будете соревноваться, кто быстрее. Кому-то придется засекать время, — она вздохнула. — И потом… Если ты упадешь, кто-то должен позаботиться, чтобы Питер смог вернуться в Дин.
Я не смог бы уснуть после отбоя, даже если бы хотел. Еще три часа… Меня тошнило от страха. Что на меня нашло? Как я вообще влип в эту историю? Меня раздражало, что Питер заснул практически мгновенно. Он был уверен, что я разбужу его, когда пора будет идти. Я подумывал выбраться из Дина без него, но быстро понял, что не стоит этого делать. Неизвестно, как он отреагирует, если проснется и увидит, что меня нет. Так рисковать не стоит.
Так что я лежал под одеялом, не в силах согреться, и дрожал от холода и страха. Конечно, все ребята в школе и в Дине уже знали, что Келли и Макбрайды поспорили. Никто пока не знал, из-за чего. Но я понимал, что скоро про татуировку Питера станет известно всем ребятам. А потом ею заинтересуются старшие. Будущее казалось настолько же ужасным, насколько оно было непредсказуемо. Я чувствовал, что ход наших жизней — моей и Питера — выходит из-под контроля. Конечно, мы сами не решали ничего, когда нас отправили в приют. Но в этот год Дин обеспечил нам хоть какой-то комфорт, хоть он и принял форму безрадостной рутины.
Время шло и медленно, и быстро. Каждый раз, когда я смотрел на часы, выяснялось, что прошло всего пять минут. А потом внезапно оказалось, что уже без четверти двенадцать. Возможно, я все-таки заснул и сам этого не заметил. Но сейчас сердце у меня стучало как сумасшедшее; казалось, оно колотится прямо в горле. Я начал задыхаться. Время идти.
Я вылез из постели, полностью оделся, влез в ботинки. У них были толстые резиновые подошвы, и я надеялся, что они помогут мне на льду. Дрожащими пальцами я завязал шнурки и потряс Питера за плечо. К моем раздражению, проснулся он не сразу. Но вот мой брат наконец вынырнул из какого-то незаслуженно счастливого сна, и к нему вернулись воспоминания о том, что должно случиться этой ночью. Его глаза загорелись в предвкушении.
— Уже пора? — громко прошептал он.
Я приложил палец к губам и злобно на него посмотрел.
И только когда мы подошли к двери спальни, я понял, как много ребят не спит. В темноте раздавался шепот:
— Удачи, Джонни!
— Покажи ублюдку, на что способны парни из Дина!
Мне хотелось сказать: «Сами ему покажите!».
Кэтрин ждала нас у начала лестницы в подвал. У нее был фонарик, и она посветила нам в лица, когда мы спускались. Я чуть не ослеп.
— Бога ради, выключи! — я поднял руку, защищая глаза. Свет погас, и в полной темноте я чуть не упал. — О Господи!
— Вы опоздали! — прошептала Кэт. — Тут так страшно. Внизу что-то все время лязгает. И по полу кто-то бегает! Это точно крысы.
Я отодвинул щеколду, открыл дверь, и в подвал ворвался холодный воздух. Он пах настоящей зимой. Звезды казались проколами в черной ткани неба, дырочками, через которые мы смотрим на свет. Черный асфальт вокруг Дина покрывала сверкающая изморозь. Небо нашло идеальное отражение на земле. Ну, или ад отразился в небесах.
Когда мы спустились в деревню, часы как раз били полночь. Звук далеко разносился в холодном и чистом ночном воздухе, глубокий и скорбный. Как колокол, что звонит по мертвым. Идти по Белс-Брэй в темноте, мимо тихих домов, пришлось медленно и осторожно. Выпавший снег растаял на солнце, а потом превратился в лед. Когда мы добрались до пресвитерианской церкви на вершине холма, все трое успели взмокнуть. В школе нам говорили, что в этом здании в семнадцатом веке располагалась таверна. Сейчас церковь, с ее башенками и ступенчатым фасадом, наполовину ушла в землю. А жаль: я бы все отдал за стаканчик пенного эля, который наливали здесь давным-давно. А то язык у меня приклеился к нёбу, а храбрость по мере приближения к мосту улетучивалась.
Братья Келли ждали нас возле первой арки моста, стоя в тени громады церкви. В городе было тихо и пусто, как на кладбище. На улице ни одной машины, все окна в домах вдоль Квинсферри-Стрит темные. Луна отражалась от всех покрытых снегом поверхностей. Только вода в реке оставалась темной.
— Вы опоздали! — прошипел Патрик Келли из тени. — Мы уже сто лет ждем! Холодно зверски!
Я слышал, как он топает и похлопывает затянутыми в перчатки руками, чтобы согреться.
— Ну, мы пришли, — ответил я. — Так что можно начинать. Я первый.
Я двинулся к парапету, но Патрик оттолкнул меня своей пятерней.
— Нет, я первый! Не собираюсь снова тебя ждать. Кто будет замерять время?
— Я, — Кэтрин вышла под желтый свет фонаря. На ладони у нее лежал гравированный серебряный секундомер с розовой лентой. Один из братьев Келли схватил девушку за запястье, чтобы получше рассмотреть диковинный предмет. Он с завистью спросил:
— Ты где это украла?
— Я не крала! — Кэтрин высвободила руку, сжала пальцы. — Мне отдал его отец.
Патрик велел:
— Дэнни, ты следи, чтоб она не жульничала.
Потом взялся за кованые пики ограждения, идущего вдоль парапета, и перелез на уступ. Ноги у него при этом скребли по льду.
Я много раз проходил по этому мосту, но парапет рассматривал впервые. Позже я узнал, что его возвели лет за пятьдесят до нашего приключения, чтобы самоубийцы перестали прыгать в реку. Есть в мостах что-то такое — с них все время кто-нибудь прыгает и разбивается. Не знаю, что творится у людей в голове; я в ту ночь думал об одном — как бы не упасть. Пресвитерианскую церковь, или «кирху», на южной стороне и готическую Церковь Святой Троицы на северной разделяло четыре арки моста. Его высота над рекой составляла сто шесть футов, а длина — метров сто пятьдесят. Уступ был достаточно широк, чтобы по нему мог пройти человек. Если не будет смотреть вниз или слишком задумываться над тем, что делает. В трех местах между арками уступ пересекали опоры колонн, и вот тут начинались сложности. Опоры были наклонными и заставляли отдалиться от спасительного парапета, где всегда можно было схватиться за пики ограды.
Я чувствовал, что внутри у меня все переворачивается. Это безумие. Что я вообще здесь делаю? Я едва мог дышать. По лицу Патрика было видно, что он тоже боится. Но он очень старался не подавать виду.
— Засекай время! — крикнул он и двинулся по уступу. Мы все подались вперед. Кэтрин нажала кнопку секундомера.
Патрик двигался удивительно быстро, распластавшись по стене лицом к парапету, касаясь ее руками. Опоры он обнимал, вцеплялся в них и передвигал ноги, не отрывая их от уступа. Дэнни остался возле кирхи, он вместе с Кэтрин смотрел на секундомер. Я, Питер и еще один брат Патрика, Тэм, шли за старшим Келли по тротуару на мосту. Дыхание Патрика было тяжелым из-за страха и физических усилий. Изо рта у него шел посеребренный луной пар. Я видел только макушку соперника и его сосредоточенный взгляд. Питер вцепился мне в руку и глаз не мог оторвать от Патрика. Мой брат беспокоился о его безопасности, несмотря на то, что тот угрожал раскрыть тайну татуировки. Впрочем, Питер вообще за всех переживал.
Пэм все время подбадривал старшего брата. Когда тот, наконец, дошел до церкви, взялся дрожащими руками за ограду и перелез на дорогу, младший Келли испустил громкий радостный крик. В это время к нам подбежали Кэтрин и Дэнни.
— Ну? — вопросил Патрик. Его лицо светилось от гордости.
— Две минуты двадцать три секунды, — сообщил Дэнни. — Так держать, Пэдди!
Патрик повернул ко мне сияющее лицо:
— Теперь твоя очередь.
Я посмотрел на Кэтрин. В ее темных глазах разгорался страх.
— Как там лед? — спросил я Патрика. Он ухмыльнулся:
— Охренительно скользкий.
Сердце у меня ушло в пятки. Две минуты двадцать три секунды — это очень быстро! Я помнил, что если не смогу пройти быстрее, мне придется преодолеть уступ дважды. Патрик просто излучал самоуверенность: он и мысли не допускал, что я обгоню его. Если честно, и я такой мысли не допускал. Но думать об этом не было смысла. Как-то глупо сдаваться собственному страху.
Я вскарабкался на парапет и, держась за ограду, перелез на уступ с вешней стороны моста. Железо ограды было ледяным, замерзшие руки начало сводить от холода, но я не разжимал их. Встав на уступ, я обнаружил, что мои резиновые подошвы дают отличное сцепление со скользким снегом. Я отпустил ограду. Теперь я балансировал на узком каменном уступе, по которому мне предстояло пройти почти четыреста футов. Если я буду действовать так же, как Патрик, только случай решит, окажусь ли я быстрее. А если двинуться прямо, как по бордюру, балансируя вытянутыми в стороны руками? Тогда я смогу опередить его. Если не упаду, конечно. Только проходя мимо опор, я мог бы воспользоваться методом Патрика.
Я глубоко вдохнул, борясь с искушением посмотреть вниз, крикнул:
— Засекай время!
И двинулся вперед, глядя только на кирху на другом конце моста. Я чувствовал, как скрипит снег у меня под ногами. Левую руку приходилось поднимать выше правой, чтобы не касаться парапета. Малейшая ошибка, легкое касание камня — и я полечу в воду. Дойдя до первой колонны, я обхватил ее руками, повернулся боком и двинулся в точности как Патрик. Потом восстановил равновесие и пошел к следующей опоре. Меня захватила эйфория — казалось, я могу просто пробежать по уступу. Понятно, что это было невозможно; но я почувствовал себя более уверенно и увеличил скорость. Том на дальней стороне завопил:
— Пэдди, он просто летит!
— Давай, Джонни! Вперед! — это уже Питер.
Когда я дошел до кирхи и перелез через парапет, я уже знал, что опережаю Патрика. И сам он тоже это понимал. Пока мы ждали Кэтрин и Дэнни, я видел, как он мрачнеет. На лице Келли застыла маска ужаса; наша подруга торжествующе улыбалась.
— Две минуты пять секунд, — голос Дэнни был едва ли громче шепота.
Мне было уже все равно. Я выиграл спор. И если Патрик Келли — человек слова, то секрету Питера ничего не угрожает. По крайней мере, пока.
— Давай на этом закончим.
Губы Патрика вытянулись в белую линию. Он затряс головой:
— Ну уж нет. Тот, кто пройдет мост медленней, пройдет его еще раз. Так мы договорились.
— Это уже не важно.
Келли выпятил челюсть:
— А для меня важно.
Он схватился за ограду и снова вылез на парапет.
— Давай пойдем домой, Пэдди, — попросил Тэм.
Но Патрик уже стоял на уступе.
— Засекай это чертово время!
Дэнни посмотрел на меня так, будто я могу помешать Питеру. Но я сделал все, что мог, так что в ответ только пожал плечами.
Кэтрин нажала кнопку секундомера.
— Пошел! — крикнула она.
Патрик двинулся вперед, используя мою технику. Но я сразу увидел: у него так не получится. Его туфли не давали такого сцепления со льдом. Проходя первый пролет моста, он несколько раз останавливался, чтобы восстановить равновесие. Тэм, Питер и я бежали рядом, подпрыгивая каждые несколько футов, чтобы получше его разглядеть. На лбу Патрика выступил пот, он блестел в лунном свете. Веснушки на побелевшем лице казались россыпью темных пятен. Было видно, что Келли боится, но ему нужно вернуть себе уважение — не только в наших глазах, но и в своих. Я слышал, как он резко втянул воздух, споткнувшись. Видел, как его рука хватает воздух. В этот кошмарный момент я решил, что он падает; но Патрик схватился за парапет и смог устоять на ногах.
Мы прошли половину моста, когда Дэнни со стороны кирхи крикнул:
— Полиция!
Сразу вслед за этим я услышал звук мотора, приближающийся со стороны площади. Кэтрин и Дэнни нырнули в тень кирхи, а нам с Питером и Тэмом деться было некуда.
— Пригнитесь! — крикнул я и скрючился возле стены. Потащил за собой Питера. Тэм присел рядом на корточки. Мы все дружно надеялись, что из черной патрульной машины нас не увидят. Она осветила нас фарами, но проехала мимо. Меня затопило чувство облегчения… Но тут раздался визг тормозов: машина резко остановилась на замерзшем асфальте.
— Черт!
— Бежим! — закричал Тэм.
Я услышал, как в полицейской машине включили заднюю передачу. Торопить меня не понадобилось — я вскочил и помчался к пресвитерианской церкви. Но мы не пробежали и десяти ярдов, когда я понял, что Питера нет рядом. Дэнни кричал с дальней стороны моста:
— Какого черта он творит?
Тэм схватил меня за руку. Мы обернулись и увидели: Питер скрючился на парапете, держась одной рукой за ограду. Вторую он тянул к Патрику Келли — как будто только что толкнул его. Тот в панике молотил руками по воздуху, пытаясь сохранить равновесие. Но было видно: ему это не удастся. Без единого звука Патрик рухнул во тьму. Именно эту тишину я запомнил навсегда. Он не кричал, не звал никого — просто молча упал в тень моста. Я очень хотел верить, что он может пережить падение. Но было очевидно: это невозможно.
— Черт! — Тэм дышал мне в лицо. — Да он его толкнул!
— Нет! — я и сам понимал, как это выглядит. Но я без тени сомнения знал: на такое Питер не способен.
Из патрульной машины выпрыгнули двое полицейских в форме и побежали к нам по мосту. Я кинулся назад, схватил брата и потащил его к южному концу моста, где ждали остальные. Питер хныкал и подвывал, лицо его было мокрым от слез.
— Он звал на помощь, — проговорил он, тяжело дыша. — Я пытался удержать его, Джонни. Честное слово!
— Эй! — в темноте раздался голос полицейского. — Мальчики! Что это вы тут делаете?
Мы поняли: пора разбегаться. Не знаю, что делали братья Келли. Мы с Питером и Кэтрин врассыпную бросились по улице, спотыкаясь и скользя по булыжнику. Назад мы смотреть не решались. Нас надежно скрывали темнота, тени домов и деревьев. Без единого слова мы вскарабкались по холму к двойным башням Дина.
Не знаю как, но утром все в Дине уже знали о том, что Патрик Келли упал с моста. Потом кто-то из деревни позвонил в приют и сказал, что в школе сегодня занятий не будет. Тогда все поняли: случилось нечто ужасное. Стало известно: прошлой ночью мальчик упал с моста в реку и умер. Никто из работников не знал, кто это был. Но все дети в Дине знали.
Как ни странно, у нас никто ничего не спрашивал. Как будто мы были прокаженными, и другие дети боялись подхватить заразу. Все, как обычно, разбились на группы. И только Питера, Кэтрин и меня обходили стороной. Так что мы просто сидели в столовой и ждали неизбежного. И оно случилось незадолго до полудня. К приюту с ревом подъехала полицейская машина и остановилась у лестницы. Из нее вышли двое полицейских в форме, их сразу проводили в кабинет мистера Андерсона. Прошло минут десять, и за нами послали смотрителя.
— Что вы натворили? — спросил он с беспокойством.
Я был самым старшим, так что брат и Кэтрин предоставили отвечать мне. Я пожал плечами:
— Понятия не имею.
Смотритель вел нас по коридору первого этажа в кабинет мистера Андерсона, а все остальные обитатели Дина смотрели на нас. Они стояли, разбившись на группы, и казалось, наблюдали, как приговоренных ведут на казнь. И каждый благодарил бога, что это случилось не с ним.
Мистер Андерсон стоял за своим столом, застегнутый на все пуговицы. Лицо его было пепельным, как и волосы. По одну сторону от него стояли полицейские со шлемами в руках, по другую — кастелянша. Мы втроем выстроились перед столом. Управляющий уставился на нас:
— Я хочу, чтобы один из вас говорил за всех.
Кэтрин и Питер посмотрели на меня.
— Ладно, Макбрайд, — это был первый и последний раз, когда мистер Андерсон назвал меня по имени. Затем он посмотрел на остальных:
— Если кто-то из вас не согласен с тем, что он скажет — можете говорить. Ваше молчание будет расценено как согласие.
Он глубоко вздохнул, затем оперся кончиками пальцев на стол, слегка наклонился вперед.
— Вас вызвали сюда, потому что ночью с моста упал мальчик и умер. Некий Патрик Келли. Вы его знали?
— Да, сэр.
— Говорят, около полуночи на мосту видели каких-то хулиганов. Там были несколько мальчиков и девочка, — управляющий в упор посмотрел на Кэтрин. — А еще говорят, что двух мальчиков и девочку из Дина незадолго до этого видели в деревне, — он снова выпрямился во весь рост. — Думаю, ты не знаешь, кто это мог быть?
— Не знаю, сэр.
Я знал, что доказать ничего нельзя, если у полиции нет свидетелей. А если бы они были, их привезли бы сюда, и они уже указали бы на нас. Так что я все отрицал. Нет, мы не покидали приют. Всю ночь мы спокойно проспали. До утра мы ничего не слышали о смерти Патрика Келли. И мы не знаем, что он или кто-то другой мог делать ночью на мосту.
Конечно, все понимали, что я вру. Видимо, кто-то что-то рассказал. Или братья Келли, или их друзья.
Мистер Андерсон оперся на столешницу костяшками пальцев, и они побелели — как в день нашего прихода в Дин, почти год назад. Глядя на полицейских, он произнес:
— Возможно, мальчик упал не сам. Его могли толкнуть. Будет проведено расследование. Тому, кто толкнул мальчика, будет предъявлено обвинение в убийстве. Как минимум — в непредумышленном убийстве. Это очень, очень серьезно! Если выяснится, что кто-то из воспитанников Дина виновен, это будет ужасное пятно на репутации приюта. Вам понятно?
— Да, сэр.
Ни Питер, ни Кэтрин не раскрыли рта за все время разговора. Мистер Андерсон вперил в них взгляд:
— А вам есть что добавить?
— Нет, сэр.
Полиция уехала только через полчаса после того, как нас выпроводили из кабинета. Голос мистера Андерсона было отлично слышно в коридоре:
— Проклятые католики! Хочу, чтобы их здесь не было.
И наконец предсказание Кэтрин сбылось. На следующий же день за нами приехал священник.
Глава семнадцатая
Фин внимательно наблюдал за стариком. Серебристая щетина на его лице и шее ярко выделялась в солнечном свете. Глаза, напротив, казались матовыми — их туманили воспоминания, которыми Тормод не мог или не хотел поделиться. Он долго сидел молча, и его слезы высохли, оставив соленые дорожки на щеках. Подтянув колени к груди и обхватив их руками, он глядел на море. Казалось, он видит что-то, недоступное Фину. Фотографию он давно уронил на коврик. Фин поднял ее и убрал в сумку. Потом взял Тормода за локоть и осторожно потянул.
— Давайте пройдемся вдоль воды, мистер Макдональд.
Его голос пробудил старика от задумчивости. Тот в удивлении поднял глаза, словно увидел Фина в первый раз.
— Он этого не делал, — произнес Тормод, отказываясь встать.
— Кто не делал чего, мистер Макдональд?
Но тот лишь покачал головой:
— Может, он и был не в себе, но гэльский выучил гораздо быстрее меня.
Фин нахмурился, удивленный таким поворотом мысли. На островах все знали гэльский с младенчества. Во времена Тормода английский начинали учить только в школе.
— Вы хотите сказать, он выучил английский быстрее вас?
Хорошо бы еще узнать, кто этот он.
Тормод яростно затряс головой:
— Нет, гэльский! Как будто это был его родной язык.
— Чарли?
На этот раз он усмехнулся:
— Да нет же. Чарли говорил бы по-итальянски.
Старик протянул Фину руку, чтобы тот помог ему встать, и поднялся навстречу ветру.
— Давай намочим ноги! Мы всегда так делали на Пляже Чарли, — потом указал на туфли Фина:
— Снимай ботинки, парень.
Тормод наклонился, начал закатывать брюки. Фин сбросил туфли, стянул носки и закатал штанины до колен. Двое мужчин рука об руку пошли по мягкому глубокому песку туда, где отступающая вода сделала его плотным и мокрым. Ветер запутывал плащ Тормода вокруг его ног, раздувал куртку Фина, нес мелкую водяную пыль. Пролетев три тысячи миль над Атлантикой, он набрал немалую силу.
Первая волна разбилась вокруг их ног, захлестнув песок. Вода была удивительно холодной. Старый Тормод радостно засмеялся, отходя с пути волны. С него сдуло шляпу, но Фин увидел, как порыв ветра поднимает ее с головы старика, и каким-то чудом успел ее поймать. Тормод снова засмеялся, как ребенок, которому показали новую игру. Он хотел снова надеть шляпу, но Фин сложил ее и положил в карман плаща, чтобы она не потерялась. Ему тоже понравилось играть с волнами. Он снова направился туда, где бурные когда-то волны нежно омывали берег. Вода плеснула мужчинам выше щиколоток. Оба вскрикнули, потом засмеялись. Тормод казался полным сил. Приятно было видеть, что маразм хотя бы на короткое время выпустил его из цепких объятий. Он снова радовался простым удовольствиям жизни, снова был полноценным человеком.
Они шли вдоль пенной полосы прибоя ярдов четыреста-пятьсот, то заходя в воду, то снова отходя назад. На дальнем конце пляжа вода разбивалась в белую пену вокруг блестящих черных валунов. Звук ветра и прибоя заполнял их уши, не оставляя места больше ни для чего. Боль, печаль, воспоминания — все было в прошлом. Не доходя до валунов, они повернули обратно. Пройдя несколько футов, Фин вынул из кармана медальон со Святым Христофором на серебряной цепочке, который мать Маршели дала им несколько часов назад. Из-за шума моря пришлось кричать:
— Вы помните это, мистер Макдональд?
Тормод был явно удивлен. Он остановился и взял медальон. Поглядел на него, потом сжал руку в кулак. К изумлению Фина, по щекам его снова покатились слезы.
— Она мне его подарила, — голос старика был едва слышен за рокотом волн.
— Кто?
— Кейт.
Фин задумался. Возможно, эта Кейт — причина ненависти Тормода к католикам.
— Она была католичкой?
Старик взглянул на него, как на сумасшедшего:
— Конечно! Как и все мы.
Он быстро двинулся вдоль линии прибоя. Волны выплескивались на песок, брызгали ему на брюки, но он, казалось, этого не замечал. Фину потребовалось не меньше минуты, чтобы выйти из ступора и догнать старика. Он ничего не мог понять.
— Вы что, были католиком?
Тормод посмотрел на него снисходительно:
— Ходил на мессу каждое воскресенье. В большую церковь на холме.
— В Силбост?
— В церковь, которую построил рыбак. У нее внутри лодка.
— Лодка? В церкви?
— Да, под алтарем, — Тормод остановился так же внезапно, как двинулся вперед. Он стоял по щиколотку в воде и смотрел на горизонт, где едва виднелся темный силуэт танкера.
— Оттуда был виден Пляж Чарли, прямо за кладбищем. Как будто серебристую полоску провели по берегу, между пурпурным махером и бирюзовым морем, — он замолчал, взглянул на Фина. — И все мертвецы хотели, чтобы прохожие остановились. Им в ином мире тоже нужна компания.
Он снова отвернулся и прежде, чем Фин успел его остановить, швырнул медальон в набегающие волны. Святой Христофор исчез в водовороте песка и пены. Течение утащит его на глубину, и там он будет покоиться, потерянный навсегда.
— Папистские штучки нам больше не нужны, — произнес Тормод. — Путь почти окончен.
Глава восемнадцатая
Ганн позвонил Фину на мобильный, когда тот выходил из дома престарелых «Дун Эйсдин». На обратном пути из Далмора Тормод вел себя очень тихо. Вернувшись, он пошел в свою комнату, позволил работникам дома престарелых снять с себя плащ, а потом отправился в столовую. Предыдущим днем он почти ничего не ел, а теперь к нему вернулся аппетит. Он набросился на весеннюю ягнятину с вареной картошкой. Фин тем временем тихо вышел на улицу.
Он припарковал машину в начале Черч-стрит и прошел до полицейского участка, на ступеньках которого его ждал Ганн. Ветер на восточном побережье был порывистым и прохладным. Он поднимал мелкую волну в бухте и шелестел первыми листьями деревьев на дальней ее стороне, рядом с запущенным зданием замка Льюс. Мужчины прошли до Бэйхед, где рыбацкие лодки поднимались над причалами — шел прилив. Сети, пустые ящики и ловушки для крабов были разбросаны по булыжнику. Жители Сторновея двигались к центру города, наклоняясь против ветра.
Они шли мимо кафе с витражными окнами, выходящими на док, когда Ганн вдруг спросил:
— Это молодой Фионлах?
Фин развернулся и увидел по другую сторону стекла, за смутными отражениями, Фионлаха и Донну. Они сидели за столом, а на полу между ними стояла переноска для младенцев. Фионлах держал свою маленькую дочь на руках и с любовью смотрел в ее круглые голубые глаза. Она глядела на отца, улыбаясь, ее крохотные пальчики сжимали его большой палец. Вот так же когда-то сын Робби держал за палец Фина.
Но на переживания и сожаления времени у него не оказалось. Донна повернулась и увидела его. Лицо ее зарумянилось впервые на его памяти; она отвернулась и что-то быстро сказала Фионлаху. Тот поднял голову, удивленный, и Фин увидел что-то странное в его глазах. Страх? Вину? Он не успел разобраться: на лице юноши расцвела застенчивая улыбка. Он кивнул Фину, и тот кивнул в ответ. Неловкий момент, молчаливый разговор; оконное стекло казалось несерьезным барьером по сравнению со всем тем, что стояло между ними, не оформленное в слова.
— Хотите зайти? — спросил Ганн.
— Нет, — Фин потряс головой. Махнул рукой молодым людям и двинулся дальше по Бэйхед. Ганну пришлось его догонять. Интересно, почему Фионлах не в школе?
Мужчины сели в темном углу бара «Гебридец», и Ганн заказал им по полпинты[16] крепкого. Он поставил стаканы, достал из внутреннего кармана куртки конверт из плотной бумаги и запустил его по столу в сторону собеседника.
— Я вам этого не давал.
Фин убрал конверт в сумку:
— О чем это ты?
Ганн усмехнулся. Какое-то время они молча потягивали пиво, потом полицейский аккуратно поставил стакан на подставку и начал:
— Мне позвонили полчаса назад. Из Инвернесса пришлют старшего следователя. Вести расследование убийства будет он.
— Естественно, — Фин кивнул.
— Он вряд ли приедет раньше чем через неделю. В руководстве полиции считают, что раз убийство совершено больше пятидесяти лет назад, расследование может подождать, — Ганн отпил из стакана и снова поставил его поверх мокрого круга на подставке. — Но когда он приедет, мистер Маклауд, я больше не смогу ничего вам рассказывать. Мне очень жаль, правда. Вы были хорошим полицейским, я знаю. Только вы больше не полицейский, и это настроит всех против вас. Вам наверняка скажут не совать нос не в свое дело.
— Наверняка, — Фин улыбнулся, отпил из стакана. — К чему ты это говоришь, Джордж?
— У нас есть небольшая фора, мистер Маклауд. Я думаю, надо ковать железо, пока горячо.
— Отлично сказано, Джордж. Что ты задумал?
— Я хотел завтра утром съездить на остров Харрис, в Силбост, разузнать про семью старого Тормода Макдональда. Вдруг это поможет нам разобраться, кого же мы вытащили из болота. Будет здорово показать полицейским с материка, что мы не совсем деревенщина.
— И?
— И понимаете, у меня что-то двигатель стал барахлить. Ну, это официальная версия. Я думал, может, вы меня подвезете?
— Вот как?
— Ну да, — Ганн сделал большой глоток пива. — Что скажете?
Фин пожал плечами.
— Ну, Маршели хочет, чтобы я во всем этом разобрался.
— Ну да, логично. Вы же бывший полицейский, — Ганн снова потянулся за стаканом, потом остановился.
— А вы с ней… снова вместе, да?
Фин старался не смотреть в глаза другу.
— У нас с ней долгая история, Джордж. Но мы не вместе, — он осушил стакан. — Во сколько ты хотел бы выехать?
Фин возвращался вдоль западного побережья, через Барвас, Сиадер и Делл, и смотрел, как на горизонте собирает силы еще один грозовой фронт. Позади него фиолетовые горы Харриса на юге купались в солнечном свете. Небо на севере оставалось ясным. Каждая деревня, мимо которой Фин проезжал, ясно выделялась на его фоне — и старинные дома с белеными стенами, и стандартные жилые строения, которые выпускало в двадцатом веке бывшее Министерство сельского хозяйства и рыболовства. С их шиферными крышами, высокими мансардными окнами и стенами, покрытыми волокнистой штукатуркой, они были крайне уродливы и совершенно не могли противостоять жесткому климату островов. Назвать их «домами» не поворачивался язык.
Солнце золотило сухую траву на болоте к востоку от дороги. Местные жители целыми группами выходили на болота, пользуясь хорошей погодой. Они несли ножи тараскер с длинными рукоятками, чтобы нарезать торф, а потом разложить его для просушки.
Впереди показался мрачный и неприветливый силуэт церкви. Фин понял, что почти приехал. Дом… Неужели это его дом? Здесь воинствующие протестантские фракции контролируют все стороны жизни. Здесь люди всю жизнь ищут пропитание на земле и в море. Предприятия приходят и уходят, когда кончаются субсидии, а после них остаются безработица и ржавеющий технический мусор. Казалось, острова ждет еще большой упадок, чем Фин помнил по своей молодости. Политики тратили миллионы на возрождение мертвого гэльского языка, сражаясь за голоса избирателей. Но вызванный этим подъем оказался временным. А если его дом не здесь, то где же он? Где еще Фин чувствовал такое единство с землей, природой и людьми? Внезапно он пожалел, что не успел свозить Робби сюда, на землю предков.
В бунгало Маршели никого не было. Фин поехал дальше, мимо бывшей фермы своих родителей. Сразу за холмом перед ним открылось северное побережье. Он свернул налево, к старой гавани Кробоста, где в деревянном домике стояла лебедка, а от него крутой бетонный эллинг вел в небольшую бухту под защитой скал. Здесь на ржавых цепях лежали бухты веревок и оранжевые буйки, у стены стояли ловушки для крабов и омаров. Вокруг валялись рыбацкие лодочки, привязанные к ржавым кольцам. Среди них еще можно было найти облезшие останки лодки, которую отец Фина когда-то починил, покрасил фиолетовой краской, как дом, и назвал в честь своей жены. Прошло много лет, но следы прошлого не исчезали.
Это касалось и прошлого Фина. В стенах старого дома, стоявшего над гаванью, до сих пор жили полные горечи воспоминания. Когда мать и отец Фина погибли, его тетка без большой охоты взяла на себя заботу о сыне сестры. В доме никогда не было ни любви, ни теплоты.
В окнах еще оставались стекла, а двери стояли запертыми. Но стены, когда-то белые, потемнели от сырости. Косяки дверей и оконные рамы прогнили или заржавели. Ниже, на полоске травы, что тянулась вдоль скальных вершин, стоял пустой каменный дом. Там Фин играл в одиночестве, когда был ребенком. Впрочем, можно ли называть домом четыре стены? Больше у него не было ничего: ни окон, ни дверей, ни крыши. Кто-то возвел его давным-давно ради вида на море, который открывался отсюда. Но долгие, суровые зимы и арктические ветра прогнали бывших хозяев. Фин еще не забыл, каково это — зимовать на острове.
На галечный пляж спускалась заросшая травой тропинка. Черные скалы на берегу стали рыжими — их покрывали старые ракушки и пятна гниющих водорослей. На дальней стороне бухты виднелись три стоячих камня. Они стояли здесь, сколько Фин себя помнил. Пейзаж не менялся, только люди приходили и уходили. И иногда оставляли следы.
Послышался звук мотора, он перекрывал рев ветра. Маршели остановила старую «Астру» Артэра у края дороги, вышла и захлопнула дверь. Засунула руки поглубже в карманы куртки и медленно пошла навстречу Фину. Они немного постояли в уютном молчании, глядя на типовые дома, выстроившиеся вдоль скал на западной стороне бухты. Но вот Маршели обернулась к пустому дому над гаванью.
— Почему ты не починишь дом тети? Он в лучшем состоянии, чем старый дом твоих родителей.
— Но он мне не принадлежит, — Фин тоже обернулся. — Тетка оставила его какой-то благотворительной организации. Это так типично для нее. Те не смогли его продать и оставили гнить, — он снова перевел взгляд на океан. — Да и будь он мой, я бы даже на порог не ступил.
— Почему?
— Там привидения, Маршели.
Она нахмурилась:
— Привидения?
— Да. Там живет юный Фин и всего его несчастья. Последний раз я спал здесь в ночь перед похоронами тетки. И поклялся, что ноги моей больше тут не будет.
Женщина подняла руку, легко коснулась его щеки кончиками пальцев:
— Юный Фин? Помню такого. Я полюбила его, как только увидела. И не смогла простить ему разбитое сердце.
Фин посмотрел ей прямо в глаза и сразу вспомнил вопрос, который задал ему Ганн. Волосы Маршели полоскались за ее спиной, как флаг; ветер играл шелковистыми прядями, лицо разрумянилось. Время и боль заострили ее черты, но женщина все равно оставалась привлекательной. Его школьная подруга, его юная возлюбленная, которую он так легко оттолкнул — обе до сих пор жили в ней — циничной, умной и смешливой. Но ничего уже не вернуть.
— Я показал твоему отцу фотографию трупа из болота, — сообщил Фин. — Я уверен, что он узнал его.
Маршели отдернула руку, как от удара током.
— Значит, это правда.
— Похоже на то.
— Я надеялась, что произошла ошибка. Образцы ДНК спутали или еще что-то. Родители — фундамент, на котором ты строишь жизнь. Внезапно узнать, что построил жизнь на иллюзии, очень тяжело.
— Я показал ему медальон со Святым Христофором, и он выбросил его в море. — Маршели недовольно нахмурилась. — Твой отец сказал, что медальон ему подарила какая-то Кейт. И что они были католиками.
Теперь брови женщины взлетели в удивлении:
— Фин, он выжил из ума. В буквальном смысле. Он не понимает, что говорит.
Он пожал плечами. На самом деле он не был в этом так уверен, но вслух возражать не стал.
— Завтра Джордж Ганн едет в Харрис, навести справки о семье твоего отца. Он сказал, что я могу поехать с ним. Мне ехать?
Маршели кивнула:
— Ехать, — и тут же добавила: — Но только если ты сам хочешь. И если можешь выделить на это время. Мне надо на несколько дней вернуться в Глазго, у меня же экзамены. Хотя видит бог, я сейчас совсем не о них думаю, — она помолчала. — Будет здорово, если ты присмотришь за Фионлахом.
Фин кивнул. Возникшую тишину тут же заполнил ветер. Он шелестел травой, гнал морские волны к северным скалам, приносил с собой крики парящих вдали чаек. Людям тоже доставалось от него: он дергал их за одежду, задувал в рот, уносил прочь слова. Маршели положила ладонь на руку Фина, а он потянулся, погладил ее по волосам, коснулся шеи. Женщина качнулась к нему — едва заметно, но он ощутил исходящее от нее тепло. Как просто было бы ее поцеловать!
Со стороны дороги раздался гудок. Они обернулись — из водительского окна проезжающей машины им махали рукой. Маршели помахала в ответ.
— Это миссис Макричи, — объяснила она.
И момент близости прошел. Как будто его тоже унес ветер.
Глава девятнадцатая
Считается, что существуют остров Льюис и остров Харрис. На самом деле это один остров, разделенный горной грядой и узким перешейком. Путь через северную часть острова пролегает по болотистым низинам. Однополосная дорога вьется между озерами, которые образовались, когда с гор сходили последние ледники. Фин и Ганн ехали сквозь дождь и ветер, которые спускались с гор. На Харрис они переехали близ Ардвурли — этот одинокий охотничий домик стоит на берегах озера Сифорт.
Оттуда дорога, вырезанная в склоне горы, начинала подниматься. С нее открывался впечатляющий вид на темные, беспокойные воды озера. Вдоль дороги были установлены снежные опоры. Вокруг со всех сторон вставали горы, их пики терялись в облаках, которые, как лава, стекали со щебневых уступов. Дворники машины Фина едва справлялись с дождем, который ветер бросал на ветровое стекло; дорога впереди была едва видна. Сбившиеся в кучу овцы пощипывали траву и вереск, которые каким-то чудом сохранились среди камней.
А потом машина миновала узкий горный перевал, и внизу, среди черно-фиолетовых туч, появилась полоска золотого света — демаркационная линия между погодными фронтами. Мрачное скопление туч среди горных вершин осталось позади, дорога спускалась на юг, к возвышенностям Южного Харриса. Она шла в обход порта Тарберт, куда прибывали паромы с острова Скай и из Лохмэдди. Затем снова взбиралась на скалы, с которых открывался вид на озеро Тарберт и небольшое скопление домов вокруг гавани. Скалы служили хорошей защитой от преобладающих западных ветров, и вода здесь была спокойной, гладкой как зеркало. В ней отражались мачты кораблей, стоящих на якоре. Дальше к востоку вода сверкала, отражая солнце, и было невозможно сказать, где кончается море и начинается небо.
Фин и Ганн миновали вершину Уабал Бег, и пейзаж снова изменился. Зеленые холмы, залитые бледным весенним солнцем, спускались к знаменитым золотым пескам и бирюзовой воде Ласкентайра. Там и тут среди холмов виднелись гранитные скалы. Угрюмые северные горы и нависающие тучи остались позади, и настроение у путешественников улучшилось.
Дорога шла в обход пляжа, огибая мостки, по направлению к домам и фермам, которые и составляли крохотную деревню Силбост. Фин повернул направо, на узкую дорогу к школе. Они миновали остов красного грузовика, который, судя по надписи, когда-то принадлежал Уильяму Маккензи, контрактору из Лаксая. Облезлый деревянный щит, приткнувшийся между гниющими столбами, предупреждал, что собаки на общественное пастбище не допускаются. Асфальтовая дорога, вся в выбоинах, вилась по травянистой возвышенности. С нее открывался великолепный вид на махер и пляж. Весенние цветы клонились под ветром, над дальними горами висели тучи. Сколько бы Фин ни смотрел отсюда, у него всегда захватывало дух.
Школьные здания, выкрашенные в желтый и серый, стояли у футбольного поля, совсем рядом с пляжем. Трудно представить более приятное место для детей. На небольшой стоянке у главного здания, куда Фин поставил машину, занималось полдюжины детей. Учительница расставила на асфальте дорожные конусы, и дети в шлемах крутили между ними «змейку» на своих велосипедах. Ганн вышел из машины, обратился к молодой женщине:
— Мы ищем директора.
— Директрису, — поправила та. — Вам нужно то здание, что справа.
Это здание было покрашено желтой декоративной штукатуркой; на его глухом, без окон торце красовалось граффити — изображение морского дна. Внутри пахло мелом, пылью и кислым молоком. Фин как будто попал в собственное детство. Директриса оставила свой класс решать задачку по арифметике и отвела гостей в учительскую. Она с гордостью заявила, что ее предшественники прилагали огромные усилия к сохранению школьного архива. Сама она старается поступать в соответствии с этой традицией, так что в их распоряжении все записи начиная с тридцатых годов двадцатого века.
Директриса была привлекательной женщиной лет тридцати пяти. Она была явно озабочена своим внешним видом: все время поправляла прядь каштановых волос, выбивавшуюся из строгого узла на затылка. Одета она была в джинсы, кроссовки и кардиган поверх футболки. Фин помнил совсем других учителей — строгих дам средних лет.
Директриса довольно быстро нашла коробки со школьными журналами нужного периода. Тормод должен был посещать начальную школу с середины сороковых годов по начало пятидесятых.
— Вот! — указала она на пожелтевшую страницу. — Вот он. Тормод Макдональд, учился в Начальной школе Силбоста с тысяча девятьсот сорок четвертого по пятьдесят первый год. — Она провела розовым ногтем по каллиграфическим строчкам старых записей. — Посещал школу хорошо.
— У него могли быть братья или кузены в этой школе? — спросил Ганн. Директриса рассмеялась.
— Конечно, могли, детектив. Но за эти годы у нас училось столько Макдональдов, что выяснить, кто из них чей родственник, невозможно.
— А в какую школе Тормод мог пойти после этой? — поинтересовался Фин.
— Скорей всего, в среднюю школу в Тарберте, — молодая женщина улыбнулась и задержала взгляд на Фине. Он вспомнил, как Маршели говорила, что он нравился всем девочкам в школе. Сам он этого никогда не замечал.
— А его адрес у вас есть?
— Сейчас попробую найти, — директриса снова улыбнулась и вышла.
Ганн повернулся к Фину со странным выражением на лице — то ли зависть, то ли грусть.
— У меня так никогда не получалось, — сказал он.
Ферма Макдональдов стояла в полумиле от берега, на холме, с которого открывался вид на Ласкентайр и Скаристу. К дороге от дома спускалась длинная и узкая полоска земли, структура которой отличалась из-за многолетней культивации. По краям участка можно было разглядеть остатки столбов. Он явно давно не возделывался, и природа взяла свое. От старого дома осталась одна оболочка. Крыша провалилась, печная труба превратилась в груду почерневших обломков. В бывших комнатах росли трава и чертополох. А когда-то мать Тормода ежедневно посыпала песком пол из утоптанной земли.
Ганн засунул руки поглубже в карманы, поглядел на золотой песок внизу. Перевел взгляд на бирюзовые и изумрудные пятна дальних отмелей.
— Это тупик.
Но Фин смотрел на мужчину, который складывал брикеты торфа возле свежепобеленного коттеджа неподалеку.
— Пойдем, — позвал он. — Посмотрим, что известно соседям.
И двинулся в ту сторону, продираясь через высокую траву — молодую и высохшую прошлогоднюю. Фиолетовые и желтые цветы тянулись к небу, празднуя начало весны. Трава волновалась под ветром, как море. Ганну пришлось почти бежать, чтобы нагнать более молодого спутника.
В соседнем коттедже было отремонтировано все: крыша, забор; стены заново покрашены, в окнах и дверях двойное остекление. На подъездной дороге стоял новенький красный внедорожник. Мужчина с копной седеющих волос на голове отвлекся от укладки торфа и повернулся к гостям. У него было обветренное лицо человека, который много времени проводит на воздухе. Он ответил на гэльское приветствие Фина по-английски, и акцент у него был не местный.
— Простите, я не говорю по-гэльски.
Фин протянул ему руку:
— Ничего страшного. Я Фин Маклауд, — тут подошел запыхавшийся Ганн. — А это сержант Джордж Ганн.
Незнакомец по очереди пожал им руки, но смотрел настороженно.
— А что тут забыла полиция?
— Мы ищем информацию о ваших бывших соседях.
— А, о Макдональдах! — их собеседник немного расслабился.
— Ну да. Вы их знали?
Он рассмеялся:
— Боюсь, что нет. Я родился и вырос в Глазго. Это дом моих родителей. Они переехали на материк в конце пятидесятых, и сразу после этого родился я. Может, меня даже зачали в этом доме. Хотя поручиться за это я не могу.
— Ваши родители, наверное, знали соседей, — заметил Фин.
— Конечно! Они всех здесь знали. Когда я был маленький, они мне много рассказывали об острове. И на летние каникулы мы сюда приезжали. Но в конце шестидесятых умер отец, и мы перестали ездить. Мама умерла пять лет назад. А в прошлом году меня уволили по сокращению. И я решил вернуться, посмотреть, выйдет ли из меня фермер.
Фин огляделся, довольно кивнул:
— Пока вы неплохо справляетесь.
Мужчина снова рассмеялся:
— Это все потому, что мне выплатили пособие.
Ганн спросил:
— А вы хоть что-нибудь о Макдональдах знаете?
Мужчина сжал зубы, сделал резкий вдох:
— Из первых рук — нет. Хотя первые несколько лет, когда мы приезжали, они еще жили здесь. А потом случилась какая-то семейная трагедия. Один раз мы приехали, а их и след простыл.
Ганн задумчиво почесал подбородок:
— И вы не знаете, куда?
— Простите, нет. Многие отправились в Канаду, как их предки во времена депортации шотландских горцев.
Ветер стал холоднее, и Фин застегнул куртку.
— А эти Макдональды — они не могли быть католиками?
На этот раз его собеседник от души расхохотался:
— Католики? Здесь? Да вы шутите! Это пресвитерианская страна.
Фин кивнул. Ну что ж, вполне логично.
— Скажите, а где ближайшая церковь?
— Церковь Шотландии в Скаристе, — мужчина повернулся, указал на юг. — До нее минут пять.
— Что мы здесь делаем, мистер Маклауд?
Ганн стоял на засыпанной щебнем стоянке на вершине холма, кутаясь в стеганую куртку. Выглядел он несчастным, нос покраснел от холода. Пятна солнечного света прыгали по холмам и пляжу внизу, как дикие кони, но тепла от них не было. Ветер изменился и теперь нес ледяной арктический воздух.
Церковь Скаристы гордо стояла на холме над полоской скошенной травы, из которой выглядывали надгробия. Здесь нашли свой последний приют многие поколения прихожан. Фин решил, что такой вид стоит взять с собой в вечность: синие тени далеких гор за золотым песком Скаристы, беспокойное небо, всегда меняющееся освещение и неумолкающая песня ветра, похожая на церковные псалмы.
Бывший полицейский поднял глаза на здание церкви, такое же суровое, как и церковь Кробоста.
— Я хочу посмотреть, есть ли внутри лодка.
— Лодка? В церкви? — нахмурился Ганн.
— Да, лодка, — Фин толкнул дверь, и она открылась. Он прошел через вестибюль, Ганн двигался за ним по пятам. Конечно, в церковном зале не было лодки. Только простой буковый алтарь с пурпурным покрытием и высокая кафедра, с которой пастор, стоящий к Всевышнему ближе, чем его паства, нес ей слово Божье.
— С чего вы вдруг решили, что в церкви должна быть лодка, мистер Маклауд?
— Тормод Макдональд говорил о лодке в церкви, Джордж. Ту церковь построили рыбаки.
— Он это просто выдумал, мистер Маклауд.
Фин покачал головой:
— Вряд ли. Отец Маршели смущен и расстроен. У него трудности со словами, воспоминаниями и с тем, как их увязать. Может, он даже что-то скрывает, сознательно или бессознательно. Но я не думаю, что он лжет.
Снаружи ветер, казалось, еще набрал силу и свирепость. Выйдя из церкви, они сразу это почувствовали.
— Харрис — в основном протестантский остров, верно, Джордж?
— Все верно, мистер Маклауд. Может, тут найдется пара католиков — как овцы, которые отбились от стада. Но в основном они живут на южных островах, — Ганн усмехнулся. — Там и веселее, и погода лучше. — Он понизил голос:
— Говорят, в супермаркете спиртное продают по воскресеньям!
Фин улыбнулся.
— Скорее ад замерзнет, чем мы увидим такое на Льюисе, — он открыл дверь машины. — Куда теперь?
— Обратно в Тарберт, наверное. Я хочу получить в загсе копию свидетельства о рождении Тормода.
Загс находился в одном здании с консультационными конторами, занимавшими бывшее школьное общежитие в Западном Тарберте. Это невзрачное здание с плоской крышей возвели в конце сороковых годов для детей из дальних уголков острова, которые посещали среднюю школу Тарберта. Здание напротив пряталось за деревьями и густыми кустами. Их посадили почти наверняка для того, чтобы не видеть уродливого строения по другую сторону дороги. Пожилая женщина сердито посмотрела на Ганна и Фина, которые впустили холодный воздух в помещение.
— Закройте дверь! — велела она. — Тут и так щели в окнах и жуткие сквозняки. Еще не хватало нам дверей нараспашку!
Пристыженный Ганн быстро закрыл дверь, потом с некоторым трудом достал из глубин куртки свое удостоверение. Пожилая дама внимательно изучила его через полукруглые очки, потом так же внимательно осмотрела двух подошедших к ней мужчин.
— Чем могу помочь, господа?
— Мне нужна выписка из книги записи рождений, — сообщил Ганн.
— Не думайте, что вы получите ее бесплатно только потому, что вы из полиции. С вас четырнадцать фунтов.
Ганн и Фин обменялись едва заметными улыбками. Фин наклонил голову, чтобы прочесть имя на табличке, стоявшей у дамы на столе.
— Вы здесь давно работаете, миссис Маколэй?
— С начала времен! Правда, последние пять лет я на пенсии. Меня попросили выйти на работу на несколько дней — у сотрудницы отпуск. Чья выписка вам нужна?
— Тормода Макдональда, — ответил Ганн, — он из Силбоста. Родился в тридцать девятом году или около того.
— Ясно, — миссис Маколэй кивнула со знанием дела, и ее изуродованные возрастом пальцы забегали по компьютерной клавиатуре. Она всмотрелась в экран. — Вот он! Родился второго августа тридцать девятого года. — Женщина подняла глаза. — Вам копию справки о смерти тоже сделать?
В наступившей тишине стало слышно, что ветер набрал силу и теперь с воем рвется в каждую щель. Миссис Маколэй продолжала, не замечая эффекта, который произвели ее слова:
— Я помню тот случай. Страшное было дело, мистер Ганн! Настоящая трагедия. Тормод еще подростком был… — ее пальцы снова забегали по клавиатуре. — Да. Умер восемнадцатого марта пятьдесят восьмого года. Вам копия справки нужна? Это еще четырнадцать фунтов.
Обратная дорога до церкви Скаристы заняла у них пятнадцать минут. Еще десять минут хождения по кладбищу на склоне холма — и вот он, могильный камень. «Тормод Макдональд, родился 2 августа 1939 г. Возлюбленный сын Дональда и Маргарет. Утонул в бухте Стейнигид в результате несчастного случая 18 марта 1958 г.». Ганн сел прямо на траву у покрытого лишайником куска гранита, поставил локти на колени. Фин стоял и смотрел на могильный камень, как будто надпись могла измениться, если глядеть на нее достаточно долго. Тормод Макдональд лежал в земле пятьдесят четыре года. Когда он умер, ему было всего восемнадцать. Никто из мужчин не сказал ни слова за всю поездку из загса на кладбище. Но теперь Ганн поднял глаза и озвучил вопрос, который занимал их с тех пор, как миссис Маколэй предложила им копию справки о смерти.
— Если отец Маршели не Тормод Макдональд, мистер Маклауд, то кто же он?
Глава двадцатая
Я пока посижу здесь. Все дамы заняты вязанием в гостиной. Это не работа для мужчины! Старичок в кресле напротив сам немного похож на женщину. Ему нужно тоже пойти повязать!
За стеклянной дверью небольшой квадратный сад. Там будет приятно посидеть. Вон как раз скамейка! Это лучше, чем сидеть здесь, пока на меня пялится этот старик. Пойду наружу.
А тут холоднее, чем кажется! И скамейка мокрая. Черт! Слишком поздно. Ладно, скоро все высохнет. У меня над головой квадрат неба. По нему летят облака, да как быстро! Внизу холодно, зато ветра не чувствуется.
— Привет, пап.
Ее голос застал меня врасплох. Я даже не слышал, как она подходила! Я что, заснул? Как же тут холодно!
— Почему ты сидишь под дождем?
— Это не дождь, — говорю я. — Просто морские брызги.
— Давай зайдем внутрь. Тебе надо высушиться!
Она хочет, чтобы я ушел с палубы. Но я не вернусь в курительную! Там хуже, чем на средней палубе. Вокруг все курят, и пахнет прокисшим пивом. Там скамьи, обтянутые старой потертой кожей, и нечем дышать. Если я туда вернусь, меня опять стошнит.
О, здесь кровать! Я не знал, что на борту есть каюты. Она хочет снять с меня мокрые брюки, но я этого не позволю.
— Прекрати!
Я ее оттолкнул. Так нельзя! Я должен сохранять достоинство.
— Папа, нельзя сидеть в мокрой одежде. Ты простынешь и умрешь!
Я трясу головой и чувствую, как под нами качается палуба.
— Сколько мы уже плывем, Кэтрин?
Она смотрит на меня так странно.
— На каком мы корабле, папа?
— На почтовом корабле «Клеймор». Это название я не забуду! Мой первый корабль все-таки.
— А куда мы плывем?
Кто знает? Уже сумерки, а материк давно остался позади. Я и не знал, что Шотландия такая большая! Мы плывем уже несколько дней.
— Я слышал, как кто-то в салоне говорил про Большого Кеннета.
— Ты знаешь такого?
— Никогда о нем не слышал.
Она садится рядом со мной, берет меня за руку. Плачет, не знаю почему. Я присмотрю за ней. Присмотрю за ними обоими. Я самый старший, и это моя ответственность.
— Ох, папа… — говорит она.
Священник приехал на второй день после падения Патрика. Кастелянша велела нам собрать вещи. Не то чтобы их у нас было много! Когда подъехала большая черная машина, мы ждали на верхней ступеньке — я, Питер и Кэтрин. В приюте было пусто: все остальные дети ушли в школу. Мистера Андерсона нигде не было видно. Больше мы с ним никогда не встречались. Не скажу, чтобы это меня огорчило.
Священник был невысоким — примерно на дюйм ниже меня. Макушка у него была совершенно лысой, но он отрастил волосы подлиннее с одной стороны головы и зачесывал их на другую, а потом укладывал маслом или бриолином. Он, видимо, думал, что так прячет свою лысину. На самом деле он просто выглядел глупо. Я очень давно понял, что мужчинам с такими прическами доверять нельзя: они напрочь лишены здравого смысла. Священник вел себя немного нервно и выглядел не очень впечатляюще. Куда большее впечатление на нас произвели две монахини, которые его сопровождали. Обе были выше него, неулыбчивые дамы средних лет с орлиным взором, в черных юбках и накрахмаленных белых камилавках.[17] Одна монахиня села впереди, рядом со священником, который вел машину. Вторая втиснулась на заднее сиденье, рядом со мной. Я так ее испугался, так старался не касаться ее костлявого тела, что едва заметил, как Дин исчезает вдали. Только в последний момент я повернулся и успел заметить его пустые колокольни до того, как они скрылись за деревьями.
Машина священника подпрыгивала на брусчатке, пересекала площади со скверами в центре, проезжала по широким улицам, между закопченными зданиями. Грязный снег еще лежал кучками по краям дорог. Никто из нас не решался заговорить. Мы сидели среди представителей Господа на земле и смотрели, как незнакомый мир пролетает мимо зимним вихрем.
Понятия не имею, куда нас привезли. Вероятно, на южную окраину города. Машина остановилась у большого дома, стоявшего за деревьями. Газон покрывал снег и опавшие листья. В доме было теплее и как-то уютнее, чем в Дине. Я никогда в жизни не бывал в таком здании! Канделябры, панели полированного дерева на стенах, тисненые обои и блестящий плиточный пол. Мы поднялись по устланной ковром лестнице; нас с Питером поселили в одну комнату, Кэтрин — в другую. В комнате стоял запах розовой воды, а простыни были шелковые.
Питер несколько раз спрашивал меня:
— Куда мы едем, Джонни?
Но я не знал, что ему ответить. У нас, казалось, не было никаких прав, даже прав человека. Мы стали движимым имуществом. Просто дети, у которых нет ни дома, ни родителей. Можно подумать, что мы уже привыкли к такому положению вещей; но привыкнуть к этому невозможно. Достаточно посмотреть вокруг, и жизнь сразу напомнит тебе, что ты не такой, как все. Я бы все отдал в тот момент за прикосновение материнских пальцев к моему лицу, за ее теплые мягкие губы на моем лбу. За то, чтобы она шептала мне на ухо, что все будет хорошо, и ее дыхание щекотало мне кожу. Но мамы давно не было в живых, и в глубине души я знал: ничего у нас не будет хорошо. Правда, Питеру я этого говорить не собирался.
— Посмотрим, — ответил я ему на очередной вопрос. — Не волнуйся, я пригляжу за нами.
Нас держали в комнатах до самого вечера и выпускали только в туалет. А вечером отвели вниз, в большую столовую, где по стенам стояло множество книг, а длинный блестящий обеденный стол тянулся во всю длину комнаты, от эркера до двойных дверей. Стол был накрыт на три персоны, все приборы и тарелки стояли на его дальнем конце. Монахиня, которая проводила нас вниз, велела:
— Не смейте касаться стола. Увижу хоть один след от пальца — и вас всех выпорют.
Я даже боялся есть суп. А вдруг он брызнет на стол? Нам всем к супу дали по куску хлеба с маслом, а на второе — окорок с холодной вареной картошкой. Воду наливали в стаканы с толстыми донышками. После ужина нас снова отвели наверх.
Ночь была долгой и беспокойной. Мы вдвоем с Питером улеглись на одну кровать. Он заснул буквально через несколько минут, а вот я долго лежал без сна. Под нашей дверью виднелась полоска света, и иногда я слышал, как где-то в глубине дома кто-то тихо разговаривает. Наконец мне удалось заснуть, хотя и неглубоко. Наутро мы поднялись с рассветом, и нас снова посадили в большую черную машину. Не было ни завтрака, ни умывания. На этот раз мы поехали другим маршрутом, и я понятия не имел, где мы, пока не увидел справа вдалеке замок и дома, громоздившиеся над холмом. Мы съехали по крутому пандусу в большой вестибюль со стеклянным потолком, который поддерживала сложная система металлических опор. У платформ в дальней от нас части вестибюля нетерпеливо пыхтели паровозы. Монашки быстро, почти бегом провели нас сквозь толпу и показали наши билеты охраннику у турникета. Мы забрались в поезд и нашли свое купе на шестерых в конце длинного коридора. С нами в купе сел мужчина в темном костюме и котелке. В присутствии монашек ему было явно неудобно, и он всю дорогу просидел со шляпой на коленях.
Я впервые оказался в поезде, и, несмотря на обстоятельства, мне было очень интересно. Я видел, что Питеру тоже любопытно. Всю дорогу мы сидели, словно приклеившись к окну, и смотрели, как город уступает место зеленым холмам. Поезд останавливался на маленьких станциях с необычными названиями вроде «Линлитгоу» или «Фолкерк». Наконец на горизонте вырос новый город. Совсем не такой, как наш. Он был черным от промышленных отходов; трубы выплевывали ядовитый дым в желто-зеленое небо. Мы проехали длинный темный туннель и остановились на вокзале Квин-стрит в Глазго. Рев поезда в замкнутом пространстве и визг тормозов еще долго стояли у нас в ушах.
Несколько раз я смотрел на Кэтрин, пытаясь поймать ее взгляд. Но она глядела только на свои сложенные на коленях руки или в окно и ни разу не подняла глаз на меня. Я не знал, о чем она думает, но чувствовал ее страх. Даже в том возрасте я понимал, что девочкам в жизни грозит гораздо больше опасностей, чем мальчикам.
Мы почти два часа ждали на Квин-стрит, прежде чем сесть на другой поезд. На этот раз мы ехали на северо-запад, через самые красивые места, которые я когда-либо видел. Горы в снежных шапках; мосты, перекинутые через чистейшие бурлящие протоки; лесные угодья; виадуки над ущельями и озерами. Я помню, как увидел среди дикой природы крохотный домик с белеными стенами. Вокруг него со всех сторон вставали горные пики, и я задумался, кто может жить в таком месте. Здесь было не менее одиноко, чем на Луне.
Когда мы, наконец, приехали в порт Обан на западном берегу, уже начало темнеть. Обан — приятный городок: дома там выкрашены в разные цвета, а у пристани выстроилась огромная рыбацкая флотилия. Там я впервые увидел море. На берегу возвышался огромный каменный собор. Гавань была окружена холмами, и закат окрасил ее в цвет крови. Ночь мы провели в доме недалеко от собора. В нем жил священник, но он не стал разговаривать с нами. Домоправительница разместила нас в двух крохотных комнатах на чердаке, с мансардными окнами в скате крыши. За весь день мы ели только сэндвичи в поезде да тарелку супа после приезда в Обан. Я лежал в кровати, слушал, как урчит у меня в животе, и не мог заснуть от голода. Но если Питер что-то и слышал, то он не подал вида. Заснул как младенец, впрочем, как и всегда. А вот я не мог перестать думать о Кэтрин.
Я дождался полуночи, когда все огни в доме погасли, и тихо вылез из кровати. Я долго стоял у двери, прислушиваясь, потом открыл ее и выскользнул в коридор. Комната Кэтрин была всего в нескольких шагах. Я постоял снаружи, слушая доносящиеся изнутри звуки. Они были ужасающе похожи на сдавленные всхлипы. У меня возникло очень дурное предчувствие. Малышка Кэтрин была сильной девочкой. Раз она плачет, значит, дело плохо. Я знал ее уже год и за это время ни разу не видел в слезах. Ну, разве что в тот раз ночью, на крыше Дина. Но она не подозревала, что я видел ее слезы.
Я повернул дверную ручку и прошмыгнул в комнату. Сразу зажегся свет на тумбочке у кровати. Кэтрин сидела в постели, опираясь спиной о спинку и подтянув колени к груди. В правой руке она держала зеркало, как оружие. Глаза ее были темными от страха, лицо белее простыней.
— Господи, Кэтрин, что ты делаешь?
Она поняла, что зашел я, и ее накрыло волной облегчения. Рука Кэтрин выпустила зеркало и упала на кровать. Я видел, что нижняя губа девушки дрожит, а дорожки от слез на щеках блестят в слабом свете лампы. Я сел на кровать рядом с ней, и она уткнулась мне в плечо, по-прежнему всхлипывая. Кэтрин хваталась за меня, как ребенок. Я обнял ее за плечи.
— Малышка, все в порядке. Я здесь. Что с тобой случилось?
Она решилась заговорить далеко не сразу.
— Этот чертов священник!..
Я ничего не понял и нахмурился. Каким же наивным я был.
— Это тот, с зачесом?
Кэтрин кивнула, все еще утыкаясь мне в плечо.
— Он пришел ко мне в комнату вчера ночью. Сказал, что хочет немного меня успокоить… Учитывая обстоятельства.
— И?
— И что?
— Что было дальше?
Кэтрин подняла голову, уставилась на меня с недоверием:
— Черт, а ты как думаешь?
И тут до меня дошло.
Вначале я поразился тому, что с ней так поступил именно священник. Потом разъярился на него. Потом я почувствовал огромное желание избить этого негодяя. Думаю, будь он рядом, я мог бы убить его. И убил бы.
— О черт, Кэти, — только и смог сказать я.
Она снова уткнулась мне в плечо.
— Я думала, это второй священник идет за тем же. Я боюсь, Джонни. Я не хочу, чтобы меня еще хоть кто-то трогал.
— Никто и не будет, — сказал я. В душе у меня бушевали гнев и ярость.
Я просидел рядом с Кэтрин всю ночь. Больше мы не разговаривали. Примерно через час она заснула, и ее тело расслабилось в моих объятиях.
Больше мы никогда об этом не говорили.
Почтовый корабль «Клансмэн» отчалил от большого пирса на следующее утро. Монашки провели нас через весь город в зал ожидания паромного терминала. У нас с Питером был один картонный чемодан на двоих, и нес его я. Кэтрин небрежно несла на плече брезентовый вещмешок, словно поезда и паромы были для нее обычным делом. Только когда мы подошли к пирсу, я понял, что нас сейчас посадят на корабль, и монашки с нами не поплывут. Это стало для меня шоком. Два последних дня рядом все время были эти холодные темные фигуры; они давали ощущение цели, безопасности. Мысль о том, что мы сядем на этот корабль, воняющий нефтью и морской водой, и поплывем неизвестно куда, ужасно пугала меня.
Одна из монашек молча стояла в стороне. Вторая выстроила нас рядком в терминале и встала рядом на колени. Выражение ее лица смягчилось впервые с тех пор, как нас забрали из Дина. Она почти что улыбалась, и в глазах ее я увидел что-то вроде симпатии. Откуда-то из-под юбок она извлекла три куска картона, шесть на девять дюймов каждый. К верхнему их краю крепились веревочные петли. Точно так же выглядела табличка, которую мы вешали Питеру на шею, когда он притворялся слепым. На наших с братом табличках было крупными черными буквами написано «Джиллис», у Кэтрин — «О’Хэнли».
— Когда сойдете с корабля, — сказала монашка, — повесьте это на шею и ждите на причале. Вас кто-нибудь встретит.
Я, наконец, набрался храбрости задать вопрос, которым Питер терзал меня уже два дня:
— Куда мы едем?
Лицо монашки потемнело, словно она зашла в тень.
— Это неважно. Не сидите на палубе. На море может быть волнение.
Она отдала нам наши билеты, встала, и мы пошли по пирсу среди толпы людей. Потом по широким сходням забрались на корабль. У «Клансмэна» была огромная красная труба с черной полосой наверху, а по обе стороны корпуса на лебедках крепились шлюпки. Пассажиры столпились у поручней, толкаясь, чтобы помахать своим друзьям и родственникам. Раздался гудок, и заработали моторы корабля; их гул ощущался сквозь палубу. Но монашки не стали махать нам. Я увидел, как их черные юбки и белые камилавки удаляются в сторону терминала. Я часто думал, что они ушли, потому что испугались: вдруг в глубине души у них проснется что-то человеческое, например, жалость?
Корабль скользил по серой воде гавани, оставляя за собой изумрудный след. Чайки кричали и кружили над мачтами, как клочки бумаги, брошенные на волю ветра. Мне было очень одиноко. Мы смотрели, как удаляется материк; зеленые холмы размазывались вдали, пока не исчезли совершенно. Мы остались один на один с океанской качкой, по-прежнему не зная, куда мы плывем и когда доберемся туда. И что нас там ожидает.
Став постарше, я узнал о переселении горских племен. В восемнадцатом и девятнадцатом веках живущие вдали от своих поместий землевладельцы по указке лондонского правительства стали сгонять людей с земли, чтобы пасти там овец. Десятки тысяч фермеров выгоняли из домов, сажали на корабли и отправляли в Новый свет. Многих продавали туда, почти как рабов. Теперь я знаю, каково им было, когда их дома и земли исчезали в тумане, а впереди было только бурное море и полная неизвестность. Я посмотрел на своего младшего брата: он вцепился в поручни и смотрел назад, соленый ветер дергал его за одежду и развевал волосы. Я завидовал его невинности и простоте. В тот момент Питер выглядел почти счастливым. Ему было нечего бояться: он знал без тени сомнения, что старший брат присмотрит за ним. Впервые я почувствовал, как тяжела моя ответственность. Кэтрин тоже это поняла. Она взглянула на меня, едва заметно улыбнулась и взяла меня за руку. Я не могу передать, насколько теплее и спокойнее мне стало.
Монашки дали нам коробку сэндвичей. Мы быстро съели их, и через час нас стошнило. В открытом море ветер бушевал не на шутку, и начался шторм. Большое черно-белое корыто под названием «Клансмэн» продиралось через волны, которые разбивались на его носу и забрызгивали всех, кто решался выглянуть на палубу. Мы по очереди бегали блевать в туалет салона для некурящих, где смогли найти места под окном. Оно было залито дождем; пассажиры все равно курили, пили пиво и кричали друг другу что-то на непонятном языке, чтобы их было слышно за шумом двигателя. Иногда вдали показывались очертания какого-то острова, а потом снова пропадали за гребнями волн. Каждый раз я думал: может, это то место, куда мы плывем? Мы начинали надеяться, что этот кошмар закончится, но он все никак не кончался. Дождь, ветер, качка, спазмы в пустом желудке — это продолжалось час за часом. Наверное, я никогда в жизни не чувствовал себя таким несчастным.
Корабль вышел из гавани рано утром. Сейчас был уже почти вечер, начинало темнеть. К счастью, море немного успокоилось, и плавание должно было стать полегче. И тут я услышал, как кто-то кричит, на этот раз по-английски, что видит Большого Кеннета. Все в большом волнении выскочили на палубу. Мы тоже вышли, думая увидеть человека по имени Кеннет. Но было непонятно, как найти его в толпе. Гораздо позже я узнал, что Кеннет, или Койньях по-гэльски, — название горы, закрывавшей гавань, огни которой мы наконец разглядели в сумерках. Вокруг нее со всех сторон поднимались холмы. На горизонте виднелась серебристая полоса — последний свет уходящего дня. Куда бы мы ни плыли, мы явно почти на месте. Все пассажиры были охвачены возбуждением. Вдруг ожил громкоговоритель:
— Всех пассажиров, кто сходит на берег и еще не купил билет, просим подойти к старшему стюарду.
Раздался колокольный перезвон, а затем — глубокий, долгий рев корабельного гудка. Мы подошли к пирсу. Палубные матросы с ведрами и швабрами поливали водой просоленные доски настила. Семьи с чемоданами выстроились посмотреть, как ставят сходни. Питер спустился передо мной, Кэтрин — сзади. Я дрожал от голода, облегчения и страха. После стольких часов качки ощущать твердую землю под ногами было странно.
Толпа рассасывалась, люди расходились к автобусам и машинам. На окрестные холмы спускалась тьма. Мы достали картонные прямоугольники и повесили их на шеи, как нам велели монашки. Началось долгое ожидание. На пароме за нашими спинами выключили свет, и длинные тени, которые мы отбрасывали на пирс, исчезли. Несколько человек посмотрели в нашу сторону с любопытством, но поспешили дальше по своим делам. На пирсе почти никого не осталось. Слышны были только голоса матросов, которые готовили паром к ночевке в доке. Мы стояли в темноте; черная вода гавани плескалась об опоры пирса. Я чувствовал полный упадок духа. За гаванью гостеприимно светились окна отеля, но нам там не было места. Кэтрин повернула ко мне бледное лицо:
— Как думаешь, что нам делать?
— Ждать, — сказал я. — Так велели монашки. Кто-то приедет за нами.
Не понимаю, где я нашел силы в это верить. Но больше нам ничего не оставалось. В конце концов, зачем иначе было посылать нас через море и говорить, что нас будут встречать?
И вдруг из темноты возник силуэт. Кто-то шел к нам по пирсу. Я не знал, радоваться мне или бояться. Это оказалась женщина; она подошла ближе, и я разглядел, что ей лет под пятьдесят, может, чуть больше. Волосы он убрала под темно-зеленую шляпу, которую приколола к прическе. Ее длинное шерстяное пальто было застегнуто на все пуговицы. На женщине были темные перчатки, резиновые сапоги, а в руках — блестящая сумочка. Подходя к нам, дама замедлила шаг и с недовольным видом наклонилась к нашим табличкам. Как только она увидела у Кэтрин надпись «О’Хэнли», ее лицо разгладилось. Она осмотрела нашу подругу с ног до головы, взяла ее за подбородок, повернула голову в одну сторону, в другую. Потом изучила ее руки. На нас женщина едва взглянула.
— Да, ты сгодишься, — сказала она, взяла Кэтрин за руку и повела за собой. Та не хотела идти, упиралась.
— А ну идем! — прикрикнула О’Хэнли. — Ты теперь моя. Делай, что тебе говорят, или пожалеешь.
Она потянула Кэтрин за руку, и девушка посмотрела на нас с отчаянным выражением, которое я никогда не забуду. В тот момент я решил, что больше ее не увижу. И впервые осознал, что люблю ее.
— Куда уходит Кэтрин? — спросил Питер. Я покачал головой, потому что боялся не совладать с голосом.
Не знаю, сколько времени мы стояли на пирсе, ждали и мерзли. Наконец у меня начали стучать зубы. Было видно, как бар отеля заполняют люди — тени на свету, жители другого мира, в котором нам не было места.
И вдруг пирс осветили фары. Мы замерли в луче света, как испуганные кролики. Подъехал фургончик и остановился в нескольких метрах от нас. Хлопнула дверь, и на нас упала гигантская тень — из фургончика вышел мужчина. Фары почти ослепили нас, и я смог разглядеть только одно: он высок ростом. На нем был синий комбинезон, ботинки и матерчатая кепка. Сделав два шага вперед, мужчина уставился на картонки у нас на груди. Закряхтел. От него пахло спиртом и застарелым табачным дымом.
— В машину, — вот и все, что он сказал. Мы обошли его фургон, и он открыл для нас дверь.
— Живее, я и так опаздываю.
В машине валялись веревки, рыбачьи сети, оранжевые буйки, старые деревянные ящики, воняющие тухлой рыбой, набор инструментов, верши… И туша овцы. Я не сразу понял, что это, но потом в ужасе отшатнулся. Однако Питер почему-то не испугался.
— Она мертвая, — сказал он и положил руку на живот туши. — И еще теплая.
Мы сидели в фургончике с рыболовной снастью и мертвой овцой и вдыхали выхлопные газы. Нас трясло на темных одноколейных дорогах. Вокруг до самого горизонта тянулись посеребренные луной болотистые равнины.
Вдруг мы снова увидели море и почувствовали его запах. Оно ослепительно блестело под луной. На склонах холмов горели огоньки — свет в окнах невидимых домов. Длинный палец каменного пирса протянулся в спокойные воды гавани. На мелких волнах качалась маленькая лодка. Человек, которого, как я потом узнал, звали Нил Кэмпбелл, сидел в рулевой рубке и курил. Он вышел поздороваться, когда высокий мужчина в кепке припарковал фургон. Нам при этом велели выходить. Мужчины переговорили, чему-то посмеялись. Я ни слова не понял из их разговора. Нас с Питером отвели в лодку, и она двинулась, пыхтя мотором, по освещенной луной воде. Впереди, за проливом, из моря поднимался холмистый остров; на склонах кое-где горели огоньки. Плыли мы всего минут десять, а потом выбрались на осыпающийся причал перед входом в маленькую бухту. Со всех сторон ее окружали дома — странные, приземистые каменные строения с какой-то травой на крыше. Позже я узнал, что это тростник. Шел отлив, и из-под воды в бухте показались черно-золотистые водоросли.
Лодка поплыла обратно через пролив.
— Давайте за мной, — сказал высокий мужчина, и мы двинулись по тропинке вокруг гавани, а потом — по каменистой тропе вверх, на холм, к одному из крытых тростником коттеджей, которые мы видели из гавани. И там я впервые ощутил запах торфяного дыма. Деревянная дверь со скрипом открылась в комнату, полную этого самого дыма. Низко висевшая керосинка давала слабый желтый свет. У дальней стены стояла печка-чугунка, в которой красным светились тлеющие торфяные брикеты. Земляной пол был посыпан песком. Эта комната служила одновременно гостиной, столовой и кухней. В центре стоял большой стол, у стены — буфет; по обе стороны двери были устроены окошки. Коридор, обшитый вагонкой, вел, как позже выяснилось, к трем спальням. По стенам его висели инструменты и одежда. В доме не было ни туалета, ни проточной воды, ни электричества. Мы как будто попали из двадцатого века в средневековое прошлое. Сиротки — путешественники во времени.
Когда мы вошли, от плиты к нам повернулась женщина в темно-синем платье из набивной ткани и длинном белом переднике. Трудно было сказать, сколько ей лет. Волосы стального цвета она убирала от лица и закрепляла гребнями. Лицо ее было не морщинистым, не старым, хотя и не молодым. Женщина оценивающе посмотрела на нас и сказала:
— Садитесь к столу. Вы, наверное, голодны.
Конечно, мы были голодны.
Высокий мужчина тоже сел. Он снял кепку, так что я впервые увидел его лицо. Оно было худым и жестким, с большим крючковатым носом. Руки у него были большие, как лопаты; волосы росли на пальцах и торчали из-под рукавов. А вот на голове у мужчины волос было мало, к тому же под кепкой они слиплись от пота.
Женщина поставила на стол четыре исходящих паром тарелки. В них было мясо в соусе, на поверхности которого плавал жир, и картошка, разваренная до неузнаваемости. Мужчина закрыл глаза и пробормотал что-то на языке, которого я не знал. Потом он начал есть и обратился к нам по-английски:
— Меня зовут Дональд Шеймус. Это моя сестра Мэри-Энн. Для вас мы мистер и мисс Джиллис. Это наш дом, теперь он и ваш тоже. Забудьте, откуда вы приехали. Это история. Отныне вы Дональд Джон и Дональд Питер Джиллис и должны делать все, что вам говорят. Иначе пожалеете, что на свет родились!
Дональд Шеймус зачерпнул вилкой еду, положил в рот и, пока жевал, поглядел на сестру. Она сидела, ничего не замечая. Дональд снова повернулся к нам:
— В этом доме говорят на гэльском. Лучше вам выучить его поскорее. Скажете при мне хоть слово по-английски — буду считать, что вы ничего не говорили. Так поступают с беднягами, которые говорят по-гэльски в английском суде. Вам все понятно?
Я кивнул. Питер взглянул на меня, ожидая одобрения, и тоже кивнул. Я понятия не имел, что такое гэльский и я как я смогу на нем говорить. Но я ничего не сказал.
Когда мы закончили есть, Дональд дал мне лопату и сказал:
— Вам надо будет облегчиться, прежде чем идти спать. Можете просто полить вереск. А если приспичит еще чего, выройте себе ямку. Только подальше от дома.
Так нас выставили на улицу, чтобы мы сходили в туалет. Поднялся ветер, по небу летели облака, время от времени закрывая луну. Я повел Питера в сторону от дома, туда, где открывался вид на море. Взял лопату и начал копать яму, думая о том, что нам делать, если пойдет дождь.
— Привет! — порыв ветра принес оклик, испугав нас. Я повернулся и увидел Кэтрин, улыбка которой, казалось, разгоняла темноту.
— Как?.. — я даже не знал, о чем ее спрашивать.
— Я видела, как вы пересекли пролив на лодочке на полчаса позже меня, — она повернулась и показала куда-то за холм. — Я живу вон там, у миссис О’Хэнли. Она сказала, теперь меня надо звать Кейт. Так положено по-гэльски. Пишется как-то странно, но произносится нормально.
— Кейт, — повторил я. И решил, что мне нравится.
— Нас тут называют «сиротки». Церковь отправляет сюда детей с материка. На этом островке нас десятки! — внезапно Кейт помрачнела. — Я думала, что потеряла вас.
Я усмехнулся:
— От меня так просто не избавиться!
Я был невероятно счастлив, что снова нашел ее.
— Пап, тебе надо снять брюки. Они же мокрые!
И правда! Наверное, они промокли на корабле. Я встаю, но не могу расстегнуть молнию. Она помогает мне, брюки падают на пол, и я просто выхожу из них. Теперь она стаскивает с меня свитер через голову. Проще всего дать ей это сделать. Но рубашку я расстегну сам. Не знаю, почему, но мои пальцы теперь так плохо слушаются.
Смотрю, как она подходит к гардеробу и достает новые брюки и выглаженную белую рубашку. Какая милая девушка.
— Держи, пап, — она протягивает мне рубашку. — Хочешь сам ее надеть?
Протягиваю руку и глажу ее по лицу. Я чувствую такую нежность к ней!
— Не знаю, что бы я делал, если бы тебя не отвезли на тот же остров, Кейт. Я думал, что потерял тебя навсегда.
У нее в глазах непонимание. Разве она не знает, как я к ней отношусь?
— Ну, сейчас я здесь, — говорит она, и я чувствую, что улыбаюсь. Так много воспоминаний, так много чувств!
— Помнишь, как мы таскали с побережья водоросли? — спрашиваю я. — В таких больших корзинах, на лошадках. Мы удобряли ими фьянекен. И я помогал тебе вскопать их.
Почему она хмурится? Может быть, не помнит?
— Фьянекен? — переспрашивает она. А потом по-английски: — Вороны? Как можно удобрять ворон, пап?
Глупышка! Я слышу собственный смех.
— Ну да, так их называли. Они давали отличную картошку!
Она снова качает головой. Потом вздыхает:
— Ох, папа…
Ну почему она не помнит? Хочется хорошенько ее потрясти!
— Пап, я пришла сказать, что поеду в Глазго сдавать экзамены. Несколько дней я не смогу приходить. Но Фионлах будет навещать тебя, и Фин тоже.
Не знаю, о ком она говорит. Мне не нужны гости. Я не хочу, чтоб она уходила! Она застегивает на мне рубашку, ее лицо очень близко. Я тянусь к ней, целую в губы. Она отскакивает, как будто испугалась. Надеюсь, она не обиделась.
— Я так рад, что снова нашел тебя, Кейт, — говорю я, желая ее успокоить. — Я никогда не забуду те дни в Дине. Никогда! И башенки у Дэнни, которые мы видели с крыши. — Я даже смеюсь от этого воспоминания. — Они напоминали нам о нашем месте в мире!
Теперь я говорю тихо, полный гордости за нас.
— В общем и целом, мы неплохо справились для пары приютских детей.
Глава двадцать первая
Было темно, когда Фин высадил Джорджа Ганна в Сторновее и отправился через болота Барваса к западному берегу. Была темная дождливая ночь, и встречный ветер с Атлантического океана шипел от злости ему в лицо. В такую же ночь на этой дороге погибли родители Фина. Он знал впадину на дороге как свои пять пальцев. Проезжал ее каждую неделю, когда в понедельник ехал на автобусе в школьное общежитие в Сторновее, а в пятницу — обратно. Фин знал, что навес с зеленой крышей находится ярдах в ста справа, хотя и не видел его в темноте. Именно здесь овца выскочила из оврага, и отец Фина резко дернул машину в сторону.
Сейчас на дороге тоже были овцы. Фермеры давно бросили безнадежную затею огораживать пастбища. Только сгнившие заборные столбы говорили о том, что когда-то здесь была ограда. Ночью глаза овец отражали фары проезжающих машин. Овцы — глупые животные; никогда не знаешь, в какой момент они выбегут на дорогу перед тобой. В безветренные дни они массово выходили на дорогу, подальше от болот. Им досаждали мелкие кусачие мошки — проклятие западной Шотландии. А уж если от них бежали овцы, значит, жалились они ужасно.
Дорога поднималась, впереди показались огни Барваса, мерцающие за завесой дождя. Они вытянулись, следуя береговой линии, и растворялись в темноте вдали. Фин ехал под редкими фонарями на север, пока не увидел на мысу впереди огни Несса, затем повернул на Кробост. Океана не было видно в темноте, но Фин слышал его злобное шипение под скалами, когда припарковался у бунгало Маршели и вышел из машины.
Хозяйка, видимо, уже уехала в Глазго — ее машины нигде не было видно. Но в кухонном окне горел свет, и Фин бросился к двери под проливным дождем. В кухне никого не было, и он прошел в гостиную, где по телевизору шли вечерние новости. Там тоже никого не было. Фин прошел в холл и крикнул в сторону комнаты Фионлаха:
— Есть кто дома?
Из-под двери виднелся свет, и Фин двинулся вверх по лестнице. Он успел подняться наполовину, когда дверь спальни открылась, и на верхнюю площадку лестницы вышел Фионлах.
— Фин! — воскликнул он и быстро закрыл за собой дверь. Юноша казался растерянным и неуверенным; он двинулся вниз по лестнице, протиснувшись мимо Фина. Тот повернулся и пошел за ним в гостиную.
— Я думал, ты в Харрисе.
При ярком свете стало видно, что Фионлах покраснел и чувствует себя неловко.
— Я уже вернулся.
— Я вижу.
— Твоя мама сказала, что я могу использовать вашу ванную, пока не починю водопровод в старом доме.
— Конечно, пожалуйста.
Юноше явно было неудобно. Он прошел на кухню, и Фин успел заметить, как тот открыл холодильник.
— Пива? — Фионлах повернулся к нему с бутылкой в руке.
— Спасибо.
Фин взял пиво, снял крышку и сел к столу. Юноша подумал и тоже взял бутылку. Он прислонился к холодильнику и запустил крышкой в сторону раковины, потом сделал долгий глоток.
— Что ты смог узнать про дедушку?
— Ничего, — ответил Фин. — Кроме того, что он не Тормод Макдональд.
Фионлах уставился на бывшего полицейского с выражением полного непонимания.
— В каком это смысле?
— Тормод Макдональд умер в возрасте восемнадцати лет, когда катался на лодке. Я видел его свидетельство о смерти и могилу.
— Наверное, это другой Тормод Макдональд.
Фин покачал головой:
— Это тот самый Тормод, которым назвался твой дед.
Фионлах сделал несколько глотков пива, переваривая информацию.
— Если он не Тормод Макдональд, то кто же он?
— Хороший вопрос. Правда, он сам на него не ответит.
Юноша долго молчал, уставившись на свою полупустую бутылку.
— Думаешь, это он убил парня, которого нашли в болоте?
— Понятия не имею. Но они родственники, это точно. Стоит установить личность одного из них, как станет понятно, кто второй. А может, и получится выяснить, что произошло.
— Ты говоришь, как полицейский.
Фин улыбнулся.
— Я был полицейским большую часть жизни. Образ мыслей не поменяешь за одну ночь только потому, что бросил работу.
— А почему ты ее бросил?
Мужчина вздохнул.
— Люди живут, не зная, что таится под камнями, по которым они ходят. Полицейские проводят жизнь, поднимая эти камни и разбираясь с тем, что найдут, — он допил свое пиво. — Мне надоело жить в темноте. Когда все время имеешь дело с темными сторонами человеческой натуры, начинаешь видеть тьму в своей душе. А это страшно.
Фионлах кинул свою бутылку в ящик у двери. Там уже лежало довольно много пивных бутылок. Стекло стукнулось о стекло, и в кухне снова наступила тишина. Юноша все еще чувствовал себя неловко.
— Надеюсь, я ничему не помешал, — сказал Фин.
Фионлах быстро взглянул на него, потом отвел глаза.
— Конечно, нет, — он помолчал. — Мама сегодня днем ездила к дедушке.
— Было что-то хорошее?
Юноша потряс головой:
— Нет. Он сидел во дворе под дождем, но думал почему-то, что он на корабле. Потом он что-то бормотал о том, как собирает водоросли и удобряет ворон.
Фин нахмурился.
— Ворон?
— Ага. Он использовал гэльское слово фьянекен, это значит «вороны».
— Бессмыслица какая-то.
— Ну да.
Фин помолчал.
— Фионлах…
Тот поднял глаза в ожидании.
— Будет лучше, если твоей маме о дедушке расскажу я.
Юноша кивнул. Он был только рад, что его избавили от такой ответственности.
Ветер дергал внешнюю часть палатки Фина в разные стороны, пытался выдернуть колышки. Внутренняя часть палатки рывками надувалась и сдувалась, как плохо работающее легкое. Шум дождя, льющегося на тонкий пластик, оглушал. Флюоресцентная лампа, работающая от батареек, заполняла палатку странным синеватым светом. Фин сидел, завернувшись в спальный мешок, и читал незаконно переданный ему Ганном отчет о вскрытии тела из болота.
Описание татуировки с Элвисом и надписи «Отель разбитых сердец» заворожило его. Впрочем, датировать смерть концом пятидесятых годов помогла пластина в голове трупа. Это был молодой человек, который в результате какого-то инцидента получил травму головного мозга и с тех пор был умственно неполноценным. При этом он очень любил первую в мире рок-звезду. И этот парень был родственником отца Маршели, личность которого тоже оказалась загадкой.
Убийство было очень жестоким. Жертву связали, закололи, потом перерезали горло. Фин попытался представить отца Маршели в качестве убийцы, но не смог. Тормод, или кто он там на самом деле, всегда был спокойным. Большим и сильным, но с очень ровным темпераментом. Фин не помнил, чтобы он хоть раз повышал голос.
Бывший полицейский отложил отчет и взял другую папку, с данными о наезде на Робби. Он провел над ней почти час, когда приехал от Маршели. И конечно, впустую. Он уже и сам не помнил, сколько раз просматривал ее. Фин знал наизусть все показания, все данные о следах на дороге, описания машины и ее водителя. Даже фотографии, которые напечатал в Эдинбурге. И все же каждый раз брался за папку в надежде найти важную деталь, которую пропустил. Фин понимал, что это навязчивая идея — нелогичная, неразумная, вредная. И все же он просто не мог от нее отказаться — как завзятый курильщик от сигареты. Он не успокоится, пока водитель той машины не будет арестован. Не сможет вернуть свою жизнь в нормальное русло.
Бывший полицейский вполголоса выругался и отбросил папку. Выключил лампу, откинулся и лег, умостив голову на подушке. Он так хотел заснуть, что знал заранее: ничего из этого не выйдет. Фин закрыл глаза и слушал шум дождя и завывания ветра. Потом открыл глаза. Ничего не изменилось: вокруг та же темнота. Кажется, никогда еще он не чувствовал себя так одиноко. Сколько он так пролежал — полчаса, час? Неизвестно. Фин был так же далек от сна, как в момент, когда впервые улегся. Он снова сел, включил лампу, поморгал от яркого света. В машине есть книги. Ему нужно отвлечься, забыть о том, кто он, где он и куда идет. Забыть на время вопросы без ответов, что крутятся у него в голове. Фин надел непромокаемый комбинезон прямо на майку и трусы, влез босыми ногами в ботинки, захватил зюйдвестку[18] и расстегнул палатку. Двадцать секунд под дождем до машины, столько же обратно — и меньше чем через минуту он сбросит мокрую одежду во внешней части палатки. Спальный мешок еще не успеет остыть, а книга подарит долгожданную свободу.
И все же Фин не спешил выходить. Погода разбушевалась не на шутку. Не зря многие поколения его предков строили дома со стенами толщиной в два-три фута! Глупо было надеяться, что он сможет прожить несколько недель и даже месяцев в этой легкой палатке. Фин выдохнул сквозь стиснутые зубы, на мгновение зажмурился — и бросился наружу. Ветер дул с такой силой, что едва не сбил его с ног, а дождь начал жалить лицо.
Фин добежал до машины и мокрыми пальцами шарил по карманам в поисках ключей. В этот момент на периферии его поля зрения зажегся свет. За пеленой дождя, ниже по склону… Это же лампа над кухонной дверью бунгало Маршели! В слабом желтом свете видна была дорожка и машина Фионлаха. Ветер и дождь не давали расслышать шум мотора, но Фин заметил поток выхлопных газов старого «Мини». Из кухонной двери выскочил человек с чемоданом и бросился к машине. Фин легко узнал Фионлаха. Он позвал сына, но до бунгало было футов двести, и буря заглушала звуки. Дождь стекал по его комбинезону, бил в лицо, капал за воротник. Юноша тем временем открыл багажник и запихал туда чемодан. Он вернулся к дому, чтобы выключить свет и на обратном пути до машины был почти не виден. Секунду, пока открывалась и закрывалась дверь машины, Фин видел лицо Фионлаха. Потом машина съехала с обочины и тронулась вниз по холму.
Бывший полицейский открыл свою машину, завел ее, включил первую передачу и отпустил ручной тормоз. Пока он видел впереди огни машины Фионлаха, фары можно было не включать. Он поехал вниз вслед за «Мини», стараясь сохранять расстояние ярдов в двести. Когда юноша остановил машину рядом с магазином Кробоста у подножия холма, Фин тоже затормозил. В свете фар «Мини» он увидел худенькую фигурку Донны Мюррэй в дверях магазина. Она выбежала под дождь с детской автолюлькой в руках. Фионлах выпрыгнул из машины, открыл заднюю дверь, и Донна поставила люльку туда. Потом вернулась, за небольшим чемоданом.
В этот момент зажглись фары третьей машины, залив всю сцену ярким светом. Потоки ливня заискрились в ярком свете, а потом под дождь вышел водитель. Фин отпустил сцепление и помчался вниз, включив собственные фары. Три удивленных лица повернулись в его сторону, когда он резко затормозил и остановился на засыпанной гравием парковке. Он открыл дверь и тоже вышел под дождь.
— Какого черта ты здесь делаешь? — Дональду Мюррэю пришлось орать, чтобы его можно было расслышать за ревом бури.
— Хочу спросить тебя о том же! — прокричал Фин в ответ.
Дональд обвиняюще указал на дочь и ее возлюбленного.
— Они хотят убежать с ребенком!
— Это их ребенок.
Рот священника искривился в усмешке.
— Ты с ними заодно?
— Эй вы! — закричал Фионлах, лицо его раскраснелось. — Это не ваше дело, ясно? Это наш ребенок и наше решение. Убирайтесь к черту!
— Это пусть решает Бог! — ответил Дональд. — Никуда вы не поедете. Я не дам увезти свою внучку!
— Вы меня не остановите! — Юноша забросил в машину сумку Донны и сел за руль. — Поехали! — крикнул он ей.
Дональд в два широких шага достиг машины, вытащил ключ зажигания и бросил его куда-то в дождь. Потом быстро обошел машину, открыл заднюю дверь и собирался схватить люльку. Фионлах выскочил, чтобы помешать ему, но Фин успел первым. Ветровку сдуло с его плеч, она улетела в темноту. Зато он успел схватить преподобного Мюррэя за плечи и оттащить от машины. Но Дональд был крепким мужчиной. Он с такой силой отбросил противника, что оба не удержались на ногах и покатились по гравию. Падение вышибло воздух из легких Фина. Пока он пытался вдохнуть, священник поднялся на ноги. Он протянул руку, чтобы помочь противнику подняться. Судорожно вздохнув, Фин поглядел на него снизу вверх. Его взгляд зацепился за что-то белое на шее Дональда. Воротник священника! Осознание абсурдности ситуации обрушилось на него. Господи, он дерется с настоятелем церкви Кробоста, своим другом детства! Фин схватился за протянутую руку и встал. Мужчины встали друг против друга, тяжело дыша и буравя друг друга взглядами. Лица их были мокрыми и блестели в свете фар.
— Хватит! — кричала Донна. — Прекратите, вы!
Но Дональд смотрел только на Фина.
— Я нашел в ее комнате билеты на паром, первый утренний до Уллапула. Я знал, что сегодня они попробуют сбежать.
— Дональд, они оба взрослые. И это их ребенок. Они могут ехать, куда хотят.
— Я так и знал, что ты выступишь за них.
— Я ни за кого не выступаю. Это ты своими выступлениями выжил их с острова. Не пускать к себе Фионлаха, даже если он хочет побыть с дочерью, просто ужасно.
— Он не может содержать ни дочь, ни жену. Он еще школьник, бога ради!
— И он не сможет никого содержать, если бросит школу и сбежит! А ты толкаешь его на это. И его, и Донну!
Дональд презрительно сплюнул.
— Мы теряем время, — сообщил он и снова попытался вынуть люльку из машины. Фин схватил его за руку. Дональд развернулся, его кулак пролетел сквозь лучи фар и ударил Фина по щеке. Сила удара опрокинула бывшего полицейского спиной на бетон.
Несколько секунд ничего не происходило, как будто кто-то поставил фильм на паузу. Никто из участников сцены не мог поверить в то, что Дональд ударил Фина. Вокруг гневно ревел ветер. Наконец Фин поднялся и вытер с губы кровь.
— Слушай, ты! Приди в себя, бога ради! — произнес он и уставился на священника.
Тот стоял, потирая костяшки пальцев. На лице — удивление, вина и гнев, как будто Фин был сам виноват в том, что он его ударил.
— Что тебе за дело до нас? — спросил он. Фин закрыл глаза и потряс головой.
— Просто Фионлах — мой сын.
Глава двадцать вторая
Катриона Мюррэй открыла дверь пасторского дома с беспокойством. Когда она увидела на крыльце своего мужа и Фина Маклауда, мокрых как мыши, усталых и помятых, беспокойство перешло в недоумение. Она явно ждала не их.
— А где Донна и малышка?
— Я тоже рад тебя видеть, Катриона, — сказал Фин.
— Они у Маршели, — объяснил Дональд.
Темные глаза Катрионы заметались между мужчинами.
— Что помешает им поехать с утра в Огорновей и сесть на паром?
— Они не поедут, — сказал Фин.
— Почему?
— Они боятся, что мы с Дональдом покалечим друг друга. Можно нам войти? Там дождь.
Она неодобрительно покачала головой, но придержала двери. Двое мужчин зашли в коридор. С них капало.
— Снимайте все, что успело намокнуть.
Фин улыбнулся:
— Лучше я не буду раздеваться. Боюсь оскорбить твои чувства, — он на секунду расстегнул комбинезон, стали видны майка и трусы. — Я просто вышел взять в машине книгу.
— Я принесу тебе халат.
Катриона наклонила голову, чтобы получше рассмотреть лицо Фина.
— Что это с тобой?
— Меня ударил твой муж.
Она взглянула на Дональда, между ее бровями пролегли тонкие морщинки. Они как будто стали глубже, когда она увидела, что священник молча стоит с виноватым видом.
Через пятнадцать минут мужчины сидели у камина в гостиной с кружками горячего шоколада. Свет им давали только торфяные брикеты и настольная лампа. На Дональде был черный шелковый халат с китайскими драконами, Фин получил белый махровый халат. Оба были босыми и только-только начали согреваться. Повинуясь кивку Дональда, Катриона ушла на кухню. Несколько минут мужчины сидели в молчании.
— Вот было бы здорово плеснуть сюда виски, — сказал Фин без особой надежды.
— Отличная идея! — к его удивлению, Дональд поднялся и достал из буфета бутылку виски «Балвени Дабл Вуд», на две трети пустую. Вытащил пробку, щедро плеснул в обе кружки и снова сел. Фин отхлебнул и кивнул:
— Так лучше.
Дональд глубоко вздохнул:
— Мне нелегко это признать, Фин, но я должен перед тобой извиниться.
— Еще бы не должен, — кивнул Фин.
— Я не должен был тебя бить ни при каких обстоятельствах. Это плохо.
Бывший полицейский повернулся к своему бывшему другу. Было видно, как искренне он сожалеет о драке.
— Что в этом плохого?
— Иисус учил нас, что жестокость недопустима. «Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую».
— Да уж. Если кто и повернул к врагу другую щеку, то это был я.
Дональд хмуро взглянул на Фина.
— А как же старое правило «око за око»?
Священник отхлебнул шоколад с виски:
— Как говорил Ганди, око за око — так все люди на Земле ослепнут.
— Ты что, правда во все это веришь?
— Да. И будет хорошо, если ты научишься это уважать.
— Я никогда не буду уважать то, во что ты веришь. Только твое право верить в это. А ты уважай мое право не верить.
Дональд наградил его долгим взглядом. Тлеющий торф освещал половину его бледного лица, вторая оставалась в тени.
— Ты сам решил не верить, Фин. Из-за того, что случилось с твоими родителями. Это не значит, что ты на самом деле не веришь.
— Я скажу тебе, во что я верю, Дональд. Я верю, что Бог Ветхого Завета и Бог Нового — это разные боги. Как примирить жестокость одного и проповеди другого о любви и мире? Надо выбирать то, что тебе подходит, и игнорировать то, что не нравится. Вот и все. Вот почему в христианстве так много течений. Католики, мормоны, баптисты, евангелисты, свидетели Иеговы… Только на одном нашем острове пять протестантских сект!
Дональд яростно потряс головой.
— Люди слабы, Фин. Они всегда будут спорить и ссориться. Вера — вот ключ ко всему.
— Вера — костыль для калеки. Вы с ее помощью маскируете противоречия. И даете легкие ответы на трудные вопросы, — Фин наклонился вперед. — Когда ты ударил меня, это шло от сердца, а не от веры. Это был настоящий ты, Дональд. Ты следовал инстинктам. Конечно, ты искренне хотел защитить свою дочь и внучку.
Священник с иронией хмыкнул.
— Мы поменялись ролями. Верующий бил, неверующий подставлял щеку. Тебе нравятся такие вещи, — голос его звучал горько. — Это было неправильно, Фин. Я не должен был так поступать. Это больше не повторится.
— Конечно, не повторится! Следующий раз я дам сдачи. Предупреждаю: я дерусь не по правилам!
Дональд не смог удержаться от улыбки. Он допил кружку и несколько секунд смотрел в нее, как будто там можно было найти ответы на все вопросы Вселенной.
— Хочешь еще?
— Шоколада или виски?
— Конечно, виски. У меня есть еще бутылка.
Фин протянул ему свою кружку:
— Можешь наливать, сколько хочешь!
Дональд разделил то, что оставалось в бутылке. Виски, выдержанный в бочках от шерри, легко скользил в горло и согревал изнутри.
— Что с нами случилось, Дональд? Мы же были друзьями. В школе все к тебе прислушивались. Ты был для нас героем, примером для подражания.
— Я был довольно плохим примером!
Фин покачал головой:
— Нет. Конечно, ты делал ошибки. А кто не делал? Но было в тебе что-то, чего не было у всех нас. Ты был внутренне свободен, и отношения с миром у тебя были особые. Бог изменил тебя, и изменил не к лучшему.
— Только не начинай!
— Я все надеюсь, что однажды ты повернешься ко мне со своей знаменитой широкой улыбкой и закричишь: «Это была шутка!».
Дональд рассмеялся.
— Бог и правда изменил меня, Фин. И изменил к лучшему. Научил меня контролировать низменные инстинкты. Я и правда стал лучше, чем был. Стал поступать с другими так, как я бы хотел, чтоб со мной поступали.
— Тогда почему ты так жесток к Фионлаху и Донне? Нельзя их разлучать. Ты думаешь, что защищаешь дочь. Но малышка — она же дочь Фионлаха! Как бы ты чувствовал себя на его месте?
— Я бы не стал заводить ребенка.
— Да ладно! Ты и не вспомнишь, сколько девушек оттрахал, когда тебе было столько, сколько ему. Тебе просто повезло, что никто не забеременел! — Он помолчал. — До Катрионы.
Дональд уставился на него из-под насупленных бровей.
— Иди к черту, Фин!
Тот расхохотался.
— Вот он, старый добрый Дональд!
Священник покачал головой, стараясь сдержать улыбку.
— Ты всегда плохо на меня влиял, — он поднялся, подошел к буфету, достал новую бутылку. Наполнил их кружки и снова плюхнулся в кресло. — И после всего, что было, у нас с тобой общая внучка, Фин Маклауд. Мы дедушки! — Он недоверчиво свистнул. — Когда ты узнал, что Фионлах твой сын?
— В прошлом году, когда расследовал убийство Ангела Макричи.
Дональд поднял брови:
— Об этом никто не знает, верно?
— Да.
Священник посмотрел на него с любопытством:
— Фин, что случилось в прошлом августе на Скерре?
Но Фин покачал головой.
— Это останется между мной и Создателем.
Дональд медленно кивнул.
— А то, почему ты вчера пришел в церковь — это тоже секрет?
Фин думал, глядя на тлеющий в очаге торф. В конце концов он решил, что священнику можно сказать правду.
— Ты слышал о теле, которое нашли в болоте в Сиадере пару недель назад?
Дональд кивнул.
— Тело молодого парня, семнадцать-восемнадцать лет. Его убили в конце пятидесятых.
— Убили? — преподобный Мюррэй был шокирован.
— Да. А еще он родственник Тормода Макдональда. Который, оказывается, вовсе не Тормод Макдональд.
Дональд не донес до рта кружку.
— Что?..
Фин рассказал ему, как они с сержантом Ганном ездили на Харрис и что там узнали. Священник слушал и задумчиво потягивал виски.
— Проблема в том, что мы можем не узнать правду, — закончил он. — Тормод впал в маразм, ему с каждым днем все хуже. С ним стало трудно разговаривать. Маршели сегодня ездила к нему. Он говорил, что удобрял ворон водорослями!
Дональд пожал плечами:
— Ну, это не так глупо.
Фин заморгал:
— Правда?
— Фьянекен означает «вороны» на Льюисе и Харрисе. А на южных островах так называют ленивые грядки.
— Я вообще не понимаю, о чем ты.
Священник рассмеялся.
— Ты никогда не был на католическом юге, да, Фин? И я бы не был, если б не межконфессиональные встречи, — он подмигнул собеседнику. — Может, я не такой ограниченный, как тебе хочется думать?
— Так что такое ленивые грядки?
— Островитяне придумали их, чтобы выращивать овощи, в основном картошку, на бедных почвах. Так делают, например, на Южном Уисте или Эрискее.[19] На берегу срезают водоросли и используют их как удобрение. Раскладывают полосами в фут примерно шириной. Между ними оставляют фут земли, ее вскапывают и откидывают на водоросли. Так получаются дренажные каналы, а на полосах удобренной почвы между ними сажают картошку. И вот это называется «ленивые грядки», или фьянекен.
Фин глотнул виски.
— Значит, у слов «удобрять ворон» есть смысл?
— Конечно, — Дональд наклонился вперед, поставил локти на колени, глядя на тлеющий торф. Кружку он сжимал в ладонях. — Возможно, Фин, отец Маршели вовсе не с Харриса. Возможно, он приехал с юга. Южный Уист, Эрискей, Барра — кто знает?
Он помолчал, сделал глоток.
— И знаешь что?.. — он повернулся к Фину. — Он не смог бы получить свидетельство о браке, и мой отец не смог бы его поженить без свидетельства о рождении. Откуда он мог его взять?
— Не на Харрисе, это точно. Погибшего мальчика там знали.
— Вот именно. Значит, он был знаком с семьей, или был дальним родственником. А может, не он, а какой-то его друг. Свидетельство он либо украл, либо его ему отдали. Тебе надо только узнать, кто это сделал.
Фин неожиданно для себя улыбнулся. Потом взглянул на священника:
— Дональд, ты всегда был умнее нас всех! Но найти, кто мог такое сделать… Это все равно что искать пылинку в космосе!
Глава двадцать третья
Катриона дала Фину брюки и шерстяной свитер Дональда. Он надел их под комбинезон и теперь брел навстречу ветру, дующему над махером.
Мужчины пили почти до утра и ополовинили вторую бутылку виски. Фин заснул на кушетке и проснулся в восьмом часу утра. Из кухни доносился запах жареного бекона. Дональда нигде не было. Катриона поставила на стол тарелку яичницы с беконом, сосисок и жареного хлеба. Она ушла спать задолго до того, как мужчины закончили пить, и никак не комментировала количество выпитого. Ни она, ни Фин не испытывали желания поболтать. Катриона была недовольна им и всем тем, что произошло вечером. Это было понятно и без слов.
Ночью дождь прекратился, и погода уже успела перемениться. Южный ветер высушил траву, а солнце пыталось нагреть воздух. Фину нужно было подышать свежим воздухом, проветрить голову, тяжелую от виски и разговоров, которые они с Дональдом вели ночью. Он пока не готов был вернуться к своей палатке — боялся даже смотреть, в каком состоянии найдет ее после того, как оставил открытой под дождем. Возможно, ее вообще сдуло.
Случайно так вышло или это подсознание сыграло с ним шутку, но Фин оказался на дороге, ведущей к кладбищу Кробоста. Могильные камни там торчат из склона холма, как иглы у дикобраза. Все Маклауды, Макдональды, Макричи, Моррисоны и Макрэи, которые жили на этом острове, похоронены здесь. Люди крепче камня, обточенные ветром, морем и дождем. Здесь покоились и его родители. Фин пожалел, что не привез Робби сюда, чтобы похоронить среди его предков. Но Мона никогда бы этого не позволила.
Фин остановился у ворот. Именно здесь Артэр много лет назад сказал ему, что они с Маршели поженились. Часть его умерла в тот день, потеряв единственную женщину, которую он любил. Женщину, которую он сам выставил из своей жизни, потому что был беспечен и жесток. Сейчас он думал про нее, видел мысленным взором: кожа розовеет от ветра, волосы развеваются за спиной. Представлял, как ее голубые глаза пронзают все его защитные барьеры, как она разоружает остроумием, разбивает сердце своей улыбкой. И задумался: можно ли хоть что-то вернуть? Или он сказал Фионлаху правду: они не смогли быть вместе много лет назад, так почему что-то должно получиться сейчас? Пессимист в нем думал, что так оно и есть. Фин почти готов был с ним согласиться, но все же лелеял крошечную надежду на лучшее. Неужели он потому и вернулся — в погоне за этим шансом?
Ворота кладбища Фин открывать не стал. Он и так слишком часто возвращался в прошлое. Там его ждала только боль.
Алкоголь еще не окончательно выветрился. Бывший полицейский направился в сторону дома. Миновал школу, куда ходил вместе с Артэром и Маршели. Школа почти не изменилась, как не изменилась и длинная прямая дорога до магазина Кробоста. Чуть подальше виднелась церковь на холме, ниже стояли дома, открытые всем ветрам. Здесь ничего не росло, кроме самых живучих кустов. Только человек и дома, которые он построил, могли выдержать гнев ветра, задувающего с Атлантического океана. Но и дома не могут стоять вечно. Кладбище на холме и развалины старых «черных домов» не давали это забыть.
Машина Фионлаха все еще стояла на парковке у магазина, где ее бросили вчера вечером. Ключ зажигания валялся где-то в болоте. Фионлах вернется днем, чтобы завести ее без ключа и вернуть домой. А вот машина Фина гордо красовалась на вершине холма, открытая всем ветрам. Она стояла там, где начиналась дорога к бунгало Маршели. Бывший полицейский отдал сыну ключи и велел отвезти Донну с ребенком к себе домой. Сам Фин поехал домой к Дональду на его машине.
Он постучал в дверь кухни и вошел. Донна обернулась к нему от стола, на котором стояла миска хлопьев. На лице девушки застыла маска страха. Увидев, что пришел Фин, она расслабилась, но только чуть-чуть. Лицо Донны было бледным, полностью лишенным красок; под глазами залегли тени. Она испуганно заглянула Фину за спину, как будто ждала, что он придет не один.
— Где мой отец?
— Отсыпается после попойки.
— Вы серьезно? — она состроила недоверчивую гримасу.
Фин понял: Донна знает только одного Дональда — самоуверенного, богобоязненного, гремящего цитатами из библии. Образцового священника. Она понятия не имеет, что под броней религиозности скрывается другой, уязвимый Дональд Мюррэй. Тот, которого Фин знал ребенком. Тот, кого он снова увидел сегодня ночью, когда виски ослабил его защиту.
— А где Фионлах?
Донна кивнула в сторону гостиной:
— Кормит Эйлид.
Фин нахмурился.
— Эйлид?..
— Малышку.
Он понял, что впервые услышал имя своей внучки. До этого все говорили о ней «малышка» или «ребенок». А он сам не спрашивал, как ее зовут. Фин почувствовал: Донна смотрит на него так, словно с легкостью читает все его мысли. Он понял, что краснеет.
Фионлах сидел в кресле в гостиной. Левой рукой он обнимал малышку, правой держал у ее губ бутылочку. Круглые глаза на крохотном лице смотрели на отца с абсолютным доверием. Фионлах, казалось, был смущен тем, что отец застал его в такой ситуации. Но сдвинуться с места он не мог. Фин сел в кресло напротив. Воцарилась напряженная тишина.
— Мою мать звали Эйлид, — сообщил он наконец.
— Я знаю, — кивнул Фионлах. — Мы назвали дочь в честь бабушки.
Фину пришлось поморгать — глаза внезапно заволокло влагой.
— Она была бы рада.
На лице юноши возникла тень улыбки.
— Спасибо, кстати.
— За что?
— Вчера ты вступился за нас. Не знаю, чем бы все кончилось, если бы ты не приехал.
— Бегство — это не выход, Фионлах.
— А где он — выход? — спросил юноша с негодованием. — Мы не сможем так жить.
— Не сможете. Но и выбрасывать жизнь на помойку нельзя. Вы сможете позаботиться о ребенке, только если вначале позаботитесь о себе.
— И как нам это сделать?
— Для начала тебе надо помириться с Дональдом.
Фионлах резко втянул воздух, отвернулся.
— Ты считаешь его чудовищем, но это не так. Он просто думает, что защищает свою дочь и внучку.
Юноша начал было спорить, но Фин поднял руку, прося его замолчать.
— Поговори с ним, Фионлах. Расскажи, что хочешь сделать в жизни и как намерен этого добиться. Скажи, что начнешь обеспечивать Донну и Эйлид, как только получится, и возьмешь его дочь в жены, когда сможешь предложить ей будущее.
— Но я не знаю, что хочу сделать в жизни! — голос юноши дрожал.
— В твоем возрасте почти никто не знает. Но ты умный парень, Фионлах. Тебе нужно закончить школу, потом — университет. И Донне тоже, если она этого хочет.
— А что нам делать до этого?
— Оставаться здесь, всем троим.
— Преподобный Мюррэй этого не позволит!
— Ты не можешь знать, что он позволит, пока не поговоришь с ним. У вас больше общего, чем ты думаешь. Он хочет для Донны и Эйлид только хорошего, и ты тоже. Тебе просто надо его в этом убедить.
Фионлах закрыл глаза, глубоко вздохнул.
— Это проще сказать, чем сделать.
Соска от бутылочки выскользнула изо рта Эйлид. Она протестующе забулькала, и юноша быстро поднес соску к перепачканным молоком губам. Машина Дональда стояла там, где обычно парковался Фин — на изгибе дороги над старой фермой и его открытой всем ветрам палаткой. Тяжелые низкие облака шли над самой землей, готовые пролиться дождем. Впрочем, пока они держали его в себе, как будто понимали: земля внизу не сможет впитать еще больше влаги. Фин подошел к машине и огляделся. Дональда нигде не было. По крайней мере, палатка оказалась на месте. Помятая, заляпанная дождем, с болтающимися шнурами, зато колышки прочно держались в земле. Бывший полицейский осторожно спустился к ней по мокрому склону и через распахнутый полог увидел, что внутри кто-то есть. Он встал на колени, забрался в палатку и обнаружил там взъерошенного Дональда. Тот сидел, скрестив ноги, на спальном мешке. На коленях его лежала папка с материалами о наезде на Робби.
Острый гнев пронзил Фина, и он выхватил у Дональда папку.
— Ты какого черта делаешь?
Священник вздрогнул. Ему явно было неловко.
— Прости, Фин. Я не хотел тут шпионить. Приехал к тебе, а тебя нет, палатка открыта и листы из папки разлетелись. Я их просто собрал, и… — он помолчал. — Я не мог не понять, что это такое.
Фин опустил глаза.
— Я ничего не знал.
Он забросил папку в дальний угол палатки.
— Это было давно.
Фин вылез из палатки и встал в полный рост. Гряда огромных туч шла, казалось, прямо над его головой. На лицо брызнуло — вот-вот мог начаться дождь. Дональд вылез из палатки вслед за ним, и двое мужчин встали бок о бок, глядя вниз на заброшенный огород, скалы и пляж. Через несколько минут Фин заговорил.
— Дональд, ты когда-нибудь терял ребенка?
— Никогда.
— Это ужасное чувство. В твоей жизни не остается смысла. Хочется лечь и умереть, — он взглянул в лицо священнику. — И не надо говорить мне о Боге и высшей цели. Я буду зол на него еще больше, чем сейчас.
— Хочешь рассказать мне, как все было?
Фин пожал плечами, засунул руки в карманы комбинезона и направился вниз, к скалам. Дональд быстро догнал его.
— Ему было всего восемь лет. У нас с Моной был не самый лучший брак, зато от него родился Робби. И это оправдывало все.
Внизу море накатывалось на берег медленными волнами. Они разбивались о камни, превращались в белую пену.
— Однажды Мона с Робби ходили за покупками. Мона несла сумки в одной руке, другой держала Робби за руку. Они подошли к переходу, где пешеход нажимает кнопку и потом переходит. Они дождались зеленого и пошли. И вдруг на «красный» выскочила машина и сбила их. Мону подбросило в воздух, Робби попал под колеса. Она выжила, он — нет, — Фин ненадолго прикрыл глаза. — Вместе с ним умерли и мы. Наш брак. Мы были вместе только из-за Робби. Когда его не стало, мы разошлись.
Они дошли до скал. Здесь почва из-за эрозии грозила осыпаться, и дальше идти было опасно. Фин внезапно присел, сорвал мокрую белую головку пушицы, покатал в пальцах. Дональд опустился на корточки рядом с ним. Океанские волны под ними шипели, как будто надеялись стащить людей со скалы, утянуть на глубину. В лицо летели пенные брызги.
— А что с водителем?
— Ничего. Он не остановился. И его пока не нашли.
— А найдут, как ты думаешь?
Фин повернулся к священнику:
— Пока его не найдут, я не смогу нормально жить дальше.
— А если найдут, что тогда?
— Я убью его.
Фин смял цветок, выбросил.
— Ты этого не сделаешь.
— Поверь мне, Дональд: будет возможность — сделаю.
Священник покачал головой:
— Не сделаешь, Фин. Ты ничего о нем не знаешь. Не знаешь, кто он, почему не остановился, в каком аду живет с тех пор.
— Мне наплевать на все это, — Фин поднялся. — Я видел тебя вчера вечером. Видел твой взгляд, когда ты решил, что теряешь свою дочь. А она просто хотела сесть на паром. Представь, что бы ты почувствовал, если бы ее схватили, искалечили, убили! Ты бы не стал подставлять другую щеку. Было бы как положено — око за око, и плевать, что там говорил Ганди.
Дональд тоже встал.
— Нет, Фин. Я думаю, я бы чувствовал и боль, и ярость, и хотел бы отомстить. Но я бы не стал этого делать. Господь — наш судия. И я бы верил, что справедливость восторжествует, пусть даже после нашей смерти.
Фин долго смотрел на него, глубоко задумавшись. Потом сказал:
— Иногда я хотел бы верить так, как ты.
— Значит, есть еще надежда, — улыбнулся Дональд.
Фин рассмеялся.
— Никаких шансов! Моя душа потеряна, поверь мне, — он отвернулся и начал спускаться. — Идем! Я знаю, как спуститься к берегу.
Фин двинулся вдоль скал, Дональд — за ним. Священнику казалось, что он держится слишком близко к обрыву. Ярдов через пятьдесят земля начинала опускаться, под ногами появились сланец и крошащийся торф. Камни, наваленные на берегу, защищали это место от ярости океанских волн. Неровная тропинка опускалась на галечный пляж, прикрытый со всех сторон. Всего в нескольких футах океан вымещал свою ярость на каменистом мелководье. Его шум не оглушал только потому, что между людьми и стихией стояли каменные насыпи. В углублениях между камнями собиралась чистейшая вода. Брызги взлетали высоко над головой.
— В детстве это было мое тайное место, — сказал Фин. — Я приходил сюда, когда ни с кем не хотел разговаривать. С тех пор как родители погибли и я переехал к тетке, я сюда не возвращался.
Дональд осмотрелся. Они стояли в центре островка спокойствия. Звук моря эхом отдавался вокруг, но в то же время казался далеким. Даже ветер почти не задувал сюда.
— С тех пор как я приехал, я пару раз сюда приходил, — Фин грустно улыбнулся. — Наверное, надеялся найти здесь прежнего себя. Призрака давно ушедшей эпохи невинности. Но тут только крабы, галька и очень слабое эхо прошлого. Да и оно не звучит больше в моей голове, — он ухмыльнулся, поставил ногу на каменный уступ. — Ладно, зачем ты приехал?
— Я проснулся и стал думать о Тормоде и его поддельной личности, — тут Дональд рассмеялся. — Правда, вначале я выпил пинту воды и две таблетки парацетамола. Давно я не пил столько виски!
— Катриона меня больше на порог не пустит.
— Она так и сказала, — усмехнулся Дональд.
Фин рассмеялся. Было так хорошо спустя столько лет снова смеяться вместе с Дональдом.
— И что ты надумал про Тормода?
— Пару месяцев назад в «Газетт» была статья про центр генеалогии на южной оконечности Харриса. Он называется «Шелам». Это хобби одного человека, которое стало его страстью. Там хранится, наверное, самый полный архив генеалогических деревьев на Внешних Гебридских островах. Там больше данных, чем в церковных и государственных архивах. Хозяин архива проследил десятки тысяч семейных линий, от наших островов до Австралии и Северной Америки. Если кто-то что-то знает про семью Макдональдов, про ее разные ветви, то это он, — Дональд поднял брови. — Что скажешь?
Фин задумчиво кивнул.
— Я думаю, туда стоит съездить.
Глава двадцать четвертая
Фин снова ехал мимо Ласкентайра и Скаристы. День назад он уже проезжал здесь в обществе Джорджа Ганна. Через два часа пути впереди показались зеленые холмы Южного Харриса. В горных расщелинах блестели небольшие озера, за их берега крепко цеплялись крохотные поселки.
Центр «Шелам» располагался в одноэтажном здании с крутой крышей. Позади него по склонам холма конической формы вниз стекало облако кремового цвета. Выглядело это как извержение вулкана. Ветер неожиданно стих, и долину заполнила тишина пополам с туманом. Деревня Норстон, или Таоб Туа на гэльском, состояла из нескольких домов. Среди них росли карликовые сосны, а вдоль дороги цвели желтые ирисы и розовые азалии — яркие пятна на фоне однотонного ландшафта. Среди цветов стоял знак: «Шелам! Выставки, генеалогия, чай и кофе».
Фин остановил машину на гравийной площадке на дальнем берегу ручья, который бежал между холмами. Неровная тропинка, деревянный мостик — и вот он уже у дверей центра. Высокий мужчина с лысиной, обрамленной белыми пушистыми волосами, представился как Билл Лоусон, консультант по генеалогии. Он поправил огромные очки-«капельки», модные еще в семидесятых годах, и признался, что в «Сторновей Газетт» писали о нем. Это из его увлечения вырос центр. Лоусон с готовностью показал Фину карты Северной Америки и Австралии, каждая размером со стену. Они составляли часть экспозиции «Шелама». Скопления булавок обозначали поселения, где обосновались семьи с Гебридских островов. Калифорния, Восточное побережье США, Новая Шотландия, Юго-Восточная Австралия…
— Вы ищете что-то конкретное? — спросил Лоусон Фина.
— Да, одну семью. Это Макдональды из Силбоста, Мёрдо и Пегги. У них был сын Тормод. Он утонул, катаясь на лодке, в пятьдесят восьмом году. Макдональды бросили ферму в начале шестидесятых и могли уехать за границу. Сейчас ферма заброшена.
— Это будет несложно, — сказал консультант по генеалогии. Фин прошел за ним в небольшой зал, где полки стонали под тяжестью огромных томов и туристических путеводителей по островам. Билл Лоусон наклонился и достал что-то из кучи желтоватых листов с нижней полки.
— Это записи о фермах Харриса, — сказал он. — Мы ведем их по деревням и фермам. Фиксируем, кто и когда жил на ферме, куда потом уехал. Все меняется, а земля остается, — он принялся листать книгу, собранную на пружине, — регистрацию населения начали в тысяча восемьсот пятьдесят пятом году. До этого времени данных по земле мало. К тому же, записи велись на чужом языке — по-английски, — он улыбнулся. — Чиновники записывали имена так, как считали правильным. Часто ошибались. А иногда им было просто наплевать. С церковными записями та же история. Одни настоятели вели их правильно, другим это было не нужно. Мы используем в работе и официальные данные, и устные свидетельства. Так получается довольно надежный результат.
— Значит, вы сможете сказать, что случилось с Макдональдами?
— Конечно, — усмехнулся Лоусон. — Мы храним данные практически по каждой семье Западных Островов за последние двести лет. Почти двадцать восемь тысяч генеалогических деревьев.
Поиск в книгах записей и компьютерной базе данных занял примерно четверть часа. Удалось найти и ферму, и ее историю, и родословные всех тех, кто возделывал ее несколько поколений.
— Вот оно, — Билл Лоусон ткнул пальцем в записи. — Мёрдо и Пегги Макдональд эмигрировали в Канаду в шестьдесят втором году. Нью-Глазго, Новая Шотландия.
— А кто-нибудь из родственников остался на островах?
— Сейчас посмотрим, — он провел пальцем по списку имен. — Есть еще кузина Пегги, Марион. Она вышла замуж за католика прямо перед войной. Его звали Дональд Ангус О’Хенли, — Лоусон хохотнул. — Вот был скандал, наверное!
— Из этой семьи кто-то остался в живых?
Сверившись с записями, пожилой консультант покачал головой.
— Дональд Ангус погиб во время войны. Детей у них не было. Марион умерла в девяносто первом.
Фин выдохнул сквозь зубы. Похоже, его поездка была напрасной.
— Вряд ли остались соседи, которые могли помнить Макдональдов.
— Чтобы это узнать, вам надо съездить на Эрискей.
— На Эрискей?..
— Ну да. Дональд Ангус — он оттуда. Католик ни за что не поселился бы на Харрисе, среди суровых пресвитериан! — Лоусон посмеялся собственной шутке. — Когда они поженились, Марион переехала на ферму Хаунн, принадлежавшую семье ее мужа. Это на острове Эрискей.
Небольшой рыбацкий порт переименовали в Левербург сразу после Первой Мировой войны. Это сделал Уильям Хескет Левер, позднее — лорд Леверхульм, когда купил город вместе с солидным куском Южного Харриса. Сейчас почти не осталось свидетельств того, что он вложил в Левербург полмиллиона фунтов. А тогда город начали превращать в большой рыбацкий порт, чтобы Левер мог снабжать больше четырех сотен своих рыбных магазинов по всей Британии. Были построены пирсы, ангары для засолки, коптильни. Появился даже план проделать с помощью взрывов канал до озера, чтобы получить гавань на двести судов. Но всем известно, что происходит с благими намерениями. Леверхульм умер от пневмонии в 1924 году; его имущество было распродано, а планы забыты. Сейчас население Левербурга составляло немногим более двух тысяч человек и постоянно уменьшалось. Жилые дома были разбросаны вокруг пирса и бетонного ската для автомобильных паромов. Паромы соединяли острова, расположенные между Южным Харрисом и Северным Уистом. Мечта о большом рыболовецком порту затерялась в тумане.
Фин встал в очередь за двумя рядами машин, ожидавших прибытия парома. У пристани валялись кучи брошенных вершей, паслись овцы. За всем этим виднелись дома в окружении зелени и холмы, спускающиеся к берегу. Ветер затих, и вода отражала камни в пятнах бурых водорослей. В Заливе Харриса из серой дымки показался паром. Он бесшумно, как привидение, плыл между тенями островов — Энсей, Киллегрэй, Лангай, Гродай. Фин сидел и смотрел, как паром приближается к гавани. Уже можно было услышать стук его двигателей. Дорога займет час, возможно, полтора. Впереди Уисты — Северный и Южный, лунный пейзаж Бенбекулы, Залив Эрискея, а затем — и сам остров на южной оконечности архипелага. Это последняя остановка перед Баррой.
Фина привели сюда косвенные улики. Кузина покойной матери Тормода, что поселилась на острове. Фьянекен, «ленивые грядки» Эрискея, о которых говорил отец Маршели. Была еще церковь на холме, с которого открывался вид на кладбище и серебряные пески. Это могла бы быть церковь Скаристы; только в ней не было лодки, и песок на том побережье был золотистым, а не серебристым. Бывший полицейский верил, что воспоминания старика не отступали от правды. Просто они касались не острова Харрис, на котором жил и умер настоящий Тормод Макдональд. Это были картины из другого времени и места. Возможно, даже с Эрискея.
Зазвучали сирены: паром «Лох-Портейн» вошел в гавань и начал опускать сходни. Из его чрева выкатилось несколько легковых машин и грузовиков. Затем стоявшие в очереди машины начали по одной заезжать в трюм. Путешествие от Харриса до Бернерея заняло час и прошло как во сне. Паром скользил по зеркальной воде залива, оставляя позади крошечные островки и скалы, выступавшие из серебристой дымки, как призраки. Фин стоял на баке, держась за поручни, и смотрел на облака, проявляющиеся как мазки краски на бледно-сером небе. Он редко видел острова в объятиях настолько полного покоя. Они казались таинственными, эфемерными. Легко было представить, что здесь никогда не ступала нога человека.
Наконец из дымки выплыли темные очертания острова Бернерэй. Фин вернулся к машине, съехал с парома и начал долгое путешествие на юг. Когда-то это скопище островов ошибочно называли Лонг-Айленд, Длинный Остров. Сейчас почти все отдельные острова соединялись дамбами, а раньше машины могли проехать между ними только по бродам во время отлива. Паромное сообщение сохранилось только между Харрисом и островом Бернерей, а также Эрискеем и Баррой.
На Северном Уисте преобладал темный, первобытный ландшафт. По склонам гор спускались облака, от них к болотам тянулись щупальца тумана. Скелеты давно брошенных домов чернели на фоне пасмурного неба. Кругом негостеприимный болотный пейзаж, иногда встречаются озера и бухточки с изрезанными краями. Везде видны следы неудавшихся попыток людей покорить враждебную природу. Немногочисленное население ютится в небольших городках.
Дальше на юг, за дамбами, лежал остров Бенбекула, плоский и ничем не примечательный. Затем пейзаж снова изменился, и перед Фином предстал Южный Уист: по левую руку — горы, по правую — плодородный махер до самого моря. Мрачное настроение начало рассеиваться. Да и облачность стала выше, через нее местами прорывался солнечный свет, разливаясь по земле внизу. Желтые и фиолетовые цветы клонились под ветром. Фин миновал поворот на паромный порт Лохбосдейл на восточном берегу. К западу виднелись заброшенные ангары старой фабрики по обработке водорослей в Орасай, а перед ними — обнесенное стеной протестантское кладбище. Даже в смерти протестанты и католики оставались порознь.
Наконец Фин свернул на восток, по дороге на Лудаг. Теперь за сверкающей на солнце водой Бухты Эрискея виден был сам остров. Он казался меньше, чем Фин ожидал, возможно, по контрасту с Баррой и окружающим ее кольцом островков, темнеющих на фоне моря. В устье залива в воду уходил каменный пирс. На холме окнами на юг стояло несколько домов. Наступил отлив, и лодки, стоявшие на якоре в бухте, сейчас лежали перевернутыми на песке. Бетонные опоры старого пирса тянулись в воду, за эллинг, к которому когда-то причаливал грузопассажирский паром.
Фин остановил машину на пирсе и вышел прямо в объятия крепчающего южного ветра. Он вдохнул теплый, пахнущий морем воздух. Заслонил глаза ладонью от солнца и взглянул на Эрискей. Он сам не смог бы сказать почему, но в этот момент его охватило очень странное чувство. Чувство, что он идет прямиком на встречу с судьбой.
На берегу пожилой мужчина в джинсах и вязаном свитере чинил корпус перевернутой лодки. Под растрепанными седыми волосами виднелось лицо цвета выдубленной кожи. Увидев незнакомца, он кивнул ему. Фин сказал:
— Я думал, на Эрискей ведет дамба.
— Так и есть, — мужчина встал и указал на восток. — Поезжайте дальше по дороге, вон дотуда.
Фин прищурился против света и, наконец, разглядел на горизонте ведущую через залив дамбу.
— Спасибо!
Бывший полицейский сел за руль и двинулся по дороге дальше, до изгиба. Миновал решетчатое ограждение для скота и увидел перед собой длинный прямой участок дороги, проложенный по дамбе из огромных валунов.
По мере приближения остров Эрискей занимал все поле зрения. Суровый, лишенный деревьев, состоящий как будто из одной горы. Дорога поднялась между холмами и вывела с дамбы на остров. На Т-образном перекрестке Фин свернул налево, на узкую гудронную дорогу, ведущую к старой гавани и Хаунну. Билл Лоусон говорил, что именно там находится семейная ферма О’Хенли.
Старый, полуразрушенный каменный пирс тянулся в узкую, прикрытую со всех сторон бухту. На дальней ее стороне виднелся такой же старый бетонный причал. Возле него среди камней стояло несколько брошенных домов. Вокруг бухты были и другие дома — и обжитые, и брошенные. Фин остановил машину у края старого пирса, прошел мимо разложенных на просушку сетей и наваленных кучами корзин для рыбы. Встал у начала бетонного ската и взглянул через залив на Южный Уист.
— Сюда приходил автомобильный паром, — рядом остановился пожилой мужчина в стеганой куртке и матерчатой кепке. Его жесткошерстный фокстерьер нетерпеливо тянул длинный поводок. — Старый пассажирский паром заходил в другую бухту, — он усмехнулся. — Автомобильный паром был никому не нужен, пока не построили дороги. А это сделали только в пятидесятых. И даже тогда машин тут было мало.
— А вы, значит, из местных? — уточнил Фин.
— Местный до мозга костей! А вот вы на гэльском не по-местному говорите.
— Я лиоассах — уроженец Льюиса. Из Кробоста, что в Нессе.
— Никогда не был так далеко на севере, — сказал пожилой человек. — И что привело вас сюда?
— Ищу старую ферму О’Хенли.
— Вы ее почти нашли. Идемте со мной.
Он повернулся и направился обратно к пирсу. Его фокстерьер бежал впереди, скакал из стороны в сторону и пытался лаять на ветер. Мужчина остановился у причала, откуда была видна вся бухта.
— Видите желтое здание слева? Вон то, без крыши? Это был деревенский магазин и почта. Его держал парень по фамилии Николсон… Да, вроде так. Единственный протестант на острове, — старик усмехнулся. — Представляете?
Фин не представлял.
— За этим зданием, справа, развалины каменного дома. От них мало что осталось. Тут и была ферма О’Хенли. Но хозяйка давно умерла. Она, кстати, рано овдовела. С ней жила какая-то девчушка. Кейт ее звали — так, по-моему. Но я не уверен, что это была ее дочь.
— А что с ней стало?
— Да кто ж ее знает! Уехала отсюда, задолго до смерти О’Хенли. Как и вся молодежь. Их хлебом не корми — дай уехать с острова! — старик грустно улыбнулся. — Что тогда, что сейчас.
Фин смотрел на развалины и большой белый дом на скалах за ними. Вверх по холму вела новая подъездная дорога. В конце ее виднелся сад перед домом, дальше — деревянная веранда, на которую выходили стеклянные двери. Над ними — застекленный балкон, а еще выше на стене — неоновая звезда.
— А кто живет в большом белом доме? — спросил Фин.
Старик усмехнулся.
— Это дом Мораг Мак-Эван. Она родилась у нас на острове и вернулась на него почти через шестьдесят лет. Я ее совсем не помню, но это еще та дамочка! Да вы, может, ее знаете.
— Я?! — удивился Фин.
— Ну да. Если телевизор смотрите. Она играла главную роль в одном сериале. Денег у нее, как говорится, куры не клюют. Рождественские гирлянды горят на доме круглый год, и ездит она на розовом кабриолете «Мерседес», — пожилой человек рассмеялся. — Говорят, что внутри ее дом — как пещера Аладдина. Хотя сам я там не был, сказать не могу.
— А сколько людей сейчас живет на Эрискее?
— Немного. Человек сто тридцать, наверное. В моем детстве было человек пятьсот. Понимаете, остров всего две с половиной мили в длину и полторы в ширину. Жить тут особо не на что. Земля не кормит, да и море теперь тоже.
Фин оглядел пустынные, каменистые склоны окружающих холмов и задумался о том, как люди вообще смогли здесь выжить. Вдруг его взгляд остановился на темном здании на холме по правую руку. Оно было выше всех окрестных строений.
Пожилой человек проследил за его взглядом.
— Это церковь, — сказал он. — Церковь Святого Михаила.
Фин поехал вверх по холму, к маленькому поселку Руба Бан. Он был построен вокруг начальной школы и медицинского центра. Указатель «Церковь Святого Михаила» повел его вверх по узкой тропке к каменному зданию с остроконечной крышей и высокими окнами с белыми переплетами. Над аркой дверей виднелся белый крест и надпись на латыни: «Quis ut Deus?» — «Кто подобен Господу?». Снаружи на постаменте стоял корабельный колокол. Фин задумался: не он ли здесь созывает верующих на службы? На колоколе белым было выведено название корабля: «Дерффингер». Фин поставил машину на парковку и посмотрел вниз, на пирс в бухте Хаунн, залив и Южный Уист. Море шевелилось как живое, сверкало и переливалось. Солнечный свет заливал холмы, по ним быстро пролетали тени облаков. Вверху, на холме, ветер был очень сильный: он надувал куртку Фина, трепал тугие завитки его волос, как будто хотел распрямить их.
В вестибюле церкви очень пожилая женщина в красном кардигане и темно-серой юбке мыла пол. На ней были зеленые резиновые перчатки до локтей. Она плескала на пол мыльную воду из ярко-красного ведра. Пушистые седые волосы старушки укрывал шелковый шарф. Она кивнула Фину и посторонилась, давая ему пройти.
На мгновение время для него остановилось. Через арочные окна в церковь лился свет. Ярко раскрашенные статуи Девы Марии с младенцем Иисусом и молящихся ангелов бросали длинные тени на узкие деревянные скамьи. Купол над алтарем был разрисован под небесный свод с ярко блестящими звездами. А сам укутанный белым алтарь покоился на корпусе небольшой лодки.
Волосы у Фина встали дыбом. Это та самая церковь с лодкой внутри, о которой говорил Тормод! Бывший полицейский вернулся ко входу.
— Простите…
Пожилая леди отвлеклась от уборки: — Да?
— Почему под алтарем стоит лодка, вы не знаете?
Старушка заложила руки за спину, прогнулась.
— Знаю, — сообщила она. — Это прекрасная история. Понимаете, церковь построили прихожане. Они добывали и обрабатывали камень, носили на холм песок и другие материалы. Вот это были набожные люди! Сейчас они все наверняка на небесах, — старушка поставила швабру в ведро, схватилась за ручку. — Но заплатили за все рыбаки. Они решили отдать стоимость одного улова на строительство церкви. В тот вечер все молились, и рыбаки привезли небывалый улов. За него выручили целых двести фунтов! В те времена это были огромные деньги. Так что лодка — это дань памяти храбрецам, которые вступили в схватку с морской стихией во имя Господа.
По гравийной дорожке Фин обошел здание церкви с запада. Он увидел, как дорога спускается к берегу. Дома на холмах, могильные камни на махере внизу, а дальше — серебристый песок пляжа и мелкая бирюзовая вода бухты. Все, как говорил Тормод.
Фин вспомнил абзац из отчета о вскрытии, который читал только вчера у себя в палатке, при свете флюоресцентного фонаря:
«В нижней части правой надколенной области — овальной формы натертая травма, черно-коричневая, размером 5 на 2,5 сантиметра. Поверхностный слой кожи поврежден, в нем присутствуют мелкие серебристые песчинки». Патологоанатом нашел следы серебристого песка во всех травмах и открытых ранах на теле. Не золотой песок пляжей Харриса. Серебристый, как на здешнем побережье, которое Тормод почему-то называл «Пляж Чарли».
Фин еще раз взглянул на полумесяц песчаного пляжа, уводивший к новому волнорезу в южном конце бухты. Интересно, почему же все-таки «Пляж Чарли»?
Глава двадцать пятая
— Кто это?
— Я ваш внук, мистер Макдональд. Фионлах.
Он мне совсем не знаком. Мои соседи сидят в своих креслах, как кучка снобов, и рассматривают парня, который ко мне пришел. Волосы у него на голове торчат во все стороны, как иголки. Всем интересно: как он заставляет волосы так стоять? И зачем?
Медсестра пододвигает стул, парень садится рядом со мной. Ему явно неловко. И я по-прежнему не понимаю, кто он!
— Я тебя не знаю, — сообщаю я ему. Откуда у меня внук? Я едва дорос до того, чтобы стать отцом! — Что тебе нужно?
— Я сын Маршели, — говорит парень, и у меня замирает сердце.
— Маршели? Она здесь?
— Она поехала в Глазго, дедушка, сдавать экзамены. Приедет через пару дней.
У меня возникает чувство, будто меня ударили.
— Она обещала забрать меня домой. Мне надоела эта гостиница!
Тут я весь день сижу в кресле, смотрю в окно и ничего не делаю. Вижу, как дети в доме напротив утром идут в школу, а вечером возвращаются. А что было днем, не могу вспомнить! Наверное, я обедал, потому что есть мне не хочется. Но даже этого я не помню.
— Дедушка, помнишь, как я помогал тебе с овцами? Как мы собирали их на стрижку?
— Конечно! Стрижка овец — вот это были деньки!
— Я помогал тебе лет с четырех. Или с пяти.
— Ты был хорошим парнишкой, Фин. Маршели тебя очень любила.
— Нет, дедушка, я Фионлах. А Фин — мой отец, — он смотрит на меня и улыбается — так же, как все прочие вокруг меня. Они теперь все время так делают. Как будто я дурачок какой-то!
— Теперь я помогаю Мёрдо Моррисону, зарабатываю карманные деньги. В этом году я ему и с окотом помогал.
Я хорошо помню окот. Это было в первый мой год на острове. Снега не было, но холод стоял страшный. А ветер дождливой мартовской ночью резал как нож! До этого я никогда не видел, как рождаются ягнята. Первый раз мне чуть плохо не стало от вида крови и последа. Зато какое это зрелище, когда тощий новорожденный ягненок, похожий на мокрую крысу, делает первый вдох! А потом и первые шаги! Вот она — великая сила природы.
В ту зиму я многое узнал. Например, что есть вещи похуже, чем жизнь в сиротском приюте. Не то чтобы к нам плохо относились, нет. Просто выживание — тяжелый труд. И даже если ты еще ребенок, выживать за тебя никто не будет.
У нас были ежедневные обязанности. Мы вставали в темноте, задолго до того, как надо было идти в школу. Поднимались на холм и набирали воду из источника. Еще мы резали водоросли на берегу. Потом Дональд Шеймус продавал их на фабрику по переработке водорослей в Орасай, принадлежащую «Элджинат Индастриз». Это была тяжелая работа: мы, оскользаясь, согнувшись в три погибели, лазали по черным скалам во время отлива. Тупыми серпами мы отделяли от камней водоросли, а расколотые ракушки резали руки. Кажется, водоросли жгли, а потом использовали пепел как удобрение. Кто-то мне говорил, что из водорослей делают взрывчатку, зубную пасту и даже мороженое. Но я этому не верил. Я же не такой простак, как Питер!
После окота начиналась резка торфа на холме Бейн Шкихан. Мы поднимали слои торфа, а Дональд Шеймус резал его ножом тараскерр. Брикеты он складывал кучками по три. Потом мы время от времени переворачивали их, пока они не высыхали, а после этого собирали в большие плетеные корзины. Пони у нас был один на двоих с соседом, так что иногда корзину приходилось нести на спине.
Потом приходила пора заготавливать сено. Мы срезали его вручную серпом, вытаскивали самые грубые стебли и оставляли сушиться. Сено надо было переворачивать, трясти и подсушивать, чтобы оно не сгнило в стогах. Все это время мы молились, чтобы продержалась сухая погода. Сено свозили на гумно, там его собирали в брикеты. И только когда гумно наполнялось, Дональд Шеймус был спокоен: зимой будет чем кормить скот.
Вы думаете, что времени на учебу у нас не оставалось? И все же нас с Питером и других детей каждое утро сажали на лодку, потом — на автобус и везли в среднюю школу. Она занимала здание из рифленого железа на перекрестке Далибурга. В четверти мили по той же дороге располагался техникум. Но я ездил в школу только до того случая на Новый Год. После него Шеймус отказался пускать меня, и Питеру пришлось ездить одному. Дональд Шеймус и Мэри-Энн были неплохими людьми, но любви в них не было. Я знаю, что других «сироток» обижали и били. Нам в этом плане повезло. Мэри-Энн почти не говорила и вообще никак с нами не взаимодействовала. Она кормила нас, стирала нашу немногочисленную одежду и все. В основном она сучила, красила и пряла шерсть. Потом она вместе с другими женщинами валяла ее. Они садились за длинный стол на улице, крутили и били ткань, пока та не становилась толстой и водонепроницаемой. Женщины валяли шерсть и пели бесконечные ритмичные песни, чтобы облегчить себе бездумное повторение одних и тех же действий. Я нигде не слышал, чтобы женщины столько пели, как на острове.
Дональд Шеймус был суров, но справедлив. Если он задавал мне ремня, так только потому, что я этого заслужил. Но я не давал ему и пальцем тронуть Питера. Что бы он ни натворил, это была не его вина. Чтобы Дональд Шеймус принял такой порядок вещей, мне пришлось с ним поссориться. Не помню, чем тогда провинился Питер. Возможно, уронил яйца по пути из курятника и разбил их все. Он несколько раз так делал, пока его не перестали посылать за яйцами. В общем, что бы он ни сделал, Дональд Шеймус всегда был в ярости. Он схватил Питера за воротник и отволок в сарай, где мы держали животных. Там было тепло и воняло пометом. Когда я прибежал, штаны брата уже были спущены до щиколоток. Дональд Шеймус заставил его наклониться, опираясь на козлы. Сам он доставал ремень из петель, готовясь задать Питеру трепку. Когда я вошел, Дональд обернулся и приказал мне убираться к черту. Я никуда не пошел, а вместо этого огляделся. В углу сарая стояли, прислоненные к стене, два совершенно новых топорища. Я взял одно в руку, ощутил прохладное, гладкое дерево. Крепче сжал пальцы и поднял топорище.
Дональд Шеймус остановился. Я смотрел ему в глаза, не мигая, продолжая сжимать свое оружие. Наш хозяин был высоким и сильным; в драке он мог бы хорошо меня отделать. Но и я тогда уже был крепким мальчиком, почти юношей. Мы оба понимали, что, имея в руках топорище, я мог много чего натворить.
Никто из нас не произнес ни слова, но все всё поняли. Если Дональд Шеймус тронет моего брата, то будет иметь дело со мной. Он застегнул пояс и велел Питеру убираться, а я поставил топорище обратно в угол. Я не сопротивлялся, когда приходила моя очередь подставлять задницу под ремень. Мне кажется, с тех пор наш хозяин порол меня раза в два больше. Как будто наказывал за провинности сразу и меня, и брата. Но я был к этому готов. Следы от порки заживут, а я смогу сдержать данное матери обещание.
Во время второго окота я спас одного ягненка от верной смерти. Это была слабенькая девочка, она едва могла стоять. Мать почему-то невзлюбила ее и не стала кормить. Дональд Шеймус дал мне бутылку с резиновой соской и велел поить ягненка молоком. Я делал это почти две недели. В итоге овечка решила, что я — ее мать. Я назвал ее Мораг; она ходила за мной повсюду, как собака. Шла даже на берег, когда я отправлялся собирать водоросли. Днем я сидел в скалах и ел грубо сделанные сэндвичи, которые Мэри-Энн заворачивала в промасленную бумагу. Мораг ложилась, свернувшись, возле меня, и мы грелись друг о друга. Я гладил ее по голове, а она смотрела на меня большими, полными восхищения глазами. Я любил эту овечку. Впервые с тех пор, как умерла мать, я любил кого-то, и мне отвечали взаимностью. Впрочем, был еще Питер; но это немного другое. Удивительно, но именно Мораг помогла мне получить первый сексуальный опыт с Кейт. События подтолкнула ее ревность к овечке. По-вашему, глупо даже говорить о ревности к животному? Но степень моей привязанности к Мораг трудно переоценить. У меня никогда еще не было секса, и я начинал думать, что все это — для других людей. Мне же придется дрочить под одеялом до конца своих дней. Но Кейт решила взять дело в свои руки… Если можно так выразиться.
Несколько раз она жаловалась, что я слишком много времени провожу с овечкой. Я всегда приходил на пирс, чтобы встретить их с Питером после школы. Потом мы шли пускать «блинчики» в бухте или отправлялись на западную часть острова, за холм. Кейт называла это место «Пляж Чарли». Там никогда никого не было, и мы здорово веселились, играя в прятки в высокой траве и среди развалин. Еще там можно было бегать наперегонки на плотном песке в период отлива. Но с тех пор, как появилась Мораг, я был немного занят.
— Ох уж эта твоя овечка! — сказала Кейт однажды. — Она мне надоела! Домашних овец не бывает. Собака — я еще понимаю, но овца?!
Мораг уже не надо было кормить из бутылочки, но я не хотел ее прогонять. Мы с Кейт шли по дороге, которая вела мимо магазина Николсона. Был погожий весенний день, дул юго-западный ветер. На небе виднелись высокие белые облака, похожие на клочки шерсти. Солнце начинало пригревать. Зима наконец отступила — до осеннего равноденствия. Тогда она выйдет из темного угла, где прячется сейчас, и объявит о себе приходом осенних бурь. Но в яркие солнечные дни конца весны и начала лета кажется, что это будет еще не скоро.
Почти все женщины сидели на улице, сучили и пряли шерсть. Мужчины были в море. Ветер разносил звуки песен над холмами. Всегда, когда я их слышал, у меня мурашки бежали по коже.
Кейт понизила голос:
— Давай встретимся сегодня вечером. Хочу кое-что тебе показать.
— Вечером? — я удивился. — А когда? После ужина?
— Нет. Когда стемнеет и все заснут. Ты же можешь выбраться через окно?
Я был в недоумении.
— Наверное, могу. А зачем? Почему ты не можешь показать мне это сейчас?
— Потому что не могу, дурачок!
Мы остановились на вершине холма, глядя на маленькую бухту. За заливом виднелся Лудаг.
— Встретимся в одиннадцать у причала. Джиллисы будут уже спать, да?
— Конечно.
— Отлично. Значит, без проблем.
— Только Питер может не захотеть пойти, — сказал я.
— Бога ради, Джонни! Ты можешь хоть раз что-то сделать без Питера?
Кейт раскраснелась и смотрела на меня очень странно. Ее реакция меня здорово удивила. Мы всегда все делали вместе — она, я и Питер.
— Могу, конечно, — недовольно сказал я.
— Хорошо. Значит, встретимся у пирса в одиннадцать. Только ты и я! — и Кейт направилась за холм, на ферму О’Хенли.
Я не мог понять, почему, но идея встретиться с Кейт один на один ночью волновала меня. К вечеру, когда ветер начал стихать, я едва мог сдержать нетерпение. Мы с Питером закончили работу по хозяйству, потом поужинали вместе с Дональдом Шеймусом и Мэри-Энн. Как всегда, после молитвы за столом воцарилось молчание. Не то чтобы они не хотели с нами говорить; они и между собой-то редко когда общались. Если честно, нам нечего было сказать друг другу. Да и о чем говорить? Жизнь изо дня в день текла одинаково. Была, конечно, смена времен года, но они следовали друг за другом естественно и привычно и обсуждения не требовали. Ни Дональд Шеймус Джиллис, ни его сестра не помогали нам учить гэльский. Питер начал говорить на нем, потому что другие дети общались на нем в школе. Конечно, на площадке, а не в классе — преподавание шло только на английском. Я узнал гэльский от других фермеров, большинство из которых вообще не знали английского. А если и знали, то говорить со мной на нем не собирались.
Дональд Шеймус покурил трубку, сидя у огня. Он читал газету, Мэри-Энн мыла посуду, а я помогал Питеру делать домашнюю работу. Ровно в десять мы все шли спать. Торф в очаге утрамбовали на ночь, лампы затушили. Мы разошлись по комнатам в облаке запахов торфяного дыма, табака и дымящего фитиля.
Мы с Питером спали на большой кровати в задней комнате. Там стоял комод и платяной шкаф, и едва хватало места, чтобы открыть дверь. Питер, как всегда, заснул за несколько минут. Я не боялся разбудить его, когда буду одеваться и вылезать в окно. Но я не знал, насколько крепко спят Мэри-Энн и Дональд Шеймус. Перед выходом, до того, как часы должны были пробить одиннадцать, я приоткрыл дверь и прислушался к тому, что происходит в доме. Кто-то храпел так, что это было похоже на маленькое землетрясение. Не знаю, брат это был или сестра. Скоро я расслышал другой храп — высокий, прерывистый, скорее горловой, чем носовой. Значит, оба крепко спят.
Я закрыл дверь, подошел к окну, отодвинул занавеску. Открыл задвижку и поднял раму, стараясь не шуметь. Питер закряхтел и повернулся на другой бок, но не проснулся. Губы его шевелились, как будто он говорил сам с собой — произносил все те слова, которые не смог сказать во время ужинов с Джиллисами. Я сел на подоконник, свесил ноги наружу и соскользнул в траву.
Снаружи было удивительно светло. Небо на западе еще не потемнело, а луна уже разливала свой серебристый свет над холмами. Небо было скорее темно-синим, чем черным. Летом у нас будет светло до полуночи, а то и позже. Правда, до этого оставалось еще несколько недель. Я протянул руку в комнату, закрыл занавески и опустил раму. И бросился вниз по холму, как борзая! Ноги мои путались в высокой траве, я расплескивал болотную воду. На меня обрушилось чувство полной свободы. Эта ночь будет моей! Нашей с Кейт.
Она нетерпеливо ждала меня у пирса и, как мне показалось, немного нервничала.
— Почему так долго?
Ее шепот звучал очень громко. Я понял, почему: ветер прекратился, слышно было только, как океан накатывает на берег.
— Я всего на пять минут опоздал, — начал я. Кейт только фыркнула, взяла меня за руку и повела по тропинке в сторону Руба Бан. Ни в одном из домов вокруг не горел свет, казалось, весь остров крепко спит. В лунном свете все было хорошо видно, но и нас мог увидеть кто угодно. Я чувствовал себя уязвимым.
— Куда мы идем? — спросил я Кейт.
— На Пляж Чарли.
— Зачем?
— Увидишь.
Был один момент, когда все могло пойти не так. Кейт внезапно дернула меня за рукав, и мы упали в высокую траву рядом с тропинкой. Из открытой двери дома упал луч света, и мы увидели пожилого человека с газетой и лопатой в руках. Большинство местных жителей ночью использовали ночной горшок, а утром выливали его содержимое. Но старый мистер Макгинти, видимо, решил, что в такую лунную ночь хорошо будет облегчиться на болоте. Мы лежали в траве, стараясь хихикать потише, пока он рыл неглубокую ямку и сидел над ней, кряхтя и постанывая. Его ночная рубашка задралась до самой шеи. Кейт зажала мне рот рукой, но сама с трудом сдерживала смех. Воздух вырывался из ее плотно сжатых губ. Так что я тоже зажал ей рот, и мы лежали, прижавшись друг к другу, почти десять минут, пока мистер Макгинти делал свое дело.
Наверное, это был первый раз, когда я почувствовал влечение к Кейт. Она была теплой, ее мягкая грудь прижималась к моей груди, девушка закинула на меня одну ногу. Я помню, она была босой в ту ночь. Есть что-то очень чувственное в этом зрелище: босые ноги в лунном свете. На Кейт было платье с каким-то светлым рисунком, его V-образный вырез выгодно подчеркивал ее грудь. Я почувствовал, что возбуждаюсь; это было удивительно и страшновато.
Кейт отрастила волосы с тех пор, как нас увезли из Дина. Они падали ей на плечи мягкими каштановыми волнами, слишком длинная челка все время лезла в глаза. Пока мы лежали в траве, я заметил, что от Кейт пахнет какими-то цветами — легкий, очень приятный аромат с мускусной ноткой. В Дине она пахла не так. Когда мистер Макгинти наконец вернулся в дом и мы смогли разговаривать, я втянул воздух и спросил девушку, чем от нее пахнет. Она захихикала.
— Это одеколон миссис О’Хенли.
— А что это?
— Духи, дурачок. Я пару раз брызнула себе на шею. Тебе нравится?
Мне нравилось. Не знаю, что в нем такого было, но от него у меня в животе как будто бабочки начинали порхать. Глаза Кейт в лунном свете казались очень темными. Ее полные губы буквально притягивали меня. Мне вдруг так захотелось их поцеловать! Но прежде чем я смог поддаться искушению, девушка поднялась на ноги и протянула мне руку. Я поднялся, и мы, держась за руки, побежали через холм, мимо начальной школы. Дальше дорога шла над пляжем. Мы остановились перевести дыхание и полюбоваться видом. Море блестело под луной в полной тишине. Волны накатывались на песок в бухте под нами, оставляя на нем серебристую пену. Лунная дорожка тянулась в бесконечность, только на горизонте темнели островки и маячила тень Барры. Я никогда не видел остров таким — добрым, соблазнительным, как будто он был соучастником в великом плане Кейт.
— Идем, — сказала она и повела меня вниз по узкой тропинке, сквозь вереск. Там, рядом с пляжем, стояли заросшие травой развалины старого дома. Мы пробрались к ним, стараясь не наткнуться на камни. Кейт села на траву и похлопала рукой рядом с собой. Я сел и сразу ощутил тепло ее тела. Тихие вздохи волн, бесконечность черных небес над нами, искорки звезд — все складывалось в одну чарующую мозаику, наполняло меня предвкушением. Кейт обратила ко мне свои темные глаза, ее пальцы коснулись моего лица — и меня как будто током ударило.
Понятия не имею, откуда мы знаем, как и что надо делать в таких ситуациях. Но я и оглянуться не успел, а мы уже целовались, и я обнимал ее. Теплые, мягкие губы, столкновение языков — внезапно, удивительно. Кейт положила мне руку между ног, туда, где мои брюки оттопыривались. Мои руки скользнули под хлопковую ткань ее платья и ощутили мягкую, упругую грудь. Сосок, твердый, как орех, коснулся моей ладони.
Я был словно пьяный. Волна гормонов подхватила меня и понесла, я больше ничего не контролировал. Мы раздевались в спешке, бросая одежду куда попало, и вот остались нагишом. Мне было тепло, мягко, горячо, мокро. Я понятия не имел, что надо делать. С мальчиками так всегда — они просто следуют древнему инстинкту. Кейт лучше понимала, что происходит. Она взяла меня рукой, мягко направила внутрь себя. Задохнулась, едва не закричала — я не знал, от боли или удовольствия. Инстинкты взяли надо мной верх, и я сделал то, на что был запрограммирован. Ее крики возбуждали меня, подталкивая к неизбежному. Конечно, все закончилось слишком быстро. Но Кейт была к этому готова. Она отстранила меня, так что мое семя, серебристое в лунном свете, пролилось на ее живот.
— Мы не хотим, чтобы я залетела, правда? — сказала она и положила мою руку себе между ног. — Помоги мне закончить.
Я не понимал, о чем она. Но с ее помощью мои неуклюжие пальцы научились двигаться между ее мягких и влажных губ так, чтобы доставлять удовольствие. Тело Кейт выгибалось подо мной, потом она закричала и упала на траву, улыбаясь, вся раскрасневшаяся. Девушка потянулась вверх, обняла меня и поцеловала. Мы не могли остановиться, ее язык снова и снова обвивал мой. Вдруг Кейт вскочила, схватила меня за руку.
— Идем, Джонни! — и мы, не одеваясь, спустились на пляж, проскакали по песку и забежали в море.
Ледяная вода расплескалась по горячей коже, и я на секунду забыл, как дышать. Мы оба не смогли сдержать крик. Хорошо, что рядом с пляжем не было обитаемых домов, иначе нас бы кто-нибудь услышал. Удивительно, что этого не произошло. Наши крики должны были разнестись по всему острову.
— Черт меня дери! — закричала Кейт в темноте.
— Ну, я-то тебя отодрал, — ухмыляясь, сказал я.
Мы побрызгались, выбежали на пляж и кинулись к развалинам дома. Там покатались по траве, чтобы обсохнуть, и снова оделись. Кожа у нас горела, и мы не чувствовали холода. Лежали, обнявшись, и смотрели на звезды — запыхавшиеся, потрясенные, как будто первыми на Земле открыли для себя секс. Мы долго молчали, потом я спросил:
— Так что ты хотела мне показать?
Кейт смеялась очень долго. Я приподнялся на локте и с удивлением смотрел на нее:
— Что тут смешного?
— Когда-нибудь ты поймешь, большой мальчик, — все еще смеясь, сказала она.
Я снова прилег рядом с ней. Обида на то, что я не понял ее шутки, быстро рассеялась. Взамен пришло всеобъемлющее чувство любви, желание обнять и защитить Кейт, сделать так, чтобы с ней ничего не случилось. Она уткнулась лицом мне в шею, обняла меня, закинула на меня ногу; я лежал, смотрел на звезды и чувствовал, что быть живым — это большое счастье.
Я поцеловал макушку Кейт и спросил:
— Почему ты говоришь, что это — Пляж Чарли?
— Здесь высадился Красавчик принц Чарли, когда приплыл собирать армию для похода против англичан во время Якобинского восстания 1745 года, — ответила она. — Нам это в школе рассказали.
В следующие недели мы несколько раз встречались, приходили на развалины старого дома и занимались любовью. Стояла хорошая весенняя погода, и чувствовалось, как океан становится менее холодным — конвейерная лента Гольфстрима несла теплую воду в Северную Атлантику. Так было до той ночи, когда разразилась буря и все пошло не так.
В тот вечер мы должны были, как обычно, встретиться с Кейт. Но во второй половине дня ветер поменялся, на горизонте появились темные тучи. Ближе к вечеру они дошли до острова. Поднялся ветер силой восемь баллов, а то и девять. Он гнал дождь практически горизонтально. Дым задувало в трубу, и в нашей гостиной в тот вечер было невозможно дышать. В итоге мы рано разошлись спать — еще даже не стемнело.
Я долго лежал, смотрел в потолок и думал, что делать. Я договорился встретиться с Кейт, и отменить встречу было нельзя. Заняться любовью мы сегодня не сможем, но на встречу я должен прийти — хотя бы потому, что может прийти она. Я просто не мог заставить девушку в такую погоду стоять у пирса в одиночестве. Так что я ждал, поглядывая на часы, стрелки которых светились в темноте. Но вот пришло время идти. Я вылез из постели, оделся и вытащил непромокаемый комбинезон из-под кровати, где припрятал его ранним вечером. Я поднимал раму окна, когда из темноты раздался голос Питера. Он говорил громче обычного, чтобы его было слышно за ревом бури:
— Куда ты идешь?
У меня чуть сердце не остановилось. Я повернулся к брату, чувствуя, что начинаю закипать:
— Неважно, куда я иду! Спи дальше.
— Но Джонни, ты никуда не ходишь без меня!
— Говори потише, бога ради! Повернись на другой бок и представь, что я рядом. Я вернусь, ты и оглянуться не успеешь.
Я толкнул раму вверх и вылез наружу, под дождь. Повернулся закрыть окно и увидел обращенное ко мне бескровное лицо Питера. Он сел в постели, напуганный, ничего не понимающий. Я закрыл окно и надел капюшон, спасаясь от дождя.
Сегодня нельзя было просто сбежать вниз по склону холма. Приходилось искать путь среди камней и высокой травы в полной темноте. Сильный ветер не переставая плескал мне в лицо дождем. Наконец я вышел на тропинку, ведущую к пирсу, и смог двигаться немного быстрее. Внизу Кейт не было. Шел прилив, и ни в бухте, ни на берегу укрыться было нельзя. Волны с оглушительным шумом разбивались о скалы. Дождь и брызги от волн, разбивающихся о пирс, промочили меня насквозь. Я чувствовал, что одежда под комбинезоном мокрая. Глядя в темноту, я думал, как долго мне ее ждать и есть ли в этом смысл. Выходить из дома в такую ночь было безумием. Понятно же, что во время бури Кейт не придет сюда!
И вдруг из-за холма появилась маленькая фигурка. Кейт бежала в зеленых резиновых сапогах, которые были ей велики и хлопали ее по голеням. Она завернулась в плащ, который явно позаимствовала у миссис О’Хенли. Я обнял девушку и прижал к себе.
— Я боялся, что не приду, а ты придешь! — я старался перекричать бурю.
— Я тоже, — она улыбнулась, и я поцеловал ее. — Спасибо, что пришел. Пусть только для того, чтобы сказать, что не можешь сегодня!
Я улыбнулся:
— Это ты про что?
— Ты только об одном и думаешь! — Кейт рассмеялась. Мы снова поцеловались. Я прижимал ее к себе, стараясь защитить от ветра и дождя. Вокруг нас бушевала стихия. Наконец она высвободилась.
— Я лучше пойду. Не знаю, что я скажу дома про мокрую одежду!
Кейт еще раз поцеловала меня на прощание и убежала. Буря и темнота мгновенно скрыли ее от глаз. Я постоял немного, отдышался, потом вернулся на тропинку, ведущую вверх, к ферме Джиллисов. Я прошел не больше десяти ярдов, когда из темноты вышла фигура. Я чуть не закричал от страха, но потом увидел, что это Питер. На нем не было непромокаемой одежды, только рабочий комбинезон и старая твидовая куртка, которую отдал ему Дональд Шеймус. Питер уже промок насквозь, волосы залепили ему лицо. Вид он имел абсолютно несчастный, это было заметно даже в темноте. Видимо, он встал, оделся и последовал за мной, как только я ушел.
— Бога ради, Питер, что ты делаешь?
— Ты был с Кейт!
Отрицать это было невозможно: он нас видел.
— Да.
— У меня за спиной!
— Нет, Питер.
— Да, Джонни! Мы всегда были вместе — ты, я и Кейт. Всегда. Мы были втроем, с самого Дина! — его явно обуревали сильные чувства. — Я видел, как вы целуетесь.
Я взял его за руку:
— Давай пойдем домой, Питер.
Но он рывком освободился.
— Нет! — мой брат уставился на меня горящими глазами. — Ты меня обманывал!
— Вовсе нет, — я начал злиться. — Питер, мы с Кейт любим друг друга, ясно? Ты здесь абсолютно ни при чем.
Секунду он стоял и смотрел на меня. Я никогда не забуду его взгляд: взгляд человека, которого предали. Потом Питер сорвался и убежал в ночь. Я этого не ожидал и поэтому отреагировал с задержкой в несколько секунд. За это время он скрылся из виду.
— Питер! — закричал я. Мой брат побежал не на ферму, а в противоположном направлении, к берегу. Я тяжело вздохнул и побежал за ним.
На северном побережье, у подножия низких холмов, грудами и поодиночке валяются огромные камни. Сейчас на них обрушивались высокие волны. Я видел, как Питер — едва заметный в темноте силуэт — карабкается по камням. Это было безумие. В любой момент волна могла подхватить его и унести в залив, на верную смерть. Я проклял день, когда он родился, и кинулся по камням за ним.
Я несколько раз звал его, но за ревом моря мой голос был не слышен, а ветер уносил слова прочь. Я мог только не выпускать Питера из вида и стараться догнать его. Я подобрался к нему на пятнадцать-двадцать футов, когда он начал взбираться на скалы. В обычных обстоятельствах это было не сложно. Но во время бури затея становилась безумной. Махер опускался примерно на двадцать футов к берегу, а потом отвесно обрывался. В этом месте проходила глубокая трещина, как будто кто-то взял гигантский молот и вогнал в землю клин.
Питер почти добрался до верха — и упал. Если он кричал, то я этого не слышал. Он просто исчез в этой трещине. Я, забыв об осторожности, вскарабкался по скалам туда, где видел его в последний раз. Тьма в трещине внизу казалась абсолютной.
— Питер! — закричал я и услышал, как мой крик отдается от стенок провала. А потом мне ответил слабый голос:
— Джонни! Джонни, помоги мне!
То, что я сделал дальше, было сумасшествием. Если бы я остановился и подумал, я бегом вернулся бы на ферму и разбудил Дональда Шеймуса. И не важно, что нам досталось бы на орехи. Мне следовало позвать на помощь. Но я не остановился, не подумал. И через несколько минут помощь мне требовалась не меньше, чем Питеру.
Я начал спускаться в провал, стараясь встать в распорку между его стенками. И тут камень под моей левой ногой просто раскрошился, и я упал во тьму.
Во время падения я ударился головой и потерял сознание раньше, чем долетел до дна. Не знаю, сколько времени я был без чувств. Первое, что я услышал, был голос Питера, повторявший мое имя, как мантру, совсем рядом с моим ухом.
Вслед за сознанием пришла боль. Боль в левой руке, настолько острая, что от нее перехватило дыхание. Я лежал, распластавшись на скалах и мелких камнях. Левая рука была неестественно подвернута; я сразу понял, что сломал ее. С большим трудом я перевернулся и сел, прислонившись спиной к скале. Я поднял голову к небу и начал кричать, проклиная Бога, Матерь Божью, Питера и всех, кого я мог вспомнить. Я ничего не видел; рев океана оглушал меня. Камни подо мной были мокрыми, в водорослях и песке. Я понял: мы не оказались под водой только потому, что начался отлив. В такой шторм во время прилива вода быстро залила бы провал в земле, и мы с братом утонули бы. Питер начал голосить, у него стучали зубы. Он плотно прижался ко мне, и я почувствовал, как он дрожит.
— Ты должен привести помощь! — прокричал я.
— Я не брошу тебя, Джонни, — я почувствовал на лице его дыхание.
— Питер, если ты цел, ты должен выбраться отсюда и позвать Дональда Шеймуса. У меня сломана рука.
Но он только крепче уцепился за меня, дрожа и всхлипывая. Я откинул голову на скалу и закрыл глаза.
Когда я снова их открыл, серый свет раннего утра уже проник в провал. Питер свернулся на камнях рядом со мной; он не шевелился. Я испугался и начал звать на помощь. Это было глупо. Как будто кто-то мог меня услышать! Я охрип и почти сдался, когда в пятнадцати футах над нами появился силуэт, и знакомый голос произнес:
— Святая Мария, Матерь Божья! Что вы тут делаете, мальчики?
Это был наш сосед, Родрик Макинтайр. Позже я узнал: после бури он обнаружил, что у него пропали овцы, и спустился к скалам искать их. Если бы не эта сказочная удача, мы с братом могли умереть. Впрочем, за жизнь Питера я все еще боялся. С тех пор, как я пришел в себя, он не пошевелился.
Все мужчины, которые не вышли в море ловить рыбу, собрались на скалах. Одного спустили вниз на веревке, чтобы он помог затащить нас наверх. Буря уже кончилась, но ветер был все еще крепким. Я никогда не забуду лица Дональда Шеймуса в серо-желтом свете раннего утра, когда меня подняли к нему. Он не сказал ни слова, просто взял меня на руки и отнес к пирсу, где ждала лодка, чтобы отвезти нас в Лудаг. Питер все еще был без сознания. Кто-то из мужчин, плывущих с нами, сказал, что у него переохлаждение. «Гипотермия, — подтвердил другой голос. — Счастье будет, если он выживет». Меня тогда страшно мучила совесть. Ничего бы не случилось, если бы я не побежал встречаться с Кейт. Как я посмотрю матери в глаза в загробном мире, если с братом что-то случится? Я же обещал ей!
Следующие несколько дней я помню смутно. Знаю, что в Лудаге нас положили в фургон Дональда Шеймуса и отвезли в деревенскую больницу Пресвятого Сердца в Далибурге. Видимо, я тоже переохладился, потому что не запомнил даже, как на руку мне накладывали гипс. Тяжелый, белый, он тянулся от запястья до локтя. Снизу из него выглядывали только пальцы. Помню, как надо мной склонялись монахини. В своих глухих черных платьях и белых камилавках они были похожи на вестниц смерти, и я их боялся. Еще я помню, что много потел. Мне было жарко, а потом — сразу холодно, и я бредил.
Снаружи было темно, когда я наконец пришел в себя. Я не знал, один день прошел или целых два. У моей кровати горела лампа. Было так странно снова видеть электрический свет! Как будто я вернулся в свою прежнюю жизнь. Я лежал в палате на шесть человек. Пара коек были заняты, но Питера в палате не было. У меня появилось дурное предчувствие. Где же он? Я вылез из кровати. Ноги мои дрожали и все время норовили отказать. Босиком по холодному линолеуму я направился к двери. За ней был короткий коридор, в него из другой открытой двери лился яркий свет. Я слышал тихие голоса монахинь и еще мужской голос, наверное, врача.
— Сегодня — ночь кризиса, — сказал он. — Если он переживет ее, то пойдет на поправку. Но ситуация тяжелая. Ну, хоть молодость на его стороне.
Я в каком-то трансе прошел по этому коридору и обнаружил себя перед открытой дверью. Три головы повернулись ко мне. Одна из монахинь немедленно вскочила, подошла ко мне и взяла за плечи:
— А почему вы не в постели, молодой человек?
— Где Питер? — спросил я. Все трое обменялись взглядами. Врач, человек за пятьдесят в темном костюме, сказал:
— У твоего брата пневмония.
Тогда мне это ни о чем не говорило. Но по поведению врача я понял, что дело серьезное.
— Где он?
— В особой палате дальше по коридору. Ты сможешь пойти к нему завтра утром.
Но я уже слышал, что сказал врач: завтра может и не быть. Меня затошнило от страха.
— Идем-ка. Тебе надо лечь в постель, — монахиня, державшая меня за плечи, вывела меня в коридор и помогла дойти до палаты. Уложив меня, она велела мне не беспокоиться и постараться заснуть. Потом выключила свет и выплыла в коридор, окруженная шелестом юбок.
В темноте я услышал мужской голос со стороны одной из коек:
— Пневмония убивает, сынок. Помолись за своего младшего брата.
Я долго лежал, слушая стук собственного сердца и биение крови в ушах. Наконец по тихому храпу я понял, что все прочие пациенты заснули. Только я не мог уснуть в эту ночь. Я лежал и ждал. Свет в коридоре притушили, и на маленькую деревенскую больницу опустилась тишина. Я набрался храбрости, вылез из постели и снова дошел до двери. Приоткрыл ее и выглянул в коридор. Из-под закрытой двери в комнату монахинь пробивался свет. Дальше виднелась еще одна дверь в освещенную комнату, тоже закрытая. Я тихо вышел в коридор, прокрался мимо двери сестринской. Вскоре я оказался возле второй двери и очень осторожно повернул ручку.
Свет в этой палате тоже был приглушен. Он был странный — желто-оранжевый, теплый, почти как солнечный. Внутри было очень жарко. Там стояла единственная кровать, рядом с ней — какое-то электрическое оборудование. Кабели и трубки тянулись по одеялу к телу Питера, лежащего на животе. Я закрыл дверь и подошел к нему. Мой брат выглядел ужасно — кожа белее белого и блестит от пота, под глазами черные тени. Рот его был открыт; я видел, что укрывавшие его простыни промокли насквозь. Я коснулся лба Питера пальцами и чуть не отдернул руку. Он был неестественно горячим, обжигающим. Глаза брата двигались под веками, дыхание было поверхностным и быстрым.
На меня навалилось ужасное чувство вины. Я пододвинул стул к кровати Питера, сел на край сиденья, взял брата за руку и сжал ее. Если б я мог отдать за него жизнь, я бы сделал это.
Не знаю, как долго я там просидел. Вероятно, несколько часов. В какой-то момент я заснул, и меня разбудила одна из монашек. Она взяла меня за руку и отвела обратно в палату, не упрекнув меня ни словом. Я лег и подремал, время от времени просыпаясь. Мне снились странные сны о буре и сексе. Наконец из-под занавесок начал просачиваться утренний свет — на линолеум легли яркие прямоугольники солнца. Открылась дверь палаты, и монахини вкатили тележку с завтраком. Одна из них помогла мне сесть и сказала:
— Твоему брату лучше. Ночью у него упала температура, теперь он выздоравливает. После завтрака можешь сходить к нему.
Я быстро проглотил овсянку, тосты и чай и побежал к Питеру. Он все еще лежал на животе. Но на лице появился румянец, а тени под глазами уменьшились. Я пододвинул к кровати стул и сел. Брат повернулся ко мне и слабо улыбнулся. Он был по-настоящему рад меня видеть. А я боялся, что он никогда не простит меня.
— Прости, Джонни, — сказал Питер.
У меня защипало глаза.
— За что, Питер? Тебе не за что извиняться.
— Это я во всем виноват.
Я покачал головой:
— Ты ни в чем не виноват. Если кто и виноват, то это я.
Мой брат улыбнулся:
— Всю ночь со мной сидела какая-то женщина.
— Нет, — засмеялся я. — Это был я, Питер.
Он покачал головой:
— Нет, Джонни. Это точно была женщина. Она сидела вот на этом стуле.
— Значит, это была монашка.
— Нет, не монашка! Я не разглядел ее лица, но на ней был короткий зеленый жакет и черная юбка. Она всю ночь держала меня за руку.
Я уже тогда знал, что жар может вызывать видения и бред. Больные видят то, чего на самом деле нет. За руку Питера держал я, и, конечно, в палату заходили монашки. Видимо, все это смешалось у него в голове.
— У нее были красивые руки. Такие длинные белые пальцы! И она замужем, так что это точно не монашка.
— Откуда ты знаешь, что замужем?
— У нее на безымянном пальце кольцо. Я таких никогда не видел! Серебряное, в виде перекрученных змей.
В этот момент у меня волосы встали дыбом. Питер не знал, что мама отдала мне кольцо. Не знал, что в Дине я прятал его в мешке, стоявшем в ногах кровати, внутри носка. Не знал, что мистер Андерсон отправил его в печь вместе с другими нашими пожитками. Вполне возможно, у Питера остались детские воспоминания о кольце, которое он видел на руке матери. Но я уверен: то, что он видел в ту ночь, был не бред и не картины из детства. Это наша мать сидела с ним в критические часы его пневмонии. Она пришла с той стороны могилы и помогла ему выжить. Встала рядом, когда я оказался бессилен выполнить свое обещание — присматривать за братом.
И чувство вины за это я пронес через всю жизнь.
Через несколько дней нас отпустили домой. Конечно, моя рука была все еще в гипсе. Я боялся возвращения, боялся того, какое наказание подготовил для нас Дональд Шеймус. Я хорошо помнил его выражение лица, когда нас вытаскивали из провала.
Он приехал к больнице Пресвятого Сердца, открыл боковую дверь фургона. Мы забрались внутрь. Двадцать минут до Лудага мы ехали в полном молчании. На пароме Нил Кэмпбелл спросил про нас, и они с Дональдом Шеймусом обменялись парой фраз. С нами он по-прежнему не говорил. Когда мы сошли на пристани Хаунн, я увидел, что Кейт наблюдает за нами от фермы О’Хенли. Маленькая фигурка в синем выделялась на склоне холма. Она помахала мне, но я не решился махать в ответ.
Дональд Шеймус привел нас на ферму. Мэри-Энн ждала нас дома. На плите готовился ужин, и кухню заполняли запахи вкусной еды. Сестра Дональда Шеймуса повернулась, когда мы вошли, и внимательно на нас посмотрела. Она тоже ничего не стала говорить, а просто повернулась к своим кастрюлям.
Первые слова, которые прозвучали, были благодарственной молитвой за еду, что у нас на тарелках. А после этого Мэри-Энн устроила нам настоящий пир. Я тогда еще не очень хорошо знал Библию, но все же вспомнил историю блудного сына. Вспомнил и то, как встретил его отец — как будто ничего не случилось. Мы ели горячий, густой овощной суп, а потом вытерли тарелки кусками хлеба, оторванными от свежеиспеченной буханки. Потом было тушеное мясо и вареная картошка, а на десерт — хлебный пудинг. По-моему, я никогда так не наслаждался едой.
После ужина я надел рабочий комбинезон и резиновые сапоги и вышел покормить животных, кур и пони. Это не так-то просто сделать, когда левая рука в гипсе! Но я был очень рад, что вернулся. И возможно, впервые за полтора года я почувствовал себя здесь как дома. Итак, я прошелся по ферме в поисках Мораг. Я был уверен, что она скучала без меня; а еще в глубине души я боялся, что она забыла меня в мое отсутствие. Но моей любимой овечки нигде не было, и после получаса поисков я вернулся в дом. Дональд Шеймус сидел в своем кресле у огня и курил трубку. Он обернулся, когда дверь открылась.
— А где Мораг? — спросил я.
В его глазах появилось какое-то скучающее выражение.
— Ты ее только что съел, сынок.
Я постарался не показать нашему хозяину, как меня задела его жестокость. И никто не узнал о том, сколько слез я пролил этой ночью. Но на этом мои мучения не закончились.
На следующий день Дональд Шеймус отвел меня в сарай, где резали овец. Не знаю, что такого было в этом крытом ржавой жестью домике, но стоило войти туда, и ты сразу понимал — здесь царит смерть. Я никогда раньше не видел, как режут овец. Дональд Шеймус решил, что мне пора в этом поучаствовать. «Животных мы едим, — говорил он. — Их нельзя любить». Он затащил в сарай молодую овцу и взял ее так, чтобы она стояла на задних ногах. Мне он велел держать ее за рога, потом поставил под овцу ведро и достал длинный острый нож. Он блеснул в свете, падавшем из крошечного окна. Одним быстрым движением он перерезал крупную артерию на шее овцы, и кровь из нее хлынула в ведро. Я думал, что животное будет бороться за жизнь. На самом деле овца сдалась почти мгновенно. Ее большие глаза безнадежно смотрели на меня, пока вся ее кровь не вылилась и свет в глазах не потух.
Точно так же Питер смотрел на меня в ту ночь на Пляже Чарли, когда ему перерезали горло.
Парень сидит и смотрит на меня, как будто ждет чего-то. В его глазах я вижу себя. Это так странно! Я протягиваю руку, беру его ладонь в свои. Проклятые слезы! Из-за них ничего не видно. Я чувствую, как он сжимает мою руку. И вся моя жизнь, от начала до конца, кажется мне безнадежной и темной.
— Мне жаль, Питер, — говорю я. — Мне так жаль.
Глава двадцать шестая
Старое кладбище за покрытыми лишайником стенами было переполнено. Выше по холму, по направлению к церкви, на махере уже образовалось новое кладбище. Фин припарковал машину и прошелся между могильными камнями. Смерть, даже на таком маленьком острове, очень многолюдна. На острове, лишенном деревьев, из земли поднимался целый лес крестов. Как много людей перешло в мир иной! И все покоились в тени церкви, в которой когда-то молились. Церкви, построенной на деньги рыбаков; церкви, в которой алтарем служит корпус лодки.
По другую сторону кладбищенского забора стоял современный одноэтажный домик с зимним садом, обращенным в сторону залива. Дом был не жилой: красная доска на торцевой стене и овальный знак на стене у пандуса, ведущего к боковой двери, извещали всех, что здесь находится паб под названием «Политишен». Как удобно для мертвецов, подумал Фин: как раз по дороге от церкви к кладбищу. А безутешные родственники уж точно заливают здесь горе.
На парковке обнаружился розовый «мерседес»-кабриолет. Йоркширский терьер залаял на Фина, когда тот проходил мимо. В пабе было тихо: вечер еще не наступил, над стаканами и кружками сидело всего несколько человек. Фин заказал пиво у словоохотливой молодой женщины за стойкой. Она с готовностью рассказала, что паб назвали в честь корабля «Политишен», который затонул в Заливе Эрискея на пути к Карибским островам во время войны.
— Конечно, — добавила девушка, — все, кто читал «Виски в изобилии» Комптона Маккензи, знают, что его груз включал двадцать восемь тысяч бутылок отличного виски. Жители острова полгода «спасали» эти бутылки и прятали их от акцизных чиновников.
И она показала три бутылки, якобы бывшие на том самом корабле. Внутри еще плескался виски. Фин задумался о том, сколько посетителей выслушало эту историю. Он отпил пиво и решил сменить тему.
— А пляж на западном побережье острова, за кладбищем…
— И что с ним?
— Почему его называют «Пляж Чарли»?
Девушка за стойкой пожала плечами:
— Никогда такого не слышала. — Она окликнула женщину средних лет, которая сидела в зимнем саду с видом на залив и потягивала джин с тоником: — Мораг, ты слышала, чтобы наш пляж называли «Пляж Чарли»?
Мораг обернулась. Фин сразу понял, что в молодости она отличалась необыкновенной красотой. У нее были сильные черты лица и гладкая загорелая кожа, а на голове — копна густых осветленных волос. На вид ей можно было дать лет пятьдесят, но бывший полицейский видел: на самом деле ей ближе к семидесяти. На обоих ее запястьях звенели золотые и серебряные браслеты, пальцы были унизаны кольцами. Дама попивала джин с тоником, держа бокал в тонкой руке с ярко-розовыми ногтями. На ней был узорчатый жакет-болеро, белая блузка и многослойная синяя юбка. В общем, Мораг не из тех людей, кого ожидаешь встретить в провинциальном пабе.
— Понятия не имею, а гра, — ответила дама с блаженной улыбкой. Говорила она по-английски, но использовала гэльское обращение. — Но можно предположить, что пляж называют так из-за того, что там французский фрегат из Тейе высадил красавчика Принца Чарли и Семь человек из Мойдарта. Потом они отправились собирать армию против англичан. Это было так называемое Якобинское восстание тысяча семьсот сорок пятого года.
— Я этого не знала, — сказала девушка за стойкой.
Мораг покачала головой.
— Вас теперь ничему путному не учат в школе. Говорят, Чарли укрывался в бухте здесь неподалеку. Бухта называется Коллег а’Фреонса, то есть «убежище принца». — Она обратила на Фина взгляд глубоких карих глаз. — А кто интересуется?
Бывший полицейский поднял стакан, перешел в зимний сад и пожал Мораг руку.
— Я Фин Маклауд. Пытаюсь разыскать семью, которая жила на ферме ниже вашего дома.
Она подняла брови в удивлении:
— Значит, вы знаете, кто я?
Фин улыбнулся.
— Не знал, пока не приехал на остров. Но мне очень быстро рассказали. Сейчас я выскажу предположение, и оно никак не связано с розовым «мерседесом» на парковке. Вы киноактриса Мораг Мак-Эван.
Она засияла.
— Все верно, а гра! Тебе надо было идти в полицию.
— Я там работал, — Фин усмехнулся. — Вообще-то я должен был видеть вас по телевизору.
— Не все люди смотрят сериалы, — Мораг пригубила свой джин-тоник. — А ты, значит, работал в полиции?
— Сейчас я просто частное лицо.
— Знаешь, а гра, я росла здесь в те времена, когда на фермах еще жили люди. Если кто-то и знает то, что тебе нужно, так это я, — она допила свой коктейль и начала подниматься. Внезапно она схватила Фина за руку, чтобы удержаться на ногах. — Проклятый ревматизм! Поедем ко мне, Фин Маклауд, бывший полицейский. Пропустим стаканчик-другой, пока я буду рассказывать. — Она придвинулась к нему, как будто чтобы посекретничать, но голос ее оставался громче сценического шепота: — У меня выпивка дешевле.
Выйдя из паба, Мораг сказала:
— Оставь машину здесь. Поедем на моей. Ты всегда сможешь вернуться пешком. — Внутри розового «мерседеса» ее громко приветствовал йоркширский терьер. Фин начал садиться в машину, и Мораг произнесла: — Это Дино. Дино, это Фин.
Собачка посмотрела на него, потом запрыгнула на колени хозяйке. Та завела мотор и опустила крышу.
— Ему нравится, когда ветер в лицо. В те редкие дни, когда у нас солнце, сам Бог велел ездить с опущенной крышей. Ты согласен?
— Абсолютно.
Мораг зажгла сигарету.
— Проклятые законы! Покурить за стаканчиком чего-нибудь теперь можно только дома, — она глубоко втянула дым, потом с удовольствием выдохнула. — Вот так-то лучше!
Она включила первую передачу, и машина запрыгала по парковке в сторону выезда. Мораг чуть не задела столб, когда поворачивала на дорогу, ведущую к холму. Дино уцепился за ее правую руку, высунул морду в открытое окно. Мораг одновременно курила и переключала передачи. Они быстро миновали начальную школу и дорогу к церкви. Фин ухватился за сиденье обеими руками и крепко держался. Руки его болели от напряжения. Мораг ничего не замечала. Каждый раз, переключая передачи, она виляла влево, а иногда — вправо. Встречный ветер уносил сигаретный дым и пепел.
— Когда я сообщила дилерам «Мерседеса», какой цвет машины я хочу, они сказали, что в розовом их не делают. «Ну придумайте что-нибудь!» — попросила я. Показала им свои ногти и оставила баночку лака, чтобы они могли подобрать цвет. Когда машину привезли, я сказала: «Ну вот видите! Все возможно».
Она рассмеялась. Фин очень хотел, чтобы во время разговора она смотрела на дорогу, а не на него. Машина поднялась на холм, затем покатила вниз, к бухте и Хаунну. В последний момент Мораг свернула направо, объехала небольшую бухту и въехала на новую подъездную дорогу к своему дому. Колеса прогремели по защитной решетке, потом зашуршали на гравии со включениями цветных стеклянных бусин.
— Ночью, когда я включаю свет, они блестят, — сообщила хозяйка. — Получается, что идешь по кусочкам света.
Ступени на веранду охраняли гипсовые статуи обнаженных женщин. В саду обнаружилась скульптура оленя в полный рост, а на камнях у маленького пруда сидела бронзовая русалка. Фин заметил на заборе трубки неонового освещения. В саду, среди вереска и нескольких цветущих кустов, выживших на здешнем ветру, лежала терракотовая плитка. По всей террасе висели пластинки «музыки ветра», и воздух был наполнен стуком бамбука о сталь.
— Ну, заходи.
Вслед за Мораг и Дино Фин прошел в холл. Широкую лестницу на второй этаж застилал толстый клетчатый ковер. На стенах висели изображения «Мэйфлауэра»,[20] Мадонны, парусных кораблей и святых. На греческих колоннах стояли дешевые украшения. Серебряный гепард, отлитый в полный рост, потягивался у входа в гостиную с баром. В этой комнате с обеих сторон были панорамные окна, а на веранду выходили стеклянные двухстворчатые двери. Все доступные поверхности — полки, столы, барная стойка — были заняты фарфоровыми статуэтками, зеркальными коробочками, лампами и львами. Плиточный пол отполирован до зеркального блеска.
Мораг сбросила жакет на кожаное кресло и скользнула за барную стойку.
— Пиво? Виски? Что-нибудь поинтереснее?
— Пиво, пожалуйста, — в пабе Фин успел выпить меньше половины пинты. Он взял свой стакан с пенной жидкостью и через нагромождение предметов прошел к стеклянной двери. Оттуда открывался вид на залив и Южный Уист. Прямо под домом находилась маленькая бухта с каменным причалом. Отсюда ходил корабль до Лудага в те времена, когда не было автомобильных паромов и хороших дорог.
— Вы здесь родились?
— Нет. Но росла уже здесь.
Фин обернулся и увидел, как Мораг отпила из бокала джина с тоником. Лед стукнул о стенки бокала, как пластинки «музыки ветра».
— И как девушка с Эрискея стала известной актрисой?
Она громко рассмеялась:
— Ну, не знаю, как насчет известной. Но первое, что должна сделать девушка с Эрискея, чтобы стать кем-то еще, — это уехать с Эрискея.
— И сколько вам было, когда вы уехали?
— Семнадцать. Я училась в Королевской Академии музыки и драмы Шотландии в Глазго. Всегда хотела быть актрисой. С того дня, как в церковном зале показали фильм про Эрискей. Это был документальный фильм, его снял какой-то немец в тридцатые годы. Было что-то волшебное в том, что на большом экране показывали людей! Как будто они теперь стали бессмертны. Я тоже так хотела, — Мораг тихо фыркнула, вышла из-за барной стойки и расположилась на диване. Дино немедленно запрыгнул к ней на колени. — Я так разволновалась, когда учитель, который жил у нас на острове, сообщил детям, что будет дома показывать фильмы! У нас как раз недавно провели электричество. Мы все набились в его маленькую гостиную. Учитель взял с каждого по пенни, а потом показывал слайды, которые сделал, когда был в отпуске в Инвернессе. Представляете? — она заразительно рассмеялась. Дино поднял голову и два раза гавкнул.
Фин улыбнулся и спросил:
— Вы приезжали сюда в гости?
Мораг яростно затрясла головой.
— Никогда! Я много лет работала в театрах Глазго и Эдинбурга. Мы давали представления по всей Шотландии. Потом Роберт Лав предложил мне первую роль на Телевидении Шотландии, и этот мир захватил меня. Я поехала в Лондон, ходила на кастинги, получила несколько ролей. Работала официанткой в промежутках между ними. Все было нормально, но как-то средне, без больших успехов, — она снова отпила из бокала, помолчала. — А потом мне предложили роль в сериале «Улица». Успех пришел ко мне поздно, зато я буквально проснулась знаменитой. Не знаю, как так вышло. Моя героиня всем понравилась! — Мораг хихикнула. — И меня действительно знали по всей стране. Двадцать лет славы и прекрасных заработков — и вот я смогла купить этот дом, — она обвела рукой свое царство. — Отличный выход на пенсию!
Фин задумчиво посмотрел на нее.
— А почему вы вернулись?
— Ты же сам с островов, да?
— Да. С Льюиса.
— Тогда ты поймешь, почему. Есть в островах что-то такое, а гра, что притягивает нас. Мы всегда возвращаемся. Я уже и место себе купила на местном кладбище.
— Вы были замужем, Мораг?
Ее улыбка стала грустной.
— Я любила, но замуж не вышла.
Фин повернулся к окнам, смотревшим на холм.
— Значит, вы знали людей, которые жили на ферме под холмом?
— Да, знала. Когда я была ребенком, там жила старая вдова О’Хенли. А с ней — девушка по имени Кейт, мы с ней были в одном классе. «Сиротка».
Фин нахмурился.
— Сиротка? В каком смысле?
— Ребенок из сиротского приюта, а гра. Их сотнями забирали из приютов местные советы или католическая церковь. Отправляли сюда, на острова, и отдавали незнакомым людям. Никакого контроля за этим не было. Дети приплывали на пароме в Лохбосдейл и стояли на пирсе с табличками, на которых были фамилии. За ними приезжали новые хозяева. Там, на холме, начальная школа. В ней было полно «сироток». В какой-то момент — почти сотня.
Фин был потрясен.
— Я не знал.
Мораг закурила и продолжала говорить.
— Это продолжалось до шестидесятых годов. Однажды я слышала от священника, что после столетий родственных браков хорошо иметь на островах свежую кровь. Думаю, ради этого все и делалось. Кстати, не все дети были сиротами. Некоторые — из неполных семей. Но пути назад им не было. Если уж тебя сюда отправили, о прошлом ты мог забыть. Контакты с родителями и родными исключались. Бедные «сиротки»! Некоторых здесь обижали — били или еще что похуже. Большинство использовали как рабочую силу. Некоторым повезло больше — таким, как я.
Фин поднял бровь:
— Вы тоже «сиротка»?
— Да, мистер Маклауд. Я жила у семьи Парксов на другой стороне острова. Конечно, они давно умерли. Своих детей у них не было, так что у меня остались счастливые воспоминания об острове. Поэтому мне было не сложно вернуться, — стакан Мораг опустел. — Мне надо еще выпить. Ты будешь?
— Нет, спасибо, — Фин едва пригубил свое пиво.
Мораг сняла Дино с колен, осторожно поднялась с дивана и пошла к бару.
— Конечно, детям доставалось не только от местных. Были и приезжие, в основном англичане. Например, директор школы в Далибурге, — она улыбнулась. — Он решил, что должен принести нам цивилизацию, а гра. И запретил обычай гиллен кулаг.
— А что это?
— Мы называем этот обычай «Хогманай». В канун Нового года мальчики группами ходят от дома к дому и в каждом читают стихи. За это им дают хлеб, булочки, пироги и фрукты. Все это кладут в мешки для муки, которые мальчики носят с собой. Этому обычаю несколько сот лет. Но мистер Бидгуд решил, что это пахнет попрошайничеством. И запретил своим ученикам участвовать в этом.
— И все послушались?
— Большинство — да. Но в моем классе был один мальчик, Дональд Джон… Тоже «сиротка». Он жил у семьи Джиллисов, это были брат и сестра. Их ферма была по ту сторону холма. Он нарушил запрет и пошел на Хогманай со старшими мальчиками. Когда мистер Бидгуд об этом узнал, он выпорол Джона кожаной плеткой.
Фин покачал головой:
— Он не имел права этого делать.
— В те времена учитель мог делать, что хотел. Но Дональд Шеймус… Ну, человек, у которого жил Дональд Джон… Он поступил не так, как все. Пошел в школу и надрал директору задницу, простите мой французский. В тот же день он забрал Дональда Джона из школы, и больше он туда не возвращался, — Мораг улыбнулась. — А мистер Бидгуд через месяц вернулся в Англию с поджатым хвостом. Да, у нас была интересная жизнь.
Фин осмотрелся и подумал, что у его хозяйки и сейчас интересная жизнь.
— А вы не знаете, что случилось с Кейт?
Мораг пожала плечами и отпила из своего бокала.
— Боюсь, что нет, а гра. Она покинула остров незадолго до меня и, насколько я знаю, не возвращалась.
Еще один тупик.
Когда Фин собрался уходить, над западной бухтой уже висели черные тучи. Ветер усилился, иногда срывались капли дождя. Где-то далеко к западу, за тучами, солнце проливало на океан жидкое золото своих лучей. Приближался закат.
— Давай я отвезу тебя через холм, а гра. Похоже, сейчас начнется ливень. Только открою ворота гаража, чтобы можно было сразу заехать на обратном пути.
Мораг ввела код на маленьком пульте на стене возле двери. Та начала медленно подниматься и сложилась под крышей. Садясь в машину, Фин заметил в углу гаража старую прялку.
— А вы не прядете шерсть? — спросил он.
Мораг рассмеялась.
— О боже, нет! Никогда не пряла и прясть не буду.
Она села в машину, закрыла дверь. Крышу на этот раз поднимать не стала. Дино запрыгнул ей на колени. Он тыкался мокрым носом в стекло, сопел и тявкал, пока его хозяйка не опустила окно. Тогда он занял привычное место на ее правой руке, подставив морду свежему ветру.
Уже по дороге Мораг решила уточнить:
— Это старая прялка, хочу ее отреставрировать. Она будет отлично смотреться в столовой. Воспоминание о былых временах. Когда я была девочкой, почти все женщины пряли шерсть. Ее промасливали и делали из нее одеяла, носки и свитера для мужчин. В те времена почти все они были рыбаками, выходили в море пять дней в неделю. Свитера из эрискейской промасленной шерсти совсем не пропускали воду. Их носили все мужчины.
В конце подъездной дороги она решила закурить и едва не врезалась в столб.
— У всех женщин был собственный узор. Его обычно передавали от матери к дочери. Узоры так отличались, что тело рыбака почти всегда можно было опознать по свитеру. Даже если его труп вытащили из моря через много-много дней. Узоры были надежны, как отпечатки пальцев.
Мораг помахала старику с собакой, с которым Фин разговаривал в тот день. Машина едва не сорвалась в канаву; впрочем, женщина ничего не заметила.
— У нас на острове живет старик-священник, он увлекается историей, — она рассмеялась. — Ему с его обетами больше нечего делать долгими зимними вечерами, — и Мораг хитро улыбнулась Фину. — В общем, он хорошо разбирается в эрискейских вязаных узорах. Говорят, у него коллекция фотографий и рисунков — примеры узоров больше чем за сто лет.
Они пересекли вершину холма. Мораг с интересом посмотрела на спутника:
— Вы мало говорите, мистер Маклауд.
Фин подумал, что вставить хоть слово было бы очень трудно.
— Мне больше нравится вас слушать, Мораг, — только и сказал он.
Прошла еще минута.
— А почему вы заинтересовались семьей, которая жила на ферме О’Хенли?
— На самом деле мне нужна не миссис О’Хенли. Я пытаюсь найти человека, который сейчас живет на Льюисе. Я думаю, он приехал туда с Эрискея.
— Может быть, я его знаю. Как его имя?
— По имени вы его точно не узнаете. Он называет себя Тормод Макдональд, но это не его настоящее имя.
— А какое настоящее?
— Это и я хотел бы знать.
Дождь начался, когда Фин ехал на север от Лудага. Ветер нес воду из открытого моря на запад. Первые капли были крупными и редкими, но потом прибыло подкрепление. Пришлось включать дворники на максимальную скорость. У Далибурга Фин свернул на дорогу к Лохбосдейлу. Он думал о том, что рассказ Мораг о вязаных узорах Эрискея — его последний шанс установить личность отца Маршели. И успех здесь не очень вероятен.
Отель «Лохбосдейл» стоял на холме над гаванью, с подветренной стороны от горы Бен Кеннет, или по-гэльски Бейн Руи Койньях. Это было старое здание с белеными стенами, традиционной постройки, но пристройки оказались новыми. Из ресторана открывался вид на бухту. В темном холле гостиницы девушка в клетчатой юбке вручила Фину ключ от одноместного номера. Она подтвердила, что в гостинице есть факс. Фин записал его номер и поднялся по лестнице в свой номер. Из мансардного окна был виден пирс. Смеркалось; за завесой дождя появился паром «Калмак» из Обана. Его легко было узнать по характерным двойным трубам. Паром подошел к пристани, открылись двери автомобильного отсека. Крошечные фигурки в желтых комбинезонах, несмотря на погоду, регулировали движение машин. Фин подумал, каково было бедным, испуганным детям, которых лишили знакомой жизни и бросили здесь на пирсе. Он почувствовал гнев на людей, чья политика и религия позволяли вершить такие дела. Кто знал о «сиротках», кроме них и их хозяев? Почему об этом не писали в газетах? В наше время точно написали бы. Как бы вели себя люди, если бы знали обо всем? Фин был уверен: его родители были бы в ярости. Сам он чувствовал гнев и боль, гнев родителя и боль сироты. Ему было пугающе легко понять, каково пришлось «сироткам». Очень хотелось сорвать свой гнев на чем-то — или на ком-то. Капли дождя текли по стеклу, словно слезы по всем заблудшим душам.
Наступили сумерки. Фин присел на край кровати, включил лампу, и на него навалилась тоска. Он нашел домашний телефон Джорджа Ганна в адресной книге своего мобильного телефона и нажал кнопку вызова. Трубку взяла жена Ганна. Фин вспомнил, что Джордж несколько раз приглашал его в гости, отведать дикого лосося. Он так и не побывал у них.
— Здравствуйте, миссис Ганн. Это Фин Маклауд. А Джордж дома?
— Здравствуйте, мистер Маклауд! — она говорила так непринужденно, как будто они давние друзья. — Минутку, я его сейчас позову.
Вскоре он услышал голос Ганна:
— А вы где, мистер Маклауд?
— В Лохбосдейле, Джордж.
В голосе сержанта послышалось удивление:
— Простите, а что вы там делаете?
— Я практически уверен, что отец Маршели — с Эрискея. И я думаю, что есть способ установить его личность. Но мне придется пойти ва-банк, Джордж, и мне нужна твоя помощь.
Сержант некоторое время молчал.
— Какая помощь?
— Кто-нибудь зарисовал следы одеяла, отпечатавшиеся на синюшных участках тела?
Ганн удивился еще больше:
— Ну да. Как раз с утра художник приходил, — он помолчал. — Расскажете, в чем дело?
— Я расскажу. Как только сам узнаю все, что нужно.
Полицейский тяжело вздохнул:
— Вы испытываете мое терпение, мистер Маклауд, — он снова помолчал. — Что вы хотите попросить?
— Пришли мне эти рисунки по факсу в отель «Лохбосдейл».
Глава двадцать седьмая
Проклятая темнота! Здесь всегда темно. Мне что-то снилось… Что-то очень знакомое. Только я уже не помню, что это было. В общем, оно меня разбудило.
Сколько сейчас времени? Хм. Наверное, Мэри убрала часы с тумбочки. Но уже наверняка пора идти на дойку. Надеюсь, дождь кончился? Я открываю занавеску и вижу, как он стекает по стеклу. Проклятье!
Одеваюсь я довольно быстро. Вот, на стуле лежит моя старая шляпа. Она со мной уже много лет! Держит мою голову в тепле и сухости в любую погоду. Ее даже несколько раз сдувало с меня!
В холле горит свет, но Мэри не видно. Может, она на кухне, готовит мне завтрак? Я посижу за столом, подожду. Не помню, что у нас было вчера на ужин, но сейчас я голоден.
О боже! Внезапно я вспоминаю свой сон. Я гулял по какому-то пляжу с молодым человеком. Он протянул мне маленький медальон на цепочке, размером с монетку. Я хорошенько размахнулся и выбросил его в океан. И только когда медальон упал в воду, я понял, что на нем было. Святой Христофор! Мне подарила его Кейт. Я ясно это помню. Только тогда было темно, и я был в ужасном состоянии.
На пирсе в Лудаге стоял фургон Дональда Шеймуса, а в его кузове лежал Питер, завернутый в старое тканое покрывало. Он был мертв, весь в крови. Я едва держал себя в руках. Мы перевезли тело через залив в маленькой весельной лодке, которую Дональд Шеймус держал в бухте. Ночь была просто ужасная. Ветер обрушился на нас, как гнев Господень, и в его реве я слышал упреки своей матери. Слава Богу, на нашей стороне бухты в окнах домов горели огни. Иначе мы бы не справились. Было темным-темно, и лодку бросало на волнах из стороны в сторону. Иногда было трудно даже опускать весла в воду, чтобы грести дальше.
Лодка была привязана у края пирса. В темноте она высоко подпрыгивала на волнах. Я понимал, что обратно Кейт придется плыть одной. Я видел: она не хочет меня отпускать. Никогда не забуду, как она смотрела на меня. Кейт поднялась на цыпочки, схватила меня за воротник обеими руками.
— Не уезжай, Джонни!
— Я должен.
— Нет! Мы можем объяснить, что случилось.
Но я покачал головой.
— Нет, не можем, — я крепко схватил ее за плечи. — Ты никому не должна говорить, Кейт. Никогда. Обещай мне! — Она промолчала. Я потряс ее за плечи. — Обещай!
Она отвела глаза, уставилась в землю.
— Обещаю.
Ветер унес ее слова, как только она их произнесла. Я обнял Кейт так крепко, что мог бы, наверное, что-то ей сломать.
— Это никому нельзя объяснить, — сказал я. — И я должен еще кое-что сделать.
Я нарушил данное матери слово. Я знал, что не смогу жить дальше, пока не исправлю хоть что-нибудь. Если, конечно, что-то тут можно исправить.
Кейт посмотрела на меня. Я увидел страх в ее глазах.
— Забудь об этом, Джонни. Просто забудь.
Но я не мог забыть, и она это знала. Кейт высвободилась из моих объятий, завела руки за голову и расстегнула цепочку медальона Святого Христофора. Она протянула его мне, цепочка закрутилась на ветру.
— Я хочу, чтобы ты это взял.
Я затряс головой:
— Не могу. Он у тебя все время, что я тебя знаю.
— Бери! — когда Кейт что-то говорит таким тоном, спорить с ней невозможно. — Он будет охранять тебя, Джонни. Каждый раз, как ты посмотришь на медальон, думай обо мне. Вспоминай меня.
Я неохотно взял медальон, крепко сжал в руке. Вот частичка Кейт, которая будет со мной всю жизнь. Она подняла руку, коснулась моего лица, как тогда, в самый первый раз. Потом поцеловала меня. Такой сладкий поцелуй, полный любви и горя.
Больше я никогда не видел Кейт. Я женился, стал отцом двух замечательных дочерей, но больше я никогда никого не любил.
Боже, боже! Почему я выбросил медальон в море? Что на меня нашло?!. Мне это приснилось — или было на самом деле? Зачем, зачем я так поступил? Бедняжка Кейт! Я потерял ее навсегда.
Зажигается яркий свет. И я начинаю моргать. Какая-то женщина смотрит на меня так, будто у меня две головы.
— Почему вы сидите в темноте, мистер Макдональд? Да еще и в уличной одежде!
— Пора доить коров, — отвечаю я. — Я жду, пока Мэри принесет мне завтрак.
— Для завтрака еще рано, мистер Макдональд. Давайте я помогу вам вернуться в кровать.
Зачем? Ведь я уже встал. А коровы ждать не будут!
Женщина берет меня под руку, помогает встать. Она смотрит мне в лицо, и я вижу: она чем-то озабочена.
— Мистер Макдональд… Вы плакали?
Правда? Я подношу руку к лицу и чувствую: оно все мокрое.
Глава двадцать восьмая
Дом священника стоял на холме над Пляжем Чарли, у поворота, где однополосная дорога уходила к Парксу и Акарсад Мор. Священник был иссохшим, морщинистым и сгорбленным — годы не пощадили его. Но у него сохранилась грива белых волос, а острые синие глаза светились умом. С крыльца старого дома священника открывался вид на Коллег а’Фреонса и новый волнорез, а за ними отлично был виден Залив Барры.
Фин приехал поздним утром и теперь стоял на крыльце, ожидая, пока хозяин ответит на стук. Каскады солнечного света играли на бирюзовой воде гавани, свежий ветер теребил брюки и куртку.
— Вряд ли есть лучшее место на Земле, чтобы провести свои последние годы.
Фин обернулся и увидел, что священник стоит рядом и смотрит на залив.
— Каждый день я вижу, как прибывает автомобильный паром с Барры. И все время обещаю себе, что в один прекрасный день сяду на него. Съезжу навестить старых друзей, пока они еще живы. Барра — красивый остров. Вы там были?
Фин покачал головой.
— Тогда вам надо туда съездить. Не берите пример с меня, ленивца этакого! Ладно, заходите.
Теперь священник склонялся над обеденным столом в гостиной. На нем были разложены рисунки, фотографии и раскрытые альбомы, а в них — вырезки, фотокопии и рукописные документы. Хозяин дома занялся делом сразу же после звонка Фина: не так уж часто ему выпадал шанс похвастаться своей коллекцией. Священник был одет в зеленый, застегнутый на все пуговицы кардиган и белую рубашку в тонкую коричневую клетку. Его серые фланелевые брюки собирались в складки над коричневыми шлепанцами. Фин заметил, что под ногтями у священника была грязь. Он явно не брился пару дней — тонкая серебристая щетина виднелась на дряблой коже лица.
— Джерси с Эрискея — один из самых редких традиционных промыслов Шотландии, — заметил священник.
Фин удивился:
— Его еще производят?
— Ну да, для Кооператива Эрискея. Сейчас этим занимается семь женщин. Раньше джерси делали только одного цвета — темно-синего. Сейчас можно найти и кремовый. На однотонной ткани лучше всего видны сложнейшие узоры.
Священник достал из стоявшего на полу пакета образец джерси и расправил на столе. Фин сразу понял, о чем он говорил. Узор был очень тонкий — ряды горизонтальных, вертикальных и диагональных выпуклостей. Некоторые имели форму ромбов, другие шли зигзагами. Старик легко провел пальцем по плотной синей шерсти.
— Для таких узоров используют очень тонкие спицы и плотные, легкие петли. Как видите, ткань соединяется без швов. Одежда получается теплой и водостойкой. На один свитер уходит примерно две недели.
— И у каждой семьи был свой узор?
— Все верно. Он переходил из поколения в поколение. Когда-то так было заведено по всем Гебридским островам, теперь — только на Эрискее. Здесь это искусство тоже вымрет, видимо. Молодежь не хочет его перенимать. Слишком долгая работа! А нынешние девушки хотят, чтобы все было прямо сегодня. Или даже вчера, — священник грустно покачал головой. — Я очень не хотел, чтобы это ремесло исчезло, не оставив следов.
— Скажите, у вас есть примеры всех семейных узоров на острове?
— Ну, почти всех. По крайней мере, за последние семьдесят лет. Хотите что-нибудь выпить? Возможно, немного виски?
Фин вежливо отказался.
— Для меня еще рановато.
— Для глоточка виски никогда не рано, мистер Маклауд. Я дожил до своих лет не потому, что пил молоко! — он ухмыльнулся и прошел к старой конторке с откидной крышкой. В ней обнаружилась целая коллекция бутылок. Священник выбрал одну и налил себе немного. — Вы точно не соблазнитесь?
Фин улыбнулся.
— Нет, спасибо.
Старик вернулся к столу, сделал крохотный глоток.
— У вас есть образец того, что вы ищете?
— Есть.
Фин достал из сумки факс от Ганна и положил его на стол, поверх ткани. Священник принялся рассматривать его.
— Да, это узор с Эрискея, — сказал он. — Где вы это взяли?
Бывший полицейский замялся.
— Это зарисовано с отпечатка, оставленного одеялом или ковриком. Чем-то вязаным.
Священник кивнул.
— Мне потребуется время, чтобы сравнить это с моими образцами. Раз от виски вы отказались, сделайте себе чаю, — он кивнул в сторону плиты. — Да, и присядьте к огню. Я бы предложил вам Библию, — тут он хитро улыбнулся, — но боюсь, для таких крепких вещей еще рановато.
Фин сидел у камина с кружкой сладкого черного чая и смотрел на пляж из маленького, заглубленного окна. Интуиция говорила ему, что перед ним место преступления. Именно здесь был убит молодой человек, тело которого вытащили из болота на Льюисе. Фин до сих пор не знал, как его звали. Но ему казалось, что ветер шепчет: он подошел уже близко к ответу.
— Мистер Маклауд?
Он обернулся к столу. Старик-священник улыбался.
— Я, кажется, нашел автора этой работы.
Фин встал, подошел к столу и сразу увидел старую черно-белую фотографию эрискейского джерси. Она была очень четкой; положив ее рядом с факсом Ганна, можно было провести прямое сравнение двух узоров. Священник указал все точки совпадений. Их был слишком много, чтобы оставались какие-то сомнения. Оба узора были сделаны одной рукой; можно сказать, они были идентичны.
Фин ткнул пальцем в факс:
— Но это был не свитер.
— Верно, — священник задумчиво покивал. — Я думаю, это было покрывало из сшитых вязаных квадратов. Очень теплое, кстати.
Он проследил пальцем прямой угол одного из квадратов. Фин подумал, что мертвецу тепло ни к чему.
— Вы так и не сказали, откуда у вас это.
— Боюсь, что пока я не имею права вам сказать.
Священник кивнул с привычным фатализмом человека, вся жизнь которого была построена на вере.
Фин больше не мог сдерживать любопытство.
— Скажите, чей это узор?
Старик перевернул фотографию. На обратной стороне была аккуратная надпись выцветшими чернилами: «Мэри-Энн Джиллис». И дата: 1949.
Руины фермерского дома стояли высоко на склоне холма. Они почти терялись в высокой, клонящейся под ветром траве. Верхняя часть дома давно обрушилась. На месте двери зияла пустота между двух крошащихся стен. Маленькие заглубленные оконные проемы по обе стороны от двери остались нетронутыми, хотя стекол и рам в них не было. Печные трубы время пощадило; на одной даже остался высокий желтый керамический горшок. В траве виднелись фундаменты других строений: сарай, в котором держали животных; амбар, где хранили сено зимой. Полоска земли, на которой растили траву, тянулась вниз по склону, до самой дороги. На ее дальней стороне вода маленькой бухты отражала солнце. За ней виднелся залив. По синему небу мчались облака, их тени бежали следом по земле. У дороги стоял небольшой белый дом. В его маленьком, открытом всем ветрам саду цвели весенние цветы. Их красные и желтые головки на высоких стеблях качались под порывами ветра.
Отсюда была отлично видна гранитная церковь, стоявшая на холме напротив. Та самая, которую построили на заработок от продажи улова за одну ночь. Церковь больше ста лет определяла, как живет остров, да и сейчас не сдавала позиций.
Фин прошелся по руинам фермерского дома. Он смотрел под ноги, чтобы не споткнуться о камни среди высокой травы. Вот она, ферма семьи Джиллис, которую Мораг Мак-Эван показала ему вчера. Здесь жил мальчик по имени Дональд Джон, которого порол за непослушание директор школы в Далибурге. Жила здесь и Мэри-Энн Джиллис. Покрывало ее работы отпечаталось на коже молодого парня, которого вытащили из торфяного болота на острове Льюис в четырех часах пути отсюда. Нет, больше, подумалось Фину. В то время, когда его похоронили, дороги были куда хуже, дамб было мало, а паромные переправы занимали больше времени. Для жителей Эрискея остров Льюис был на краю света.
Внимание Фина привлек автомобильный гудок. Он покинул руины и осмотрелся, стоя по колено в траве и желтых цветах. Розовый «мерседес» Мораг стоял рядом с его машиной у подножия холма. Крыша была опущена, и Мораг махала ему. Фин начал спускаться, осторожно преодолевая участки болотистой почвы, которая мягко подавалась под ногами. Дино приветственно залаял со своего обычного места на коленях хозяйки.
— Доброе утро.
— Что ты здесь делаешь, а гра?
— Вы вчера сказали мне, что здесь был дом Джиллисов.
— Все верно.
— И здесь жил «сиротка» Дональд Джон Джиллис.
— Ну да. Со старым Дональдом Шеймусом и его сестрой Мэри-Энн.
Фин задумчиво кивнул.
— Их было трое?
— Нет. У Дональда Джона был брат, — Мораг прикрыла сигарету от ветра, закуривая. — Как же его звали… — она наконец затянулась. Выдохнула длинную струю дыма, которую сразу же унес ветер. — Питер, — сказала она. — Дональд Питер, вот как его звали, — Мораг рассмеялась. — Здесь всех зовут Дональд. Важно только второе имя.
Тут она грустно покачала головой.
— Бедняжка Питер! Он был очень милый. Но немного не в себе, если вы меня понимаете.
И Фин понял, что нашел место, откуда приехал отец Маршели. И знает теперь, чье тело выкопали из болота под Сиадером.
Глава двадцать девятая
Над северной частью острова Льюис воцарилось странное спокойствие. В противоположность ему, мысли Фина во время долгого пути на север являли собой хаос.
Он остановился только один раз, в Сторновее. Ему потребовалось полчаса, чтобы рассказать Джорджу Ганну, что он узнал. Они говорили в диспетчерской; Ганн молча выслушал его. Он стоял, глядя из окна на крыши домов напротив, на замок Льюс и деревья на холме. Закатное солнце падало сквозь ветки, окрашивало траву в розовый цвет.
— Значит, мертвый парень — брат отца Маршели, — сказал наконец Ганн.
— Дональд Питер Джиллис.
— Никто из них на самом деле не Джиллис. «Сироток» называли фамилиями хозяев.
Фин кивнул.
— Мы так и не знаем ни их фамилии, ни откуда они приехали.
Фин думал об этом, пока ехал через болота Барваса и дальше, по деревням западного побережья. Сиадер, Галеон, Делл, Кросс… В каждой деревне — церковь, и везде разные конфессии. Вдоль побережья — дома, готовые к атакам непогоды. Типовые на одну и две семьи, «белые дома» с дымоходами, «черные дома» с дырой в крыше над очагом, современные бунгало.
Фин не знал, вела ли церковь какие-то записи о детях, которых она отрывала от семей на материке и отправляла на острова. Местным властям тоже было что скрывать. Все это было очень давно. Кому тогда было дело до несчастных детей из распавшихся семей? До сирот, чьи права было некому защищать? Фина сжигал стыд за то, что его сограждане так обращались с детьми в двадцатом веке.
Узнать, как на самом деле звали Дональда Джона и Дональда Питера Джиллисов, было трудно. И главная трудность — никто не знал, откуда они родом. Они сошли с парома в Лохбосдейле безымянными пассажирами, с фамилиями новых хозяев на груди. Здесь их прошлое заканчивалось. А сейчас Питер был мертв, а его брат Джон впал в маразм. Кто мог хоть что-то вспомнить о них? Кто взялся бы удостоверить их личности? Эти мальчики потеряны навсегда. С высокой вероятностью ни он, ни полиция никогда не узнают, кто убил Питера и почему.
Впереди в сумерках зажглись огни Несса, как отражение звезд, высыпавших на ясном небе. Ветер, который грозил сдуть его машину с дороги на пути из Уиста, утих. Воцарилась неестественная тишина. В зеркало заднего вида еще можно было разглядеть тучи, висевшие на обычном месте — над пиками Харриса. На западе океан, как стекло, отражал последний свет дня и надвигающуюся ночь.
Возле бунгало Маршели стояли три машины: «Мини» Фионлаха, старая «Астра» Маршели и внедорожник Дональда Мюррэя. Когда Фин постучался и вошел, Дональд и Маршели сидели за кухонным столом. Бывший полицейский почувствовал внезапный и неприятный укол ревности. Ведь именно Дональд лишил Маршели невинности много лет назад. Но это было в другой жизни, когда все они были другими людьми.
— Фин, — кивнул ему Дональд. Маршели быстро начала говорить, как будто хотела дать Фину понять, что причин для ревности нет:
— Дональд пришел с предложением по поводу Фионлаха и Донны.
Фин повернулся к Дональду:
— Фионлах приходил к тебе?
— Да, он заходил утром.
— И что?
Священник улыбнулся со значением:
— Он сын своего отца.
Фин не смог сдержать ответную улыбку. Маршели объяснила:
— Они оба переехали сюда с ребенком. Они наверху, — она бросила неуверенный взгляд на отца Донны. — Дональд предложил, чтобы мы поделили расходы на малышку и вместе заботились о ней, пока Фионлах и Донна закончат учебу. Даже если один из них или оба уедут учиться в университет. Мы знаем, как важно использовать все возможности, которые дает молодость. Иначе потом всю жизнь будешь жалеть.
В ее голосе слышалась горечь. Фину показалось, что и упрек в нем тоже был.
— Хороший план.
Маршели уставилась в стол:
— Я просто не знаю, хватит ли у меня денег оплатить университет Фионлаха. И расходы на ребенка. Мы ведь живем на страховку Артэра. Я надеялась, ее хватит на то время, что я буду учиться в университете. Если смогу поступить. Видимо, мне придется отложить учебу и пойти работать.
— Это будет очень грустно, — сказал Фин.
Женщина пожала плечами:
— Других вариантов нет.
— А может, есть?
Она внимательно посмотрела на него:
— Какие, например?
Фин улыбнулся:
— Мы с тобой можем совместно оплачивать твою долю. В конце концов, я же дедушка Эйлид. Мы не смогли сделать так, чтобы дети не повторяли наших ошибок. Зато мы можем помочь им ликвидировать последствия.
Дональд переводил взгляд с Фина на Маршели, пытаясь понять, о чем они умолчали. Потом встал:
— Вам двоим надо это обсудить.
Он явно сомневался перед тем, как протянуть Фину руку. Наконец они обменялись рукопожатием, и Дональд молча вышел. После его ухода кухня показалась слишком маленькой и тихой, какой-то нереальной под лампой дневного света. Из глубины дома слышалась музыка, игравшая в комнате Фионлаха.
Наконец Маршели спросила:
— А откуда у тебя деньги?
Фин пожал плечами:
— Ну, у меня есть сбережения. И потом, я не вечно буду безработным.
На кухне снова повисла тишина, наполненная сожалениями и мыслями о прошлых ошибках.
— Как твои экзамены? — спросил Фин.
— Не спрашивай.
Он кивнул.
— Ну да, у тебя были немного другие заботы.
— Точно.
Бывший полицейский глубоко вздохнул.
— Маршели, у меня есть для тебя новости. Это касается твоего отца, — синие глаза, полные любопытства, уставились на него. — Давай прогуляемся, подышим свежим воздухом. Погода сегодня отличная, и на пляже нет ни души.
Ночь была полна шепота волн. Казалось, море облегченно вздыхает, избавленное от необходимости злиться. Почти полная луна поднялась в черное небо. В ее свете отлично видны вода и песок, а тени скрывают выражения лиц. Теплый воздух наполнен ожиданием близкого лета. Маленькие волны, разбиваясь о берег, как будто читают стихи на неизвестном языке.
Фин и Маршели идут, оставляя следы на нетронутом песке. Они так близко, что чувствуют тепло друг друга.
— Было время, — сказал Фин, — когда мы вот так же бродили по пляжу и я держал тебя за руку.
Маршели удивленно повернулась к нему:
— Ты что, мысли читаешь?
Как естественно было бы взять ее за руку. И как бы им стало неловко! Фин рассмеялся:
— А помнишь, как вы с девушками загорали здесь, а я сбросил на вас со скалы мешок с крабами?
— Я дала тебе пощечину, и у меня потом рука болела!
Фин ухмыльнулся.
— Я тоже это помню. А еще я помню, что ты была без лифчика.
— Ах ты извращенец!
Он улыбнулся, уже мягче.
— А еще я помню, как мы занимались любовью вон там, между скал. А потом окунались в море, чтобы охладиться.
Маршели не ответила. Фин обернулся к ней: она шла с крайне задумчивым видом, как будто мыслями была очень далеко отсюда.
Они почти дошли до лодочного сарая. Он выступал из темноты, как знамение прошлых и будущих бед. Фин мягко положил руку на плечо Маршели, предлагая ей повернуть назад. Море уже смывало их следы, стирало тот факт, что они когда-то проходили здесь. Фин оставил руку на плече женщины и почувствовал, как она прижимается к нему. Он направился вглубь пляжа, подальше от линии прибоя.
Они в молчании прошли примерно половину пляжа и, не сговариваясь, остановились. Фин развернул Маршели к себе. Ее лицо оказалось в тени, и он приподнял его за подбородок, чуть поворачивая к свету. Вначале она не хотела смотреть ему в глаза.
— Я помню маленькую девочку, которая взялась за меня в первый день школы. Она показала мне, как пройти в магазин Кробоста. И сказала, что ее зовут Марджери, но ей больше нравится гэльское имя Маршели. Помню, как она решила, что мое английские имя ужасно, и сократила его. После этого все и всегда звали меня «Фин».
Она наконец улыбнулась — с немалой долей грусти — и взглянула ему в глаза.
— А я помню, как любила тебя, Фин Маклауд, — лунный свет серебрил слезы у нее на глазах. — И возможно, все еще люблю.
Он потянулся к ней, и их губы соприкоснулись — вначале неуверенно. Наконец они поцеловались. Это был нежный поцелуй, полный воспоминаний о том, какими они были и что ушло навсегда. Фин закрыл глаза, его захлестнула волна страсти и сожаления.
И внезапно все кончилось. Маршели сделала шаг назад, освободилась из его объятий. Она посмотрела на него со страхом и сомнением, потом отвернулась и направилась к скалам. Фин стоял и смотрел вслед, потом побежал за ней. Не останавливаясь, Маршели спросила:
— Что ты выяснил о моем отце?
— Я выяснил, что он не Тормод Макдональд.
Она остановилась, нахмурилась, повернулась к Фину:
— В каком смысле?
— Он позаимствовал — или украл — личность умершего мальчика с острова Харрис. На самом деле его звали Дональд Джон Джиллис, и он с острова Эрискей. А парень, которого вытащили из болота — его брат, Дональд Питер.
Маршели недоверчиво уставилась на него.
— Правда, Дональд Джон — тоже не настоящее имя.
Фин видел, что мир Маршели рушится. Все то, на чем она строила свою жизнь, заколебалось, как зыбучий песок под ногами.
— Я не понимаю.
И он рассказал ей все, что узнал, и то, как он смог это выяснить. Она слушала молча, и лицо ее было белее луны. Ей пришлось ухватиться за руку Фина, чтобы не упасть.
— Мой отец был «сироткой»?
Фин кивнул.
— Он действительно был сиротой. Во всяком случае, детдомовцем. Его вместе с братом отправила на острова католическая церковь.
Маршели опустилась на песок, села, скрестив ноги. Спрятала лицо в ладонях. Фин решил, что она плачет; но когда женщина подняла голову, лицо было сухим. Шок притупил все ее чувства.
Мужчина сел на песок рядом с ней.
— Это так странно… Ты думаешь, что знаешь, кто ты, потому что знаешь, кто твои родители. Некоторые вещи… — она помолчала в поисках нужного слова, — очевидны. Не вызывают никаких вопросов.
Маршели затрясла головой.
— А потом ты узнаешь, что вся твоя жизнь была основана на лжи. И ты больше не знаешь, кто ты такой. — Она посмотрела на Фина расширенными глазами. — Мой отец убил своего брата?
Внезапно Фин понял: он может принять мысль о том, что личность отца Маршели и причина смерти его брата останутся неизвестны. Сама Маршели не сможет жить нормально, пока не выяснит правду.
— Я не знаю.
Он обнял ее, она положила голову ему на плечо. Так они сидели долго, слушая прибой, купаясь в лунном свете. Маршели начала дрожать от холода, но встать и уйти не пыталась.
— Я ездила к отцу перед тем, как отправиться в Глазго. Он сидел под дождем. Думал, что он на корабле, который плывет с материка. «Клансмэн», так он сказал, — женщина повернулась к Фину, глаза ее затуманились грустью. — Я думала, отец просто бредит. Вспоминает что-то, что видел по телевизору или прочел в книге. Меня он называл сначала Кэтрин, а потом — Кейт. Как будто я его знакомая, но при этом не дочь. И еще он говорил о каком-то Большом Кеннете.
— Бейн Руи Койньях. Это гора, которая защищает гавань в Лохбосдейле. Они должны были видеть ее с корабля, когда были еще далеко от берега, — Фин протянул руку, убрал волосы от ее глаз. — Что он еще говорил?
— Что-то непонятное. По крайней мере, я его не поняла. Он как будто говорил с Кейт, а не со мной. Сказал, что никогда не забудет, как они жили в Дине. И еще башенки у Дэнни. Они напоминали об их месте в мире… Кажется, так, — Маршели снова посмотрела на него, и в каждой морщинке на ее лице была боль. — И он еще кое-что сказал. Сейчас я понимаю, что это значит, — она закрыла глаза, стараясь поточнее вспомнить:
— «Мы неплохо справились для пары приютских детей».
Видимо, выражение лица Фина изменилось. Маршели нахмурилась, наклонив голову набок:
— Что такое?
Просто на бывшего полицейского снизошло озарение.
— Маршели, кажется, я знаю, что он имел в виду, когда говорил про Дин. И башенки у Дэнни. И еще это значит, что Кейт, девочка, которая жила у вдовы О’Хенли, приплыла сюда вместе с братьями.
«Возможно, есть кто-то, кто знает всю правду», — подумал Фин. Он встал, протянул спутнице руку, помогая подняться.
— Если будут места, завтра первым же рейсом мы летим в Эдинбург.
Комнату освещал только синеватый отсвет экрана его ноутбука. Он сидел в темноте у стола, а вокруг висела тишина спящего дома. Присутствие за стенами других людей только усиливало его чувство одиночества.
Это была та самая комната, где он провел столько времени, занимаясь с отцом Артэра. Здесь юные Фин и Артэр, то порознь, то вместе, слушали длинные лекции по истории Гебридских островов и решали сложные уравнения. Годы его детства прошли здесь, в душной тюрьме. Свободу он видел только иногда, бросая взгляд за окно. Маршели предложила ему переночевать на раскладном диване; но здесь до сих пор жили неприятные воспоминания. Кофейное пятно в форме острова Кипр на кофейном столике, за которым они занимались. Ряды книг с длинными и сложными названиями. Запах трубочного табака отца Артэра. Синеватый дым, медленно плывущий в стоячем воздухе. Фину казалось, что он все еще чувствует его запах. Возможно, это была игра его воображения.
Маршели, усталая и надломленная, уже ушла спать. Она разрешила Фину оставаться у них столько, сколько нужно, и пользоваться интернетом Фионлаха. Сейчас на ноутбуке была открыта страница с гербом Национальных Галерей Шотландии. Под гербом в синем окне с пушистыми белыми облаками видна была надпись: «Другой мир. Дали, Магритт, Миро и сюрреалисты». Но Фин давно не смотрел на нее. Он очень быстро проверил свои подозрения и сразу же забронировал билеты на утренний рейс. Следующий час он занимался углубленным поиском.
Фин очень устал, он чувствовал себя избитым. За глазными яблоками поселилась тупая боль, мысли путались, едва успев появиться. Он не хотел возвращаться в Эдинбург. Там поджидало трагическое прошлое, от которого не убежать. Единственное, что у него получилось — уехать на некоторое время; теперь судьба отнимет у него и это. Маршели поездка нужна, чтобы как-то справиться с новостями об отце и жить дальше. Фин же только разбередит старые раны.
Он подумал: интересно, как она его примет, если он сейчас тихо пройдет по коридору к ее комнате и ляжет к ней в постель. Не ради секса, даже не ради любви. Просто чтобы почувствовать тепло другого человека рядом.
Фин знал, конечно, что он этого не сделает. Он закрыл ноутбук, тихо прошел по дому. Захлопнул за собой дверь из кухни во двор и отправился сквозь ночь туда, где стояла его палатка. Океан блестел в лунном свете так, что на него было больно смотреть. Звезды казались раскаленными иголками, прокалывающими ткань вселенной. В бездушной тьме палатки Фина ждали холодный спальный мешок, кожаная папка с материалами о смерти его сына и несколько часов без сна, которые оставались ему до утра.
Глава тридцатая
В Эдинбурге было теплее. Со стороны парка «Пентленд Хилс» дул легкий ветер, солнце выглядывало из-за кучевых облаков, расплескивая свет по серым кварталам из гранита и песчаника.
Фин и Маршели взяли с собой все необходимое, чтобы переночевать в городе. Фин, впрочем, сомневался, что они найдут что-нибудь, кроме тех мест, о которых говорил отец Маршели. А это дело займет меньше часа. Они взяли такси в аэропорту; водитель уже подъезжал к Хеймаркету и включил левый поворотник, собираясь свернуть на Магдала Кресент.
— Не сворачивайте, — попросил Фин.
— Но так короче!
— Неважно. Езжайте через Палмерстон.
Таксист пожал плечами:
— Ну, вам платить.
Фин почувствовал, что Маршели внимательно смотрит на него. Не поднимая глаз, он произнес:
— Когда Падрайг Макбин вез меня на Скерр на своем старом траулере, он рассказал, как потерял новенькую лодку отца в Минче. Сам едва жив остался, — Маршели глядела на него огромными от любопытства глазами. — Место, где затонула лодка, никак не отмечено. Но Падрайг всегда знает, что проплывает над ним.
— Твоего сына сбили на Магдала Кресент?
— На боковой улице.
— Хочешь мне об этом рассказать?
Он смотрел через плечо водителя, на машины, идущие по Вест-Мейнлэнд-Стрит. Наконец сказал:
— Нет. Не хочу.
Такси свернуло на Палмерстон. Мимо пронеслись почерневшие многоквартирные дома с эркерами, деревья в первой весенней листве, готический собор Святой Марии. На пересечении улиц, спускавшихся с холма, стояла церковь из красного песчаника с красными же дверями, которую переделали в молодежное общежитие. Затем такси снова двинулось вверх, на этот раз по Белфорд. Водитель высадил их у отеля «Трэвелодж». Напротив виднелись каменные столбы забора, бело-синий флаг над ними полоскался на ветру.
— Галерея «Дин», — удивленно прочла Маршели, когда они вышли из машины. Фин тем временем расплатился с таксистом. — В Дине художественная галерея?
— Теперь — да.
Он взял спутницу за руку, и они перебежали дорогу прямо между машинами. За черными воротами из кованого железа начиналась галечная дорожка. Она вела вверх, между высокой живой изгородью из бирючины и каменной стеной. Затем тропинка выходила на открытое пространство и вилась по парку. Высокие каштаны бросали тень на ухоженные лужайки, где на постаментах стояли бронзовые статуи.
— Давно, когда еще не было социального государства, — объяснил Фин, — в Шотландии действовал особый «Закон о бедных». Это было что-то вроде социального страхования для беднейших слоев населения. Расходы в основном брала на себя Церковь. А если где-то этого не хватало, вступали частные благотворительные фонды. Именно так открыли Сиротский приют Эдинбурга. Его построило в начале восемнадцатого века Общество распространения христианских знаний.
— Это ты нашел в интернете вчера ночью?
— Да, — они миновали потускневшую статую Мадонны с младенцем. Статуя называлась «Эльзасская дева». — В тысяча восемьсот тридцать третьем году приют переехал в новое здание — сюда, в усадьбу «Дин». С тех пор его стали называть «Приют Дин».
Мимо них быстро прошла женщина неопределенного возраста, с коротко стриженными седыми волосами. Ее синяя юбка шуршала в такт шагам. Шлейф ее цветочных духов напомнил Фину мать Маршели.
На вершине холма дорожка делала изгиб. С него Дин открывался во всей красе — высокие стены из песчаника, портики, арочные окна, каменные балюстрады и четырехугольные башенки. Фин и Маршели остановились, рассматривая его. Возникло чувство, что здесь, на вершине холма, за деревьями и живыми изгородями, их ждет кусочек истории — важный и для отдельных людей, и для страны. Круг замкнулся: когда-то отец Маршели уехал отсюда, а теперь она сама стоит здесь.
— И это был приют? — в голосе Маршели слышалось благоговение.
— Ну да.
— О Боже. Фин, это удивительное здание. Но для того, чтобы растить детей-сирот, оно совершенно не подходит.
«Дом моей тети тоже не подходил для того, чтобы растить ребенка-сироту», — подумал Фин. Вслух он сказал:
— Вчера я читал, что сирот кормили овсянкой и супом из капусты. А девочки должны были сами шить одежду для себя и остальных детей. Наверное, в пятидесятых все было по-другому, — он помолчал. — И все-таки трудно представить здесь твоего отца.
Маршели тревожно спросила:
— Ты уверен, что это то самое место?
Фин провел ее немного вперед и показал за здание Дина, вниз. Там, в долине, располагалось другое старинное здание с двойными башенками.
— Это частная школа «Стюартс Мелвилл». Когда твой отец жил в Дине, она называлась «Колледж Дэниэла Стюарта».
— Башенки у Дэнни!
Он кивнул.
— В этом была очень злая ирония, и твой отец ее осознавал. Самые бедные дети его поколения жили бок о бок с самыми богатыми. Как он говорил? Башенки у Дэнни всегда напоминали им об их месте в мире?
— Да, — сказала Маршели. — И место это было в самом низу, — она повернулась к Фину. — Я хочу зайти в Дин.
Они вернулись к портику у входа, поднялись к двери ржаво-красного цвета между колоннами. Каменная лестница по левую руку спускалась к открытой зеленой зоне; наверное, когда-то здесь был сад. Выложенный плиткой холл вел в главный вестибюль, который тянулся во всю длину здания. В него выходили огромные комнаты, практически залы. Там размещались собрания картин, скульптур, магазин и кафетерий. В обоих концах вестибюля располагались огромные окна и лестницы, ведущие в два крыла здания. Фину казалось, он почти слышит голоса детей.
На Маршели было больно смотреть. В ее голове пронеслась и перевернулась вся жизнь: кто она, кто ее родители, как несладко пришлось ее отцу в детстве. А ведь он никому об этом не рассказал. Тормод хранил свой секрет ото всех.
Охранник в форме спросил их, может ли он чем-то помочь.
— А правда, что здесь раньше был приют? — уточнил Фин.
— Правда. Трудно поверить, да? — охранник кивнул в сторону одной из лестниц. — Мальчики жили в этом крыле. Девочки — в противоположном. Выставочный зал вон там, слева, раньше был кабинетом директора. Ну, или как он там назывался.
— Я хочу уйти, — внезапно сообщила Маршели. На ее щеках блестели дорожки слез. Фин взял ее под руку, повел обратно ко входу. Охранник смотрел им вслед, пытаясь понять, что такого он сказал.
Маршели почти минуту стояла на крыльце, глубоко дыша.
— Мы же можем посмотреть школьные записи? Узнать, откуда мой отец и как его звали.
Фин покачал головой:
— Вчера я посмотрел в сети: дела воспитанников хранятся под замком сто лет. Только сами бывшие воспитанники имеют к ним доступ, — он пожал плечами. — Наверное, это сделали, чтобы защитить детей. И я думаю, суд может дать полиции ордер на выемку дела. Это все-таки расследование убийства.
Маршели вытерла щеки. В ее заплаканных глазах Фин видел тот же вопрос, что и вчера на пляже. Мог ли ее отец убить своего брата? Вряд ли мы когда-нибудь это узнаем, подумал Фин. Разве что каким-то чудом найдем Кейт, которая жила на ферме О’Хенли.
Они молча пошли по гравийной дорожке вниз, по направлению к Белфорд-Роуд. За высокой каменной стеной в тени деревьев лежало кладбище Дина. Фин уже был у ворот, когда его телефон тренькнул, извещая о новой электронной почте. Бывший полицейский остановился, достал телефон, открыл письмо. Он читал его некоторое время, задумчиво хмурясь при этом.
— Что-то важное? — поинтересовалась Маршели.
Фин набрал ответ, отправил его и только потом ответил.
— Когда вчера я искал в сети данные по этому приюту, то нашел один форум. Там бывшие воспитанники Дина обмениваются фотографиями и воспоминаниями. Наверное, они считают, что как-то связаны между собой, даже если жили в Дине в разное время.
— Что-то вроде семьи.
Он посмотрел на Маршели:
— Ну да. Семья, которой у них никогда не было. Троюродный брат, которого ты никогда не видел, все-таки ближе тебе, чем случайный прохожий, — Фин засунул руки в карманы. — Многие бывшие воспитанники эмигрировали. Больше всего их почему-то в Австралии.
— Старались уехать как можно дальше от Дина?
— Ну да, и начать жизнь с нуля. Стереть прошлое, забыть свое несчастное детство.
Фин понял, что ему трудно говорить, с такой силой отзывается у него в душе каждое слово. Именно это он пытался проделать и сам. Маршели положила руку ему на плечо, и одно ее прикосновение сказало больше, чем тысяча слов.
— Так или иначе, один из бывших воспитанников до сих пор живет в Эдинбурге. Зовут его Томми Джек. Он мог жить в Дине в то же время, что и твой отец. Он оставил на форуме свой адрес, и я написал ему, — Фин пожал плечами. — А мог и не писать. Я ни на что особо не рассчитывал.
— И он тебе ответил?
— Да.
— И что?
— Прислал свой адрес и сказал, что будет счастлив видеть нас вечером у себя дома.
Глава тридцать первая
Окно в номере было открыто, и легкий ветер шевелил занавески. По краям они пропускали солнечный свет. Шум машин казался очень далеким. От плотины на Уотер-оф-Лейт под окном доносился шум воды. Их номер был на верхнем этаже, из него открывался вид на реку и Дин-Виллидж. Как только они вошли, Фин задернул занавески. Им нужна была темнота, чтобы прийти в себя.
У них не было никакого плана действий. Отель стоял напротив галереи, а им все равно нужно было где-то ночевать. Фин не смог бы объяснить, почему ни он, ни Маршели не пытались протестовать, когда их поселили в номер с одной большой кроватью. В отеле было много свободных номеров. В маленьком лифте они поднимались молча, не глядя друг на друга. У Фина все внутри сжималось от волнения.
Почему-то им оказалось проще раздеться в темноте. Странно, ведь когда-то они отлично знали тела друг друга — каждый изгиб, каждую линию, каждый дюйм кожи. И сейчас, лежа на прохладных простынях, они заново вспоминали все. Это получилось удивительно легко и естественно, как будто последний раз они были вместе только вчера. Фин обнаружил в себе ту же самую страсть, какую чувствовал к Маршели с их самой первой ночи. Жаркую, всепоглощающую страсть. Он провел руками по ее лицу, заново вспоминая его черты. Начал гладить шею, плечи, мягкие округлости грудей, изгиб ягодиц.
Их губы встретились, как старые друзья после долгой разлуки. Осторожно соприкоснулись, словно не веря, что все осталось как прежде. Два тела двигались, как одно. Прерывистое дыхание перемежалось криками. Не было ни слов, ни мыслей; только желание, страсть, жадный голод. Жар, дрожь, полное погружение друг в друга. Фин чувствовал, как с каждым движением в нем оживает наследие островов. Бесконечные болота, пронзительный ветер, ярость океана, несущего волны к берегу. Голоса предков, поющие древние песни на гэльском.
И внезапно все кончилось. Так же, как тогда, в первый раз. Ворота шлюза открылись, вода ушла. Стены из гнева и непонимания разрушены, все потерянные годы смыты приливной волной. Двое лежали, крепко обнявшись, думая каждый о своем. Вскоре Фин понял, что дыхание Маршели замедлилось, а голова, лежавшая у него на груди, потяжелела. И тогда он задумался, что же они будут делать дальше.
Глава тридцать вторая
Томми Джек жил в арендованной трехкомнатной квартире на Браутон-Стрит. Под ним располагались винный магазин и газетный киоск. Таксист высадил Фина и Маршели на Йорк-Плейс, и они медленно спустились с холма в вечерних сумерках. Воздух вокруг них был наполнен незнакомыми городскими запахами — выхлопные газы, солод, карри. На острове пахло совсем не так. Фин провел в Эдинбурге пятнадцать лет жизни, но стоило вернуться домой на несколько дней — и город стал казаться чужим, тесным и грязным. Тротуары залеплены кляксами жевательной резинки, в канавах валяется мусор. Вход в дом Томми находился на Албани-Стрит-Лейн. Когда они сворачивали туда, мимо проехал грузовой фургон с эмблемой детской благотворительной организации, «Барнардос» на борту. Лозунг компании гласил: «Мы возвращаем детям будущее». Фин задумался, как можно вернуть то, чего еще нет.
Томми оказался невысоким человеком с блестящим круглым лицом под блестящей круглой лысиной. Воротник его рубашки истрепался, на сером пуловере были пятна от яиц. Брюки на размер больше, чем надо, слишком туго затянуты на животе. На носках домашних тапочек протерлись дырки. Томми провел гостей в узкий коридор с темными обоями, а оттуда — в гостиную. Днем ее, наверное, наполнял солнечный свет, но сейчас, в сумерках, она казалась неряшливой. Квартиру заполнял застоявшийся запах кулинарного жира и человеческого тела.
При этом характер у Томми был веселый. Из-за очков без оправы на гостей смотрели острые темные глаза. Фин решил, что ему около семидесяти лет, возможно, чуть больше.
— Хотите чаю? — предложил Томми Джек.
— Было бы неплохо, — ответила Маршели.
После этого хозяин говорил с ними из крохотной кухоньки, где он ставил на огонь чайник, доставал чашки, блюдца и чайные пакетики.
— Я теперь живу один. Жена умерла уже лет восемь как. Мы больше тридцати лет прожили вместе. До сих пор не могу привыкнуть, что ее нет.
Есть грустная ирония в том, что Томми Джек начинал жизненный путь в одиночестве и заканчивает его так же, подумал Фин.
— А детей нет? — спросила Маршели.
Хозяин вошел в гостиную с улыбкой, но улыбка эта была грустной.
— Нет, к сожалению. Это очень печально — не иметь ни детей, ни возможности дать им то детство, которого я сам был лишен, — он снова вернулся в кухоньку. — Хотя много бы я мог им дать на свою зарплату банковского клерка? — Он хохотнул. — Представляете, я всю жизнь пересчитывал деньги, которые принадлежали другим людям!
Томми принес чай в фарфоровых чашках. Гости поставили их на истертые ручки старых кресел, накрытых грязноватыми белыми салфетками. В камине, облицованном плиткой, тускло горел газовый огонь. На каминной полке стояла черно-белая фотография в рамке, на ней — Томми и, видимо, его жена. Фотограф смог запечатлеть любовь во взглядах супругов. Фин подумал, что приютский ребенок все же смог найти какое-то счастье в жизни.
— Когда вы жили в Дине, Томми?
Тот покачал головой.
— Точных дат я вам не назову. Несколько лет, где-то в пятидесятых. Управляющим там в это время был мистер Андерсон. Неприятный тип. Руководил приютом, где дети-сироты должны были найти уют, а сам не любил детей. Характер у него был ужасный. Помню, однажды он собрал все наши вещи и сжег их в печи центрального отопления. Наказал нас за то, что повеселились, — он коротко засмеялся воспоминанию.
Он даже смог найти, над чем посмеяться в этой истории! Фин удивлялся человеческой способности легко относиться к ударам судьбы. Видимо, все дело в желании выжить. Стоит сдаться хоть на секунду, и тебя затянет во тьму.
— Конечно, я был не только в Дине. Нас переводили из одного приюта в другой. Сохранить друзей было трудно, так что мы переставали их заводить. И еще нельзя было надеяться, что такой жизни придет конец. Даже когда приезжали взрослые, чтобы выбрать пару детишек для усыновления, — Томми снова засмеялся. — Сейчас все не так. А раньше нас всех мыли, потом одевали в лучшее и выстраивали в одну линию. Потом дамы, от которых пахло французскими духами, и мужчины, воняющие сигарами, приходили и осматривали нас. Как овец на рынке. Конечно, они всегда выбирали девочек. У маленьких мальчиков вроде меня не было ни шанса, — он наклонился вперед. — Хотите еще чаю?
— Нет, спасибо, — Маршели накрыла рукой свою чашку, в которой еще оставался чай. Фин просто покачал головой. Томми поднялся.
— А я выпью еще. Раз уж приходится вставать ночью, пусть мне будет от чего избавляться!
Он вернулся в кухоньку, снова поставил чайник на огонь. Теперь ему пришлось говорить громче:
— Один приют, в котором я жил, посетил Рой Роджерс. Помните его? Он всегда играл ковбоев в кино и на телевидении. Рой тогда ездил по всей Шотландии со своем конем по имени Триггер. Он заехал в наш приют, выбрал одну девчушку, удочерил ее и увез в Америку. Представляете? Она была бедной сироткой, жила в приюте в Шотландии, а потом раз! — и стала дочерью богача. Жила в самой богатой стране мира! — Томми вернулся в комнату с чашкой свежего чая. — Вот из таких историй и рождаются мечты!
Он сел, потом вдруг снова встал.
— Что на меня нашло? Я вам даже печенья не предложил!
Фин и Маршели вежливо отказались. Он снова сел.
— Когда я стал слишком взрослым для приютов, меня поселили в общежитии на Коллинтон. В это же время туда ненадолго вселился парень постарше. Он вернулся со службы во флоте, а в родной семье места не нашлось. Как-то так это было. Его все звали Большой Тэм. Высокий был, красивый. Один из старших парней узнал, что в Эдинбурге будет прослушивание в хор мюзикла «Юг Тихого Океана», и предложил Большому Тэму поучаствовать. Ну, вы знаете, что было дальше.
Ни Фин, ни Маршели не знали.
— Большой Тэм — это Шон Коннери, — засмеялся Томми. — Звезда. А я был с ним знаком! Он приезжал к нам на открытие Парламента Шотландии. Парламент заседал в Эдинбурге впервые за почти триста лет! Я тоже пошел посмотреть. Это же исторический момент! В общем, я увидел, как Шон входит в зал. Помахал ему из толпы, закричал: «Как дела, Большой Тэм?», — он улыбнулся. — Конечно, он меня не узнал.
Фин подался вперед.
— Дин был католическим приютом, Томми?
Тот удивленно поднял брови:
— Да нет, что вы! Наш мистер Андерсон ненавидел католиков. Впрочем, он вообще всё ненавидел. И всех.
— А католики в Дине когда-нибудь жили? — спросила Маршели.
— Да. Только они не задерживались. Священники приезжали, забирали их и увозили в какой-то приют для католиков. Помню, в какой-то момент у нас жило трое католиков. Когда тот мальчик погиб на мосту, их очень быстро увезли.
— Что это был за мост? — внезапно Фину стало интересно.
— Мост Дина. Пересекает реку Лейт чуть выше деревни. Высотой он футов сто.
— Что там произошло?
— Никто точно не знал. Конечно, было много всяких слухов. Вроде бы кто-то с кем-то поспорил, что пройдет весь мост по уступу с наружной стороны парапета. В этом участвовали ребята из Дина. Они тайком ушли однажды ночью. Мальчик из деревни упал с моста и утонул. Два дня спустя эти трое католиков исчезли. Говорят, их увезли в большой черной машине.
На Фина опустилось странное спокойствие. Он знал это чувство: правда так близко, что протяни руку — и коснешься.
— А вы не помните, как их звали?
Томми покачал головой.
— Давно это было, мистер Маклауд. Там была девчушка, Кэтрин ее звали, или Кейт. И еще два брата. Один из них вроде Джон или Джонни, — он помолчал, вспоминая. — Зато я хорошо помню, как звали того парня, который погиб. Патрик Келли. Братьев Келли все хорошо знали. Они жили в деревне, их отец был в какой-то банде. Говорят, в тюрьме отсидел. И сыновья все в него пошли. От них все старались держаться подальше, — Томми наклонил голову, подумал еще немного. — Они приходили в Дин, когда католиков уже увезли. Искали дурачка.
Маршели нахмурилась.
— Дурачка?
— Ну да, брата Джонни. Как же его звали…
Внезапно глаза Томми вспыхнули: он вспомнил.
— Питер! Точно. Его и искали. Хороший парень был, только немного не в себе.
Было уже темно, когда они вышли на улицу. В Эдинбурге темнело раньше, чем на островах. Все вокруг казалось немного нереальным; холодный свет фонарей будто смывал все цвета.
— Значит, моего отца и его брата на самом деле звали Джон и Питер, — для Маршели знание имен как будто делало прошлое более реальным. — Но как мы узнаем их фамилии?
— Поговорим с теми, кто их знал.
— Например?
— Например, с братьями Келли.
Маршели нахмурилась.
— А их-то мы как найдем?
— Если бы я до сих пор работал в полиции, я бы нашел. Мы хорошо их знаем.
— Не понимаю.
Из винного магазина вышла молодая пара. В бумажном пакете у них звенели бутылки. Девушка шла под руку с парнем; в сумерках их голоса разносились, как щебетание птиц.
— Келли — известная преступная семья Эдинбурга, Маршели, — объяснил Фин. — И так было много лет. Они начинали еще в деревне, рядом с тем местом, где стоит Дин. Их сфера — наркотики, проституция. Их даже подозревали в убийствах членов других группировок. Правда, ничего доказать не смогли.
— И ты с ними знаком? — недоверчиво спросила Маршели.
— Я лично с ними дела не имел. А вот мой старый шеф из уголовного розыска имел. Я тогда только пришел в полицию. Зовут его Джек Уокер, он уже на пенсии, — Фин достал телефон. — Возможно, он согласится с нами выпить.
Какой-то вандал со странным чувством национальной гордости ходил по Эдинбургу и раскрашивал фасады магазинов, баров и ресторанов в яркие цвета. По крайней мере, такие мысли возникали при взгляде на результат. «Виндзор Буфет» был ядовито-зеленым, бывшее здание студии Телевидения Шотландии рядом с ним — ярко-синим. На той же улице встречались желтые и красные фасады. Чуть дальше — снова пятна зеленого и синего. Над всем этим возвышались желтовато-серые здания из песчаника. Некоторые из них почистили, другие стояли черные, как гнилые зубы в широкой улыбке.
«Виндзор» был забит народом, но Джек Уокер забронировал столик в нише у дальней стены. Он внимательно посмотрел на Маршели, когда их представили, но вопросов задавать не стал. Заказал пива себе и Фину, а для дамы — бокал белого вина. Уокер был высоким, широкоплечим, с неопрятной копной жестких седых волос. Ему было за семьдесят, и все равно он производил впечатление человека, с которым лучше не связываться. Изумрудные глаза на загорелом лице казались холодными, на губах играла сардоническая усмешка.
— Не надо связываться с Келли, Фин, — сказал Уокер серьезно и покачал головой. — Это плохие люди.
— Я в этом не сомневаюсь, сэр. И связываться с ними не собираюсь, — внезапно Фин понял, что обращается к бывшему начальнику по всем правилам. Старые привычки не умирают. — Мне нужно только поговорить с кем-нибудь, кто помнит пятидесятые годы, когда семья еще жила в деревне Дин.
Уокер приподнял бровь. Он явно заинтересовался, но долгие годы работы в полиции приучили его: некоторые вопросы лучше не задавать.
— Те времена, наверное, помнит только Пол Келли. Он тогда был еще ребенком. У него было два старших брата, но их застрелили на пороге собственного дома больше полувека назад. Мы решили, что это убийство из мести. Тогда шла довольно жестокая война за территорию. Я только начинал служить в полиции. Мы никогда не лезли в эту историю, так что за убийства никого не осудили. А потом я смотрел, как молодой Пол Келли входит в силу. Хорошую империю он себе построил на людских несчастьях!
Лицо Уокера сложилось в гримасу. Видно было, что это его больная тема.
— Мы так ни на чем и не смогли его поймать.
— И он все еще большой босс?
— Пока да, Фин, хотя и стареет. Считает себя кем-то вроде Крестного отца. Вышел из низов, а теперь живет в гребаном поместье на Морнингсайд, — он взглянул на Маршели, но извиняться за ругательство не стал.
— У него уже дети и внуки. Все ходят в частные школы, а честные люди, вроде нас с вами, с трудом наскребают деньги на отопление. Он мразь, Фин. Просто мразь. Я бы не стал тратить на него время.
Они долго лежали в тишине и темноте своего гостиничного номера. Тишину нарушали только их дыхание и звук текущей воды со стороны реки. Эта же река текла под мостом Дина. Выйдя из «Виндзора», Фин с Маршели направились туда. Они дошли до середины моста, посмотрели на деревню Дин и реку в сотне футов внизу. Когда-то отец Маршели и его брат стояли здесь. На этом мосту что-то случилось. Погиб мальчик.
Маршели заговорила, и ее голос прозвучал в темноте неожиданно громко, вторгся в мысли Фина:
— Было странно смотреть, как ты говоришь с тем полицейским.
Фин повернулся к ней, хотя и не видел ее в темноте:
— Что в этом странного?
— Я как будто смотрела на незнакомца. Ты был не тот Фин Маклауд, с которым я ходила в школу. Не тот, с которым я занималась любовью на пляже. И даже не тот Фин, который так плохо поступал со мной в Глазго.
Он закрыл глаза и вспомнил, как это было. Они оба поступили в университет и некоторое время жили в Глазго вместе. Он обращался с Маршели ужасно; не мог справиться со своей болью и вымещал все на ней. Как часто мы делаем больнее всего самым близким людям, подумал Фин.
— Я сидела за столом с незнакомцем. Наверное, это тот Фин Маклауд, которым ты был, пока мы не общались. Ты женился на другой женщине, растил ребенка, работал в полиции.
Она коснулась его лица в темноте, чуть не напугав его.
— Я раньше думала, что знаю тебя. Теперь я в этом не уверена.
И страсть, которую они делили днем, когда лучи солнца играли на их сплетенных телах, показалась далекой. Как будто это было в прошлой жизни.
Глава тридцать третья
Пол Келли жил в трехэтажном доме из желтого песчаника. Крыша с коньком, мансарды, искусно сделанное крыльцо. В задней части дома — застекленная веранда, выходившая в ухоженный сад. От Типперлинн-Роуд ко входу вела полукруглая дорожка, с обеих сторон на ней обнаружились кованые ворота с электронными замками. Солнечный свет падал сквозь молодую листву буков, заливал цветущие азалии.
Такси высадило Фина и Маршели у южных ворот. Фин просил водителя подождать, но тот затряс головой:
— Нет, ждать я не буду. Платите мне сейчас.
Похоже, он знал, что это за место, и боялся здесь задерживаться. Машина быстро уехала и свернула на Морнингсайд. Фин повернулся к воротам, нажал кнопку переговорного устройства, вмонтированного в столб. Через секунду оттуда раздалось:
— Что надо?
— Меня зовут Фин Маклауд. Я был полицейским. Мне надо поговорить с Полом Келли.
— Мистер Келли никого не принимает без записи.
— Скажите ему, это по поводу того, что случилось на Мосту Дина пятьдесят лет назад.
— Он вас не примет.
— Скажите ему, — в голосе Фина прорезалась сталь. Спорить с ним было невозможно.
Переговорное устройство замолчало, и Фин, смущаясь, взглянул на Маршели. Он опять стал тем Фином Маклаудом, которого она не знала. И он понятия не имел, как их примирить.
Ждать пришлось долго. Наконец переговорное устройство ожило. Тот же голос произнес:
— Входите.
Ворота тут же начали открываться.
Пока они шли к дому, Фин отметил стратегически расставленные камеры видеонаблюдения и сенсорные фонари. Пол Келли старался избежать непрошеных гостей и в доме, и на территории. Дверь открылась, как только гости подошли к крыльцу. Их внимательно осмотрел молодой человек в белой рубашке с открытым воротом, отутюженных серых брюках и итальянских туфлях. Черные волосы охранника были коротко острижены и уложены гелем; стрижка явно дорогая. Запах его лосьона чувствовался с шести футов.
— Надо вас обыскать.
Без единого слова Фин сделал шаг вперед и встал, раздвинув ноги и подняв руки по бокам от тела. Охранник тщательно охлопал его спереди и сзади, потом — руки и ноги.
— Женщину тоже.
— Там все чисто, — сказал Фин.
— Я должен проверить.
— Я за нее ручаюсь.
Молодой человек смотрел прямо на него:
— Моя работа мне дороже.
— Всё нормально, — сказала Маршели и дала обыскать себя.
Фин, закипая, смотрел, как охранник ощупывает ее — грудь, спина, ягодицы, ноги. Впрочем, он вел себя профессионально и не трогал ее там, где не нужно. Маршели слегка порозовела, но в остальном обыск восприняла спокойно.
— Все чисто, — сказал охранник. — За мной.
Он провел их через холл, оформленный в кремовом и светло-персиковом цветах; на полу лежал красный ковер. Лестница из холла поднималась на два этажа.
Пол Келли развалился на белом кожаном диване на веранде. Он курил очень толстую гаванскую сигару. В саду снаружи легкий ветер шелестел весенней листвой. А в комнате дым сигары Келли неподвижно висел в воздухе, серо-синий в косых солнечных лучах. Ни запахи, ни звуки сада сюда не проникали, но все равно казалось, что стоишь прямо в саду. Вокруг матового стального стола были расставлены красные мягкие кресла, солнце отражалось от полированного деревянного пола.
Охранник привел гостей, и Келли поднялся. Он был очень высок — заметно больше шести футов. Несмотря на лишний вес, для своих шестидесяти пяти лет он был в хорошей форме. Круглое красное лицо Келли было выбрито до блеска, на голове — короткий ежик седых волос. Накрахмаленная розовая рубашка туго натянулась на полном животе, на джинсах заглажена не слишком уместная стрелка.
Хозяин слегка вопросительно улыбнулся и по очереди протянул гостям большую ладонь.
— Бывший полицейский и давний случай на Мосту Дина. Должен признать, вы меня заинтриговали! — он махнул рукой в сторону красных кресел. — Садитесь. Будете что-нибудь пить? Чай? Кофе?
Фин вежливо отказался. Они с Маршели уселись на краешках сидений.
— Мы пытаемся установить личность человека, который сейчас живет на острове Льюис. В середине пятидесятых годов прошлого века он жил в приюте Дин.
Келли рассмеялся.
— Вы точно бывший полицейский? Говорите так, будто служите до сих пор.
— Я действительно ушел из полиции.
— Ладно, верю вам на слово, — он задумчиво затянулся. — Почему вы думаете, что я могу помочь?
— Ваша семья тогда жила в деревне Дин, в бывшем поселке мельников.
— Да, — кивнул Келли. Потом рассмеялся:
— Сейчас деревню не узнать. Настоящий рай для яппи!
Помолчал.
— С чего вы решили, что я знаю какого-то типа из Дина?
— Он был замешан в историю с Мостом Дина так же, как и ваши братья.
В глазах у Келли что-то изменилось. Или цвет лица стал чуть более красным? Возможно, так у него выражалась боль.
— Как его зовут?
— Тормод Макдональд, — сообщила Маршели. Фин взглянул на нее и быстро произнес:
— Вы должны были знать его под другим именем.
Келли уставился на Маршели:
— Кто он вам, этот человек?
— Он мой отец.
В комнате повисла тишина, почти видимая, как дым от сигар, и очень долгая.
— Простите, — наконец произнес Келли. — Я всю жизнь пытался это забыть. Очень тяжело в детстве потерять старшего брата. Особенно если он для вас — герой, — он покачал головой. — А Патрик был моим героем.
Фин кивнул.
— Мы думаем, что мальчика из Дина звали Джон. А вот фамилию мы пытаемся выяснить.
Келли глубоко затянулся сигарой. Дождался, пока дым начнет серыми струйками выходить из его ноздрей и уголков рта, и только потом выдохнул его в и без того спертый воздух.
— Джон Макбрайд, — сообщил он.
Фин задержал дыхание.
— Вы его знали?
— Лично — нет. Я не был на мосту в ту ночь. Но были трое моих братьев.
— И Патрик тогда утонул? — спросила Маршели.
Келли перевел взгляд с Фина на нее.
— Да, — произнес он едва слышно. Потом снова затянулся. Фин с изумлением увидел, что уголки его глаз увлажнились. — Но я не говорил об этом больше пятидесяти лет. И не очень хочу начинать сейчас.
Маршели кивнула.
— Простите. Конечно, я понимаю.
Они в молчании шли по улице. Вокруг за деревьями и высокими заборами молчали виллы. Позади, в переулке, остался старый каретный сарай. Справа вверх уходила мощеная брусчаткой мостовая, утопающая в зелени.
Маршели больше не могла сдерживаться.
— Как ты думаешь, что в ту ночь произошло на Мосту Дина?
— Узнать это невозможно, — Фин покачал головой. — Все, кто там был, умерли. Ну, кроме твоего отца и Кейт. Возможно, она тоже умерла, мы же не знаем.
— Зато теперь мы знаем, кто мой отец, как его звали.
Фин посмотрел на нее.
— Зря ты сказала Келли, как его сейчас зовут.
У Маршели кровь отхлынула от лица:
— Почему?
— Пока не знаю, — вздохнул он. — Но лучше б ты этого не говорила.
Глава тридцать четвертая
Начинался вечер. Фин смотрел из иллюминатора на скалы, тянувшие свои черные пальцы далеко в Минч. Волны разбивались вокруг них в белую пену. Вглубь острова тянулось болото, изборожденное шрамами, которые оставили добытчики торфа. Озеро Лох-а-Туат отражало собирающиеся в небе темные тучи. Поверхность его морщилась от ветра. Маленький самолет «Бритиш Эйрвейз» сражался с этим ветром, стараясь совершить как можно более мягкую посадку на короткой полосе аэродрома Сторновея. И этот же ветер завывал вокруг Фина и Маршели на парковке, пока они бросали сумки в багажник. Они быстро укрылись в машине от первых крупных капель дождя, пришедшего с запада. Фин завел двигатель и включил дворники.
Они очень быстро нашли нужные данные в Центре семейной истории Национального архива Шотландии. Джон Уильям и Питер Ангус Макбрайд родились в тысяча девятьсот сороковом и сорок первом годах соответственно, в Слэйтсфордском районе Эдинбурга. Родителями их были Мэри Элизабет Рафферти и Джон Энтони Макбрайд. Джон Энтони погиб в сорок четвертом году, во время службы в Королевском флоте. Мэри Элизабет умерла спустя одиннадцать лет от сердечной недостаточности, причина которой не была указана. Маршели заплатила за выписки из свидетельств о рождении и смерти для всей семьи. Теперь копии лежали в конверте, а конверт — в сумке, которую она прижимала к груди.
Фин не знал, что она на самом деле думает. Все время полета Маршели молчала. Вероятно, она пересматривала все, что когда-либо знала или думала о себе. Выяснилось, что в ней нет ни капли островной крови, хотя родилась и выросла она на Льюисе. Мать-англичанка, отец — католик из Эдинбурга, который к тому же взял себе чужую личность и биографию. Все это стало неприятным открытием. Сейчас Маршели была бледна, под глазами залегли тени, тусклые волосы растрепались. Она выглядела несчастной и раздавленной, и Фину инстинктивно хотелось обнять ее, защитить. Но что-то произошло в Эдинбурге, и между ними выросла стена. Сначала казалось, они снова нашли друг друга после стольких лет. Потом это ощущение ушло.
Вся эта история с установлением личности ее отца изменила Маршели. Та девушка, которую он когда-то знал, исчезла, потерялась в кризисе идентичности. Фин боялся, что она больше никогда не выйдет к свету. А если и выйдет, то окажется кем-то совсем другим.
Кроме того, установление личности отца Маршели и его брата не пролило свет на причины убийства Питера Макбрайда на Эрискее много лет назад.
Они долго сидели в машине. Двигатель работал, дворники двигались взад-вперед по стеклу; снаружи бушевали дождь и ветер. Наконец Маршели повернулась к нему:
— Отвези меня домой, Фин.
Но он не стал переключать передачи и выезжать с парковочного места. Так и сидел, вцепившись в руль, глядя перед собой. Ни с того ни с сего ему в голову пришла идея, крайне простая и ослепительно очевидная.
— Я хочу поехать к твоей маме.
Женщина только вздохнула.
— Зачем?
— Разобрать вещи твоего отца.
— Для чего?
— Я не узнаю, пока не найду то, что нужно.
— Зачем все это, Фин?
— Затем, Маршели, что кто-то убил Питера Макбрайда. Полиция открыла дело об убийстве, на следующей неделе приедет следователь. Твой отец останется главным подозреваемым, если у нас не будет доказательств обратного.
Женщина устало пожала плечами.
— Ну и что?
— Тебе не может быть все равно. Это твой отец! То, что мы о нем узнали, ничего не меняет. Это тот самый человек, который таскал тебя на плечах на резку торфа. Это он целовал тебя в лоб, когда укладывал спать. Он был рядом с тобой всегда, когда был тебе нужен, с твоего первого школьного дня до самого дня свадьбы. А теперь ему нужна твоя помощь.
Маршели растерянно взглянула на него.
— Я не знаю, как к нему относиться, Фин.
— Я уверен: если бы он мог, он рассказал бы тебе все, Маршели. Все, о чем молчал все эти годы. Все, чем ни с кем не делился. Я не представляю, как ему было тяжело, — он в волнении пригладил свои светлые завитки. — Мы заходим в дом престарелых и видим: вокруг сидят пожилые люди. Пустые глаза, грустные улыбки. Мы считаем их просто… старыми. Старыми, усталыми, ни на что не годными. А ведь каждый из них прожил жизнь, у каждого своя история. Боль, любовь, отчаянье, надежда — знакомые нам чувства. И когда мы стареем, мы не перестаем чувствовать. Когда-нибудь и мы будем так сидеть и смотреть на молодых, а они будут считать нас просто… старыми. Разве тебе это понравится?
Маршели явно стало стыдно.
— Я люблю отца и всегда любила.
— Тогда верь в него. Ты должна верить: если он что-то сделал, значит, на то была причина.
Видимость на северо-западном конце Льюиса была почти нулевой. Дождь — мельчайшую водяную пыль — несло с океана сплошными пластами. Вдали, за махером, едва можно было различить белую пену волн на черном гнейсе. Даже мощный луч маяка на мысе Батт терялся в этой непогоде.
Когда они появились перед ее домом, прячась под курткой Фина, промокшие за время пути от машины до дверей, мать Маршели очень удивилась.
— Где вы были? — спросила она. — Фионлах сказал, вы летали в Эдинбург.
— Тогда зачем ты спрашиваешь?
Миссис Макдональд вздохнула с досадой.
— Ты понимаешь, о чем я.
— По личному делу, мам.
По пути в Несс Фин и Маршели условились, что не скажут ее матери о том, что им удалось узнать про Тормода. Конечно, когда-нибудь это станет известно. Но сейчас раскрывать это не было смысла.
— Мы хотели бы посмотреть на вещи Тормода, если можно, миссис Макдональд.
Она вдруг раскраснелась.
— Зачем?
— Просто хотим, и все, — Маршели двинулась в сторону кабинета отца, мать шла за ней.
— В этом нет смысла. Весь этот мусор больше не нужен ни мне, ни тебе, ни ему.
Маршели остановилась в дверях пустой комнаты. Картин на стенах больше не было, все вещи со стола исчезли. В его ящиках, в шкафах для документов тоже пусто. Коробок с мелкими предметами не видно. Комната казалась стерильной; ее продезинфицировали, как будто отец Маршели был опасной болезнью. От него здесь не осталось и следа.
Маршели повернулась к матери.
— Что ты наделала? — спросила она потрясенно.
— Он здесь больше не живет, — женщина начала защищаться. — Я не буду держать в своем доме его мусор.
— Мама, вы прожили с ним почти пятьдесят лет! Ты же его любила! Разве нет? — в голосе Маршели прорезались обвиняющие нотки.
— Он уже не тот, за кого я выходила.
— Он в этом не виноват! У него маразм, мама. Это болезнь.
— Вы выбросили все? — спросил Фин.
— Мусор вывезут через несколько дней. Пока все стоит в коробках в коридоре.
Маршели покраснела от возмущения.
— Не смей выбрасывать это! Ясно? Это вещи моего отца! — она потрясла пальцем перед лицом матери. — Не хочешь держать их у себя — я их заберу!
— Да пожалуйста! — чувство вины переросло в гнев. — Забирай хоть все. Мне это не нужно! Можешь хоть на костре сжечь!
И она ушла в глубину дома, чуть не задев по пути Фина.
Маршели стояла, тяжело дыша, глаза ее горели. По крайней мере, она встала на защиту отца, подумал Фин.
— Я сложу заднее сиденье, и мы погрузим все в машину.
Окна на кухне у Маршели запотели. Картонные коробки промокли, пока их несли от дома к машине, а потом — из машины в бунгало. Их содержимое не пострадало: Фин приклеил сверху мусорные пакеты. Зато людей ничто не могло защитить от дождя. В доме бывший полицейский сразу же снял промокший пиджак; Маршели до сих пор вытирала волосы большим полотенцем.
Фионлах стоял рядом и смотрел, как Фин по одной открывает коробки. В одних были фотоальбомы, в других — старые счета. Нашлись ящики с инструментом и какими-то мелочами, жестянки с гвоздями. Увеличительное стекло, коробка ручек с высохшими чернилами, сломанный степлер, коробочки скрепок..
— Я вроде как помирился с преподобным Мюррэем, — сообщил Фионлах.
Фин поднял голову.
— Он говорил, что ты был у него.
— Несколько раз.
Фин с Маршели посмотрели друг на друга.
— И как?
— Ты уже знаешь, он согласился, чтобы Донна с Эйлид жили здесь.
— Ну да.
— Я сказал ему, что брошу школу и постараюсь найти работу в Арнише, чтобы кормить и одевать семью.
Маршели явно удивилась.
— И что он сказал?
— Он чуть мне голову не оторвал, — усмехнулся Фионлах. — Сказал, что лично выбьет из меня дерьмо, если я не закончу школу и не поступлю в университет.
Фин поднял бровь:
— Прямо так и сказал?
— Примерно так, да. Я думал, священникам нельзя ругаться.
Фин рассмеялся.
— Господь разрешает им ругаться на чем свет стоит. Конечно, если это ради хорошего дела, — он помолчал. — Значит, ты пойдешь в университет?
— Если поступлю.
В дверях появилась Донна с малышкой на плече.
— Покормишь ее? Или мне покормить?
Фионлах улыбнулся дочери, провел пальцами по ее щеке.
— Покормлю. Бутылочка разогревается?
— Да.
Донна передала ему ребенка. Он двинулся за девушкой, но в дверях обернулся.
— Кстати, Фин, ты был прав. Ну, насчет отца Донны. Он не так уж плох.
Отец и сын переглянулись. Фин ухмыльнулся.
— Ну да, он не совсем пропащий.
Фионлах ушел. Бывший полицейский разорвал следующую коробку; она была набита книгами и блокнотами. Он вытащил верхнюю книгу в твердой зеленой обложке. Это оказалась антология поэзии двадцатого века.
— Я не знал, что твой отец любит стихи.
— Я тоже не знала, — Маршели подошла посмотреть.
Фин открыл книгу. На форзаце каллиграфическим почерком было выведено: «Тормоду Уильяму Макдональду. С днем рождения! Мама. 12 августа 1976 г.». Бывший полицейский нахмурился:
— Мама?
— Они всегда называли друг друга «мама» и «папа», — голос Маршели дрожал.
Фин пролистал страницы. Из книги выпал сложенный листок линованной бумаги. Он был озаглавлен «Солас» и весь заполнен неровным почерком.
— Это социальный центр рядом с домом престарелых. Мы его туда возили, помнишь? — сказала Маршели. — И почерк его. Что он писал?
Она взяла листок из рук Фина; он встал, чтобы читать вместе с ней. Каждое третье слово было зачеркнуто, иногда — по нескольку раз: Тормод пытался исправить ошибки. Маршели в ужасе зажала рот:
— Он всегда гордился тем, как грамотно пишет!
Потом начала читать вслух:
— «Когда я приехал, здесь уже сидело человек двадцать. Большинство — глубокие старики», — слово «старики» было переписано три раза. — «Некоторые очень слабы и уже не могут говорить. Другие не могут ходить, но все равно вяло переставляют ноги. Один их шаг — всего дюйм. Но есть такие, кто еще ходит, и неплохо».
Голос Маршели сорвался, она больше не смогла читать. За нее продолжил Фин.
— «Когда я пишу, я все время делаю ошибки, даже в простых словах. Конечно, это началось не вчера. Я бы сказал, в конце одиннадцатого года, и изменения были так малы, что вначале я их не замечал. Но время шло, и я стал понимать, что уже не могу ничего запомнить. Это ужасно. Я очень близок к тому, чтобы стать полностью беспомощным».
Фин положил листок на стол. Снаружи все еще выл ветер, по стеклу барабанил дождь. Бывший полицейский провел пальцем по неровному краю листка — видимо, его вырвали из блокнота. Понимание, что ты теряешь разум, должно быть хуже, чем сама болезнь, подумал он. Ужасно, когда от тебя понемногу уходят воспоминания, способность рассуждать — все, что делает тебя тобой.
Маршели глубоко дышала, вытирая мокрые щеки. Оказывается, может закончиться все, даже слезы.
— Я сделаю нам чай, — сказала она.
Женщина поставила на огонь чайник, стала доставать кружки и чайные пакетики. Фин тем временем открыл еще одну коробку. В ней были бухгалтерские книги за все то время, что Тормод работал на ферме. Фин вытащил их одну за другой и на самом дне коробки обнаружил большой альбом для вырезок в мягкой обложке. Он буквально лопался, набитый статьями из газет и журналов за разные годы. Фин положил альбом на коробку, стоявшую рядом, и открыл. На первых страницах вырезки были аккуратно приклеены, а дальше — просто всунуты между листами альбома. Их было очень много.
Фин слышал, как закипает чайник, как шумит за окном непогода, слышал отголоски музыки из комнаты Фионлаха и Донны. Маршели повторяла:
— Что такое, Фин? Что это за вырезки?
Но внутри него царила тишина. Когда он заговорил, ему показалось, что он слышит свой голос со стороны:
— Нам надо отвезти твоего отца на Эрискей, Маршели. Только там мы сможем узнать правду.
Глава тридцать пятая
Маршели здесь! Я так и знал, что она приедет. И с ней еще парень, я, правда, не помню, кто он. Зато он был так добр, что помог мне упаковать в сумку вещи. Носки, трусы, пару рубашек, брюки. В гардеробе и ящиках комода осталось еще много одежды, но это не страшно. Они заберут ее попозже. Милая Маршели! Мне хочется петь от счастья! Жду не дождусь, когда мы приедем домой. Я, правда, не уверен, что помню, где наш дом. Ну, молодежь-то знает.
Когда мы выходим, мне все улыбаются. Я радостно машу им рукой. Женщина, которая все время уговаривает меня раздеться и принять ванну, не очень довольна. Как будто пошла пописать на болоте и села на чертополох. Я так хочу сказать: «Ха! Так тебе и надо!». Правда, получается что-то вроде «Дональд Дак». Кто это сказал?
Снаружи прохладно, идет дождь. Мне раньше нравился дождь. Я любил возиться с животными, и чтобы рядом никого не было. Только я и дождь в лицо. Это была свобода. Я мог не притворяться. Молодой парень просит меня сказать, если мне нужно будет пописать. Он остановится где угодно, в любой момент. Конечно, отвечаю я. Не наделаю же я в штаны, правда?
Кажется, мы едем уже очень долго. Может быть, я даже поспал. Я смотрю на места, мимо которых мы проезжаем. Они мне вообще не знакомы. Не понимаю, это трава пробивается сквозь камни или камни лежат в траве? Больше тут ничего нет, только камни и трава на склонах холмов.
А вот теперь вдалеке я вижу пляж! Трудно поверить, что он может быть таким большим, а океан — таким синим. Однажды я уже видел такой пляж. Наверное, самый большой за всю свою жизнь. Гораздо больше, чем Пляж Чарли. Но тогда я страшно горевал и чувствовал ужасную вину, а потому мне было не до красот. Я сидел за рулем старого фургона Дональда Шеймуса. Питер лежал в кузове, завернутый в одеяло, которое я взял из спальни, чтобы отнести его в лодку. Мэри-Энн и Дональд Шеймус спали мертвым сном. Казалось, стоит им положить голову на подушку, и их ничто не сможет разбудить. Это было хорошо, потому что я был в панике и горько плакал. Наверняка я оставил везде следы крови. Но мне, понятно, было все равно.
Когда мы добрались до Лудага, я немного успокоился. Мне нужно было держать себя в руках — ради Кейт. Помню, как я смотрел в зеркало заднего вида на фургоне Дональда Шеймуса. Кейт стояла на пирсе в темноте и смотрела мне вслед. Уже тогда я знал, что больше ее не увижу. Но у меня на шее висел ее медальон со святым Христофором, так что Кейт всегда будет со мной — так или иначе.
Мне повезло с отливом, и я смог быстро пересечь все броды. Я понимал: до утра надо уехать от острова как можно дальше. Дональд Шеймус быстро сообразит, что я и Питер куда-то делись с его деньгами, ружьем и фургоном. Наверняка он сразу сообщит в полицию. Мне нужно уехать, и подальше.
Бледный рассвет поднялся из тумана в Заливе Харриса, когда я ждал первого парома на Бернерэе. Большинство машин вокруг меня были грузовыми. На меня никто не обращал внимания. Но я был на краденом фургоне, и в кузове у меня лежал труп брата. Естественно, я очень нервничал. Здесь и в Левербурге, когда паром причалит, я наиболее уязвим. Но я постарался поставить себя на место полицейских. Я украл ружье, деньги и машину. Про Питера они, конечно, не знали — искали бы двоих братьев. Куда мы поедем? Я уверен, они решили, что мы вернемся на материк. Значит, нам прямая дорога в Лохмэдди, а оттуда — на пароме в Скай. Зачем нам ехать на север, на Харрис или Льюис? Рассуждал я, в общем, правильно. Правда, в тот момент я сам себе не верил.
В то утро паром пересек залив тихо, как призрак. Волны на свинцовом море были совсем мелкие. Солнце пряталось за низкими плотными тучами. Как только в Левербурге спустили сходни, я съехал на дорогу и был таков. В тот день я впервые увидел пляжи Скаристы и Ласкентайра. Проезжая через крохотную деревушку Силбост, вспомнил, что Тормод Макдональд, которым я стал, родился здесь. Остановился на несколько минут, прошел по тропинке через махер. Передо мной расстилались бесконечные золотые пески. Это моя новая родина, надо привыкать. Я был очень разными людьми и, наверное, много кем еще стану. Я вернулся в фургон и дальше ехал без остановок. Миновал окраины Сторновея, потом болота Барваса и выехал на дорогу, ведущую вдоль западного побережья, в Несс. Вряд ли я мог забраться еще дальше от Эрискея.
В Барвасе я свернул на грунтовую дорогу. Позади остались несколько домов, словно окопавшихся на обочине. Передо мной было озеро, почти со всех сторон окруженное сушей. Вдалеке морские волны разбивались о берег. Я сидел рядом с Питером и ждал, пока стемнеет. Казалось, ночь не наступит никогда. Мой желудок стонал от голода: я ничего не ел почти сутки, и голова у меня кружилась. Наконец небо на западе потемнело. Старый фургон Дональда Шеймуса взревел мотором. Я вернулся по грунтовке на главную дорогу и повернул на север. В Сиадере я приметил дорогу, уводящую в темноту, к морю, и сейчас свернул на нее. Я выключил фары и медленно ехал к скалам, высматривая путь, когда луна выглядывала из-за туч. Когда впереди уже можно было разглядеть светящееся в темноте море, я выключил двигатель и вышел из фургона. Вокруг не было ни огонька. Я достал из кузова нож тараскерр, который взял у Дональда Шеймуса. Болотная почва мягкая и мокрая, но все равно у меня ушел почти час, чтобы вырыть достаточно глубокую могилу для Питера. Вначале я срезал верхний слой торфа и отложил его в сторону. Потом начал копать и копал, пока не убедился, что тело полностью вытеснит воду, стекавшую в яму. Теперь, когда я все сделаю и верну на место торф, никто не догадается, что здесь копали. Ну, или подумают, что кто-то начал резать торф, а потом раздумал. Я знал: земля очень быстро осядет. Она примет моего брата в объятия и будет держать его вечно.
Когда я закончил копать, я снял с Питера одеяло и осторожно положил брата в могилу. Встал на колени у его головы, поцеловал в лоб и помолился за его душу. Правда, теперь я не был уверен, что Бог действительно есть. Я забросал могилу землей; меня переполняли горе и чувство вины, так что я едва мог держать лопату. Уложив на место последний брикет торфа, я постоял минут десять, ожидая, пока ветер высушит пот. Затем взял окровавленное одеяло и отнес его за болото, к песчаной бухточке среди скал. Там я сел на песок, создавая защиту от ветра, и поджег одеяло. Посидел, глядя, как весело горит костерок, а дым и искры уносит ветер. Это была своего рода символическая кремация: кровь моего брата вернулась в землю.
Я сидел на пляже, пока совсем не замерз. Поднялся, едва ковыляя, дошел до фургона, завел мотор. Вернулся на дорогу, потом двинулся на юг через Барвас и повернул на восток где-то в районе Арнола. Узкая дорога вилась через болото к далеким холмам. Я собирался поджечь фургон, но боялся, что огонь заметят даже с большого расстояния. И тут в проблеске лунного света я увидел чуть ниже дороги озеро. Остановился, забрал свои вещи из кузова, подъехал к краю дороги. Выключил двигатель, выпрыгнул на мягкую землю, уперся плечом в дверь и несколько футов толкал фургон, пока он не набрал скорость. Он скатился с края дороги, и я скорее услышал, чем увидел, как он упал в озеро. Еще час я просидел на холме. Когда луна выходила из-за туч, видно было, что из воды торчит крыша. Я начал думать, что совершил ужасную ошибку; но к утру фургон полностью утонул.
До утра я занимался тем, что разбирал дробовик, из которого Дональд Шеймус стрелял кроликов, чтобы можно было убрать его в сумку. С первым светом дня я двинулся через болото к дороге. Я всего пять минут шел по направлению к Барвасу, как старый фермер, ехавший в Сторновей, остановился и предложил меня подвезти. Он говорил без остановки, а я сидел, отогревался и чувствовал, как к ногам и рукам возвращается жизнь. Мы были уже на полпути через болото Барваса, когда фермер заметил:
— Ты странно говоришь на гэльском, сынок. Ты не из наших мест.
— Верно. Я с Харриса, — и я потянулся пожать ему руку. — Тормод Макдональд.
С тех пор я себя так и называл.
— Что собрался делать в Сторновее?
— Мне надо на паром, на материк.
— Удачи, сынок, — усмехнулся старый фермер. — Это нелегкий путь.
Тогда я не знал, что вернусь, когда закончу дело. Меня будет гнать стремление быть поближе к брату. Как будто это могло что-то исправить — ведь я не сдержал данного матери обещания.
— Где мы? — спрашиваю я.
— Это Левербург, папа. Мы поплывем на пароме на Северный Уист.
Северный Уист? Я уверен, что мой дом не там. Я чешу в затылке:
— Зачем нам туда?
— Мы везем тебя домой, папа.
Глава тридцать шестая
Маршели и Фин не сказали Фионлаху, сколько времени их не будет. Мать дала ему свой телефон, чтобы он всегда мог ей дозвониться. Поздним утром Фионлах поехал в магазин Кробоста, чтобы запастись едой на ближайшие дни.
Погода была ужасная. С моря дул порывистый ветер, нес с собой мельчайший дождь, пригибал к земле весеннюю траву. Фионлах не переживал: он вырос на острове и привык к такой погоде. Он любил, когда дождь хлещет в лицо. Любил, когда в просветы между тучами внезапно прорывается солнечный свет. Он отражается от океанской воды и ослепляет, как озеро ртути. Так может продолжаться несколько секунд или минут.
Когда Фионлах возвращался в бунгало, вершина холма терялась в облаках. Тяжелые темные тучи двигались так низко, что, казалось, можно поднять руку и коснуться их. Донна обещала приготовить обед к его возвращению. Ничего особенного, салат с яйцами и ветчиной. На засыпанной гравием площадке чуть выше дома, где Фионлах обычно парковал свой «Мини», стоял белый «Рейндж Ровер». Номеров он не узнал. На Льюисе вначале смотришь на номер машины, и если узнал, машешь водителю. Лицо почти невозможно разглядеть сквозь ветровое стекло: или отраженный свет мешает, или дождь. У «Рейндж Ровера» был не островной номер.
Фионлах припарковался рядом с белой машиной. Выходя, он заметил на ее заднем сиденье номер «Эдинбург Ивнинг Ньюс». Юноша достал сумки с продуктами с заднего сиденья «Мини» и кинулся к двери кухни под дождем. Он умудрился нагнуться и повернуть ручку, не уронив бумажный пакет, который держал в правой руке. Зашел на кухню и у двери, ведущей в холл, увидел Донну. Она прижимала к себе Эйлид так крепко, будто та могла улететь. В воздухе стоял запах дыма. Лицо Донны было белее «Рейндж Ровера» на стоянке у дома, а зрачки расширены так, что глаза казались черными. Фионлах понял: случилось что-то страшное.
— Что такое, Донна?
Ее испуганный взгляд метнулся через кухню. Фионлах повернулся: за столом сидел высокий мужчина с ежиком седых волос. На нем был пиджак «Барбур», белая рубашка расстегнута на толстой шее. На ногах — джинсы и дизайнерские черные ботинки от «Чезаре Пачиотти». Мужчина курил очень длинную сигару; она уже прогорела почти до костяшек его пальцев в пятнах от никотина.
Донну толкнули в спину. Она сделала несколько шагов, чтобы не упасть, и оказалась в кухне. Из-за ее спины появился еще один мужчина, гораздо моложе того, кто сидел за столом. Его густые черные волосы были зачесаны назад и уложены гелем. Одет он был в длинный коричневый непромокаемый плащ, синюю рубашку и брюки угольного цвета. Фионлах совершенно не к месту отметил, что на его дорогих черных итальянских туфлях налипла грязь. А в правой руке он держал что-то, очень похожее на дробовик с отпиленным стволом.
— Что?! — только и смог сказать Фионлах. Он и сам понимал, как глупо это звучало. Первое, что пришло ему в голову в состоянии шока — это какая-то шутка, только совсем не смешная. Но на лице Донны был настоящий страх. Юноша стоял с пакетами в руках, дождь и ветер влетали на кухню через открытую дверь. Он не знал, что делать.
Сидевший за столом мужчина откинулся на стуле, внимательно посмотрел на Фионлаха. Потом затянулся.
— Где твой дед?
Юноша в ужасе повернулся к нему.
— Я не знаю.
— А я думаю, знаешь. Твоя мать и ее друг с утра забрали его из дома престарелых. Куда они поехали?
У Фионлаха мурашки побежали по коже.
— Я не знаю!
Он надеялся, что это прозвучало вызывающе.
— Не нарывайся, сынок, — человек за столом оставался спокоен. Его взгляд скользнул по Донне с ребенком на руках. — Это твой ребенок, да? Правнучка старого Тормода?
Фионлаха пронзил страх.
— Только попробуй их тронуть!..
— И что тогда? Что ты сделаешь, парень? Скажи мне.
Юноша взглянул на человека с обрезом. Его лицо было бесстрастным, но что-то во взгляде удерживало от неразумных действий.
— Просто скажи, куда они повезли твоего деда. Мне больше ничего не надо.
— А если не скажу?
Человек с сигарой едва заметно качнул головой, потом улыбнулся и выдохнул дым.
— Ты не хочешь знать, что я сделаю с твоей девушкой и ребенком.
Фионлах не мог вздохнуть. Он очень испугался, а потом понял, что это сон. Конечно, это сон! Он на дне океана. Вокруг темно и холодно, и он понимает: стоит ему вдохнуть — и вода наполнит легкие. Поэтому он оттолкнулся и поплыл к поверхности. Где-то далеко вверху виднелось пятно света. Оно медленно становилось ярче, но поверхность все равно была еще далеко. Казалось, его легкие разорвутся. Юноша толкался ногами, стремясь к свету. Внезапно он выплыл на поверхность в ослепительной вспышке, и все его мысли заполнила боль.
Голова раскалывалась, и Фионлах словно со стороны услышал свой вскрик. Он перекатился на бок, не понимая, почему не двигаются руки и ноги. Прищурив глаза от яркого света, он подождал, пока взгляд не начнет фокусироваться на знакомых предметах кухонной обстановки. Но мысли все еще путались, воспоминания возвращались медленно. Юноша лежал неподвижно, стараясь дышать ровнее, и вспоминал, как возвращался из магазина. Белый «Рейндж Ровер», человек с обрезом, мужчина с сигарой, который угрожал что-то сделать с Донной и Эйлид, если он не скажет, куда его мать и Фин повезли Тормода… Фионлах очень старался, но не мог вспомнить, что было дальше. И тут он понял, почему не может двигаться.
Он лежал на полу со связанными ногами. Руки тоже были связаны за спиной. На полу он увидел кровь, очень испугался и закричал изо всех сил:
— Донна!..
Его голос эхом разнесся по пустому дому. В ответ — глубокая тишина. Паника почти парализовала Фионлаха, только выброс адреналина заставил его раз за разом пытаться сесть.
Когда он наконец принял сидячее положение, то увидел, что ноги его связаны скрученным кухонным полотенцем. С огромным трудом он встал на колени, потом сел на пятки — так, чтобы пальцы касались узла на полотенце. Развязать его и встать было делом нескольких минут. Фионлах бежал по дому и звал Донну, но ни ее, ни малышки нигде не было — все комнаты пусты. В спальне он краем глаза увидел свое отражение в зеркале. Из раны на голове текла кровь. Хоть что-то хорошее: значит, кровь на кухонном полу его, а не Донны или Эйлид. Но где же они сами? Куда их увезли эти люди?
Фионлах вбежал на кухню, осмотрелся. На подставке возле раковины стояли ножи, но юноша понимал, что не сможет сам разрезать веревки на запястьях. Ему нужна была помощь. Он смог открыть кухонную дверь, повернувшись к ней спиной и нашарив пальцами задвижку. Выбежал под дождь и кинулся по мокрой траве вверх, к дороге. Споткнулся на гудроне и упал, тяжело приземлившись и расцарапав щеку. Дождь хлестал юношу по лицу, пока он поднимался на ноги. Фионлах помчался сквозь непогоду к зданию церкви и дому священника. Вокруг не было ни души. В такую погоду, как говорится, хороший хозяин собаку на улицу не выгонит.
Поднимаясь на холм, юноша чувствовал, что его силы на исходе. Он прошел через парковку, осторожно миновал решетчатое ограждение — ворота он просто не смог бы открыть. Бросился через двор к лестнице, преодолел ее, перескакивая сразу через две ступеньки. Остановился перед дверью и понял, что ни позвонить, ни постучать не может. Тогда он принялся пинать ее ногами и кричать. Слезы и кровь слепили его.
Дверь распахнулась, и на пороге появился очень недовольный Дональд Мюррэй. Его недовольство сразу уступило место страху, он побледнел буквально на глазах.
Глава тридцать седьмая
Непогода осталась далеко позади. Дождь и ветер следовали за ними с северо-запада, но отстали в горах Северного Уиста. Чем дальше к югу, тем приятнее становилась погода: дождь кончился, ветер ушел куда-то в океан. Вокруг разливался теплый желтый свет раннего вечера, через дорогу пролегли тени.
Фин понял, что его мобильный телефон выключен, только когда они остановились в кафе в Бенбекуле. Он провел несколько ночей подряд в палатке, а потом в гостинице, и все это время не заряжал телефон. Вернувшись в машину, он поставил его заряжаться от прикуривателя. Сам телефон он опустил в держатель стаканов между сиденьями.
Через час они обогнули мыс у Восточного Киллбрайда и увидели маленький причал в Лудаге. По ту сторону залива виднелся залитый солнцем остров Эрискей. Чистую синюю воду залива колыхал легчайший ветерок. Они миновали прямой участок дамбы, потом поворот и небольшой подъем. В конце него Фин снова двинулся вниз, к маленькой гавани Хаунна. Пока они ехали, он наблюдал за Тормодом в зеркале заднего вида. Старик смотрел из окна, в его пустом взгляде не было ни намека на узнавание. Поездка вдоль оси «длинного острова» вышла долгой: почти пять часов, включая паромные переправы, остановки на обед и кофе. Тормод устал и выглядел сонным.
Однополосная дорога огибала гавань. Фин свернул с нее на гравийную подъездную дорогу, которая вела к большому белому дому на холме. Машина прогрохотала по защитной решетке и остановилась рядом с розовым «мерседесом». Фин с Маршели помогли Тормоду вылезти с заднего сиденья. Все его тело затекло за время долгого пути, и поначалу ему было трудно двигаться. Но вот он вышел на дорожку, распрямился, вдыхая прохладный соленый воздух. Глаза Тормода, уже не такие тусклые, осмотрелись вокруг. Впрочем, ни холма, ни гавани он не узнавал.
— Где мы? — спросил он.
— Там, где все началось, мистер Макдональд, — Фин взглянул на Маршели, но ее глаза были прикованы к отцу. — Пойдемте. Хочу вас кое с кем познакомить.
Они взобрались на веранду. Фин нажал кнопку звонка у двери, и все слушали, как в глубине дома играет гимн Шотландии, Scotland the Brave. Вскоре дверь широко открылась. На пороге стояла Мораг — в одной руке стакан джин-тоника и сигарета, вокруг ног с лаем вьется Дино. Она осмотрела троих гостей, и на лице ее проступило выражение обреченности.
— У меня было чувство, что ты вернешься, — сообщила она Фину.
— Привет, Кейт, — ответил он.
Ее глаза на мгновение зажглись странным огнем.
— Давно меня так не называли, а гра.
— Джон Макбрайд знал это имя, — Фин повернулся к Тормоду. Кейт посмотрела на него, и рот ее широко раскрылся от изумления.
— О Господи, — она задохнулась. — Джонни?
Тот посмотрел на нее пустыми глазами.
— У него маразм, Кейт, — пояснил Фин. — Он почти не понимает, что происходит вокруг.
Кейт протянула руку на пятьдесят лет в прошлое, чтобы коснуться возлюбленного, которого навсегда потеряла дождливой весенней ночью, в другой жизни. Ее пальцы провели по щеке Тормода. Он посмотрел на нее с любопытством, как будто спрашивал, почему она его трогает. Конечно, он ее не узнал.
Кейт убрала руку, посмотрела на Маршели.
— Я его дочь, — сказала та.
Кейт пристроила стакан и сигарету на столик в холле и взяла руку Маршели в свои.
— Если бы все повернулось по-другому, а гра, ты была бы нашей дочерью, — она повернулась к Тормоду. — Я всю жизнь гадала, что же случилось с беднягой Джонни.
— В последний раз вы его видели, когда он уже был Тормодом Макдональдом, — заметил Фин. — Вы украли свидетельство о рождении?
Кейт бросила на него быстрый взгляд.
— Заходите.
Она отпустила руку Маршели, взяла свой стакан и сигарету, и вслед за ней и Дино все направились в гостиную. Из ее панорамных окон открывался вид на холм и бухту.
— Как вы узнали, что я Кейт?
Фин достал из сумки альбом Тормода, выложил на стол и открыл. Кейт-Мораг тихо ахнула, когда поняла, что этот альбом — о ней. Его заполняли вырезки из газет и журналов за двадцать лет. Тормод начал собирать их, когда она стала звездой сериала «Улица». Десятки фотографий, тысячи слов.
— Вы не знали, что стало с Тормодом, Кейт. Зато он знал, что стало с вами.
Тормод подошел к столу и взглянул на них.
— Вы помните альбом, мистер Макдональд? — обратился к нему Фин. — Помните, как делали вырезки и клеили их в альбом? Здесь все про актрису Мораг Мак-Эван.
Старик долго смотрел на свой альбом. Он несколько раз проговорил что-то одними губами, потом сказал вслух:
— Кейт, — и повернулся к Мораг. — Ты Кейт?
Она не смогла ответить и просто кивнула. Тормод улыбнулся.
— Привет, Кейт. Мы так давно не виделись.
По ее лицу полились слезы.
— Да, Джонни, не виделись, — она глотнула джина, чтобы совладать с собой, и ушла за барную стойку. — Вам налить что-нибудь?
Маршели отказалась.
— Вы не рассказали про свидетельство, — напомнил Фин.
Кейт дрожащими руками наполнила свой стакан, закурила еще сигарету. Хорошенько затянулась, отпила из стакана и наконец смогла заговорить.
— Мы с Джонни были влюблены, — она взглянула на старика, стоявшего посреди ее гостиной. — Мы встречались поздно вечером у старого пирса, потом шли через холм на Пляж Чарли. Там стояли развалины дома, из них открывался вид на океан. В них мы занимались любовью, — Кейт покосилась на Маршели. — Мы часто говорили о том, что убежим вместе. Конечно, Джонни не убежал бы без Питера. Он вообще никуда не мог от него деться. Джонни обещал матери, когда та умирала, что позаботится о младшем брате. С ним произошел несчастный случай. Травма головы. Он был не в себе.
Кейт поставила стакан на барную стойку и ухватилась за нее, как будто боялась, что без поддержки упадет. Снова взглянула на Тормода.
— Я бы с тобой на край света пошла, Джонни, — сказала она. Он посмотрел на нее пустыми глазами. Тогда она снова повернулась к Фину.
— Вдова О’Хенли брала меня с собой, когда ездила к своей кузине Пегги на остров Харрис. Мы ездили на Пасху, летом и на Рождество. Она взяла меня на похороны, когда сын Пегги утонул в бухте. Я несколько раз его встречала при жизни. Он был хороший. На похоронах в доме было полно родственников, и мне пришлось спать на полу в его комнате. Я не могла заснуть. Кто-то, может быть, его родители, положил на комод его свидетельство о рождении. Я решила, что во время похорон его не хватятся сразу. А когда поймут, что его нет, про меня никто и не вспомнит.
— Зачем вы его взяли? — спросила Маршели.
— Мы с Джонни собирались убежать. Я подумала, что ему нужны будут новые документы. Без свидетельства о рождении ничего нельзя сделать, — Кейт задумчиво затянулась. — Когда я брала свидетельство, я подумать не могла, в каких обстоятельствах оно пригодится. Совсем не так, как я планировала, — она горько улыбнулась. — Оказалось, что мне очень просто поменять имя. Зарегистрировала новое в Профсоюзе актеров — и все, я больше не Кейт. Я Мораг Мак-Эван, актриса. И могу играть любую роль хоть на сцене, хоть в жизни. Никто никогда не догадается, что я была бедной сироткой, которую отправили на острова, чтобы она прислуживала вдове.
В комнате воцарилась тишина; ее заполняли незаданные вопросы и невысказанные ответы. Первым заговорил Тормод:
— Мы можем поехать домой?
— Уже скоро, папа.
Фин в упор посмотрел на Кейт:
— Питера убили на Пляже Чарли, верно?
Кейт закусила нижнюю губу, но все-таки кивнула.
— Тогда нам пора узнать об этом всю правду.
— Он заставил меня пообещать, что я никому ничего не скажу. И я не говорила.
— Это было давно, Кейт. Если бы Тормод мог рассказать все сам, он бы рассказал. Питера нашли в торфяном болоте на острове Льюис. Его смерть будет расследоваться как убийство. Нам очень нужно знать, что тогда было, — он помолчал. — Его убил не Джонни?
— О Господи, нет! — Кейт шокировала эта мысль. — Он бы умер раньше, чем дал хоть одному волоску упасть с его головы!
— Тогда кто это сделал?
Кейт думала некоторое время, потом затушила сигарету.
— Лучше я отвезу вас на Пляж Чарли и расскажу там. Так вам будет легче понять.
Маршели надела отцу на голову шляпу. В холле Мораг взяла с вешалки жакет, потом подняла с пола Дино.
— Мы все можем поехать в «мерседесе».
Фин заглянул в машину забрать телефон. Он зарядился до конца, и бывший полицейский включил его. Оказалось, ему пришло четыре сообщения голосовой почты. Ничего, послушает позже. Фин захлопнул дверь и побежал к розовому «мерседесу».
Кейт опустила крышу и рванула вверх по холму. Дино, как всегда, висел на ее правой руке. Всех обдувал теплый весенний ветер. Тормод радостно засмеялся, придерживая шляпу на голове. Дино залаял в ответ. Фин подумал: возможно, церковь на холме, начальная школа или старое кладбище заставят старика вспомнить хоть что-то? Но он, кажется, не узнавал окрестности.
Кейт остановилась на участке дороги, с которого открывался вид на Пляж Чарли. Прямо под ними оказались развалины дома.
— Мы на месте, — объявила она. Все вышли из машины и начали осторожно спускаться к развалинам в высокой траве. Ветер крепчал, но был все еще теплым. Солнце клонилось к западному горизонту, разливая жидкую медь по глади океана.
— В тот вечер была такая же погода, — сказала Кейт. — По крайней мере, сначала. Когда я пришла сюда, было уже темно. За островами Лингей и Фудэй собирались грозовые тучи. Я понимала, что скоро со стороны гавани принесет дождь. Но пока все было спокойно — эдакое затишье перед бурей.
Кейт прислонилась к сохранившейся торцевой стене и смотрела, как Дино носится по пляжу, взметая песок задними лапами.
— Я говорила, что мы встречались на пирсе в Хаунне и вместе шли через холм. Но это было опасно, пару раз нас чуть не застукали. Тогда мы решили встречаться уже здесь, а сюда шли разными дорогами.
Дино забегал в полосу прибоя, потом выбегал из пены и лаял на закат.
— В тот вечер я задержалась. Вдова О’Хенли плохо себя чувствовала и не засыпала дольше обычного. Я спешила, бежала всю дорогу. И очень огорчилась, когда не увидела Джонни, — она помолчала, вспоминая. — И вдруг я услышала голоса снизу, с пляжа. Ни шум прибоя, ни ветер их не заглушали. И что-то в этих голосах меня насторожило. Я спряталась здесь, за стеной, и посмотрела вниз.
Фин внимательно смотрел на лицо Кейт. По глазам было видно: она мысленно вернулась в прошлое и действительно сидит сейчас среди камней и травы, глядя на то, что происходит внизу, на пляже.
— Я видела четыре силуэта. Вначале было непонятно, кто это и что они там делают. А потом лунный свет пробился сквозь тучи и осветил пляж. Я не знаю, как смогла не закричать.
Она дрожащими пальцами вытащила сигарету, прикрыла ее от ветра, закурила, неровно вздыхая. Внезапно у Фина зазвонил телефон. Он порылся в кармане, нашел его; оказалось, звонил Фионлах. Фин не хотел прерывать рассказчицу, поэтому сбросил звонок и вернул телефон в карман. Что бы там ни было, оно подождет.
— Они стояли у самой воды, — продолжала Кейт. — Питер был раздет. Его руки связали за спиной и щиколотки тоже связали. С шеи свисала веревка. Двое молодых людей тянули за эту веревку и волокли его по песку. Через пару ярдов они останавливались и пинали его, пока он не встанет. Потом снова волокли, пока не упадет. Джонни тоже там был. Сначала я не могла понять, почему он ничего не делает. Потом увидела, что руки у него связаны, и ноги тоже. Между щиколотками оставили восемнадцать дюймов веревки, чтобы он не мог убежать. Джонни ковылял за этими парнями и умолял их остановиться. Его голос заглушал все остальные.
Фин взглянул на Маршели: на ее сосредоточенном лице застыл ужас. Кейт сейчас рассказывала про ее отца. Это он шел по пляжу внизу, связанный, беспомощный, и умолял сохранить брату жизнь. И бывший полицейский понял: даже если думаешь, что знаешь кого-то, все равно со стороны не скажешь, через что он прошел.
Кейт говорила тихо и хрипло. Ее голос было едва слышен за шумом моря и ветра.
— Они прошли ярдов тридцать-сорок, смеясь и крича. Потом вдруг остановились, заставили бедного Питера встать на колени на мокрый песок. Вокруг его ног пенились волны прилива. В лунном свете заблестели ножи, — Кейт повернулась к слушателям, заново переживая весь ужас того, что видела давным-давно на этом пляже. — Я не могла поверить в то, что вижу. Даже подумала: может, мы с Джонни встретились и занялись любовью, а потом я уснула в траве, и теперь мне снится кошмар? Я видела, как Джонни пытается их остановить. Один из них ударил его, он упал в воду. Этот же человек начал бить Питера ножом, а второй держал его сзади. Я видела, как нож падает, потом поднимается, и с него капает кровь. Мне пришлось укусить себя за руку, чтобы не закричать.
Кейт отвернулась, посмотрела на песок, на линию прибоя. Ночная сцена вспоминалась во всех ужасных подробностях.
— Потом тот, что был сзади, провел ножом по горлу Питера. Одно короткое движение — и из его шеи брызнула кровь. Джонни стоял на коленях в воде и кричал. Питер тоже стоял на коленях, с запрокинутой головой, пока жизнь не покинула его. Это случилось быстро. Его отпустили, и он упал в воду, лицом вниз. Даже отсюда я видела, что пена на волнах стала малиновой. Убийцы Питера повернулись и ушли, как будто ничего не было.
— Вы узнали их? — спросил Фин.
Кейт кивнула.
— Два брата Келли. Их старший брат погиб в ту ужасную ночь на Мосту Дина в Эдинбурге, — она взглянула на Фина:
— Вы про это знаете?
Тот наклонил голову:
— В общих чертах.
— Старший брат, Патрик, упал. Утонул. Дэнни и Тэм считали, что это Питер его толкнул, — женщина горестно покачала головой. — Одному Богу известно, как они нашли нас. Но они нашли. И приехали мстить за своего брата.
Кейт смотрела вдаль. Солнце садилось, и море стало красным, как будто на пляже снова пролилась кровь.
— Когда братья Келли ушли, я побежала на пляж. Джонни стоял на коленях над телом Питера. Начинался прилив, вокруг них бурлила вода. На песке была кровь, и прибой стал розовым. Теперь я знаю, как воют животные, когда оплакивают своих мертвых. Джонни был безутешен. Не давал себя коснуться. Я никогда не видела, чтобы взрослый человек так плакал. Я сказала, что приведу помощь, и он сразу вскочил на ноги. Я испугалась, — она взглянула на Тормода. — Его было не узнать. Это был не мой Джонни, а какой-то одержимый горем незнакомец. Требовал от меня клятвы, что я никому ни о чем не расскажу. Я не могла его понять. Эти парни только что убили его брата! Я устроила истерику. Джонни тряс меня, потом дал пощечину. Сказал, что братья Келли обещали прийти за мной, если хоть кто-то что-нибудь узнает.
Кейт повернулась к Фину с Маршели и продолжала:
— Поэтому он собирался сделать то, что они велели. А велели они, чтобы он сам избавился от тела и никому никогда ни о чем не говорил. Иначе они убьют меня, — она в раздражении подняла руки. — Мне в тот момент было все равно. Я хотела, чтобы Джонни пошел в полицию. А он взял и отказался. Сказал, что сам похоронит Питера там, где его никто не найдет. А потом сделает еще что-то. Он не сказал, что. Но он считал, что подвел мать и должен как-то оправдаться перед ней.
Старый Тормод отошел к развалинам дома, сел на остатки стены и сидел, глядя прямо перед собой, на Пляж Чарли. Солнце наконец зашло, на вечернем небе появились первые звезды. Фин смотрел на старика и пытался понять, смогла ли Кейт своим рассказом достучаться до его гаснущего сознания. А может, сам этот пляж разбудит какие-то воспоминания? Бывший полицейский понимал: вряд ли они когда-нибудь это узнают.
Глава тридцать восьмая
Мне так трудно вспоминать! Я знаю, что прошлое рядом. Чувствую его, но дотянуться и рассмотреть не могу. Я устал. Устал от путешествий, от разговоров, в которых ничего не понимаю. Я думал, меня везут домой.
А здесь хороший пляж. Не такой, как на Харрисе, но тоже хороший. Полумесяц серебристого песка. А это что, луна? В ее свете песок сияет, как будто его подсвечивают снизу. Мне кажется, я был здесь когда-то. Нет, точно был! Я, правда, не помню, где это «здесь». Со мной была Кейт… И Питер. Бедный Питер. Я до сих пор вижу, как он смотрел на меня, когда понял, что умирает. Как та овца, которой Дональд Шеймус перерезал горло в сарае.
А еще я помню гнев. Гнев, горе и чувство вины. Этот холодный гнев съел меня изнутри, убил во мне человека, которым я когда-то был. Я вижу себя со стороны, как во сне. Как будто смотрю старое кино, черно-белое или цвета сепии. Я жду.
В тот вечер было тепло, но я все равно дрожал. В городе совсем другие звуки. Я уже привык к островам, и было очень странно снова оказаться среди высоких зданий, машин и людей. Сколько тут людей! Но сейчас вокруг меня тихо. Людей почти нет, и машины далеко.
Наверное, я жду уже час. Сижу в кустах, пригнувшись, и ноги у меня затекли. Но гнев придает терпение. Вот так же оттягиваешь момент оргазма, чтобы потом было приятнее. А еще гнев ослепляет, гасит воображение. Не думаешь ни о возможностях, ни о последствиях. Сосредотачиваешься на чем-то одном, а все остальное перестает существовать.
Но вот на крыльце зажигается свет, и я уже весь внимание. Раздается скрежет замка, потом скрип петель, и они выходят на свет. Двое братьев, один за другим. Дэнни останавливается, закуривает. Тэм поворачивается закрыть дверь. В этот момент я выхожу на дорожку, в пятно света. Я хочу, чтобы они меня видели. Чтобы узнали и поняли, кто я и что сейчас сделаю. Неважно, кто еще меня увидит. Главное — чтобы видели они.
Дэнни все еще держал горящую спичку, собираясь закурить. Она освещала его глаза, и я увидел: он понимает, что я убью его. В этот момент Тэм обернулся и тоже увидел меня. Я замер. Я хотел, чтобы он тоже все понял.
И он понял.
Я поднял дробовик и выстрелил первый раз. Заряд попал Дэнни в грудь, его отбросило на дверь. Никогда не забуду ужас и обреченность в глазах Тэма. Я выстрелил второй раз. Не так точно, но полголовы ему снесло.
Поворачиваюсь и ухожу. Бежать нет смысла. Питер мертв, а я сделал то, что должен был. К черту последствия! Я больше не дрожу.
Не знаю, сколько раз я видел этот сон. Так часто, что я уже не знаю — а это, правда, только сон? Но все равно ничего не меняется. Питер мертв, и ничто его не вернет. Я пообещал матери беречь его и нарушил обещание.
— Идем, папа. Становится холодно.
Я поворачиваюсь. Маршели наклонилась ко мне, берет меня под локоть, помогает встать. Я поднимаюсь, и она поправляет на мне шляпу. Я вижу ее лицо в лунном свете, поднимаю руку, касаюсь его.
— Я так рад, что ты здесь, — говорю я. — Ты знаешь, что я люблю тебя, да? Очень-очень тебя люблю.
Глава тридцать девятая
На подъездной дороге Кейт нахмурилась.
— В доме нет света. Таймер должен был включить его давным-давно.
Они миновали защитную решетку и тут увидели белый «Рейндж Ровер», припаркованный рядом с машиной Фина.
— Похоже, у вас гости. Знаете эту машину?
Кейт покачала головой.
Все вышли из «мерседеса». Дино с лаем кинулся ко входной двери. Поднимаясь в темноте на веранду, Фин почувствовал, как под ногами хрустит стекло. Кто-то разбил лампочку над дверью.
— Возьмите собаку! — велел он Кейт. Что-то в его голосе заставило послушаться его беспрекословно.
Теперь он был настороже, напряжен и внимателен. Бывший полицейский двинулся к двери, вытянув руку вперед.
— Дверь открыта, — прошептала Кейт. — Я не запираю.
Фин повернул ручку, дверь открылась в темноту. Он вытянул руку назад в предупреждающем жесте, чтобы остальные не шли за ним. На клетчатом ковре в холле под ногами снова захрустело стекло. Лампочки здесь тоже разбили.
Он стоял и слушал, затаив дыхание. На веранде снаружи лаял Дино, заглушая все прочие звуки. Дверь в гостиную открыта нараспашку. Лунный свет проникал в застекленные двери, на полу была видна тень серебряной пантеры. Фин вошел в гостиную и сразу почувствовал чужое присутствие. В темноте раздался приглушенный детский плач.
Чиркнула спичка, и в ее свете стало видно лицо Пола Келли. Он сидел в кресле у окна, выходившего на восток. Келли несколько раз затянулся, пока кончик сигары не начал светиться красным. Потом протянул руку и зажег лампу под стеклянным абажуром. На коленях у него лежал обрез.
Прямо напротив него на краешке дивана сидела Донна с малышкой на руках. Молодой темноволосый мужчина, которого Фин видел на вилле в Эдинбурге, приставил к ее голове еще один обрез. Молодой человек явно нервничал. Донна была похожа на привидение — белая, вокруг глаз тени. Ее трясло.
Фин услышал сзади хруст разбитого стекла и возглас Мораг. Собака замолчала. Зато шепот Маршели: «О Господи!» — казался оглушительным.
Никто не двигался. В наступившей тишине Фин оценил ситуацию. Все выглядело мрачно. Вряд ли Келли приехал, чтобы напугать их.
Когда Келли заговорил, голос его был до странности спокоен.
— Я всегда думал, что моих братьев убил Джон Макбрайд. Но когда я послал сюда своих людей, выяснилось, что он исчез без следа. Словно его никогда и не было, — он помолчал, затянулся. — А теперь он выплыл, — Келли поднял с колен обрез и встал. — Значит, он увидит, как его дочь и внучка умрут. Так же, как мои братья умерли у меня на руках, — его рот искривился, на лице застыла ужасная гримаса. — В ту ночь, когда их застрелили и оставили истекать кровью на крыльце, я стоял за ними, в коридоре. Представьте, что я тогда чувствовал. Представили? Значит, знаете, что сейчас будет. Я всю жизнь ждал этого дня.
— Убьешь одного — придется убить нас всех, — сказал Фин.
Пол Келли улыбнулся, вокруг глаз собрались морщинки.
— Да неужели?
— Всех сразу убить не получится. Застрели девушку — и будешь иметь дело со мной.
Келли поднял обрез, прицелился в Фина.
— Значит, пристрелю тебя первым.
— Это бред какой-то! — голос Маршели эхом отдавался в комнате. — У моего отца маразм, он ничего не понимает. Бесполезно стрелять в кого-то у него на глазах.
— Зато я все понимаю, — глаза Келли стали холодными. — Мне очень нравится правило «око за око».
Кейт вышла вперед, прижимая к себе Дино.
— Это не будет месть, мистер Келли. Это будет простое, грубое убийство. Вас не было в ту ночь на мосту, а я была. Питер Макбрайд не толкал вашего брата. Приехала полиция, Патрик испугался и потерял равновесие. Он уже падал. Питер рисковал жизнью, когда подбежал к парапету и хотел удержать его. Ваши братья убили невиновного. Несчастного полоумного мальчишку, который никому не причинил вреда. Они получили по заслугам. Все кончено! Пора забыть об этом.
Но Келли покачал головой.
— Из-за Макбрайдов погибли три моих брата. Пришло время расплаты.
Он повернулся к Донне, прицелился в малышку. Фин начал рывок по направлению к Келли и увидел, как молодой человек целится в него из дробовика.
Звук выстрела в ограниченном пространстве гостиной был оглушающим. Воздух заполнили осколки стекла. Фин почувствовал, как они впиваются ему в лицо и в руки, которые он поднял, защищаясь. По лицу и шее расплескалась теплая кровь, ее запах заполнил ноздри. Он увидел, как Пола Келли отнесло назад силой удара, но не понял, что произошло. Келли бросило на окно в другой стороне комнаты, стекло стало красным от крови. В центре груди его зияла дыра, на лице застыло изумленное выражение. Келли сполз на пол. Женщина кричала, Дино лаял, Эйлид плакала. Фин почувствовал на лице ветер и увидел Дональда Мюррэя по ту сторону окна, которое он разбил выстрелом из дробовика. Сейчас он целился в молодого помощника Келли. Тот побледнел, быстро отбросил обрез и поднял руки.
Фин бросился вперед, схватил обрез и отшвырнул подальше. Дональд опустил оружие. За ним в темноте Фин разглядел бледного, с расширенными глазами Фионлаха.
— Он не дал мне позвонить в полицию. Не дал! — юноша был на грани срыва. — Он сказал, что они все испортят. Я звонил тебе, Фин. Звонил! Почему ты не брал трубку?
Дональд был бледен, как смерть. Он смотрел на Донну с малышкой.
— Ты в порядке? — шепотом спросил он.
Девушка не смогла произнести ни слова. Она кивнула, прижимая к себе плачущую Эйлид. Тогда ее отец посмотрел на Фина — глаза в глаза. В этом взгляде было воспоминание о пьяной ночи после драки под дождем и о разговоре среди скал на следующее утро. Тогда Дональд говорил о своей вере, о том, что месть — дело Господа. Сейчас он перечеркнул все, о чем говорил, нажав на спусковой крючок.
Священник перевел взгляд на человека, которого застрелил. Тот лежал в луже собственной крови, среди разбитого стекла и безделушек. Дональд зажмурился, чтобы этого не видеть.
— Господи, помилуй меня, — только и сказал он.
Глава сороковая
Я уже не понимаю, что происходит. В ушах у меня звенит, я ничего не слышу. Я знаю: случилось что-то ужасное. Меня посадили здесь, на кухне, чтобы я никому не мешал. В той комнате очень много разных людей. К тому же, эта ужасная собака все время лает!
Снаружи вспыхивают синие и оранжевые огни. Я слышал, как прилетел вертолет. Никогда не видел столько полицейских! Пришел даже тот парень, который говорил со мной в «Соласе». Я помню его только потому, что у него волосы на лбу растут вдовьим мыском. У одного мальчика в Дине было так же.
Интересно, что здесь делает священник? Я его уже видел. Он выглядит усталым и больным. Мне его жалко — не дотягивает он до своего отца. Вот уж кто умел внушить нам страх Господень! Я, правда, уже не помню, как его звали.
На кухню заходит женщина. Вот ее я точно где-то видел! Она мне чем-то напоминает Кейт. Не знаю, чем. Она пододвигает стул, садится напротив меня. Берет мои руки в свои. Мне это нравится — у нее нежные, тонкие пальцы. А какие красивые темные глаза!
— Помнишь больницу Пресвятого Сердца, Джонни?
Я не понимаю, о чем это она.
— Тебя с Питером привезли туда после того, как вы застряли на ночь в скалах. Ты сломал руку, помнишь? А у Питера была пневмония.
— Там были монашки, — говорю я. И правда, я как будто вижу их в желтом освещении палаты. Черные юбки, белые камилавки.
Женщина улыбается мне, сжимает мою руку.
— Все верно. Теперь там дом престарелых, Джонни. Я спрошу Маршели, можно ли тебе там поселиться. Я буду приезжать к тебе каждый день и привозить тебя сюда на обед. Мы сможем гулять по Пляжу Чарли, говорить о Дине и о людях, которых мы знали здесь, на острове, — когда она улыбается, у нее такие красивые глаза!
— Ты хочешь этого, Джонни? Хочешь?
Я сжимаю ее руки, улыбаюсь ей и вспоминаю ту ночь, когда она плакала на крыше Дина.
— Хочу, — отвечаю я.
Благодарности
Я хотел бы выразить признательность тем, кто помогал мне в поиске данных для «Пляжа Чарли». В особенности я благодарен патологоанатому и судебно-медицинскому эксперту Стивену Кэмпмену, Сан-Диего, Калифорния; Дональду Кэмпбеллу Вилу, бывшему «узнику» Дина; актрисе Мэри-Алекс Киркпатрик (Аликсис Дэли) за гостеприимство во время моей поездки по Южному Уисту; Дереку (Плуто) Мюррею за помощь с гэльским языком; Марион Моррисон, администратору в загсе Тарберта; а также Биллу Лоусону из центра «Шелам», Норстон, остров Харрис, который уже больше сорока лет изучает семейную и социальную историю Внешних Гебридских островов.