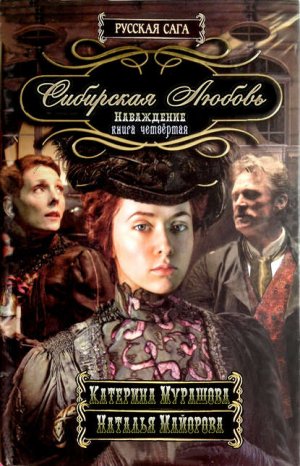
Пролог
Лондон, 1897 год от Р. Х.
– Итак, Алекс, вы таки пригласили сюда этого монструозного славянина.
Сэр Эндрю Бичем – крупный, болезненного вида джентльмен лет пятидесяти, с длинными ухоженными седыми усами – вздохнул, демонстрируя покорность судьбе, сложил газету и откинулся на спинку кресла.
Его собеседник с довольным видом ухмыльнулся. Он был относительно молод, чрезвычайно худ и всем своим видом являл воплощенную иронию (или – ехидство, как утверждало большинство его знакомых). Любимым развлечением лорда Александера Лири, третьего сына герцога Уэстонского, было коллекционирование человеческих экземпляров – необычных, парадоксальных или просто смешных, и он никак не мог пожаловаться на то, что его коллекция пополняется медленно.
– Двоих, обратите внимание! И оба – граждане мира. Как вы думаете, почему именно славянам свойственен этот болезненный космополитизм?
– Вот уж не только, – брезгливо буркнул маленький, желчный барон Голденвейзер; он вечно мерз и теперь сидел вплотную к камину, явно борясь с желанием просунуть ноги сквозь решетку, – а французы?
Несмотря на фамилию – или благодаря оной – барон был отчаянным патриотом, до кончиков ногтей полным островного снобизма.
– О, французы – совсем другое. Они всегда точно знают, чего хотят. А русские, поляки и прочие славяне… и, в частности, вот этот конкретный господин Сазонофф, – хотел бы я знать, какова его фамилия и откуда он родом на самом деле!.. – так вот, славяне – это чистая стихия. За что я их и люблю.
Сэр Эндрю фыркнул в усы. Барон, скривившись, придвинулся еще ближе к огню. Четвертый участник беседы, м-р Хаттон – коренастый, румяный, ярко выраженной сангвинической наружности, – поднял глаза от альбома гравюр, посвященных лисьей охоте, и с широкой улыбкой посмотрел на лорда Александера.
– Что предлагаете сделать и нам, – констатировал он. – Полюбить их. Причем исключительно априори, положившись на одно ваше знаменитое чутье… Алекс, – он продолжал улыбаться, но взгляд сделался цепким и пристальным, – вы знаете, что я готов иметь дело с кем угодно. С китайцами, лапландцами и аборигенами Огненной Земли. Если вы мне скажете, что дело верное, я вложу деньги в прокладку железной дороги для торговли с эльфами. Так что – дело верное?
Сэр Эндрю приподнял руку от подлокотника и сделал движение пальцами, словно стряхивая с них невидимый мусор. Жест был адресован лорду Александеру, но, увы, пропал зря – поскольку лорд как раз в этот момент отвернулся к высокому окну, в строгой раме шоколадно-коричневых штор, за которым сгущались промозглые декабрьские сумерки.
Ветер и дождь… Как и всегда на Рождество. Снегопад под звон рождественских колокольчиков – явление в Англии чисто литературное. Вот в России, там – не колокольчики, а колокола, и не снегопад, а… как это? Буран! И – болота на сотни миль, под которыми, оказывается, лежит золото.
Неужели и правда лежит? Или нет?..
– У меня есть опыт общения со славянами. Конкретно, с русскими, – морщась от отвращения, взялся рассказывать барон. – Представьте: к вам является некто с чрезвычайно выгодным, как он уверяет, предложением. И битый час толкует о своем тяжелом детстве и несчастной любви. А когда вы робко намекаете, что пора бы перейти к делу – внезапно звереет и бросается вас душить!.. Нет, Алекс, я не вызвал полицию. Проявил гуманность. Он оказался вдребезги пьян… каким образом?! Бутылка виски стояла далеко, и он не прерывал монолога!
Скрипучий голос барона утонул в хохоте м-ра Хаттона, к которому с удовольствием присоединился и Лири. Только сэр Эндрю с неопределенным видом покусывал ус – но и он, кажется, вовсе не собирался сетовать на то, что обсуждение серьезной сделки превращается в занятную беседу, абсолютно ни к чему не обязывающую. Во-первых – так было принято в уютных стенах клуба, который с легкой руки того же лорда Александера никто не именовал иначе как клуб Чепухи. Во-вторых, пресловутые славяне еще не прибыли… и прибудут ли? Ну, на это еще можно надеяться: ведь всем известно, что представители этой вальяжной нации просто по определению не способны нигде появиться вовремя.
– Судя по тому, что представляет собой мистер Сазонофф внешне, трудное детство его тоже не миновало, – смеясь, заявил лорд Александер, – но, уверяю вас: когда надо, он превосходно умеет говорить кратко и по существу.
– Он ужасен, – отрезал сэр Эндрю. – А этот второй? Явный сумасшедший или шарлатан. Впрочем, они оба шарлатаны.
– Что, он тоже вызывает духов? На манер этой знаменитой особы… как бишь ее, – барон Голденвейзер щелкнул языком, будто припоминая (на самом деле он слегка кривил душой, ибо довольно близко знал в свое время мадам Блаватскую и даже имел с ней общий бизнес), – и в его кабинете тоже стоит шкафчик с двойными стенками?
– Возможно, стоял бы – имейся у него кабинет, – сказал Лири. – Но мистер Ачарья Даса исповедует принцип улитки: omnia mea mecum porto.
– Ачарья Даса? – Хаттон весело вздернул бровь. – Неплохо! Главное – в духе времени. Скажу вам, джентльмены, что не удивлюсь, если очень скоро, придя в Сити, застану всех поголовно клерков сидящими в позе лотоса!
Он снова захохотал. Лорд же Александер на сей раз лишь мягко улыбнулся:
– Боюсь, Генри, все это серьезнее, чем вам кажется.
– Что именно? Поза лотоса или золото в Сибири?
– И то, и другое.
– В самом деле, Алекс? – сэр Эндрю выпятил губу и дернул себя за ус. – Вы, значит, тоже уверовали, что мы все живем по указке гималайских засушенных мудрецов? Этот самый Ачарья так на вас подействовал? Да он опасный тип!
– Еще какой опасный, – охотно подтвердил Лири, – некоторые вещи, что он проделывает… Пожалуй, не буду рассказывать на ночь. Впрочем, не беспокойтесь: Сазонофф крепко держит его в руках. И не позволит нас обидеть.
– Один медведь держит другого, – хмыкнул сэр Эндрю, а Хаттон попросил:
– Пожалуй, все-таки расскажите.
– Лично меня, – заявил барон, мрачно глядя, как моргает в камине гаснущее пламя, – гораздо больше волнует второй вопрос. Так есть там золото или нет? Это ваш славянский индус нагадал, что – есть? А как насчет доказательств?
– Помилуй Бог, – протянул Хаттон, слегка понижая свой жизнерадостный голос, – вам, по большому-то счету, не все ли равно?
– Не все. Я хочу знать, есть ли там реальное золото. От этого многое зависит.
– Что зависит? Барон, это же Россия! Та самая, с трудным детством и несчастной любовью. У них не сегодня – завтра начнется революция, и мы…
– Ну, нет, – решительно перебил лорд Александер, – никаких революций ни сегодня, ни завтра. Вот вернусь из Сибири…
– А, – сэр Эндрю снова потянул себя за ус, изображая приятное удивление, – так вы, значит, едете в Сибирь?
– Мы с мистером Сазонофф едем в Сибирь. Вернее, – на длинной физиономии Лири вспыхнула неотразимая улыбка, – поедем, если мы сегодня договоримся. Без вас я не справлюсь.
– А разве мы еще не договорились? – удивленно осведомился Хаттон.
Барон, отвернувшись от огня, устремил на лорда Александера вопрошающий взгляд. Он таки намерен был получить ответ насчет золота.
Ответ последовал:
– Мистер Ачарья Даса, барон, долго служил в армии. И, как все военные, чрезвычайно предусмотрителен. Так что доказательства есть. Но, к сожалению, – пауза и короткий обескураженный вздох, – есть еще и конкуренты.
– Конкуренты? Откуда?
– Из России, разумеется. Кое-кто в Петербурге намерен сам добывать сибирское реальное золото… Впрочем, эти трудности я беру на себя. Концессию мы получим. Главное, вы ведь понимаете, джентльмены – то, что будет здесь! Барон, в этом деле вы полезнее нас всех, вместе взятых.
Барон Голденвейзер прикрыл тяжелые черепашьи веки. Он прекрасно знал, что так и есть. Слова Лири – отнюдь не грубая лесть, а простая констатация факта. Ну, что ж… Компанию следует назвать просто и солидно. Скажем… какая там река, Ишим, кажется? Приятно звучит – почти по-английски. Ишимское золото. Или как-то еще в этом роде…
– Акции, – пробормотал Хаттон, – много-много акций…
Сдержанный кашель сэра Эндрю заглушил и его бормотанье, и мягкий стук открывшейся двери. В клубной библиотеке появились новые лица. Те самые славянские гости, которые – надо же! – все-таки прибыли, опоздав всего-то часа на полтора. Лорд Александер поднялся, с довольной улыбкой глядя, как Сазонофф неторопливо озирается в дверях, заслоняя спутника – человека тоже не мелкого, но за его громоздкой фигурой пропадающего совершенно. Увы, джентльмены, весело подумал Лири, вам придется долго терпеть этого монструозного славянина. Потому что я намерен продолжать с ним знакомство, невзирая на успех нашей концессии… Такими людьми, знаете, не бросаются!
М-р Генри Хаттон, славившийся острым глазом, приглядывался к вновь прибывшим, пытаясь – ради поддержания реноме – определить их национальную принадлежность. Русские?.. Хм! Как ни удивительно – вполне сойдут за англичан, особенно этот большой, с мрачной тяжелой физиономией. Выговор безупречен… вернее, это – выговор кокни, играющего в аристократа, или наоборот, но уж никак не иностранца! Хаттон тут же сочинил ему такую историю: мальчик из хорошей семьи, в ранней юности сбежавший из дома за приключениями – юнгой на корабль… жизнь, разумеется, проехалась по нему всласть, но, кажется, он до сих пор не наигрался. Угодно выдавать себя за славянина? Ради Бога!
Вот второй – тот да, наверняка. Болгарин или поляк, а еще точнее – серб. Огненный глаз и горбоносый профиль… в сочетании с индусской йогической худобой вполне впечатляет. Из-за такой вот экзотики сошел с ума когда-то милорд Байрон, и понесло его к черту на рога, в Митилены… Для Хаттона же господа с подобным типом внешности всегда ассоциировались с арабскими жеребцами – и, право, с последними дело иметь куда приятнее… да и безопаснее, пожалуй.
Впрочем, безопасностью никоим образом не пахло и от мистера Сазонофф. Да ее – в связи с предстоящей сделкой – никто и не обещал!
– Насчет Алтайской концессии мне все более или менее ясно. А вот насчет Ишима все-таки желательно узнать поподробнее: как это в болотах может быть золото?
Сказано было, разумеется, бароном Голденвейзером – уже за столом, в уютном уголке обеденной залы. Резная ширма красного дерева отделяла его от возможных назойливых глаз. Кажется – какие могут быть назойливые глаза в клубе, отбор в который проводится куда тщательнее, чем в парламент? Но если вы желаете, чтобы члены вашего клуба сделались вашими акционерами… В этом случае им, пожалуй, ни к чему знать, с кем вы делите поздний обед!
Легкомысленный мальчишка, брюзгливо подумал сэр Эндрю о лорде Александере. Что – не было других мест для переговоров? Нет, вот нравится ему этот бессмысленный детский риск! И в Сибири поведет себя так же.
– Почему бы вам, Генри, не поехать в Сибирь? – он поднес к губам бокал, глядя сквозь светлое вино отнюдь не на Хаттона, а на мистера Сазонофф, который с безмятежным видом рассматривал узоры на черенке вилки. Как бы не стащил, подумал сэр Эндрю слегка озабоченно. Ему, в отличие от Хаттона, никогда не являлись в голову романтические истории в духе г-жи Войнич. А уж тем более – на предмет этого субъекта…
– Делать вам всем там нечего, – заявил субъект, – если вы, конечно, не специалисты по рудному делу. Нет? Вот и мы тоже. Так что про золото на Ишиме ничего не можем вам сказать, кроме честного слова мистера Ачарья Даса. Его слово, конечно, чего-то стоит. У них ведь так: соврешь – в будущей жизни станешь лягушкой или кем похуже. А на Алтае, конечно, и золото, и медь – все есть. Это вы у кого хочешь разузнать можете, – Сазонофф взглянул за окно с таким видом, как будто бы именно сейчас там, по улице Лондона, в кэбе проезжали осведомленные об алтайских рудниках люди.
М-р Ачарья Даса молча вежливо улыбнулся. Он вообще предпочитал помалкивать. Сэр Эндрю подумал: сил, что ли, нет на разговоры? Оно конечно, если питаться одним шпинатом…
– Лягушкой в сибирских болотах? – фыркнул барон. – Нет уж. Я должен знать, во что вкладываю деньги. И как именно вкладываю. Покупка концессии на Алтае, арендных прав на Ишиме, взятки этому князю и российским чиновникам, закупка оборудования… вы же понимаете!
– Резонно, – отрываясь от жареного цыпленка, заметил лорд Александер. – Однако в России и в самом деле ни к чему толпиться, вполне хватит меня и еще доверенного человека от вас, барон. У вас ведь уже есть кто-нибудь на примете?
Тут м-р Ачарья Даса, опровергая соображения сэра Эндрю о шпинате, наконец заговорил:
– Оборудование понадобится безусловно, – голос у него был низкий, акцент – мягкий, чуть пришепетывающий (определенно серб, подумал Хаттон). – В этих болотах не просто золото, там – громадные залежи, ждущие разработки. Недавно построенная железная дорога. Энергичные, но дикие, сами недавно от сохи или тачки предприниматели. И нищее население, которому абсолютно некуда себя деть. Вы сделаете доброе дело, джентльмены, вложив деньги в подъем Сибири…
Джентльмены, включая мистера Сазонофф, обескуражено переглянулись.
Глава 1
В которой Софья Павловна Домогатская наследует публичный дом и дауненка Джонни
– От чего она умерла? Когда? Отчего я не знала?!
Софи Домогатская – высокая, худощавая женщина, с темно русыми волосами, уложенными в почти растрепавшуюся нынче прическу – быстро бегала по комнате, нервно заламывая руки.
Помощник известного в городе нотариуса, лысый и немолодой, пытался следить глазами за ее передвижениями, но терпел неудачу. Весь облик его удивительным образом напоминал мутный стеклянный графин для воды, из тех, что случаются в присутственных местах: короткие толстые ноги, тяжелые и широкие бедра, странно узкие и длинные грудь и шея – горлышко графина. Теперь пробка-голова чиновника проворно крутилась со слышимым скрежетом, но визави все время ускользала от его взгляда. Отчаявшись достичь желаемого, помощник нотариуса самочинно присел к столу, разложил бумаги и осмотрел покои, в которых оказался.
Все в них говорило о небрежном достатке. На обстановке, обивке стен, мебели и прочих аксессуарах не экономили, но и не выбирали любовно, учитывая оттенки и стили. В комнате было чисто и прибрано, но вместе с тем она имела какой-то слегка нежилой вид, как будто хозяева заходят сюда лишь время от времени. По очевидной цене истраченных материалов, все было слишком просто. Замысловатые золоченые часы с кузнецами и наковальней, стоящие на полке бюро, смотрелись диковиной, доставшейся по наследству или по пустому случаю купленной на распродаже описанного за долги имущества.
– Да говорите же! – Софи остановилась, завернула на палец выбившийся из прически локон, сильно дернула книзу. – Что вы молчите?!
Ее требовательно-гневный взгляд буквально сверлил гостя. Нотариус пожал узкими плечами и неторопливо подтянул к себе одну из бумаг: гнев Софи его нимало не впечатлил. За свою долгую и не слишком удачную служебную карьеру ему приходилось видеть всякое.
– Анна Сергеевна Востокова, пятидесяти одного года, скончалась февраля третьего числа, сего года от… согласно заключению докторов, от двухсторонней пневмонии.
– Она долго болела? Почему она не послала за мной? – спросила Софи, в голосе ее слышалась сдерживаемая боль.
«Интересно, кем же ей приходилась покойница? – с невольным интересом подумал нотариус. – В бумагах ничего нет. Только имя и адрес. Но что их могло связывать?»
Он вспомнил покойную Анну Сергеевну: широкое, скуластое, очень смуглое лицо, темные, с обильной сединой волосы, узкие, поднятые к вискам глаза. Отчетливый восточный, даже азиатский тип. А эта… Лицо, в котором с первого взгляда, не смотря в бумаги, определишь породу. Не юница, но и еще отнюдь не стара. Можно было бы назвать красивой, если бы не какое-то излишество в оттенках: слишком темно-красные, почти хищные губы, слишком глубокие, темно-серые, да еще подведенные коричневыми тенями глаза, слишком белая, почти неживая кожа. И движения: порывистые, с каким-то тревожным стеклянным сквозняком внутри. Наблюдая за ней, возникало впечатление, что при неосторожном обращении о хозяйку квартиры можно порезаться. До крови.
«Во всяком случае – пикантно. Да. Именно так. Пикантно!» – решил нотариус. Именно так он и скажет о ней за чаем Савелию Сидоровичу, старому и проверенному сослуживцу.
– Что до продолжительности печальной болезни, и нежелания вас позвать, про это я вам, сударыня Софья Павловна, сказать ничего не могу, потому как не ведаю. Однако последние распоряжения, а также завещание Анны Сергеевны мне известны как раз досконально. И поскольку они до вас напрямую касаются…
– Неужели Саджун что-то завещала мне? – с искренним удивлением спросила Домогатская. – Или просила передать?
– Простите? – не понял служащий.
Софи тоскливо сморщилась и потерла пальцами глаза. Потом снизошла до объяснений.
– Саджун – таким было настоящее имя Анны Сергеевны. Его мало кто знал, но я называла ее именно так.
– Ну разумеется, – помощник нотариуса позволил себе улыбнуться краешком губ. – У этих азиатов безумные имена, прямо как собачьи клички. Неудивительно, что в Петербурге она взяла себе нормальное имя.
– Позвольте предположить, что для слуха жителя Азии русское имя Пульхерия Спиридоновна Одуванчикова тоже будет звучать… гм… не слишком благозвучно, – парировала Софи.
Покойную матушку нотариуса звали как раз Пульхерия, и он обиделся.
– Ну так что же Саджун? – поторопила гостя Софи, не обратившая совершенно никакого внимания на его обиду. – Что она велела мне передать? Говорите скорее!
«Торопливость, как говорят, уместна только при ловле блох, – ядовито подумал чиновник, снова неторопливо погружаясь в лежащие перед ним бумаги. – Если ты ничего не ждешь от этой Саджун, а все говорит именно за это, то тебя ждут интересные новости. И пикантные… да, да, пикантные!» – он внутренне захихикал.
– Все дело в том, госпожа Домогатская, что Анна Сергеевна Востокова оставила завещание на ваше имя…
– На мое имя?! Почему? И… и что же она мне завещала?
– В первую и в основную очередь – свой гадательный салон «Персиковая ветвь», если вы, конечно, осведомлены о существовании такого заведения… Если нет, так преинтересное, скажу я вам, местечко… Впрочем, особнячок в центре города, в личной собственности, интерьеры в хорошем состоянии, все налоги уплачены. Недурственное приобретение, скажу я вам, недурственное. Правда, служащие…
Софи Домогатская остановилась напротив помощника нотариуса и испытующе и недоверчиво поглядела на него. Он сделал серьезное лицо и сжал губы куриной попкой. Тогда удивительные глаза Домогатской еще расширились, заняв едва ли не пол лица. Потом одновременно на глазах появились слезы, а на губах – горькая, саркастическая улыбка. Чиновник заворожено наблюдал за происходящими на лице клиентки метаморфозами и одновременно подбирал описания этого для Савелия Сидоровича.
– Так, значит, Саджун, умирая, завещала мне свой публичный дом? Вот это номер! – сказала наконец столбовая дворянка Софья Павловна Домогатская и хрипло расхохоталась. По лицу ее текли слезы.
Петр Николаевич Безбородко вошел в квартиру, оставил пальто и шляпу на руках служанки, и начал стаскивать перчатки с узких запястий. В светлой остроконечной бородке ощутительно таяли, превращаясь в капельки воды, снежинки.
Софи в своей обычной, порывистой манере выбежала в прихожую ему навстречу.
– Пьер, здравствуй! Я так рада… – пробормотала она.
Однако Петр Николаевич мгновенно заметил и излишний излом рук и покрасневшие от слез глаза. Воспитание и природный темперамент не позволили ему задавать жене вопросы в прихожей. Если это до него касается, то он обо всем узнает в свой черед. А если нет, так что ж…
– И я тоже, я тоже, Софи… Там нынче такая метель… Да… Сейчас на лестнице, едва ли не у дверей квартиры встретил гусеобразного субъекта совершенно судейского, крючкотвористого вида. Решил, что ко мне, что-нибудь по поводу имения или налогов, и даже остановился, давая ему возможность обратиться. Однако, так и простоял, как дурак…
– Это нотариус, Пьер. Он приходил ко мне. Представляешь, Анна Сергеевна умерла от пневмонии!
– Анна Сергеевна?
– Ну, это светское имя Саджун, подруги Туманова. Помнишь, я рассказывала тебе?
– Ах, Саджун… – Петр Николаевич нахмурился. Его высокий, с небольшими залысинами лоб собрался в широкие светлые морщины. – Что ж, мне жаль. Она, кажется, была еще не очень старая женщина… Но почему крючкотворец приходил к тебе? Она оставила в твой адрес какие-то распоряжения?
– Да, Пьер, – Софи на мгновение опустила глаза, но тут же снова вздернула подбородок, и во взгляде ее мелькнул совершенно вроде бы неуместный по обстоятельствам вызов. – Саджун завещала мне свое заведение вместе со всем имуществом.
– Как?! Тебе? Но это же невозможно!
– Возможно и соответствующим образом оформлено.
– Откажись! Откажись немедля!
– Я подумаю об этом, Пьер, – медленно и тяжело сказала Софи, темным взглядом утопая в светлых, растерянных глазах мужа.
– О чем тут думать?!
– Особнячок почти в центре Петербурга недешево стоит. Восточный стиль интерьеров внутри… Я помню, там много всего интересного и ценного. И, в конце концов, люди, которые целиком и полностью зависели от Саджун…
– Софи! Опомнись! Ты собираешься принять участие в судьбе проституток?! Не довольно ли тебе уже… Дети… Сколько лет… – Петр Николаевич все более волновался и от волнения прогрессивно терял дар речи.
– Дети! – глаза Софи вдруг расширились до просто-таки жутковатого, явно нездорового состояния. – Как же я могла забыть! Джонни! Как же он?!.. Эй! Эй! Постойте! – Софи, ломая ногти об запоры, распахнула дверь, и, как была, в платье и атласных туфельках, выбежала на лестницу. – Эй! Как вас там?… Пафнутий Мефодьевич!.. Мефодий Ильич!.. Илья Акакиевич! Да стойте же вы!..
Петр Николаевич прошел к окну в первую из анфилады комнат, нервно стащил-таки с рук перчатки и швырнул их на широкий, низкий подоконник. Сверху, со второго этажа, ему было хорошо видно, как Софи выскочила из парадной, пробежала, утопая по щиколотку, по глубокому снегу (февральская метель наметала быстрее, чем дворник успевал убрать), выбежала за чугунные, решетчатые ворота и буквально за руку схватила нотариуса, уже садящегося в сани. Облаченный в шубу графин ошеломленно смотрел на раздетую женщину, вертел пробкой в разные стороны, бросал отчаянные взгляды на дворника, словно ожидая от него помощи, явно предполагал нехорошее и пытался вырваться.
– Послушайте, я должна вас спросить, Акакий Мефодьевич!
– Илья Пафнутьевич, к вашим услугам.
– Простите, Илья Пафнутьевич. У Саджун остался сын, мальчик Джонни. Он… он болен. Что сейчас с ним?
– А… этот идиот… но вы же простудитесь, Софья Павловна! Я должен немедленно…
– Прекратите! Что с Джонни?!
– Он же совсем невменяемый, этот урод, вы же знаете, наверное. С ним пытались говорить, но он никого не подпускает, ревет, брыкается…
– Джонни боится и совсем не переносит мужчин. Его так растили. Из соображений безопасности. Где он?
– Там же пока. В заведении. Сидит в комнате, где умерла мать, с одной из девок. Она как-то его кормит. В ближайшее время, я думаю, будет принято соответствующее решение и его заберут в дом призрения для подобных ему уродов. Прости, Господи, за грехи наши! – нотариус мелко перекрестился несколько раз, как будто бы опасаясь побега мелкого зверька у себя из-за пазухи.
Не прощаясь, Софи отвернулась от Ильи Пафнутьевича и побежала назад, стараясь наступать в свои же, уже протоптанные следы. Нотариус и дородный дворник с номерной бляхой на груди провожали ее ошеломленными взглядами.
– Вот напасть-то! – пробормотал Илья Пафнутьевич и, подумав еще, довольно усмехнулся. Сегодня ему будет что рассказать Савелию Сидоровичу!
– Я еду туда! – с порога заявила Софи. – Фрося, подай мне пальто и капор.
– Куда?! Погоди, Софи! Ты что, внезапно сошла с ума? – возмутился возвратившийся в прихожую Петр Николаевич. – После этой твоей выходки тебе, чтобы не заболеть, нужно немедленно принять горячую ванну и лечь в постель. Ты никуда не поедешь!
– Да-а? – Софи, чуть прищурившись, взглянула на мужа.
Он опустил глаза. Никогда, никогда за все почти уже десять лет супружеской жизни Петр Николаевич не решался отчетливо и до конца проговорить себе, что значит этот взгляд и это «да-а?» в ответ на его пожелания, просьбы, приказы… «Я сам и мое мнение совершенно ничего для нее не значат… Нет! Об этом думать нельзя! Иначе…»
– Погоди, Пьер, не злись, я сейчас объясню, пока одеваюсь… Фрося, ну давай же, не тяни кота за хвост!.. Джонни десять лет. Он сын Саджун. Он болен от рождения, это называется Дауна болезнь. У него слабоумие, это так, но Саджун много с ним занималась, он может говорить, понимать, и любить тоже может и хочет. Ему сейчас так плохо и страшно, что и вообразить нельзя. Он же, наверное, даже не понимает, что произошло. Ему никто не объяснил, потому что с ним говорить можно только тогда, когда он не боится. Меня Джонни знает, я сумею его успокоить. Саджун оставила мне все, значит, она полагала, что я позабочусь о Джонни…
– Господи! – прошептал Петр Николаевич, обхватывая голову ладонями. – А отец? У этого Джонни есть отец?
– Нет. Его отец… Его отец был иностранцем. Он уехал из России и… и умер. Так что у Джонни теперь никого нет, кроме меня…
– Софи! Что это значит? Ты и вправду обезумела? Что ты говоришь? Ты хочешь немедленно поехать в публичный дом и забрать оттуда полоумного урода, оставшегося сиротой? А что дальше, позволь узнать?
– А дальше я отвезу его в Люблино, найму ему няньку из тамошних крестьян. И будет жить, сколько проживет. Доктор сказал Саджун, что у Джонни больное сердце, да и вообще эти дети долго не живут. К сожалению.
– К сожалению?! – вскричал Петр Николаевич, окончательно выведенный из себя абсурдностью ситуации.
По сравнению с намерением жены немедленно усыновить слабоумного ребенка, которого он никогда не видел, новость с наследством как-то сама собой отошла на второй план, но никуда при этом не исчезла…
– Софи…
– Я поехала, Пьер. Жди меня здесь. Если можешь, извести Викентьева и второго, нового управляющего с фабрики, что у меня изменились обстоятельства и я уезжаю в Люблино. Хорошо было бы, если б мне удалось переговорить с ними до отъезда… И… не волнуйся. Ничего страшного не произошло… Ты увидишь, несмотря ни на что Джонни вполне можно полюбить. Он очень привязчивый…
– Софи, я еду с тобой! – решительно сказал Петр Николаевич, снова одеваясь. – Ты не поедешь туда одна!
– Очень хорошо, твоя поддержка может мне понадобиться, – Софи, уже одетая, привстала на цыпочки и поцеловала мужа в висок. – Я знала, что ты поймешь. Ты – чудесный. Я обожаю тебя…
– Но что скажет матушка? – спросил Петр Николаевич, когда супруги уже погрузились в стоящую на полозьях карету и прикрыли ноги одной меховой полостью на двоих. – Вряд ли она…
– О, да! – согласилась Софи, улыбнувшись краешком губ. – Мария Симеоновна молчать не станет! Что-то меня ждет…
В просторной гостиной добротного и славно отремонтированного помещичьего дома разыгрывалась хорошо известная немая сцена из гоголевской комедии «Ревизор».
После слов Софи: «Я привезла вам Джонни. Он будет здесь жить.» – все присутствующие молчали как бы уже не пять минут.
В процессе того дородная старуха в темно синем шлафроке медленно опустилась в кресло, однако не бессильно и расслабленно, в глубь и обиженную истому, а присела на краешек, как бы собирая в комок гнев и ярость для последующей атаки.
Высокий, толстый и вообще очень крупный для своих лет мальчик недовольно хмурился. Его малорослая в сравнении с ним и субтильная сестра быстро-быстро моргала круглыми, светлыми глазами.
Петр Николаевич стоял у входа в гостиную с независимым видом, скрестив руки на груди и словно говоря: «А я тут, знаете ли, ну совершенно не при чем!»
Одна из двух присутствующих в комнате служанок растерянно крестилась. Другая держала в руках поднос с напитками. Руки девушки мелко дрожали и фужеры однообразно и раздражающе, как-то по-комариному звенели. Прилизанный лакей пожилого гостя Марии Симеоновны застыл у стола чурбан-чурбаном, да так и стоял, раскрыв рот. Сам гость, стараясь остаться или хоть казаться невозмутимым, набивал трубку.
Софи, струной вытянувшись во весь свой немаленький рост, стояла посреди гостиной, спиной прижимая к себе очень странного (и это мягко сказать!) ребенка. Свои руки она положила мальчику на плечи, и, если бы кто его спросил, он мог бы удостоверить, что руки эти совершенно не дрожат. На обычно подвижном лице Софи застыло безмерно удивляющее всех присутствующих выражение угрюмого и какого-то окончательного покоя.
Ребенок, которого Софи представила домашним как Джонни, выглядел действительно престранно, если не сказать устрашающе. Очень маленького роста (куда меньше младшей его девочки), с короткими ногами и руками, толстым задом и уродливой, сужающейся к темени головой. Рот его был полуоткрыт, как будто бы чрезмерно крупный язык не помещался в нем. Глазки, напротив, были маленькими, узенькими и близко посаженными. Переносица широкая и слегка вдавленная внутрь. Жиденькие каштановые волосики стояли дыбом. Самым, пожалуй, ужасающим оставалось то, что это существо, несмотря на не закрывающийся рот и дрожащие (от ужаса?) губы, явно пыталось мило улыбнуться присутствующим, обнажая плохие зубы.
– Господи, да что же это?! – не выдержала наконец одна из служанок.
– Мама, это дурная шутка, – низким, но звучным голосом сказал мальчик. – Отвези этого урода обратно, туда, где ты его взяла.
– Это не шутка, Павлуша, – произнесла Софи голосом, до странности напоминающим голос сына. – Джонни останется здесь и будет жить с вами.
– Я не хочу! – голос мальчика сорвался. – Мы все не хотим! Бабушка, скажи ей!
– Софи, мне кажется, что это действительно переходит всякие границы. Может быть, ты, наконец, объяснишься? Петя, что происходит? Ты знаешь?
Петр Николаевич пожал плечами, поднял светлые брови и переступил с ноги на ногу. Казалось, еще немного и он примется беззаботно насвистывать. Мария Симеоновна снова перевела тяжелый взгляд на Софи.
– Джонни – сын моей… моей давней подруги, – негромко сказала Софи. – Она скончалась от пневмонии, и у мальчика больше никого в целом свете не осталось. Я решила взять его к себе. Это не благотворительность. Подруга отписала мне все свое имущество.
– Ах, вот как? – Мария Симеоновна взглянула на невестку без прежнего брезгливого недоумения. – И что же она тебе оставила?
– Драгоценности. Ценные бумаги. Небольшой, но прекрасно обставленный и отделанный особнячок почти в самом центре Петербурга, – дипломатично сообщила Софи, не вдаваясь в подробности. Петр Николаевич закатил глаза, но мать больше не глядела в его сторону.
– Что ж, неплохо, неплохо, – еще подумав, согласилась Мария Симеоновна. – За такое наследство можно и приглядеть сиротку, как бы странно он ни смотрелся… А он не опасен, Софи? Не станет бросаться? Не покусает детей, прислугу?
– Джонни совершенно безопасен. Он не любит и опасается мужчин, так как его с младенчества окружали одни женщины, а в целом весьма добродушен и эмоционален. Очень любит животных. Мы привезли с собой его любимого кота и попугая, он никак не соглашался с ними расстаться…
Мария Симеоновна огляделась, а потом зачем-то заглянула под кресло, словно ожидая увидеть там упомянутого кота или даже попугая.
– Кот и попугай пока на кухне. Поскольку они всегда жили вместе, то дружат между собой. Это весьма забавно, вы увидите… Джонни может говорить и многое понимает. Говорить ему слегка мешает язык, но вы скоро научитесь понимать его…
– Но зачем, мама?! – снова заговорил Павлуша. – Я не могу разобрать: зачем нам учиться понимать этого урода? Если уж нельзя иначе, и ему действительно некуда деваться, так давай отдадим его в какую-нибудь крестьянскую семью и станем платить им деньги за уход. Хотя вообще-то… Все это экономически нерационально. Общество тратит средства на их содержание, но не получает ничего взамен. В древней Спарте таких бросали со скалы в пропасть сразу после рождения. И, по-моему, совершенно правильно делали…
– Павлуша! – предупреждающе воскликнула Мария Симеоновна. – Мы живем в цивилизованном обществе.
– А кто же будет решать, драгоценный мой? – старенький гость изумленно поднял редкие брови.
Одна из служанок снова перекрестилась, а другая наконец-то поставила поднос с напитками на стол. Петр Николаевич шагнул к нему, взял бокал и сразу же отпил половину. Гость Марии Симеоновны последовал его примеру.
– В цивилизованном обществе надо назначать специальную комиссию, – авторитетно разъяснил Павлуша. – Чтобы в ней были врачи, кто-то от судейских, просто умные люди…
– Да что ты городишь?! – взорвался Петр Николаевич. – Ты сам-то себя слышишь или нет?! Как умный порядочный человек возьмет на себя право решать: этому жить, а этому не жить?!
– Да, это проблема, – покладисто согласился мальчик. – Очень серьезная. Но ее следует решать, если это ваше цивилизованное общество хочет…
– А Джонни – это по-русски Ваня, да? – неожиданно для всех вступила в разговор младшая сестра Павлуши.
– Да, Милочка, – ответила Софи. – Джон это по-русски – Иван.
Крестильное имя Милочки было Мария (в честь Марии Симеоновны. Небольшой, но вполне успешный подхалимаж со стороны Софи), но все с самого раннего возраста называли ее Милочкой.
Она и вправду была мила – светлое, хрупкое, тоненькое, довольно длинненькое создание, чем-то похожее на выцветшего кузнечика или маленького богомола. Сходство усиливалось тем, что, прося или убеждая в чем-то собеседника, Милочка любила умоляюще складывать у груди длинные, узкие в запястьях ручки (в этих случаях всегда так и хотелось сказать: передние лапки).
Еще Милочка всегда, всех и даже все жалела. Жалела не только обиженного в процессе игры сверстника, умершего старичка-соседа, больную собаку, зарезанного петуха или корову, у которой отобрали теленка, не только воробьев с подбитым крылышком или котенка со сломанной лапкой (все это вместе и врозь было бы совершенно естественным для девочки ее возраста и эмоционального устройства). Объектами ее слезливой и отчаянной жалости могли внезапно и неожиданно для окружавших Милочку людей делаться вещи и вовсе несусветные.
Так, например, однажды, в возрасте около шести лет, она нашла выброшенный в свалку старый норковый палантин, принадлежавший когда-то Марии Симеоновне. После этого он много лет пролежал в сундуке на чердаке и был почти начисто съеден молью. Обнаружив палантин, Милочка некоторое время внимательно смотрела на тускло-серую рухлядь и глаза ее медленно наливались слезами. Потом она внезапно упала на старую, затхлую от пыли вещь и зарыдала, словно мать над трупом только что скончавшегося младенца.
Ничего не понимающая нянька, которая гуляла с ней, попыталась было утешить девочку, но все ее попытки были напрасны. Вскоре над икающей от горя и нервного истощения Милочкой собрались все домашние.
– Что? Что случилось? В чем дело? Кто тебя обидел? Что у тебя болит? – сыпались вопросы.
Девочка не отвечала. Когда все уже почти отчаялись что-нибудь узнать и подумывали послать за доктором, Милочка вдруг взяла себя в руки и заговорила:
– Она… эта шубка… Чтобы ее сделать, убили так много маленьких хорошеньких зверьков. Они жили в своем лесу и любили его темно-зеленый кров, и ручьи, и папоротники, и своих деток… А потом шубка так верно служила вам… грела, когда холодно… в нее прятали ручки, шею, носик… И всем она нравилась, ею восхищались, говорили: Ах, как изящно! А потом она стала старая и немодная, и ее сунули в сундук. А там темно и страшно, и холодно зимой, и никто не приходил… И так много лет… Только моль ее ела, и ей было больно от этого. Вот если бы от вас откусывали вот так, по кусочку, много-много лет… И еще обидно, что с нею так… Ведь она никогда никого не предала, и отдавала свое тепло… А вы ее выброси-или, как будто бы ничего этого не было, и это для вас ничегошеньки не значит…
Собравшиеся над Милочкой взрослые люди ошеломленно переглядывались. По румяным щекам няньки текли крупные слезы. Пятнадцатилетняя дочка кухарки рыдала в голос, одновременно пытаясь вытащить из под Милочки палантин и отряхнуть его от пыли и шкурок молиных личинок. Первой пришла в себя Мария Симеоновна.
– Милочка, девочка моя, но это просто какая-то чушь! – решительно заявила она. – Все в мире имеет свой срок. Для всего и для всех есть время молодости и надежд, есть время зрелости, и есть старость и дряхлость, когда милосердие Господа позволяет и людям и вещам уйти из этого мира… Все в свое время оказывается на свалке и в этом, поверь, нет ничего ужасного. Гораздо ужаснее, когда то, чему место уж давно там, продолжает жить и коптить небо…
– Значит, когда вы, бабушка, умрете, вас тоже… на свалку? – икнув, спросила Милочка.
– Да, на свалку! – безжалостно ответила Мария Симеоновна. – Как только придет время.
Она всегда считала, что воспитание детей должно быть жестким и честным, а сюсюканья и прочих сентиментальностей не должно быть совсем. Может быть, поэтому ее единственный сын Петя с детства и по сей день писал стихи.
Милочка затравленно огляделась. Софи, стоя вполоборота к происходящему, судорожно кусала губы, чтобы не расхохотаться. Милочка неправильно истолковала ее гримасу, кинулась к матери и зарылась в ее юбки с воплем:
– Мамочка! Не бойся! Я никогда, никогда тебя на свалку не отдам!!!
– Ну, разумеется, разумеется, моя хорошая, – подтвердила Софи, гладя девочку по голове и делая страшные гримасы Петру Николаевичу. – Все так и будет, как ты говоришь. Мы и бабушку на свалку не отдадим. Что за ерунда? Когда придет время, похороним ее в красивом глазетовом гробу с кружавчиками и рюшечками, с золотым вензелем на крышке, и много-много белых цветов положим, чтобы красиво было. И оркестр позовем, музыка будет играть, громкая, как она любит. И шубку эту твою тоже сейчас похороним, а Фома вон ей на дудочке сыграет…
– Фиглярка! – прошипела Мария Симеоновна и удалилась.
Милочка постепенно успокаивалась.
Уже после случая с палантином домашним запомнился эпизод, когда Милочка пожалела закопченную прохудившуюся трубу от парового котла, упросила дворника ее не выбрасывать, и взяла трубу «к себе жить», уверяя окружающих, что она теперь будет играть в шахтеров, а труба будет шахтой, куда куклы-шахтеры станут лазить. Как именно складывалась прошлая жизнь трубы в Милочкином понимании, никто, во избежании излишних расстройств, уточнить не решился. Отобрать у девочки ужасную вещь тоже не рискнули.
При всем при том Милочка вовсе не была глупой. В свои восемь лет она охотно и самостоятельно читала детские книжки, унаследовала чутье Софи к слову и иногда поражала окружающих ее людей оригинальностью и меткостью внезапных оценок.
Теперь Милочка стояла, накрутив на палец прядь светлых вьющихся волос (в этом жесте все тоже узнавали Софи, хотя в целом Милочка была больше похожа на Петю), и явно раздумывала над тем, какова степень покинутости и жалкости странного и малопривлекательного на вид мальчика Джонни. Если рассудить по существу, степень получалась просто ужасающе огромной.
Софи внимательно наблюдала за дочерью, испытывая некоторое (весьма, впрочем, слабое) чувство неловкости перед ней.
– Иванушка!! – взвыла Милочка, срываясь с места, подбегая к мальчику и обхватывая его руками за шею.
Софи благоразумно отошла назад, а несчастный дауненок присел и зажмурился от испуга.
– Иванушка! – причитала Милочка. – Ты только ничего не бойся. Тут тебя никто не обидит. Я тебе все свои игрушки покажу, и насовсем подарю, что ты захочешь. И играть с тобой буду, и разговаривать, если, мама говорит, ты умеешь. И Павлушу не бойся. Он не злой вообще-то, просто… казенный такой (Петр Николаевич поднял бровь, услыхав это определение, а Софи одобрительно улыбнулась). Он в игрушки мало играл, и газеты читает, потому у него душа немного по циркуляру устроилась… Но ты, Иванушка, его не бойся, я тебя от него всегда защитю…
Павлуша презрительно фыркнул.
Софи облегченно вздохнула: дочь определенно оправдала ее ожидания и точно сыграла просчитанную для нее роль.
– Надо будет подыскать для него няньку, – вслух сказала Софи, обращаясь к Марии Симеоновне. – Из тех, которые поумнее и не брезгливые.
– Моя тетка согласилась бы, если барыня изволит, – быстро сказала та служанка, которая все крестилась. – У нее у самой в молодости был ребеночек такой… убогенький… Помер потом, все говорили: «Слава Богу», а она, сердечная, так убивалась…
– Прекрасный случай! – обрадовалась Софи. – Значит, твоя тетка и уход за такими детьми знает, и полюбить Джонни сможет… Где она живет? В деревне?
– В Неплюевке, Софья Павловна, семь верст отсюда.
– Так поезжай же за ней сейчас. Если согласится, пусть едет прямо с вещами.
Мария Симеоновна заползла задом поглубже в кресло и сидела, нахмурившись, сплетая и расплетая унизанные крупными перстнями пальцы.
– Как тут у вас однако… оживленно… – решил привлечь ее внимание гость-старичок.
– Н-да, – согласилась Мария Симеоновна. – С такою невесткой не соскучишься.
Милочка между тем сумела как-то уговорить Джонни и увела его к себе, наверх. По выстеленной ковром лестнице Джонни поднимался с трудом, сопя и цепляясь обеими короткими ручками за перила. Милочка шла рядом и сочувственно вздыхала.
В светлой, просторной комнате Милочки мальчик огляделся, слегка задержав взгляд на прислоненной к стене трубе от парового котла. По-видимому, даже его слабые мозги как-то осознали неуместность присутствия этого предмета в детской.
– Вот, гляди, Иванушка, – воодушевлено объясняла девочка. – Ты, значит, Джонни, а я (девочка ткнула себя пальчиком в грудь) – Милочка. Запомнил? Ми-лоч-ка! Меня вообще-то Марией зовут, но все так называют. Вот как ты: Джонни, а по-русски – Ваня. Понимаешь?
– Джонни. Ваня. Милочка, – вполне внятно, куда-то подобрав язык, сказал мальчик. Милочка в восторге захлопала в ладоши. Джонни улыбнулся ей и спросил. – А «урод» – это тоже я?
Милочка присела и зажмурилась, как будто кто-то ударил ее в грудь. Потом выпрямилась, подошла к Джонни, обняла его и решительно прижала к своему плечу уродливую голову мальчика.
– Ты не урод. Ты – Джонни или Иванушка, – твердо сказала она. – А теперь давай игрушки смотреть. Ты что любишь: куклы или солдатиков? У меня и то, и другое есть, потому что Павлуше дарили, а ему – не надо.
Глава 2
Которую читатель, знакомый с предыдущими тремя книгами о приключениях Софи Домогатской, вполне может пропустить, поскольку в ней излагается краткое содержание этих приключений, а также приводится полный список действующих и действовавших ранее героев
В 1882 году в Петербурге, запутавшись в долгах, застрелился потомственный дворянин Павел Петрович Домогатский. Его вдова Наталия Андреевна осталась одна, имея на руках шестерых детей, по старшинству: Софи, Гришу, Аннет, Ирен, Сережу и Алешу. Имение и петербургскую квартиру на Пантелеймоновской улице пришлось продать, чтобы расплатиться с долгами. Чтобы хоть как-то удержаться на плаву и прокормить детей, Наталия Андреевна решает устроить брак старшей дочери, шестнадцатилетней Софи, с другом семьи – пятидесятитрехлетним Ираклием Георгиевичем. Однако, Софи вовсе не согласна быть жертвой, и выходить замуж по маменькиному расчету. Тем более, что ее сердце, как она полагает, уже занято. Уже несколько месяцев она ужасно влюблена в Сержа Дубравина, который выдает себя за богатого московского дворянина. На самом деле Серж – мелкий мошенник, мещанин из Инзы, провернувший в Москве некую аферу, и сбежавший в столицу с деньгами компаньонов. Но компаньоны отыскивают сбежавшего Дубравина в Петербурге и угрожают убить. Опасаясь разоблачения и смерти, Серж тайком едет в Сибирь вместе со своим камердинером Никанором. Накануне отъезда между ним и Софи происходит решительное объяснение. Серж сообщает Софи, что он ее не любит и советует выбросить всю эту историю из головы. Однако Софи ему не верит, полагая, что таким способом он благородно оберегает ее от каких-то свалившихся на него самого неприятностей. Горничная Софи Вера вступает в связь с Никанором и хорошо осведомлена обо всех планах хозяина и слуги. Заняв деньги у своего учителя математики, Софи едет в Сибирь вслед за Сержем. Вместе с нею отправляются Вера и Эжен Рассен, француз, гувернер братьев Софи Сережи и Алеши.
В дороге Эжен Рассен тяжело заболевает и умирает на руках у Софи. Общение с ним производит на Софи огромное впечатление, в каком-то смысле инициирует ее умственную и эмоциональную жизнь. Именно Эжен Рассен становится ее первой настоящей любовью. Но ни он, ни она об этом не подозревают.
Приблизительно в это же время в Сибири, в маленьком городке Егорьевске, насчитывающем всего полторы тысячи жителей, местный золотопромышленник Иван Парфенович Гордеев после сердечного приступа узнает, что он болен аневризмой и может умереть в любую минуту. Гордеев вдовец и имеет двоих законнорожденных детей. Сыну Пете 28 лет, он пьяница и охотник, а более никаких интересов у него нет. Дочке Машеньке 23 года, она хромоножка, затворница и подумывает о монастыре. В том ее горячо поддерживает незамужняя сестра Ивана Парфеновича, Марфа Парфеновна, которая вот уже много лет, после смерти Марии, жены Ивана, ведет дом брата. Фактически обстоятельства складываются так, что Гордееву не на кого оставить прииски и прочее нажитое в течение его жизни хозяйство.
Иван Гордеев задумывает хитрый план и пишет письмо в Петербург, своему приятелю. В письма Иван просит петербургского конфидента отыскать ему хорошего происхождения и воспитания, но небогатого человека, который имел бы хоть какое-то образование, подходящее к горному делу, и открыто предложить ему следующее: место управляющего на приисках, а в дальнейшем, после смерти Гордеева, все хозяйство в собственность. Условие одно: немедленная женитьба на хромоногой Машеньке.
Желающий находится. Им оказывается бедный и романтически настроенный дворянин Митя Опалинский, только что окончивший курс и выучившийся на горного инженера. С рекомендательным письмом к Гордееву, медальоном с портретом Машеньки, будущей невесты и жены, и напутствиями маменьки-вдовы Митя едет в Сибирь.
Случай сводит его в одной карете с Сержем Дубравиным. По пути Митя рассказывает Сержу обо всех своих планах, расчетах и надеждах, кроме, конечно, будущей женитьбы по уговору. В этой же карете, под охраной двоих казаков, везут деньги на прииск. В полутора десятках верст от Егорьевска на карету нападают разбойники из местной шайки Климентия Воропаева, забирают все деньги и убивают кучера, казаков и их случайных попутчиков. Никанор уходит в тайгу вместе с разбойниками. Спустя некоторое время контуженный Серж приходит в себя. Он обнаруживает пропажу всех своих денег, находит рядом с собой мертвого Митю и, поколебавшись, забирает у него документы и рекомендательное письмо к Ивану Гордееву.
Явившись в Егорьевск, Серж Дубравин выдает себя за Дмитрия Опалинского, а свои собственные документы сдает в полицию, сообщая о погибшем попутчике. Гордеев рад приезду будущего зятя и охотно знакомит его с делами. На прииске «Мария» имеется свой инженер – Матвей Александрович Печинога, странных привычек и уродливый внешне человек, самоед-полукровка, но при том прекрасный специалист. Не будучи осведомленным о матримониальных планах Гордеева, Матвей Александрович полагает, что место управляющего на приисках – по праву его, так как в приишимской тайге никто лучше его не разбирается в горном деле. С людьми честнейший Матвей Александрович ладить не умеет, но полагает это неважным. Приисковые бабы считают Матвея Александровича чертом и уверены в том, что у него нет души. Матвей Александрович сразу, из дела, понимает, что с новым якобы инженером что-то не так, но из своих моральных принципов не доносит о том Гордееву.
Местные обыватели в восторге от Дубравина-Опалинского. Он мил, общителен и приударяет за всеми егорьевскими барышнями сразу. Гордеев по этому поводу недоумевает, но решает выждать, полагая, что это такая особая столичная манера ухаживать. Тем временем хроменькая Машенька Гордеева действительно и от всей души влюбляется в лже-инженера. Он тоже все более симпатизирует ей, но решительного объяснения между ними так и не происходит. Серж вместе с Гордеевым уезжают в Екатеринбург для получения прибывшего из-за границы оборудования.
В это время в Егорьевск прибывает Софи Домогатская вместе с Верой. Почти сразу по приезде она узнает о гибели Сержа Дубравина в тайге от рук разбойников (разумеется, никто не может сообщить ей о том, что Серж на самом деле жив, а погибший – Митя Опалинский). Отчаявшуюся от потерь Софи приютили Златовратские, семья начальника местного училища, состоящая, кроме отца семейства Левонтия Макаровича, из матери – Леокардии Власьевны и троих дочерей – Аглаи, Наденьки и Любочки. Семья вполне образованная и в родстве с Гордеевыми. Леокардия (Каденька, как называют ее родные), приходилась младшей сестрой умершей жене Гордеева Марии, и Иван Парфенович фактически вырастил ее. Все Златовратские имеют свои интересы. Левонтий Макарович интересуется почти исключительно римским правом, Каденька – женским равноправием, и держит амбулаторию для бедных, Наденька тоже увлекается медициной (в основном, народной), Аглая мечтает о женихах, а Любочка тайно влюблена в Николашу Полушкина, старшего сына местного подрядчика.
Николаша Полушкин тоже имеет свою историю. Его мать, юная московская дворянка Евпраксия Александровна забеременела вне брака от кого-то из придворных. Чтобы скрыть позор, ее срочно выдали замуж в Сибирь за давно влюбленного в нее подрядчика. Родившийся Николаша носит фамилию мужа матери, но мезальянс и доселе заметен всем и каждому невооруженным глазом. Николашу Евпраксия Александровна обожает, а младшего сына Васю, напротив, почти не замечает. Между тем Николаша – оболтус и бездельник, приятель Пети Гордеева, а Вася серьезно увлечен наукой и мечтает об учебе в Петербурге. Впрочем, отец даже слышать об этом не хочет и вразумляет Васю с помощью оглобли. Разгадав многое в замысле Ивана Гордеева чутьем природной интриганки, Евпраксия Александровна предлагает драгоценному Николаше свой план, который позволит им обоим вырваться из Сибири и устроиться в столице. Он должен жениться на Машеньке Гордеевой, окончательно споить Петю и увезти жену в Петербург, где она со своей набожностью и хромой ногой будет сидеть за печкой, а Николаша и Евпраксия Александровна будут проводить время в блеске петербургского света на гордеевские деньги. Двери этого самого света откроет перед Николашей его родной отец (Евпраксия Александровна под большим секретом сообщает Николаше его имя). Николаша, который со слов Пети знает о гордеевской аневризме, вырабатывает собственный план и приступает к его реализации.
Машеньке лестно предложение Николаши (когда-то, в детстве, она была влюблена в него), но теперь сердце ее уже занято, и она решает ждать до объяснения с Сержем-Митей. Любит ли он ее? Как он скажет, так и будет.
Тем временем Софи Домогатская приходит в себя и разворачивает в Егорьевске бурную деятельность. Она ставит спектакль силами местной «интеллигенции», организует первый общественный каток и т. д. и т. п. Все это время она пишет в Петербург своей лучшей подруге Элен Скавронской письма, в которых описывает свою сибирскую эскападу.
Пока Софи развлекается и развлекает других, умная и взрослая Вера подозревает что-то неладное в истории с нападением разбойников на карету. Почему никто ничего не знает о Никаноре? Где он? Убит? Сбежал? Пытаясь выяснить правду, она попадает в крайне неприятные обстоятельства, из которых ее выручает инженер Печинога. После этого между мужчиной и женщиной возникает взаимное притяжение, которое в конце концов приводит к развитию между ними романа.
Однако Никанор не только не погиб сам, но и спас Митю. Вернувшись по приказу Воропаева на место убийства, чтобы замести следы, Никанор замечает, что юный инженер еще дышит, и относит его в зимовье, где выхаживает почти всю зиму. Зачем он это делает, он и сам объяснить не может. Климентий Воропаев ничего об этом не знает.
Потом Никанор тайно встречается с Верой и намекает ей на подлинную судьбу Дубравина. Во время этой же встречи Вера сообщает бывшему любовнику, что между ними все кончено, так как она любит другого и собирается за него замуж. Никанор в отчаянии.
Николаша между тем организует сложную, многоходовую интригу, и полуобманом перетягивает на свою сторону Петю Гордеева и Матвея Печиногу. Во время спровоцированного бунта на прииске Гордеев должен погибнуть. Чуть позже убьют Опалинского-Дубравина. Все убийства свалят на восставших рабочих. Николаша женится на Машеньке и останется фактическим хозяином империи Гордеева.
Вера заболевает пневмонией и в полубреду, полагая себя на пороге могилы, рассказывает Софи сразу две тайны. Первая: еще в Петербурге она была любовницей Павла Петровича и даже прижила от него ребенка, который умер в воспитательном доме. Тайна вторая: нынче она беременна от Матвея Александровича. Матвей ребенка не хочет, так как отчего-то считает себя и свой род проклятым.
Софи, проникнувшись несчастьями горничной, едет к инженеру и объясняется с ним из ее интересов. Матвей Александрович появляется у Златовратских и предано ухаживает за Верой.
Сразу же по приезде Сержа и Гордеева из Екатеринбурга Машенька, выпив для храбрости Петиной наливки, идет объясняться с Сержем. Объяснение происходит, но наутро она, вот беда, совершенно не помнит, чем все закончилось. В отчаянии она кидается к Софи за советом.
Бодрая Софи уже давно выведала сердечную тайну Машеньки и охотно дает ей советы. Однако, Машенька посредством Николаши узнает об изначальном сговоре Ивана Гордеева и Опалинского. Она и ее любовь – просто докучный довесок к приискам! Этого Машенькина душа вынести категорически не может и девушка собирается в монастырь. Тем временем Гордеев тоже имеет с Дубравиным серьезную беседу касательно Машеньки и без труда разоблачает его (Серж попросту ничего не знает о сговоре).
Софи Машенькино решение с монастырем не нравится, и она бросается на устройство ее личных дел. Первая же встреча Софи с Сержем-Митей все расставляет по своим местам.
У Гордеева случается сердечный приступ.
В это время на прииске «Мария» происходит бунт. Больной Гордеев и Серж едут туда. Софи тоже едет на прииск вместе с Верой, Надей и Каденькой Златовратскими. Левонтий Макарович тоже намеревается ехать, но оберегающая его служанка – киргизка Айшет – запирает его в кабинете. Петя от волнения напивается и падает под стол. Коварные замыслы Николаши разоблачает для Машеньки Ванечка Притыков – внебрачный сын Гордеева от бобылки Настасьи. Машенька тоже едет на прииск, чтобы спасти отца и Сержа.
Во время бунта убивают Матвея Александровича, который вышел успокаивать рабочих, но абсолютно не преуспел в этом вопросе. Гордеев умирает от разрыва аневризмы. Бунт усмиряют казаки. Никанора арестовывают в числе прочих, обвиняют в убийстве инженера Печиноги и отправляют на каторгу.
Машенька и Серж пытаются строить отношения и вместе управлять империей Гордеева. Митя Опалинский убивает Климентия Воропаева.
Любочка Златовратская тайно помогает бежать Николаше Полушкину.
Вера рожает ребенка и остается жить в Егорьевске (Матвей Александрович завещал ей и ребенку все свое имущество и деньги).
Софи возвращается в Петербург. Там Элен предъявляет ей все ее письма и убеждает подругу, что она должна написать роман о любви.
Спустя шесть лет после описанных событий молодая петербургская писательница Софи Домогатская отправляется в Чухонскую слободу собирать материал для своего нового, социального романа. Там она случайно спасает от гибели Михаила Туманова, скандально известного петербургского промышленника и владельца модного игорного дома, при котором он и живет. Происхождение и начальные этапы восхождения Туманова к вершинам богатства окутаны какой-то мрачной тайной, в которую не посвящены даже близкие друзья Туманова – Иосиф Нелетяга, философ и гомосексуалист, и бирманка Саджун, содержательница борделя восточного типа. Когда-то Саджун и Туманов были подельниками и любовниками. Много лет назад она подобрала его умирающим в Лондонском порту, выходила и использовала для достижения своей цели: возвращения на родину, в корону статуи Будды огромного сапфира, известного в Европе и России под именем «Глаз Бури». Сапфир был украден Тумановым и Саджун из дома князей Мещерских во время сеанса гадания (гадалкой, естественно, выступала Саджун) и благополучно возвращен в Бирму. Следствие по делу вел полицейский следователь Густав Карлович Кусмауль, но обнаружить вора и сапфир так и не сумел. На памятном сеансе присутствовало шесть человек: баронесса Шталь, ее младший сын Ефим, княгиня и княжна Мещерские, друг дома Костя Ряжский и Зизи, подруга Ксении Мещерской, будущая графиня К.
В качестве «платы» за спасение жизни Туманова Софи требует знакомства с бытом его клуба и игорного дома, полезного для нее, как для писателя. Во время купеческого бала в клубе пьяный Туманов ведет себя весьма недостойно. Честь Софи спасает управляющий, вовремя огревший хозяина подсвечником по голове.
Пытаясь вымолить прощение Софи, Туманов подсылает к ней с запиской Грушеньку-Лауру, одну из проституток при Доме Туманова (небольшой бордель существует в отдельном флигеле под видом шляпной мастерской). В доме Софи Грушенька встречается с Гришей Домогатским и между ними вспыхивает любовь. Софи, которая уже осведомлена о роде Грушенькиных занятий, в ужасе, но не знает, как открыть Грише глаза на его избранницу.
За истекшие годы сестра Софи Аннет вышла замуж за пожилого, обеспеченного помещика Модеста Алексеевича Неплюева и родила от него сына. Теперь вся семья Домогатских, кроме Софи, проживает в его имении Гостицы. Гриша учится в Университете. Сама Софи работает учительницей в земской школе в деревне Калищи, недалеко от Гостиц. В этом же уезде проживают помещики Безбородко – мать и сын. Мать, Мария Симеоновна – давняя подруга Модеста Алексеевича. Сын – Петр Николаевич – считается женихом Софи.
Давняя и верная подруга Софи – Элен Скавронская-Головнина – пытается предостеречь подругу от завязывания каких бы то ни было отношений с Тумановым. Собрав сведения в «обществе», она описывает его как человека безнравственного, жестокого и беспринципного. К тому же он побывал едва ли не во всех постелях петербургских красоток самого разного толка.
Незадолго до того мистически настроенная Ксения Мещерская во время спиритического сеанса узнает, что во всех ее жизненных бедах виноват давно пропавший сапфир и укравший этот сапфир кухонный дурачок Мишка Туманов, ныне превратившийся в богатейшего петербургского промышленника.
Свое следствие с помощью все того же Густава Карловича проводит и баронесса Шталь. Она ищет своего среднего сына, прижитого ею от кучера и отправленного в воспитательный дом. Густав Карлович имеет в этом деле свои собственные интересы – кроме денег, обещанных баронессой, ему интересно узнать и историю сапфира, да и сам противоречивый образ Туманова поневоле завораживает его.
В это же время Туманова преследуют многочисленные деловые неприятности. Кто-то явно хочет разорить его. Кто-то также пытается шантажировать Саджун давней историей с сапфиром. Кроме того, неизвестный в черной маске подчеркнуто театральным образом крадет Софи и требует у Туманова за нее весьма специфический выкуп. Туманов соглашается на все условия, но Софи освобождается своими силами. Кто стоит за всем этим? Иосиф Нелетяга проводит для Туманова расследование и, из шестерых присутствовавших на давнем сеансе, подозрение друзей падает на Константина Ряжского (удается установить, что именно в его родовом, полузаброшенном ныне имении держали в плену Софи).
Софи и Туманова тянет друг к другу. Их союз невозможен ни с какой точки зрения, и отношения, постепенно возникающие между ними, осуждаются всеми без исключения. НО когда одного или другого интересовало общественное мнение?
Элен пытается «спасти» подругу и попадает в весьма неприятную историю с векселями собственного мужа, которые Туманов дарит ей за ее благородство. Муж Элен, Василий Головнин, требует отказать «падшей» Софи от дома. Разрываемая противоречивыми страстями, Элен падает в нервной горячке и только вмешательство Софи спасает ее от гибели.
Софи и Туманов становятся любовниками. Их связь сладка, запретна и мучительна для обоих. Софи не желает жить на съемной квартире содержанкой Туманова и, в конце концов, порывает с Михаилом. С подачи Элен она возвращается к светской жизни. В процессе ее Софи знакомится почти со всеми участниками давней истории с сапфиром. Ефим Шталь ухаживает за ней. Она могла бы узнать в нем похитителя в черной маске и «рыцаря в сверкающих доспехах», который под маской, на благотворительном балу подарил ей выкупленное им рубиновое ожерелье, но гонит узнавание прочь, желая без помех наслаждаться жизнью.
Дуня Водовозова тоже давняя подруга Софи. Она – двоюродная внучка того самого учителя математики, который когда-то ссудил Софи деньги для поездки в Сибирь. Поликарп Николаевич умер до возвращения Софи и долг она отдавала уже его наследнице. В жизни Дуни Софи выступила в роли Пигмалиона. Она пробудила в ней волю к жизни, заставила ее выучиться на курсах, вводит в различные кружки, поощряет занятия математикой (Дуня обладает выраженными способностями в этой области), планирует ее замужество по договору с одним из «передовых» молодых мужчин и отъезд за границу для обучения математике в Университете в Германии. Все это Дуня невозмутимо и с благодарностью принимает.
Знакомство Дуни с Михаилом Тумановым многое изменило. Она влюбилась в Михаила. Но Михаил все еще любит Софи, и Дуня знает об этом. Поэтому из интересов любимого она уговаривает Софи вернуться, мотивируя это фактами о том, что без Софи Михаил попросту утерял желание жить и ищет смерти. Софи смеется Дуне в лицо, однако, что-то все же толкает ее на поиски. Она встречает Михаила ночью, в артели рубщиков невского льда, и все еще живое чувство опять бросает их в объятия друг друга.
Гриша и Груша тоже любят друга. После окончательной близости (Грушенька успешно притворяется девственницей-недотрогой) Гриша делает девушке предложение. Софи и ее младшая сестра Ирен боятся сказать ему правду, опасаясь самоубийства с его стороны или иных безумных ходов.
Грушеньке, с ее стороны, угрожает разоблачением Лизавета, умная и корыстолюбивая девушка, которая за деньги работает на всех подряд, но любит Ефима Шталь и является его давней любовницей. В аффекте Грушенька убивает Лизавету. В убийстве по совокупности косвенных улик обвиняют Туманова.
Тем временем сочетание интриг, направленных против Туманова, развивается своим ходом.
Кульминацией их становится пожар в игорном доме, во время которого практически все действующие лица романа сходятся на одной площадке.
Во время пожара, спасая девушку-горничную, гибнет Иосиф Нелетяга. Баронесса Шталь сообщает Туманову, что он – ее средний сын, и она готова признать его и всячески искупить свою давнюю вину перед ним. «Подите прочь!» – говорит ей Туманов. Источником всех прочих неприятностей Туманова оказывается Ефим Шталь, не желающий делить с братом-ублюдком деньги и внимание матери. Впрочем, оборванцев с ножом, послуживших поводом для знакомства Софи и Туманова, нанял не он. Их наняла графиня К., взбешенная тем, что Туманов ее бросил.
Последней каверзой Ефима является то, что Софи провела ночь пожара в его апартаментах. «Нам было хорошо вместе, мы во всех отношениях подходим друг другу!» – высокомерно заявляет он своему брату-плебею, когда-то в буквальном смысле выброшенному на помойку. Раздавленный гибелью Иосифа и прочими переживаниями Туманов не желает выслушать объяснения Софи. Оскорбленная тем, что ей не верят, Софи уходит от него к своим друзьям-аристократам, тоже прибывшим на пожарище.
После всего случившегося Туманов покидает Петербург и вообще Россию, и вскоре гибнет, примкнув к одному из народно-освободительных восстаний на Кавказе. Софи узнает об этом от Саджун, которая проводила специальное расследование по этому поводу. В это же время Софи понимает, что ждет ребенка от Михаила. Ефим Шталь хочет завладеть вниманием Софи, но терпит сокрушительную неудачу. Чуть позже Петр Николаевич Безбородко вновь, невзирая на все обстоятельства, делает ей предложение и сообщает, что согласен признать будущего ребенка. Софи соглашается на брак.
Гриша женится на Грушеньке – бывшей проститутке и убийце.
Дуня Водовозова уезжает за границу вместе со студентом-естественником Семеном. Ее не покидает надежда отыскать Туманова.
Спустя пару лет после событий в Петербурге внимание автора и читателя вновь возвращается в Егорьевск.
На золотые прииски, принадлежащие Гордеевым-Опалинским, приезжает из Петербурга инженер Андрей Измайлов, бывший народоволец, разочаровавшийся в революционных идеалах и мечтающий о «тихой гавани».
Между тем, ни о какой «тишине» в приишимской тайге не может быть и речи. В округе вот уже несколько лет действует банда жестокого и непредсказуемого Черного Атамана – Сергея Алексеевича Дубравина. Ходят слухи о его психической болезни. Так оно и есть: Митя Опалинский, безусловно, психически нездоров. Взяв себе имя Дубравина, который отнял имя, должность и невесту у него самого, он борется со своей болезнью и мстит за свою искалеченную жизнь всем подряд, не решаясь при этом уничтожить своего врага, так как все еще влюблен в Машеньку и не хочет причинять ей горя. Его любовница, остячка Варвара, пользуясь образцом из золотого медальона, написала портрет Машеньки, который Митя хранит на своей заветной заимке.
Серж Дубравин живет в постоянном страхе перед разоблачением и напряжении, которое уже почти раздавило его. Петя пьет и радуется жизни с Элайджей – юродивой еврейкой, на которой он женился по любви после смерти отца. У них трое диких и абсолютно неразвитых детей, которые сами себя называют Лисенком, Волчонком и Зайчонком. Все дела «империи» Гордеева фактически свалились на Машенькины плечи. Сначала ей еще помогал друг отца остяк Алеша (отец Варвары), но после они разошлись во взглядах и расстались. Алеша сошелся с Верой, бывшей горничной Софи. Сначала они вместе делали дела, а потом и жить стали вместе. У Веры двое детей – Матвей и Соня. Оба ребенка – не родные ей по крови. Соню Вера усыновила в память погибшего инженера Печиноги (в некотором смысле он способствовал ее появлению на свет), а что касается Матвея, то его «подарила» Вере Софи Домогатская. Собственный ребенок Веры и инженера Печиноги умер при родах. Пользуясь тем, что Вера после тяжелых родов была без сознания, Софи подменила умершего младенца вполне живым и здоровым первенцем юродивой Элайджи. Тайну происхождения Матвея-младшего знают только Софи и приисковый фельдшер, принимавший роды у обеих женщин.
У Машеньки и Сержа один ребенок – Шурочка, слабый и болезненный.
Надя Златовратская вышла замуж за ссыльного народовольца Ипполита Коронина. Она продолжает заниматься народной и прочей медициной, закончила акушерские курсы. Ее муж фактически возглавляет некую подпольную организацию ссыльных революционеров, занимающуюся издательской и прочей деятельностью, а также устраивающую побеги политических заключенных из сибирских тюрем и с каторги. Аглая служит в училище. Она сошлась с трактирщиком Ильей, но уже несколько лет скрывает эту связь. Любочка тайком от всех переписывается с Николашей Полушкиным.
Пески на приисках истощились и вот-вот нужно принимать какое-то, касающееся их решение. Но кто будет его принимать? Рабочие волнуются, тоже гадая о будущем, в их среде циркулируют всякие слухи, еще более усиливающиеся от провокаций с разных сторон.
Полицейская, жандармская и военная (казаки) власти уезда, по прямому указанию сверху, планируют совместную, не лишенную изящества операцию. В результате ее будет уничтожена банда Черного Атамана, нелегальная сеть явок и доверенных лиц, наброшенная ссыльными революционерами едва ли не на всю Западную Сибирь, а также будут показательно выявлены и изолированы политически распропагандированные и склонные к бунту элементы на приисках. Интерес хозяев приисков: под шумок операции выработанные прииски будут закрыты без всяких волнений и материальных претензий со стороны рабочих. Им будет попросту не до того. Для успешного осуществления операции в банду и в среду политических по полицейскому и жандармскому обыкновению внедряются агенты и провокаторы.
Во всех затруднительных случаях своей жизни многие жители Егорьевска пишут письма в Петербург, Софи Домогатской. Она не отвечает никому, кроме простодушной попадьи Фани Боголюбской, которая запуталась в своей запретной любви к местному уряднику Карпу Платоновичу Загоруеву.
Вот в такую-то «тихую гавань» и приезжает инженер Измайлов. И сразу же попадает как кур в ощип.
Разбойники Дубравина зачем-то отбивают арестованных во время волнений рабочих, убивая при этом сопровождающих их казаков. Следующий вместе с конвоем Измайлов тяжело ранен, но ему удается сбить преследователей со следа и уползти в тайгу. Там его находит собирающая травы и корешки Надя Златовратская. Используя свои медицинские навыки, она выхаживает раненного в зимовье. Между выздоравливающим Измайловым и Надей возникает любовная связь, причем с самого начала проговорено, что Коронина Надя никогда не оставит.
После прибытия Измайлова в Егорьевск, местные ссыльные Коронин, Давыдов и Веревкин пытаются привлечь его к революционной деятельности, а потом, наоборот, считают провокатором. Провокатор должен быть, это известно доподлинно, но кто же он? Измайлов, вроде бы, больше всех подходит на эту роль.
Машенька Гордеева-Опалинская пытается найти в Измайлове друга и соратника. Серж Дубравин по понятным причинам сторонится нового инженера. Черный Атаман вступает с ним в переписку, возвращает документы и советует вернуться в Россию, от греха подальше.
Измайлов тяготится всем этим, включая связь с Надей, но не знает, что предпринять. Он избегает егорьевское общество, дружит с рабочими, Васей Полушкиным, Иваном Притыковым, и «дикими» детьми Пети и Элайджи, причем единственный принимает их всерьез, и в каком-то смысле инициирует их умственное и эмоциональное развитие.
Тем временем настоящий отец Сони, пьяница и бездельник, тайком от Веры шантажирует девочку, требуя у нее вещи и деньги и угрожая отдать разбойникам брата Матвея. Соня открывается брату. Матвей обещает все уладить и попутно знакомится с Волчонком, Лисенком и Зайчонком. Дети организуют некую совместную игру-приключение, целью которой является слежка за разбойниками и выяснение их привычек (Нужны ли им маленькие мальчики, или Сонин отец все врет?).
Приблизительно в это время в Егорьевск приезжает Гликерия Ильинична, мать настоящего Дмитрия Опалинского (все эти годы Серж от имени Опалинского посылал ей деньги, но, по понятным причинам, не прислал ни одного письма). Узнав в дороге о том, что сын жив-здоров, она с нетерпением ждет встречи с ним. Увидев же вместо сына Сержа Дубравина, кричит: «Куда вы его подевали?!» – и теряет сознание.
Вера, узнав всю эту историю от Сони (которой, в свою очередь, рассказал ее очевидец-Волчонок), проникается сочувствием к несчастной старушке и сообщает дочери, что на самом деле сын старой женщины жив, и он – никто иной, как Черный Атаман. Сильный в логике Матвей-младший более-менее правильно просчитывает ситуацию, и дети принимают решение: они тайком уводят старушку из трактира и переправляют ее на заимку к Черному Атаману. Там и происходит встреча матери и сына.
Накануне начала описанных выше событий с каторги бежит Никанор, бывший камердинер Сержа Дубравина, который все эти годы любит Веру и хранит в душе ее образ. Никанор присоединяется к банде Черного Атамана, встречается с Верой и убеждает ее в том, что он не убивал инженера Печиногу. В обмен на неделю ее любви Никанор предлагает Вере и Алеше место и план разработки новых золотых приисков, разведанных в тайге талантливым на золото старателем Коськой-Хорьком. Интерес к делу Черного Атамана в процентах от выручки и применении его собственных инженерных навыков. Вера, подумав, соглашается на сделку.
Открыв новый прииск «Счастливый Хорек», Вера переманивает туда самых активных и непьющих рабочих, которые уходят в тайгу, разрывая контракт с Опалинскими-Гордеевыми. Пытается Вера переманить к себе и Измайлова, но он отказывается. Маша должна либо подавать в суд на рабочих, либо смириться с Вериным и Алешиным мародерством.
Тем временем полицейско-жандармская операция подходит к своему завершающему этапу. Гавриил Давыдов (который и является настоящим провокатором) сдает полиции егорьевских революционеров и ловко подставляет Измайлова, в результате чего ни у кого не остается и тени сомнения в том, что предатель именно он. Арестованный, в кандалах Коронин плюет Измайлову в лицо.
Измайлов решает покончить жизнь самоубийством. Элайджа и ее дети не дают ему довести дело до конца и совместными усилиями вынимают инженера из петли. Против воли оставшийся в живых, Измайлов решает наконец выяснить, что же происходит вокруг него, и разобраться в егорьевских тайнах. С помощью Волчонка он попадает на заимку к Черному Атаману и слышит от него всю историю со сменой имен и т. д. В завязавшемся разговоре Измайлов случайно выдает атаману полицейского агента в банде. Им оказывается Липат Щукин, отец Сони. Через два дня его находят убитым на тракте.
Остяк Алеша встречается с Черным Атаманом по делам прииска «Счастливый Хорек», и одновременно выдает разбойников полиции, желая таким образом оберечь Веру и получить прииск и Коську в свое полное распоряжение.
Отряд казаков уничтожает банду Черного Атамана. Никанора и Митю Опалинского убивают. Одновременно на прииске начинаются запланированные и спровоцированные полицией волнения. Но Измайлов своей волей и своим опытом революционного трибуна предотвращает бунт.
Дети Элайджи выслеживают и, мстя за Измайлова, убивают полицейского провокатора Гавриила Давыдова.
Измайлов, потрясенный, как бы не сломленный свалившимися на него испытаниями, уезжает в обратно в Петербург. Туда же бежит Варвара, унося с собой дневник Измайлова, «красную тетрадь». В столицу стремится и Любочка Златовратская.
Разоблаченную Фаню отправляют в монастырь.
В финале Софи Домогатская пишет новый роман – «Красная тетрадь инженера Измайлова».
Петербург
Домогатские:
Павел Петрович (застрелился в 1882 году, 43 лет отроду)
Наталия Андреевна, мать семейства (52 года)
Их дети – Софья Павловна (32 года)
Григорий Павлович (31 год)
Анна Павловна (Аннет) (29 лет)
Ирина Павловна (Ирен) (24 года)
Сергей Павлович (22 года)
Алексей Павлович (20 лет)
Туманов Михаил Михайлович (45 лет)
Безбородко Петр Николаевич, муж Софи (38 лет)
Безбородко Мария Симеоновна, мать Пети (59 лет)
Неплюев Модест Алексеевич (муж Аннет) (63 года)
Кока (Николай) – сын Аннет и Модеста Алексеевича (13 лет)
Павлуша – сын Софи и Михаила Туманова (10 лет)
Милочка (Мария) – дочь Софи и Петра Николаевича (8 лет)
Саджун (Анна Сергеевна) – подруга Туманова (51 год)
Джонни – сын Саджун и Туманова (10 лет)
Грушенька Воробьева (Лаура) – бывшая проститутка из дома Туманова, ныне жена Гриши Домогатского (27 лет)
Людмила – дочь Гриши и Груши (3 года)
Зинаида, графиня К. (43 года)
Ксения Мещерская (44 года)
Константин Ряжский – петербургский промышленник (42 года)
Евфимий Людвигович (Ефим) Шталь, барон, сводный брат Михаила Туманова (41 год)
Измайлов Андрей Андреевич, инженер (44 года)
Подруги Софи:
Евдокия Водовозова (30 лет)
Елена (Элен) Николаевна Скавронская-Головнина (32 года)
Матрена Агафонова, журналистка (36 лет)
Ольга Васильевна Камышева (32 года)
Кэти (29 лет)
Мари Оршанская (Шталь) (34 года)
Ирина Гримм (32 года)
Кузьма, хозяин кухмистерской «У Лизаветы» (30 лет)
Лизавета, любовница Ефима и невеста Кузьмы (убита Грушей)
Даша – бывшая проститутка, ныне жена булочника (30 лет)
Кусмауль Густав Карлович, бывший полицейский следователь, ныне в отставке (66 лет)
Мещерский Владимир Павлович, князь, отец Николаши Полушкина
Егорьевск
Гордеевы:
Иван Парфенович (умер в 1884 г.) – купец и промышленник, фактический основатель Егорьевска.
Марфа Парфеновна, его сестра (умерла)
Марья Ивановна, его дочь (39 лет)
Петр Иванович, его сын (44 года)
Элайджа (жена Петра Ивановича) (45 лет)
Их дети – Анна (Зайчонок) (15 лет)
Юрий (Волчонок) (17 лет)
Елизавета (Лисенок) (18 лет)
Иван Притыков – внебрачный сын Гордеева (30 лет)
Настасья Притыкова, его мать (49 лет)
Сергей Алексеевич Дубравин (живет под именем Дмитрия Михайловича Опалинского) (42 года)
Шурочка Опалинский, сын Сергея Алексеевича и Марьи Ивановны (17 лет)
Златовратские:
Левонтий Макарович – начальник училища (56 лет)
Леокардия Власьевна – его жена (54 года)
Аглая Левонтьевна (35 лет)
Любовь Левонтьевна (30 лет)
Надежда Левонтьевна (33 года) – их дочери
Ипполит Михайлович Петропавловский-Коронин – муж Нади (42 года)
Николай Викентьевич Полушкин (Иван Самойлов) (45 лет)
Евпраксия Александровна Полушкина – мать Николая (63 года)
Василий Полушкин – сводный брат Николая (35 лет)
Фаня Боголюбская, бывшая попадья, ныне монашка в Ирбитском
монастыре (38 лет)
отец Андрей – настоятель Крестовоздвиженского собора, в прошлом муж Фани (41 год)
отец Михаил, священник – отец Фани (63 года)
Арина Антоновна – жена отца Михаила и мать Фани (60 лет)
Вера Михайлова, бывшая горничная Софи (44 года)
Ее воспитанники: Соня (19 лет) и Матвей (19 лет)
Стеша, ее дочь (8 лет)
Матвей Александрович Печинога, инженер, гражданский муж Веры (убит во время бунта на прииске)
Никанор, бывший камердинер Сержа Дубравина, отец Стеши (убит казаками)
Алеша, остяк, друг Ивана Гордеева, «король» тайги, сожитель Веры (умер).
Варвара Остякова, его дочь (33 года)
Манька Щукина, сестра Сони (25 лет)
Крошечка Влас, друг Маньки (27 лет)
Айшет, киргизка, служанка в доме Златовратских (31 год)
Анисья; Мефодий; Игнатий – слуги в доме Гордеевых
Роза и Самсон, мать и отец Элайджи, хозяева трактира «Луизиана» (64 и 66 лет)
Илья Самсонович, их сын, хозяин трактира «Калифорния» (39 лет)
Хайме, калмычка, служанка в трактире (55 лет)
Евдокия, странница (63 года)
Глава 3
В которой Ришикеш Рита опасается чего-то неопределенного, а Любочка Златовратская хочет изменить свою жизнь.
Будуар был обставлен в неоготическом стиле. Остроконечная устремленность исполненной из орехового дерева мебели придавала всему интерьеру странный, какой-то неуместно агрессивный вид. Темно-синий бархат обивки и голубые стены (а, как известно, синий цвет успокаивает) еще подчеркивали парадоксальность обстановки, и делали ее откровенно, хотя и невнятно, говорящей. Неуместная в будуаре неоготика явно хотела что-то сообщить или даже навязать случайному (или неслучайному?) зрителю.
Хрупкая женщина с живыми, широкими, почти сросшимися на переносице бровями, которые практически уничтожали в визуальном восприятии ее узкий и бледный лоб, сидела на кровати, покрытой фиолетовым покрывалом. Серебряные месяцы, вытканные на нем, странно, и, пожалуй что, неприятно гармонировали с ее вымученно изогнутой улыбкой и даже с продолговатыми глазами, в глубине которых тоже переливалось тускловатое рыбье серебро.
– Я не хочу и не могу больше ждать, Николаша, – сказала женщина. Голос ее звучал ровно, но где-то вблизи чувствовалась подступающая истерика. – Не желаю. Ты слышишь?
Мужчина стоял возле окна. Мучительный вечерний свет, проникавший через окно из узкой, похожей на ущелье петербургской улицы, не красил его лицо, делал его землистым и брезгливым. Черты этого лица, впрочем, можно было бы назвать правильными и даже породистыми. Вместе с тем присутствовала в них некая несоответственная более чем зрелому возрасту мужчины расплывчатость и неопределенность. Внимательному наблюдателю могло бы показаться, что этот человек начал стариться прежде, чем окончательно повзрослел.
– Я не понимаю тебя, Любочка. Чего тебе не хватает? Я даю тебе слишком мало денег? Так скажи прямо. Я надеюсь, что это скоро изменится… Честное слово, я пришел сюда вовсе не для того, чтобы выслушивать твои упреки и глядеть на истерики…
– А для чего? Для чего ты сюда пришел? Скажи прямо… – язвительно передразнила женщина.
– Изволь. Я прихожу сюда, как в то место, где я могу сбросить опостылевшую маску и быть самим собой. Место, где я хочу отдохнуть возле женщины, которую я люблю и которая любит меня… Этого достаточно?
– Нет! Теперь – нет! – резко вставая, ответила женщина. Приблизившись почти вплотную к мужчине, она едва доставала ему макушкой до подбородка. – Много лет мне было достаточно меньшего. Я ждала в Егорьевске, живя от одного твоего письма до другого. Потом я приехала сюда и много лет ждала уже тут. Ты поселил меня в этой квартире и пообещал, что все это ненадолго и скоро мы сможем окончательно быть вместе. Я поверила тебе и опять ждала. НО где это все?!
– О чем ты говоришь? Что такое «все», Любочка? Я обижал тебя? Обманывал касательно моего действительного здесь положения? За эти годы я когда-нибудь давал тебе повод усомниться в моей любви?
– Твоя любовь? А в чем, позволь узнать, она проявляется? В том, что ты меня содержишь? Очень, надо сказать, скромно содержишь, но за то я, поверь, не в обиде. Я знаю, что у тебя просто нет больших средств. Но вот другое… Ты приходишь сюда, отдыхаешь душой, сбросив, как ты сам выражаешься, маску, пользуешься моим телом, которое всегда к твоим услугам, рассеянно целуешь меня на прощание и уходишь обратно, к своим делам, интригам, надеждам и разочарованиям, к друзьям и недругам, к своей действительной жизни. А я остаюсь… Сижу, гляжу в окно, читаю опостылевшие романы, бранюсь с кухаркой и мужиком, который приносит дрова…
– Но, Любочка, так живут тысячи женщин в Петербурге. И по всей России… Я опять не понимаю тебя. Тебе скучно? Сочувствую тебе. Но в чем же ты видишь выход? Ты что, хочешь поступить на службу? Но что ты станешь делать?
– Я хочу, пока еще не стало поздно, пожить настоящей жизнью, ради которой я…
– Да что же это за жизнь такая, черт подери, объясни же ты мне наконец! – раздражение исковеркало и еще стерло черты лица мужчины, сделало его не столько старым, сколько призрачно-несуществующим. – Может быть, ты ее просто выдумала, эту жизнь, еще там выдумала, в егорьевской глуши? А по правде ничего такого и вовсе нет!
– Неправда! – вскинув голову, выкрикнула Любочка, и мелкие капельки ее теплой слюны осели на скулах Николаши. – Все есть, да только не для меня! Я уже много лет живу здесь на таком положении, каковое вообще не подобает приличной женщине, а тебе все это трын-трава… Я могла бы так жить и в Егорьевске, но там, по крайней мере, у меня мать, отец, сестры, подруги… Я все это бросила ради тебя, а ты сделал меня… Я не такая….
– Люба! Я, кажется, понял. Ты страдаешь от того, что мы с тобою живем невенчаны. Хорошо! Ты видишь, я готов во всем потакать тебе. На той неделе поедем куда-нибудь в уезд, там за соответствующую мзду любой попик нас тайно обвенчает…
– Я не хочу – тайно!! – взвилась Любочка. – Я хочу везде бывать вместе с тобой, хочу знать твоих друзей и иметь своих. Хочу принимать их в своем, в нашем доме… Хочу открыто ходить с тобой в театр и в концерты… Я хочу, чтобы этот мир меня увидел, наконец! Не бойся, я не опозорю тебя, я многому научилась, манеры у меня не хуже, во всяком случае, чем у Софи Домогатской…
В ответ на упоминание этого имени Николаша поморщился, как от невралгической боли, и осторожно снял с лацканов сюртука цепкие пальчики Любочки, которые вцепились в него в пылу спора.
– Люба! Ты же знаешь, что сейчас все это невозможно! Я объяснял тебе тысячу раз…
– Объясни еще раз, не возьми за труд. Может быть, я, наконец, разберу…
– Хорошо. Мой кровный отец – Владимир Павлович Мещерский, маменька Евпраксия Александровна сказала мне об этом много лет назад. Владимир Павлович – опытный царедворец, входит и к прошлому, и к нынешнему государю без доклада. Однако положение его, тем не менее, опасно и щекотливо, так как всегда есть желающие свалить очевидного, тем более многолетнего, фаворита и сесть на его место.
Я приехал сюда, к нему два года спустя, как после бунта бежал из Егорьевска. Ты, еще ребенок, тогда помогла мне, фактически спасла. Я этого не забыл, как видишь. Меня разыскивала полиция, или можно было так полагать, у меня совсем не было средств. Я даже не мог официально объявиться под своим собственным именем. Впрочем, какое оно было мое, если Викентий Савельевич когда-то матушку за себя взял уже беременной мною!.. При всем при том Владимир Павлович принял меня, представил в свет под именем своего какого-то дальнего родственника Ивана Самойлова (он тоже проживает или жил в Сибири). Нынче у меня есть известные знакомства, я уж несколько лет пытаюсь сотрудничать в журналах, другие еще дела и связи… Могу ли я теперь быть неблагодарным?
– В чем же неблагодарность, ежели ты, Николаша, или пусть Иван Самойлов, теперь меня благодетелю представишь, как свою жену? В твоих годах, пожалуй, неженатым страннее быть…
– Любочка! – Николаша мученически заломил кисти и правую бровь. – Ты настаиваешь, чтоб я вслух объяснился? Но это же…
– Настаиваю! – женщина притопнула изящной ножкой в домашней, вышитой туфельке. – Уж как-нибудь переживу…
– Изволь. Владимир Павлович имеет давнее пристрастие к содомской любви. Как уж там и на каких чувствах он в юности матушку мою оприходовал, и меня породил – того мне неведомо, но вроде бы не только у ней, но и у него сомнений в том нет. Стало быть, было. Но после уж все складывалось иначе… Когда он меня откуда-то из Сибири принял, и у себя в доме поселил, все подумали… Понятно, что? И он в том никого не разубеждал…
– Господи! – воскликнула Любочка, прижав ладони к внезапно загоревшимся щекам. – Значит… Значит, все эти годы ты… Ох, Николаша! Он фактически представил тебя всем не как своего сына, а как своего… любовника? Какой кошмар! Но как…
– Разумеется, он сразу растолковал мне, зачем и почему это делает, и тогда я просто не мог с ним не согласиться. Какое-то объяснение ведь должно было быть. Он меня совершенно не знал, видел впервые в жизни, матушкин медальон и письмо, конечно, сыграли свою роль, но… В общем, он просто не мог рисковать, учитывая еще ту историю, которая за мной тянулась, и его собственное положение… Тогда я принял все, как есть, надеясь, что со временем положение изменится…
– И что ж теперь, Николаша? – нетерпеливо спросила Любочка.
Казалось, она слегка уже позабыла собственную обиду и теперь искренне сочувствовала действительно трудно выносимому, на ее взгляд, положению возлюбленного. Небольшие, но блестящие глазки женщины еще разгорелись, напоминая о завидевшем добычу куньем зверьке, чудесно очерченная верхняя губа мелко шевелилась.
– Теперь я понимаю, что Владимира Павловича все устраивает так, как сложилось, – горько сказал Николаша. – Его долг передо мной, с его точки зрения, исполнен. Я присмотрен, введен в круги. Сложившиеся обо мне слухи и репутация никак не могут его волновать, ввиду собственных его особенностей. Далее я, по его замыслу, должен крутиться самостоятельно, искать возможности…
– То есть, признавать тебя как сына и обеспечивать наследством он не собирается? – четко сформулировала Любочка.
– Очень похоже на то.
– Тогда что же мешает тебе сейчас жениться на мне и представить всем, как свою супругу?
– Но, Люба! Пойми же! – Николаша умоляюще сложил ладони. Видно было, что ему действительно не хочется говорить того, что его так настойчиво вынуждали сказать. – Что за странная получится партия? Записной «любовник» князя Мещерского вдруг женится и берет в жены – кого? Почему? Откуда? С какой стати, в конце концов? Если бы это был брак сугубо по расчету – из-за наследства или титула, – например, я женился бы на богатой вдове – это все поняли бы, и вопросов ни у кого не возникло. Но жениться на никому в Петербурге не известной… Кто ты по сословию, Люба, мне всегда было как-то недосуг спросить?.. Устроив свою семейную жизнь таким образом, я разом загублю все свои знакомства и всю складывающуюся карьеру, князь Мещерский тут же попросит меня выехать из его дома, из знакомых Владимира Павловича меня никто никуда больше не позовет… И на что, позволь спросить, мы будем жить в этом случае? Что вообще делать? Рука об руку вернемся в Егорьевск, станем кормиться из Васькиной милости? Но зачем тогда все это было?
– Вот оно, значит, как… – Любочка обожгла Николашу едким, словно концентрированная кислота взглядом (он невольно потер щеку, словно кожей ощутив ожог), отошла от него и присела на обитую синим бархатом козетку. – Здесь, значит, все шиворот-навыворот. Блистательный Петербург! Искренние чувства человеческие смотрятся бредом, а любой бред или даже преступление, пройдя через преломляющие свет болотные миазмы, становятся вполне понятной, складной и всеми одобряемой картинкой… Что ж. Мне следовало давно это понять, и более читать господина Достоевского, чем слащавых романов… Нынче я и вправду получаюсь тебя и твоего нынешнего круга недостойна. Только не по рождению или богатству, а по, так сказать, степени гнилостности души… Это, разумеется, требуется исправить…
– Люба! Что ты говоришь?!
– Прости, я размышляю вслух…
В ответ на свою оскорбительную для женщины (он не мог не понимать этого) откровенность, Николаша ожидал слез, истерики, может быть, даже попытки любовницы броситься на него с кулаками или ножом для разрезания бумаги (бурный темперамент Любочки был ему хорошо известен). Внезапная сосредоточенность и спокойствие Любы почти испугали его.
– Любочка, солнышко, я все время гадаю над тем, как все устроить…
– И как же, милый? – отстраненно поинтересовалась женщина, думая о своем и не собираясь того скрывать.
– Я тебе сейчас все расскажу, чтоб ты не думала, что я от тебя скрываю, – торопливо заговорил Николаша, старательно отводя взгляд от любочкиного лица, на котором происходили какие-то странные и, откровенно сказать, жутковатые видоизменения. – С кем мне еще и говорить откровенно, как не с тобой? Там… – мужчина махнул рукой за окно, в стремительно сгущающиеся сумерки. – Там все всем врут, и даже сами иногда не помнят и не понимают, как соврали… А я… Я, раз уж в Сибири вырос, так и хочу золото в Сибири добывать… Подожди! Сейчас я тебе все растолкую. Владимир Павлович, я уж говорил, в придворной камарилье не последний человек выходит. А царь дает своим людям, как бы за верную службу, концессии на разработку Кабинетских земель. Золото, медь, черные металлы. Как раньше дворянам деревни в корм давали, понимаешь? Кабинетские земли – это Нерчинский округ и Алтай, да ты то, наверное, сама с детства помнишь. Наш, Ишимский уезд к Кабинетским землям никогда не относился. Так вот, Владимир Павлович тоже может эти земли от государя получить, и как бы уже не получил. Но самому ему этим заниматься недосуг и ни к чему. Стар он, и все интересы его уже много лет вокруг Зимнего дворца крутятся. Что ему медь или хоть золото в Сибири?
– И что же, полагаешь, Мещерский тебе эту концессию за красивые глаза отдаст? – язвительно спросила Любочка. – Как-то это не согласуется с тем, что ты до того говорил…
– Разумеется, за так никто никому ничего не отдаст. Мир не на том с давних пор стоит, и дураком надо быть, чтобы того не разглядеть. Владимир Павлович хочет эту концессию с выгодой для себя продать. Тому, кто будет золотодобычей сам заниматься. Но в Сибири, да и вообще в России сейчас таких капиталов немного, чтобы можно было разом, в расчете на грядущие прибыли, в горно-добывающую отрасль вложить. Однако, есть еще Европа…
– И теперь твой Владимир Павлович метит выгодно перепродать доставшиеся ему кабинетские земли иностранцам, – опять точно и четко подытожила Любочка. – А что ж, уж и желающие есть?
– Он со мной на эту тему, зная мой интерес, говорит не особо, но окольными путями я знаю, что вроде бы есть. Англичане. Готовы учредить в Лондоне акционерное общество и…
– А отчего же в Лондоне?
– В том-то и дело, то-то я и пытаюсь Владимиру Павловичу втолковать. Надуют ведь англичане, не резон им в Сибири промышленность развивать. Легче так как-нибудь, через биржу денег срубить и в кусты. Ты и то поймешь, если поразмыслишь…
– Да уж, конечно, если даже такая дура, как я…
– Любочка, я вовсе не о том хотел сказать, не заводись, пожалуйста, лучше дослушай меня…
– Слушаю внимательно.
– Моему отцу, князю Мещерскому, по большому счету наплевать, что там в Сибири случится или не случится. Даже деньги, и то… На его век ему с лихвой хватит. Единственное, что его по настоящему занимает – власть, возможность вертеть колесо в ту сторону, в которую именно ему захочется. Я же как раз туда и мечу: как это так, какие-то англичашки вас того и гляди надуют?! Было ведь уже два аналогичных случая как минимум. На Лене вроде собирались золото добывать, и еще где-то на Урале – медь. Лопнули компании или уж там финансовые общества, как мыльные пузыри, а деньги в песок, или, точнее, в чей-то английский карман утекли. Так не лучше ли своих подобрать, которых хоть всегда увидеть можно, рукой пощупать, а как понадобится, так тою же рукою и за горло взять…
– Но ведь у тебя, Николаша, своих денег ни копейки нету. Или ты надеешься, что Владимир Павлович ссудит тебе?
– Как же, ссудит… Держи карман шире! В том-то и закавыка. Если я сумею сейчас деньги и людей отыскать, и соответствующее общество с потребным уставным капиталом сколотить, так уж, конечно, и сам в его совет войду и после внакладе не останусь. Понимаешь? Если дело выгорит, тогда я, наконец, богат и свободен. И ты – со мною вместе.
– Да если я тебе в нынешнем положении женою не нужна, потому что неровня, так уж после-то, когда разбогатеешь и освободишься – зачем? – резонно вопросила Любочка.
– Зачем? – Николаша почесал лоб и как бы не впервые задумался над этим вопросом. – Ну… я же люблю тебя и… Что ж ты про меня думаешь, я и благодарности не понимаю? Как ты для меня все эти годы…
– Да я уж не знаю теперь, что и думать… – Любочка покачала аккуратной головкой. – А только где же ты эти потребные капиталы отыщешь? Кого уговаривать станешь? И чем возьмешь?
– Есть мысли. Во-первых, Константин Ряжский. Он из промышленных кругов, толстовец и мистик, света, несмотря на свое вполне благородное происхождение, чурается, но за новое поле деятельности возьмется охотно, если обоснования будут достаточно вескими. Свободных денег у Ряжского не так уж много, почти все вложены в дело, но, если он на это подпишется, то, зная его деловое чутье, многие из общества, поменьше его масштабом и поглупее, тоже захотят поучаствовать. Другая фигура – Ефим Шталь…
– Брат Туманова?! С которым Софи…
– Да, да, тот самый, – быстро оборвал реплику женщины Николаша. – У Ефима как раз есть деньги, и довольно много. После смерти матери он фактически заморозил ее наследство и живет на то, что сам зарабатывает, занимаясь, вслед Константину, подрядами и играя на Бирже. Но психическая картина здесь, увы, вовсе иная. Ряжский имеет убеждения, любопытство к жизни, строит какие-то планы. Шталь же даже по виду похож на окаменелость, вроде тех, которые еще в Егорьевске отыскивал Коронин вместе с моим блажным братцем. Судя по всему, его вообще ничего не интересует и не заботит. Он живет как бы по инерции своего физического тела, и те, кто сталкивался с ним в делах, говорят, что потом им приходилось долго отогреваться, как тому мальчику, который в недобрый час повстречался со Снежной Королевой.
– Кай… – напомнила Любочка. – Он еще должен был сложить из льдинок слово «вечность»… А этот Ефим Шталь женат?
– Кажется, да, но я никогда не слышал о его браке ничего, что мне бы запомнилось…
– И как же ты собираешься привлечь этого Шталя, точнее, его деньги, к своим делам? Если его совершенно ничего не интересует, то… То он, скорее всего, даже не станет тебя слушать…
– Здесь у меня тоже есть кое-какие соображения, но мне не хотелось бы о них тебе говорить.
– Именно мне?
– Именно тебе.
– Тогда тем более скажи.
– Хорошо. Но, учти, что твое неодобрение моих планов не изменит… Так вот. У меня есть основания полагать, что, если я заявлю, что у меня есть свои, личные счеты к Софи Домогатской, которые я намереваюсь предъявить к оплате, то это не оставит его равнодушным. Он вступит со мной в контакт и…
– Николаша! А какие, собственно, у тебя могут быть счеты к Софи?! Ну, у Ефима Шталь, если судить по Софьиному роману, еще туда-сюда (хотя я вполне допускаю, что она все придумала). Но ты-то?
– Это все сейчас уже неважно, Любочка. Главное, что под эту марку Шталь согласится иметь со мной дело. Остальное – вопрос моей ловкости и сообразительности… И доброй воли князя Мещерского, конечно…
– Понятно, – протянула Любочка, и опять ее странно спокойная и неопределенная по знаку реакция почти напугала мужчину. – Что ж, планы у тебя обширные, это я теперь вижу… Мешаться в них мне не след. Ну что ж… Поглядим тогда, что из всего этого выйдет…
– Ты у меня умница, Любочка! – с чувством сказал Николаша, склонился и поцеловал сидящую женщину в напудренную щеку. – С тобою мне всегда говорить можно, а это дорогого стоит. Вот сейчас, здесь, разложил все, и самому стало яснее…
– Ну что ж, и то хорошо, – Любочка отвела взгляд. – Ты ужинать станешь?
– Стану непременно. Вроде бы и ел, а вот, отчего-то снова проголодался. От нервов, наверное. Вели подавать.
– Сейчас распоряжусь.
Любочка спокойно встала, не торопясь, вышла в соседнюю комнату и аккуратно притворила за собой дверь. Там, вместо того, чтобы пойти в коридор и кликнуть кухарку, она остановилась у этажерки с безделушками, взяла с полки металлическую статуэтку, изображающую лебедя с двумя лебедятами и, глядя прямо перед собой и плотно сжав губы, тоненькими изящными ручками уверенно посворачивала шеи всем троим птицам. Потом бросила изуродованную вещицу под стол и медленно улыбнулась себе в старинном, в тяжелой дубовой раме зеркале.
Близкая весна подступала из-за горизонта желтой лихорадочной зарей, наполняла воздух острыми запахами из каналов и подворотен. Ветер, тяжелый, как мокрая парусина, прилипал к окнам, и кому-то хотелось немедленно задернуть все шторы, а кому-то, наоборот – бежать через город к плоскому морскому берегу, смотреть и дышать.
Женщина, стоявшая в скудно освещенной комнате у окна, хотела как раз второго. Но была слишком пуглива и коротконога, к тому же страдала отеками, да и годы уже, честно сказать, были не те. Желтая полоска зари над крышами притягивала ее взгляд. Она щурила близорукие глаза, смаргивая выступавшие от напряжения слезы.
– Знаете, я ее уже почти чувствую, – сообщила шепотом, оборачиваясь, – она зеленая.
Подождала резонного вопроса «почему?» и, не получив его, протянула почти умоляюще, стискивая пухлые руки в тяжелых восточных перстнях и браслетах:
– Ирочка, до чего же вы странно на все реагируете. Не молчите, скажите что-нибудь. Когда вы так вот сидите молча, мне становится совсем не по себе.
Ее гостья играла с собаками, наклонившись с дивана. Три старые левретки, подернутые сединой, как солью, вертелись у ее ног, припадали на передние лапы, тявкали дребезжащим фальцетом. Женщина у окна стиснула руками виски:
– Прекратите! Милые! Ну, невыносимо же!
– Ксеничка, извините, – Ирен Домогатская вскинула голову, жестом показывая собакам, что – все, игр больше не будет. Хозяйка была старше ее почти вдвое, но обращения по имени-отчеству не терпела. Признаться, ей и «Ксеничка» не слишком нравилось, «Ришикеш Рита» звучало гораздо лучше, но – разве объяснишь Ирен? Молча улыбнется и пожмет плечами. Ладно уж, пусть зовет хоть так.
– Вы ведь про чистую энергию говорите, да? Она – зеленая?
Ксения кивнула, жалобно глядя на Ирен. Жалобно – потому что ей отчего-то было тяжело и неловко смотреть на эту молодую, высокую, тонкую девушку с тяжелой косой, уложенной над головой короной. Не красавица, да: слишком много резких углов, а Ксения любила плавные линии, – но так молода, и такая чистая кожа… и что ей, спрашивается, делать в Ксенином пыльном, безнадежно старом жилище?
– Я на каждом шагу чувствую доказательства правоты учителя, – заявила она, идя по комнате нарочно мелкими шагами – для того, видимо, чтобы их (и, соответственно, доказательств правоты учителя) было побольше. – Но, понимаете, мой разум так устроен, что не может объяснить… Ничего не может! – Ксения вновь прижала ладони к вискам и сообщила, глядя куда-то мимо гостьи:
– Ирочка, я боюсь.
Ирен смотрела на нее молча – ждала продолжения. В громоздких складках черной шали с блестками и длинной бахромой, в наверченном на голову бисерном тюрбане, из-за которого ее маленькая головка казалась почему-то еще меньше, Ксения была очень похожа на чирка, отъевшегося за лето. Так и хотелось глянуть на подол: не высунется ли из-под него перепончатая лапа. Можно бы посмеяться, но Ирен было сейчас вовсе не до смеха. Чирок боялся… и вполне обоснованно.
– Боитесь его, – сказала она полувопросительно.
Ксения кивнула так энергично, что бисерные подвески на тюрбане хлестнули ее по лбу.
– Вы знаете, что не зря! Ирочка, я как раз об этом хотела с вами поговорить. Я, поверите ли, разрываюсь… Иногда так совестно! Как я смею! Подозревать – его? А иногда… – она махнула рукой, не находя слов.
Одна из левреток вспрыгнула на диван и улеглась, осторожно вытянув возле Ирен узкую седую морду. Две другие, завистливо порыкивая, крутились, нервно взглядывали то на хозяйку, то на Ирен: почему не гонят с дивана? Несправедливо же!
– Погодите, я вам сейчас все объясню, – Ксения уселась было на низкую оттоманку, но тут же поднялась, подошла к дивану, склонилась, рассеянно гладя собак:
– Тише, милые, тише… Знаете, мне в прошлом месяце сказали одну странную вещь. Как будто дядя… ну, мой дядя Владимир Павлович, князь Мещерский – понимаете? – бросила быстрый взгляд на Ирен и снова начала гладить левреток. – Будто он мне собирается оставить состояние. Я его самая близкая родственница. Детей же нет…
Ирен машинально кивнула, морщась от безуспешных попыток понять, причем тут дядя Владимир Павлович. То, что с Ксенией не все в порядке (вернее – все не в порядке!), она видела отчетливо – точно так же отчетливо, как желтую полосу зари в окне. Эта желтизна обвивалась вокруг отечных Ксениных щек, обхватывала их будто жестким монашеским платом… Но князь Мещерский? Кто же тут виноват?..
– Я не думаю, что это правда. У дяди есть и без меня кому деньги отдать. Хоть своему клубу, он говорил как-то… Вы согласны?
– Почему же клубу, а не вам?
– Вот! И он мне так же сказал. Я, Ирочка, с ним советовалась. Вернее, не то, чтобы… Просто сказала, как бы нам всем, всему нашему Ex Oriente Lux, – Ксения резко понизила голос, произнеся латинскую фразу нараспев, как заклинание, – пригодились бы эти деньги. И вдруг у него стало такое лицо… такое… такое острое, как нож.
– У него всегда такое лицо, – сказала Ирен тихо.
– Нет! Вы не видели и не говорите. Понимаете, он вдруг понял – и решил… Но что? Решил, что не надо этих денег? Я так всегда и думаю. Я думаю, что от денег вся моя жизнь… ну, не получилась.
Она вновь села на оттоманку, и две левретки тотчас же принялись суетливо устраиваться рядом, а за ними и третья, без сожаления покинув диван. Ксения обняла их обеими руками. Ирен молча ждала, что она еще скажет. Сидела неподвижно и прямо, как за гимназической партой. Ксения вдруг подумала: да она сейчас вскочит и убежит! Не станет слушать наговоров на учителя.
Но разве она, Ришикеш Рита, – наговаривает?
Ей стало так обидно, что перехватило горло. Зачем она откровенничает с этой девочкой? Чуть было не рассказала ей, как выходила замуж по большой любви, против воли матери… за человека, которому были нужны ее деньги. Как банально! А она столько лет думала, что во всем виноват камень. Сапфир «Глаз Бури», который у нее похитили.
– Я снова боюсь ошибиться, Ирен. Я слишком дорожу нашей общиной и нашей истиной, чтобы… Я этого не перенесу.
Последние слова она еле договорила сиплым сорвавшимся голосом.
Ирен тряхнула головой, будто сбрасывая наваждение.
– О чем вы, Ксеничка? Ему… Ачарье Дасе ваши деньги совсем не нужны. Он и свои-то отдал! С чего вы взяли?
– Да! Конечно же! Тем более, что денег-то никаких нет. Я пытаюсь это всем объяснить, но мне не верят…
– Кто не верит? Кому вы об этом говорили?
Вот, опять насторожилась. Ксения смотрела на Ирен пристально, забыв, что подозревает вовсе не ее, а учителя. Вернее – что значит подозревает? Она и не думала его подозревать! И не понимала, когда и как влезла в ее голову эта неотвязная мысль: будто он хочет отправиться в новое дальнее путешествие на ее, Ксенины, деньги.
Ирен была, конечно, не первой, с кем она этой мыслью делилась. Но – первой, кто явно принял ее слова близко к сердцу. С чего бы, если это такая чушь, как она уверяет?
– Ирен, милая, скажите мне определенно: успокойся! И я успокоюсь. Но прежде будьте спокойны сами. Я ведь для того вас и позвала, доверяя вашему… вашему третьему глазу.
– Третьему, четвертому, пятому, – беззвучно (чтобы не услышала и не обиделась Ксеничка) пробормотала Ирен, раздраженно хмурясь. Поднялась, собираясь уходить. Нет, не бежать без оглядки, просто уходить. Одна из левреток последовала за ней, извиваясь, как рыба-игла, и ловя настороженными ушами ничего не значащие прощальные слова.
Вижу, что не следует мне успокаиваться, подумала Ришикеш Рита.
Заря еще не погасла, но на тихих улицах стояла сумеречная тишина. Пустые улицы с внезапными крутыми поворотами, из-за которых непременно должен был выйти кто-то неожиданный и страшный – но не выходил. Вязкое, слегка светящееся небо – точно как в июне, в пору белых ночей. Остатки почерневшего снега в тяжелой тени подворотен. Ирен миновала их одну за другой, оставляя дробное эхо шагов под темными сводами. Она шла очень быстро, даже не пытаясь найти извозчика и почти дошла уже до дома на углу Фонтанки и Вознесенского… как вдруг остановилась, будто вспомнив что-то чрезвычайно важное. Постояла, наверно, с полминуты. Потом повернулась и почти бегом бросилась назад.
В доме, второй этаж которого занимала квартира Ксении Благоевой, не светилось ни одного окна. От улицы его отделяла широкая полоса газона, покрытого сейчас растаявшей снежной кашей, изящная решетка и ворота. Совсем недавно, когда Ирен проходила в эти ворота, они стояли распахнутые, а теперь с ними возился дворник в черном тулупе, аккуратно проталкивая меж прутьев толстую цепь с болтающимся замком.
– Подождите… – начала Ирен. И замолчала.
Стукнула дверь подъезда. Высокая худая фигура в чем-то темном и длиннополом, отделившись от двери, обозначилась на фоне светлой стены.
– Эй, любезный, открой-ка ворота, – услышала Ирен и стремительно шагнула назад, скрываясь в сумерках.
Глава 4
В которой бывший следователь Кусмауль принимает у себя князя Мещерского, а Грушенька Домогатская в Сибири вспоминает встречу с попутчицей
– Гусик! Здравствуй, любезный друг! Сколько лет…
– Вавик! Ты ли? Здесь?! Господи Боже! Какими судьбами?
Два старика вполне щегольского вида порывисто обнялись и расцеловались на пороге небольшого, но весьма ухоженного и уютного на вид сельского каменного дома. Потом отстранились и внимательно-придирчиво оглядели друг друга.
– Все тот же, все тот же, чертяка немецкий! Годы тебя не берут! – с искренним восхищением воскликнул приезжий.
– Лиса! Как был лиса, так и остался! Льстишь ведь, безбожно льстишь старому служаке, давно списанному в расход, – ответил явно польщенный комплиментом хозяин. – Куда нам до вас! Это вы там в сферах вращаетесь, министров как колоду тасуете, государю мемории пересказываете… А мы тут… ягодки, цветочки… гнием помаленьку…
– Да не прибедняйся ты, не прибедняйся! На воздухе, да на покое, это для нас, стариков, да для здоровья куда полезней. Вон ты румяный какой, да гладкий! А мы все суетимся, суетимся в столице, интригуем, да подсиживаем друг друга, а здоровье-то оно и того… Право, я о том годе все зеркала велел из своих покоев вынести! Мочи нету смотреть, слезы сразу… А из чего суетимся, и сказать невозможно, если как следует, на покое, рассудить. Да… А ты, Гусик, – железная немчура, достиг. Я уж вижу, как у тебя тут все… Комар носа не подточит. Помню же, как ты как раз о такой усадебке и мечтал, когда на покой удалишься… Покажешь мне? Похвастаешься?
– Беспременно, дражайший Владимир Павлович, беспременно все тебе покажу и разъясню. А только сначала пройдем в дом, расположишься, чаю выпьем, откушаем, чем Бог послал. Тебе, должно, переодеться надо…
– Да уж следовало бы… С вашими-то дорогами, – приезжий с неудовольствием оглядел свой вполне чистый дорожный костюм, счистил с лацкана несуществующую грязь, подул на рукав и брезгливо отвернул кружевную манжету. – Все испачкалось… Герасим, голубчик, поди сюда, не стой столбом! Неси мой кофр туда, куда тебе укажут…
Сопровождаемые слугами, старики прошли в дом. При некотором к ним внимании легко было разглядеть, что щегольство их двух разных родов. Хозяин и в старости оставался как-то слегка по-казарменному подтянут, его ухоженность и опрятность была откровенно гигиенической, с явной отдушкой железного запаха гантелей и мятного порошка для чистки зубов (вполне прилично, несмотря на возраст, сохранившихся). Приезжий, выше ростом, с обрюзгшим породистым лицом, был расслабленно спокоен, уверен в себе и одновременно слегка излишен в мелких движениях. Его несколько потасканная элегантность и удивительная смелость цветовых сочетаний в наряде почти открыто изобличала приверженность к эллинистической любви.
После довольно длительного перерыва, который понадобился Владимиру Павловичу, чтобы привести себя в порядок, хозяин и гость сошлись на светлой веранде, которая с северной стороны была украшена разноцветными витражами. Белокурый, безбородый мужик, в котором, несмотря на откровенно славянскую внешность, угадывалась немецкая выучка, проворно накрыл на стол, расставив на белой крахмальной скатерти немудреные, но полезные для здоровья закуски: редисовый салат с подсолнечным маслом, ветчину, сыр, сметану, такую густую, что в ней вызывающе стояла серебряная ложка, порезанные вдоль огурчики со свежим гусиным паштетом, яйца, фаршированные смесью из соленых грибов и пр. и пр.
– Уж не побрезгуй, после дворцовой-то кухни… – усмехнулся хозяин, едва скрывая действительную тревогу: а вдруг не угодил?
Тревога была напрасной. Проголодавшийся в дороге Владимир Павлович охотно и искренне отдал дань закускам, и тушеным в щавелевом соусе рябчикам, и карасям в сметане, и пирогам, и «царскому» золотому варенью из крыжовенных ягод…
После еды разговор потек легкий, сытый и непринужденный. Оба сошлись на том, что кофий и табак в их возрасте уже вредны для цвета лица, а портвейн можно откушать и на месте, и остались сидеть на веранде в покойных полукреслах с удобными подлокотниками и мягкими вышитыми подушечками под сидячим местом (оба старика уже много лет периодически страдали от геморроя и в полной мере могли оценить их удобство). В основном вспоминали о давних победах и проказах времен ушедшей молодости. Прогулки под кустами благоухающей сирени в сумраке белых ночей. Актеры, юнкера, флейтисты, барабанщики… Биллиард, который завел у себя Владимир Павлович (как известно, в увлеченности этой игрой игрокам приходится сильно наклоняться)…
После, не прерывая вовсе приятной беседы и воспоминаний, осматривали усадьбу – предмет законной гордости владельца.
Все в усадьбе было вылизано до почти невероятной чистоты и правильности очертаний. Казалось, что даже пестрые утки в небольшом пруду (для их гнездования специально была выстроена на мостках ладная крохотная избушка под зеленой крышей) плавают не иначе как строем.
– Ну как? Ну как? – заглядывал в светло-карие глаза, ждал одобрения хозяин.
– Ну немец, ну немец! – послушно цокал языком и качал крупной головой Владимир Павлович, будучи вполне равнодушен к прудам и газонам, но зная доподлинно, чего ожидает от него давний приятель. – Утешно, Густав Карлович, утешно у тебя тут, слов нет как. Просто душой отдыхаешь. Как вот представишь себе, что в этой вот беседочке, виноградом увитой, да на мягких подушках, да под соловьиные трели… А это у тебя что? Стена-то почему толстая такая? Хотел еще что-то выстроить, да передумал?
– Это мое собственное устройство! – с гордостью объяснил Густав Карлович. – С чертежами мне немного сосед Бельдерлинг помог, а так – моего произведения проект, от начала и до конца. Гляди: в доме у меня камин и две печи. Стена эта как раз с домом соединяется, но нынче того не видно, потому что там кусты специально посажены. А вот внутри этой стены трубы проходят, по которым теплый воздух как раз и сюда и подается…
– Да зачем же тебе, Гусик, кирпичную стену в саду отапливать вздумалось? – искренне удивился Владимир Павлович.
– Да рассуди ты, чудак: я более всех цветочных родов розы люблю. А в Петербургской губернии даже здесь, на юге, климат для них не больно-то подходящий. Мерзнут они здесь, понимаешь? А поскольку эта стена всегда теплее окружающего ее ландшафта, то вкруг нее моим попечением создается как бы особый микроклимат. И так розочки мои на шпалерах и грядах все вдоль нее выживают и цветут мне на радость и удовольствие. А вот, взгляни, я здесь еще и южные деревца до совокупности посадил. И тоже, заметь, неплохо себя чувствуют. А в парниках я додумался использовать тепло, выделяющееся при гниении опавшей листвы…
– Да уж, да уж… – согласился Владимир Павлович. – Все-таки до того, до чего немец из экономии или уж из фантазии додумается, русскому человеку и в голову не придет. Немец слепит аккуратненько из говна конфетку и сам радуется и других радует. А русский и из природной конфеты такое, прости Господи, произведет…
– Да ладно тебе, ладно, захвалил… Тебе ж неинтересно это, я ж вижу, ты ж политикой все да государственными делами, это тебе в удовольствие…
– Да брось ты, Гусик, мне эта политика давно уж поперек глотки встала. Однако впрягся – тяни. А вспомню, как в молодости стряпчим был, и с вашей же немецкой кодлой на острова ездил, с горок катались, на гармониках играли… Вот ведь когда веселье-то было! Настоящее, без дураков! Разве теперь такое бывает? Помнишь? Булошницы такие в теле все, ванилью пахнут. Хлеб ситный, духовитый, с крупной солью, большими ломтями. А немчики все как на подбор молодые, чистенькие, аккуратненькие… А у тебя, Гусик, как сейчас помню, тогда такие усики были – сногсшибательные просто!
Густав Карлович поспешно отвернулся, поправил покосившуюся за зиму шпалеру, украдкой, согнутым пальцем утер выступившую в уголке глаза слезу.
После прогулки, растрясши члены и проголодавшись, опять откушали пирогов, выпили портвейна.
– Ну что ж, Владимир Павлович, шуточки и болтовню побоку. Рассказывай теперь, что тебя ко мне, отставному судейскому следователю, привело? – остро блеснув глазами, спросил Густав Карлович. – И не надо «ля-ля», Вавик. Никогда я не поверю, чтоб ты, князь Владимир Павлович Мещерский, тащился в своей карете с гербами в самую глушь Лужского уезда только для того, чтоб на мои парники да на мою лысину взглянуть…
– Ну ладно, ладно, не стыди, Гусик, – замахал руками Владимир Павлович. – Я и вправду давно тебя повидать хотел. С кем нынче вспомнишь, вот как мы с тобой… Но – да, да, да! – оборвал он сам себя, поймав взгляд Густава Карловича. – Дело у меня к тебе есть, просьба. Неофициальное дело…
– Да уж понятно, – вздохнул Густав Карлович. – С официальным делом ты бы в официальные инстанции и обратился. Небось, ты в столице не без возможностей, не последний, как-никак, человек… Ладно, рассказывай, да поподробней.
– Видишь ли, Густав Карлович, дело в том, что десять дней назад кто-то убил мою двоюродную племянницу – Ксеничку Мещерскую, по мужу Благоеву. Не знаю, слыхал ли ты о ней…
– Не лукавь, Вавик! – строго прикрикнул на князя старый следователь, от одного упоминания о преступлении как будто сразу облачившийся в воображаемый мундир. – Прежде, чем ко мне ехать, ты уж наверняка разузнал, что с Ксенией Благоевой я был очень даже знаком, и вел то дело о пропаже сапфира из их особняка, и после…
– Ну разузнал, разузнал. Тебя не проведешь…
– Разумеется, а ты что думал? Рассказывай дальше. Так, значит, Ксению убили? Как? Где? Есть ли улики? Что – полиция?
– Убили ее в собственной гостиной. Ночью или уж под утро, это точно неизвестно. Что она там, полностью одетая, делала, никто не знает. Нашла тело служанка, когда утром вошла.
– Каким способом убили?
– Задушили. Чем – тоже неизвестно. Чтоб это ни было – убийца унес с собой.
– Следы?
– Похоже на то, что она сопротивлялась. Но слабо и, видимо, только в самый последний момент.
– То есть, убийца был ей знаком и она до того с ним разговаривала? Может быть, пила чай? Вино?
– Возможно. Это надо спросить у слуг или у полицейских. Я тебе все предоставлю.
– Но никто из домашних, разумеется, никого не видел?
– Разумеется. После смерти мужа Ксеничка жила одна. Прислуги у нее тоже было немного. В основном, приходящая. Держала трех левреток. Вот! Одна из левреток тоже найдена задушенной. Но – на лестнице. Не могу понять, что это значит…
– Должно быть, собачонка пыталась отомстить… Что-то пропало?
– На первый взгляд, ничего. Драгоценности Ксенички на месте. Скорее прибавилось…
– В каком это смысле? – насторожился Густав Карлович.
– Да там же, в гостиной, рядом с Ксенией нашли какую-то дурацкую книгу… Все в один голос говорят, что у Ксении такой сроду не было…
– Отчего же книга – дурацкая?…
– Густав Карлович, голубчик… – Владимир Петрович нахмурился и почесал нос. – Это вот как раз то, отчего я именно к тебе и приехал. Дело это… ну, как бы тебе объяснить…
– Объясняй прямо, не ошибешься.
– Хорошо, попробую. Ксения, как ты, может, помнишь, была дама невеликого ума. Но я ее, впрочем, всегда любил и жалел, потому что даже в несчастии своем она оставалась безобидной и простодушной, а такое в наше время – редкость. Муж ее был редкостный негодяй, хотя она его когда-то и любила, и Ксеничку своей игрой и долгами едва не разорил дотла. Хорошо, что умер, не докончив дела. Детей у них, как ты знаешь, никогда не было. Так вот, наперекор довольно безрадостной судьбе, едва ли не с юности, а уж к зрелости-то (если можно так про Ксеничку сказать) наверняка, Ксения увлекалась всякими мистическими штучками. Ну, это и тебе не хуже моего известно. Вся давняя история с сапфиром была на этом закручена. Так вот… Спиритические сеансы, духи, блюдца и прочая дребедень… Как-то все это ее утешало, должно быть, помогало жить. Кто судить возьмется? Последнее время появились во всем этом какие-то новые нотки. «Просветление» «Истина» «Свет с Востока». Раньше-то она все какой-то местной нежитью ограничивалась. Вроде бы даже какой-то Учитель у нее появился. Точно-то я не знаю, но такое придыхание у Ксенички в голосе слышалось, когда она мне о том рассказывала, что я еще тогда подумал: «будьте, нате, как бы до беды не дошло». И вот, получается, накликал! Боюсь, что вся эта история как раз по «мистической» линии и случилась. Ксения тут выглядит явной безумицей, а что еще за этим стоит, даже и думать не хочу… Сам понимаешь, не слишком-то хочется, чтобы полиция во всем этом копалась…
– Это все? – спросил Густав Карлович, испытующе глядя на князя.
– Нет, – поколебавшись, ответил тот. – Может быть, все ксеничкины закидоны тут и вовсе не причем. Может, это ко мне подбираются…
– Как так? Что тебе – Ксения?
– У меня, как ты знаешь, официальных детей тоже нет. Ксеничка – одна из моих наследниц… Была…
– Кто-то хочет увеличить свою долю?
– Не исключено. И, значит, возможны еще убийства. Я того не хочу. И еще… В этой дурацкой книге были обведены чернилами две фразы на… арамейском, кажется, языке. В университете мне перевели. «Кто высоко поднялся, тому высоко и падать…» и «Зло приходит в мир из небытия, и горе тем, через кого оно приходит». Рассуди сам, какое отношение это может иметь к Ксеничке?!
– Да, пожалуй, никакого, – согласился Густав Карлович и надолго задумался.
– До Каинска сорок верст. Подрядиться – довезут. Только возьмут много… Если сережки отдать гранатовые, это будет много или наоборот? Конечно, много! Обойдутся. Хоть и некрасивые сережки, а жалко… Значит, до Каинска доезжаем и там ждем поезда. Дня три, ну – неделю, ладно! А сколько до Питера поезд идет? Еще ж пересаживаться, в Челябинске вроде. Точно, в Челябинске. И пересядем, подумаешь. Потерпим. Вот так: стиснем зубы и потерпим. Зато уж когда приедем домой…
Торопливый шепот стих. Маленькая, тощенькая женщина, склонившаяся над устроенной на сундуке детской постелью, выпрямилась и потянулась, закинув руки за голову. Огонь из печки освещал ее сбоку. Острое лицо – то ли старушечье, то ли девичье, глаза с припухшими веками, в тенях, бледноватые губы, дрожащие в мечтательной улыбке.
– Поедем домой, Людмилочка? А? Поедем? Бабушку повидаешь, дядю, братиков двоюродных. Я тебя в Луге сразу на карусель поведу. У нас карусель такая, знаешь – быстрая-быстрая… с лошадками…
Она запнулась и нахмурилась, будто припоминая, какие именно лошадки на карусели в Луге, да и есть ли она там вообще. Ребенок, к которому был обращен монолог, беззвучно спал на сундуке, съежившись в комок под пестрым одеялом. Женщина, высоко подняв голову, уставясь неподвижным взглядом в потолок, громко всхлипнула. И, не меняя позы, двинулась через комнату к столу с лампой, под которой было брошено шитье. Она уже не улыбалась, и выражение лица было такое, будто лишь чрезвычайное усилие воли удерживало ее от воплей и битья головой о стену.
Если б кто увидел ее сейчас, очень бы удивился. С чего такой надрыв? В славной сонной тишине деревенского дома, полного запахов смолистых поленьев, сгорающих в печке, свечного воска, антоновских яблок и чуть пригоревшего молока, из которого только что варили кашу для ребенка. В окружении уюта, который Грушенька Воробьева – ныне Домогатская – умела создавать в любом своем жилище, хоть в гостинице, хоть в шляпной мастерской. Абажуры, наволочки, коврики, скатерти с кружевной каймой – все не пустое, не как у толстой дуры Дашки, а как бы слегка потертое, как бы с историей! – и готово жилье, из которого уходить не хочется.
Как же, не хочется. Из каждого своего жилья она стремилась бежать без оглядки! Не было ни одного, которое бы очень скоро ей не постыло. А уж это… Часто она думала со злорадством: вот, брошу посуду мыть да полы скрести, пусть пылью все зарастет, тогда будет точно так, как надо. Как быть должно! Когда внутри пыль… Она смотрела на мужа, и ей казалось, что эта пыль вылетает из его рта при каждом выдохе, будто пар на морозе.
Длинно заскрипела наружная дверь, что-то с лязгом рухнуло в сенях, Грушенька, очнувшись, метнулась к спящей дочери: проснулась?.. Засыпала-то Людочка быстро, но разбудить ее мог даже топоток пробежавшей мыши. И уж тогда – слезы и баюканье на полночи.
Гриша об этом, конечно же, нисколько не думал. Иначе б не вошел, громко стукнув дверью, задев длинной полою табурет, который с сухим треском проехал по полу и тоже, как ведро в сенях, рухнул бы, если б Грушенька его не подхватила. Людочка, вскинувшись в ворохе одеял, испуганно захныкала. Гриша молча прошел в угол, не глядя ни на кого, сел на стул, втиснутый в узкое пространство между столом и окном. На полу от него остались мокрые следы. И сам – Грушенька, занимаясь ребенком, бросила быстрый косой взгляд, – промок насквозь. Еще бы, который день дожди, а он все бродит. Теперь опять начнет кашлять, если не хуже. Его бы переодеть, растереть, напоить горячим. Грушеньку передернуло от одной мысли, что, хочешь не хочешь – надо этим заниматься. Это ее долг, она – жена!
– …Долг, наш долг, вот главное! – шептала, наклоняясь к ней и быстро моргая выпуклыми, как у ящерицы, глазами, попутчица, с которой они ехали в поезде от Тюмени до Каинска. – Мы, жены, должны быть не свинцовыми гирями на ногах наших мужчин, мы должны обеспечить им все условия для плодотворной деятельности! Вы понимаете? Понимаете, какая на вас ответственность?
Грушенька с готовностью кивала. Дело было прошлым летом, она ехала к новому Гришиному поселению, куда его перевели в виде милости, – и, хотя и намучилась с постоянно хнычущей и прибаливающей Людочкой, была полна радостных предвкушений. Будущая жизнь в деревне ее не пугала. После обских-то болот – чего бояться?! Коровку заведем, курочек. Гриша будет учительствовать. В революцию-то небось уж наигрался – и слава Богу.
И, опять же: Петербург со всей его заносчивой родней, с вечной Софьиной тенью над душой – чем дальше, тем лучше.
Попутчица, хоть и велела звать ее попросту Надюшей, была дворянка – как и Гриша, польских кровей. И, точно как Гриша, все толковала о долге, сгоранье на каких-то кострах и о том, что право на светлое будущее имеют только трудящиеся. К жениху, ссыльному в Енисейской губернии, она ехала не просто так, а с делами, ясное дело, революционными. О делах этих она не могла говорить из соображений конспирации, а о чем-то постороннем – потому, что увязла в революции, как стало понятно Грушеньке с первых минут, – по самые ушки и ничем больше не интересовалась. В том числе и детьми: на Людочку взглянула кратко и с осуждением.
– Это вы зря. Дети – наша ахиллесова пята. Ну, уж коль не убереглись, заимели – так хоть в Тюмени бы оставили…
Грушенька передернула плечами, но возражать не стала, с этими одержимыми спорить – себе дороже, только подумала торопливо: мой Гриша не такой, не такой! И дальше разговор вертелся вокруг трудностей пути, мерзавцев-чиновников, которых легче застрелить, чем выправить у них нужную бумагу, а главное – мужниных великих подвигов и жертв, кои грядущими поколениями непременно будут оценены и воспеты. На все эти темы Надюша высказывалась одинаковой обыденной скороговоркой, походя употребляя столько трескучих иноземных слов, что у Грушеньки, хоть она и прошла Гришину школу, моментально разболелись зубы.
– Кругом первобытная тайга, царь и бог – полицейский пристав, и в соседях одни чернопередельцы. А Володечка уже с ними все решил, вы ведь его блестящую статью о ложных друзьях народа, конечно, читали? Для него они уже неактуальны, ergo, скучны. Скука – первый враг мыслящего человека! Плюс – артрит, еще с тюрьмы, и морозы совершенно противопоказаны. Как вы полагаете, польза изделий из собачьей шерсти не преувеличена? Я везу…
Она демонстрировала изделия из собачьей шерсти – носки, шарфы, варежки, – Грушенька их разглядывала, озабоченно думая: Грише ведь тоже нельзя на морозе. Он такой, чуть ветерок, и простужается. Надо б и ему… Это с каких же собак такая пряжа выходит? Неужто с простых дворняжек?
– Именно, – энергично кивала Надюша, с силой втыкая шпильки в косу, скрученную тугим узлом, – я вам, если хотите, изложу технологию. Конечно, это едва ли панацея. Но мы должны использовать любые средства, чтобы помочь товарищам!
Товарищ, сообразила Грушенька, это муж. Вот интересно – она низко склонила голову, пряча смешок, – ночами-то они тоже всё только о революции? А что: с ней Гриша так и пытался, пока она его не окоротила. Да и теперь иногда…
…Теперь он не разговаривал с ней ни о революции, ни о чем другом. В последнее время завел новую привычку: уходить из дому и по целым дням бродить неведомо где. Сперва-то Грушенька обрадовалась: никак, ожил! – но скоро стало ясно, что хожденья эти не к добру, и как бы он не забрел туда, откуда вовсе не выбраться!
И пусть бы забрел, подумала она, со злостью стискивая зубы. Пусть бы его в тайге медведи сожрали… Взгляд тотчас метнулся к углу, к иконе за вышитыми полотенцами: прости, Господи, грех, грех! Надюша, та бы ни за что… Да ну ее, Надюшу! У нее благоверный, небось, так не мается! Статейки сочиняет одну за одной, а если куда идет, так на охоту, с собаками, с которых она потом шерсть вычесывает. Бодрый, румяный, песни поет, как мужичка увидит – непременно остановится, пошутит, поговорит о жизни. А этот?! Какого ж черта, ежели такой нежный, полез в революцию?
И от Софьи, как назло, – ни словечка. Зря ей писала. Небось, подумала, что она, Грушенька, просто избавиться хочет…
Если б его в тайге медведи сожрали, она бы ни минуты здесь не осталась! А что? Птица вольная – честная вдова! Людочку в охапку и…
– Гриша, ты хоть пальто сними. Течет же с него, весь пол мокрый. И застудишься… Да ты меня слышишь?
– Что?..
Поднял голову, посмотрел – не на Грушеньку, непонятно, куда. Глаза больные-больные. Ей сразу стало его жалко, она сказала себе: это по привычке. Он-то меня не жалеет. Сгинь мы с Людочкой – заметит ли? Разве что молока будет некому подать.
– Снимай, говорю, пальто, а я сейчас молока согрею. Чай, не лето! Да и лето-то здесь…
– А! Да, – он послушно кивнул, стаскивая пальто. В тесном углу ему было неудобно, но он и не подумал даже привстать. Смахнул рукавом кружку со стола, Людочка, услышав звон, начала плакать в голос. Грушенька резко обернулась:
– Замолчи! Замолчи, сказала!..
– Ты почему кричишь?
Она воззрилась на него с удивлением. Он, моргая, тер лоб, словно его разбудили среди ночи.
– Я кричу? Да я бы так рявкнула! Так бы завопила, кабы знать, что ты от этого опомнишься! Да куда тебе!..
Он поморщился от ее громкого голоса и оттого, что приходилось слишком активно двигаться, избавляясь от пальто. Грушенька больно прикусила губу, глядя, как блики печного огня играют на его втянутых скулах. Красив… да: и теперь красив, разве что волосы уже не пышным крылом – обвисли, и не потому, что дождь, они у него теперь всегда так. Ну, и что ей с этого принца? Ни дворца, ни венца, ни алого цветочка.
– Это все сестра твоя, она виновата, – ее тихий голос утонул в Людочкином плаче. Да она и не рассчитывала, что он услышит.
– Моя… сестра? Софи? Почему?
Удивительно: услышал и, кажется, даже заинтересовался! Грушенька быстро подошла к сундуку, отбросила пестрое одеяло и, подхватив ребенка на руки, стала расхаживать по комнате, укачивая, вернее – встряхивая монотонно и зло.
– Хватит реветь, говорю, спи! Ну, что мама, что мама? Нет здесь пауков! Один наш папенька есть – хуже паука!.. Чем виновата, спрашиваешь? Да вот этой самой своей проклятой книжкой про сибирскую любовь! Про Машку хроменькую! Я прочитала, дура, разнюнилась – а тут и тебя увидела, и все, полетела душа в рай!
– Грушенька, ты не могла бы кричать потише?
– А тебе чем не нравится? Головка болит? Иль голосок мой не флейтой? Так он у меня всегда такой был, ты ж про меня все знаешь!
Он встал, держа пальто за воротник, растерянно и неприязненно оглядел комнату, ища, куда б его пристроить. С Грушенькой он явно не собирался больше разговаривать. Господи, отчаянно подумала она, до чего ж я ему в тягость. Как же он жалеет, небось, что поднял меня, гулящую, из грязи, возвысил, имя свое дал! На что ему жена такая? Да и вообще, любая жена ему на что?
А мне-то он…
– Кабы не ты, я бы разве тут сейчас была? Скопила бы денег. Мастерскую бы открыла швейную. Нашла бы человека хорошего, вон, как Дашка… Жила бы сейчас! Ребеночек уж конечно не такой бы чахлый уродился! Ну! Куда ты меня загнал со своим благородством и своей революцией?!
Она топнула ногой. Людочка от страха перестала реветь, вцепилась в ее платье.
Гриша не ответил. Ей казалось, он вообще не слишком понял, о чем она – и хочет одного: чтобы его наконец оставили в покое.
Глава 5
В которой кричит попугай, а Софи Домогатская читает первое из полученных ею писем и вспоминает о прошлом
Софи, двигаясь все еще слегка машинально, так, словно все ее члены недавно замерзали до почти неподвижного состояния, ушла куда-то вглубь дома. Видимо, отправилась распорядиться и проследить за тем, как устроят Джонни.
Мария Симеоновна перевела острый, испытующий взгляд на сына.
– Ты хочешь что-то сказать, – утвердила она. – Что ж молчишь?
– Мне кажется… – Петр Николаевич облизнулся и в задумчивости прикусил кончики пшеничных, ухоженных усов. – Мне кажется, что вы, маман, поступили несколько опрометчиво, когда едва ли не одобрили всю эту затею и фактически благословили Софи на ее развитие и продолжение…
– Ты имеешь в виду этого несчастного ребенка? Но Софи уверяла нас, что он не опасен для детей и прислуги. Это не так? Ты что-то знаешь?
– Нет, я имею в виду не Джонни. Речь идет об этом наследстве… Я твердо полагаю, что Софи должна как можно скорее отказаться от него!
– А что с ним? – еще оживилась Мария Симеоновна. – На нем какие-то долги? Ты уже узнавал? Ловко, не ожидала от тебя… Особняк заложен? В бумагах какая-то путаница? Но, может быть, с нашей помощью Софи еще удастся все поправить? Отказаться от наследства – самое простое, и это никогда не поздно. Сначала, мне кажется, нужно попытаться во всем доподлинно разобраться, посоветоваться со знающими людьми… Вы согласны со мной, Кирилл Андреевич? – Марья Симеоновна оборотилась к гостю-старичку, который поспешно закивал.
– Именно разобраться, Марья Симеоновна. Непременно разобраться… Со знающими…
– Мама, вы не даете мне слова вставить! – раздраженно сказал Петя. – Этот особняк не заложен, на нем нет долгов. Нотариус, который к нам приходил, специально это подчеркивал. И все бумаги, насколько я понимаю, в полном порядке. Дело в том, что он…
– Так что же – он? – нетерпеливо воскликнула Мария Симеоновна. – Ты можешь, наконец, говорить без предисловий?!
– В этом особняке расположен публичный дом. И умершая «подруга» Софи была его хозяйкой.
– Оп-па! – маленькие, выцветшие глаза Кирилла Андреевича забавно округлились, сделавшись похожими на обтянутые ситцем пуговички на девичьем платье.
– Публичный дом? – несколько озадаченно повторила Мария Симеоновна. – Как это так?
– Официально там расположен гадательный салон. Но все всё, естественно, знают. Салон старый, довольно высокого, должен тебе сказать, уровня. С восточным уклоном. И посетители там бывали весьма значительного ранга… В том числе и из высшего света, я хотел сказать… Теперь ты понимаешь, почему Софи должна отказаться немедленно?! Ты только представь, что кто-нибудь из наших знакомых услышит о том, что Софья Павловна Безбородко получила в наследство публичный дом!.. Кирилл Андреевич, я надеюсь, что вы…
– Разумеется, разумеется, Петя, голубчик! Как вы могли подумать! – Кирилл Андреевич закрыл рот обеими ладошками, показывая тем самым, как окончательно его молчание, но потом раздвинул тоненькие пальчики и одновременно лукаво подмигнул Петру Николаевичу. – Софьи Павловны тут нет, так что… осмелюсь спросить: а вы сами-то бывали в том заведении?
– Тьфу! – едва ли не подпрыгнул Петя. – Нет, конечно! Маман! Что ж вы молчите?!
– Я думаю, – резонно отозвалась Мария Симеоновна. – То, что ты сказал, это, конечно, все усложняет… Но если сам особняк свободен от долгов и не заложен, то что нам мешает принять наследство и оборудовать в нем что-то другое?
– Мама! Что ты говоришь?! Моя жена будет заниматься переоборудованием публичного дома?! Ходить по этим лестницам, гостиным, спальням и ванным комнатам? Давать расчет девицам?!
– Ну, она совершенно не обязана заниматься этим сама…
– Это должен сделать я? Какое-то выбранное нами доверенное лицо? Ты только представь себе слухи, которые опять поползут в обществе… Господи, только-только все утихло! Нет, она должна немедленно отказаться! Пока никто не узнал…
– Дорогой мой! – решительно сказала Мария Симеоновна, отталкиваясь от подлокотников и поднимаясь с кресла. – Когда десять лет назад ты решился сделать предложение беременной Софи Домогатской, наплевав на всю ее предыдущую историю, внимание всех сплетников Петербурга было направлено на нашу семью. Я пережила это, хотя и порадовалась про себя, что твой отец уже в могиле и не видит всего этого безобразия. Знаешь, я, может быть, никогда из воспитания тебе этого не говорила, но в тот момент я даже испытала к тебе род уважения. Это был все-таки поступок, что ни говори. Но, голубчик, решившись жениться на ней, ты ведь не мог же не догадываться о том, что Софи вовсе не изменится, обойдя с тобой вокруг аналоя. Она осталась все той же Софи Домогатской (и не случайно все свои романы она публикует именно под этой, девичьей фамилией). Ты до сих пор удивляешься этому? Что ж, тогда ты глупее, чем я полагала. Мне казалось, что именно неистовая жизненная сила Софи, ее невозможность вписаться ни в какие предписанные ей рамки и привлекла тебя когда-то, заставила сделать единственный за всю твою жизнь решительный шаг… И, коли все так сложилось, я не собираюсь делать это свалившееся на Софи наследство выморочным и дарить его российскому государству. Если ты отказываешься, а Софи позволит, я сама займусь им. Я уже слишком стара, и моему доброму имени в любом случае ничего не угрожает. Я быстро превращу этот особняк в конфетку. Вы еще будете устраивать там приемы… А если Софи не захочет, его можно привести в порядок и продать, и тогда мы сможем, наконец, купить Красные покосы и кусок Марьиного леса, и построить там дачи, как я давно собиралась. Там с холма открывается прекрасный вид… Дачи мы станем сдавать в аренду…
– Мама! Остановись! Одумайся! Что ты говоришь?!
Но Марию Симеоновну уже понесло. Она увидела для себя новое поле деятельности, и не могла и не хотела останавливаться. Все в усадьбе Люблино было давно налажено и работало как часы. Всякие сельскохозяйственные усовершенствования, которые Мария Симеоновна время от времени отыскивала в газетах и специальных каталогах, покупала и немедленно вводила в своем хозяйстве, не могли полностью занять ее все еще крайне деятельную натуру.
– В конце концов, мне всегда нравился восточный стиль! – словно вбивая гвоздь, заявила Мария Симеоновна, собираясь уходить.
– Если вам, душечка, понадобится помощник, я всегда готов… – проблеял Кирилл Андреевич. – Право, неловко вам одной… Я мог бы с радостью сопроводить… У меня как раз нынче в делах промежуток. Думал: съезжу-ка в Марии Симеоновне, у нее всегда что-нибудь интересненькое… И вот…
– Что? А? – оборотилась Марья Симеоновна к гостю, про которого, кажется, в пылу дискуссии успела окончательно позабыть. – А-а-а… Поняла! Все поняла! Ах, старый вы греховодник! – раскатисто расхохоталась она.
Кирилл Андреевич потупился и часто замигал пуговичными глазками.
Из кухни донесся странный скрипучий крик. Все присутствующие невольно вздрогнули.
– Что это? – спросила Мария Симеоновна.
– Должно быть, попугай, – подумав, ответил Петя. – Попугай Джонни, про которого говорила Софи. Право, не знаю, кто бы еще в нашем доме мог так кричать.
– А почему он так кричит? – осведомился Кирилл Андреевич. – Ему что-то здесь не нравится?
– Должно быть, так… И я его, знаете ли, понимаю… – сказал Петр Николаевич и, аккуратно обойдя мать, вышел из гостиной.
Января, 20 числа, 1899 г. от Р. Х., Тобольская губерния, Ишимский уезд, г. Егорьевск.
Здравствуйте, драгоценная Софья Павловна!
Пишет Вам Вера Михайлова из Егорьевска. Вместе со мной передают для Вас приветы: Соня, Матвей, Стеша, Леокардия Власьевна и Левонтий Макарович Златовратские, а также Аглая Левонтьевна и Элайджа и Илья Самсоновичи. Желают также удачи во всех Ваших начинаниях.
У нас, слава Господу, все в основном по-прежнему. Снегу в этом году легло много, взрослому человеку по пояс. И рябина с калиной уродились, до сих пор гроздья кое-где висят, птицами нерасклеванные. По народным приметам – к богатому урожаю. Рождественские и новогодние празднества прошли утешно, молодежь гуляла и веселилась, а мы, жизнь прожившие, на них глядючи, радовались. Стеша сама, никем не понуждаемая, смастерила на диво красивого ангела из бумаги, куриных перьев и палочек, который, как за ниточку потянешь, так жезл поднимает и крылышками машет. Все удивлялись, как это у девочки к механике способности. Она все просила его Вам в Петербург послать, чтобы Вашим деткам подарить. Едва уговорила ее, что не доедет до Петербурга – больно хрупок. Аня-Зайчонок, дочь Петра Ивановича, как увидела того ангела, так руками всплеснула и долго ахала, а потом, через два дня привезла сундучок с игрушками, который от старого Тихона и Марфы Парфеновны остался. Стеша теперь от него и на ночь бы не отходила. Я сперва за нож боялась, как бы не порезалась, но Соня с Матвеем сказали: пускай, и, напротив, что помнят, обсказали ей, как Тихон-то игрушки мастерил. Теперь уж она две игрушки, Тихоном недоделанные, собрала: мельничку и кораблик. А на кораблике придумала парус из бересты сделать, а Маня, Сонина сестра, что у нас служит, помогла ей лесенки из ниточек сплести. Прямо как живой кораблик получился.
Матвей училище закончил и надо с ним дальше решать. Думаю о том едва ль не ежечасно. Я Ваше милостивое предложение помню, но боязно мне как-то его в Петербург отпускать, даже под Вашу, Софья Павловна, опеку. Не то, чтоб не смог он учиться, или опасалась, что разбалуется от соблазнов. Ум у него хороший, правильный, может, и не по годам развившийся. А сердце – шелковое, тряпочное. Несправедливости, беды чужой перенесть не может совершенно, видит едва ль не больнее своей. Куда он с такой-то душой попадет? В инженеры, как мне бы хотелось? Или уж прямо со студенческой скамьи да к нам же обратно, на каторгу? Страшно мне его от себя отпускать и ничего поделать с собой не могу. Понимаю: взрослый парень, к материной юбке булавкой не пристегнешь. Насчет того, что Вы писали, чтоб отправить его вместе с Соней, тоже решиться невмочь. Она, конечно, куда осторожнее и в чем-то здравомысленнее его будет. Да только с младенчества и по сей день шума городского и народу боится до обмороков. Даже в Егорьевск ездить не любит. А как-то поехали с ней в Тобольск, на ярмарку, обновки покупать, так она все три дня в гостинице и просидела. Один только раз на ярмарочную площадь и вышла, так и то – Матвей ее едва ли не волоком волок. Как она в Петербурге станет? Не обузой ли всем, и себе ли не в тягость?
И про то думаю неустанно: выросли оба, в тех годах, когда кровь молодая играет. Пара ли они? Или брат и сестра? Кровного родства промежду них нету, это вы знаете, но ведь росли вместе, спали, играли, все друг про друга знают… Любят они друг друга, о том спору нет, но как любят? Как потом обернется? Соня никогда не скажет, но иногда взгляд ее ловлю, будто совета просит. А что мне ей посоветовать, коли у меня у самой судьба из одних узлов связана?
Ходила на все три могилки, просила совета. Все молчат: и Матюша, и Никанор, и Алеша. Видать, сами не знают, как правильно. И то: откуда им-то такое разобрать?
Дела мои идут ни шатко, ни валко. На прииске «Счастливый Хорек», как кузятинские умельцы бочку еще по матюшиным чертежам усовершенствовали, так этот сезон был из лучших – выработка стала до 40 тысяч пудов песка в день доходить. У Гордеевых, мне донесли, – на бутаре до 100 пудов в день на рабочего. Из того и считайте. Зато Марья Ивановна библиотеку на прииске завела, чтоб рабочих от водки отвлечь, и свои книги туда пожертвовала. Не знаю, помогает ли? При случае поинтересуюсь непременно. Думали мы еще с Алешей про электрическую машину, которая от воды работает. Метеоролог наш егорьевский Штольц вместе с Василием Полушкиным ездили нынче осенью на Лену пробы какие-то брать, так после рассказали, что на Павловском прииске уж вторую «электростанцию» построили с динамомашиной и двумя турбинами. Штольц все рисовал что-то, рисовал, я ничего не поняла, но Василий-то, кажется, еще там понял и с большим энтузиазмом мне едва ль не до ночи расписывал, как то здорово и выгодно окажется. Не решила пока ничего, да и куражу особого нет, но Алеше хотелось, и Вася Полушкин подсобить обещал…
Нынче же, на границе осени с зимой вернулся в родные места на побывку Ваня Притыков, Ивана Парфеновича младший сын. Пил-гулял в обоих трактирах с таким шумом-гамом, что даже к нам, в Мариинский, долетало. Угостил и уложил вповалку едва ли не весь Егорьевск. Мне Хайме уж потом рассказывала, когда назад отбыл. Дело у Ивана какое-то на Алтае. Как я поняла, на ногах стоит крепко, и в деньгах не стеснен. Сыновей уж четверо либо пятеро, и все от той вдовы-казачки, что шесть лет назад из Большого Сорокина увез. Мать его просила ее с собой забрать, внуков нянчить, да он отказал. Отчего там промеж них кошка пробежала, не разберешь – чужая душа потемки. Настасью мне, пожалуй, жаль, хоть и сумрачна она была всегда, и в мою сторону только что не плевала. Почто злилась? Должно быть, оттого, что я своих детей без отцов рожала, а себя обиженной не числила… Впрочем, Бог ей судья, не я… А Иван мог бы и милосерднее быть. Вспомнит потом, ан уже и исправить ничего нельзя…
А осенью, накануне Воздвижения Креста Господня, случилось у нас в Егорьевске и еще одно развлечение. Явились к нам англичане. Числом не то двое, не то трое. Сомнения в числе оттого, что в одном из англичан – какая-то неясность наблюдается. Англичан я до того не видала и не слыхала, потому окончательно рассудить не берусь. Но, как я языки слышу, он, этот третий, даже говорит по-английски слегка по-другому, чем те два. Англичанин ли?
Судите сами: зовут его «мистер Сазонофф». Русский язык знает весьма хорошо. В делах наших разбирается изрядно, на тайгу, глубину снега и прочее из природы не дивится, а вроде как даже радуется тому.
И еще одно, пожалуй. Те двое – даже со спины да в шубе чужеродность видна. Двигаются по-другому, встают, садятся, ложку держат. Когда жуют, кажется, что и челюсть у них как-то не по-русски приставлена. Улыбаются враз, внутрь себя и словно не в полную силу. Фигуры линейкой проведены, а после сама она у них внутри для сверки оставлена. Словом, не ошибешься. Не то – «мистер Сазонофф». Когда я его первый раз увидела, у меня аж сердце в ребра ударило и дыхание сперло. Показалось на миг, что это Матюша, Матвей Александрович. Та же медвежатость, движения вроде бы и медленные и даже неуверенные слегка, но – ничего лишнего, и внутри – словно пружина сжата. Обернулся, я, при сдержанности-то моей, что вечно – притча во язытцах, чуть не ахнула. Спустя уж минуту поняла – помстилось, лицо у него не Матюшино, а обыкновенное, просто шрамами изуродовано слегка, оттого и кажется… Впрочем, к тому быстро привыкаешь, и уж не замечаешь ничего. Тем паче, что, в отличие от двух других англичан, лицо-то у мистера, пусть и подпорченное, но все же что-то и выражает и разгадать можно, когда ему в охотку, а когда и нет… А не только я это сходство-то увидела. Многие, из тех, кто постарше… Чудны дела твои, Господи!
Англичане были у нас проездом на Алтай, а чего хотели, так никто толком и не понял. На Алтае у них вроде еще с весны три партии оставлены, чтоб разведку вести. Медь, как я поняла, их интересует, и золото. Но там Кабинетские земли, а у нас ведь – нет. И про золото на Ишиме только Коська Хорек и знал. Где-то он нынче? Жив ли? Соня с Матюшей часто его поминают. Веселил он их, а они его, пожалуй что, и любили. Как сбежал он от страха во время тех беспорядков, что Андрей Андреич утишил, так никто о нем и не слыхал ничего. Сгинул, должно быть, в тайге, да странно… Коське ведь тайга – дом родной, в каждом самоедском стойбище – друзья-приятели, да и время было теплое, даже пьяному не замерзнуть… Пусть Господь милостив к нему будет, кривая у него жизнь, говорят, была, да только мы от него ничего, кроме добра, не видали.
В общем, потолклись у нас англичане, чаю попили, поговорили через мистера Сазонофф о чем не поймешь, и отбыли. Обещали, между тем, на обратном пути опять заглянуть. Зачем такой крюк? Ради чего? Железная дорога от нас далеко. Городок маленький. Путь, не сказать, чтоб приятный. Может, Марья Ивановна чего поняла (они с ней тоже много беседовали)? Что же до меня, то мне показалось, что мистер Сазонофф все хотел меня о чем-то напрямую спросить, да так и не решился. Хотя что ему с меня?
Из общих же разговоров я поняла следующее. Масштабы у них, если по словам судить, немалые. Какие-то важные люди в Англии и в Петербурге заинтересованы в том, чтобы английские деньги в Сибирь привлечь. Это понять можно, у наших-то воротил свободных денег немного. А кредит в Сибирском банке получить сложно, да и не выгодно выходит, если, как у нас принято, только богатые пески в разработку брать, да дедовским способом добычу вести. Вот и послали этих англичан обстановку рассмотреть и своим в Англии доложить. Мистера Сазонофф, понятно, – из тех немногих отыскали, кто в Англии русский язык разумеет и в делах что-то понимает. Судя по обмолвкам его, где он только не побывал… Мне взгрустнулось даже. Слушала и вспомнила вдруг, как Матвей Александрович обещал меня на теплое море свезти…
Двое других-то англичан мистера Сазонофф как-то… ну, не сторонятся, конечно, а словно бы и боятся, и презирают зараз. Нынче не разобрала, отчего это. Может быть, в другой раз разберу. Английский-то их язык я уже к концу начала немного понимать. Мистер Сазонофф, как заметил мой интерес, стал меня учить и называть все, а от двух других мы скрыли. Из озорства, что ли, или еще что-то в этом есть?
В общем, как я уже Вам сказала, в нашей однообразной жизни, англичане – развлечение и пища для слухов. Теперь толки и по Мариинскому поселку, и по Егорьевску. Зачем приезжали? Чего хотели? Что теперь будет? Больше из образованных и служивых волнуются. Рабочим-то все равно, на кого спину гнуть. Наш ли, англичанин – один черт. Я уж прикинула так и эдак. Если они здесь, как и на Алтае, разведку вести будут, или уж действующие прииски от хозяев скупать, как мне поступить?
Жаль, Алеши нет больше, посоветоваться не с кем. Вот ведь как… Вроде и что промеж нас было, однако, так не хватает его теперь! Должно быть, оттого это, что не только ухватистым, но и мудрым человеком Алеша был, видел человека насквозь, да не осуждал, и не злобствовал, и фантазий не строил, а смотрел на него, прищурившись, как он есть: нужен, не нужен, здесь остановиться, или дальше пойти… Мудрости в нашей жизни – как бы не менее всего другого…
Вы уж не серчайте на меня, Софья Павловна, но я ваш запрет нарушила, и, когда Алеша уж совсем плох был, сказала ему про Варвару-то – что, мол, в Петербурге она, и дела у нее все ладятся… Он уж и не ответил ничего, но я-то видела: камень у него с души упал, покатился… Так по Божеским-то законам правильно, я понимаю. А если есть здесь грех какой, так пусть он – на мне. Одним больше, да ради Алеши-то – пустое…
Теперь прошу Вас покорно: коли там в Петербурге чего про эти Алтайские дела, да англичан слыхать, так Вы уж мне отпишите, пожалуйста, да попроще разложите, чтоб я со своими крестьянскими мозгами разобрать сумела. Может, и не сами Вы, а муж Ваш, да кто-то из товарищей его? Мне бы через те сведения большое вспоможение вышло для определения себя в этом деле. А так… Что-то внутри говорит: «Сиди уж, Верка Михайлова, и не высовывайся. Старая, да дура, да Алеша помер – куда тебе?» А другое что-то и супротив подначивает: «А чего и делать-то еще? Смерти ждать? И спроста ли, что мистер Сазонофф так на Матвея Александровича показался похож? Не знак ли тебе?» Ведь ежели тут какие дела развернутся, да в них встрять с удачей, так и Матюшу-младшего можно при них (да при себе – чего уж от Вас-то таить!) оставить…
Теперь хочу от себя пожелать здоровья супругу Вашему Петру Николаевичу, милым деткам Павлуше и Марии, сестричкам и братьям, а также мой привет, ежели сможете передать, Варваре, Алешиной дочке (может, приедет когда на могилку отца-то?) и Андрею Андреевичу Измайлову, инженеру.
При том остаюсь всегда Ваша Вера Михайлова
Софи отложила письмо, попробовала представить себе свою бывшую горничную Веру, которая осталась жить в Егорьевске без малого восемнадцать лет назад. Какая она теперь? Тогда – была на лицо писаной русской красавицей, с косой в руку толщиной и ниже пояса, с ореховыми, завораживающими, какими-то змеиными глазами. Теперь, небось, коса вся побита зимним инеем, глаза потухли и спрятались в мелких серых морщинках… Нет, решительно невозможно было представить себе Веру Михайлову состарившейся, хоть она и писала о том неустанно в каждом письме вот уже много лет. Сама себя убеждала?
Что она, Вера, делает вот нынче, сейчас? Сидит за столом у окна, подперев ладонью щеку, проверяет счета и сметы, шевеля по привычке губами? Читает в кресле? Учит английский язык? Трудно даже сказать, сколько языков знает Вера. Среди самоедов давно ходит поверье, что она может говорить на любом языке тайги. Конечно, это не так, но, чтобы удовлетворительно выучить какой-нибудь новый диалект, Вере Михайловой довольно месяца. Таково ее природное устройство.
Теперь там зима. Зима в Сибири… Софи до сих пор помнила ее. Ярко-желтая круглая луна на промороженном зеленоватом небе. Столбы сизого дыма ползут вертикально вверх. Скрипят оси и колеса возов на тракте…
Раз в два-три года термометр опускается ниже пятидесяти градусов, реки промерзают на два-три метра, а то и до дна. Тогда они останавливаются и скапливающаяся вода шлифует берега.
После того, как Вера и остяк Алеша (с помощью Коськи-Хорька и при участии, на самом излете его трагической судьбы, инженера Мити Опалинского) открыли два своих прииска, жизнь Мариинского поселка, насколько Софи могла судить из скупых Вериных писем, изменилась весьма разительно. В первый же год Вера с Алешей сдали в золотоплавильную лабораторию около 10 пудов золота. Алеша, предчувствуя, видимо, свой близкий конец, настаивал на том, чтобы более золота отправлять нелегальными путями в Китай, откладывать деньги на будущее детей. Однако Вера Михайлова, как и ее бывшая хозяйка, вдруг вошла во вкус обустройства чужих судеб, вознамерившись превратить обреченный Мариинский поселок (пески на Мариинском прииске истощались, и не в этот, так в следующий год, его должны были закрыть, тем самым оставив всех жителей без работы) едва ли не в городок наподобие Егорьевска. В самом поселке, кроме винокуренного и водочного завода (построенных и открытых Алешей) она организовала пимокатное производство, которое работало только зимой и позволяло желающим еще подработать после окончания золотопромывного сезона. Мужчины, ведущие чуть более трезвый образ жизни, чем остальные, а чаще – женщины и подростки, охотно нанимались на Верину мануфактурку. Продукция частично раскупалась в Егорьевске, а частично уходила на Ирбитскую, Тобольскую и Каинскую ярмарки вместе с возами мороженой рыбы, добываемой самоедами на рыболовных песках, которыми уж много лет владел остяк Алеша. Чуть после появился мыловаренный цех, которым неожиданно весьма успешно руководили два поселковых друга-инвалида: русский Ерема и якут Типан. У Еремы не было правой ноги (отдавило бревном), а у Типана – левой (еще в молодости медведь покалечил). Несмотря на несчастье, людьми они оставались веселыми, с молодости держались рядом, и вместе, согласно прыгая по поселку из штофной лавки и распевая песни, производили преуморительное впечатление. Оба были успешно женаты, рукасты, не чурались никакой работы, имели детей. Губило их, как и всех в округе, пьянство. Как Вера сумела разглядеть в немолодых уж друзьях-пьянчужках предпринимательский талант – неизвестно. Однако за дело они взялись рьяно, увидев в том нежданный уже интерес к жизни, штофы с водкой на удивление легко отставили в сторону, с шутками-прибаутками наладили производство не только простого, но и ароматного мыла, раздобыв где-то соответствующие рецепты и произведя потребные опыты. Вывозить продукцию не было нужды. Окрестные крестьяне, егорьевцы и едва ли не с Барабинской степи калмыки сами приезжали в Мариинский за дешевым и качественным мылом, и уезжали, благодаря и кланяясь.
Именно дикий местный обычай мытья изначально и сподвигнул Веру Михайлову на организацию мыловаренной фабрички. Во всяком случае, так она писала Софи. За отсутствием мыла крестьяне мылись «подмыльем» – квашенными кишками.
На «Степном» прииске Вера, как когда-то обещала рабочим, ввела и вовсе нигде невиданную вещь. Сезон добычи там с самого начала задумывался круглогодичным. Так вот, летом работали там приезжие – русские и самоеды из тайги, которые на зиму возвращались по домам – в Мариинский поселок, в Светлозерье, в стойбища, юрты и прочее. Зимой же к работе приступал другой люд, в основном русские и калмыки, жившие вблизи прииска и имевшие там землю или стада. Эти люди летом пахали землю и пасли скот и, таким образом, их годовой заработок получался едва ли не в три с половиной раза больше (третий раз добирался тем, что при таком напряженном трудовом ритме мужикам просто некогда было пропивать заработанные деньги, как обычно водилось у приисковых после окончания сезона. За две-три недели по обычаю пропивался едва ли не весь заработок). Уже на третий сезон в Степной ко всеобщему удивлению переехали несколько кержацких семей из Кузятина и своей звероватой серьезностью еще более подхлестнули поощряемую Верой страсть к трудовой наживе. В земледельческих делах Вера, крестьянка по рождению и воспитанию, понимала куда больше, чем в производстве. Несмотря на маленькую Стешу, она выстроила себе дом в Степном, и подолгу жила там, с давно забытым удовольствием слушая песню жаворонков над колосящимися полями, и с голодной какой-то жадностью перебирая в пальцах жирную, черную, – только на хлеб намазывать – землю. Хороший урожай для яровых считался в тех местах сам-5, для озимых – сам-4. С помощью Кузятинских умельцев (едва ли не сам Алеша, по Вериной умильной просьбе, на поклон ездил к угрюмым кержакам, и уломал-таки – перевез в Степной кузнеца с кузней и тремя богатырями-сыновьями) Вера наладила в недавно народившемся поселке производство передовых сох-колесянок, в которые запрягалась пара, а то и тройка лошадей. Для того скупила по дешевке на Каинской ярмарке пять возов неисправных металлических деталей от всех сельскохозяйственных орудий вперемешку. Сумрачные трезвые кузнецы зиму помозговали над ними и… Уже на третий год урожай у «степняков» достиг сам-7.
Понятное дело, что там, где что-то производят и зарабатывают деньги, должны быть условия и для того, чтоб их потратить. В Мариинском за два года открылось три новых лавки и трактир с комнатами для приезжающих за покупками крестьян, который, под патронатом Ильи Самсоновича (трактирщика из Егорьевска), держала его же бывшая прислуга, калмычка Хайме. Она же с Вериной помощью организовала маслобойню и молочный пункт при ней, где приходящим водки и мяса не давали, а кормили исключительно простоквашей, молочными кашами, и прочими полезными для здоровья продуктами. Здесь же можно было нанять кормилиц и нянек для ребенка и даже за небольшую плату оставить малышей в чистой теплой комнате под присмотром девочек подростков, которые следили за ними, играли и кормили все той же кашей. Последнее было чисто Вериным изобретением, которая, родив Стешу уже в годах, так и не дождалась прихода молока и сама была вынуждена искать кормилицу. К тому же, поскольку многие молодые мариинские женщины пошли работать на верины мануфактурки, вопрос, с кем оставить малолетних детишек, встал перед ними в полный рост. Бездетная и безмужняя Хайме сначала с подозрением отнеслась к этому странному начинанию, но после полюбила «детскую избу» всей душою, и в свободные от трактирных хлопот минуты с удовольствием игралась с ребятишками, изображая по их просьбам «буку» и медведя, и, скрывая слезы по своей несложившейся женской судьбе, умывала и целовала измазанные кашей мордашки.
Условия труда на всех приисках (да и на открытых Верой производствах) были поистине драконовскими. Рабочий день начинался в пять часов утра и длился порою по 14 часов. За несвоевременную явку на прииск к началу сезона – штраф 1 рубль в сутки. Задаток давали маленький – всего 15 рублей (на приисках Гордеевых-Опалинских – до 40). Основные деньги, за вычетом выбранного в лавке кредита, выдавали в расчет, и еще насильно, включая прямо в контракт, заставляли посылать семьям 25 рублей на хозяйство. Многие рабочие роптали: мол, издеваются над рабочим человеком, словно мы им рабы подневольные… Однако, семьи были, понятное дело, довольны. Даже если после окончания сезона хозяин и загуляет по обычаю и пропьет большую часть заработанных и выданных под расчет денег, все одно что-то в семье да останется.
Работали на приисках каждый день, и по воскресеньям тоже. На гордеевских приисках воскресенье выходной, да еще праздники – Вознесение да Благовещение. У Веры да Алеши – никаких праздников, одна работа. «Зимой отдохнете, коли пожелаете. А можете и вовсе – мимо пройти. Никого не неволим», – и весь сказ. Многие, кому лень жилы рвать или несподручно, или уж здоровье не то, и проходили мимо. Шли к Опалинским. Однако, на безлюдье оба Вериных и Алешиных прииска не жаловались. Находились желающие хорошо заработать и в самом Мариинском поселке, и окрест, приходили молодые самоеды из тайги, калмыки из степи, все – с жадными, раскосыми, чего-то ожидающими глазами.
Почти оконченная к 1896 году железная дорога связала Сибирь с Россией. Туда-сюда потекли люди, товары, идеи.
«Деньги, что вы зарабатываете, да на водку не тратите, – ваш пропуск в другой мир. Не вы, так дети ваши его увидят,» – говорила рабочим Вера.
Этих ее разговоров ждали. Когда начинала говорить, незанимательно вроде бы и неспешно, рассказывать, – слушали заворожено, не перебивая. Словно воочию вставали перед темно-коричневой толпой картины иной, непонятно-сказочной жизни, каких-то других миров, как будто доступных каждому, и им в том числе. Хотя саму Веру и боялись, и считали едва ль не ведьмой. Она никого не жалела и не считала обстоятельств. Телесные наказания запретила настрого, однако безжалостно рвала контракты, гнала прочь хоть раз оступившихся, ослушавшихся разумных команд десятников и мастеров. Могла почти к каждому таежному или степному жителю обратиться на его языке. Сказать несколько холодно-приветливых слов, выслушать и понять ответ. Колдовство? Есть ли у Веры Михайловой душа, или, как и у ее давно погибшего мужа, инженера Печиноги, нету вовсе? А вместо нее – чуть теплый серый дымок, вроде того, что поднимается над недавно погасшим или только что залитым костром… Может быть, они и правы, и так все и есть? – спокойно и риторически спрашивала Вера в одном из своих писем к Софи. Кто разберет?
Софи помотала головой, разгоняя усталость и желто-голубые круги перед глазами. Выбившийся из прически локон ударил по щеке. Софи заправила его за ухо, потянулась к стоящей на краю тарелке, свернула в кувертик тоненький, янтарно-прозрачный блин, окунула в блюдечко с яблочным повидлом, сунула в рот. Воровато оглянувшись и убедившись, что никто не видит, вытерла замаслившиеся пальцы об нижнюю обивку полукресла, на котором сидела.
Потом, вздохнув, потянулась ко второму, лежащему перед ней письму. Тоже из Сибири. Но сколько угодно готова тянуть, представлять нынешний быт и промышленные успехи бывшей горничной, лопать блины, от которых к середине масленицы уже вся физиономия жиром лоснится, вот еще с котом можно поиграть… Довольно! – оборвала себя Софи, взяв костяной ножик, вскрыла конверт и, не разворачивая листа, уставилась на ровные, словно гимназистом-приготовишкой написанные строчки.
Адрес и почерк она узнала сразу. Письмо не от брата Гриши, от которого и вправду давно не было вестей, а от его жены – Грушеньки Воробьевой, теперь – Аграфены Домогатской. И чего же хорошего можно ждать от этого письма, если учесть, что Грушенька ненавидит Софи всеми силами своей издавна перекореженной душонки?!
Гришу сослали в 1896 году. Еще обучаясь в Университете, он вступил в кружок «Освобождение труда», который возглавил Юлечка Цеденбаум (Л. Мартов). На следующий год Юлечка был арестован за распространение нелегальной литературы и исключен из университета. Гриша, по счастью, успел закончить курс и получить диплом. Пошел служить, начал набирать практику. Семья вздохнула с облегчением. Однако, после возвращения из ссылки в Вильно вовсе не унявшийся Цеденбаум снова связался со своими прежними сподвижниками и развил поистине бешеную организаторскую деятельность. В декабре 1895 года объединение всего со всем получило название «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Гриша встретил все начинания Цеденбаума-Мартова с воодушевлением. «Теперь мы сможем строить нашу борьбу на строгой научной и организационной основе», – вещал он, посещая сестру и шурина в их поместье в Люблино и страстно критикуя эксплуататорские порядки на ткацкой фабрике, которая по завещанию Туманова принадлежала Софи.
– Почитай «Капитал», там все написано! Поверь, он тебя перевернет! – горячился Гриша.
– Можно, я пока останусь неперевернутой? – щурилась Софи.
Петр Николаевич печально качал головой.
Отвоевавшись, Гриша брал черную лакированную гитару-семиструнку и высоким, задушевным голосом исполнял романсы, музыку к которым сочинял сам на стихи Петра Николаевича. Вся семья и даже прислуга с дворней собирались послушать.
– Как ты думаешь, чем все это кончится, Петя? – спрашивала Софи после отъезда брата, сдерживая слезы и яростно накручивая на палец локон, едва ли не выдергивая его с корнем.
– Разве тебе нужен мой ответ? – меланхолически вопрошал Петя. – Ты ведь и сама все знаешь…
В 1896 году, после трехмесячного заключения в Петропавловской крепости, Гриша уже ехал по этапу в Сибирь. К немалому удивлению Софи, Груша почти сразу же отправилась вслед за ним. Более того, спустя чуть менее года после ее приезда у Груши с Гришей родился в Сибири ребенок – девочка, которую крестили Людмилой.
«Делать им там нечего, вот и… – решительно высказалась по этому поводу Мария Симеоновна, категорически и ни под каким соусом не одобрявшая никакого вольнодумства. – Так и у скотины бывает…»
– Молчите, ради Бога, молчите! – непривычно высоким голосом вскрикнула Софи, сплетая пальцы.
– А что, правда глаза-то колет? – усмехнулась Мария Симеоновна, никогда не упускавшая случая уязвить невестку. – Законы-то для всех одни. Господом и природой дадены. И не нам их отменять. А эти тут… выискались… освободители! Раз не хочешь по Божеским законам жить, так что же останется? Скотство одно…
– Мама, пойдемте! – Петя успокаивающе моргнул Софи и поспешно увел Марию Симеоновну, стараясь успеть до того, как с одной или с другой стороны будет сказано или сделано нечто плохо поправимое.
Петя всегда, все эти годы после своей женитьбы жил между двух непрерывно горящих огней, и со свойственным ему прохладным, явно тяготеющим ко стоическому, мировоззрением, вполне приспособился к такой жизни. Самое же удивительное и, пожалуй, приятное в его положении заключалось в том, что в общем и целом Мария Симеоновна и Софи ладили между собой, и даже как-то по-своему уважали друг друга.
Когда после своего тайного венчания Софи и Пьер впервые появились перед родственниками, Мария Симеоновна, которая больше всех противилась этому браку, вела себя странно сдержанно до самого конца вечера и не позволила себе ни одного резкого или обидного слова в адрес новобрачных или кого бы то ни было еще. Такое крайне редко с ней случалось, и это отметили все присутствующие.
После чая она пригласила Софи в зимний сад – свою тогдашнюю гордость. Петя хотел увязаться за ними, но Мария Симеоновна шуганула его так, как прогоняют несносную собачонку. Софи согласно кивнула, и Петя подчинился воле своих женщин.
– Присядь, – в оранжерее Мария Симеоновна с неожиданной заботой пододвинула невестке гнутый венский стул. Софи, не скрывая удивления и настороженности, села. На грани поздней осени и зимы ей было приятно вдыхать свежие, влажные запахи теплой земли, листвы и распускающихся тропических цветов. Мария Симеоновна напоминала ей охотящуюся в джунглях кошку. Погрузневшую, но все еще опасную.
– Ты брюхата? – напрямую спросила она невестку.
Софи, помедлив, кивнула, не подобрав нужных слов.
– Ребенок – от того?
Еще один кивок.
– Петя когда узнал?
– Сразу, как предложение мне сделал. В ту же минуту, – честно ответила Софи.
Мария Симеоновна удовлетворенно кивнула. Ответ явно понравился ей, хотя Софи так и не сумела разгадать – почему. А что изменилось бы, если бы Петя узнал о ее беременности раньше, или на неделю позже?
– Пьер, конечно, признает ребенка?
– Мы еще не решили окончательно. Но, думаю, так и будет.
– Правильно. Я про того сама узнавала. И Густав Карлович нам все подробно обсказал. Теперь он где? На ребенка претензии заявлять будет?
– Претензий не будет, – Софи плотно сжала губы, глядела в воду крохотного, поросшего крупной ряской бассейна. В свободной от ряски «полынье» то и дело медленно всплывала огромная толстая рыбка-вуалехвост и выпученными глазами смотрела на Софи. – Михаил Туманов погиб.
– Понятно, – кивнула Мария Симеоновна. – Ты поэтому и согласилась, так?
– Да, – ответила Софи. – Если бы Михаил был жив, наш с Петей брак был бы невозможен.
– Что ж, по крайней мере честно, – Мария Симеоновна вдруг улыбнулась открыто и ясно. – Да и все, что я о нем узнала, мне подходит.
– В каком смысле – подходит? Кто вам подходит? – удивилась Софи.
– Твой Туманов подходит мне для того, чтобы быть отцом моего внука, – невозмутимо разъяснила Мария Симеоновна. – А что он теперь погиб, так это еще и лучше. Меньше головной боли для меня и для Пети…
Софи хрипло расхохоталась. Рыбка-вуалехвост резво нырнула в темную глубину. «Разве они слышат нас?!» – удивленно подумала Софи.
– Вы – просто прелесть, Мария Симеоновна! – вслух воскликнула она. – Вам это говорили?
– Говорили, – сразу же согласилась хозяйка Люблино. – Последний раз лет тридцать назад, если быть честной.
После рождения Павлуши Мария Симеоновна и вправду взяла на себя почти все хлопоты по его воспитанию. Софи занималась фабрикой, написанием романа, издательскими делами (кроме фабрики, Туманов оставил ей еще и небольшое издательство, которое Софи почти сразу же расширила и реорганизовала, ориентировав на выпуск романов и детской литературы).
Впрочем, надо признать, что особых забот маленький Павлуша и не требовал. Родившийся очень крупным, он всегда охотно, много и непривередливо ел, сидел там, где его оставили, не капризничал и не просился на руки. Куча разноцветных тряпочек или старых открыток могла занимать его целый день. Когда он чуть подрос, его любимым занятием стало раскладывать пуговицы, бусы, фасоль, горох и пр. по разным коробочкам. Каждый раз он по-разному сортировал все это: по цвету, по размеру, по количеству дырочек в пуговицах и т. д.
Разговаривал Павлуша мало и не слишком охотно, но как-то ни для кого не заметно уже в четыре года научился читать. Детские книжки с картинками не любил с самого начала. Предпочитал старые иллюстрированные журналы, книжки по географии и естественной истории. Позже, к немалому изумлению всех окружающих, – полюбил читать газеты и почти тогда же научился внятно и кратко пересказывать бабушке основные содержащиеся в них новости и выбирать интересные для нее рекламные объявления.
Выглядело и слышалось это странно и по сей день.
«Общество Взаимного кредита санкт-петербургского уездного земства объявляет о состоянии своих счетов, – громко зачитывал Павлуша, переворачивая газету и выглядывая подчеркнутые строчки и обведенные в рамку абзацы. – Я подумал, может, нам это надо… На Выборг земля опять вздорожала, а лес под сруб дешевеет. Дачи на нашем направлении идут в среднем по 100 рублей за лето… Да, вот. Помощь от Красного Креста по поводу бедствий, вызванных прошлогодним урожаем, больше не собирают. Можно им не платить. Мы ведь платили, так?… Еще вот здесь… Гляди, бабушка, это может нам пригодиться. «Контора инженера Борейна берет на себя производство работ по поднятию местности на высоту одной сажени и более, образуя в короткое время из малоценных, затопляемых наводнениями участков площади высокой ценности»… Я подумал, может нам в районе Николина луга ивняк и вербу, которые каждый год заливает, извести и все вместе вот так поднять? Это ж сколько земли получится! Как ты, бабушка, полагаешь?
– Думать надо, – серьезно отвечала Мария Симеоновна, шевеля губами и явно что-то подсчитывая.
Петру Николаевичу подобные картины искренне казались дикими.
– Мама, что вы делаете? У мальчика же нет детства, – иногда говорил он.
– А я причем? Нет, говоришь, детства? Ну так купи ему мяч и кольцо, – спокойно отвечала Мария Симеоновна. – И уговори побегать во дворе с ребятишками. Я первая посмеюсь, как ты уговаривать станешь.
С детьми Павлуша никогда не общался, изредка снисходя к младшей, обожающей его, сестре. На всех детских праздниках, которые устраивали в Гостицах или Люблино, он стоял в стороне, подпирая стену и снисходительно-презрительно оглядывал веселящуюся малышню. Софи в этих случаях старалась не смотреть в его сторону, чтобы не раздражаться, а главное – не вспоминать другого человека, десять лет назад вот так же отстраненно подпиравшего стены на тех светских сборищах, куда ему по случайности доводилось попасть.
– Папа, гляди, – довольно мирный по характеру Павлуша не любил ссор между родными. – Ты вот на велосипеде ездишь, тут для тебя: фонари ацетиленовые, новейших конструкций, по 5, 6, 7 рублей за штуку. Киннеман и комп., Гороховая, семнадцать… И еще, я тебе сказать хотел, надо бы купить. Вот, написано: редкий случай!
– И что же мы должны приобрести по этому редкому случаю?
– «Случайно продаются карманные американские револьверы системы «Смита и Вессона», 32 калибра, никелированные, по смешной цене – всего лишь 12 рублей. Коробка патронов – 2 рубля, кобура – 1 рубль». Я думаю, и вправду недорого…
– Павлуша, Господи! Зачем тебе револьвер?! Я полагал, что как раз оружие-то тебя не интересует!
– Конечно, меня оно и не интересует, – согласно кивнул мальчик. – Но я для мамы имел в виду. Она вечно по таким местам шляется…
– Павел! – Мария Симеоновна привстала с кресла. – Как ты смеешь так выражаться! Ты говоришь – о ком?!
– Прости, бабушка! Прости, папа! – Павлуша мигом склонил голову и изобразил полнейшее раскаяние. – Но вы же знаете нашу маму! При ее образе жизни и знакомствах ей положительно необходим револьвер! А тот, который у нее есть, он же уже старый, может в решительный момент дать осечку…
– Черт знает что такое, а не семья! – пробормотала себе под нос Мария Симеоновна. – Сын велит отцу прикупить матери револьвер… И ведь самое-то поганое, что он, похоже, прав…
На любые, самые диковинные изменения жизни Павлуша, несмотря на все свои особенности, реагировал вполне адекватно и не по возрасту здраво. Если не мог склонить ситуацию в свою пользу, тут же проявлял конформизм, вполне удивительный для балованного десятилетнего мальчика-барчука, ни в чем не знавшего отказа.
– Бабушка! Вот тут у братьев Грибш, на Караванной продается подстилка для полов – линолеум. Разные цвета и воды не боится. Написано, что материал будущего. Любопытно, что такое. Может, у Джонни в комнате для опыта настелить? Он каждый день все проливает, у него в руках ничего не держится. Лукерья уж жаловалась, что все полы вспучило. А так бы и хорошо было…
Так ты с мамой насчет петербургского-то особняка, который Джоннино наследство, сговорилась или как? За нами останется? Тогда гляди: на Большой Морской Большой восточный магазин. Надо бы туда заглянуть. Там восточная мебель, ширмы, столики, табуретки… Если там, в этом особняке, чего поизносилось, можно прикупить…
Для развлечения Павлуша любил удить рыбу, посидеть на лавочке с поселковыми стариками, со знанием дела потолковать с ними о погоде, политике и видах на урожай. Пользуясь теми же сведениями, почерпнутыми из газет, на равных вступал в разговор: «А вот прибыли холмогорские коровы. Продают. Что скажете про них, уважаемые?»
В три года он увлеченно играл с бабушкой «в магазин», продавал и покупал, явно стремясь соблюсти свою выгоду. В четыре года попросил подарить ему копилочку, а из остальных подарков, которые наверняка принесут приглашенные на праздник гости, – «денежки». Модест Алексеевич, муж Аннет, в последний год не раз заставал Павлушу в своем кабинете за чтением «Биржевых ведомостей».
Все это вместе показалось бы странным кому угодно. Но Софи не слишком много внимания обращала на детей, а Мария Симеоновна тоже беседовала с внуком почти на равных и была тем вполне довольна. «Милочка – сентиментальная дура, – откровенно отзывалась она в отсутствие внуков. – А Павлуша – мозг. Ну и что, что с игрушками не играется? Значит, не надо ему. Он еще свое покажет.»
Единственное, что, пожалуй, не устраивало Марию Симеоновну в воспитании Павлуши, так это его серьезная, насчитывающая уже два года, переписка со ссыльным дядей. Многие, если не все мысли, которые Гриша Домогатский излагал в письмах племяннику, казались ей откровенно крамольными. Однако, прекратить вредное общение она была не в силах. «Я могу спросить у него то, что больше не у кого, – так объяснял Павлуша свое пристрастие. – Не думай, бабушка, что я все на веру беру. Но надо ж со всех сторон смотреть, чтоб в объеме увидеть. Правильно?»
– Правильно-то правильно… – вздыхала Мария Симеоновна и, понимая прекрасно, что ее надежды необоснованны, взглядывала на Софи.
Софи, разумеется, не собиралась прекращать переписку брата и сына.
– Гриша всегда был честен, – говорила она. – От чести, какой бы она ни случилась, вреда не бывает. Вред – лишь от бесчестья. А Павлуше, коли он с таких лет к делам да финансам тянется, полезно бы знать…
– Задурит голову мальчишке, ох, задурит… – качала головой Мария Симеоновна, но больше союзников искать было негде: Петя почти не вмешивался в воспитание Павлуши, резонно полагая, что там всего достаточно, и как бы не лишнее.
В результате писание и чтение стихов Павлуша полагал блажью и бессмысленной тратой времени, но каждый раз, услышав где-либо новые стихи отца, вежливо хвалил их за выдержанность формы и свежесть образов. Где, собственно, он почерпнул эту «свежесть образов» никто так и не понял.
Глава 6
В которой Софи читает второе письмо и гуляет с котом, а Марья Ивановна Опалинская размышляет о прошлом и о будущем
Здравствуйте, любезная Софья Павловна!
Зная, как Вы меня полагаете, решилась писать к Вам только в великой крайности. Но тому, я думаю, Вы и сами поверить сумеете, иного не предположив.
Братец Ваш, Григорий Павлович, а мой Богом данный муж и супруг, нынче стал совсем плох. И даже не в телесном здоровье дело, хотя и оно пошатнулось изрядно, и кашель уж пятый месяц не проходит. Другое хужее, а чтоб описать, у меня и верных слов нет. Это ж Вы, Софья Павловна, писательница, не я. Лежит Гришенька цельными днями, отвернувшись к стене, и ничто ему не мило. И Людочке нашей малой не рад, и со мной сквозь зубы разговаривает. До людей, что вокруг нас живут, в поселке, ему уж и вовсе дела нет. Намедни «товарищ по борьбе» приезжал, так и с ним говорил, едва себя пересиливая. Я потом к товарищу кинулась, что, мол, делать-то, так он на меня взглянул так, словно я мышь, которую на дороге колесом придавило. И жалко, и любопытно, и сам собой за это любопытство брезгуешь. Потом отвел взгляд на облака, сказал: никто не обещал, что борьба за народное счастье будет легка, и на том пути жертв не будет. Каждый, кто на эту дорогу вступил, поклялся, если понадобится, свою жизнь отдать… «И мою, и Людочкину?» – хотелось спросить, однако, не спросила. Он сам догадал и тут же ответил: «Товарищ Григорий допустил слабость и опрометчивость. Революционер должен быть один. Чтобы спасти многих, весь народ, нужно неустанно ковать себя из железа и слабых мест не иметь вовсе…»
После того визита и вовсе свет померк.
Людочка еще заболела и капризничает все время. Жара нет, а и здоровья – тоже. Зовет папу, а он только рукой машет: «отстаньте, мол».
Вот уж второй день Григорий Павлович есть почти отказывается, только воду пьет. Меня до себя не допускает, велит заниматься ребенком, сам сидит у окна, завернувшись в одеяло и читает книгу. Третий день на одной странице.
Я все крепилась, а вчера уж не стерпела, бросилась ему в ноги: «Гришенька, свет мой, что ж мне еще сделать-то, как тебе, как нам всем помочь? Погибель ведь для всех настает!»
Он головой так помотал, как лошади оводов отгоняют, а потом пробормотал что-то, и я в том разобрала: «Соня бы догадала, что делать, а я сам – не могу…»
Вот, теперь сижу, пишу Вам, а за окном – темень, да и на душе – чернота беспросветная. Право, и сама не знаю, зачем. Что Вы из Петербурга сделать-то можете, коли он из дому последнее письмо даже до конца не дочитал, так и лежит… Знаю одно: коли с Гришенькой, упаси Бог, что случится, так и нам с Людочкой не жить…
Иногда думаю, что все это мне Бог за мои грехи посылает, и тогда молюсь смиренно, благо, тут в деревне церковка и еще часовенка есть, попечением местного купца выстроенная… В заключение желаю, чтоб Вас, Софья Павловна, и Вашу семью всяческие напасти стороной обошли. Не всем же век несчастными оставаться, кому-то и счастье должно быть.
Груша Домогатская
Дочитав, Софи нервным движением отшвырнула листок и вскочила, едва не опрокинув кривоногое кресло. Обернувшись, не глядя, поймала его за спинку, поставила прямо.
– Бог! – раздраженно пробормотала она. – За грехи! А ребенка? Черт знает что такое! Сто, тысячу раз говорила, и – вот! Не мальчишка ведь! Как будто не знал, что самое сложное не на плаху взойти, сказать красиво и сдохнуть за этот самый народ. Это-то, извольте, просто. Вот что сложно: жить каждый день, каждый день утром без солнца из постели вставать, холодной водой умываться. И заставлять себя… Когда все пропало, все рухнуло, ни в чем смысла нет – заставлять! Революционер! Тряпка! Рохля!
Софи, не в силах более оставаться в четырех стенах, почти выбежала из комнаты, поспешно оделась, накинула капор, сунула ноги в теплые белые валенки. Распахнула дверь, спустилась по скрипучим ступенькам, торопливо пошла по дорожкам зимнего, усыпанного снегом сада. Еще с ночи ударил мороз, и нынче даже к полудню термометр стоял ниже двадцати градусов. Негреющее солнце искрилось в каждой льдинке. Холод сразу охватил щеки Софи своими ладонями, принялся, пока аккуратно, пощипывать нос и кожу над бровями.
Софи, у которой внутри пылал костерок бессильного гнева, эти прикосновения покуда казались приятными. Оглянувшись, она увидела, что вслед за ней по дорожке, переваливаясь, бежит угольно-черный кот. Хвост его был напружинен и вытянут кверху, глаза горели любопытством.
– Кришна! Куда ты? Вернись! – крикнула ему Софи. – Коты в такую погоду не гуляют!
«А мне – наплевать!» – ясно пропечаталось на независимой широкой морде.
– Господи! – пробормотала Софи, оглядываясь и почти ожидая увидеть где-нибудь по колено в снегу нелепую фигуру Джонни, неодетым кинувшегося вслед за сбежавшим любимым котом. – Зачем мне это все? И почему я не могу хоть немного побыть одна, сама с собой, ни о ком не думать? Почему за мной вечно тащатся… всякие коты?
Поймав себя на последней фразе, Софи поневоле улыбнулась. Вот уж, воистину, пустой гнев делает человека глупее в три, если не более раз. Все еще улыбаясь, женщина присела на дорожке, протянула руку. Кот тут же подбежал, ткнулся в варежку лобастой башкой, затоптался на месте, дрожа тощим хвостом и переминаясь на передних лапах.
Кришна считался, да и был котом Джонни, но при том обладал крайне независимым характером и сам выбирал, с кем и когда он хочет общаться. Практически все слуги и члены господской семьи в Люблине познакомились с этой его особенностью буквально в первые дни пребывания кота в доме, и еще некоторое время ходили с укушенными пальцами и ладонями и расцарапанными запястьями. Исключений не было. Понадобилось некоторое время, чтобы самые смышленые догадались о том, что Кришна – зверь не злой и даже, как ни странно, не вздорный. Просто он привык выбирать сам. Когда был не расположен к общению, всегда прежде предупреждал, а уж потом портил шкуру сунувшемуся невпопад. Те, кто сумел это разобрать, наладили с котом вполне приличные отношения. Остальные дружно считали и говорили вслух, что наглую, злобную зверюгу следует пристукнуть кочергой или уж зашить в наволочке и утопить (что по зимнему времени было совершенно невозможно, но ведь помечтать-то можно всегда…).
Иным было отношение к напарнику, точнее напарнице Кришны, также прибывшей в усадьбу вместе с Джонни. Большая, белая, облезлая попугаиха Радха у всех (а не только у Милочки) вызывала одно и то же чувство – ее хотелось пожалеть и немедленно переместить куда-нибудь, где ей, наконец, будет хорошо. Что это за место – никто не мог даже вообразить. Робкое предположение Милочки, что Радха, должно быть, скучает по родным джунглям, вызвало издевательский смех Павлуши, поддержанный сдержанной улыбкой Петра Николаевича и покачиванием головы Марии Симеоновны.
– Да ты погляди на нее! – озвучил общую мысль Павлуша. – Что она будет делать в джунглях?! Ее же первый случайно проходящий мимо зверь съест. А если такового не случится, так она сама от страха околеет…
В общем-то на то было похоже. Большую часть времени Радха печально сидела на жердочке в своей обширной клетке, вздрагивала от любого резкого звука, ела и пила словно бы через силу и ежедневно роняла на пол клетки белые, бессильные перышки… Со слов Джонни можно было понять, что попугаиха умеет говорить, но ее разговоров никто покуда не слышал. Лишь иногда она печально и хрипло вопила, словно жалуясь на судьбу кому-то невидимому. Служанки тоже чувствовали эту «обращенность» Радхиных жалоб, с легкой руки кухарки называли эти крики «бесовской молитвой» и крестились каждый раз, когда их слышали.
Самым занятным во всей этой звериной истории были отношения Радхи, Кришны и Джонни между собой. Радха была старше всех, но появились они в салоне Саджун практически все одновременно – младенец Джонни, попугаиха Радха, купленная на Сенном рынке из прихоти тяжело беременной Саджун для каких-то неопределенных гадательных целей, и черный тощий комочек с розовой жадной пастью, выброшенный на улицу кем-то лишенным жалости, и Саджун же подобранный. С тех пор эти трое практически не расставались. Радха сразу же усыновила котенка, ловко ловила блох в его жидкой шкурке, и даже пыталась кормить зерном и хлебом из клюва. Котенок, естественно, от зерна отказывался, но засыпать на комоде или в самой клетке попугаихи, залезши под оттопыренное крыло названной матери, привык почти сразу. Радха, несмотря на собственную трусость, ревностно защищала сон детеныша, крутила головой и грозно щелкала огромным клювом, когда кто-то или что-то в окружении клетки казалось ей опасным.
Джонни, подрастая, считал обоих, и зверя, и птицу, своими старшими родственниками и, несмотря на собственное слабоумие, обращался с ними весьма внятно и уважительно. Кришна ни разу не поцарапал мальчика. И клюв Радхи, которым она играючи колола грецкие орехи и рвала медную проволоку, ни разу не причинил ему никакого вреда.
Все десять лет своей жизни Кришна прожил в гадательном салоне, и никогда не бывал на улице. Узнав об этом, все дружно решили, что, оказавшись в усадьбе, на «волю» старый кот не пойдет, побоится. Но не тут-то было! Уже в первый день пребывания на новом месте, Кришна, напружинившись, стоял у дверей кухни и жадно нюхал влажный, но еще холодный воздух, долетавший из сеней. На второй день сиганул между ног кухарки…
С четверть часа весело гогочущая дворня практически в полном составе прыгала по сугробам и безуспешно ловила черного, как уголь, котяру. Потом Кришна сам заскочил на кухонное крыльцо, отряхнулся и независимо вошел в дом. Полакал молока и улегся возле печки – греться.
На следующий день он гулял уже дольше, и никто его не ловил. Потом еще дольше. Потом еще… Казалось, целью кота стало не упустить ни одного дня зимней, оглушительно пахнущей свободы. Может быть, он думал о том, что скоро все это удивительное дело кончится и надо будет ехать обратно, в Петербург. Мороз и снег не останавливали его совершенно, хотя мех его никто не назвал бы густым. Замерзнув, он возвращался, отогревал лапы возле плиты и снова шел гулять. Круги, которые Кришна описывал вокруг дома, становились все более широкими…
– Кришна, иди домой! – строго сказала Софи.
Кот фыркнул и скрылся под кустом, с которого тут же осыпалась маленькая снежная лавинка.
– А я тебя все равно вижу! – рассмеялась Софи. – Ты же черный, Кришна!
Кот в переплетении ветвей выглядел смущенно-обескураженным, как будто и вправду понимал человеческую речь.
– Ну и как же мне поступить? – спросила у него Софи. – Что же теперь будет?
Кришна переступил передними лапами и от этого провалился поглубже в снег. В целом движение выглядело так, как будто кот пожал плечами.
Софи огляделась. Мороз к полудню не утих вовсе, а, кажется, стал еще ядренее. Высокое голубое небо поблескивало едва улавливаемыми глазом разноцветными искорками. Ветви высоких плакучих берез, там, где доставали лучи солнца, казались облитыми жидким золотом. На конце каждой веточки сверкал снежный бриллиант. На ветках кустарников белел иней. Несколько алых округлых снегирей зимними яблоками сидели на ближайшем кусте. Кришна смотрел на них с хищной тоской и ярился от явной невозможности обладания.
Софи засмеялась от захватывающей дух красоты и жизненности представившейся картины.
– Правильно, Кришна, – кивнула Софи. – Я и сама так думаю. Что будет?! Что будет?! Как говорила моя няня: что-нибудь да будет непременно, потому что никогда не бывает так, чтобы ничего не было. Правда, Кришна?
Кот немного подумал, кивнул лобастой головой и скрылся поглубже в кустах. Софи развернулась на каблучках и решительно зашагала к дому.
– Господи, и все-то я делаю не так.
Женщина средних лет, слегка грузноватая, в лисьей шубке и теплой шали козьего пуха, тяжело поднялась с колен. Не глядя, протянула руку за тростью, она давно уж – лет десять, пожалуй, – без нее шага из дома не делала, хотя особой нужды в том не было – не такая уж калека. Но – привыкла… Да и правду сказать: удобно, особенно зимой, на льду.
Зима – кончалась. Солнце за окнами Покровской церкви стояло совсем весеннее. Не то, что оттепель – настоящая весна, с тревожными запахами и птичьими пересвистами. Это в Сибири-то, в феврале-то! А в апреле опять пойдут морозы, и опять ничего не родится…
Она думала об этом точно так же автоматически, как опиралась на трость, как считала столбы в заборе, каждый день проходя мимо усадьбы отца Михаила. В церковь – шесть столбов, и обратно столько же. Да, еще – обязательно! – бросить взгляд на шатровую кровлю Крестовоздвиженского собора и горестно вздохнуть. Сколько уж лет она туда не ходила? По большим праздникам только… Грех это, конечно, грех. Отца Андрея многие хвалят…
Она остановилась. Поправив шаль – в уши задувал сырой ветер, – неторопливо перекрестилась на кресты собора. Вот и все, а идти туда… Владыка Елпидифор бы сказал: гордыня! Она поморщилась, болезненное воспоминание явилось, как всегда, мгновенно: негромкое пришепетыванье, шарканье теплых валенок, запах просфоры и ладана… Ее детство оказалось накрепко переплетено с владыкой и, когда он ушел, рассыпалось безвозвратно. А до той поры все казалось: вот оно, за спиной, и, как только выпадет просвет в делах, можно будет туда вернуться и все поправить, наладить как следует!..
Марья Ивановна Опалинская шла домой по сыроватому утоптанному снегу – быстро, не глядя по сторонам. На протяжное приветствие матушки Арины Антоновны, взиравшей с высокого крыльца, как народ растекается от церкви, ответила коротко, едва взглянув, – и тут же подумала: до Пасхи непременно съездить к Фане!
Фаня Боголюбская – ныне сестра Дорофея – вот уж восьмой год коротала в Ирбитском монастыре, под черным клобуком. Для нее сбылось то, о чем когда-то Машенька мечтала для себя. Вернее – это ей казалось, что мечтала! А Фане и не казалось никогда, она и в страшном сне о том не могла помыслить. Виновата, конечно, была сама. Уж во всяком случае – не Арина Антоновна, глаза по дочери выплакавшая. Но Маша почему-то винила попадью. Не отца Михаила, даже не мужа Фаниного, что служил теперь в Крестовоздвиженском соборе (нет, его, конечно – тоже, но все ж не так), – ее, мать! Видела ж, за кого девку замуж отдаешь! Почему не настояла? Сам велел – как же! Вот так весь век и живем.
Маша уже давным-давно не жила – так. Попросту сказать, у нее не было самого, который мог бы велеть. Это она была сама. А как иначе? И не нужно иначе, да и невозможно – от последних иллюзий, слава Богу, скоро десять лет как избавилась.
До Пасхи съездить к Фане… А если англичане как раз приедут? Марья Ивановна смущенно улыбнулась; старательно двигая губами, проговорила беззвучно: «to give – gave – given… What do you want from me?»
Ох, до чего ж глупо. Это не они от нее что-то «want» – она от них, а они-то без нее прекрасно обойдутся. И не только англичане! Она мгновенно перестала улыбаться, вспомнив вчерашний разговор с Иваном Притыковым. Как он вежливо смотрел на нее – ни разу глаз не отвел! Со всем, что говорила, соглашался. Да, запасы не исчерпаны… новые способы добычи… новое оборудование… было б что предложить, как равноправным партнерам – тогда и прибыли… британцы, все знают – народ надежный, хоть и безжалостный… Ты совершенно права, сестрица Машенька, да вот ведь оказия: вовсе нет свободных средств, и ниоткуда не вынешь. Хорош братец Ванечка. А она-то едва не взвыла: выручай, поддержи, ведь последняя ж возможность на краю удержаться! Господи, а то он не знает.
В распахнутых воротах крутились собаки, на дощатых мостках, с утра тщательно отчищенных от снега, красовалась свежая, еще курящаяся лепешка конского навоза. Радость великая: Петр Иванович с охоты вернулся – и трех дней не прошло, как отбыл; и, судя по веселому голосу из глубины двора, кажется, трезвый. Пятнистая, как Арлекин, Пешка Малая издали увидела Машу, кинулась навстречу, ухмыляясь всей своей широкой брылястой мордой. Маша, наклонившись, выставила вперед руки, оберегая от грязных собачьих лап шубу и подол:
– Ну, утихни, утихни… радости-то! Сколь зайцев подняла?..
Пешка Малая была единственной из братниных собак, с которой Маша дружила. Не потому вовсе, что когда-то пришлось кормить ее из соски – мало ли щенков выхаживала, с ними вечно что-нибудь случается; вырастая, они переставали ее интересовать, только что голова болела от разноголосого бреха. И собаки ее тоже не замечали, а вот Пешка всякий раз подбегала и ластилась с самым счастливым видом; как тут не подружишься?
– О-о, свет Марья Ивановна! – Петя, широко улыбаясь, остановился на крыльце. Все-таки он был слегка пьян – терпимо, лишь бы сейчас не добавил… да, впрочем, это не ее, не Машино дело. – А что же Неонила сказывала: барыня, мол, с утра уехали в поселок?
– Нашел кого слушать, – Маша поморщилась, расстегивая на ходу крючки шубы, – она тебя-то хоть узнала? Или опять обозвала Бовой Королевичем?
Неонила, дочка плотника Мефодия, была взята в дом совсем недавно – на место Анисьи, которая, проживши почти до сорока лет незамужней девицей, вдруг нашла себе суженого из казаков и уехала жить в Большое Сорокино. Службу горничной Неонила исполняла с истовым рвением и редкой бестолковостью. Причина последней заключалась, видимо, в том, что она только малой частью своего существа находилась в этом бренном мире, а куда большей – в компании прекрасных принцев и герцогов, мага Мерлинуса, кровожадного Дракулы, несчастной бразильянки Изадоры и прочих персонажей копеечных книжек, кои добывались ею откуда только возможно в немыслимых количествах. Шурочка, научивший когда-то Неонилу читать, вполне мог гордиться результатом!
Парень, водивший вдоль навеса Петину чалую кобылу, захрюкал от смеха. Маша, осторожно обогнув прислонившегося к дверному косяку Петю, размотала шаль, повесила шубу и прошла, отчего-то тревожно прислушиваясь, на свою половину.
В комнатах громко тикали часы и лежали вечные сумерки. Эти комнаты оживали, только когда в них появлялся Шурочка. Стоило ему уйти – и они мгновенно приобретали совершенно нежилой вид. Даже запах появлялся застойный, с привкусом нафталина. Такой же запах, казалось Маше, исходил и от ее собственных платьев, и от одежды мужа. Она думала: все правильно. Мы не люди, мы – просто вещи в этих старых комнатах, где давно никто не живет.
И теперь она подумала так. И усмехнулась этому претенциозному сравнению, вполне достойному Неонилиных ярмарочных книжек. Однако же где Митя? Вот кто бы должен сегодня поехать в поселок. Но – не поехал, разумеется. Да толку-то от него там…
В вязкой тишине раздался вдруг долгий, глубокий звук – сверху, Маша, споткнувшись, вскинула голову. Кто там? Звуки падали один за другим, как тяжелые капли. Она заторопилась вверх по лестнице.
Дмитрий Михайлович сидел в ее гостиной за роялем, низко склонив голову. Играл осторожно, одной рукой, будто разбирая ноты, хотя никаких нот перед ним не было. Маша, невольно сдержав дыхание, остановилась в дверях. Она не могла понять, почему не решается шевельнуться или сказать слово. Ей совсем не было приятно, что муж сидит за ее инструментом! Ее – ох, Господи… Сама-то сколько лет не садилась? А он, оказывается, тоже играть умеет.
Трость неловко стукнула о половицу; Дмитрий Михайлович поднял голову. Бог весть с чего, ей показалось – он не очень-то рад ее видеть. Хотя – что радоваться? И трех часов не прошло, как расстались.
– Что, служба кончилась?
Маша, не отвечая, дошла до кресла, тяжело опустилась в привычную глубину, сунула под локоть думку.
– Ты не говорил, что музицировать учен.
– А, – он усмехнулся; встал, закрывая крышку, – в гимназии чему только не учили… Не в этой жизни.
Он сделал большой шаг от рояля и нарочито бодрым тоном заговорил о делах – явно опережая ее вопрос о не состоявшейся поездке в поселок:
– Так что, понижаем цены? Я тебе гарантирую, все покупатели Веры Михайловой будут наши. Сейчас – самый удобный момент; она проглотит. Эти англичане…
Она прервала:
– Митя, я с тобой как раз об англичанах хотела поговорить.
Так оно и было, – однако ж это обстоятельство не помешало возникнуть тягостному ощущению, будто она ради ерунды уходит от важного. А важное – что? Молча смотреть на него? Снова и снова пытаться ответить самой себе на какие-то вопросы… или хоть задать их внятно? Он улыбался, демонстрируя деловую готовность к серьезному разговору. Высокий, легкий, моложавый – будто отражение в пыльном зеркале: сотрешь пыль и увидишь юношу… Ох, как глупо-то, прости, Господи! Грехи, грехи…
– Давай подумаем, как лучше найти к ним подход.
– Что? – он поморщился, лицо стало такое, будто раскусил горький орех. – Подход к англичанам? Зачем?
Раздражение, как веник, тут же вымело прочь невнятные вопросы и ответы.
– Митя! Что значит зачем? Мне тебе объяснять?
– Можешь не объяснять. И не надеяться на них, Маша! Напрасный труд.
Он широко взмахнул рукой и, развернувшись на каблуках, отошел к окну. Дернул в сторону тяжелую суконную штору, заслоняющую свет.
– Митя, что ты? Гардину сорвешь.
– И очень хорошо. Эти бурые тряпки…
– Бронзовые, – сказала Маша, с легким удивлением слушая собственный голос. Дмитрий Михайлович посмотрел на нее непонимающе, она объяснила:
– Это бронзовый цвет.
– Это цвет грязи, – отчетливо проговорил он, и Маша удивилась еще больше: до нее дошло наконец, что он едва сдерживает злость. Спрашивается, он-то с какой стати?! – Вашей сибирской октябрьской грязи, в которой нам сидеть еще много лет, и боюсь, что на том свете – тоже. А эти англичане, Маша, они сюда явились, чтобы устраивать свои дела, а не твои, – и не за твой ли счет?.. Ведь говорил же я тебе, говорил: уедем! А…
Он внезапно замолчал и отвернулся, как будто устал от произнесения бессмысленных звуков. Маша, глядя ему в спину, подумала: сам – мошенник, вот других и подозреваешь. Этих мыслей следовало устыдиться, но вместо стыда вдруг явилась жалость к себе. Да сколько ж можно! Пусть она виновата. Все сделала не так. И до сих пор все всегда делает не так! Но они-то что ж – они, умники? Мужчины? Почему только ей приходится решать?!
– Ладно, уезжай, – она встала. Митины плечи дрогнули, но он не обернулся и не сказал ничего. Маша продолжала:
– Вези Шурочку в Петербург. Пора. Денег я дам.
– Благодарствуйте, матушка, – оборачиваясь наконец и низко наклоняя голову, сказал Дмитрий Михайлович.
Глава 7
В которой Марья Ивановна вспоминает, как англичане приезжали в городок Егорьевск и строит планы
Англичане приехали в Егорьевск октябрьским вечером, вскоре после того, как утих дождь, моросивший почти три дня без перерыва, и распахнулось небо, обнажив холодный желтый закат. Коляска на высоких рессорах неторопливо катила через жидкую грязь, лошади – замечательная серая в яблоках пара – фыркали, брезгливо переставляя тонкие ноги. И коляска, и лошади – это было замечено всеми! – принадлежали Василию Викентьевичу Полушкину. И на козлах сидел человек Василия Викентьевича – Афоня, горделиво поглядывал по сторонам и, в связи с торжественностью момента, даже не грыз орешки. Коляска остановилась у трактирных ворот, над которыми сияла вот только что, третьего дня обновленная вывеска: “Hotel California”. Хозяин – Илья Самсонович – моментально возник на крыльце, и, повинуясь его стремительным жестам, двое парней подскочили к коляске и потянули на свет Божий здоровенные клетчатые баулы, обхваченные ремнями. Вслед за чем и Афоня неторопливо сполз с козел, а уж после него изволили ступить на землю и англичане. Егорьевцы – все без исключения, даже те, кто был сейчас далеко от «Калифорнии» и никак не мог наблюдать исторического события – затаили дыхание.
Хотя – что уж было в этом событии такого исторического? Видали в Егорьевске иностранцев. С некоторыми так и ели, и пили, и братались, например, с норвежцем Свенссоном. И вообще – с тех пор, как в трех десятках верст от города прошла Транссибирская магистраль, Европа стала как-то существенно ближе, и многие это чувствовали.
Но все-таки… все-таки – было в них, англичанах, нечто эдакое. Не во внешности даже. То есть, и внешность они имели очень даже заметную, по крайней мере двое. Первый – грузный, осанистый, в пышных бакенбардах, глаза из-под нависших бровей глядят, как и положено у начальства, брезгливо и внушительно. Хоть сейчас бери и производи его в генералы! Впрочем, очень возможно, что он и был генерал – там, у себя в Британии. Второй – еще того примечательнее. Высокий рост, могучие плечи, руки – только кочергу в узел вязать. Скажите, восхищенно подумал Илья Самсонович, кланяясь с крыльца, – оказывается, и на их чахлых островах эдакие водятся. Его бы – к нам в Сибирь; да вот же, он и приехал… Лицо сумрачное, и на нем – шрамы, будто от львиных когтей. Да небось от них и есть, тут же решил трактирщик; англичане ж только и знают, что охотиться на львов да носорогов!
Третий с первыми двумя не шел, надо сказать, ни в какое сравнение. Хотя тоже не обижен ростом, но солидности – никакой. С длинной худой физиономии словно стерты все краски, белесые волосы зачесаны назад, и глаза – тоже светлые, как-то слишком уж легкомысленно поблескивающие сквозь круглые стеклышки, которые непонятно каким образом держались на носу, в руке – длиннейший зонтик с острым концом. В дом, вслед за своими товарищами, он не пошел, а остановился посреди двора и начал с любопытством осматриваться. Лиственничные бревна, из которых была сложена конюшня, привели его в восторг:
– Siberian power! – он взялся мерить диаметр бревна ручкой зонтика, а потом сравнивать полученный результат с собственной талией. Трактирная собачонка Шушка выскочила из кустов, заискивающе помахала хвостом и тут же получила от англичанина кусок печенья. Увидев такое дело, осмелели и дети, из-за забора жадно глазевшие на приезжих. Печенья хватило всем (оно было на удивление пресное и не сладкое), – англичанин, смеясь, доставал его из многочисленных карманов, но ничего большего они не дождались.
– That’s all! – объявил гость, и, мгновенно потеряв интерес к детям, бревнам и собакам, взбежал по ступеням крыльца.
– Это что ж за птицы такие, а? – почтительно осведомился конюх Авдей у Афони, обтирая полушкинских лошадей.
– Известно, что за птицы, – тот пожал плечами, прикидывая: доставать ли уже орешки или, ради солидности, потерпеть еще, – лорды.
– Чего?.. – Авдей нахмурился. – Ты, паря, не крути. Мы тоже кой-чего знаем. Не просто ведь так приехали, а?
– Известно, что не просто, – Афоня, решившись, выгреб таки из кармана горсть орешков, – а про что знаешь, молчи. Дело не наше.
Конюх покладисто закивал головой. Не наше, так не наше. А только Егорьевск – городок маленький, так и так все наружу выплывет и всех коснется.
Марья Ивановна Опалинская узнала о приезде англичан от Неонилы. Та, совершенно ошарашенная, потерявшая от восторга способность связно изъясняться, только всплескивала руками, отрывистыми жестами и гримасами изображала шрамы, очки и длину зонтика. Маша так и не поняла, кто именно из приезжих – и, главное, почему? – произвел на нее такое впечатление. Но – заинтересовалась. Англичане все ж таки, с того самого туманного острова, откуда были родом эльфы и персонажи ее любимого романа «Джен Эйр». К тому же – лорды. Вернее, лорд был только один: Александер Лири, третий сын герцога Уэстонского (звучит-то как, люди добрые!) – тот самый, с длинным бесцветным лицом и легкомысленным взором, одетый точь-в-точь как отважные покорители Африки на картинках в журнале «Нива», только что без пробкового шлема.
Впрочем, Маша его в таком облачении не видела, судила только по Неонилиному невнятному описанию. К ней с визитом он явился в безупречной серой паре. Под цвет полушкинских лошадей, тотчас подумала Маша, углядевшая в окно, в каком экипаже он прибыл. Это был совершенно классический британский аристократ – именно такими она их себе и представляла. На его фоне вовсе потерялся обремененный бакенбардами «генерал» (на самом деле не генерал, а, как ей уже было известно, мистер Барнеби, знаток юриспруденции – в каком-то сложном специфически английском звании, а попросту говоря, стряпчий). То есть, потерялся только в глазах Марьи Ивановны, Петя, например, уверял потом, что только один этот Барнеби и вел себя по-аристократически: глядел вокруг будто с возвышения и, когда ему приходилось до чего-нибудь дотрагиваться, принимал вид страдающей кротости, с каким, должно быть, вставала со своей горошины андерсеновская принцесса.
Лорд же Александер, кажется, и не подозревал о том, что являет собой в диких дебрях цвет британского пэрства. Весело блестя круглыми стеклами очков, подлетел к хозяйке, поцеловал руку – куда изящнее, чем Митя в лучшие времена! – и выдал по-английски длинную восхищенную тираду.
– Old chap, translate, for safe of my soul! – обернулся к третьему гостю. Тот сообщил, не скрывая усмешки, впрочем, вполне доброжелательной:
– Милорд говорит, что Сибирь повергает его в шок, и что ему нравится пребывать в шоке.
Голос у этого третьего был низкий, с приятной мягкой растяжкой, и говорил он по-русски очень правильно. В Маше тут же проснулось любопытство, она пригляделась к нему внимательнее. И сразу решила, что на сей раз Неонила права: это – древний воин. Варвар! Лохматая шкура на плечах, шлем с рогами и на лице – следы львиных когтей! То-то вся прислуга от него едва не шарахается. Вот кому бы в тайгу, да медведя поднять на рогатину. Ну, и – почему нет? Их же развлекать как-то надо…
Как развлекать и вообще – как встречать таких редкостных гостей, она не очень хорошо себе представляла. Особенности европейского этикета были ей известны исключительно из романов, у Пети же и таких знаний не имелось. Оставалось надеяться на Митю, а главное – на Шурочку, который, во-первых, чувствовал себя в любой компании как рыба в воде, а во-вторых, единственный в семье кое-как разговаривал по-английски.
– Oh, you and I share the same name! – заявил он милорду, демонстрируя хоть и далекое от лондонского, но все же вполне внятное произношение. Тот радостно воскликнул:
– Excellent! – и предложил поднять за столь уникальное совпадение имен тост. Машенька, глядя, как наполняют бокалы, понадеялась про себя, что с вином она впросак не попадет: Илья Самсонович головой ручался, ему в таких вещах доверять можно. Еще раз окинула стол быстрым придирчивым взглядом. Кажется, все на нем… Никаких европейских худосочных фуршетов она делать не стала – сохрани, Господь! – раз приехали в Сибирь, так по-сибирски и угощаем. Тревогу вызывало не то, что на столе, а то, что за столом, именно Петя. Пока он был трезв, но на провозглашенный тост отреагировал со слишком явным энтузиазмом. Осушив бокал, глянул на него снисходительно: да, хороши Рейн с Луарой, но лучше бы беленькой… и тут же взялся развивать мимолетную Машину мысль об охоте. Мол, ежели собраться в ночь, то как раз попадем на последнюю тягу. И будет вам, дорогие сэры, настоящая охота – не лис гончими травить! Лорд Александер воодушевился и, кажется, готов был ехать с Петей немедленно; однако, поглядев на спутников, объявил со вздохом, что теперь, увы – дела! А вот по возвращении в Егорьевск через недолгое время – если, разумеется, мистер Гордеев подтвердит свое любезное приглашение…
Хорошо, хоть Каденьки нет, подумала Маша, в который раз представляя, как бы тетка вцепилась в англичан на предмет потогонных методов эксплуатации, грабежа африканских колоний… чего там еще? Нет, это очень удачно, что она в Екатеринбурге. Из Златовратских присутствовал один Левонтий Макарович; Машу беспокоило, как бы он не начал донимать англичан Спартаком и Цинциннатом, – но покамест он сидел тихо и в черном, наглухо застегнутом сюртуке смотрелся весьма внушительно. Аглая же… вот против Аглаи Маша как раз ничего не имела, и та была, конечно, звана, да один Бог ведает, почему не явилась.
В общем, Петя представлял главную опасность. Да еще – его детки: одолеет их любопытство, и придут… и не запретишь ведь! Она все поглядывала на дверь. И, чуть что – вставала, вроде бы распорядиться насчет перемен. Страхи пока оставались напрасными, молодые Гордеевы (надо же: они – Гордеевы! Они, а не Шурочка. Нонсенс…) как ушли с утра из дома, так до сих пор и не возвращались.
– Лорд Александер приятно удивлен тем, что в сибирских гимназиях, оказывается, преподают английский, – перевел «древний варвар» очередную тираду милорда. Кстати, фамилия у него была и для варвара, и для англичанина не сказать, чтоб обычная: Сазонофф. И сам он тоже… Пожалуй, если и варвар, то не простой. Себе на уме. И – опасный, кажется. Впрочем, не для нее. Им-то что делить.
– Ничего такого у нас не преподают, – пожал плечами Шурочка, – в Егорьевске и гимназии-то нет. А английский… как без него? Ведь будущее, всем понятно – за Россией и Североамериканскими Штатами! И… за Британским королевством, – последнее было добавлено исключительно ради гостей; Дмитрий Михайлович отвернулся к окну, индифферентно улыбаясь.
– Учебник я, элементарно, раздобыл у госпожи Михайловой… – продолжал меж тем Шурочка; и Маша, вздрогнув, невольно бросила на сына негодующий взгляд: об этой-то зачем? О змее?! Еще расскажи, как она языками владеет! А тут и Левонтий Макарович очнется, станет расхваливать!
Очнулся, к счастью, не Златовратский, а знаток юриспруденции. Глядя на Шурочку издалека и сверху, важно задал вопрос, который м-р Сазонофф терпеливо перевел:
– Какое же будущее мыслит для себя наш юный друг?
Маша облегченно перевела дыхание. Шурочка, и впрямь настроившийся поговорить об уникальной землячке, покладисто перешел на другую тему:
– Маменька хочет, чтоб я в Петербург ехал, в Университет. Я и не против. А вот правда ли, что на Лондонской бирже за фунт стерлингов дают рубль с полтиною? Это, по-моему, никуда не годится!
М-р Барнеби сделал круглые глаза, а милорд расхохотался.
– Данные устарели, – сообщил м-р Барнеби.
И заговорил с Машенькой об Университете: мол, это замечательно, да что же потом? В Сибирь вернуться? Стать первым в деревне… или вторым в Риме? Маша молча кивала, спрашивая себя: верно ли, что мистер Сазонофф смотрит на нее как-то эдак? Или чудится? С чего б ему смотреть?..
– Вы себе не представляете, – заметил, все с той же непонятной и неприятной Маше улыбкой, Дмитрий Михайлович, – как много людей этим вопросом вовсе не задается.
– Отчего так? – взгляд мистера Сазонофф скользнул по лицу Опалинского и вернулся к Маше. Нет: чудится, подумала она. Это потому, что глаза у него – как у рыси: пристальные и пустые. И совершенно невозможно разобрать, какого они цвета.
– От бессмысленности-с. Спросите, например, почтенного Левонтия Макаровича, одного из умнейших, уверяю вас, представителей рода человеческого: вставала ль перед ним хоть раз подобная альтернатива?
Дмитрий Михайлович улыбался, играя серебряным ножиком. Маша взглянула на него, хотела сказать: что за чушь несешь, – но тут ей стало жалко мужа и неловко за него, и она промолчала.
– Начнем с того, что Сибирь – не деревня, – заявил Левонтий Макарович, вызвав явное удивление не только у Опалинского, но и у англичанина. Кажется, они оба не ожидали, что тот вмешается, – стать здесь первым… это, пожалуй, не хуже британской короны. Только едва ли кому по зубам, хоть своему, хоть пришлому.
Лорд Александер, которому м-р Сазонофф, в строгом соответствии с правилами хорошего тона, успевал переводить все реплики, с интересом посмотрел на Левонтия Макаровича и сообщил, что ни в коем случае не имеет подобных намерений.
– А каковы ж ваши намерения? – полюбопытствовал простодушный Петр Иванович. Милорд живо обернулся к нему и, не обращая внимания на недовольное шипенье м-ра Барнеби, объяснил:
– Разумеется, нам хотелось бы принять участие в освоении вашего Эльдорадо. Сибирь необъятна. Чтобы выпросить у нее тысячную долю того, что она может дать, вовсе не обязательно перебегать друг другу дорогу! Напротив, сотрудничество – единственное, что поможет нам не сгинуть в ваших чащобах… как они называются – тайга? В вашей тайге!
– Интересно, – это Дмитрий Михайлович, – какое же это будет сотрудничество? Может быть, акционерное общество…
– Отчего нет? Есть много способов… Но подождите: мы должны увидеть все, что намечено, и тогда уж мы непременно будем делать общее дело…
Голос милорда, то медлительный, запинающийся на согласных, а то вдруг чирикающий по-птичьи, странным образом переплетался с мягким хрипловатым басом мистера Сазонофф; так, что Маша уже не могла понять: чьи это слова? Чьи мысли? Митя нараспев повторил:
– Интере-есно… – и засмеялся.
Интересно! – думала Маша ночами, уже после того, как англичане уехали. Общее дело… почему нет? Эти господа хотят участвовать в освоении Эльдорадо. У них есть деньги. А у нее… у нее – прииск, вовсе не до конца исчерпанный, но умирающий без нового оборудования, которое она купить не в состоянии. Еще десять лет назад инженер Измайлов, которого она до сих пор вспоминала с тоской (самый дельный был человек из тех, что у нее работали! Так вот ведь – выжили, как будто все нарочно против нее…), составил план модернизации с точным подсчетом расходов и прибылей. Прибыли – таковы, что хоть локти грызи от злости! Потому что не увидеть их никогда: расходы-то неподъемны. Да, конечно: можно взять в банке кредит под залог капитала, рискнувши всем, что имеешь. Если б не Шурочка, она бы так и сделала. Но одна мысль о том, что сын в любой день может серьезно разболеться, и тогда до прииска ли будет – дай Бог сил и денег доехать до теплого моря, до целебных вод! – одна мысль об этом гасила все ее авантюристические планы.
Короче, годы шли, а на прииске если что и менялось, то слегка. Способы добычи оставались старые. Машины потихоньку изнашивались. Маша уже перестала дергать душу, думая об этом. Усердно занималась магазинами, подрядами, лесоторговлей. Иногда думала: вот, пришла к тому же, с чего отец начинал. Каково ему с неба-то глядеть? Но эти мысли гнала. Деньги шли хоть и небольшие, но стабильные. Шурочке хватит.
Конечно… не для такой жизни, какой она бы для него хотела! Разве ему в Егорьевске место? В Петербург, в Европу! Она представляла его там – в бальной зале, в слепящих бликах множества ламп, отражающихся в огромных окнах и зеркале паркета. Рядом почему-то всегда оказывалась Софи Домогатская, глядящая на Шурочку с недоверчивым восхищением: откуда такой? Маша и сама не раз задавала себе этот вопрос, любуясь сыном. Откуда такой? Легкий, тонкокостный, пышноволосый – как свечной огонек. Ее ли сын?.. Она закрывала глаза и вспоминала Митю – тогда, восемнадцать лет назад. Похож… Но – нет, Митя был совсем другим. Митя… Серж… Тут ее начинала мучить совесть, и она спрашивала себя: хорошо, а поступи она тогда правильно – что бы с ними было? Уговори Митю – Сержа! – покаяться, принять кару. Отдай все деньги, чтоб вернуть обманутым. Последуй за ним на каторгу, на поселение – на манер княгини Трубецкой. И что? Не гляделся бы он теперь таким пыльным, как будто в нем душа высохла и осыпалась? А Шурочка?..
Да никакого Шурочки тогда бы и не было!
Дойдя в своих рассуждениях до этого момента, Маша вздыхала облегченно и успокаивалась. Ненадолго, конечно. Сознание того, что Шурочка никогда не покажется в петербургской бальной зале восхищенным глазам Софи Домогатской, сидело в ней постоянно ноющей занозой.
И вот!..
Думать-то она думала, но решилась не сразу. Зато когда решилась, тут же почувствовала жгучую жажду действий. Ах, как же она их упустила, этих англичан! Почему не поговорила тогда же, в тот вечер… ведь они-то ее слов ждали! И милорд, и особенно Сазонофф, с этими его желтыми глазами, насквозь проницающими (теперь его глаза, цвета которых она так и не разглядела, вспоминались ей именно желтыми). Она едва не впала в отчаянье. Хотела даже посылать человека на Алтай с письмом – да впору бы и самой ехать! – но заставила себя остыть, успокоиться, все как следует продумать и взвесить. Это даже хорошо, что их тут нет – иначе наломала бы дров. Англичане – народ ушлый, моментально бы поняли, как сильно она в них нуждается, и не успела б она и глазом моргнуть – осталась бы и без прииска, и без денег. Нет. Она должна обратиться к ним как равная к равным. Предложить такое, за что они точно ухватятся.
Прииск в аренду – хорошо, да мало. Болота за озером, где заимка! (Как всегда, едва вспомнила о заимке, у нее коротко сжалось сердце, дернуло болью – и отпустило. Не до того…) Когда-то это были гордеевские земли. Потом пришлось продать. А ведь как раз там Коська Хорек в свое время шнырял, разнюхивал. На этом сыграть можно… если б найти деньги да выкупить… В одиночку – вряд ли выйдет. Да и страшно. Нужна опора.
Об Иване Притыкове она подумала в первую очередь. Он вел дела как раз на Алтае, – почему-то это казалось ей верным знаком того, что англичане должны его заинтересовать.
Нет. Не заинтересовали. И даже то, что она, сестра – которой он кой чем, да обязан! – его просит, не произвело на него впечатления. Митя тоже отнесся к ее планам, мягко говоря, – странно. Ну, и ладно, и Господь им судья. Она плакать не станет. У нее есть Вася Полушкин.
Уж в ком-ком, а в Васе Полушкине Маша не сомневалась. С раннего детства это был верный, надежный, спокойный друг. Не из самых близких, но – всегда под рукой, как привычная трость. Когда-то она глядела на него снисходительно, потом, с годами, поняла ему цену – научилась уважать. И до сих пор жалела. Очень уж он был неприкаянный; хотя кто не знал его близко, ни за что б не поверил. Глупенькая Любочка Златовратская улетела в Петербург… такой судьбы лишилась! Иногда Маша ловила себя на том, что завидует этой не случившейся судьбе.
Она встретилась с Васей в «Калифорнии». Понятно, приличной женщине не след по трактирам расхаживать, но Илья Самсонович не чужой человек – родственник, и у нее нашлось к нему дело: поговорить о племянниках. Начала с пустого, а потом так увлеклась разговором, что едва не прозевала Васю. Тот вошел в комнату, именуемую в «Калифорнии» господской обеденной залой, и, встав на пороге, огляделся: ясно, искал себе компанию, о делах за обедом потолковать. И тут же нашел бы: человек пять вполне для того годных сидело в разных концах залы, устроив локти на кружевных скатертях. Машенька, умолкнув на полуслове, торопливо кивнула свояку и двинулась к Васе.
– Василий Викентьевич, вот удача. Я спросить хотела: карп амурский – что за рыба? Стоит ли в садок запускать? Говорят, он всю траву разом съедает…
Вопрос был задан правильно. Вася тотчас зажегся и с полчаса, наверно, рассказывал ей про карпов: какова с этой рыбы польза и почему ее не только стоит, но и непременно следует запускать в садок. Когда подали чай, Машенька испугалась, что не успеет поговорить о главном, и перебила:
– У меня, Вася, к вам еще один вопрос.
– Эк планов-то, – он засмеялся. – Не соболей ли разводить? Знаете, мне это и самому в голову приходило.
– Мысль хорошая. Хотите – вместе займемся?
– Что, на паях?
– Почему нет? Мы с вами, Вася, всю жизнь друг друга знаем, а дела вместе почему-то не вели. Что, или достойной меня не считаете? Женщина, мол?
– Ну, вы, женщины, бываете такие, что нам… – он отчего-то замолчал. И в открытом взгляде вдруг мелькнула – или Маше показалось? – тревога.
– Так вы и впрямь о соболях?
– Нет, дорогой Василий Викентьевич, не о соболях. О болоте за Черным озером, где Атаманова заимка. Хочу его выкупить у казны.
Не показалось! Точно – тревога. С чего бы это?
– На что вам? Там, кроме комаров, сроду никакого зверья не водилось.
– Мне зверье и не нужно. Выкуплю, а потом в аренду сдам.
– В аренду? Кому?
– Да хоть англичанам.
– Так, – Вася согласно кивнул. Отщипнув хлебный мякиш, начал катать его по столу. Маша невольно следила за его длинными сильными пальцами – и чувствовала, как растет в ней тягостное удивление.
Он не хочет! Точно как Ваня Притыков. Не станет ей помогать. То есть… как это не станет?!
– Вася, я одна не справлюсь. Я ведь и впрямь – женщина. Мне совет нужен.
– Совет дам, – он поднял голову и поглядел на нее прямо, чуть исподлобья. И опять ей почудилось в его взгляде какое-то странное выражение… виноватое, что ли?
– Ну… говорите. Каков ваш совет?
– Совет мой таков: не связывайтесь с англичанами.
Она хоть и знала уже, что он это скажет, – вздрогнула, как от удара.
– Почему ж так?
– Не под силу они вам, Марья Ивановна. Хорошо, если просто откажутся. А то сожрут.
– Сожрут? Так ведь я оттого и предлагаю… – она едва не сказала ему «ты», как когда-то в детстве, но язык не повернулся. – Вас, небось, не сожрут. А дело выгодное может сложиться.
– Нет, Марья Ивановна… Машенька – не может. И я не могу.
Она хотела снова спросить: отчего ж так? – но промолчала.
Это его «не могу» было таким твердым и окончательным, что сразу стало ясно: нет смысла уговаривать. Да он по-другому и не умел. Да – да, нет – нет, остальное – от лукавого.
Где ж тот лукавый, беззвучно прошептала Маша, отчаянно давя в себе злость. Злость не поддавалась, разбухала стремительно, как перепревшее тесто. Дышать уж было совсем нечем.
Однако ж она себя смирила – впервой ли! – и не встала из-за стола даже после того, как он ушел, неловко попрощавшись. Неторопливо, глядя перед собою в стену, пила чай. Илья Самсонович подошел, задумчиво крутя часовую цепочку, свисавшую из жилетного кармана. Она, коротко покосившись на него, хотела сказать: отстань, Илья, не до племянников сейчас, – но прикусила язык, вдруг разглядев в его смородинно-черных глазах: знает!
Неужто подслушивал?..
Илья вздохнул, заметно морщась: не хотел первым затевать разговор, но и отступать был не намерен.
– Я тоже полагаю, Марья Ивановна: она его уж обработала.
– Она?..
– Кто ж еще?
– А вам что за интерес?
– Интерес не праздный.
– Ох, Илья Самсонович… – Маша, тяжело опершись о край столешницы, поднялась. Удивительное дело: злость, не сделавшись меньше, будто расступилась, перестала душить.
– Сделайте милость, проводите меня до саней.
Во дворе смеркалось, и занялась метель: зима, вытолкав нечаянную весну, спешила исправить все, что та натворила. Маша глубоко вдохнула колкий снежный воздух.
– Говорите, Илья, здесь и теперь, если есть что сказать.
Илья Самсонович поежился под накинутой шубой.
– Вот чего терпеть не могу, так это зимы сибирской… Сказать – конечно, есть что, а то б и не начинал. Вам угодно коротко? Тогда о племянниках не буду…В общем, если коротко, деньги у меня есть.
– Ох, Илья Самсонович!.. – повторила Машенька, чувствуя – хотя уже и ожидала чего-то подобного, – как стремительно растет удивление.
– А что? Всю жизнь трактирный гешефт ловить? Скучно! И опять же: своих-то детей у меня не будет, а им, – он, вздохнув, пробормотал что-то на идиш, – им все это не пригодится, нужен живой капитал, да боюсь, что немалый. Разве только Аннушка… Э, да я таки завел о племянниках!
– Мы с вами о них поговорим, – Маша тряхнула головой, ей, в отличие от Ильи Самсоновича, было жарко – вернее, стало жарко, пока она его слушала, – снежинки, падая на щеки, таяли мгновенно. – Все обсудим подробнейшим образом. Вот вы сестру навестить придете, и… Только, вы ж понимаете: если делать, так надо срочно, сейчас! Я ж ему все выложила! Ох, убить меня за это мало, – она стукнула кулаком по обледенелым перилам.
– Едва ль он ей скажет, – заметил Илья, и Маша сразу поняла, что он прав. – Но что срочно, это да. Нынче к вам и подъеду – потихоньку, – все обговорим… Но вы уж меня простите, Марья Ивановна: когда эти-то, джентльмены, приедут – мы с вами для представительства не подойдем. Ну, вы понимаете? Человек нужен… Может – Дмитрий Михайлович?
– Он еще меньше подойдет, – Маша резко поморщилась. И вдруг – улыбнулась, вспомнив, как Левонтий Макарович защищал перед англичанами честь Сибири. И тихо проговорила, удивляясь неожиданной идее:
– Думаю, человек найдется.
Глава 8
В которой Софи получает предупреждение об опасности и узнает об исчезновении Ирен
– Софья Павловна, здравствуйте!.. Вы меня еще помните, Софи? Я что, так сильно изменилась?
Быстро войдя, гостья оглядела обстановку комнаты жадным, внимательным взглядом, и даже коротко вздохнула от явного разочарования. Никакой оригинальности, стиля. Ничего. Несколько раскрытых книг на столе, кресле, бюро. Но названий прочесть нельзя. Взгляду решительно не за что зацепиться. Кроме самой хозяйки, конечно. Против столичного регулярного обыкновения, где каждый – от князя до фабричного рабочего – был вписан в свою среду, как картина в рамку, а сам Город с той же строгой, слегка высокомерной подчиненностью выстраивался вдоль продольных тускловатых зеркал дельты, Софи являла собой совершенный контраст с окружающей ее обстановкой. Казалось, что с вампирской обстоятельностью она втянула в себя всю ее жизнь, и теперь существует среди случайно выстроенного, обезличенного интерьера с удвоенной скоростью и энергией.
– Любочка! Конечно! Да, изменилась! – Софи окинула гостью взглядом настолько цепким, что он, как крючки повилики, казалось, цеплялся за каждую складку платья и души женщины. Любочка невольно поежилась. – В вас что-то такое новое появилось, как мы не виделись… Не знаю. Как будто вы шагнули куда-то… Не знаю. Да и не хочу знать, если честно! Каждый в душе углы имеет, куда другим не лезть, и за то Богу слава. А у кого душа круглая, без углов, тех дураками зовут, и сказки про них слагают… Вы ж не без дела ко мне, к нам? Сейчас чаю велю и расскажете… Я одну минуту позволю, вот эту бумагу надо сейчас на фабрику с человеком отослать, вы его видали, должно быть, он в прихожей или на кухне ждет… Сейчас…
Софи почти мгновенно переместилась от окна к стоячему бюро («У нее только такое и может быть, – подумала Любочка. – И обязательно в гостиной, где неуместно»), перелистала что-то, быстро выписала в столбик несколько цифр, подняла взгляд к потолку, подумала мгновение, чуть шевеля темными губами («считает, что ли?»), коротко написала что-то внизу, расписалась и буквально выбежала в коридор, на ходу подмигнув Любочке и свободной рукой прихватив лежащий на краешке бюро кусок черного хлеба.
«Не удивлюсь совершенно, если это ее завтрак,» – сказала себе Любочка и попыталась сообразить, как ей следует поступить в сложившихся обстоятельствах, чтобы все было в соответствии с правилами. Она так много лет готовилась к светской петербургской жизни, что правила вспоминались и даже читались легко, так, словно были крупными буквами написаны с внутренней стороны черепа.
Уже все подсчитав, подстроив реплики, и скорчив соответствующую мину (Любочка отчетливо понимала, что Софи все это совершенно безразлично, и делала это для себя, так сказать, для тренировки), она внезапно как-то впервые в жизни подумала о том, что Софи Домогатская может иметь любые манеры и делать вообще что угодно, но при этом все равно останется той же самой Софи, а она, Любочка Златовратская, сколько бы ни выламывалась… На какое-то короткое мгновение Любовь Левонтьевна вдруг (вполне неожиданно для себя) глубоко и искренне разделила социал-демократические и даже коммунистические взгляды мужа своей сестры Нади, и яростно возненавидела весь этот «свет» и всех этих аристократов, но тут же смирила себя. Так… Любочка всегда была отнюдь не бессильна в логике. Стало быть, если она их ненавидит, и допустить, что Ипполит Коронин и его сподвижники правы, и поднявшиеся в гневе темные народные массы должны закономерно их уничтожить, и построить жизнь, в которой все будут равны (и одинаковы, что ли? – вот этого Любочка просто умом не могла понять), то на что же тогда потрачена ее собственная жизнь?! Ведь она-то всегда именно к этому и стремилась: занять место среди них, добиться, чтобы они ее приняли, как… как равную? Что ж, в этом, пожалуй, есть даже какая-то ирония… И не стремятся ли к этому же самому не только она и Николаша Полушкин, но и «темные народные массы»? С кем можно поделиться подобной мыслью? Пожалуй, с той же Софи, но тогда ей слишком много пришлось бы объяснять про себя… Это лишнее…
Софи вернулась в комнату, пробежалась вокруг стола и присела на стул. Почти сразу же тугощекая горничная подала чай.
– Может быть, вы хотите вина? – спросила Софи.
– Нет, спасибо, – чуть удивилась Любочка. – А почему вы спросили?
– В вас напряженность с порога чувствуется. Многие женщины в нашем возрасте пользуются. Я и подумала… – прямо и равнодушно объяснила Софи.
Любочка обиделась и на напоминание о возрасте (она была на два года моложе Софи) и на равнодушие. Софи тут же уловила и то и другое, улыбнулась и упрямо мотнула подбородком: «пустое, мол, да разве вы меня не знаете? Я такая. Прошу любить, а если не выйдет, так хоть жаловать, что ли…»
Черт знает что отдала бы Любочка вот за эту легкость в обращении с жизнью, которая в ее глазах была сродни легкости ярмарочного жонглера, шутя подбрасывающего в воздух одновременно четыре факела. И ни один из них никогда не гас и не падал на землю…
– Вы же мне сказать что-то пришли, Любочка, так? – подбодрила между тем гостью Софи. – Булочки с мармеладом берите, их из кондитерской внизу приносят, хороши… Простите меня, я ведь этих разговоров пустых про погоду и виды на урожай не выношу, и с детства не любила. Да и вы, я помню, Каденькой не так воспитаны. Потому только и позволяю себе… И я, поверьте, вся внимание и слушаю вас, как знаю, что пустого у вас ко мне быть не может. Надя, Ипполит, Каденька, Аглая – в порядке?
– Да, – кивнула Любочка, аккуратно отпивая из чашки. – В Егорьевске, как я судить могу, все по-прежнему. Я же о здешнем говорить хочу. Вы меня когда-то здесь в Петербурге приветили, помогли Николашу отыскать и прочее… Я в долгу быть не люблю…
– Что за глупости, Любочка? – недовольно нахмурилась Софи. Видно было, что оборот разговора искренне не нравится ей.
– Оставьте, – упрямо склонила голову гостья. – Я так чувствую. Кто возразить сможет? Итак: Николаша вместе с Ефимом Шталь и, может, еще с кем, про кого я не знаю, станут пытаться вам навредить как-то. Предупрежден, – значит вооружен. Я хотела, чтоб вы знали…
– Николаша… Ефим… Но с чего же? Столько лет прошло! Даже женщины столько не помнят, а уж мужчины… Ерунда какая-то!
– И вовсе не ерунда! – горячо воскликнула Любочка. – Вы не поняли, а я – объяснить не сумела. Тут мужские интересы замешаны, а не женское… Золото, концессии, деньги. Николаша хочет Ефима чем-нито заинтересовать, а уж потом…
– А… И что же им от меня теперь надо-то? Все равно разобрать не могу…
– Да я толком и сама не знаю, – Любочка с сожалением пожала плечами, и тут же снова оживилась. – А вот скажите, Софи, про Ефима я вроде бы знаю, если из вашего романа судить. А чем же вы Николаше-то досадили? Вы же вроде сначала дружились с ним. Дело давнее, но мне знать охота…
– Вправду охота? – Софи испытующе взглянула на гостью.
Любочка энергично кивнула.
– Хорошо, скажу, только не знаю, что вы из нынешних своих обстоятельств с этим делать станете. Я, как вы помните, жила в Егорьевске у вас дома из милости, на птичьих правах и совершенно без средств. Покровителей у меня не было. Пользуясь тем, Николаша предложил мне стать его любовницей и получать соответствующее содержание, за что и получил натурально по физиономии. Вот и все, что припомнить могу.
– Вот, значит, ка-ак… – протянула Любочка. – Но он же тогда на Машеньке собирался жениться…
– Так в его глазах одно другому и не мешало. Замуж он меня не звал. Я ведь для всех вас была девочка – неизвестно кто, и неизвестно, откуда взялась…
– Вот, значит, как, – механическим несколько, неживым голосом повторила женщина. Софи взглянула на нее с тревогой. – Значит, он уж тогда – одним жениться, а другим…
– Что, Николаша теперь жениться собрался? Не на вас? – Софи всегда соображала достаточно быстро и старалась в любом разговоре сразу перейти к выводам.
– Да нет, нет! – поспешно отмахнулась Любочка. – Он нынче совсем другими делами занят. Золото хочет у нас в Сибири добывать.
– Николаша? Золото? – удивилась Софи. – Это каким же макаром? Я от вас же слыхала, что средств у него особых не водится, а на золотодобычу, как я понимаю, большие деньги вложить нужно.
– Вот он из того и крутится, – подтвердила Любочка и, подумав, добавила невнятно, но вполне искренне. – В общем, вы не волнуйтесь особенно… Я, Софья Павловна, зная Николашу доподлинно, думаю, что ничего страшного и даже крупного из всего этого не выйдет, пустое все… Но лучше знать все-таки, и коли вы сторожиться станете, если что, так тогда и наверняка…
– Конечно, конечно, Любочка, – Софи все еще задумчиво качнула головой. – Спасибо тебе… Сторожиться? – она недоуменно подняла бровь. – Как это? Собаку, что ли, завести?
Любочка брезгливо поморщилась. Софи уловила гримасу, улыбнулась.
– Псов, что ли, не любишь?
– Да нет, – Любочка потрясла в воздухе небольшой, но широковатой в запястье кистью. – Псы разные бывают. Вот как у Веры вашей были или Баньши у инженера Печиноги, это – да, это – звери, тех уважаю. А вот шушеру всякую комнатную терпеть не могу. Левретки, мопсы, болонки… Трясутся, сопят, скулят, чихают… Гадость!
– Ну… – видно было, что Софи никогда не задумывалась над этим вопросом. – Люди развлекаются, преданную душу хотят иметь, женщины в основном… Что ж плохого? Не станешь же в городской спальне волкодава держать!
Любочка упрямо помотала головой, сжав красивые губы, и Софи сочла за лучшее прикрыть собачью тему.
– А что ж у вас-то с Николашей? Как видится?
– Да никак! – Любочка вздохнула и сплела пальцы в замок. – Суетится, пишет, интригует. Тысяча дел. Я – тысяча первое получаюсь. И поскольку ни титула, ни денег у меня нет и не предвидится, то перспективы мои в этом вопросе весьма печальны.
Удивительно, но лицо Любочки при этом крайне пессимистическом высказывании осталось бесстрастным совершенно. Много лет зная ее природную истеричность, Софи взглянула на гостью внимательно.
– А как вам-то, Любочка? Может, иного… иное дело нашли?
– Может быть, может быть… – Любочка покачала головой и улыбнулась бегучей бледной улыбкой, похожей на промелькнувшего по краю поля зрения горностая. – Сколько ж можно все дурой сидеть и другим в рот заглядывать? До старости? Так недолго и осталось… Вот вы, Софи… Никогда никому не поддавались, все по своей мерке мерили и резали, где хотели. И правильно делали. Зато кругом все вашими объедками сыты…
– Что ты говоришь, Любочка?! – пораженно вскинула брови Софи.
– А как же? – гостья открыто и приветливо улыбнулась, приглашая и хозяйку к улыбке. – Судите сами. Сестра вместо вас за старика пошла. Машеньке Сержа с барского плеча кинули. Забирай, мол, нам больше не надо… Мне – Николашу. И, заметьте, как раз на тех основаниях, на которых от вас оплеуху получил. Ефим Шталь… на ком он там женился, в конце концов?
– На Мари Оршанской, – автоматически ответила Софи.
– Вот! – искренне обрадовалась Любочка. – Мари Оршанская, значит… Михаил Туманов…
– Михаил Туманов не достался никому… – металлически звенящим голосом сказала Софи.
– Да, – тут же согласилась Любочка. – Это – да. Такое просто и не может надолго быть. Как пожар. Но вам ведь и с Петром Николаевичем неплохо живется? Так? – она попыталась заглянуть в лицо Софи, но та уже отвернулась к окну. Не оборачиваясь, ответила.
– Совершенно верно, Любочка. Мне с Петей вовсе неплохо. А тебе… Пусть у тебя все будет хорошо… Матери и сестрам писать будешь, привет передай.
Любочка поняла, что ее фактически выставляют за дверь. Но не обиделась совершенно. Ведь она увидела, сделала и сказала именно то, что хотела. И картинка в результате нарисовалась ничуть не хуже, чем получаются у самой Софи.
Сердечно распрощавшись с хозяйкой, клюнув ее в щеку колючим, женским, черт знает что означающим поцелуем, Любочка спустилась по широкой лестнице и вышла на улицу.
Пожилой извозчик, согнувшись на козлах, покашливал и шлепал рукавицами. Каурая лошадка поводила заиндевевшими ноздрями. Наглый, веселый воробей (зиму, считай, уже пережили!) расклевывал теплый навозный катышек едва ли не под самым копытом.
«Может быть, мне тоже попробовать романы писать?» – думала Любочка, усаживаясь на извозчика, пряча руки в меховую муфту и сама чувствуя на своих губах морозную, ядовитую улыбку.
Пучочек мышиных волос, скрученных на затылке, казался не больше крупного грецкого ореха.
«Отчего не подстрижется по моде или уж шиньон не носит?» – подумала Софи, разглядывая Лидию, малознакомую ей компаньонку младшей сестры Ирен и уж догадываясь об очередных, и, видимо, не мелких неприятностях.
После окончания Бестужевских курсов Ирен не вернулась в Гостицы и осталась жить в Петербурге, где вместе с сокурсницей Лидией Безруковой организовала начальную школу для разночинских девочек. Модест Алексеевич помог средствами вначале, но через два года Ирен уж вернула долг (что Модеста Алексеевича немало обидело, так как Ирен, как и младших мальчиков, он всегда рассматривал как собственную дочь. Софи пришлось тогда утешать старика, объясняя ему, что бестужевки всегда отличались странноватым на некоторый взгляд этическим кодексом, и судить их поступки по привычным, старо-усадебным меркам не стоит, чтобы не расстраивать собственных нервов).
Для школы Ирен и Лидия сняли небольшую трехкомнатную квартирку на углу Фонтанки и Вознесенского проспекта. В одной из комнат жили сами. В другой, для старших учениц, стоял длинный стол, стулья, глобус и классная доска. В третьей, для младших, располагались четыре удлиненные парты, на 6 человек каждая, столик для учительницы, классная доска с привешенной к ней коробочкой для мела. Больше оборудования не было. Все потребные для обучения пособия девушки изготовляли своими руками.
В младшем классе преподавала Лидия, в старшем – Ирен. Для обучения закону Божьему два раза в неделю приглашали молодого батюшку из ближайшей церкви. Кроме платы, по уговору поили его чаем с пирогами. Пироги, которые Лидия пекла сама, батюшка очень уважал.
Большинство учениц было из семей среднего достатка. Родители отдавали их в частную школу, так как считали, что там учат лучше, чем в народной, бесплатной, и легче будет потом поступить в гимназию. Поначалу многих смущал юный возраст обеих учительниц. Ирен и Лидия изо всех старались поддерживать реноме серьезных дам. Лидия носила очки. Ирен ходила в темных платьях с небольшими стоячими воротниками и укладывала толстенную косу венцом, как крестьянки на картинах Венецианова. Детей провожали в школу и встречали после занятий либо родители, либо прислуга. Занятия длились четыре часа с получасовым перерывом и завтраком. Завтрак ученицы приносили с собой, в специальных корзиночках. Достаток у всех семей был разный, и соответственно содержание корзиночек – тоже. Ирен и Лидия учили делиться, объединять провизию. Старшие девочки делились охотно и с любопытством заглядывали в чужие корзинки, где казалось вкуснее, а малышки – жадничали, норовили хоть украдкой, но скушать свое.
После завтрака всех учениц выпроваживали в переднюю, а классы – проветривали. В передней сразу же начиналось шушукание, то и дело прерываемое визгом, а то и слезами. Девчонки толкались, щипались, дергали друг друга за передники, старшие иногда в толчее скалывали платья английскими булавками. Ирен и Лидия не вмешивались, полагая, что после двух часов смирного сидения детям нужна разрядка нервов. На особенный шум могла выглянуть из кухни кухарка Лина и замахнуться половником. Ее боялись едва ли не больше учительниц. Особенно малыши…
– Что ж, Лидия, вы, может быть, чаю хотите? – Софи отвлеклась от воспоминаний и вернулась к обязанностям хозяйки дома. – Я велю подать…
– Нет, Софья Павловна, не надо, недосуг теперь…
– Отчего же?
– Ирен пропала! – выпалила Лидия и по-куриному закатила глаза, выпятив вперед белую (без морщин! – невольно отметила Софи) шею. Именно так в юности закатывала глаза лучшая подруга Софи – Элен Скавронская. И всегда безмерно раздражала Софи этим жестом, открыто и, пожалуй, навязчиво демонстрирующим окружающим сильное переживание.
– Когда пропала? Где? При каких обстоятельствах?
– Я ничего не знаю! – Лидия, похоже, раздумывала, не заплакать ли ей.
И, к счастью для Софи (слез она тоже терпеть не могла, и считала проливание их пустой тратой времени), кажется, склонялась к отрицательному варианту. «Возможно, у нее просто нет с собой достаточно свежего платка», – подумала Софи.
– И все-таки! – настойчиво повторила Софи. – Скажите мне все, что знаете. С чего вы вообще решили, что Ирен – именно пропала? А не отправилась, например, в Гостицы? Или еще куда-нибудь?
– Позавчера после уроков она уехала по своим делам, – послушно начала рассказ Лидия, слегка успокоившись от того, что сумела отыскать желающего взять на себя ответственность за происходящее. – Сказала мне, что вернется часам к восьми-девяти. А потом… потом не пришла домой ночевать. Я думала… ну, в общем, это уже теперь неважно, что, потому как она и утром на уроки не пришла. А это… это уже совсем невозможно… Ирен никогда… Никогда… Я боюсь, что с ней что-то случилось! – на последней фразе Лидия заговорщицки понизила голос.
– В полицию ходили?
– Да, – кивнула Лидия. – Они там все записали, приметы и прочее… Сказали, что в… в убитых и умерших Ирен не числится. А когда узнали, кто мы, то и вовсе беспокоиться перестали…
– В каком смысле – кто вы? – переспросила Софи.
– Ну, Софья Павловна, будто вы не знаете, как официальные чины к бестужевкам относятся? Они же не разбирают… Сказали, что, как мы особы свободного поведения, так будто Ирен сама может куда угодно отправиться, и меня не предупредить… А такого быть никак не могло! Это я точно знаю! Ирен не такая!
– Гм-м… Пожалуй… – Софи задумчиво накрутила на палец локон. – Но… может быть, ее задержали… какие-нибудь непредвиденные обстоятельства? Я… я имею в виду сердечного свойства?
Софи решительно ничего не знала о сердечной жизни своей младшей, незамужней сестры, но рационально предполагала, что у двадцатипятилетней женщины, умной, свободной и по своему весьма привлекательной, что-то такое непременно должно быть. С самого детства Ирен была крайне скрытной и никого не подпускала к своим душевным тайнам. Софи, в свою очередь, никогда не обнаруживала излишнего любопытства по этому поводу. И – зря, как теперь неожиданно выяснилось.
– Нет! – твердо сказала Лидия. – Ирен не из тех людей, которые позабудут свой долг ради… ради каких-либо страстей. Она в любом случае нашла бы возможность известить, предупредить меня…
– Пожалуй, так, – снова качнула головой Софи. – Но вот те дела, про которые вы говорили, куда она отправилась после уроков – что они?
– Я точно не знаю, – Лидия говорила отрывисто, нервно покусывала бледные губы. – Меня это никогда не интересовало. Я даже спорила с Ирен. Поэтому она… не слишком распространялась…
– Так «не интересовалась» или «спорила»? – уточнила Софи. – Согласитесь, это разные вещи… И, пожалуйста, подробнее, это важно…
– Да, да, конечно, вы правы, – Лидия переплела пальцы и стиснула их. Раздался хруст, от которого Софи передернуло. – Попробую объяснить. Дело в том, что Ирен, несмотря на весь рационализм полученного нами образования, всегда интересовалась мистикой…
– Да, я помню, – не удержавшись, вставила Софи.
Пожалуй, Лидия выразилась излишне мягко. С детских лет Ирен мистикой не просто интересовалась. Она с нею жила. Странные способности девочки, а потом и девушки были притчей во язытцах у населения едва ли не всех окружавших Гостицы деревень. На протяжении многих лет Ирен то предсказывала что-то такое, что после сбывалась, то лечила покалечившегося крестьянина или заболевшего ребенка наложением рук, то совершала еще какие-нибудь, не менее странные поступки. Впрочем, надо признать, что сама она своих непонятных способностей сторожилась, и старалась их не афишировать без крайней на то надобности. Но любопытство и тревога, разумеется, жили в любознательной и умненькой девушке. И в общем-то нет ничего удивительного в том, что, оказавшись в Петербурге, Ирен сразу же попыталась отыскать единомышленников или, точнее сказать, «единочувственников». Учитывая же обширность и крайнее разнообразие оккультного петербургского болота (в этом месте Софи невольно вспомнила Ксеничку Мещерскую, ее сапфир и спиритические сеансы в ее салоне…)…
– Ирен ходила в какие-то кружки, еще когда мы учились, – продолжала между тем Лидия. – Сначала она смеялась над ними, и много и остроумно рассказывала мне о том, какими глупостями там занимаются. Называла все это средневековьем и мракобесием. Я спрашивала ее: «Зачем же ты туда ходишь? Зачем тратишь свое время на всю эту чушь? Ведь есть множество передовых обществ, кружков, в которых люди встречаются, чтобы поговорить, обсудить и приблизить будущее России, всего мира, а не копаются в давно отмершем прошлом…» Ирен отвечала мне приблизительно так… – Лидия снова закатила глаза, теперь уже вспоминая. – Мир, по-видимому, несколько больше, чем мы о нем понимаем в текущий момент. Что-то в нем поддается научному познанию. Что-то – пока не поддается. Кроме строго научного, у человечества на протяжении тысячелетий были еще и другие способы постижения мира. Отвергать их все разом в угоду голому рационализму, как бред и чепуху, нет никаких оснований. Она, Ирен, чувствовала все это с самого детства своей собственной шкурой (этого я не могла понять, а она – объяснить). Теперь настало время попытаться как-то все это уразуметь, разложить по полочкам. Я, помню, даже советовала ей идти в церковь. Мне кажется, что, если внеразумное постижение мира существует, то его следует искать именно в рамках мировых религий, их тысячелетних практик, а не…
– Да, вы знаете, я согласна с вами! – быстро сказала Софи и взглянула на тусклую Лидию с невольным уважением. – А что же Ирен?
– Ирен говорила, что в традиционных религиях ее отпугивает их закоснелость, невозможность пересмотра даже самой маленькой, случайной, быть может, догмы. Все эти кружки были, по ее словам, хоть каким-то, но поиском новой истины, соотнесенной со временем прогресса…
– Да, это очень похоже на Ирен…
– А потом, с год уже, наверное, что-то изменилось. Сначала она перестала смеяться, а потом и рассказывать…
– И вы… Неужели вы ничего у нее не спрашивали, Лидия? Вы же жили вместе! Право, мне трудно поверить в существование молодой женщины, начисто лишенной любопытства…
– Разумеется, я спрашивала. Она отвечала вежливо, но как-то… отчужденно, что ли? Говорила, что все это слишком сложно и серьезно, чтобы объяснить мне в двух словах, да она и сама еще не слишком разобралась, и потому не хочет вводить меня в заблуждение, путать…
– Она называла какие-то имена? Явки? Пароли?
Лидия взглянула на Софи с удивлением. Ирен упоминала о том, что ее старший брат был связан с революционерами и пострадал из-за этого. Что же, выходит, и старшая сестра – тоже из них? А как же ее фабрики, издательство, прочее?…
– Нет, – подумав, с достоинством ответила Лидия. – Никаких явок и паролей Ирен, разумеется, не называла. Имя же я запомнила только одно, хотя и не уверена в том, что это именно имя…
– Ну! Как? Не тяните же! – нетерпеливо прервала Софи и притопнула обеими ногами сразу, подавшись вперед и вцепившись в ручки кресла побелевшими от напряжения пальцами. Вздохнув, Лидия, в свою очередь, вспомнила о том, что, по словам Ирен, манеры ее сестры временами очень далеки от светских, и это – часть ее очарования и оригинальности. «Возможно, возможно…» – мысленно покачала головой Лидия. Невоспитанность и отсутствие терпения никому не придавали очарования в ее глазах.
– Даса. Звучит, как собачья кличка, вы согласны?
– Даса? – повторила Софи. – Он что же, индус? Китаец?
– Не знаю наверняка, но из каких-то слов Ирен у меня сложилось впечатление, что он такой же европеец, как мы с вами. Кажется, русский. Вроде бы из образованных и даже знатных слоев…
– Из образованных и знатных? Это уже легче… – пробормотала Софи себе под нос. – Спасибо, Лидия, – сказала она, вставая. – Я немедленно попытаюсь что-то разузнать и предпринять.
– Вы… найдете Ирен? – Лидия тоже поднялась (оказавшись одного роста с высокой по любым меркам Софи), взглянула прямо в лицо беспомощно и близоруко. – Она ведь не могла… Вы понимаете? Она не могла просто так… исчезнуть, никого не предупредив… Она не такая…
– Конечно, конечно, – закивала Софи, думая про себя, что, если кто-то из их семьи и мог исчезнуть вот таким непонятным образом, так это как раз Ирен. – Я извещу вас.
– Софья Павловна, я должна вам сказать. Если вам понадобится любая помощь с моей стороны, вы всегда можете на меня…
– Могу рассчитывать. Это очевидно. Спасибо, – Софи говорила отрывисто и явно ждала, когда Лидия уйдет. В душе девушки снова шевельнулась неприязнь к сестре Ирен. «Порядочная женщина из общества не должна быть такой… такой откровенной» – с учительской привычкой она облекла свое недовольство в слова, с неодобрением взглянула на Софи, невнятно пробормотала какую-то прощальную формулу, получила такое же бормотание в ответ и вышла из комнаты.
– Фрося, проводи гостью! – крикнула Софи, как всегда, совершенно не заметив вызванного ее поведением недовольства. Подобные тонкие вещи ее просто не интересовали. «Хочешь драться, так дерись, а мириться – так мирись! – говорила она еще в детстве. – А чего подпрыгивать друг перед другом, как петухи в пыли? Только время терять…»
Терять время Софи не любила из природного рационализма, хотя никакого недостатка в нем никогда не ощущала. Иногда ей вообще казалось, что в ее собственных сутках несколько больше часов, чем в сутках, предоставленных судьбой другим людям. Единственным человеком, который понимал ее вполне и жил в таком же, как бы растянутом относительно прочих времени, была и оставалась бывшая горничная Софи Вера Михайлова.
Отношения Софи со временем оставались весьма удивительны для большинства окружающих. Несмотря на огромное количество дел, которые она делала практически одновременно, у нее всегда находилось свободное время не только на чтение книг или ленивое безделье, но и на любое новое начинание, которое ее хоть сколько-нибудь занимало. Сверстницы и подруги Софи, которые, встав поздним утром, практически не успевали заметить, как наступил вечер, а с весны до Рождества каждого года насчитывали два-три запомнившихся из собственной или общественной жизни события, удивлялись и, пожалуй, не по-хорошему завидовали этой особенности Софи Домогатской.
«Я просто очень многого не делаю из того, что все, – объясняла желающим Софи. – Оттого и времени много остается. Прически, притирания, ванны, вся эта суета перед зеркалом в будуаре. Потом – чай, визиты, карточки, разговоры ни о чем. Мода, портные, доктора… Целый большой кусок жизни ко мне отношения не имеет.» – «Но что ж, если заболело что-то? – удивленно переспрашивала собеседница. – Как же без доктора?» – «Болезни – от скуки, или от того, что делаешь не то, что надо. Или уж от исчерпанности жизни, – отчеканивала Софи. – Думать надо, что еще сделать можно, а не пилюли глотать!» – «Ну это уж вы, милочка, чересчур!» – недовольно бормотала собеседница. – «Извольте, как знаете!» – Софи облегченно вздыхала и вместе с ощутимым кожей сквозняком уносилась по очередному делу.
«Все три сестры Домогатских уродились чертовски разными, – давно уж заметил кто-то из наблюдательных знакомцев семьи. – Вокруг Софи постоянный тревожный сквозняк, средняя – непрерывно зевает, а младшая – всегда стоит на пороге».
Софи, не доверяя первому впечатлению, перелистала воспоминания об Ирен. Действительно, девочка, а потом и девушка всегда помнилась в обрамлении какого-то дверного проема. Теребит толстую косу, глядит искоса и чуть исподлобья, слегка раскачивается с носков на пятки, словно не решается шагнуть…
– Ирен! – тихонько, себе под нос позвала Софи. – Ты, наконец, шагнула с порога? Куда? И почему не предупредила меня?
Глава 9
В которой Софи и Элен Головнина вместе с детьми посещают Масленичные гуляния и беседуют о наболевшем
– Мамочка, дай три копейки, я судьбу попытаю! – попросила Милочка, опасно подпрыгивая на сидении высокой, с гербом кареты и дергая Софи за рукав.
– Что?! – удивилась Софи, и сверху вниз оглядела дочь так, как будто бы само ее наличие явилось для нее неожиданностью.
– Да вон там! – ломким, переменчивым голосом сказал подросток Ваня, и указующе дернул тонкой шеей в воротнике синей гимназической шинели. – Вон, где мышь, туда ей надо.
Элен Головнина с доброй улыбкой взглянула сначала на сына, потом на Милочку и, не дожидаясь реакции Софи, протянула девочке двугривенный.
– Беги, солнышко, коли хочется. Ванечка тебя сопроводит. И купи себе игрушку какую-нибудь.
Сын Элен протестующе и независимо дернул шеей еще раз, однако возражать вслух не стал. Милочка же зажала в кулачке двугривенный и, стараясь даже случайно не встретиться с матерью взглядом, споро выпрыгнула из коляски. Ваня неуклюже полез за ней. Когда он оказался рядом с ней, Милочка сунула ему в руку свою ладошку и потащила в ту сторону, где толпились ребятишки и шарманщик вертел ручку своего органчика, нестройно выпевающего чувствительную мелодию «Мой костер в тумане светит». Кудлатая девчонка в разбитых, подвязанных бечевкой ботинках, не старше Милочки годами, охрипше и бесчувственно выкрикивала:
– А вот кому судьбу попытать! А вот кому судьбу! Три копейки – судьба!
Прямо на ящике шарманщика стояла небольшая деревянная клетка с ржавыми прутьями. В клетке сидела крупная белая мышь и ела заплесневевший с краю кусочек сыра.
Таща за собой Ваню, Милочка протолкалась сквозь толпу.
– Мне, милая, мне судьбу! – привлекла она внимание девчонки и показала зажатый двумя пальцами двугривенный. Какой-то мальчишка-оборванец хотел было выхватить монетку из Милочкиной руки, но Ваня, неожиданно быстро сориентировавшись, отвесил ему увесистую затрещину.
Девчонка-шарманщица хрипло засмеялась и показала оборванцу язык.
– Так тебе, Федька! Не лезь к господским детя́м!.. А вы, барышня, проходьте сюда, проходьте! Сейчас Матильда вам все доподлинно разузнает…
Воришка ощерил черные зубы, но не убежал, а остановился поодаль, сунув в карманы иззябшие кулаки.
– Это ты – Матильда? – спросила Милочка, покуда девчонка доставала ей сдачу откуда-то из глубины своих живописных лохмотьев.
– Не, я – Катька! – усмехнулась девчонка, просовывая в клетку пальцы и отбирая у флегматичной мыши кусок сыра. – А Матильда – вот она!
Достав мышь из клетки, Катька посадила ее на ящик возле маленькой коробочки с прорезью. Матильда быстро шастнула туда и сразу же вылезла обратно, держа в зубах свернутую в трубочку бумажку. Милочка в восторге захлопала в ладоши. Катька, не торопясь, вернула мышь в клетку и отдала ей сыр. Потом развернула бумажку и глянула на девочку с тенью тревоги на скуластом лице.
– Вы прочитать-то сможете? Или вон, кавалер ваш…
– Да я сама умею читать, – удивилась Милочка и взяла бумажку из Катькиных грязных пальцев. Ваня, словно невзначай, заглянул ей через плечо.
«Тайны сгущаются вокруг вас», – вслух прочитал он.
«Ох! – вздохнула впечатлительная Милочка, которая тоже прочла надпись. – Жутко-то как!»
– Не дрейфьте, барышня! – усмехнулась Катька и ковырнула пальцем в широком носу. – Вам еще понравится будет, вот увидите!
– Глупость какая! – на этот раз Ваня дернул плечом. – Охота тебе! Пойдем…
– Пойдем, пойдем, Ваня! – горячо согласилась Милочка, уже позабывшая о странном предсказании. – Пойдем еще поглядим! Вон там, смотри, обезьянка! И еще Петрушка… И карусель… Побежали туда…
– Ерунда все… – пробормотал Ваня, широко шагая вслед за бегущей девочкой.
Впрочем, справедливости ради надо заметить, что он не так уж сопротивлялся происходящему. Несмотря на возраст (этой зимой Ване исполнилось 12 лет) и гимназический мундир, ему и самому было любопытно. Никогда еще он не принимал участия в народных масленичных гуляниях.
Гуляния эти проходили ежегодно на Семеновском плацу, который начинался сразу за казармами Семеновского полка и тянулся до Обводного канала между Звенигородской улицей и Царскосельской железной дорогой. На масленицу весь плац заполнялся балаганами, качелями, каруселями, ларьками с игрушками, сладостями и горячими блинами. Гуляния посещал в основном простой люд, мастеровые, чиновники низших классов. Аристократы иногда привозили детей посмотреть на веселье, но из экипажей не выходили. Отец Вани Василий Головнин, впрочем, и это считал ненужным. Между тем несколько учеников из разночинцев, с которыми Ванечка учился вместе в гимназии, рассказывали, что на масленицу на плацу «отменно весело». Потому не было ничего удивительного в том, что, когда Ванечка узнал, что лучшая подруга матери, Софья Павловна Безбородко, почему-то назначила ей встречу не в особняке Головниных и не в своей городской квартире, а возле масленичных балаганов (пусть Милочка развлечется, посмотрит), мальчик охотно (поворчав лишь для вида) вызвался сопровождать мать и даже согласился развлекать Милочку.
Теперь же ему просто до щекотки в носу хотелось прокатиться на карусели. Карусель-«корабль» была удивительно хороша и пользовалась заслуженным успехом. Площадка карусели при вращении меняла плоскость движения, отчего создавалось впечатление, что палуба под тобой качается и ты действительно находишься на корабле в сильную бурю. Для большего впечатления на перилах были развешаны спасательные круги. Центр ограждала круговая стенка с иллюминаторами, а сбоку висел большой якорь. При отправлении и остановке карусели раздавался пароходный гудок. Карусель вращали вручную несколько здоровенных парней, которые упирались могучими руками в горизонтальные балки.
– Милочка, у нас же деньги остались, – солидно сказал Ваня. – Идем на морскую карусель. Это очень занимательно и познавательно.
– Хорошо, Ванечка, – тут же согласилась Милочка, которая не любила никому отказывать. Огромная карусель, между тем, изрядно пугала девочку. К тому же ее укачивало практически в любом экипаже. А что будет на карусели? – Но сначала давай Петрушку посмотрим, ладно? – попросила Милочка, рассудив, что, если немножко отложить неизбежную неприятность, то она, может быть, окажется уж не такой и страшной…
Ванечка вздохнул и поплелся вслед за девочкой смотреть Петрушку.
Представляли «Петрушку» два артиста – один с ящиком и ширмой, другой – с гармошкой и барабаном. Ширма расставлена в виде замкнутого четырехугольника, внутри сидит артист, который управляет куклами. Во рту у него особая свистулька, которая искажает звук человеческого голоса. Другой в это время играет на гармонике и заменяет собой чуть ли не целый оркестр. За спиной у него турецкий барабан с медными тарелками наверху, от которых к ноге протянута веревка. За манжету на правой руке заложена колотушка для барабана, так что правой рукой он и играет на гармонике, и бьет в барабан. На голове – медный колпак с колокольчиками. Все вместе создает ужасный шум, который нравится собравшейся публике. Главный герой представления – Арлекин-Петрушка. Он никого не боится, всех побеждает, может выкрутиться из любого положения, острит и шутит. Сидящий за ширмой человек говорит разными голосами за разных героев. Вот над краем ширмы появляется кукла-городовой с красной физиономией и необыкновенно длинными усами. Он грозно ревет: «Я тебя, Петрушка, в участок заберу, ты всех обижаешь!» В руках у Петрушки появляется палочка, он бьет ею городового по носу. Петрушка хохочет, публика тоже. Все воспринимают это так, что есть сила выше городового…
Представление с Петрушкой с самого начала кажется Ванечке довольно глупым. Вместе с родителями и братом он много бывал в петербургских театрах, в концертах, у них ложа в Мариинке, в особняке Головниных часто бывают музыкальные вечера… Но вот уже два городовых со свистками наступают на Петрушку, а тот, отшучиваясь, отходит к самому краю ширмы… «Что ж делать, люди добрые? – с ноткой растерянности обращается к людям Петрушка. – Неужто за так пропадать во цвете лет?» – «Нет! Не надо! Дай им, Петрушка! Покажи им!» – кричат вокруг. Мальчишки подпрыгивают, чтобы лучше видеть. Подвыпившие мастеровые ударяют кулаком по ладони. Девчонки стоят, полуоткрыв рты и забыв лузгать подсолнухи.
– Ну же, Петрушка, не сдавайся! – вместе со всеми кричит Ванечка, изо всех сил сжимая мокрую Милочкину ладошку.
Разумеется, Петрушка побеждает.
Милочка, нога за ногу, плетется вслед за Ванечкой к карусели. Чтобы утишить ее страхи, Ванечка покупает ей горячую булку с марципаном. Гармонь играет вальс. Карусель отправляется…
– Три копейки – судьба! – говорит Софи Домогатская в полутьме кареты и некрасиво щерится.
– Да успокойся же, Софи, – ласково уговаривает подругу Элен Головнина. – Ну пусть дети развлекутся, раз уж ты здесь решила. Васечка никогда бы не позволил, а Ванечке, я знаю, охота… И Милочка… Кстати, а почему ты Павлушу с собой не взяла?
– Да потому, что ему все это не надо. Он это презирает.
– Что презирает? – удивилась Элен. – Масленицу?
– Развлечения. Веселье. Не знаю. Иногда мне кажется, что он родился старичком.
– Как это грустно, – вздохнула Элен. – Ну, тем более. Пусть Милочка с Ванечкой…
– Да я ж вовсе не про них, Элен! – с досадой сказала Софи. – Пусть себе делают что хотят, лишь бы нам не мешали…
– Софи! – Элен понизила голос и одновременно, как записная трагическая актриса, подпустила в него темно-синей, морской глубины. – Ты знаешь, как я к тебе отношусь, но иногда мне кажется ужасное…
– Что же? – поморщилась Софи. От голоса Элен ей вдруг представилось, что в горле подруги медленно колышутся длинные водоросли. Видение получилось не из приятных.
– Мне кажется, что ты… что ты вовсе не любишь своих прелестных крошек!
Софи не стала отвечать, и лишь усмехнулась при мысли о том, что сказал бы Павлуша, если бы его в глаза назвали «прелестной крошкой».
– Но ведь ты хотела говорить о чем-то, – напомнила Элен после некоторого молчания.
– Да, – кивнула Софи. – Кроме тебя, мне, получается, говорить не с кем… Ирен, Гриша и публичный дом.
– Что? – Элен выпрямила спину и сделала себе соответствующее ситуации лицо. – Говори все, я тебя слушаю.
Внимательно выслушав подругу, Элен некоторое время молчала. Софи ждала. Они с Элен были знакомы с раннего детства и, несмотря на коренное, казалось бы, различие взглядов и темпераментов, всегда оставались близки. В отличие от большинства окружающих Элен людей, Софи знала о том, что Элен Головнина – это не только светская дама, чьи образцовые манеры и безупречный вкус признаны всеми, не только идеальная, заботливая, как наседка, жена и мать, но и вполне развитый, зрелый, хотя и не особенно гибкий ум.
С Элен она действительно могла поделиться любыми своими проблемами и всегда остаться в выигрыше. Даже ничего не поняв и ни в чем не разобравшись, Элен умела принять тех, кого любила. Бескомпромиссно осуждала поступки, которые казались ей дурными, но не людей. Это дорогого стоило, и Софи была достаточно умна, чтобы знать подлинную цену.
Много лет их дружба как бы играла в одни ворота. Проблемы и дела Софи казались ей самой настолько запутанными и масштабными, что простуды и учебные успехи и неудачи Ванечки и Петечки, повышение по службе, которое получит или не получит Васечка, нервное расстройство самой Элен, воровство кухарки, принятой на службу в особняк Головниных – все это казалось Софи весьма мелким и скучным, и едва достигало ее сознания. Позже, когда, окончательно повзрослев, она внезапно осознала это длящееся неравенство, ей стало просто невдомек: как же Элен много лет терпела это откровенное пренебрежение к своим делам и проблемам? Со свойственной ей прямотой она тут же осведомилась об этом у Элен, присовокупив к вопросу едва ли не оскорбительное:
«Не может же так быть, чтобы тебе, кроме меня, и поболтать не с кем было!»
– Нет, Софи, не так, – грустно улыбнулась Элен. – Я просто люблю тебя. Такую, какая ты есть. Это ты понять можешь?
Вместо ответа Софи закусила губу и, намотав локон на палец, сильно дернула книзу, почти желая причинить себе боль.
– Почему ты меня всегда дурой выставляешь? – с досадой спросила она.
– Разве? Я? – удивилась Элен. За много лет она так и не привыкла к умению подруги все вывернуть наизнанку и в свою пользу.
– А то кто же? – сварливо отозвалась Софи. – Ладно. Теперь ты мне еще раз все про себя скажешь, а я буду учиться слушать.
– Что же сказать? – растерялась Элен.
– Да что хочешь! Только не мямли, пожалуйста! Сейчас! Иначе я прямо на твоих глазах скончаюсь от снедающего меня чувства вины, – Софи привыкла к тому и давно организовала свою жизнь так, чтобы все ее желания исполнялись практически незамедлительно.
Справедливости ради следует отметить, что и сама она при этом вовсе не сидела, сложа руки, а готова была работать буквально день и ночь. Но и другие тоже должны поворачиваться. Просто сидеть и ждать Софи не умела совершенно. Любое, даже самое глупое и бесцельное действие казалось ей более предпочтительным.
– Софи, да что ты такое говоришь?! – нешуточно испугалась Элен. – Какая вина? За что?!
– Да неважно теперь! – отмахнулась Софи. – Коли уж я исправилась. Говори!
– О чем же ты хочешь говорить?
Софи фыркнула, скрипнула зубами от досады, но тут же из обстоятельств переломила себя и ответила с неожиданной в ней лаской.
– Элен, голубка, пойми, я хочу не сама говорить, как всегда бывало, а как раз послушать тебя. Есть же что-то, что тебя-то тревожит или, напротив, радует… Про деток, может быть, или про мужа… Я вот помню, что матушка твоя сильно хворает…
Элен вздохнула и, как было с детства, покорно приняла правила новой игры, которую для чего-то навязывала ей Софи. Подробно рассказала о болезни матушки, о многочисленных и противоречащих друг другу предписаниях докторов, о переэкзаменовке у Петечки и о том, как Ванечка полез на дерево доставать кошку, а после неловко спрыгнул и подвернул ногу.
– А ты-то, ты-то сама, Элен? – выслушав все, Софи недоверчиво заглянула в круглое, безмятежное лицо подруги. – Васечка, Петечка, Ванечка… Другие всякие. Столько лет от тебя и слышу… А что же с тобой-то?
– Так это и есть моя жизнь, Софи, – улыбнулась Элен. – Тебе ведь для рассказа события нужны. А что ж еще со мной может отдельного произойти?
Софи несколько времени подумала, неожиданно вопрос показался ей весьма важным. Когда заговорила, слова падали с ее темных губ вязко и едва ль не в три раза медленнее, чем обычно.
– Получается, твоя жизнь полностью растворена в других людях, в семье. Это очень возвышенно, благородно. Ты, сколько я тебя помню, вроде бы так и хотела. У тебя все сложилось, и ты, выходит, всего достигла уж много лет назад. Ты говоришь, мне события нужны. Это не так. Мне как раз твои (а точнее, не твои) события не интересны. Мне интересно, что у тебя внутри, вот там, – Софи протянула руку и дотронулась пальцем до безупречной, волосок к волоску, прически Элен. – Меня ты интересуешь, Элен. Ты, – понимаешь? Я много лет тебе рассказывала, что со мной происходит, а о тебе, получается, и не знаю ничего… Это странно…
– Да что ж тут странного, Софи?! – горячо воскликнула Элен, словно отметая какое-то серьезное обвинение. – Просто у меня, по сравнению с твоей, жизнь вовсе неинтересная! Но я за то никого не виню, потому что, ты правильно сказала, сама выбрала.
– Элен! – Софи подалась вперед и схватила кисть подруги своими горячими руками. Элен вздрогнула. – Неужто ты мне так и не скажешь?!
– Господи, да чего же?! – Элен уже готова была заплакать с досады.
Софи тревожила, трясла, неудобно мяла ее душу. Хотелось стряхнуть с себя ее цепкие пальцы, уйти. «Но не за то ли я всегда ценила ее?» – спросила себя Элен и в тот же миг – решилась.
– Хорошо, Софи, я скажу.
Обычно румяная, Элен стала бледна, но, как у нее всегда водилось, заговорила об интересующем ее предмете сразу и без малейшего кокетства. Софи между тем внимательно разглядывала подругу и завидовала ей. В повседневной жизни Элен категорически не прибегала ни к каким косметическим ухищрениям, но как у всех полных физически и чистых душой людей, к тридцати годам на лице ее не было ни одной морщинки или иного следа увядания.
– Софи, это давний след. Ты, вероятно, уже сто раз позабыла про тот разговор, но я все же хочу тебе сказать: ты тогда была права абсолютно, а я – совершенно неправа, с лицемерным негодованием отнесясь к предложенному тобой предмету…
– К чему? В чем не права? Элен, я категорически ничего не понимаю.
– Я сама только нынче с полной отчетливостью поняла, как я виновна перед Васечкой. Меня воспитывали… Но ведь еще римляне говорили: незнание закона не освобождает от ответственности. В конце концов тебя воспитывали также, а ты уж давно сумела изменить… Ты должна понять, это буквально убивает меня.
– Господи, Элен, но в чем твоя вина?! Перед Васечкой? Да ты же всю жизнь его только что не облизывала, как кошка котят лижет. Я даже придумать не могу. Ой! – Софи усмехнулась и закрыла рот ладонью. – Неужели ты завела любовника?!
Элен закатила глаза, побледнела еще более и отшатнулась от подруги. Софи противно захихикала.
– Но что же тогда?
– Я не исполняла, как должно, долг супруги и он, бедняжка, был лишен… Софи! – прошептала Элен трагическим шепотом. – Софи, я бы не удивилась, узнав, что мой Васечка… Васечка когда-нибудь… посещал падших женщин! В их вертепах!
Тут Элен зажмурилась от ужаса и мелко, по-старушечьи, затрясла головой.
«Ну да, я бы тоже удивилась, если бы наоборот, – скептически подумала Софи. – Тем более, что мы с ним, помнится, даже как-то столкнулись на пороге одного… гм… вертепа… Но что же все-таки с Элен?»
– Элен, ты можешь сказать определенно: о каком долге мы говорим?
Элен запрокинула голову и судорожно сглотнула, как курица, неожиданно поживившаяся крупным червяком. По ее белому горлу прокатился комок.
«Ага! – подумала Софи. – А вот на шее у нее морщины. Точнее, перевязочки, как у младенца…»
– Я… я не удовлетворяла его в спальне! – выпалила между тем Элен.
– Ого! – Софи с трудом удержалась, чтобы не расхохотаться. – Это смело! Это для тебя… ну просто, как Рубикон перейти. Но что же навело тебя на такую мысль? И почему сейчас? Неужели Васечка предъявил какие-то претензии?
– Нет! Нет! – Элен, забывшись, замахала руками и вместе с потоками воздуха до Софи долетел знакомый запах ее духов. – Как ты могла такое подумать?! Васечка культурный человек, и он никогда не стал бы обсуждать…
– Мир богат и разнообразен, – задумчиво сказала Софи. – К примеру, на Востоке признаком культуры и развития человека как раз считается возможность и способность обсуждать эту тему…
– Вот! – Элен наставила на Софи пухлый палец с овальным розовым ногтем. – Вот именно это! Я знаю, что ты до сих пор общаешься с той женщиной… ну, подругой Михаила… И у тебя есть свой опыт. Я хочу, чтобы ты помогла мне!
– Ты знаешь, я все готова сделать для тебя. Но как же я помогу, если у тебя с Васечкой никогда… – Софи была искренне удивлена.
– Никогда не поздно исправить допущенные ошибки, – бодро заявила Элен. – Так учил Христос: раскаявшийся грешник дороже двух праведников. Я хочу, чтобы ты помогла мне… усовершенствоваться в этом вопросе!
– Ну ни черта себе! – сказала Софи и рукой вернула на место отвалившуюся челюсть.
Софи всегда старалась держать данное ею слово, даже если совершенно не верила в успех предприятия. Тем более, что подруга едва ли не в первый раз за жизнь попросила ее помощи. Почти сразу же после удивительной беседы с Элен Софи отправилась в гадательный салон.
– Тут дело вовсе не в Василии Головнине, – сразу же заявила проницательная бирманка, выслушав Софи. – Просто твоя Элен к тридцати годам дозрела и сама захотела настоящей, полноценной мужской любви. Самый возраст для женщин в вашей стране, как я заметила. Сейчас я расскажу тебе, что можно сделать, а ты передашь ей. Но хочу тебя предупредить: надежды мало, ибо в Василии слишком много от стихии воды.
– Что такое? – уточнила Софи.
Саджун глянула безжалостными, черно-лиловыми глазами:
– Слизь, текучесть и ненадежность для живущих на суше.
Софи вздохнула. Насчет стихий, о которых говорила Саджун, она ничего не знала, но о Васечке была приблизительно того же мнения.
Когда Софи передавала подруге рекомендации Саджун (при этом кое-чего прибавляя от себя), Элен Головнина попеременно бледнела и покрывалась красными пятнами, но в обморок не падала и даже не закатывала глаза.
После того знаменательного разговора прошло более двух лет. Софи не раз хотелось поинтересоваться, как обстоят дела в спальне Элен, но как-то не выпадало случая. Кроме полученного Софи воспитания, в рамках которого разговоры на подобную тему были абсолютно недопустимы, еще и сам образ Элен гасил излишнее любопытство. Иногда Софи даже спрашивала себя: да не привиделось ли ей это все? Действительно ли Элен Головнина, похожая на аккуратную сахарную голову, спрашивала ее об этом?
Может быть, как раз теперь – время? Полумрак кареты, Широкая масленица, гудящая за занавешенным окном…
– Элен, я давно хотела спросить тебя: как у вас с Васечкой?
Элен выпрямилась еще сильнее, хотя на мягких подушках это казалось уж невозможным.
– Ты действительно хочешь знать? Сейчас, когда у тебя…
– Разумеется! Иначе не стала б и начинать. Теперь я решилась, а в другое время хочу, но… я тебя стесняюсь, понимаешь?
– Нет, не понимаю! – сразу отмела Элен. – Так слушай, пока я тоже решиться могу…
Софи пришло в голову, что Элен, по-видимому, уже давно ждала возможности выговориться, и она выругала себя: «Ну, и кто из нас здесь весь такой отважный, эмансипэ, без предрассудков и прочее? Чего ожидала-то столько времени? Что Элен, с ее деликатностью, сама тебя за пуговицу возьмет?»
– С Васей у нас, увы, никак, – начала между тем свой рассказ Элен. – Тогда, после нашего с тобой разговора, я пыталась что-то сделать, но он ни на что не согласился. И я от этого просто с ума схожу. Потому что, конечно же, я сама во всем виновата…
– Отчего же – ты? – логика Элен порою оставалась для Софи просто непостижимой. – И как, прости, это выглядело – «не согласился»?
– Он… он сказал мне… – Элен говорила с явным трудом, тоном отчужденным и пыльным, как старый циркуляр по железной дороге. – Он сказал мне, что ничего ему такого не надо, и не надо его нигде трогать и ласкать. И… даже рассердился на меня, и долго спрашивал, откуда я все эти вульгарные глупости взяла и… и потом догадался, что все это как-то от тебя, и стал говорить… Но тут я ему, конечно, замолчать велела. Он фыркнул и замолчал, и больше… больше мы к этому разговору никогда не возвращались, а он… он после того стал совсем редко ко мне в спальню приходить… А я… я ведь, ты знаешь, всегда еще дочку хотела, но теперь…
Софи! Я глупая и гадкая грешница, конечно, Васечка прав, такие женщины не должны… Которые так могут думать…
– Прекрати нести ерунду! – строго сказала Софи. – Если ты – гадкая грешница, так Господь в раю сидит в одиночестве и сам с собой от скуки в шашки играет. Или уж они там внутри Троицы как-нибудь, как на иконе Рублева, но этого я никогда разобрать не могла… Пустое! Скажи мне: как именно ты сейчас обо всем этом думаешь?
В полутьме кареты алебастровая кожа Элен смотрелась теперь низкого качества бумагой. Яркие карие глаза подернулись тусклой серой дымкой. «Как бы в обморок не откинулась! – озабоченно подумала Софи. – Полежит и встанет, конечно, но что я детям скажу? Испугаются же!»
– Я сама не знаю, как это вышло, – тихо, ровно заговорила Элен. – Он, Васечка, стал теперь таким, незнакомым, как будто чужим. Хотя как это может быть, я не могу понять? Он весь зарос белым таким жиром, и кожа лоснится и натянулась. Мне кажется, что он сквозь этот жир уже вообще ничего не чувствует. И говорит про всех и про все: «Глупость! Глупцы!» Как будто бы он сам… ну, Бог весть, что такое, и право имеет… И еще он так спит на спине, раскинув руки и ноги, и выпятив живот, и тогда челюсть вниз и внутрь куда-то проваливается, и пальцы такие плоские, желтые торчат из-под одеяла, и пятки, и храпит, не ритмично так, знаешь, как дети похрапывают или мопсы, это даже уютно бывает, а по-другому, захлебываясь, хрюкая, все время меняя тональность, как какая-то вещь или машина, а не человек вовсе… А как выпьет в клубе или в гостях, так от него сразу мертвяком пахнет…
И я не знаю, что мне со всем этим делать…
– Господи! – потрясенно прошептала Софи, а Элен от этого шепота, наконец, смогла разрыдаться.
Софи подавшись вперед, неловко обняла подругу и гладила ее плечи и лопатки.
– Видишь теперь, какая я гадкая? – слегка успокоившись, Элен шмыгнула носом и достала кружевной платок. – Как я могу так? Ведь он мой муж, отец моих детей…
– Будет себя уговаривать, – строго сказала Софи. – Ты чувствуешь так, как чувствуешь, и отменить этого нельзя, как бы тебе не хотелось. Теперь думать надо о том, что делать дальше…
– Что ж делать? Жить… – Элен тщательно вытерла глаза и опухший нос. Выговорившись и отрыдавшись, она явно почувствовала себя лучше и бодрее. – Теперь вот надо с твоими делами решить, а у меня – что ж… Я разве одна такая?
– Не одна, конечно, если в общем посмотреть, – согласилась Софи. – Но меня-то общее никогда не интересовало. Что мне до него? Это все равно как наша Оля Камышева, хочет всех спасти. Для меня ты – особенная совершенно, даже сравнить не с чем. Так что просто так я это тоже оставить не могу. Когда ты мне уж сказала… Я потом об этом подумаю, ладно, Элен? Когда смогу…
– Софи! – улыбнулась Элен. – Какая же ты милая! Своих забот полон рот, а вот уж готова решать, как мне с Васечкой в спальне разобраться…
– Разберусь, – едва ли не угрожающе сказала Софи. – Дай только срок…
Теперь уж Элен засмеялась и, тут же снова став серьезной, заметила:
– А не желаешь ли, устроительница, выслушать, что я думаю по поводу твоих дел?
– Желаю, – буркнула Софи. – Для того, между прочим, и звала.
– Я думаю вот как, – Элен теперь явно стала бодрее, чем была в начале встречи. – Главная покуда проблема, это то, что мы ничего не знаем. Что на самом деле происходит с Гришей? Что затевает этот… Николаша? Кто такой Даса, какие у него были отношения с Ирен и чего он вообще хочет? Куда пропала Ирен и по своей ли воле она это сделала? Что собирается делать или, наоборот, не делать Ефим Шталь? Так?
– Да, ты права, – кивнула головой Софи. – Сведений явно маловато. Ты предлагаешь провести расследование?
– Ну что ты! Я же не полицейский! Я предлагаю решить все эти проблемы разом, и как раз с помощью салона бедной Саджун, который и сам по себе, насколько я понимаю, является твоей проблемой…
– Это каким же образом? – заинтересовалась Софи. – А, я догадалась! Ты предлагаешь снова открыть салон и заманить туда Дасу, Ефима и Николашу? Чтобы девочки у них все выведали, а потом…
– П-фу, Софи! – Элен брезгливо потрясла в воздухе пальцами. – Ты, конечно, оч-чень оригинальная и свободно мыслящая женщина, но все-таки… есть границы…
– Тогда как же? – вопрос о границах не заинтересовал Софи совершенно.
– Слушай меня и не перебивай, пожалуйста, – Элен наставила на Софи аккуратный палец, похожий на молодую белую редиску. – А не то я путаться буду, и время потеряем. Значит, если этот Даса действительно из кругов, то я про него по своим связям из одного-двух дней все доподлинно разузнаю: настоящее имя, фамилию, где живет, чем занимается и прочее. Потом. Надо как можно более ускорить все перестройки в особняке Саджун, а кое-что из интерьеров, напротив, оставить, как было, и о том аккуратно слух пустить. Это я тоже, как твоя всем известная конфидентка, на себя возьму…
– Но, Элен, зачем это?…
– Я же просила не перебивать! – воскликнула Элен. Софи послушно прижала палец к губам и покаянно затрясла головой. – Потом ты объявляешь о приеме, или о музыкальном вечере или как тебе пожелается и всех интересующих тебя лиц приглашаешь в обновленный особняк вместе с прочими светскими знакомцами…
– Элен! Прости, конечно, но это ты глупость сказала! Кто из света по приглашению Софи Домогатской пойдет в бывший публичный дом?! Это же скандал!
– Сонечка! – Элен усмехнулась снисходительно, и это выражение на ее лице поразило Софи до крайности – возможно, доселе она вообще никогда его не видела. – Ты все-таки очень рано (разумеется, по обстоятельствам!) покинула петербургский свет, и потому совершенно в нем не разбираешься. Что, по-твоему, движет и питает энергией его жизнь? Разумеется, скандалы! Конечно, все скажут свое «фи», заочно очередной раз обольют грязью и тебя и все, что только возможно, но потом… Потом не только придут – прибегут, как миленькие! Это ведь так чертовски пикантно…. как, впрочем, и все, что делает «эта невозможная Софи Домогатская… И как только муж ее терпит!» – Элен очень похоже передразнила визгливый голосок графини К. – Так что за явку ярких представителей нашего света, я, на твоем месте, беспокоиться бы не стала. Далее по списку. Разумеется, как только мы обнаружим и вычислим этого Дасу, его мы пригласим в первую очередь. Если он сам и не причастен к исчезновению Ирен, то, наверняка, сможет многое рассказать о ее знакомствах и интересах. Кроме того, ты обязательно должна будешь пригласить Мари Шталь…
– Да уж она-то точно не пойдет!
– Ерунда! Ты что, забыла, как устроена наша милая Мари Оршанская? Да даже если бы Ефим решил приковать ее к дивану (чего он, конечно, делать не станет, так как на все без исключения проделки жены ему наплевать), так она из снедающего ее любопытства все равно явилась на эту вечеринку, а слуги несли бы за ней диван. Причем великолепная Мари наверняка сумела бы повернуть дело в обществе так, что будто носить с собой место отдохновения – последний крик парижской моды, и на следующий прием уже многие явились бы со своими диванами…
Софи не удержалась от улыбки. Право, отчего это многие не догадываются, что Элен Головнина – умна, и считают ее скучной и примитивной? Софи никогда не могла этого разобрать.
– Если правильно поведем дело, то у Мари мы наверняка сумеем разузнать что-нибудь о планах Ефима. Он держит ее от себя далеко, но она умна и хитра, и, если я хоть что-то в ней понимаю, наверняка о многом осведомлена. Кроме того, тебе придется пригласить, как бы из старых знакомств, этого Николашу, или Ивана Самойлова, как он известен. Ему-то как раз идти будет невместно, но все знают, что он, как любой «из грязи в князи» никаких возможностей не упускает, да уж и не так много, куда его из вправду приличных домов зовут… Так что и он, я думаю, придет. Здесь уж от тебя зависеть будет, как ты с ним сумеешь. И еще, я полагаю, мы пригласим Олю Камышеву, как будто бы старый, из юности, круг собрать. Она, конечно, теперь революционерка, а я, например, эксплуататор трудового народа, но с тобой, как я помню, она отношений не рвала. Повидать всех она, я думаю, не против, да и агитация в кругах врагов, повод, опять же. И еще, мне кажется, у нее изворота мозгов хватит, чтобы проституток, которые у Саджун трудились, за угнетенные народные массы считать. У нее мы все возможности про Гришу и разузнаем. Надо же его оттуда как-то вытаскивать, пока он жив… Но вот я вижу закавыку…
– Какую же?
– Васечка не пойдет на твой прием ни под каким соусом. Я же, как замужняя дама, не могу явиться туда без сопровождающего. Никто из друзей дома не решиться вызвать Васечкино неудовольствие и сопроводить меня, а своих друзей-мужчин у меня, как ты понимаешь, нет и по моему положению не может быть…
– Ловко! – воскликнула Софи.
Как в Элен все это вместе уживалось – тоже оставалось для нее загадкой. Строить вполне деятельные планы по подготовке побега политического ссыльного и обустройства публичного дома и одновременно не мыслить своего появления на светском приеме без специально подобранного спутника. При всем при том (и Софи не могла этого не понимать) – Элен оставалась завидно цельной личностью, которая никогда не изменяла своим принципам.
– Но я должна там быть, чтобы поддержать тебя, да и сама моя репутация поможет заманить в особняк гостя-другого, – задумчиво продолжала рассуждать Элен. – «Если уж Элен Головнина там будет, значит, милочка, не так страшен черт, как его малюют…» – теперь Элен блестяще спародировала блеющую интонацию Ирочки Гримм и ее чуть квакающий немецкий акцент. – Ты просто физически не сможешь беседовать со всеми интересующими нас лицами одновременно и, значит, кого-то я должна буду взять на себя… И все это получается решительно невозможно, и я теперь чувствую себя неловко по отношению к тебе, так как знаю, что ты, эмансипэ, думаешь про мои принципы…
– Элен, не волнуйся, я очень уважаю твои принципы! – отрывисто сказала Софи. План Элен она уже внутренне приняла, и теперь прокручивала в голове детали, сметы и сроки потребных устроительных работ. – И я, клянусь, найду тебе кавалера!
– Где же ты его найдешь? – с тревогой спросила Элен. – Васечка, ты знаешь, он очень долго может помнить обиду, и я б не хотела, чтобы у кого-нибудь из-за меня… Если кто-то из друзей Петра Николаевича по доброте душевной…
– Элен, я достану тебе спутника не из высшего света, – сказала Софи. – Которому плевать на Васечку и на отношения с ним. Твои принципы, надеюсь, это позволяют?
– Но откуда же все-таки ты его возьмешь? – растеряно переспросила Элен. – Мастера с твоей фабрики? Управляющего имением? Издателя?
– Господи! – не удержалась Софи. – Мне бы твои заботы! Я… Я позову на прием инженера Измайлова. Он тебе подходит?
– Измайлова? – карие глаза Элен блеснули любопытством. – Это тот самый, который как бы герой твоего романа?
– Ну да, – усмехнулась Софи. – Как бы герой.
– Ты знаешь, мне всегда было любопытно на него взглянуть, – призналась Элен. – Насколько он похож… Михаила Туманова я хотя бы немножко знала, и Сержа Дубравина, а Измайлова даже не видела… И еще Машеньку Гордееву…
– Ну, Машеньку я тебе предоставить никак не могу, а вот Измайлова и повидаешь, – подытожила Софи. – Я тоже давно его повидать хотела. А тут и случай вышел…
– Но, может быть, он и не захочет… не согласится? – с сомнением протянула Элен.
– Увидев твою ослепительную красоту, любой мужчина почтет за честь сопроводить тебя на бал, – отчеканила Софи. Элен мило, совершенно по девически зарделась.
– А что он нынче делает-то? – заторопилась она отвести разговор от своей персоны.
– Андрей Андреевич Измайлов, насколько я о нем осведомлена, служит нынче инженером на Николаевской железной дороге. Живет совершенным бирюком, на съемной квартире со столом, семьи не имеет, из шинели носа не кажет. Раз в три-четыре месяца пишет и отсылает в «Вестник железной дороги» статьи, по слухам, весьма дельные. С прошлыми своими знакомцами, по революционным делам, порвал совершенно, а новых – не завел, как будто бы и без надобности. Два раза в месяц посещает Михайловский театр, причем билеты покупает на галерею, по пятьдесят копеек…
– Софи! – удивленно воскликнула Элен. – Но откуда же ты все это знаешь?
– Дядюшка его, Андрей Кондратьевич Измайлов, промышленник, мне по делам известен, еще со времен Михаила, – объяснила Софи. – После он мне изрядно помог советом, когда я дела на фабрике налаживала, и магазины, и прочее к ней присоединяла. Вот он-то мне не раз на племянника и жаловался…
– За что ж?
– Да он-то его вырастил, как сына, хотел к делу семейному пристроить, смотрел, как на наследника и продолжателя, а Измайлов ему: «Вас не надо!» Любому обидно бы стало…
– Пожалуй… – протянула Элен. – Но что ж поделать, если у Андрея Андреевича душа не лежала…
– Ничего не поделать! – с тенью непонятного раздражения в голосе сказала Софи. – Будто мы все только то и делаем, к чему у нас душа лежит…
– Ну уж ты-то – во всяком случае! – неожиданно веско сказала Элен, смягчив, впрочем, свои слова улыбкой.
– Ого! – Софи как будто готовилась возразить, но не успела, так как именно в этот миг дверь кареты распахнулась и в нее буквально влетела подсаженная Ваней Милочка.
– Ой, мама, ой, тетя Элен! – защебетала она. – Там так здорово, так красиво, такой ужас! Мы на карусели катались-катались, пока денежки не кончились, меня потом тошнило, но Ванечка мне головку подержал и свой платок дал, и все уже прошло. Только пирог с марципаном жалко, он весь наружу убежал, но его воробушки склюют, так что – ничего. А на карусели было такое призовое кольцо на пружинке. Кто его сумел вырвать, тот может еще бесплатно кататься. И Ванечка хотел вырвать, но у него не вышло, а оборванец тот, Федька, который у меня денежку хотел украсть, целых два раза сумел, а мышка вытащила, что над нами тайны сгущаются, и я сначала испугалась, но Катька сказала, что мне еще понравится…
Софи сжала руками виски, а влезший вслед за Милочкой Ваня выразительно взглянул на мать: «Понимаешь, мол, как мне тяжело пришлось?».
Элен ласково улыбнулась сыну и нежно обняла дрожащую от возбуждения Милочку.
– Все хорошо, солнышко, все хорошо! – проворковала она. – Сейчас домой поедем, молочка попьем, и в кроватку…
Глава 10
В которой инженер Измайлов говорит о тяжкой доле литературного героя, деревенские дети штурмуют снежную крепость, а Джонни становится братом милосердия
Инженер Измайлов снимал квартиру на Полтавской улице, недалеко от Знаменской площади и Николаевского вокзала. Софи, которая прямо-таки до щекотки любила ковать железо, пока оно горячо (то есть, говоря иными словами, реализовывать любую свою блажь немедленно после того, как она пришла ей в голову), велела ехать туда тот час же, полагая, что в выходной день инженер просто обязан сидеть дома. «А куда ж ему еще пойти-то, коли на службу не надо? – рассудила она. – Да и с Семеновского плаца случай удобный!»
Элен слабо противилась, однако, пока она вслух рассуждала о неуместности столь внезапного визита, ее собственный кучер, повинуясь напору Софи, уже гнал карету сначала по набережной Обводного, а потом по Лиговской улице в сторону Знаменской площади. Уставшая Милочка клевала носом, а Ванечка с любопытством выглядывал из окошка, разглядывал небольшие домики с извозчичьими дворами, всякий хлам на берегу находившегося в запустении канала. За каналом поднимались высокие заводские трубы, вдоль немощеных улиц жались друг к другу грязные домишки окраины, маленькие лавчонки, трактиры, чайные, «казенки».
У дома Элен категорически отказалась подниматься наверх и осталась в карете с вялыми и почти засыпающими детьми. Софи осведомилась у дворника, у себя ли инженер Измайлов, и, получив положительный ответ и провожаемая крайне заинтересованным взглядом (дворник, разумеется, заметил и оценил карету с гербом, из которой Софи вылезла), бодро побежала наверх по чистой и относительно широкой лестнице. Измайлов жил на третьем этаже и сам открыл дверь.
– Здравствуйте, Андрей Андреевич! Вот и я! – весело и оживленно поздоровалась Софи, словно полагая, что Измайлов с утра с нетерпением ожидает ее визита.
– Вы?! – на лице инженера отразилось крайнее, почти граничное изумление. При сем окраска этого изумления была явно неположительной.
– Ну, разумеется, я, собственной персоной! Вряд ли это мой призрак или дух, или еще что-нибудь в этом роде. Так я могу пройти?
– Проходите, – Измайлов мотнул головой, почти открыто демонстрируя лицом, с каким удовольствием он спустил бы незваную гостью с лестницы.
Софи попросту не обратила на его гримасы внимания.
Прошла в прихожую, сбросила на руки Измайлову шубку, бегло оглядела занимаемые инженером апартаменты. Их вылизанная гигиеническая безликость задела что-то даже в ее, вполне равнодушной к красотам интерьера, душе.
– Как будто и нет никого, – высказалась она. – Словно живые и не заходили. Отчего вы так? И сами… – Софи с укором оглядела невысокую, слегка мешковатую фигуру инженера. – Постарели, полысели… на рыжую крысу стали похожи, вот. И ведь своим, не природным расположением… У нас в уезде немец живет, из бывших следователей, Густав Карлович Кусмауль, так он вас как бы не в два раза старше, а все с лысиной борется, втирает какие-то эликсиры для ращения волос и всех, кого видит, спрашивает: ну как? Если кому надо к нему подольститься, так уж все у нас знают: следует на него эдак оценивающе, вприщур, взглянуть, помолчать, а потом и ахнуть: «Ах, Густав Карлович, да никак у вас волосы погуще стали? Неужели нашли-таки чудо эликсир?! Или здоровый образ жизни помог?» После этого и делай с ним что хошь… А вы… Скучно живете, Андрей Андреич…
– Да уж у вас спросить позабыл! – обиженный и больно задетый столь внезапной атакой, Измайлов совершенно выбросил из головы свое намерение держаться с гостьей по возможности пиететно.
– И то верно, – покладисто согласилась Софи. – А я вас как раз развлечь хочу. У меня скоро прием по новому адресу, в новом особнячке будет. И вот моей лучшей подруге, умнице и красавице, по стечению обстоятельств кавалера нету. Я сразу об вас и подумала…
– Напрасно, совершенно напрасно! – резко перебил ее Измайлов. Ему хотелось, чтоб голос прозвучал спокойно и отчужденно, но получился едва ль не истерический выкрик. Софи глянула удивленно.
– Отчего же так? Вы же даже дня не знаете, значит, не можете на занятость сослаться. Поверьте на слово, прием обещает быть интересным, а дама ваша – человек, действительно исполненный всевозможных достоинств…
– Тем не менее благодарю, но я – категорически занят!
– Чем же это вы таким, позвольте спросить, заняты целыми днями? – прищурилась Софи. – Семьи у вас нет, друзей – тоже, даже собаки, я гляжу, не завели…
– Все это, позвольте заметить, совершенно не ваше дело.
– Ну, это еще как взглянуть, – усмехнулась Софи. – Вы, как выразилась все та же моя подруга – мой герой. В какой-то мере автор несет ответственность…
– Уходите! – прошипел Измайлов, бледнея. На какой-то миг Софи показалось, что сейчас он схватит ее за плечи и пинком вытолкнет из квартиры.
– Эгей! – она помахала пальцами перед лицом инженера жестом индийского факира, отвлекающего внимание дрессированной змеи. – Объяснитесь, любезнейший Андрей Андреевич. Я всего лишь пригласила вас на вечеринку. В чем дело? Я имею право знать?
– Наверное, имеете, – тусклым, шершавым голосом сказал Измайлов. – Может быть, вам это будет даже полезно, хотя в последнем я сильно сомневаюсь. Такие люди, как вы, обычно категорически необучаемы…
– Я вся внимание! – поощрила инженера Софи, самочинно усаживаясь на жесткий стул с прямой спинкой. Андрей Андреевич присел в противоположном конце комнаты с таким видом, как будто бы его мучил приступ жестокой внутренней боли.
– Поскольку уверен в совершенной бессмысленности данного объяснения, буду по возможности краток. Вы, Софья Павловна, человек, безусловно, богато природой одаренный и где-то даже талантливый. То, что вы хотите увидеть, можете ухватить и описать в совершенстве. Что же до выводов или следствий из увиденного, то это вас просто не касается, потому что вы так когда-то решили. И в том вы, кажется, даже свою особую доблесть видите. Вроде бы как волк жил сначала, как живется, жрал все, что бегает, а потом однажды познакомился с дарвинистической теорией естественного отбора и вдруг увидел в себе не просто хищника, но – санитара леса. Так же и вы. Некоторая многозначительность ваших ужимок позволяет с достаточной долей вероятности предположить, что вы и миссию себе какую-нибудь придумали в оправдание…
– Но в чем же, позвольте, мне оправдываться? И перед кем? – осведомилась заинтересованно слушающая инженера Софи.
– Я, как вы знаете, не могу отнести себя к людям, которые никогда не меняли своих убеждений. Напротив, увы. Но все же ваша волчья нравственная всеядность не поражать не может. Вы фактически опубликовали мой личный дневник, который к вам неизвестно каким способом попал, и не слишком даже потрудились обстоятельствами замаскировать первоисточник. Если вас в детстве не учили, что читать чужие письма и чужие дневники неприлично, то я, право, не знаю, где ж вы воспитывались? Неужели в Вяземской лавре, как герой вашего предыдущего произведения?! И ладно бы этим ограничиться. После этого у вас хватило наглости лично и бесцеремонно явиться в мою жизнь, и предложить свои услуги для ее дальнейшего обустройства. Помните, когда я, как неблагонадежный элемент, не мог найти работу, вы звали меня инженером к себе на фабрику, и искренне, кажется, удивлялись, отчего это я не хватаюсь с жадностью за ваше предложение? Разумеется, учитывая вашу писательскую известность и знание общества о том, что вы не пишете без прототипов, меня вычислили почти сразу после того, как вы решили со мной «подружиться». Вы же писатель, так вам никогда не приходило в голову вообразить, во что это узнавание превратило мою жизнь? Вот это развешивание на доступных для всеобщего обозрения веревках личных, интимных и не всегда чистых предметов психического туалета? Каждый, начиная от моего собственного дяди и кузин, и заканчивая грамотным рабочим из железнодорожных мастерских, с той или иной долей такта, а точнее, его отсутствия, спешил осведомиться о том, насколько касающиеся меня факты, изложенные в вашем романе, совпадают с действительностью, был ли у меня роман с замужней женщиной, правда ли, что я, будучи несправедливо обвиненным, пытался повеситься и т. д. и т. п. Может быть, это иллюзия, но теперь мне кажется, что как бы не год я слышал вокруг себя непрерывное цоканье языками. Бывшие товарищи предлагали мне свою помощь и убежище в виде немедленного включения в революционную работу и перехода на нелегальное положение… Право, если бы в ту пору я задумал свести счеты с жизнью, мне следовало бы оставить обвиняющую вас записку…
Софи слушала внимательно и серьезно, склонив голову набок и накручивая на палец локон. Когда он замолчал, продолжала молчать и она. Измайлов напрасно ждал каких-то ее слов.
– И вот теперь, спустя столько лет, когда моя жизнь как-то наладилась, и я ясно дал вам понять… – после сказанного инженер позволил себе подпустить в голос патетики. Это было его ошибкой. У Софи совсем не было музыкального слуха, но, несмотря на это, ее слух на интонации был безошибочным.
– Как бы там ни было, вы не сможете меня убедить, что ваша нынешняя «устроенная» бесцветная жизнь – следствие моей ошибки, когда я позволила людям догадаться, кто на самом деле автор «красной тетради», – решительно заявила Софи. – Вы – слишком сильный человек, чтобы хоть что-то в вашей жизни было изваяно чужой рукой. Вы ждете, чтоб я теперь покаялась и вас пожалела? Извольте, только это получится два раза соврамши. Я от души не умею, а вам – сто раз не надо. Что сделано, то сделано. Светская игра, не хуже прочих. Других тоже сто раз узнали, и не всегда лицеприятно, однако никто, кроме вас, шекспировских монологов не произносил и остатки волос на лысине не рвал. Элен Головниной вон даже нравится про себя читать, хотя я ее все время дурой набитой выставляю и с курицей сравниваю… Кстати, о Головниной. Как-то мы с вами далеко от изначальной темы отвлеклись, а меня внизу, между прочим, усталые дети ждут. Так я не поняла: вы на прием-то придете, согласитесь на один вечер счастье той самой Элен составить и стать ее кавалером? Да? Так я вам приглашение на днях пришлю с лакеем. Форма одежды в меру свободная, поскольку там раньше публичный дом был. Правильно решили, Андрей Андреич, и Элен довольна будет. Чего обиды копить? Люди, обещаю, там будут преинтереснейшие, и душка Элен… Эй, Измайлов, вы чего это синеете-то? Никак язык проглотили?!
– Вы… Вы… – с трудом выговорил инженер, явно не находя потребных не только слов, но и мыслей с чувствами. – Усталые дети… Публичный дом… душка Элен…
– Да бросьте вы… – начала было Софи, но ее реплика была прервана звуком открывающейся в прихожей двери (пропустив-таки в квартиру Софи, Измайлов забыл притворить дверь).
Элен вошла в комнату и тревожно огляделась, чуть хмуря безупречный лоб и поводя тонко прорезанными ноздрями. Общую атмосферу беседы она уловила еще в прихожей, хотя и не слышала ни одной реплики.
– Софи! – глубоким, грудным голосом воскликнула она. – Я же говорила тебе, что это бестактно – являться без предупреждения, да еще и навязывать… Как неловко… Простите, Андрей Андреевич? Я – Элен Головнина. Я знаю, это решительно невозможно, так представляться, но когда Софи удила закусит, ее, знаете, совершенно невозможно остановить…
На лицо Измайлова медленно возвращались обычные для него краски. Элен, понимая, что обстановка встречи еще слишком далека от гармонической, продолжала говорить, перебарывая свое обычное смущение перед незнакомым человеком. Впрочем, именно Измайлов почему-то не очень смущал ее с самого начала. В его некрупной, несколько неловкой фигуре, простоватом, но умном лице было что-то отчетливо располагающее к себе, вызывающее мысль о безопасности и уюте. Тем сильнее казался контраст с окружающей его домашней обстановкой, лишенной этого самого уюта насильственно и категорически.
– Я вас, знаете, серьезно по-другому представляла. Это из-за Сониных описаний, когда она всегда какие-то ударные сцены на первый план выводит, будто даже и обычные люди на баррикадах и в каких-то непрерывных битвах живут. Хотя, может быть, для романов именно так и надо. Вы мне по книге казались больше размером, жестче и как бы это… на Михаила Туманова слегка похожим. А в вас совсем этого нет, даже удивительно, что Софи увидела. Мне всегда хотелось с вами познакомиться, но, разумеется, не так… не так навязчиво. Я прошу вас меня и Софи извинить, это был, как всегда у нее, порыв, а я окоротить не смогла, так как это, получается, из моих интересов, и теперь мне так неловко, что вы обо мне, не зная обстоятельств, подумать могли…
– Что же я мог подумать? – хрипло, но уж почти нормально спросил Измайлов.
– Ну вот, – Элен опустила взгляд и зарделась. – Какая-то подруга, которой даже и кавалера на вечер не найти, и надо ехать к дальнему знакомому и его просить… Бог знает что, должно быть, эта дама…
– Я, признаться, ничего вообще об этом не думал, но вашим наличным обликом очарован вполне, – сказал комплимент вроде бы окончательно пришедший в себя Измайлов.
Элен по-девически присела в реверансе и склонила голову, демонстрируя безукоризненный пробор. Софи сардонически усмехнулась.
«Господи, да что же может их объединять?! – смятенно подумал Измайлов. – Эта сказала, что Элен – ее лучшая подруга… И ведь, кажется, не соврала…»
– Вы, как я поняла, отказали Софи, – утвердила между тем Элен, довольная хотя бы тем, что своим комплиментом ее внешности Измайлов открыл им достойный путь к отступлению. – Я вас вполне понимаю, поверьте. Софи со своим напором раз на раз… то выигрывает, то проигрывает. Однако, способа менять не хочет… Простите еще раз, что мы вас в час отдохновения побеспокоили бесцеремонно, а теперь откланяемся, так как нас дети в карете ждут…
«Опять дети? Какие? Чьи? Откуда?» – отрывисто подумал Измайлов, понимая, что женщина, как две капли воды похожая на все грезы его молодости разом, сейчас уйдет, и он больше никогда в жизни ее не увидит.
– Постойте! – сказал Измайлов, делая короткий шаг в направлении Элен. – Я отказал Софье Павловне, но ведь речь, как я понимаю, идет о вас…
– Да, – кивнула Элен. – Из обстоятельств, в которые вдаваться долго и теперь невместно, я не могу прийти туда ни с мужем, ни с кем-то из друзей дома… Простите! Вам это, наверное, еще глупее сейчас кажется… Две великовозрастные дурочки в какие-то игры играют…
– Отчего-то игра, в которую играете вы, больше не кажется мне глупой, – серьезно сказал Измайлов, голосом подчеркнув слово «вы». – Если ваша надобность в моих услугах не отпала, то я готов сопровождать вас на этот прием.
Правая бровь Софи потерялась под выбившимся из прически локоном, а левая свободно ползала по пространству высокого фамильного лба.
«Ну и ничего ж себе пряники! – прошептала она себе под нос. – Знала бы как обернется, сразу ее и послала бы! С Ванечкой и Милочкой, чтоб компрометации не было…»
Снег выпал под утро: мягкий, голубой, влажный и липкий. Едва ль не с восхода рано просыпающиеся деревенские ребята весело и слажено строили снежную крепость. Крепость получилась изрядной – стена высотой едва ли не в сажень, и четыре башни, еще того выше. После полудня парнишки разбились на две команды, атакующих и защитников, и начали штурм. Смех и задорные вопли перемежались действительной яростью и слезами. Заготовленные заранее снежки мало чем отличались от ледышек и, метко пущенные, наносили противнику существенный урон. Нападающие, естественно, побеждали. Крепость, как и каждый год до того, постепенно близилась к сдаче.
Спустя какое-то время после начала штурма, прямо на поле боя, у стен крепости объявилась Милочка в аккуратной шубке, размахивающая белой тряпкой на палке и имеющая на плече сумку, которую украшал вырезанный из тряпки и на живую нитку пришитый красный крест.
Военные действия на мгновение прекратились.
– Я буду сестрой милосердия! – важно заявила Милочка и с тем проследовала в крепость.
Судя по набитой медикаментами и корпией сумке, она и вправду настроилась оказывать защитникам какую-то медицинскую помощь. Обрадованные такой неожиданной поддержкой из барского дома, мальчишки-защитники приободрились, собрались и за довольно короткое время вывели из строя до полудюжины противников. Настроение слуг и прочих взрослых, расположившихся вокруг и с удовольствием наблюдавших за традиционной мальчишеской потасовкой, тоже переменилось. Если ранее подбадривали атакующих, то теперь все улюлюканьем и выкриками желали удачи осажденным.
Липатка, высокий, худой мальчишка, командир нападающих, после очередного отбитого штурма остановил своих и поднял руку:
– Так нечестно выходит! – крикнул он в сторону крепости. – У вас есть сестра милосердия, а у нас – нет. Надо, чтоб по справедливости. Пусть она уйдет.
Со стен крепости защитники, кривляясь, показывали Липатке фиги и прочие неприличные фигуры, выкрикивали всякие оскорбления. Взрослые тоже смеялись.
Однако Липатка не обращал на это внимания. Для своих лет он был весьма наблюдателен, носил уголь в барский дом, и знал, что делал.
Не прошло и пары минут, как тоненькая фигурка Милочки показалась в воротах крепости.
– Ты прав, Липатка. Так несправедливо, – сказала она. – Но, может быть, кто из девочек захочет быть вашей сестрой? Я могу лекарствами поделиться, и бинт дам…
Наблюдавшие за схваткой крестьянские девчонки, на которых падал взгляд Милочки, все, по очереди, отрицательно мотали укрытыми платками головами. Принимать участие в мальчишеских потасовках, по их взглядам, означало – «срамиться». И от братьев после достанется, и от родителей, если узнают. И подруги засмеют. Кому надо? Барское дите – глупое, ему до репутации и дела нет. Вот и пусть срамится, коли ей охота…
Мальчишки ждали, пользуясь заминкой для того, чтобы перевести дух и приложить снег к полученным ссадинам. Милочка растерянно огляделась, на глазах ее выступили слезы. Потом вдруг она просияла, ударила себя варежкой по лбу.
– Сейчас! – крикнула она. – Подождите меня, пожалуйста, минутку. Не начинайте без нас!
Милочка убежала и вернулась действительно скоро, как и обещала. За собой она буквально волокла сопящего от спешки и спотыкавшегося на обтаявших сугробах Джонни. По боку его била почти такая же сумка, как у Милочки. Крест был наскоро нарисован не то мелом, не то пастелью. На бегу Милочка что-то быстро и горячо объясняла мальчику. Дауненок испуганно щурил маленькие глазки и высовывал толстый язык.
– Да ну его! – крикнул сразу во всем разобравшийся Липатка. – Не нужен нам этот…
Милочка хитро усмехнулась и оставив Джонни у стены, пожелала о чем-то переговорить с командиром гарнизона крепости. Быстро пошептавшись с ним, она снова схватила Джонни за руку и подвела его к крепостным воротам.
– Вот! – крикнула Милочка. – Джонни будет у них, в крепости, братом милосердия. А я буду с вами, с теми, кто нападает. НО учтите, стрелять в сестер и братьев милосердия нельзя. Нарушение конвенции…
– Но как же мы поймем-то?… – растерянно пробормотал Липатка. – Он же мелкий совсем, его и не видно…
– А это уж – ваше дело! – торжествующе воскликнула Милочка.
В это мгновение между ног наблюдателей, стоящих на расчищенной дорожке, протиснулся черный кот. Отыскав взглядом Джонни, Кришна подбежал к нему и, примерившись и оттолкнувшись лапами от сумки, вскарабкался к хозяину на плечо. Джонни присел, но, тут же преодолев собственный страх, успокаивающе погладил широкую морду приятеля.
– Нечистая сила! – взвизгнул кто-то из девчонок.
Джонни вместе с котом и командиром гарнизона скрылись за тут же затворившимися воротами, сделанными из старой садовой калитки. Двое совсем маленьких мальчишек из нападавших испуганно перекрестились и бросились бежать, мелькая подшитыми пятками белых валенок.
Липатка хмурился. Милочка, улыбаясь, смазывала мазью ссадину на скуле мальчишки из числа атакующих.
Вопреки многолетней традиции, взять крепость фактически так и не удалось. Две башни из четырех были разрушены бревнами-таранами и превращены в огромные сугробы. Но стены и ворота защищали яростно и, казалось, неутомимо. Джонни никто не видел, но то здесь, то там, нагоняя страх, появлялась на белом навершии стен выгнутая черная фигура с разинутой в беззвучном шипении розовой пастью. И это зрелище каждый раз почти полностью лишало воинство Липатки мужества. В конце концов все устали, проголодались, исчерпали кураж и порешили окончить дело миром. Все мальчишки из крепости благодарили Джонни (наскоро наученный Милочкой, он, тем не менее, вполне удовлетворительно выполнял в течении штурма обязанности медбрата), хлопали его по плечу и осторожно, сняв варежки, гладили кота. Кришна, вопреки обыкновению, разрешал себя трогать, и кажется, по своему гордился их с хозяином успехом в обществе. В конце Милочка и Джонни принесли из господского дома две корзиночки с горячими пирожками, которые имели среди проголодавшейся братии бешеный успех. Джонни, по-видимому, уже ничего не боялся, улыбался мальчишкам, и даже, размахивая коротенькими руками, пытался что-то рассказать Милочке о пережитом во время осады крепости. Милочка успокаивающе кивала в ответ.
Павлушу Петр Николаевич обнаружил в саду, в значительном отдалении от обороняющейся крепости (впрочем, с пригорка, на котором расположился мальчик, все было неплохо видно).
– Отчего ты не с ними, сынок? – спросил он. – Я, когда был мальчишкой, всегда почему-то оборонял крепость. Не могу припомнить, чтоб хоть раз атаковал…
– Глупость это все, – равнодушно отозвался Павлуша. – Визг, писк, а толку? Дурацкое времяпрепровождение для дураков. Джонни вот там как раз на месте, это его уровень. Хорошо Милка придумала. А прочие… Только, чтоб время убить…
– А что же, по-твоему, было бы для них – не дурацкое? – сдерживая себя, осведомился Петр Николаевич. – И – не убить?
– Мне за них решать? – искренне удивился Павлуша. – Уволь, папа. Это вот пусть дядя Гриша за всех радеет. И другие, коли им в радость. Я бы хотел с собой правильно разобраться, а на большее – у меня пока претензий нет…
– Господи, ну до чего ж ты пыльный и скучный какой-то! – не удержался Петя. – Казенный – правильно Милочка сказала. И это в десять-то лет!
Павлуша, совершенно по виду не обидевшись, дружелюбно улыбнулся отцу и погладил его по рукаву.
– Не всем же парить в эмпиреях, папа, – сказал он, как-то по-стариковски пожевав пухлыми, детскими губами. – Надо кому-то и по казенной, и по финансовой части. Без того государство, как я сумел разобрать, не живет… А чтобы все понять, да управлять этим, многое уразуметь надо, и времени, стало быть, много потратить. Если я сейчас начну, как они, вопить и кругами бегать, кому лучше-то будет?
– Павлуша, ну неужели ты не можешь понять, что мир много богаче и красивее… – начал было Петр Николаевич, но оборвал сам себя. Прозрачный до дна взгляд приемного сына убедительно демонстрировал, что Павлуша не по злобе или упрямству, а просто структурно не приемлет подобных рассуждений. Нет у него в душе соответствующего им приемного места. Отсутствует.
«Но как же так вышло-то?» – растерянно подумал Пьер и не нашел ответа. В отцовстве его тоже не было. Что бы ни сказать про покойного Туманова, но одно остается несомненным: он был человеком сильных страстей и эмоциональную сторону его натуры нельзя было назвать бедной ни в каком случае.
– Гляди, папа, там мама приехала! – радостно воскликнул Павлуша, потянув Петра Николаевича за рукав и тем отвлекая его от бесплодных рассуждений. – Во-он она… вон там, видишь? Пошли же туда…
– Пошли, – согласился Петя и, не удержавшись, напоследок подумал о том, что сам он в возрасте Павлуши в сходных обстоятельствах непременно сказал бы «побежали!».
Глава 11
Из которой читатель многое узнает о родственниках Софи, а Аннет Неплюева чувствует себя выпитым бокалом
– Ну как, Флоренсы Найтингейлы, живы? – снисходительно приветствовал Павлуша сестру и Джонни.
Джонни, поглаживая Кришну, ответил молчаливой улыбкой, а Милочка презрительно фыркнула.
– И вовсе я не Флоренс Найтингейл, – отрезала она. – Я – Елена Бакунина. Она еще в 1854 году на поле боя раненным помогала. А Флоренс под Севастополем почти два года спустя. Бакунина – первая.
– Ну… тогда да, тогда – конечно, – сразу же согласился Павлуша и взглянул на сестру с оттенком уважения. Надо признать: иногда Милочке, которая большую часть времени выглядела совершеннейшей дурочкой, удавалось его удивить. – Мама, ты почему приехала? Не собиралась же вроде?
– А ты что, мне не рад? – бегло улыбнулась Софи.
– Рад, разумеется, – Павлуша пожал плечами. – Просто раздумываю, что бы это для нас значило…
– Ужас! – поморщилась Софи. – Немедленно перестань раздумывать, беги лучше поиграй с Милочкой и Джонни…
– Ага, – усмехнулся Павлуша. – Уже бегу. Так ты надолго?
– Проездом в Гостицы. Хочешь поехать со мной? Повидаться с Кокой?
– Я хочу! Я хочу! – тут же запрыгала Милочка.
– Пусть она едет, а я с бабушкой останусь, – сориентировался Павлуша. – У нас еще дела есть. А Кока… опять будет мне свою коллекцию листочков да тараканов показывать…
– Не вижу решительно ничего плохого в том, что Николай собирает гербарий и коллекцию насекомых! – отчеканила Софи. – Он сын моей сестры и твой кузен!
– Да я ничего и не говорю, – примирительно заметил Павлуша. – Пусть себе что хочет собирает. Просто не хочу туда ехать. Там, в Гостицах…. ну там кокины коллекции – это не самое засушенное, что есть…
– Что ты хочешь этим сказать?! – рявкнула Софи.
Павлуша задумчиво смотрел на высоко проплывающие мартовские облака.
– Паша имел в виду тетю Аннет и бабушку Наталью Андреевну, – тихо сказала Милочка, скромно опустив глазки.
Иногда брат и сестра довольно успешно играли в паре.
Софи сдержала готовое сорваться ругательство и, развернувшись на каблуках, пошла к дому.
– Мама, ну вы хоть отобедаете с нами перед отъездом? – послышался сзади невинный голос Павлуши. – Если Милочку сейчас не покормить, то она потом, в Гостицах, капризничать станет.
– Мне листики нравится смотреть, – объяснила Милочка отцу, доверчиво вложив свою ладошку в его руку. – У Коки там все так аккуратненько, и подписано красиво. А бабочек и жучков мне жалко. Они как живые, но все равно – мертвые. Как Кока может их убивать? Ведь он добрый мальчик, я знаю…
Когда тринадцатилетний Кока увел Милочку наверх смотреть свои коллекции, Наталья Андреевна достала пузырек с нюхательной солью и внимательно оглядела старшую дочь и зятя.
– Что?! – патетически вопросила она.
Софи наклонила голову, подбирая нужные слова и одновременно думая о том, что вот, Мария Симеоновна намного старше ее собственной матери, и тоже давно вдовеет, а выглядит не в пример бодрее и свежее Натальи Андреевны.
Сестра Аннет смотрелась молодой копией Натальи Андреевны, которую слегка подержали в хлорном растворе для отбеливания.
«Господи, да отчего ж она себе такие платья-то старушечьи шьет?» – удивилась Софи, рассматривая преждевременно увядшую шею и неживые кисти сестры, и почему-то избегая взглянуть ей в лицо.
– Были ли вести от Ирен? – спросила она.
– Недели две назад – письмо, – припоминая, ответила Аннет. – Все, как всегда. Здорова, работает, детишки в школе балуются. Спрашивала про здоровье Модеста Алексеевича, жаловалась, что Гриша ей не пишет совсем. Приезжала только в Рождественские вакации…
– Больше ничего не писала?
– Больше ничего. Да ты разве за тот же срок с ней в Петербурге не виделась?
– Видите ли, наша Ирен куда-то исчезла… – задумчиво вымолвила Софи.
– Как исчезла?! – ахнула Наталья Андреевна. – Почему?!
– Мы сами покуда ничего не знаем, – быстро заговорил Петя. – И, я думаю, теперь не стоит еще особенно волноваться. Ирен всегда была довольно замкнутой девушкой, насколько я понимаю, про нее никто ничего толком не понимает и не может сказать… Может быть, она просто решила как-то изменить свою жизнь, и не хочет пока никому сообщать, чтобы не нарваться на протесты и уговоры…