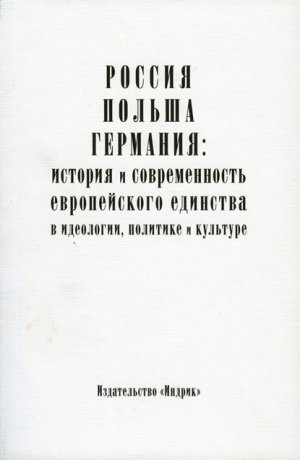
© Коллектив авторов, Текст, 2009
© Издательство «Индрик», 2009
Предисловие
В начале XXI в. взаимоотношения Германии, Польши и Рос сии сохраняют принципиальное значение для развития международных отношений в Европе для всестороннего экономического, политического и культурного сотрудничества на континенте, для осознания народами наших стран современных форм европейской идентичности. Поэтому эти отношения привлекают пристальное внимание европейской общественности. За последние десятилетия существенно изменился облик Европы, отразив стремление народов идти по пути поиска коллективных, совместных форм экономического развития, социального и культурного прогресса. Однако строительство общеевропейского дома связано не только с достижениями. Создание единой Европы, развитие отношений как внутри Европейского союза, так и стран объединенной Европы с соседями породили также немало сложных проблем. Обусловившие их причины вызваны не только современным процессом глобализации. Многие из них уходят корнями в историческое прошлое. История взаимоотношений Германии, Польши и России становится подчас предметом острых политических и публицистических дискуссий, которые нередко осложняют как отношения между этими странами, так и их отношения с соседями. Следует подчеркнуть, что прошлое, исторический опыт наших народов оказывает глубокое воздействие на характер политических и культурных процессов сегодняшнего дня. Причем многогранные отношения между нашими странами оказывают существенное влияние на политический климат и культурный облик Европы в целом.
Неразрывная связь истории и современности была в центре внимания участников международной научной конференции «Россия, Польша, Германия: история и современность европейского единства в идеологии, политике и культуре» (Псков, 17–19 сентября 2007 г.). Ее организаторами выступили Российская академия наук, Комиссия историков России и Польши, Институт славяноведения РАН, Германский исторический институт (Москва), Псковский государственный педагогический университет, Смоленский государственный университет, АНО «Псковский археологический центр», Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Председатель оргкомитета конференции – один из выдающихся историков России, получивший признание за рубежом – член-корреспондент РАН, профессор Борис Николаевич Флоря (Институт славяноведения РАН). Конференция проводилась с участием и при организационной и финансовой поддержке Германского исторического института (Москва) и Фонда им. Фридриха Эберта.
Символично, что названная конференция, посвященная России, Польше и Германии, вслед за конференциями в Москве (1994) и в Смоленске (2001), где проводились предыдущие конференции в рамках этой научной программы, состоялась ныне в Пскове. История Пскова – одного из древнейших русских городов – весьма тесно связана с историей наших соседей. Будучи форпостом на северо-западе России, Псков и Псковская земля внесли не только значительный вклад в защиту отечества. Не меньшая роль была отведена Пскову в развитии экономических и культурных связей России с соседними странами, в том числе с Германией, странами Прибалтики, с Литвой и Польшей. Эта историческая традиция продолжается псковичами и сегодня. Псков по праву считается одним из крупных научных центров России, в котором успешно развиваются многие передовые научные направления и школы.
На конференции выступили с докладами и приняли участие в дискуссии ученые из Германии, Литвы, Польши, России, представители Германского исторического института в Москве и Фонда им. Фридриха Эберта в России. Среди российских участников были ученые из Москвы и Смоленска. Наиболее широко были представлены ученые из различных научных учреждений Пскова, наряду с которыми в конференции участвовали представители администрации и общественности города. На открытии к участникам и гостям конференции с приветствиями обратились: мэр города Пскова М.Я. Хоронен, ректор Псковского государственного педагогического университета профессор В.Н. Лещиков, проректор ПГПУ по научной работе А.В. Истомин. С приветствиями выступили также профессора Б.Н. Флоря, С. Былина, Х. Духхардт, представитель Германского исторического института А.В. Доронин и представитель Фонда им. Фридриха Эберта Мария Унрау. В приветствии мэра Пскова, в частности, говорилось: «По нашему убеждению конференция внесет существенный вклад в развитие научных исследований по истории России, Польши, Германии, по проблемам европейского единства и роли наших стран в развитии современной Европы. Она послужит сотрудничеству академической науки и высшей школы, диалогу общественности, взаимопониманию между народами Европы».
На конференции был заслушан доклад видного общественного деятеля Пскова, в прошлом возглавлявшего администрацию города, – И.Е. Калинина (Псков) о связях Пскова с городами-побратимами. Еще в 1970-е гг. автор стоял у истоков движения породненных городов, и сейчас он отдает ему все силы и энергию. Город Псков установил отношения с 17 городами-побратимами в Европе, в том числе 2 города – в Германии и один – в Польше. В докладе были всесторонне освещены их многообразные связи, на первом месте среди которых культура и торговля. Подчеркивая значение народной дипломатии, автор констатировал: «Политики устанавливают границы, а народы стремятся к сотрудничеству».
В дальнейшем в центре внимания участников была проблема формирования и взаимодействия исторических регионов в Центральной и Восточной Европе, роль в этом процессе России, Польши и Германии, а также Литвы и Прибалтики. В докладах были рассмотрены вопросы экономического и культурного взаимодействия регионов и их пограничных областей, формирования здесь этнической, территориальной и национальной идентичности. Говоря в связи с этим о средневековой Польше, С. Былина (Варшава) отметил два направления ее культурного развития, с одной стороны, ориентированного на запад, а с другой – на восток. Особо докладчик остановился на роли Чехии во взаимодействии Востока и Запада в Центральной Европе. В докладе и в развернувшейся дискуссии широко обсуждался вопрос о типологических и культурологических параллелях в культурной структуре регионов, о континуитете их культурного развития и формах их культурного взаимодействия в Новое и новейшее время. Проблема цивилизационной роли этнического и культурного пограничья Германии, Польши и России в XVI–XVII вв. была рассмотрена в докладе А. Буэс (Германия) на примере сочинения Мартина Груневега, в описании путешествия которого нашли отражение культурные и политические реалии Польши, России и других областей Восточной Европы, включая и причерноморские владения Оттоманской империи. Примечательно, что и в этом докладе исследуемые вопросы не были ограничены узкими региональными рамками, а прозвучали в широком европейском контексте.
Значение исследований регионального пограничья нашло отражение в докладах псковских ученых Е.В. Салминой, Б.Н. Харлашова, Н.В Большаковой с соавторами. В них получили разностороннее освещение связи Псковской земли с соседями: с германскими областями в Прибалтике, с Литвой, со странами Западной Европы со времени Средневековья и до XIX в. включительно. Эти связи были прослежены в докладах на уровне как отдельных, так и систематических культурных контактов и связей, на уровне торговых взаимоотношений, на уровне типологии территориальных и административных структур, а также на уровне непосредственного этнокультурного взаимодействия. Сложность исследовательских задач обусловила обращение авторов, наряду с традиционными письменными источниками, к иным видам исторических источников: от широкого применения данных археологии до изучения этнологического материала.
Особо следует отметить доклад Б.Н. Флори (Москва), посвященный России в системе европейских международных отношений XVI–XVII вв. Как отметил докладчик, одним из критериев принадлежности России к Европе является участие России в европейской политике. В докладе главное внимание было уделено эпохе вступления России на европейскую политическую арену и роли в этом Польши и Германии.
Проблемам международной политики было посвящено заседание секции «Политические противоречия и императивы европейской общности». В центре дискуссии на нем оказались вопросы о месте России, Польши и Германии в политической жизни Европы XVII–XIX вв., когда войны и конфликты были практически единственной формой политического взаимодействия государств. Однако в докладах и в дискуссии главным стал тезис о единстве европейского политического пространства, которое определялось отнюдь не только общностью территории и обусловленным географическим положением вынужденным соседством, но общностью политической, военной и дипломатической культуры европейских стран и народов. Одной из форм такой общности стала, например, эпоха Просвещения. Во-вторых, было рассмотрено зарождение и развитие идеи поддержания европейского равновесия и европейского мира. Наконец, существенное значение принадлежало тезису о единстве и многообразии политических форм европейских государств и общих фундаментальных чертах процесса их политической модернизации.
Заседание секции «Взаимодействие культур – фундамент европейской идентичности» было посвящено роли России, Польши, Германии в процессах культурного обмена в Европе. Интереснейший материал в этом отношении был представлен в докладах З.А. Тимошенковой, Л.А. Костючук (Псков). В центре их внимания находились культурные связи русской провинции, рассмотренные на примере Псковской земли и Северо-Запада России. Такая постановка вопроса имеет особое значение, поскольку традиционно международные связи в области культуры изучаются на примере наиболее передовых столичных центров. Аналогичные процессы в провинции имеют свои существенные особенности. Авторы докладов проанализировали культурные связи с зарубежными странами на уровне человеческих контактов, изучая переселение иностранцев в северо-западные области России во второй половине XVII в. Было исследовано также взаимодействие русского и немецкого языков, что, в частности, нашло отражение в русско-немецких разговорниках, зафиксировавших элементы псковской народной речи. Международные культурные связи в Центральной и Восточной Европе на примерах архитектуры и изобразительного искусства были рассмотрены в докладе Т.В. Кругловой (Псков). Книговедческий аспект европейского культурного обмена был исследован в докладе Д. Нарбутене (Вильнюс). Развитие всесторонних культурных связей народов Европы приобрело в первой трети XIX в. новое качество. Как показала Л.П. Марней (Москва), в это время осознание европейской идентичности связывается в общественной мысли уже не только с областью политики и культуры, а находит выражение в проектах экономического объединения Европы.
Центральное место в работе конференции принадлежало также проблемам, связанным с осознанием народами России, Польши, Германии культурной и национальной идентичности, с одной стороны, и идентичности как формы принадлежности к европейскому сообществу – с другой. Особое значение в развернувшейся дискуссии имели доклады Х. Духхардта (Майнц) «Дискуссия о Европе в Германии, Польше и России на исходе XIX в.», А.В. Доронина (Москва) «Россия, Польша, Германия в поисках национальной идентичности» и У. Аугустыняк (Варшава) «Польско-русские отношения в политической публицистике Речи Посполитой XVI–XVII вв. К вопросу о генезисе стереотипа». У. Аугустыняк поставила три фундаментальные проблемы: во-первых, о роли стереотипа в восприятии народами соседних государств друг друга для формирования представления о европейской общности, во-вторых, об исторически обусловленной диалектике сотрудничества и противостояния во взаимоотношениях Польши и России и, в-третьих, о формах осознания в обществе указанной антиномии. В докладе А.В. Доронина были проанализированы критерии (в их историческом развитии) формирования наций. Автор выдвинул тезис о решающей роли в этом исторического сознания и самосознания народа. С точки зрения общности исторического прошлого он рассматривал становление наций в России, Польше и Германии и осознание формирования и эволюции национальной идентичности в европейской общественной мысли. По его мнению, выдвинутый тезис позволяет преодолеть противоречие между критериями этнической общности и государственной принадлежности. Х. Духхардт говорил о проблемах теоретического осмысления европейского единства на рубеже XIX и XX вв., когда строительство единой Европы становится постепенно политическим императивом на исходе Нового времени. Он отметил, что Россия, Польша и Германия представляли собой как бы три типа отношения к европейской общности. Российская империя была обращена в себя и в этом смысле была отделена от Европы. Польша на пути европеизации стремилась к национальному возрождению. Германия развивала идеи европейской общности как форму обоснования своего лидерства среди европейских государств.
Общность европейских народов и их самосознание тесно связаны с проблемами конфессиональной идентичности, с тремя важнейшими направлениями современного христианства. Эти вопросы также нашли отражение в докладах В. Кригзайзена (Варшава), В.Б. Лебедева (Псков). Авторы уделили главное внимание проблеме исторического развития принципов веротерпимости и свободы совести как одного из фундаментальных элементов европейской общности. Другим таким элементом европейской идентичности является примат права во взаимоотношениях личности, общества и государства. О его воплощении в германском конституционном законодательстве XIX в. говорилось в докладе Т.Г. Хришкевич (Псков). Проблема соотношения категорий исторической справедливости и международного права как элементов европейского политического сознания и практики международных отношений была поставлена в докладе Р. Шмигельските-Стукене (Вильнюс) в связи с историей публикации документов о разделах Речи Посполитой с конца XVIII в. и до наших дней.
Завершил работу конференции «Круглый стол» на тему: «Псковская земля – общественно-политические и социокультурные проблемы становления гражданского общества», состоявшийся 19 сентября в Изборске. В ходе дискуссии были рассмотрены вопросы социального развития передовых и депрессивных регионов в России, Польше и Германии, проблемы культурного облика их населения, вопросы сохранения памятников истории и культуры. Особое внимание было уделено развитию в отстающих регионах системы общественных, негосударственных организаций.
В завершение конференции, обращаясь к ее участникам, заместитель мэра Пскова Н.И. Михайлов отметил: «Конференция была с исключительным интересом встречена научными кругами и общественностью Пскова. Ее научные итоги подведут ученые, которые, как мне известно, ее уже высоко оценили. Я хотел бы отметить только, что конференция, несомненно, послужит укреплению взаимопонимания между народами наших стран, обогатит многосторонние культурные связи. Она имеет исключительное значение и для Пскова, для всей Псковской земли, ибо позволяет увидеть живую связь времен – величественное прошлое нашего города в единстве с его сегодняшними успехами и проблемами, с буднями и праздниками».
Сделанные на конференции доклады и выступления в дискуссии получили продолжение в ряде статей, также включенных в настоящий сборник. В частности, поставленные В. Кригзайзеном вопросы о взаимоотношениях трех основных направлений христианства (православия, католицизма и протестантизма) в Речи Посполитой были развиты в статье К.А. Кочегарова (Москва) о роли литовских магнатов в осуществлении связей православного населения Великого княжества Литовского с Россией в XVII в. Ключевые проблемы политических взаимоотношений Речи Посполитой и Российской империи в XVIII в. через призму их осмысления в общественном сознании и трактовки в историографии Германии, Польши и России получили также освещение в статьях Зофьи Зелиньской (Варшава), О.С. Каштановой (Москва), В. Кригзайзена. Проблема общеевропейского культурного пространства, времени и условий его формирования, в частности, в связи с вопросом о путях движения и обмена культурными ценностями и памятниками культуры, который был поставлен на конференции в докладе Д. Нарбутене (Вильнюс), была исследована также в статье Хайнца Шиллинга (Берлин). Важные вопросы исторических взаимосвязей Германии, Польши и России новейшего времени, эпохи противостояния Востока и Запада после Второй мировой войны, в преддверии политики разрядки международной напряженности были исследованы в статьях А.М. Орехова и Н.А. Лобанова (Москва).
В целом предлагаемый вниманию читателей коллективный труд ученых-историков Германии, Литвы, Польши, России посвящен анализу обширного круга вопросов исторического взаимодействия народов России, Польши, Германии в Новое и новейшее время в широком общеевропейском политическом и культурном контексте. Рассмотренные авторами многогранные проблемы, думается, будут способствовать осмыслению исторической общеевропейской перспективы регионов, стран и народов нашего континента.
Б.В. Носов
Хайнц Духхардт (Майнц)
Дискуссия о Европе в Германии, Польше и России на исходе XIX в.
После многих более или менее плодотворных «попыток» прошедших десятилетий современная историческая наука нашла новую тенденцию развития исследований, одним из ключевых элементов понятийного аппарата которых является приставка «транс-», обозначающая выход за определенные ранее границы исследования явлений и процессов, или же расширительный перенос их содержания на некие смежные сферы и области, или же расширение значения применяемых определений и понятий. Образуемые с помощью упомянутого префикса понятия не обязательно обозначают нечто совершенно новое, так как иные сферы исследований здесь прежде обозначались значительно проще: как «история отношений», «сравнительная история стран» или «международные отношения». «Транскультура», «трансиндивидуальность», «транснациональность» и другие возможные аналогичные понятия связаны между собой только в одном: их нельзя представить себе без компаративистского рассмотрения и такого методического подхода, который бы исключал обращение лишь к одному-единственному частному случаю. И надо сказать, что современное исследование Европы как комплексного и многостороннего феномена опирается на отмеченные методические принципы, по меньшей мере, косвенно.
Осознание необратимости процесса политической европеизации как формирования некоего транснационального целого способствует все больше и больше тому, чтобы заниматься генезисом, интенсивностью и нюансами дискуссии о Европе в истории. Со времени становления в 1950-е гг. данного направления исторического познания умножаются попытки разработки общих положений и принципов описания и осмысления европейской истории с точки зрения европейского целого. Повсюду в странах Европейского союза распространяются многочисленные издания на тему «европеизации» и «европейской общности». «Европа» находится «в центре внимания» – и не только непосредственная история европейской интеграции со времени основания в 1957 г. Европейского экономического сообщества – но и многочисленные более ранние попытки и усилия устранить опасность войны, сохранить господствующее положение европейских великих держав перед лицом их новых соперников на международной арене в XIX и в начале ХХ в., сделать постоянным доминирование европейской культуры во всем мире.
В Институте европейской истории в Майнце уже давно была поставлена задача исследования европейских основ в смысле изучения принципов Европы как исторической общности. В последние годы в Институте завершены два больших исследовательских проекта, результатом которых в каждом отдельном случае стали трехтомные публикации. О них и пойдет речь далее. Один проект посвящен дискуссии о Европе в центре континента, то есть в регионе Центральной Европы – понятом в широком смысле, то есть включая Польшу и Венгрию[1]. Второй труд посвящен отражению тематики Европы в европейской историографии периода до начала политических процессов европеизации[2]. В обоих случаях три государства-эксперта, находящихся в центре внимания авторов предлагаемой вниманию читателей публикации и вынесенных в ее заглавие – Россия, Польша и Германия, – должны сравниваться друг с другом в компаративистском плане. Временем исследования избран период последних десятилетий завершавшегося XIX в. и до Первой мировой войны.
В связи с событиями в Германии (со времени ее объединения и провозглашени я Германской империи во главе с Гогенцоллернами) до некоторой степени поражает то, что в эти десятилетия (эру Бисмарка и Вильгельма II), которые обычно связывают с наивысшим подъемом германского национализма, мотив Европы в политической мысли и в исторической науке Германии занимал твердые позиции или, точнее, сохранял прочное место. Научным работам в транснациональных категориях – европейская история или ж е всемирная история – неизменно принадлежало видное место в немецкой историографии и исторической науке начиная с эпохи Просвещения. Укажем на труды таких авторов как Людвиг Тимотеус Шпиттлер и его «Проект истории европейских государств»[3], Арнольд Херман Людвиг Херен и его «Справочник истории европейской системы государств и их колоний»[4] или Фридрих фон Раумер и его восьмитомная «История Европы с конца XV в.»[5], не говоря уж об общеевропейском кругозоре Леопольда фон Ранке, хотя он не опубликовал ни одного труда, в заглавии которого были бы понятия «Европа», «европейское», и т. п.[6]. Однако нельзя со всей уверенностью сказать, что после основания германского национального государства и при доминирующем влиянии Хайнриха фон Трейчке на немецкую историческую науку произошел некий бурный расцвет литературы «европейской» проблематики, хотя в то же время вполне можно было бы утверждать и обратное. Мы не вправе не воздать должное такому крупному научному предприятию, как опубликованная в рамках «Справочника средневековой и новой истории» многотомная серия истории европейской системы государств[7], автором которой был убежденный противник Бисмарка, не скрывавший своего скептицизма в отношении Пруссии – Константин Франтц[8]. Его кредо – отказ от малого германского национального государства в пользу центральноевропейской федерации. Будучи в определенной мере маргиналом в германском научном сообществе, Франтц никогда не занимал кафедры профессора истории ни в одном из немецких университетов. Однако в 1840–1850-е гг. он выступил с такими книгами, как «Польша, Пруссия и Германия. К реорганизации Германии и Изучение европейского равновесия». Хотя эти труды отличала в первую очередь политическая актуальность, обусловленная конкретной исторической ситуацией, вместе с тем им был свойственен подлинный научный исторический подход. В 1880-е годы в своих научных трудах Франтц даже вышел за пределы Европы, особенно в своем трехтомном сочинении «Мировая политика с особым учетом Германии»[9]. Конечно, приведенные примеры выдающихся трудов, авторы которых с энтузиазмом выступали в защиту единой Европы, нельзя рассматривать как выражение некоего европейского единства действий. Однако это были книги, в которых отразилось стремление исторически обосновать концепцию Центральной Европы и содержалось недвусмысленное утверждение о разделении Европы и России. Последний тезис имеет для нас немаловажное значение. Суть его состояла в том, что, с точки зрения упомянутых авторов, империя русских царей это особый мир. Их держава, подобно Соединенным Штатам Америки, слишком инородна, чтобы ее можно было тесно связывать и на долгое время соотносить с Западной Европой.
Аналогичный, хотя и прямо противоположный по направленности тезис присутствует и в русской историографии: Россия и Европа – это два мира, которые ничто не связывает друг с другом. Проиллюстрировать это можно на примере Н.Я. Данилевского[10], естествоиспытателя и специалиста по виноградной филлоксере, а также, если угодно, самоучки и дилетанта в области исторической науки и историографии. Его основной труд, о котором пойдет речь, – «Россия и Европа» – впервые опубликован в 1871 г., а вскоре, в период нарастания национализма в России, выдержал еще три издания. Свидетельством неубывающей популярности этой книги в России стал выход в свет уже в наши дни ее шестого издания. Вряд ли можно превзойти резкость, с которой Данилевский отрицает и оспаривает какую-либо принадлежность России к Европе, причем отправной точкой его историко-философской концепции была теория о совершенно специфических типах культуры. Это позволяло ему утверждать, будто бы тогда, во второй половине XIX в., еще доминирующие германо-романские типы культуры движутся к упадку и в обозримом будущем должны будут уступить место новому, развивающемуся типу культуры славянства.
Данилевский, будучи в профессиональном отношении человеком, абсолютно чуждым кругу ученых-гуманитариев, оказался в эпицентре дискуссий в русской исторической науке и в общественной мысли на исходе XIX в. Для большинства наиболее влиятельных течений в русской общественной мысли и в исторической науке того времени Европа не являлась предметом рефлексии. Пожалуй, Европа служила фоном, подтверждавшим историческое своеобразие России и ее непринадлежность к миру Запада.
Возможно, больше смысла имела бы аргументация европейского решения национальных проблем в польской историографии конца XIX в., которая могла бы таким путем исторически легитимировать претензии поляков на расширение автономии или даже на восстановление независимости. Однако – насколько нам известно[11] – польская историческая наука не пошла все же этим путем. Как представляется, Оскар Халецкий был первым польским историком, который серьезно задумался об опыте и действиях Европы[12] – и это произошло лишь в 1930-е гг., то есть значительно позже обретения Польшей самостоятельности и восстановления польского государства после Первой мировой войны.
В Польше в конце XIX и в начале ХХ в. тема Европы была особенно популярна в области политической публицистики (в отличие от исторической науки). Правда, среди польских публицистов сформировалось весьма специфическое, не сравнимое ни с какими иными воззрениями представление о Европе. Непреложным для него было одно: надежда на обретение суверенитета Польши при помощи объединения Европы. Приведем лишь два примера. Некий анонимный автор, скрывавшийся под псевдонимом «Поляк», в опубликованном в Париже в 1871 г. сочинении обратился к русским интеллектуалам с призывом покончить с русско-польской враждой и совместно стремиться к созданию общеславянской империи, построенной по федеративному принципу[13]. Противоположный подход, также имевший в виду Россию, был представлен, в частности, философом Франтишеком Духиньским, который, будучи в эмиграции (также в Париже), призывал к общеевропейскому крестовому походу против России, в обоснование ссылаясь на культурные различия между русскими и европейцами. Итогом такого похода, по мнению
Духиньского, стало бы возникновение европейской федерации, в составе которой Польша вновь обрела бы свободу и, кроме того, будучи в составе упомянутой федерации, защиту от России[14].
Наряду с этими двумя вариантами польской политической мысли – вместе с русским соседом создать славянскую конфедерацию или же поднять Европу против русского соседа – имелся и третий вариант, который, следует признать, оказался самым распространенным и плодовитым в смысле последователей. Например, он содержится в сочинении, опубликованном Каэтаном Выслоухом под псевдонимом в 1907 г.[15], призывавшим к образованию литовско-польско-украинской федерации, то есть к восточно-центральноевропейскому союзу, который равным образом стал бы оборонительным по отношению ко всем соседним великим державам и смог бы, опираясь на собственный военный потенциал, гарантировать вооруженную защиту своей независимости и территориальной целостности. Из этого абстрактного представления о некоем региональном союзе, направленном против России и Германии, возникла в период между мировыми войнами одна из наиболее плодотворных для польской публицистики концепций так называемого «междуморья». Ее сторонники провозглашали намерение объединить общее пространство от Балтики до Черного моря в мощный политический блок, который стал бы своего рода «Третьей Европой» между великими державами и тем самым нейтрализовал их. Эта идея была привлекательна и с точки зрения политики поддержания мира и безопасности, в большинстве случаев она предполагала перспективу с течением времени способствовать всеобъемлющему мирному урегулированию в Европе.
В то время как в рассматриваемый период о русской публицистике, посвященной вопросам Европы и европеизма, до сих пор мало что можно было сказать из-за небольшого числа имевшихся работ, а из вовлеченных в сферу научных исследований укажем только на обширный труд социолога Якова Новикова, опубликованный на немецком языке в 1901 г. под названием «Федерация Европы»[16], который кажется почти единственным, немецкая литература поражает своим обилием, несмотря на преобладавшую подчеркнуто националистическую основную тенденцию века. Часто в «европейские» размышления вплетаются получившие распространение в то время идеи о запрете и предотвращении войн или по крайней мере о гуманизации способов и правил их ведения, соображения о придании межгосударственным отношениям новой правовой основы посредством кодификации международного права. В качестве примера сошлемся на весьма объемистое, в 500 страниц, сочинение юриста Ойгена Шлифа «Мир в Европе» 1892 г.[17], которое позволяет составить представление о характерной публицистической брошюре того времени. Ее автор, подчеркнуто основываясь на международном праве, утверждал, что в то время история достигла своего поворотного пункта, и задавался вопросом: возможно ли когда-либо в будущем устранить вечную готовность европейских народов к войне? Этого, по его мнению, можно было бы достигнуть созданием системы государств нового типа, из которой, однако, следовало бы исключить Турцию, бесспорно стоящую на другой ступени культуры. Что же касается России, рассуждал Шлиф, то здесь дело состояло в другом, потому что у нее по крайней мере имеются воля и способность сравняться с другими европейскими государствами. Лучше всего, считал он, «пацифизация» европейской семьи государств могла бы осуществиться, если бы одно государство показало пример и публично заявило о сохранении мира; по состоянию вещей наилучшим было бы, если бы инициатива исходила от Германии. Все европейские государства, особенно Испания и Италия, имели бы повод присоединиться к такому заявлению и принять участие в создании новой, основанной на общей воле к сохранению мира системе государств. Все же, продолжал Шлиф, пока еще некоторые страны настроены в этом отношении скептически, так как иные из них, по-видимому, опасаются внутренних потрясений от такого публичного заявления. Такое заявление каждого государства и соответствующая просьба к тем, которые еще стояли в стороне, разумеется, должно быть минимально связано с практикой: с гарантией территориального статуса кво каждого члена и передачей всех международных споров европейскому суду, состоящему из всех не причастных к данному спору государств. Чтобы добиться соответствующих заявлений европейских держав, необходима настойчивая активизация общественного мнения: с помощью общественных организаций, выступающих в защиту мира, делегатов которых затем посылали бы на общеевропейские конгрессы сторонников мира.
Возможно, что по сравнению с другими современными памфлетами образ объединенной и избавленной от войн Европы представлен в сочинении Шлифа отнюдь не столь точно и существенно отличается от облика будущих «Соединенных Штатов Европы», но в нем особым образом отражена тесная связь между стремлением к миру, с одной стороны, и организацией государств – с другой. Связь эта, в случае ее реализации, в условиях гонки вооружений и балканских войн начала ХХ в. сделала бы Европу полосой безопасности в духе идей, высказанных на Гаагской конференции. Одновременно в труде Ойгена Шлифа прозвучали призыв к активизации общегерманской дискуссии о способах действий в защиту мира и открытая критика националистической политики собственного правительства, которая с неизбежностью вела к новой войне, а также показана альтернатива этой пагубной политике.
Лейтмотивом немецкой публицистики на тему объединения Европы была, безусловно, мысль, что создание европейской федерации послужит предотвращению войны. В то время еще не набрал силу другой мотив, ставший в дальнейшем столь важным: это объединение Европы для утверждения ее места по отношению к идущим вперед другим великим державам и регионам – США, азиатским государствам – в частности и с целью сохранения достигнутых европейскими странами ведущих позиций в области культуры, дабы добиться культурного первенства Европы в мире.
Сопоставление выдвинутых на исходе XIX и в начале XX в. в исторической науке и в общественной мысли Германии, Польши и России концепций Европы и европеизации как некоего целого, объединяющего европейские народы, позволяет сделать обобщение троякого свойства. Во-первых, в России «Европа» не являлась темой, рассматриваемой с точки зрения в смысле будущей европейской федерации. Судя по книге Я. Новикова, русские интеллектуалы, вероятно, настолько были поглощены внутренними проблемами. Для них тематика политической организации континента тогда еще не была предметом насущных раздумий, а свою принадлежность к Европе они ощущали лишь условно.
Во-вторых, Польша как составная часть Российской империи в ту эпоху, о которой идет речь, в своей историографии еще не могла в необходимой мере абстрагироваться от национальных требований и интересов и осознать посредством общего научно обоснованного европейского видения те перспективы, которые открывались перед ней вследствие осознания принадлежности Польши к другому миру, чем царская империя. Правда, как было признано, польские публицисты, не исключая и эмигрантов, поняли смысл собственного участия в европейском «концерте держав», чтобы содействовать своему еще не освободившемуся государству в обретении суверенитета. Если при этом они выражали неприязнь как к немцам, так и к русским, то это, по крайней мере, демонстрировало их надежду использовать Европу в своих интересах. К тому же им представлялось, что оказаться в выигрыше вследствие конфликта великих держав будет легче, чем достигнуть общеевропейского решения.
В-третьих, в немецкой историографии транснациональный европейский подход был традиционен со времени эпохи Просвещения, и эта традиция продолжалась и в рассматриваемый период. Однако в немецком понимании «Европы» и европеизма главное состоит в том, что общественная мысль Германии на исходе XIX и в начале XX в., вопреки националистической эйфории – или даже благодаря ей – обращалась к европейской тематике и к идее союза европейских государств. Эта идея должна была послужить катализатором преодоления обострившегося до крайности и не сулившего ничего хорошего соперничества государств, а также воплотила всеобщее стремление к упорядочению и укреплению межгосударственных связей. Об активности политического мышления даже в то время, даже в условиях авторитарного правления, свидетельствует то, что в Германии брались за перо самые разные люди: священнослужители и пацифисты, юристы и историки, журналисты и лица неопределенного общественного положения. Все они стремились найти выход из порочного круга взаимной вражды и соперничества государств – гонки вооружений – войны – экономического и культурного упадка.
Отмеченные различия не означают никакой унаследованной культурной разобщенности или противоположности. В конечном счете, их следует рассматривать как проявление трех типов общества со свойственным им политическим мышлением. Во-первых, Россия, которая самодостаточна на своих просторах, все больше устремляет взоры на Восток, чтобы уравновесить процессы консолидации и экспансии, скорее, там, чем в напряженной зоне восточной части Центральной Европы. К тому же у нее свои внутренние и в высшей степени сложные проблемы со всеми федералистскими моделями организации, в сущности оставшиеся ею не осознанными и ей непонятными. Во-вторых, Польша, в которой в принципе идеи федерализма имеют давнюю традицию и которая все больше чувствует свою принадлежность к Западу, а не к Востоку, что видно из лозунга Польши как «оплота западной цивилизации» на Востоке[18]. Однако со времен разделов Речи Посполитой в XVIII в. она больше стремилась к восстановлению национального суверенитета и единства страны, чем к общеевропейской оптации. Наконец, Германия, где федеративная идея сама по себе наиболее тесно связана с представлением о правильно организованном государстве, как регион, который всегда наиболее сильно затрагивали европейские войны, выступает за объединение европейских государств, видя в нем силу, способную сохранить мир. Эта идея о причинной взаимосвязи мира, свободного от войн, и Европы и обусловила то, что после окончания Второй мировой войны именно Германия стала инициатором процесса европеизации.
Перевод с немецкого Натальи Богаевой
Б.Н. Флоря (Москва)
Россия и европейская система международных отношений
(конец XV – вторая половина XVII в.)
Ареал европейских связей России, определившийся в конце XV в., почти не менялся на протяжении последующего столетия. Кроме своих непосредственных соседей на западных границах – Великого княжества Литовского (а затем Польско-Литовского государства), Ливонии и Швеции русское правительство поддерживало постоянные контакты с такими европейскими державами, как Дания и владения австрийских Габсбургов: Дания могла повлиять на политику Швеции, а Габсбурги на политику Польско-Литовского государства. С середины XVI в. к этому добавились отношения с Англией, а к концу столетия и с Голландией, но эти связи имели для обеих сторон прежде всего хозяйственное, а не политическое значение. Попытки Ивана IV добиться заключения политического соглашения с Англией оказались, как известно, безрезультатными и в дальнейшем не возобновлялись. С такими крупнейшими европейскими державами, как Испания или Франция, имели место лишь отдельные, более или менее случайные контакты. Все это позволяет характеризовать русскую внешнюю политику этого времени как политику, направленную на решение проблем восточноевропейского региона и не выходящую за его пределы[19].
Положение не изменилось и тогда, когда в последние десятилетия XVI в. в Европе стало намечаться противостояние двух политических лагерей – Габсбургов и их союзников и противников Габсбургов. Возможно, такое отсутствие у русских политиков какой-либо реакции на эти важные изменения было связано с тем, что внешнеполитическая ориентация западных соседей России, Польско-Литовского государства и Швеции, в то время еще не вполне определилась.
Правящие круги главных европейских держав не предусматривали участия Русского государства в решении каких-либо европейских проблем за одним существенным исключением. Уже с начала
XVI в. и Габсбурги, и папство серьезно считались с возможностью участия Русского государства в борьбе европейских держав против экспансии Османской империи и старались склонить русское правительство к участию в антиосманских коалициях[20]. Присоединение России к антиосманскому союзу, конечно, способствовало бы укреплению позиций России на подступах к Черному морю и на Северном Кавказе, и такая перспектива русских политиков привлекала. Уже во второй половине XVI в. можно наблюдать первые попытки русского правительства искать соглашения с противниками Османской империи в Европе. Так, в 1576 г. русские послы, прибывшие на рейхстаг в Регенсбурге, привезли с собой приглашения для послов папы, императора Максимилиана II и Филиппа II испанского, которых ожидали в Москве для заключения договора о союзе против османов[21]. В 90-е гг. XVI в. во время «Долгой войны» ряда европейских держав против Османской империи главе этой коалиции императору Рудольфу была оказана финансовая помощь из Москвы[22]. Однако на пути к участию России в антиосманской коалиции существовало серьезное препятствие – постоянное противостояние с Польско-Литовским государством не давало возможности предпринимать серьезные шаги на других направлениях. К планам участия России в антиосманских союзах обращались в те недолгие моменты, когда возникала надежда на прекращение противостояния, и от них отказывались, когда в очередной раз эти надежды не оправдывались[23]. Намечавшаяся общность интересов России и европейских государств – противников османов в таких условиях не могла реализоваться.
События времен Смуты, ознаменовавшиеся попытками Польско-Литовского государства в условиях разразившегося в России глубокого внутреннего кризиса подчинить эту страну своей власти и влиянию, стали важным рубежом в истории отношений России и европейских государств. К этому времени стало очевидным сближение Речи Посполитой с прогабсбургским политическим лагерем, поддержка ее политическими кругами планов реставрации и утверждения католицизма на территории Европы. Для современников-протестантов была очевидна связь между планами подчинения России и проектами реставрации католицизма в Скандинавии. Поэтому неслучайно представители таких держав, как Англия и Голландия, сразу по окончании Смуты выступили посредниками при заключении мирного договора между Россией и Швецией, также вмешавшейся в русские внутренние дела, чтобы русское правительство могло сосредоточить свои силы на борьбе с Речью Посполитой. Одновременно голландские послы рекомендовали русским политикам заключить со Швецией союз, направленный против Польско-Литовского государства.
Происшедшие перемены были в полной мере осознаны в Москве к 1616–1617 гг., когда определилась политика русского правительства по отношению к европейским государствам на длительный период времени. Русское правительство прекратило дипломатические контакты с австрийскими Габсбургами и одновременно обратилось к таким протестантским государствам, как Дания, Голландия и Англия, с просьбой о помощи против польского короля Сигизмунда III. Впервые в истории русской внешней политики это обращение обосновывалось ссылками на общую заинтересованность в провале проектов утверждения католицизма как единственного христианского вероисповедания на территории Европы[24].
Когда с началом Тридцатилетней войны дело дошло до масштабного вооруженного столкновения Габсбургов и их противников, растянувшегося на много лет, Русское государство заняло позицию благоприятную для антигабсбургского лагеря. Как известно, такая политическая ориентация нашла свое выражение в том, что таким противникам Габсбургов, как Дания, а затем Швеция, систематически давались разрешения закупать в России большие партии хлеба по низким ценам российского внутреннего рынка, что представляло собой своеобразную форму финансовой помощи. Так впервые в истории русской внешней политики русское правительство приняло участие в большом общеевропейском конфликте. И на этом этапе сотрудничество обосновывалось необходимостью совместной борьбы против экспансии католицизма.
Вместе с тем следует отметить особый характер этого участия. В России хорошо была известна роль Голландии как организатора коалиций противников Габсбургов, хорошо было известно и о французских субсидиях, позволивших шведскому королю Густаву Адольфу развернуть масштабные военные действия на территории Германии. Однако в Москве не было предпринято каких-либо серьезных попыток вступить в переговоры и заключить соглашения с этими главными противниками Габсбургов.
Все это показывает, что если положение в Европе, характер происходивших там конфликтов перестали быть безразличными для русского правительства, как это было во второй половине XVI в., то все же происходившее там оценивалось, прежде всего, через призму региональных проблем. Русских политиков преимущественно интересовало, в какой мере происходящее на театрах военных действий Тридцатилетней войны могло бы способствовать успеху русской власти в ее противостоянии с Польско-Литовским государством. Немалая материальная поддержка, которая оказывалась Густаву Адольфу, была связана не только с тем, что он был противником Габсбургов – союзников Речи Посполитой, но и с тем, что в нем в первую очередь видели союзника в будущей войне с Польско-Литовским государством. Как представляется, это понимали и правящие круги европейских стран. Кардинал Ришелье не стремился к контактам с Россией, так как вовсе не был заинтересован в отвлечении сил Швеции на территорию Восточной Европы. Когда с началом Смоленской войны против Речи Посполитой (1632–1634 гг.) выяснилась неосновательность расчетов русских политиков на союз со Швецией, русское правительство на долгий срок устранилось от участия в европейской политике, проявив полное безразличие к тому, как закончится Тридцатилетняя война[25].
Значительных перемен в этом плане не принесло и начало новой русско-польской войны в 1654 г. Правда, в тот самый год возобновились дипломатические контакты с австрийскими Габсбургами и было положено начало постоянным контактам с Бранденбургом, но оба эти государства были непосредственными соседями Речи Посполитой – той самой страны, с которой и велась война.
Начиная войну с польско-литовской шляхетской республикой, Русское государство стремилось локализовать конфликт, не допустить вмешательства в него других европейских государств[26]. Интересы ведущих европейских держав не затрагивались возможными итогами этой войны, их внимание к тому, что происходило в восточноевропейском регионе, усилилось лишь после вмешательства в конфликт Швеции, традиционного союзника Франции в ее борьбе с Габсбургами за европейскую гегемонию. Именно тем или иным отношением к Швеции определялись попытки великих европейских держав во второй половине 50-х гг. XVII в. повлиять на русскую внешнюю политику. Так, австрийские дипломаты выступали в качестве посредников на русско-польских переговорах в 1656 г., чтобы облегчить положение Польско-Литовского государства в войне со Швецией[27], а англичане и французы пытались выступать как посредники на русско-шведских переговорах, чтобы облегчить положение Швеции в войне с Польско-Литовским государством[28]. Попытки посредничества в русско-польском споре, предпринимавшиеся после выхода Швеции из войны, были тесно связаны с борьбой ведущих европейских держав за влияние в Речи Посполитой. В Москве, как представляется, это понимали и поэтому не пытались использовать такие переговоры для установления более тесных отношений с какой-либо из ведущих европейских держав, тем более что симпатии посредников были явно не на русской стороне[29].
Новый этап в истории отношений России с европейскими государствами начался, когда примерно с середины 60-х гг. XVII в. на первый план в русской внешней политике выдвинулся вопрос об отношениях с Османской империей. Ряд факторов способствовал тому, что проблема отношений с османами с течением времени стала занимать все более видное место в планах и размышлениях русских политиков. С освоением пространств «Дикого поля» и присоединением Украины планы укрепления позиций России в северном Причерноморье стали приобретать все более реальные очертания[30]. Имело значение и заметное укрепление к середине XVII в. связей России с православными народами Балкан, что позволяло выдвигать планы укрепления позиций России и в этом регионе, входившем в зону османской власти и османского влияния. Решающим стимулом, побудившим русское правительство к поискам немедленного решения проблемы, стало вторжение османов на территорию Восточной Европы – сначала скрытно, в форме поддержки своего вассала – Крымского ханства, а затем и открыто, когда на территории Подолии в 1672 г. появилось османское войско во главе с самим султаном. В условиях, когда Польско-Литовское государство стало объектом прямой агрессии османов, не могло быть речи о противодействии с его стороны антиосманским планам русских политиков. Тем самым отпало одно из главных препятствий на пути к сотрудничеству Русского государства с европейскими державами в борьбе с экспансией Османской империи. Вместе с тем необходимо было принимать срочные меры для предотвращения возникшей серьезной опасности.
Первой реакцией русских политиков стала попытка искать поддержки у государств христианской Европы. В 1672 г. во все главные европейские державы были направлены посольства с призывом прекратить междоусобные войны и объединить свои усилия в борьбе против османов[31]. Посольства эти не достигли успеха, но помогли русскому правительству оценить взаимоотношения европейских держав в связи с решением стоявшей перед ним проблемы.
Разумеется, в Москве и ранее знали о соперничестве Габсбургов (и присоединившихся к ним во второй половине XVII в. морских держав – сначала Голландии, а затем и Англии) и Франции в борьбе за европейскую гегемонию. Но, по-видимому, только теперь здесь начали осознавать, что эта борьба и стремление Франции поддерживать хорошие отношения с Османской империей, как возможным союзником против Габсбургов, создают серьезные препятствия на пути к осуществлению намеченных в Москве планов борьбы с османами. Сформировавшаяся к середине 1670-х гг. в русской внешней политике тенденция сближения с Габсбургами означала одновременно и переход Российского государства на позиции, враждебные Франции.
Уже в середине 1670-х гг. русские и австрийские политики вели переговоры о необходимости совместно противодействовать профранцузской политике польского короля Яна Собеского, стремившегося положить конец войне Польско-Литовского государства с Османской империей[32]. Важно, что начавшееся сотрудничество не ограничивалось сферой отношений европейских государств с Османской империей. Когда в конце 1670-х гг. на Балтике разразился крупный военно-политический конфликт, Россия поддерживала не союзников Франции – Швецию и Яна Собеского, а союзника Австрии – Бранденбург[33]. С этого времени можно говорить об определенном участии России в главном европейском конфликте и установлении достаточно широкого сотрудничества с одним из его главных участников. Тем самым Россия начала занимать определенное место в общеевропейской системе международных отношений, сблизившись с главной державой анти-французского политического лагеря.
Для последней трети XVII в. можно отметить разные проявления этого сотрудничества. Так, после смерти Яна Собеского во время «бескоролевья» 1697 г. Россия и Австрия совместно воспрепятствовали попытке возвести на польский трон французского принца Конти[34]. Главным проявлением такого сотрудничества стало вступление России в 1687 г. в войну с Османской империей. В этой войне Москва выступила совместно со Священной лигой – союзом европейских государств во главе с Австрией, а затем русские представители вместе с державами – членами лиги вели переговоры о мире на завершившем войну Карловацком конгрессе[35]. Это было первое непосредственное и серьезное участие России в больших событиях общеевропейского значения. О все большей включенности Русского государства в европейскую политическую жизнь говорит появление в последней трети XVII в. в Москве постоянных представителей целого ряда европейских государств (хотя пока и далеко не всех) и появление первых русских постоянных представителей при некоторых европейских дворах.
Вместе с тем процесс поисков Россией своего места в системе европейских международных отношений был еще далек от своего завершения. Характерно, что фактическое сотрудничество между Россией и Священной лигой так и не было оформлено каким-либо письменным соглашением и мир с Османской империей Россия заключила отдельно от других европейских государств. Складывается впечатление, что в то время стороны еще не были уверены в долговременности и прочности своего сотрудничества.
Если говорить о близкой перспективе, то такие опасения имели основания. Начавшиеся почти одновременно Война за испанское наследство (1701–1714) и Северная война (1700–1721) способствовали созданию и в восточноевропейском регионе и в Европе в целом новой международной ситуации, когда русско-австрийское сотрудничество прекратилось и поиски Россией своего места в системе европейских международных отношений пошли по другому пути.
Однако тот итог, к которому привели поиски Россией своего места в Европе на протяжении XVII в., не был случайным. Здесь проявились определенные закономерности, которые возобновили свое действие, когда был решен вопрос о выходе России к Балтийскому морю. По мере того, как продолжалось освоение обширных земель на Юге, вопрос о получении выхода к Черному морю стал приобретать в русской внешней политике все большее значение, и все большее значение приобретал вопрос о союзниках в будущем конфликте с распоряжавшейся на берегах Черного моря Османской империей. Ясно обозначившийся к концу XVII в. военно-политический упадок Польско-Литовского государства исключал возможность активного противодействия с его стороны русским планам и в то же время не позволял России рассчитывать на это государство как на полноценного союзника в будущей войне с османами. Из больших европейских держав таким союзником могла быть только Австрия, в то время как ее соперница Франция продолжала поддерживать дружественные отношения с Османской империей.
Для Австрии, наталкивавшейся на сильное противодействие Франции в попытках укрепить свои позиции на западе Европы, а позднее приобретшей в лице Пруссии опасного соперника на территории Германии, именно экспансия на Балканы в зону османского присутствия обещала наибольшие приобретения, что привело бы в перспективе и к росту значения Австрии в Европе. Перед ней также вставали важные проблемы при поисках союзников в борьбе со все еще могущественной евроазиатской державой – Оттоманской Портой, которая хотя в известной мере и уступила в конце XVII в. свои позиции лишь в борьбе с целой коалицией государств, но по-прежнему оставалась в глазах европейских держав грозным и опасным противником. В поисках союзников для борьбы с турками Австрия в XVIII в. уже не могла, как ранее, рассчитывать на сотрудничество с Испанией, вошедшей в орбиту французской политики, пришли в упадок и ее союзники по Священной лиге – Польско-Литовское государство и Венеция. Тем самым и для Австрии союз с Россией был одним из важных условий для проведения активной наступательной политики на Балканах. Все это совсем не исключало соперничества Вены и Петербурга в борьбе за влияние на народы Балкан, но это соперничество выступило на первый план в отношениях двух держав лишь в XIX в.
Определенная общность интересов на этом важном направлении внешней политики открывала для России и Австрии возможность согласованных решений и по другим вопросам. Это сближение Петербурга и Вены в свою очередь закономерно вызывало враждебную реакцию Франции. Таким образом, можно сделать вывод, что тенденции, проявившиеся при первых попытках русских политиков определить для своего государства место в системе европейских международных отношений, продолжали находить свое выражение как в политике России по отношению к европейским государствам, так и в политике главных европейских держав по отношению к России на протяжении очень длительного времени, практически до конца 1870-х гг.
Б.Н. Харлашов (Псков)
О формировании южного рубежа Псковской земли
(по источникам XVI–XVII вв.)
Псковская земля в исторических границах XIV–XVII вв. занимала территорию от р. Нарвы на севере до верховьев р. Великой на юге, включая почти весь ее бассейн (без Себежского уезда; по источникам, доступным в России, это около 21 900 кв. км). По данным 1585–1587 гг. в 14 уездах[36] земли было 149 губ, 2 четверти, 2 утретка и 1 волостка[37]. Губы самого обширного по территории Псковского уезда дополнительно были распределены между семью засадами[38]. Юго-западную часть земли занимали 3 уезда: Вышгородка, Красного и Опочки. Их расположение имеет особое значение для ответа на вопрос, где же проходил псковско-ливонско-литовский рубеж, а затем граница Пскова с Речью Посполитой.
Источниками для исследования административно-территориального деления южных уездов Псковской земли стали писцовые и переписные книги XVI–XVII вв. Наиболее ранними из дошедших до нашего времени являются писцовые книги 1585–1587 гг. В их есть прямые ссылки на «старое» письмо 1550-х гг. Источники предшествующего периода, если они и сохранились, остаются пока нам неизвестными[39]. Из имеющихся источников опубликована писцовая (платежная) книга № 355[40] из собрания писцовых книг Российского государственного архива древних актов (РГАДА). Более подробные сведения о Псковской земле содержатся в писцовых книгах № 827 и 830[41], однако в них имеется описание только 8 уездов, среди которых нет уездов, граничащих с Литвой.
Из источников XVII в. для исследования данного вопроса привлекались писцовая книга 1626-28 гг. Выборского, Дубковского и Вышгородского уездов[42], переписная книга Псковской земли 1646 г.[43] и переписная книга 1678 г.[44]. Материалы писцового описания послужили основными источниками для составления карт-схем южных уездов Псковской земли. Для локализации топонимов, упоминающихся в писцовых и переписных книгах, использовались как планы Генерального межевания XVIII в., так и топографические карты XIX – начала XX вв., а кроме того, современные топографические карты и планы землепользования. Опыт работы по составлению карт-схем псковских уездов показал, что скудные топографические сведения платежной книги № 355 в большинстве случаев не позволяют определиться с границами губ, а соответственно, и уездов. Книги № 827 и 830, содержащие, по сравнению с книгой № 355, иногда в десятки раз большее число топонимов, как правило, дают хорошие результаты. Также неплохие результаты были получены и при использовании для этой цели переписных книг XVII в.
Таким образом, база источников для изучения территориального деления южных уездов Псковской земли такова, что для Вышгородского и Опочецкого уездов имеются в основном сведения XVII в. Для Себежского и Красногородского уездов – только сведения книги № 355, малопригодные для реконструкции территориального деления и границ. Указанные источники XVII в. не содержат информации по последним двум уездам, поскольку те в 1618 г. отошли по Деулинскому перемирию к Речи Посполитой. В результате историко-географического исследования удалось составить довольно полный перечень населенных мест Псковской земли XVI–XVII вв. и определить границы всех губ, за исключением входивших в Себежский и Красногородский уезды (см. карту-схему). Имеющиеся в настоящее время в нашем распоряжении данные позволяют говорить о существовании в Псковской земле в XVI–XVII вв. не менее 13 тыс. поселений. В настоящее время удалось определить расположение лишь 15 % из них[45], что соответствует доле локализованных поселений и в южных уездах. В процессе исследования применялась методика, мало чем отличающаяся от методов, на которых основывались классические труды К.А. Неволина[46] и А.М. Андрияшева[47], за исключением использования возможностей компьютерной обработки материалов. При сборе материала по источникам XVI–XVII вв. в настоящее время сформирована база данных по топонимике Псковской земли, содержащая 21 900 записей. Стандартное программное обеспечение на основе FOXPRO позволило ускорить поиск данных и осуществить их идентификацию при возможных разночтениях, а также систематизацию сведений по выделенным регионам (уездам, засадам, губам и пр.).
Одной из исследовательских задач, решавшихся в масштабе всей Псковской земли, было изучение на основе полученной историко-географической информации происхождения и развития ее территориального деления, что было непосредственно связано с процессом расселения и формированием границ. Размещение населения в различные периоды прослеживается по археологическим материалам.
Южные уезды Псковской земли в XVI–XVII вв.: 1 – граница земли, 2 – граница уезда, 3 – граница губы, 4 – центр уезда, 5 – погост, 6 – прочие населенные пункты, расположение которых удалось установить.
Расселение в середине и во второй половине I тысячелетия н. э. маркируют поселения и могильники культуры длинных курганов и сопок[48]. В ряде случаев районы концентрации памятников этого периода в пределах Псковской земли послужили основой для формирования будущих административных районов. Это подтверждается тем, что в северной части Псковской земли «гнезда» памятников второй половины I тысячелетия н. э. вписываются в границы многих губ[49], а в южных уездах находятся вблизи наиболее ранних пригородов.
Размещение археологических памятников XI – первой половины XIV в. показывает, что в этот период происходит дальнейшее развитие регионов, освоенных в предшествующее время, и заселяются новые территории. Это прослеживается по материалам курганных могильников с трупоположениями, и по ранним жальникам[50] [51]. Судя по концентрации археологических памятников, в этот период в северных и центральных уездах Псковской земли уже сформировались большинство центров губ. Однако выделяются районы, превосходящие по размерам губские территории XVI в. (на севере земли это устье р. Великой и юго-восточное побережье Псковского озера, округа Изборска и др. малые районы; на юге – окрестности Велья, Воронича, Коложе-Опочки, Врева, Котельно).
В дальнейшем эти довольно крупные районы расселения также оказались поделенными на губы. Таким образом, в настоящее время представляется возможным выделить по меньшей мере 3 этапа становления территориальной структуры Псковской земли. Во-первых, формирование районов расселения во 2-й половине I тысячелетия н. э. Во-вторых, развитие в XI – первой половине XIV вв. на основе районов расселения 2-й половины I тыс. н. э. центров губ и освоение в результате колонизационных процессов новых территорий (по аналогии с Новгородской землей)[52]. Районы расселения, объединяющие целиком или частично несколько губ XVI в., вероятно, можно связать с летописными волостями. В-третьих, дробление в дальнейшем плотно заселенных районов на более мелкие (образование губ, зафиксированных в писцовых книгах) и распределение губ между уездами и засадами.
Обоснованность выделения этих этапов формирования территориального деления Псковской земли подтверждается материалами историко-археологического изучения погостов-мест – административных центров псковских губ. К XIV в. в Псковской земле уже 1/3 поселений функционировала на местах погостов[53]. Почти все погосты, в культурном слое которых обнаружены археологические материалы 2-й половины I тысячелетия н. э. – XIV в., находятся в северной и центральной части Псковской земли (в засадах Псковского уезда, в Изборском уезде) и на восточном побережье Псковского и Чудского озер (Гдовский и Кобыльский уезды). Таким образом, наиболее ранние погосты возникли именно на той территории, где находятся древнейшие города Псковской земли Изборск и Псков.
В южной части Псковской земли функции погостов на начальном этапе в XIV в. выполняли города-крепости Остров, Дубков, Котельно, Врев, Воронич, Велье, Коложе и, возможно, Черница. Большая их часть сосредоточивалась вдоль юго-восточной границы Псковской территории. К XVI в. некоторые из них, утратив оборонительные сооружения, превратились в сельские погосты, мало чем отличавшиеся от прочих аналогичных поселений. В XV в. функции погостов – центров губ на юге Псковской земли выполняли такие новые города, как Вышгородок, Опочка и Красный. В XV–XVI вв. погосты возникают в основном в южных уездах Псковской земли, что следует связывать с завершением формирования административно-территориального деления уездов. В археологическом отношении в этой группе поселений заметно преобладают небольшие по размерам селища, которые могут рассматриваться как следы поселений, выполняющих исключительно культовые функции. Культурный слой этих селищ, в основном, формировался на месте расположения дворов священника и причта.
Отличительной особенностью южного региона является большое число губ, относящихся непосредственно к городам, например к Опочке. Названия таких губ производны от названий приходских церквей. Эти губы расположены в непосредственной близости от города и составляют его ближайшую округу. Их происхождение представляется в целом более поздним по сравнению с губами, имевшими погосты на своей территории. Они, скорее всего, появились на завершающем этапе становления территориального деления Псковской земли.
Опочка была построена, после того как в 1406 г. литовцы штурмом взяли Коложе: «псковичи поставиша град Коложе на новом месте на Опочке»[54]. После основания Опочки Коложе приобрело, так же как и Котельно в Выборском уезде, статус погоста в составе Опочецкого уезда. Изучение топографии поселений Покровской губы (Коложе) показывает, что часть территории округи предшественника Опочки Коложе оказалась приписанной к губам, относящимся к посаду нового города. Населенные пункты, бывшие ранее в Коложской волости, оказываются в составе Ильинской, Никольской на Кутке и Старицкой губ (последняя известна лишь по материалам XVII в.). Система расположения относящихся к Опочке губ аналогична таким городам, как Воронич, Велье и Выбор. Все 4 губы, образующие «окологородье», локализуются у города, составляя довольно обширную, но целостную территорию. Примечательно, что предшественник Опочки – Коложе оказывается непосредственно в центре района, объединяющего округу Опочки и, возможно, располагавшуюся к востоку от нее гипотетическую волость. Именно этот довольно большой район включает наибольшую концентрацию археологических памятников периода, предшествующего образованию Псковской земли, и является ядром Опочецкого уезда после разгрома Коложе. Периферию уезда Опочки составляют 5 губ, так же как в соседнем Велейском уезде. Все они располагались радиально по отношению к центру уезда.
Таким образом, на материалах уездов в южной части Псковской земли может быть прослежен процесс формирования центра административного округа, известного по источникам XVI в. как уезд. В этом процессе непосредственное участие приняли жители псковских волостей, которые отчасти и вошли в состав населения малых городов. Наиболее яркий, но, к сожалению, единственный летописный пример инициативы со стороны сельских общин о строительстве уездного города связан с Вышгородком. В 1476 г. «слобожане ис Кокшинской волости» били челом князю Ярославу и посадникам псковским, и всему Пскову, «чтобы их жаловали и ослобонили им на Городци оу речке оу Лоде поставити город…»[55].
С учетом археологических данных о формировании губ топография поселений, записанных в губах Вышгородского, Красногородского и Опочецкого уездов, маркирует собственно юго-восточный «псковский рубеж», сформировавшийся на основе территорий сельских общин, «тянувших» к Пскову и его «пригородам», т. е. имевших наиболее тесные связи с центрами Псковской земли.
Альмут Буес (Варшава-Берлин)
Описание областей между Польшей и Московией в Записках Мартина Груневега
Имеющиеся в письменных источниках средневековья и раннего Нового времени (вплоть до XVI в.) географические сведения о регионах и населении Восточной Европы не отличаются ни полной, ни достаточной достоверностью. «Повесть временных лет» описывает территорию восточных славян следующим образом: «Такоже и ти Словене, прешьдъше, седоша по Дънепру, и нарекошася Поляне, а друзии Древляне, зане седоша въ лесехъ […]; а друзии седоша по Десне и по Семи и по Суле, и нарекошася Северъ»[56]. Дополнить и конкретизировать эту картину позволяют только археологические данные.
До Нового времени у жителей Центральной Европы знания о пространствах большей части Восточной Европы оставались весьма смутными: «Теперь Сарматия, насколько известно, является пустынной и обширной, но невозделанной и находящейся в глуши областью с достаточно суровым климатом. На востоке она соседствует с Москвой (Московским государством – А.Б.) а с юга ограничена рекой Танаис»[57]. Определенно, именно на этом рубеже замыкается пространство, описанное Х. Шедельсом в хронике всемирной истории. Энеа Сильвио Пикколомини в своей «Космографии» причисляет Польшу, Богемию, Венгрию, балканские страны и Византию к Европе.
В то время как территории, прилегающие к побережью Балтийского и Черного морей, были со временем исследованы и получили географическое описание, пространство между Польшей-Литвой и Московией в значительной степени осталось неизвестным, хотя его и пересекали многие путешественники. В «Записках о Московии» габсбургского дипломата Сигизмунда Герберштейна середины XVI в. говорится: «Sevuera magnus principatus est, cuius castrum Novuogrodek, haud ita diu Sevuerensium principum, priusquam hi ab Basilio principatu exuerentur, sedes erat. Eo ex Moscovuia dextrorsum in Meridiem, per Colugam, Vuorotin, Serensko & Branski, centum quinquaginta miliaribus Germanicis pervenitur: cuius latitudo ad Borysthenem usque protenditur. Vastos desertosque passim campos habet: circa Branski autem sylvam ingentem. Castra oppidaque in eo sunt complura: inter quae Starodub, Potivulo, Czernigovu, celebriora sunt. Ager quatenus colitur, fertilis est. Sylvae hermellis, aspreolis & martibus, melleque plurimum abundant. Gens propter assidua cum Tartaris praelia, valde bellicosa»[58] [59].
В начале XVI в. князья Бельский, Новгород-Северский и Черниговский подчинились великому князю Московскому, таким образом, завершилось так называемое «собирание русской земли». В 1547 г. Иван IV короновался («венчался на царство») и принял титул «царя и великого князя всея Руси», что выражало притязание на верховную власть в отношении всех земель, принадлежавших в прошлом Киевской Руси.
В середине XVI в. у Польши не существовало непосредственной границы с царством московитов, что Мартин Кромер в 1554 г., говоря о землях к востоку от Вислы, выразил так: «Дальше идет княжеская Пруссия и граничащая с нею Литва, которая простирается приблизи тельно до пункта летнего восхода солнца, а оттуда снова тянутся уже восточные скифские или татарские степи и поворачивающие в направлении юго-восточного рубежа государства белогородских турок»[60].
Поворотным пунктом в расширении знаний и в изменении представлений народов Центральной Европы о восточных регионах континента стал 1569 год, Люблинская уния превратила объединенное Польско-Литовское государство в одну из крупнейших держав, раскинувшуюся «от моря и до моря», занимавшую бóльшую часть Центрально-Восточной Европы. Образование Речи Посполитой «двух народов» привело к возникновению новых территориальных объединений с временно и регионально «дифференцированным отношением близости» к государственному центру[61].
«Пространств не существует, пространства создаются» или «В пространстве мы читаем время» – таковы заглавия трудов Ханса-Дитриха Шульца и Карла Шлёгеля[62]. В них нашла отражение диалектика пространственно-временных соотношений применительно к становлению и исторической эволюции регионов Центральной и Восточной Европы. Итак, области, расположенные «между» обеими сложившимися в XVI в. державами (Московским царством и Речью Посполитой), были заселены задолго до этого и существовали независимо от своих великодержавных соседей. Только со временем они превратились в их периферию и стали восприниматься как таковые. Возникает вопрос: должны ли вообще существовать центры? Центр/периферия – понятийная пара, заимствованная из историко-экономических исследований Иммануэля Валлерштейна[63]. Оба понятия имеют смысл лишь в двойном употреблении и, по мнению Йенё Банго[64], являются комплиментарными категориями пространства. В восприятии центра периферия – это исключительно обозначение положения для области, находящейся в отдалении от центральных районов, причем в основном решающее значение имеет мера в преодолении дистанции между ними[65]. В одном отношении некая область может быть на периферии, а в другом нет. Прямо говоря, она может в иной системе координат стать средоточием двух центров. Таким образом, все понятия в пределах пары центр/периферия представляют собой относительные категории[66]. Датский исследователь Клавс Рандберг видел в общей картине центра и периферии «виртуальный академический ментальный архетип», однако все же считал возможным рационально «объяснить новые отношения и создать новые образы»[67].
В IX в. германские языки знали только понятие «марка», служившее для обозначения окраин страны, пограничных областей. Только в дальнейшем, с освоением и колонизацией лесных просторов на востоке Германии, когда с начала XIII в. немецкое население вступило во взаимодействие со славянским, немецкий язык заимствовал славянский термин «граница», для более точного обозначения территориального размежевания[68]. Исторически прохождение границ изменяется. Большая часть искусственных границ, установленных в результате взаимодействия людей, означает разделение «своих» и «чужих». Выход за пределы проведенной границы может открыть новые горизонты, но также и вызвать чувство небезопасности. Часто границы иначе воспринимаются индивидуумами, чем большими людскими сообществами. Для первых это атрибут повседневности, для страны в целом – форма существования. При этом следует подчеркнуть, что пограничные зоны не только обособляют, но в то же время делают возможным интенсивное взаимодействие, формируя его правовые нормы (устанавливая границы).
Выражение «регион» – традиционно географическое понятие. Однако исторически регион, так же как «область», имеет отношение к regere / gebieten (править / управлять). В регионах могут образовываться территориально, исторически, экономически, культурно и социально обособленные локальные территориальные единицы. При этом в большинстве случаев применительно к региону речь идет об области средней величины, которая, прежде всего, проявила себя как носитель и символ некой идентичности, обладающей определенной идеологической интерпретацией. Исследования последних лет выявили и обобщили значительный материал, демонстрирующий трансформацию ценностных ориентаций, этических и моральных норм и моделей поведения жителей[69].
Большей частью представление о регионах формируется на основе картографии, которая создает визуальное изображение провинции. Такие образы запечатлены на географических картах XVI в. Политическая ситуация и связанные с ней взаимоотношения областей и территорий создателей этих карт чаще всего не интересовала, а потому на них и не отображалась. Нередко актуализация отраженных на картах реалий сильно запаздывала, нередки были случаи копирования устаревших карт вместе с их ошибками.
На многих географических картах XVI и XVII вв. изображены окраинные регионы, расположенные между Польшей и Московией. На картах Европейского континента наносилось изображение его восточных окраин. Подобным же образом составлялись карты Северной Европы и Ливонии (например, Mercator 1595 г.). На картах Польши основное внимание уделялось центру страны, которым в то время еще считалась Малая Польша. Только после Люблинской унии 1569 г. картографы обратили внимание на «кресы»[70] (например, Мацей Струбыч)[71]. На картах России того времени также были изображены западные окраины – интересующие нас области между Московским царством и Польско-Литовским государством (например, карта Августина Хиршфогеля)[72].
Географически пространство между Львовом и Москвой не ограничивалось никакими природными барьерами, такими как море или горы. Гидрография этой территории демонстрирует огромное значение рек, водораздел между ними обозначает границу двух систем: одна в направлении Балтийского, вторая в направлении Черного морей. Основной связующей и транспортной артерией на севере является текущая с востока на запад и впадающая в Балтийское море Западная Двина, на юге – это устремляющийся с севера в южном направлении (отсюда античное название Борисфен (Boristhenes)), берущий начало на Среднерусской возвышенности Днепр, длина которого составляет 2285 км. У Херсона Днепр впадает в Черное море. Его притоки Припять (западнее, 775 км) и Десна (восточнее, 1130 км) и их притоки Сейм (717 км) и Сновь (233 км) дополняют систему водных путей региона.
Хронология основания европейских городов восточнее Эльбы явно демонстрирует, что процесс этот прошел ряд этапов. К востоку от верховьев Вислы время основания городов приходится, как правило, лишь на XVI и XVII вв. На территории Галицко-Волынской Руси это были, прежде всего, маленькие городки – центры магнатских владений. Немало таких укрепленных городков возникло вокруг замков крупных землевладельцев во второй половине XVI в., что объяснялось, в частности, необходимостью обороны от набегов татарских орд. Однако в сравнении с Западной и Центральной Европой уровень урбанизации этих районов оставался весьма невысоким. Так, еще в середине XVII в. число городов здесь составляло лишь 3,9 на 1000 кв. км.[73].
Обустраивая занятые территории и проводя в них границы, люди и созданные ими институции определяли, как они будут строить свои отношения друг с другом, при этом сознательно создается всеобщее пространство на договорной основе. Из необозримого множества возможных действий и моделей поведения такое структурированное пространство позволяло тем или иным группам населения определить направление поиска оптимальных путей для усиления собственных позиций и обретения свободы действий. Установление границ и создание территориальных сообществ в совокупности представляло собой один из способов структурирования общества и использования преимуществ социальной стратификации.
Региональное управление рассматриваемого периода в России и Польше полностью находилось в руках аристократии. Хотя Речь Посполитая была в то время одним из самых крупных государств Европы, она – за исключением аристократического самоуправления – не была объединена общим территориальным управлением, исходящим из центра, чем она кардинально отличалась от других европейских стран. В противоположность сформированному в них слою «профессионального чиновничества» Антони Мончак обозначил польскую систему местного управления как дилетантскую[74]. Несмотря на существенные внутренние различия польская шляхта с середины XIV в. занимала в политике положение господствующего сословия[75]. В XIV в. она уже рассматривалась королями как партнер, с которым заключались союзы. Вопреки этническим и религиозным различиям польско-литовской знати[76] в XVI в. для нее было характерно возникновение общего политического сознания, представления о себе как о «политической нации (naród polityczny)»[77], обладавшей общей для всех дворян свободой, «золотой вольностью» (Станислав Ожеховский[78]). Сознание сословной общности «шляхетского братства» брало верх над частными интересами; например, на второй план отступали этнические различия между природным поляком или же воспитанными в польском духе выходцами из Западной Руси и даже самобытным иудеем. Идентификация в форме этнических различий проявилась позже в идеологии сарматизма[79]. С возникновением ксенофобии проявились признаки явного разграничения, что среди прочего нашло выражение в одежде и что со временем должно было привести к мифологизации этнической и социальной разобщенности.
Сарматизм часто выступал под лозунгом «оплота христианства». Тот факт, что христианство утвердилось на востоке и отчасти именно оттуда и получило распространение на территории Речи Посполитой, для «сарматских» идеологов вряд ли имел значение. В областях восточнее Великой и Малой Польши, а также Венгрии католическая церковь почти не имела собственной инфраструктуры, за исключением ордена доминиканцев с их провинцией лесных братьев[80] – и по этой причине считала население этих территорий «заблудшими овцами». Стремление утвердить здесь господство католического дворянства и клира воплотилось в идеологии и пропаганде в форме утверждения собственного превосходства как носителей истинного христианства.
Очевидно, что встреча западных и восточных идеологических течений, которая обнаруживалась в различных, в том числе и в политических областях, должна была постоянно приводить к столкновениям. Если говорить о военных конфликтах, то яркими примерами были битва на Чудском озере в 1242 г., ливонские войны в XVI в. и восстание на Украине в XVII в. во главе с Богданом Хмельницким. Восточная граница представляла собой, таким образом, не только конфессиональный, но и, прежде всего, социальный рубеж.
В XVI в. в странах Западной и Центральной Европы мало что было известно об областях, лежащих по пути из Польши в Москву. Так что записки 22-летнего торговца Мартина Груневега (1562 – после 1615), совершившего это путешествие в 1584–1585 гг. и описавшего эти земли, содержали поистине бесценные сведения[81].
Мартин Груневег родился в Гданьске в немецкой лютеранской купеческой семье. Здесь же он получил хорошее образование в Школе Св. девы Марии (Marienschule), где овладел и польским языком[82]. В 1579–1582 гг. он работал в Варшаве у поставщика королевского двора Георга Керстена. Когда Груневегу исполнилось 20 лет, он переехал во Львов, где в течение 6 лет был компаньоном тамошних армянских купцов[83], с которыми и совершил длительное путешествие в Москву, а также несколько раз побывал в Константинополе. Увлекательный рассказ об этих странствиях представляет наибольший интерес в его записках объемом около 2 тыс. страниц[84]. Их основой, обусловившей жанровое своеобразие сочинения Груневега, послужили путевые дневниковые записи, напоминавшие календарную приходно-расходную книгу направлявшегося в Константинополь и Москву коммерсанта. В записках один за другим зафиксированы не связанные между собой факты, как известные ранее, так и совершенно новые. В дальнейшем они были систематизированы автором и включены в единую территориально-временную систему координат. Даже если позднее Груневег и редактировал отдельные фрагменты своих записок, они не утратили явно ощутимой достоверности непосредственного повседневного участия автора в описываемых событиях и подлинности запечатленных им впечатлений и переживаний.
Любопытство считается первоначальным феноменом психологии личности, которому в то же время сопутствует страх перед чужим. Эта боязнь чужого и непознанного, согласно Жану Делуме, является одним из самых больших первобытных страхов человечества. В особенности он проявлялся при столкновении с чужими религиями, в отношении к которым уже было сформировано общее предубеждение, что и в XVI в. могло вывести людей из душевного равновесия[85]. В аналогичной ситуации оказывался и путешественник эпохи раннего Нового времени, это же относилось и к коммерсантам на международных торговых путях, поскольку в то время путешествия и торговая деятельность были тесно связаны друг с другом.
Если на западе Европы уже с XV в., вследствие разделения труда, собственно торговля и транспортировка товаров были уже отдельными видами деятельности, то для востока Европы и более отдаленных стран типичными фигурами оставались купцы-путешественники, которые чаще всего объединяли эти виды деятельности[86]. Для них переходы и места стоянок были столь же важны как информация о людях, дорогах и опасностях. Купцы знали, где проходят границы земель и государств, они обладали сведениями о живущих по пути их следования народах. Многочисленные таможенные кордоны останавливали караваны, товары должны были декларироваться, документы предъявляться. Разумеется, границы порождали махинации, контрабанду и мздоимство[87].
Смышленый выходец из Гданьска, еще на родине освоившийся в полиэтничной среде, Груневег во Львове еще более обогатил свой опыт взаимоотношений с говорившими на разных языках людьми различных национальностей и вероисповеданий[88]. Его живой интерес к окружающему миру в значительной степени позволил ему без предубеждения воспринимать новые, незнакомые ситуации, не подвергая их оценке или детальной классификации. Это дает основание полагать, что его записки отражают непосредственные впечатления от увиденного. В целом политика или история не интересовали Груневега, важными для него – и потому достойными записи – оказались человеческие и культурные контакты. Хотя путешествия Мартина Груневега приходились на период расцвета ars apodemica[89] [90], он, однако, не читал широко распространенного в Европе описания поездки в Московское царство посольства Герберштейна и поэтому не мог воспользоваться им в качестве путеводителя в то время, когда отправился в Константинополь и затем в Москву, выйдя тем самым за пределы горизонта собственных представлений de orbis terrarum[91]. К тому же, как свидетельствовал еще в середине XVI в. Сигизмунд Герберштейн: «Neque etiam cuivis mercatori, praeter Lithvuanos, Polonos, aut illorum imperio subiectos, Moscovuiam venire liberum est»[92] [93].
Москва была и столицей, и экономическим центром Московского царства. Крупная торговля и вся торговля с заграницей была сконцентрирована здесь в руках иностранных купцов с солидным капиталом. Внутри страны господствовало мелкое производство и соответствовавшие ему формы торговых связей в рамках локальных рынков. Внутренние таможни и пошлины препятствовали развитию экономических связей и товарного обмена. Большая часть внешней торговли велась через Балтийское море и с 1584 г. северным путем через Архангельск, однако в первую очередь все еще бóльшую роль играли торговля с землями Польско-Литовского государства и транзит товаров через его территорию. Экспорт из Московского царства состоял из сырья и полуфабрикатов, в импорте доминировало сукно, но ввозились также предметы роскоши и восточные товары. Издавна наиболее ценной статьей русского экспорта были меха, которые в Центральной Европе и в Османской империи были признаком принадлежности к высшему сословию и поэтому пользовались большим спросом. Значительная часть поступлений в казну московских государей составляла пушнина, собираемая в качестве натуральной подати с населения русского Севера и недавно покоренной Сибири. Литовские и польские торговцы часто закупали все поставки товаров из Сибири. В начале 1585 г. такая партия мехов прибыла из Сибири в Москву[94]. Весной того же года Груневег во время своего пребывания в Москве запасся мехами, которые он с большой выгодой продал в Эдирне во время следующей поездки в Константинополь, в ноябре 1585 г.[95].
После официального объявления войны Московскому государству в 1579 г. польско-литовские войска во главе с королем Стефаном Баторием одержали ряд значительных побед, взяли Полоцк и Великие Луки. В 1581 г. польский король осадил Псков, однако город выдержал вражескую осаду. И Речь Посполитая, и Московское царство были ослаблены многолетней войной и оказались не в силах продолжать ее. Ливонская война завершилась подписанием в Яме Запольском[96] 15 января 1582 г. перемирия на 40 лет. В 1583 г. было заключено и перемирие со Швецией. Внешняя политика царя Ивана IV Грозного на западной границе потерпела поражение, а Московское государство не только утратило завоевания в Прибалтике, но и понесло серьезные территориальные потери собственных владений.
Прекращение военных действий создало условия для восстановления традиционного торгового пути между Польско-Литовским государством и Москвой. После смерти Ивана IV (18 марта 1584 г.) его преемник Федор I сразу же отправил посольство в Речь Посполитую для подтверждения заключенного отцом мира, «чтобы как гости, так и купцы с обеих сторон могли свободно передвигаться и торговать как прежде»[97]. Возглавлявший посольство А.Я. Измайлов утверждал, что в России можно свободно вести торговлю и в Смоленске, Пскове и Новгороде уже много литовцев[98]. В общественном мнении шляхетской республики преобладало скептическое отношение к Ивану Грозному[99]; и теперь литовские дворяне не поверили заявлениям о мирных намерениях его сына. Однако, узнав о вступлении в силу выторгованного Львом Сапегой прекращения военных действий, армянские купцы решили использовать благоприятный момент и собрать караван в Москву. 2 октября 1584 г. он покинул Львов и тронулся в путь[100].
Таким образом, торговое путешествие армянских купцов из Львова и Киева в Москву произошло в период временно приостановленных военных действий, но неясных перспектив урегулирования отношений между Речью Посполитой и Московским царством. И именно поэтому в пограничных областях Речи Посполитой и Московского царства, через которые следовал купеческий караван, имели место различные конфликтные ситуации[101]. На южной окраине Российского государства совершали набеги крымские татары, угоняли население и продавали захваченных пленников на невольничьих рынках Причерноморья. В середине XVI в. путь из Москвы на юг проходил через Калугу, Воротынск, Серенск и Брянск. Этот путь был уже полностью освоен в 80-х гг. XVI в. и, несмотря на его опасность, использовался иностранными купцами.
О специфических трудностях и недоразумениях, с которыми сталкивались прибывавшие в Москву иностранцы, свидетельствуют нередкие жалобы посланников на не соответствующее их званию обхождение; на это жаловался и Лев Сапега в 1584 г. Согласно русскому источнику, он жил на других условиях, нежели это предусматривалось установленным обычаем статусом посланника, по которому сам дипломат, члены посольства и прибывшие с ним до двухсот торговцев обеспечивались бы продовольствием за счет хозяев[102]