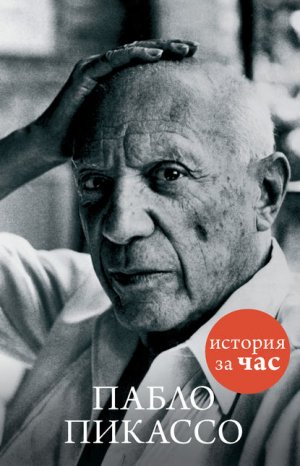
Автор-составитель Вера Калмыкова
На обложке: фото Album / East News
© Текст. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2015
КоЛибри®
Введение
Изобразительное искусство XX в. порой бывает сложным для восприятия: уж очень непривычны его формы. В пейзажной живописи нам привычно видеть картины природы, в натюрмортах – изображение предметов, в жанровых сценах – какое-либо событие, в портретах – лицо человека. Так и бывает, когда мы смотрим на картины мастеров Ренессанса и Нового времени, вплоть до конца XIX столетия. Однако начиная уже с искусства французских импрессионистов и их единомышленников из других стран возникают вопросы. Почему очертания деревьев или предметов так причудливо изменены, лица искажены, а перспектива нарушена? Почему краски так ярки или, напротив, приглушены? Почему, наконец, на полотне или листе бумаги вообще нет никаких привычных глазу жизненных форм, а только геометрические фигуры или наплывы краски? Словом, по какой причине живописцы отказывались от жизнеподобия и принимались изображать нечто мало похожее на реальность?
Причина тому – рост и развитие человеческой индивидуальности. К середине XIX в. люди начали задумываться: а стоит ли повторять на изображениях то, что и так уже существует в действительности? Разве изобразительное искусство – только для того, чтобы копировать известные, всеми узнаваемые формы? Но ведь это же невозможно! Даже если художник напишет предельно «похоже», все равно это будет иллюзия. Передача перспективы на полотне – лишь передача перспективы, но не сама перспектива. Иллюзорный мир, до мелочей повторяющий мир реальный, никогда не сможет стать им до конца. Это доказала фотография, появившаяся в конце XIX в.
Но тогда, может быть, живопись нужна еще для чего-то? Например, чтобы показать, как именно тот или иной художник видит все вокруг себя, уловить тончайшие цветовые градации, игру света, соотношения объемов и плоскостей. Обыденным взглядом мы не часто это замечаем. Нужны усилие, внимание и очень большая любовь к окружающему нас миру, чтобы поймать эти моменты. И огромное мастерство, чтобы воплотить их на плоскости картины.
Задумались живописцы и о том, можно ли передать в произведении искусства настроение, состояние, полет мысли отдельного человека. Может ли изобразительная форма без всяких словесных комментариев выразить отношение человека к какому-то событию? Можно ли нарисовать или написать красками пульсацию человеческой мысли? В самом начале XX в. великий французский живописец Анри Матисс сформулировал наиболее общий принцип нового искусства: «Точность воспроизведения предметов реального мира не есть правда в искусстве» [1, с. 17].[1] Правда в творчестве – это то, что ощущает художник, то, что действительно волнует его до глубины души.
Вот почему в искусстве стали появляться разнообразные направления, выразившие истинную правду эпохи – человек существует в меняющемся мире, причем часто трагически меняющемся. Личность, живущая в обстановке все обостряющихся социальных противоречий, ищет себя в технотронной цивилизации, переживает катастрофы и катаклизмы, происходящие по воле таких же людей из плоти и крови. И наряду с этим – торжество зрения; радость увидеть цвет на холсте и осознать, что и там, и на палитре, и в фантазии присутствует одна и та же эмоция и колориту дано ее увековечить; радость физического, духовного и душевного движения, зафиксированная линией; переживание блаженства от соприкосновения с изобразительным материалом; ощущение счастья, возникающее, когда сюжетом картины становится не какая-то известная ситуация, а сами по себе сочетания цветов, динамика колорита, танец линий.
Все это – искусство XX в. Безусловно, разнообразные «-измы» (кубизм, футуризм, абстракционизм и др.) появлялись, развивались и сходили на нет параллельно с жизнью реалистического искусства, по-прежнему, как и столетия назад, верного тому, что видит наш глаз. Возник даже неореализм, доводящий иллюзорность до предела, когда нарисованный на стене гвоздь визуально ничем не отличается от настоящего гвоздя, вбитого в настоящую стену. Новаторы восставали против традиционалистов, традиционалисты клеймили новаторов, но для обычного зрителя это происходило незамеченным. Его задача в любые времена – научиться воспринимать изобразительное искусство во всем многообразии его форм; понимать, зачем использован тот или иной художественный подход, а в итоге обогащаться духовно, расти вслед за мастерами.
Одним из художников, пробовавших на своем творческом пути максимальное количество способов изображения и передачи состояния человека, окружающего его мира и своих собственных ощущений, был испанец Пабло Пикассо. Сам он как-то сказал: «Живопись сильнее меня. Мне приходится делать то, что она хочет» [3, с. 312]. Получается, что сама живопись как бы требовала от художника XX в. новых, необычных форм, непривычных творческих решений. Ведь по большому счету отказаться от жизненности никогда не получится. Воспроизводишь ли привычную обстановку, пытаешься ли запечатлеть взрыв собственных эмоций – ты все равно остаешься верен жизни, потому что наше воображение есть такая же реальность, как и то, что нас окружает.
«Чтобы найти верный подход к пониманию произведений Пикассо, следует прежде всего учесть, что задача художника не состоит в том, чтобы дать нам в своем искусстве копию окружающего мира. Формы предметов претерпевают всяческие изменения в его работах; они преувеличиваются, искажаются, ломаются, доводятся до гротеска. Это одинаково применимо ко всем произведениям художника, созданным на протяжении более чем шестидесятилетнего творчества; не только к тем из них, где отход от точности в передаче модели проявляется со всей очевидностью, но и к тем, где окружающий нас мир выступает во вполне «узнаваемых» формах» [1, с. 18]. И рассказ о Пикассо и его творчестве – это попытка понять, как и почему, перенося на холст свои впечатления от жизни, он как бы ломал очертания живых существ и предметов, по-своему показывая, как может творческая личность ответить на вызов, брошенный всему человечеству в начале жестокого века, принесшего людям глобальные войны, обманчивые блага цивилизации и страшное оружие.
Сигара и карандаш
25 октября 1881 г. на юге Испании, в андалузской Малаге, в доме на площади Мерсед, Мария Пикассо Лопес, супруга учителя рисования Хосе Руиса Бласко, разрешилась от бремени мертвым младенцем. Он не кричал, не дышал, не подавал признаков жизни. Родители еще не успели осознать, какая произошла трагедия, как доктор, принимавший роды, брат отца дон Сальвадор Руис, закурил гаванскую сигару и… выдохнул дым прямо на младенца. Лицо ребенка исказилось, он зашевелился и закричал.
Неизвестно, так ли происходило в действительности, однако сам Пикассо очень любил рассказывать эту историю. Не случайно он до конца дней своих оставался заядлым курильщиком! При рождении ему, как принято в Испании, дали длинное звучное имя – Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано (Криспиниано) де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо.
Дон Хосе Руис Бласко происходил из семьи, имевшей свои традиции. Среди родственников числились архиепископ Лимы и вице-король Перу. Отец дона Хосе, соответственно дед Пабло – дон Хуан де Леон – был мастером-перчаточником и интересовался искусством. А дон Хосе уже и сам стал художником, хотя и довольно посредственным. Высокий и стройный, с рыжей шевелюрой и голубыми глазами, он носил прозвище «англичанин». Осознание ограниченности собственных дарований сделало его меланхоликом; однако, будь ему не свойственны амбиции, разве смог бы он дружить с Антонио Муньосом Дегреной и Бернардо Феррандисом, основателями школы живописи Малаги? А ведь такое общение, без сомнения, повлияло на его сына Пабло. И, кстати говоря, любимой натурой дона Хосе служили голуби. Не отсюда ли возник в творчестве зрелого Пикассо образ «голубя мира», облетевшего планету во второй половине XX столетия?
Мария Пикассо Лопес, черноволосая и черноглазая, невысокая и полная (типичная испанка!), не принесла в семью приданого. Однако еще до свадьбы дон Хосе устроился помощником преподавателя рисования в Школе изящных искусств Сан-Тельмо. Правда, получал он совсем немного, зато его брат дон Сальвадор, преуспевающий врач, добился того, чтобы дона Хосе назначили хранителем нового муниципального музея.
У дона Хосе и доньи Марии со временем родились еще две дочери, но сыновей больше не было. Неудивительно, что мать окружила единственного сына, к тому же похожего на нее как две капли воды, безграничной любовью и вниманием. Конечно, она его забаловала, причем настолько, что, когда юный Пабло не захотел учиться в школе, ему не стоило никакого труда убедить родителей, что духота в классе пагубно отражается на его здоровье, при этом он не жаждал играть и проказничать с другими мальчишками, ему хотелось только рисовать. Часами мог он просиживать на улице, водя пальцем по дорожной пыли. Получались линии, которые его завораживали. Недаром, по воспоминаниям матери, его первыми словами были: «Дай карандаш». И столь же увлекательным занятием было смотреть, как работает отец. Вот дон Хосе рисует на бумаге силуэты голубей, а затем вырезает их по отдельности и передвигает на холсте, выбирая наиболее гармоничную композицию. В другой раз отец ставит перед собой гипсовый слепок и превращает его в Богоматерь скорбящую. Маленький Пабло следит за отцовскими руками, не отрывая глаз, все кажется ему чудом.