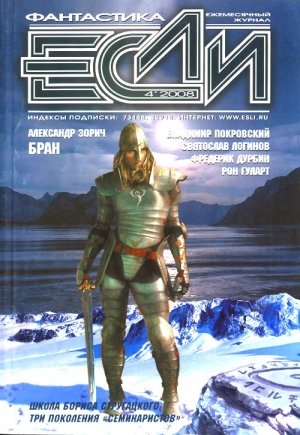
ПРОЗА
Наталья Резанова
Зов Нимра
Женщина взошла на борт в Лейре. Команда роптала, так как женщинам и рабам ступать на гернийские боевые галеры запрещалось. Но капитан твердо сказал, что она останется. Возможно, он приглядел ее для себя. Впрочем, она не отличалась привлекательностью, даже если учитывать неприхотливость вкуса моряков — высокая, плотная, широкоскулая, с глазами, прикрытыми тяжелыми веками, отчего цвет их разглядеть невозможно. Она была одета для дальнего путешествия — в теплую куртку и фуфайку, кожаную юбку и низкие прочные сапоги с подковами. Но то, что она решилась путешествовать на боевой галере, одна среди полутора сотен мужчин, свидетельствовало либо о большой тупости, либо о крайней развращенности, либо о полном равнодушии к собственной судьбе, а может, обо всем этом вместе. И ее могли бы сразу, несмотря на приказ капитана, без затей вышвырнуть за борт, если бы не произошли события, сразу заставившие всех забыть о ее присутствии.
Неизвестно, кто первым увидел Тиугдала, помощника капитана, ушедшего в Лейру с поручением. Он бежал по берегу бухты и орал:
— Гахор! Гахор!
Это имя заставило всех насторожиться. Гахор был капитаном «Рарога», вместе с которым «Фаланг» Джерреда несколько дней назад потопили торговый караван из Нанны. Получивший пробоину в бою «Фаланг» остался чиниться в ближайшей бухте Лейры, а весь захваченный груз был погружен на «Рарог» и переправлен в Герне. Приз Гахор поклялся честно поделить с Джерредом. И вот теперь в Лейре стало известно, что Гахор нарушил клятву и, не став дожидаться прибытия «Фаланга», отплыл в сторону Ируата.
После того как Тиугдал сообщил все это капитану, никто на «Фаланге» не колебался ни мгновения. Все знают, как поступают с предателями. Ударил барабан, сперва — собирая гребцов к веслам, а затем — задавая им темп. Парус пополз вверх. Ветер был попутный, решимость велика, и вскорости «Фаланг» вырвался из бухты на юго-восток, по направлению к Ируату, дабы настичь врага до того, как он войдет в воды Нимра — клятвенно мирные воды.
Женщины в это время не было видно; то ли спряталась куда, то ли просто не попадалась на глаза — никто не обратил внимания.
Большинство мореплавателей предпочитали в своих странствиях по Внутренним морям придерживаться береговой линии. Но гернийцы не относились к их числу. В отличие от других народов, приковывавших к веслам галер рабов и каторжников, по закону Герне гребцами могли стать только свободные люди. Моряки в случае необходимости брали в руки оружие, воины же, когда требовалось, присоединялись к гребцам, не боясь намозолить руки. Как же иначе в морях, где людям угрожают кракены, рыбодраконы, мантихоры, поющие туманы и другие опасности, имена которых невозможно даже произнести? Этим законом гернийцы объясняли свои успехи на море — и были правы. Соперничать с Герне мог, безусловно, Нимр, далекие Лунные острова и отчасти Димн, — последнего, впрочем, гернийцы не признавали, что само по себе служило косвенным подтверждением. И только. А ведь портов на Внутренних морях, как говорится, что блох на бездомной собаке. И гернийские корабли, пиратские и купеческие, достигали их всех. Герне был сильным городом-государством, хотя процветающим вряд ли: слишком суровы были обычаи.
Небо темнело, хотя далеко еще было до заката, и ветер усиливался. Все чаще бил барабан на корме, и гребцы, чьи спины не знали бича надсмотрщика, круче налегали на весла. Они шли за своим, и если бы кто-нибудь посмел им помешать — разобрались бы и без капитанского приказа. Сам капитан стоял у борта, оставив Тиугдала у рулевого весла, напряженно вглядываясь в ту сторону, где ожидал увидеть «Рарог». И он его увидел. Джерред хрипло завопил от радости и начал отдавать приказы матросам и воинам.
На «Рароге» тоже их заметили. Похоже, поначалу Гахор попытался маневрировать, перевести «Рарог» на другой галс, но поздно. И хотя Гахор выставил лучников к бортам, ветер был против него. Джерред тоже велел своим стрелкам изготовиться. Но сомнений не возникало: атакой лучников дело не кончится. Команда Гахора будет сражаться вдвойне ожесточенно, поэтому Джерред приказал готовиться к абордажному бою. Лучники «Рарога» все же дали нестройный залп, не причинивший «Фалангу» заметного вреда. Однако следовало торопиться, пока защитники «Рарога» не успели прибегнуть к главному оружию — тяжелой баллисте, которая там, конечно, имелась. На «Фаланге» тоже была такая, но, покуда не вернул добычу, Джерред стал бы топить «Рарог» в последнюю очередь. На «Фаланге» спешно убирали паруса и готовили абордажные крючья. Люди Гахора столпились на палубе — такие же высокие, беловолосые гернийцы, с кожей, докрасна опаленной солнцем, как и те, что были на «Фаланге». И вооружены они были так же — саблями, тесаками, топорами на длинных рукоятках. Вскорости крючья и якоря ударили в борт «Рарога», и Джерред первым прыгнул на его палубу, вопя что-то о золоте и мести. Сопротивление было настолько отчаянным, что грозило обернуться наступлением. Ведь гернийцы никогда не сдаются без боя. Но и Джерред не собирался отступать. Между тем ветер не утихал, море волновалось, и Тиугдал, оставшийся на «Фаланге» поддерживать порядок, метался по палубе, бранясь самыми черными словами. Большинство гребцов присоединились к сражавшимся, и «Фаланг» был в значительной мере предоставлен своей судьбе. Команду Джерреда теснили к борту, хотя сам Гахор исчез из поля зрения — возможно, он уже погиб, и этим объяснялся разброд в действиях его людей: одни рубили канаты, сцеплявшие галеры, но несколько человек уже успели перебраться на «Фаланг», и тут уж Тиугдал не мог оставаться в стороне. Он ринулся на нападавших, его сабля рубанула по занесенной руке с топором, кто-то вскочил ему на плечи, он вывернулся, багор подцепил саблю и вырвал ее из руки. Он отскочил, удерживая равновесие на кренящейся палубе.
И тут увидел женщину.
Она с равнодушным видом сидела возле мачты в тени спущенного паруса, словно происходящее кровопролитие ее совершенно не касалось. Выглядело это просто дико.
Он рыкнул:
— Чего ты ждешь?
— Мне нужно в Нимр. И я поплыву на том корабле, который сможет туда добраться.
Безразличие это повергло его в бешенство, он, не помня себя, бросился на нее, но женщина, не вставая, и даже не глядя, метко ударила его в живот ногой в подкованном сапоге, и Тиугдал, споткнувшись, покатился по палубе к борту. Это его и спасло.
Людям с «Рарога» удалось перерубить концы, связывавшие их галеру с кораблем противника, однако не все. Потерявший управление, но лишенный возможности маневрировать, «Рарог» все еще был сцеплен с «Фалангом». Высокая волна приподняла его и безжалостно ударила о корму «Фаланга». Удар был так силен, что сломал мачту. Она рухнула и, не откатись Тиугдал к борту, раздавила бы его в лепешку. «Фаланг» страшно накренился, те, кто еще оставался на ногах, попадали — одни, цепляясь за борта, другие прямо в воду. С грохотом рушились переборки. Волна хлынула в трюм. «Фаланг» быстро тонул, неотвратимо увлекая за собой «Рарог». Кто-то еще продолжал сражаться, но большинство уже рвались к шлюпкам или просто, ополоумев, прыгали в море. Вскорости на месте двух кораблей под чернеющим небом образовалась огромная воронка, втягивающая мачты, доски, сундуки, клочья парусины, людей, живых и мертвых, и прочие обломки крушения.
Тиугдал плыл несколько часов. Сколько — он не знал, однако солнце уже давно встало. Ветер утих, но надолго ли? Он был отличным пловцом, но его порядком оглушило при падении за борт, он так-же не сознавал, как сумел удержаться на воде. В темноте он не увидел, спасся кто-нибудь еще с «Фаланга» или утонули все. В любом случае, надеяться Тиугдал мог только на себя. Благодаря опыту, он приблизительно определил, в каком направлении может находиться земля — но не расстояние. Оставалось надеяться, что берег не более чем в двух днях пути. Дня два он, возможно, продержится. Если его не сожрет какая-нибудь мерзость, вроде рыбодракона, или если снова не начнет штормить. А штормить начнет непременно — на это у него чутье было безошибочное, хоть ты мачтой бей его по голове…
Он плыл, стараясь беречь силы, смотреть вперед и ни о чем не думать — последнее получалось не так легко. Время шло, а берег все не показывался. Голода он пока не чувствовал, но жажда уже давала себя знать. Мышцы ныли — все и каждая по отдельности, не только на руках и ногах, но на животе, в паху, на затылке, в особенности разламывало шею. Похоже, он дал лишнего, посулив себе двое суток. Хотя бы одни… хотя бы до вечера… Держала его только привычка, гернийская привычка, запрещавшая просто так сдаться и пойти ко дну. Он еще продолжал шевелить руками и ногами, но перед глазами уже стояла мутная пелена.
Затем чья-то рука схватила его за шиворот и подтянула наверх.
— Будешь мешать — утоплю, — сказал бесцветный голос.
Не сознавая, что происходит, Тиугдал слепо ухватился за шершавое дерево, оказавшееся под руками, и резко качнувшееся от этого движения. И только потом, когда его отпустили…
Несколько бревен из переборок, сломанная мачта, намертво сцепленные обрывками снастей. Деревянный щит лучника. А на этом примитивном плоту сидела женщина — точно так же, как вчера, словно какой-то ветер подхватил ее с палубы и перенес сюда. Даже одежда ее казалась совершенно сухой. И так же, как вчера, глаза ее были полуприкрыты и не смотрели на Тиугдала.
Если бы у него оставались силы, он бы перевернул этот плот. Но сил не было. А она держала обломок доски, которым гребла. Да и обстоятельства были не таковы, чтобы отказываться от помощи, даже предложенной подобным образом.
Женщина вновь принялась грести. Теперь Тиугдал мог позволить себе расслабиться и отдохнуть. И это было огромным облегчением. Так можно продержаться гораздо дольше. Беда только в том, что по мере возвращения сил приходила и способность соображать.
День уже перевалил на вторую половину, когда Тиугдал услышал крики птиц. До этого он почти дремал, держась за бревно. Он уже сознательно не пытался влезть на плот, опасаясь, что тот может перевернуться. Женщина гребла, казалось, совсем не чувствуя усталости. Она не произносила ни слова, а у Тиугдала не возникало ни малейшего желания с ней разговаривать. Но птицы заставили его встрепенуться. Конечно, надежда могла и обмануть, но, вероятно, неподалеку был берег.
Так и оказалось. На горизонте виднелась узкая черная полоса. Тиугдал сипло закричал — или ему показалось, что закричал, горло совсем пересохло — и толкнул плот так, что и вправду едва не опрокинул его.
Женщина и теперь не произнесла ни слова, неизвестно даже, видела ли она берег, продолжая столь же механически грести. Тиугдал плыл, не рискуя выпускать край плота. Берег приближался. Уже была различима плоская песчаная отмель и лодки на ней. Дальше — сети, развешанные на песчаных столбах, и за ними — низкие темные хибары.
И люди. Несколько человек неподвижно стояли на песке, пялясь в их сторону. Тиугдал невольно зашарил рукой по бедру, нащупывая нож. Тщетно — потерял, пока плыл. А ведь немало прибрежных государств построено на работорговле.
Ноги задели песчаное дно. Ладно, деваться некуда. Тиугдал встал по пояс в воде и едва не рухнул — так качнуло от вновь обретенной тяжести собственного тела. Но устоял и, шатаясь, побрел к берегу. Не оборачиваясь, услышал, как женщина, покинув плот, шлепает по воде вслед за ним.
Это оказалась маленькая рыбацкая деревушка к северу от Димна. Жили здесь бедно, купеческие тракты проходили мимо, и корабли, следующие в гавань Димна, из-за отмелей эту часть побережья обходили. Деревенским жителям Тиугдал сказал, что они с потерпевшего крушения купеческого корабля с Лунных островов — правда была, как говорится, чревата. Женщина не сказала ничего, и это представлялось естественным — говорит мужчина.
Им были не особенно рады, но и гнать вроде не собирались. Напротив, позволили обсушиться и накормили, не заводя разговоров о плате. Тиугдал лишь теперь, в относительной безопасности, почувствовал всю меру голода и жажды, терзавших его, и с благодарностью воздал дань жареной рыбе и местной кислятине, почитаемой за вино. Женщина жадно и безразлично сжевала то, что им подали. Когда для ночлега им отвели старый лодочный сарай, Тиугдал ожидал, что она будет возражать, но она и не подумала этого сделать и покорно поплелась за ним.
У входа он пропустил даму вперед — если местные что задумали, он в ловушку не попадется. Она прошла внутрь и уселась на дощатый пол с тем же безразличным видом. Тиугдал собрал в кучу обрывки сетей, какие-то тряпки, валявшиеся на полу, и улегся. Спать хотелось зверски. И он уснул.
Проснулся глубокой ночью. До его слуха доносился глухой шум моря. Наверное, начался шторм, которого он ждал весь день. Но не это разбудило его. Яркий, неестественно белый свет. В пролом крыши била луна. Верно, полнолуние… В квадрате света, положив голову на колени, сидела женщина. Возможно, она и спать так привыкла — сидя.
А у него сон как рукой сняло. Днем присутствие женщины нисколько не волновало его — он слишком устал. Но теперь усталость отступила. И ведь она сама пошла с ним в этот сарай, никто ее не тащил. Значит, знала… На портовую шлюху она, правда, не похожа, — так какого же беса таскается по кораблям? Он приподнялся. Женщина не пошевелилась. Спит? Или подсматривает? Это все луна, проклятая, виновата. Злоба и тоска накатили на него. Тиугдал встал. Она должна ответить за все — и за тот удар сапогом в живот, и за то, как пренебрежительно волокла его за шкирку, и за предательство Гахора, и за гибель «Фаланга», за все — и способ для этого он знал только один.
Женщина вроде бы не заметила его приближения. Но в то мгновение, когда он рванул ее за плечо, она впервые посмотрела на него.
В ее глазах не было ничего человеческого.
И ничего животного.
Ничего живого.
Ни зрачков, ни белков, ни радужки. Два сгустка серой клубящейся мглы.
А потом он увидел, как эта мгла выползает из глазниц, волнами захлестывает все окружающее пространство, заслоняет лунный свет, потому что перед ней бессилен всякий свет, любой… И Тиугдал потерялся в этом сером давящем тумане, опутанный им, неспособный даже пошевелиться. И что хуже всего — он чувствовал, как свинцовая мгла клубится не только снаружи, она проникает в душу и затягивает ее, стискивает и ломает волю, обессиливает мозг точно так же, как и мускулы. Последнее, что понял Тиугдал — он готов сделать все, что пожелает эта женщина… лишь бы она закрыла глаза!
Придя в себя, он обнаружил, что валяется на полу, у стены. Серый туман исчез, все было как прежде, только лунный свет словно потускнел. И он боялся смотреть в ту сторону, где сидела женщина.
Голос, прозвучавший то ли в его голове, то ли на самом деле, сказал:
— Ты понял теперь, что такое Зов Нимра? — И, не дожидаясь ответа, продолжил: — Вот почему ваш капитан принял меня на борт без всякой платы. Вот почему меня принял бы и Гахор.
Тиугдал застонал и отвернулся к стене. Надо было сразу догадаться, как только она помянула Нимр. Но кто же думает о таких вещах?
Нимр — самый богатый и процветающий порт-государство из всех приморских городов, расположенный на острове Ируат. Город белых храмов и зеленых башен. Торговцы и паломники стекались сюда со всех концов обитаемого мира. Нимр не вел завоевательных войн, его могущество строилось на торговле, и должно было, в свою очередь, привлекать захватчиков, но за долгие века ни один завоевательный поход на Нимр не увенчался удачей. О приближении вражеских армад в Нимре странным образом становилось известно чуть ли не до того, как они покидали свои гавани, а торговые флотилии Нимра легко превращались в военные. Молва связывала все это с Сердцем Нимра, таинственным оракулом, главной святыней города, привлекавшей сонмы паломников, хотя самого Сердца никому еще не удавалось увидеть. Но говорили также, что Силы не могут действовать сами по себе, им потребен человек, который будет служить Их устами. Когда такой человек умирает, Сердце Нимра призывает другого, и лишь один из сотен тысяч способен услышать этот Зов. Но гернийцы не забивают себе головы сказками об оракулах, а лучше всего — ничего о них не знать. Вот что нужно знать: в Нимре, скорее всего, хорошая шпионская служба, а торговля с ним выгодна, и этого достаточно. Да еще то, что в Нимре лучшее на островах вино.
И вот сказки оказались правдой. Женщина услышала Зов Нимра, и он съел ее душу, оставив взамен неодолимое желание воссоединиться с оракулом. Но Нимр вооружил ее даром подчинять себе каждого, кто попытается ей помешать.
Неужели это его мысли? Или их поселил странный взгляд, коснувшийся его ума?
Сейчас Тиугдал ощущал только огромную опустошенность. И лучшее, что он мог сделать, это снова уснуть.
Он проснулся окончательно поздним утром. Дверь распахнута. Женщины не видно. Он продрал глаза и выбрался из сарая. День выдался серый, ветреный, бессолнечный. Шторм бушевал вовсю, и не вызывало сомнения, что здешние рыбаки нынче сидят по домам. Женщину он заметил почти сразу — она стояла возле вытащенного на берег баркаса, и прикидывала, как спустить его на воду.
Тиугдал подошел к ней.
— И что ты собираешься делать? — спросил он, обращаясь к ее затылку.
— Плыть. На лодке, — сообщила она своим мертвым голосом.
— Совсем спятила?
Огромные мутные валы взлетали высоко к небу, и клочья пены падали почти у ног женщины.
— Мне нужно в Нимр.
Моряк в нем возмутился.
— Ни в какой Нимр ты в этакий шторм не попадешь, потонешь у самого берега! Да и при попутном ветре без жратвы и воды отсюда до Нимра на лодке не добраться. — И, прежде чем она успела повторить неизменное «Мне нужно в Нимр», а он был уверен, что она это скажет, добавил: — Лучше двигай ногами в Димн. — И указал в нужном направлении. — Всего-то дня два пути. Это порт, найдешь подходящий корабль. Попадешь в свой Нимр и скорее, и вернее. А я… — он смолк.
Женщина повернулась в сторону Димна, очевидно, проворачивая в уме услышанное. Выходит, кое-что соображать она все же могла. Тиугдал тоже раздумывал. Димн. Его совсем не тянуло в этот город. Сказать, что гернийцев в Димне не любили, значило ничего не сказать. Да и места там кругом опасные. Но сидеть в этой вонючей деревне не менее опасно. Соображают здешние туго, но когда до них дойдет, что можно поживиться за счет пришлых… В порту можно точно так же найти корабль и до Герне, а что до опасностей дороги, так у него против них есть оружие…
Он задохнулся от смеха. Надо же, как выгодно повернулось ночное крушение!
После полудня, разжившись кое-какими харчами у рыбаков, немало обрадованных тому, что чужаки убираются прочь (светлая мысль насчет продажи пришлых в рабство их еще не посетила), они тронулись в путь.
На этот раз женщина шла впереди, с самого начала взяв такой темп, что Тиугдал порядком отстал. Он и не особо торопился, достаточно было не терять ее из виду.
Места были унылые — голая равнина, кое-где пологие холмы, вереск, чахлые кусты. Никто здесь не жил, зато поговаривали, что сюда нередко наведываются Похитители людей — остатки кочевых племен, вытесненных армиями Союзной Империи и королевства Михаль из глубины материка на побережье, оставивших свои былые занятия и поставляющих рабов на невольничьи рынки Димна, впрочем, как и вполне оседлые жители некоторых приморских городов. Но Похитителей людей почему-то боялись больше. Однако Тиугдал полагал, что теперь ему страшиться нечего. Точной дороги он не знал, да и не было здесь никакой дороги, но, двигаясь вдоль берега, Димн не минуешь.
Наступил вечер, на небосклон выползла луна, почти такая же яркая, как вчера. Женщина явно не собиралась ни останавливаться, ни сбавлять ход. Первоначально Тиугдал надеялся, что она вымотается и устанет — все-таки она была слабее его. Но, видимо, из-за своей одержимости она ничего не чувствовала. А вот Тиугдал устал невыносимо. Как большинство моряков, пешеход он был неважный. И после вчерашнего заплыва целый день на ногах — это чересчур.
— Слушай, ты! — крикнул он. — Как тебя там (он не спрашивал ее имени, а она наверняка его не помнила)… Нужно сделать привал!
Она остановилась, не поворачиваясь, обратив невидящее лицо на север. И Тиугдал был этому рад.
— Нужно отдохнуть, слышишь! Может, души у тебя и нет, даже наверняка, а вот ноги есть! И ты их сотрешь. В кровавую кашу! Свалишься на землю и сдохнешь!
Не дав ему дорисовать, какие мучения ожидают ее в случае продвижения вперед, она двинулась дальше. Со своей стороны она была права — при таком ярком лунном свете и по сносной местности можно было идти и ночью. Но только со своей стороны.
Пока что плюхнулся на землю сам Тиугдал.
— А, чтоб тебя! — пробормотал он. — Тебе нужно поспешать, не мне. Как-нибудь и один доберусь, без бабской охраны…
Вытащив из-за пазухи сушеную рыбину (в этой проклятой деревне ничего, кроме рыбы, не нашлось), он принялся чистить ее зубами. Это занятие так поглотило его внимание, что он не сразу услышал звук, родственный ночной тишине, и в то же время убивающий ее.
Дробный топот копыт по твердой почве пустоши.
Он вскочил. И увидел быстро приближавшийся отряд всадников.
Похитители людей. А он вдобавок сам выдал себя криком.
Тиугдал заметался на месте. Драться немыслимо, он один и без оружия. Убежать не успеет, а спрятаться здесь негде. Проклятая луна хорошо освещает и его, и женщину, продолжающую идти. И женщину… Теперь вся надежда — добежать до нее.
Тиугдал бросился вслед за женщиной. Молчаливые всадники, угольно-черные в мертвенном свете, повернули за ним. Ноги отказывались служить, дыхание пресекалось, и было ясно: они догонят его. Женщина шла, не оборачиваясь, хотя копыта уже гремели так, что и глухой бы услышал.
— Посмотри на них, сука! — крикнул Тиугдал из последних сил. — Посмо…
Волосяной аркан перехватил ему горло и свалил наземь, потащил за собой. Скрюченные пальцы Тиугдала скребли по жухлой траве. Он ничего не видел и почти не мог дышать. Но надежда на освобождение еще оставалась…
Потом петля на горле ослабла, он схватил ртом воздух и попытался подняться, но сильный удар снова сбил его с ног. Двое, воняющие потом, конским и собственным, навалились и стали вязать сыромятными ремнями. Покончив с этим, отошли в сторону, и он отчетливо смог рассмотреть происходящее.
Их было десятка полтора, низкорослых, коренастых, почти квадратных, в коже и броне. Иные оставались в седлах, другие спешились. Еще двое держали за руки женщину, которая и не думала вырываться. Стоявший в центре человек — латы у него были получше и голос погромче, — надо думать, вожак, что-то говорил, указывая на нее. Тиугдал, конечно, знал северные наречия и на некоторых довольно бойко изъяснялся, но это был какой-то совершенно неизвестный диалект.
Затем вожак подошел к Тиугдалу, несильно пнул, очевидно, проверяя, целы ли у того ребра, нагнулся, пощупал мускулы, оттянув губу, осмотрел зубы. Он был темнокож, плосколиц, с жирными черными волосами. Хотя потом от него несло так же, как от других, ни грязным, ни оборванным он не выглядел. Да и люди его были экипированы вполне прилично. Скорее торговцы, чем разбойники (так же, как и гернийцы). Удовлетворившись, похоже, произведенным осмотром, вожак вскочил в седло и, протянув руку, втащил к себе женщину. Тиугдала, связанного по рукам и ногам, мешком бросили через седло одной из запасных лошадей. Кто-то свистнул, гикнул, и отряд рванулся с места.
Тряска, доводящая до тошноты, и боль от ремней лишали Тиугдала всякой способности к соображению. Он лежал, его голова свисала вниз, и к ней приливала кровь, лицо терлось о лошадиный бок, а в мозгу билась единственная мысль: «Почему она не посмотрела? Почему?»
Скакали долго. Небольшие лохматые лошади Похитителей отличались необыкновенной резвостью. Бледный лунный свет сменился предрассветным сумраком. И что-то кругом изменилось. Другие тени, другие запахи. Копыта заклацали о булыжник. Мощеная дорога? В пустошах?
Тиугдал с трудом приподнял голову и увидел темную приземистую арку ворот и кусок городской стены. А дальше в утреннем тумане угадывались очертания башни, знакомой любому мало-мальски опытному моряку — маяка Димна.
Если бы Тиугдал мог, он бы засмеялся. Не посмотрела она, как же! Еще как посмотрела. Зачем ей надо было вырываться, если так она могла легко сократить себе дорогу, и вместо того, чтобы весь день тащиться пешим ходом, доехать в Димн за несколько часов? Теперь Тиугдал уяснил себе, что единовременно женщина может подчинить себе только одного человека. Поэтому всякий раз она должна безошибочно выбрать предводителя. Так она поступила с Джерредом, так собиралась поступить с Гахором, а от вожака Похитителей, который и без того собирался везти ее в Димн, требовалось лишь оставить ее свободной и невредимой. Поэтому ее и не связали. Что же до его, Тиугдала, свободы, то почему она обязана об этом беспокоиться? Он бы тоже не побеспокоился. Правда, в море она спасла его, но с тех пор произошло еще кое-что…
Вожак тем временем переговаривался со стражей у ворот. На сей раз изъяснялись на общепринятом языке Димна, однако Тиугдал не слишком вникал в смысл. И без того было понятно, что речь идет об уплате въездной пошлины. Получив ее, стража разомкнула засовы, и кавалькада проследовала в Димн. Насколько Тиугдал помнил, городские ворота в Димне не должны были открываться до рассвета, но, возможно, стража делила с Похитителями прибыль, а может, закон действовал только относительно главных ворот, там, где железные решетки…
Они миновали полдюжины узких улиц, пропахших рыбой и помоями, и оказались у ворот большого каменного дома со слепыми окнами — похоже, жилища солидного и уважаемого работорговца. Не исключено, что им являлся сам вожак Похитителей, и бывшие кочевники начали оседать в Димне. Торговля без посредников выгоднее… Тиугдал, конечно, об этом не думал. Ожидая, пока его загонят в подвал и закуют, он находился в состоянии полного отупения и не замечал ничего, происходящего вокруг. До тех пор пока не почувствовал, как кто-то режет ремни, стягивающие его ноги. Он дернулся так, что едва не свалился с лошади. Перед ним снова оказалась женщина. На сей раз она держала нож с кривым лезвием. Судя по всему, она вытянула его из-за пояса вожака, пока ехала вместе с ним. Так же молча она перерезала путы на руках. Тиугдал сполз наземь и, разминая запястья и лодыжки, огляделся. Во дворе, кроме них, никого не было. Может, сочли ненужным сторожить связанного, или же… Женщина уже подходила к воротам. Сдерживая стон от боли в мышцах, Тиугдал двинулся за ней. Значит, какие-то человеческие чувства в ней еще остались и действуют, когда не мешают ее главной цели.
Но, выбравшись за ворота, Тиугдал уже не увидел женщины. Стало быть, она помнила о нем не дольше, чем до ближайшего угла. Ладно, что взять с одержимой… Полностью придя в себя, он бросился бежать. Сейчас главное — удрать, пока Похитители не заметили его побега. Если они не схватят его сразу, то ничего больше сделать не смогут. Ему не успели ни обрить голову, ни склепать железный ошейник, и ни по каким законам Димна никто не сумеет предъявить на него права, как на беглого раба. Потом — прямиком в порт (он надеялся самостоятельно разыскать дорогу), а там — свобода!
Он не знал, что в порту его ожидает испытание похуже прежних.
Что-то в порту было не так. Он это понял сразу, хотя все выглядело как обычно: множество кораблей у причалов, цветные флаги на ветру, разносчики с лотками…
Потом до него дошло. Слишком много солдатни. Слишком мало матросов. Совсем нет грузчиков. И как-то непривычно тихо.
Усилием воли он заставил себя держаться спокойно. Повторил себе, что искать его не могут. И, словно прогуливаясь, двинулся вдоль набережной.
Солдаты — не городские стражники, а герцогские гвардейцы — занимали посты у каждого корабля. Несмотря на ранний час, посматривали бодро. Охраняли они как корабли Димна, так и чужестранные. А вот что уже хуже — ни одного гернийского вымпела. Спокойно, вновь приказал себе Тиугдал. Ничто в одежде не выдает в нем гернийца, так одевается большинство моряков, а что белобрыс — так каждый третий в Димне не темнее его. Он вновь посмотрел в сторону моря. Там, за линией кораблей, замыкая бухту Димна, померещилось ему… или нет?
Он перевел взгляд вправо, в сторону Драконьего пирса. Новое дело. Герцогский флагман на рейде. Тиугдал только раз видел этого монстра воочию, но такое не забывается, гори он драконьим огнем — подлинным, а не тем, что намалеван на молу. И хотя до «Кракена» было очень далеко, Тиугдалу показалось, что на палубе его царит беспокойное движение. А если порт, судя по всему, в блокаде, так какого ж беса…
Некто, выходивший из кабака, бесцеремонно отодвинул в сторону глазевшего Тиугдала — тот оказался у него на дороге. Тиугдал мгновенно развернулся, готовясь к обороне. Но толкнул его не гвардеец, а высокий темнолицый человек в легком полудоспехе, поверх которого лежал серебряный медальон со знаком луны. Это свидетельствовало о принадлежности к военным кланам Лунных островов. Такие люди обычно первыми в драку не лезли, но нападать на них никому в трезвом уме не хотелось.
Тиугдал заговорил с ним, старательно скрывая характерный гернийский акцент — Лунные острова не враждовали с Герне, точно так же, как и с Димном, однако проявить осторожность никогда не мешает.
— Скажи мне, брат, бухта в самом деле перегорожена цепью или у меня в глазах рябит?
— Ты откуда свалился, приятель? — прогудел островитянин. — Два дня как перегородили.
— Значит, война…
— Войны нет. Может быть, и не будет. Но перемирие нарушено.
— С кем?
— С Герне, конечно. С кем же они здесь вечно собачатся?
— Так… — Тиугдал стиснул зубы. Хотя к этому времени он ожидал чего-то подобного. — Это герцог блокировал гавань?
— Да. На предмет выявления гернийских шпионов. И пока всех их не выловят, ни один корабль порта не покинет.
— Но герцогский «Кракен», как я погляжу, готовится к отплытию.
— Это верно. За дочкой правителя Нанны. Сам герцог отправляется за своей невестой. А более никого из порта наместник не выпустит.
— Что-то я не пойму… Кто же во время военных действий бросает город на наместника?
— Ну, во-первых, военных действий пока нет, и неизвестно, случатся ли. Может, на испуг друг друга берут, как водится. Во-вторых, свадьба сговорена давно, а ссориться со Старым Хозяином Нанны никому неохота. А главное, здешний герцог — дурак, каких поискать…
В последнем Тиугдала убеждать было не обязательно. Но во все остальное он как-то плохо верил. Видимо, это недоверие отразилось в его глазах, потому что островитянин бросил:
— Ну, как знаешь, парень, — и повернулся, чтобы уйти. Однако, задержавшись, добавил: — И лучше бы о себе думал, чем о герцоге. Моряки, которых с гернийских кораблей сняли — они посидят в тюрьме, а там, глядишь, и выйдут, ну, продадут их, в крайнем случае… А те, кого по улицам ловят, как шпионов, за тех не ручаюсь. Я тут одного видел — где взяли, там и висит.
И зашагал прочь, с легкостью, удивительной при его могучем телосложении.
Итак, даже островитянин, стоило раскрыть рот, распознал в Тиугдале гернийца. Только не дергаться, не бежать — могут увидеть эти, в шлемах… Он повернул было из порта, но, пройдя в глубь улицы, остановился. Вспомнил, что в проклятом Димне при воротах платят пошлину — все равно, прибываешь ли, отбываешь. Когда его мешком на седле привезли сюда, за него заплатили Похитители (в другое время его бы повеселило это обстоятельство). А у него при себе — ни гроша. И за отработку никто не поручится, как это могло быть в мирное время. Оставалось только забиться куда-нибудь, переждать до ночи и тогда попытаться перебраться через городскую стену. Это вернейший из возможных способов спастись. И на виселицу угодить — тоже.
Он замер. Безумная мысль… не иначе, от голода, тряски, усталости. И жажды. Сутки во рту ни глотка. И едва огляделся — увидел у стены каменный колодец, в который стекала из каменной же львиной пасти струя воды. Хоть за что-то в этом проклятом городе не надо платить… Он отпил воды, но безумная мысль не исчезла.
Хотя… это нетрудно проверить. Люди, одержимые Силами, не думают. Силы действуют за них. И заставляют принимать единственно верное решение.
Из гавани не выйдет ни один корабль, кроме герцогского, следующего в порт Нанны. А это — ближайший к северу порт от Ируата.
А если так, гернийцев сейчас начнут искать повсюду. Но надо быть семи пядей во лбу, чтобы перешерстить герцогский корабль. Правда, в здравом уме он бы туда не сунулся. Без прикрытия.
Тиугдал быстро зашагал к Драконьему пирсу. Идти пришлось недолго. Вдоль пустынного мола двигалась знакомая неуклюжая фигура.
— Эй!
Она не остановилась, а он опасался криком привлечь к себе внимание. Тиугдал бросился вдогонку, хотел было схватить женщину за плечо, но вовремя сдержался, убоявшись ее взгляда.
— Эй, — поскольку он по-прежнему не знал, как к ней обращаться, назвал первое, что пришло в голову: — Нимр!
Она повернулась к нему, но глаза под опущенными веками смотрели в землю. Возможно, она слушала.
— Я знаю, ты идешь на герцогский корабль. Но одна ты погибнешь. Возьми меня с собой, и я тебе помогу. И нас никто не увидит…
Они плыли уже неделю, и Тиугдал начинал верить, что все обойдется. На «Кракене» было полно рабов и прочей обслуги, в том числе и женской — обстоятельство, не вызывавшее у гернийца ничего, кроме возмущения, ибо всем известно: на кораблях рабам и женщинам не место. Но здесь-то как раз не было места гернийцам…
«Кракен» — огромный, позолоченный, резной, предназначенный для знатных господ и дам, окруженных свитой, с каютами, переборками, трюмами — годился для того, чтобы затеряться на нем. И все же это было невозможно — совсем укрыться от посторонних глаз, если не приказать постороннему глазу забыть, что видел. Так Тиугдал и научил сделать женщину. Самой бы ей это явно в голову не пришло. Они прятались в трюме, никто из надсмотрщиков туда особо не заглядывал, но без еды и питья долго не высидишь. Тиугдалу удалось вбить в башку одержимой, что она должна прикрывать его от охраны и воровать еду. Несмотря на постоянный сосущий страх, Тиугдал был доволен — он поставил-таки на своем, теперь приказывал он, а она исполняла. Только как следует обрадоваться не получалось. Герцог Фьетур, конечно, дурак, но дураков-то и следует бояться больше всего. Когда его никто не видел — женщина не в счет, она вообще ничего не видела, — Тиугдал мог признаться: да, он боялся.
Это произошло хмурым ветреным днем, ничто не предвещало беды. Тиугдал как раз пробирался на нижнюю палубу, когда услышал наверху топот и крики. Кто-то — надо думать, капитан — хрипло орал: «На весла! Все на весла, мерзавцы!» И слышен был, хотя и неразборчиво, фальцет самого герцога, а это означало нечто из ряда вон выходящее. В чем дело? Пираты? Если так, не братья ли гернийцы? А коли так, не лучше ли махнуть за борт? Тиугдал решил выбраться наверх. Что он и сделал, предварительно пригнувшись, чтобы скрыть лицо.
Он быстро оглянулся и не увидел на горизонте ни одного корабля. Значит, не пираты… Так что ж они все так переполошились? Тиугдал облизнул пересохшие губы. В желудке возникла свинцовая тяжесть. Он не хотел верить. Но он знал. Знал еще прежде того, как увидел среди серых волн нечто, тоже серое, но темное и плотное.
Да. Рыбодракон.
Чудовище, свивая в кольца чешуйчатое тело, приближалось к кораблю, власть на котором захватила паника. Рыбодраконы обитали на большой глубине, но если какой-то из них всплывал, то нападал на любое крупное существо на поверхности — кита или касатку, к примеру. Или на корабль, если тот не успевал уйти. «Кракен» уйти пытался. Но двигаться приходилось против ветра. И Тиугдал был достаточно опытен, чтобы определить шансы на спасение. «Кракен» слишком тяжел и неразворотлив. Даже если Фьетур бросит на весла всех, кто есть на корабле, включая свиту, и даже сам начнет грести, дракон все равно их догонит.
Кто-то рявкнул за его спиной: «Почему не на веслах, сукин сын?» — и удар бича ожег ему плечи. Тиугдал вышел из оцепенения и бросился вниз. Но он не собирался присоединяться к гребцам. Новая безумная мысль жгла сильнее ссадины.
Он скатился в трюм, нашел закут, где, обхватив колени руками и уткнувшись в них лицом, сидела одержимая.
— Нимр! — крикнул он ей в самое ухо. — Опасность! Если нас сейчас потопят, ты никогда не попадешь в Нимр!
Затем он схватил ее за руку и потащил за собой. Судя по всему, его слова дошли до нее, потому что она покорно подчинилась. Тиугдал выволок ее на палубу и, развернувшись, увидел удалявшуюся спину Фьетура.
— Герцог! — заорал он. — Я знаю, как спасти корабль! Волнение вышибло из него всякую осторожность, и он говорил с сильнейшим гернийским акцентом. Фьетур резко повернулся.
— Что? Гернийская свинья на моем корабле? Шпион! Телохранители герцога, подскочив с двух сторон, заломили Тиугдалу руки.
— Это вам не поможет спастись от дракона! — В другое время он, может, и удивился бы собственному упорству. Но сейчас было некогда.
— Кто же нас спасет? — спросил Фьетур.
Тиугдал отчетливо видел, что, хотя сей господинчик и сохраняет внешнюю надменность, это стоит ему отчаянных усилий. Он напуган. И чем больше он боится, тем лучше.
— Человеческие силы здесь не помогут. Только чудо…
— Не крути, мерзавец? Какое чудо?
Тиугдал мотнул головой в сторону женщины, которая стояла, тупо уставившись в палубу.
— Откуда эта шлюха здесь взялась? — голос Фьетура поднялся до истерической высоты. Он поднял руку, в которой сжимал трость, чтобы ударить женщину.
— Не трогай ее! У нее Взгляд Нимра!
Должно быть, герцог знал, что это означает. Он опустил руку, закусив губу, но в его бледных глазах читалось недоверие.
— А ты здесь при чем?
— Она служит Силам, а я служу ей, — не слишком-то приятно было возводить на себя подобную напраслину, но выбора не оставалось. — Только я могу убедить ее. Если она посмотрит на дракона…
Он заметил, что их окружили люди — моряки и придворные. Среди них — капитан «Кракена». Последний протолкнулся к герцогу.
— Нам не уйти… ветер… — сказал он хрипло. Герцог облизнул кровь с прокушенной губы.
— Отведите ее на корму.
— Слишком далеко.
— Тогда спустите за борт.
— Дракон может проглотить ее раньше, чем она на него посмотрит.
— Да разверните вы корабль по ветру, — вмешался Тиугдал, — а она проберется за бушприт…
— Заткнись, гернийская сволочь!
Герцог, капитан и офицеры сбились в кучку и быстро посовещались. Затем Фьетур вновь обратился к Тиугдалу.
— Ладно. Пусть сделает, что сможет. Но если ты соврал… — руки его сжались в кулаки. Он понимал, что угрозы бесполезны и погибать придется всем вместе. Сорванным голосом добавил: — И поставить стрелков у бортов!
Пока «Кракен» совершал свой маневр и лучники занимали позиции, Тиугдал втолковывал одержимой, что ей нужно сделать, всячески напирая на то, что ей необходимо спасти корабль, дабы попасть в Нимр. Неизвестно, поняла ли она его, но позволила обвязать себя веревкой. Еще один канат захлестнули вокруг форштевня с деревянной фигурой кракена. Наконец одержимая ступила на фальшборт и двинулась вперед. Тиугдал следил за ней, крепя веревку. Он уже успел заметить: несмотря на всю свою видимую неуклюжесть, она не делает неточных движений. И действительно, она ни разу не споткнулась. Потом она скрылась за бушпритом, и Тиугдал потерял ее из виду. И тут только он заметил, что, занятый веревкой и женщиной, он, кажется, один на палубе остался на ногах. Остальные попадали на колени или цеплялись за снасти. Даже герцогские лучники побросали оружие. Во всяком случае, так было рядом с Тиугдалом. Что было за его спиной, он увидеть не успел. Корабль тряхнуло, и из бездны начала подыматься огромная плоская голова. Вода стекала по свинцовой бронированной чешуе. Стояла мертвая тишина, а может быть, у Тиугдала заложило уши. «Я не упаду на палубу, — бессмысленно и беззвучно повторял он. — Не закрою глаз». И зажмурился. Он не мог и не хотел видеть, как жуткие глаза-плошки встретятся с теми, другими, из которых вытекает серая пустота… А что если Взгляд Нимра, безотказно действующий на людей, ничто для холодной твари? И женщина, привязанная к форштевню, тоже ничто. Но она-то смотрит, когда все другие зажмурились. Потому что это смотрит не она.
Затем Тиугдал осознал, что уже слишком долго ничего не происходит. С усилием разлепил веки.
Страшная голова исчезла. По воде расходились круги, но никто не заметил, когда рыбодракон ушел в глубину. Люди кругом подымались на ноги, кашляли, подбирали оружие — словом, приходили в себя, Тиугдал почувствовал, как холодна и мокра от пота его рубаха. И, тяжко дыша, привалился к борту.
Женщину вытянули обратно на палубу без его участия. Свершившееся никак не отразилось на ее облике, разве что волосы еще больше взлохматило ветром. Она безразлично стояла, пока ее освобождали от веревок. Тем временем к ней бочком приблизился герцог.
— Благородная госпожа! Мы обязаны тебе жизнью!..
Он цапнул было одержимую за руку с намерением приложиться к ней, но то ли брезгливость обуяла, то ли страх перед взглядом, — и он выпустил ее грязную, исцарапанную ладонь. Тиугдал пронаблюдал это с некоторым злорадством. Герцог продолжал:
— Ты вправе требовать награды за свой подвиг…
Однако он не сказал «любой награды», отметил Тиугдал. Впрочем, он уже знал ответ женщины.
— Я должна попасть в Нимр.
Впервые на палубе прозвучал ее монотонный голос.
— Разумеется, — сказал Фьетур. — И ты получишь на этом корабле достойное положение, жилье и прислугу…
— В Нимр, — тупо повторила она.
Тиугдал понял, что ему пора вмешаться. Иначе для него дело может повернуться худо.
— Герцог! Все, что нам надо — это добраться до священного города Нимра. Высади нас в Наннах, а дальше мы сами…
— А тебя, герниец, следовало бы вздернуть на рее. Но по случаю нашего чудесного избавления мы тебя прощаем. Иди, служи своей хозяйке и помни, чем ты ей обязан.
— Если бы не я, она бы этого не сделала, — пробормотал уязвленный Тиугдал.
Герцог не расслышал. Или сделал вид.
Дальнейшее путешествие продолжалось без приключений. Одержимой отвели каюту какого-то придворного, предварительно выселив его оттуда. Из каюты она не выходила, хотя ее перемещений никто не ограничивал. Тиугдал несколько раз в сутки заглядывал туда — удостовериться, что все в порядке. Сам он, разумеется, такой роскоши, как отдельная каюта, не удостоился. Ночевал на палубе. Но это его ничуть не огорчало. Напротив. Не нужно было прятаться в трюме, скрывать лицо, дергаться от скрипа или шороха. А ночевать на палубе ему приходилось почти всю жизнь, даже в бытность помощником капитана: гернийцы — народ не изнеженный, не то что эта публика из Димна.
Иногда он даже помогал команде. Его не задевали — наверное, думали, что он причастен Силам. Но и не шарахались от него. Он работал с ними, слышал их разговоры, и порой его удивляло, до чего моряцкие байки в Димне похожи на гернийские…
Когда до Нанн, по расчетам, оставалось дня четыре пути, неожиданно пал туман. «Кракен» дрейфовал в сумерках с зарифленными парусами. Штурман уверял, что поблизости нет никаких мелей. Из-за тумана и рано наступившей мглы дневные работы были закончены прежде обычного времени, и гребцам предоставили отдых. На местах оставались только вахтенные. Тиугдал, которому делать было решительно нечего, постановил завалиться спать. Привычка позволяла ему свободно передвигаться по палубе даже в темноте. Он нашел место поудобнее у стенки какой-то каюты, натянул на голову куртку и растянулся, когда окно каюты приоткрылось, вероятно, чтобы впустить немного свежего воздуха. Донесся гул нескольких голосов. Среди них отчетливо выделялся фальцет Фьетура. Неужели в тумане Тиугдал приткнулся у герцогской каюты? Хорошо еще, что в дверях не разлегся, под ногами у стражи! Тиугдал приподнялся, чтобы убраться, но в этот миг ему стал слышнее разговор, и он замер.
— Неужели до вас не доходит, что небеса посылают нам неслыханное оружие? — раздраженно говорил Фьетур. — Мало того, что она может прогнать любое морское чудовище! А вот представить себе, как направляешь ее вместе с парламентерами к адмиралу вражеской флотилии, никому не приходило в голову? Мы сможем выигрывать сражения, не утруждая себя прикосновением к оружию — и никаких расходов, кроме воды, хлеба и угла для ночлега! Было бы грехом не воспользоваться этим!
— Но ей нужно попасть в священный город Нимр… — послышался голос капитана.
— Кто это говорит? Ах, она? Но разве вы не видите, что девка слабоумная и делает лишь то, что велит ей этот гернийский выродок? Так вот, теперь она будет делать то, что велим ей мы!
— Значит, ваша светлость желает, чтобы женщину не высаживали в Наннах, а оставили на корабле?
— Именно так, сколько можно повторять!
— Но ведь она зачарует Взглядом Нимра каждого, кто попытается ее задержать…
— Глупцы! Вам не потребуется подходить к ней. Вы просто запрете снаружи ее каюту при подходе к Наннам и поставите у дверей охрану.
— А герниец?
— Он больше не нужен.
Дальше Тиугдал слушать не стал, а тихонько отполз в сторону. Вот, значит, каковы здесь обещания! Злоба и презрение душили его. Даже не потому, что его здесь замыслили убить. Нет, что за дикие дураки! И Фьетур, и вся свора его. Одно слово — Димн. Они, значит, собираются сделать из нее оружие. Предположим, он и сам на это рассчитывал. Но при том он и в мыслях не имел ей мешать и тем более заточать. А эти болваны, считающие себя мудрецами и хитрецами, неужели они не понимают, что если она не попадет в Нимр, произойдет нечто страшное?
Каюта, в которой поместили одержимую, не охранялась. Пока. А запираться изнутри ей не приходило в голову. Кто посмеет напасть на ту, что владеет Взглядом Нимра? Тиугдал приоткрыл дверь и проскользнул внутрь, пробормотав с порога: «Спокойно, это я».
Женщина сидела на постели, положив руки на колени, низко опустив голову, но Тиугдал догадывался, что она не спит.
— Это я, — повторил он. Подошел к ней, заговорил тихо и отчетливо: — Слушай меня. Это важно. Тебя хотят оставить на этом корабле. Запереть здесь в каюте. Чтобы ты никогда не попала в Нимр. Нам нужно бежать отсюда. Ты меня поняла?
Не произнеся ни слова, она поднялась на ноги.
— Вот и прекрасно. — Глаза его привыкли к полумраку, и он видел, что на столе — почти нетронутый ужин, поданный по приказу Фьетура, и бутылка вина. Он прихватил первым делом бутылку, потом начал сгребать все, что мог, с тарелок и распихивать по карманам и за пазуху. — Займись часовыми, пока я буду спускать шлюпку. Мы дойдем до Ируата на веслах. Ты меня поняла?
Она его поняла. Возле шлюпок, закрепленных за бортом «Кракена», было двое часовых. Виден же только один. В густом тумане он не сразу понял, кто именно подошел к нему, а когда понял, было поздно. Он сполз вдоль борта на палубу, и Тиугдал оказался рядом с ручной лебедкой. Он даже не обернулся посмотреть, как там со вторым часовым. Он благословлял туман, заглушавший скрип лебедки, и плеск воды о днище шлюпки. Затем он сбросил за борт закрепленный трос и без труда спустился вниз. Взялся за весло, удерживая шлюпку, пока одержимая не съехала вслед за ним. Тиугдал глубоко вздохнул.
— Поджечь бы не мешало это корыто, — заметил он, — но некогда.
Женщина села к рулевому веслу. Тиугдал поместился на месте гребца. Теперь туман его уже не радовал.
— Если бы знать, в какой стороне Ируат…
— Там, — она уверенно протянула руку.
— Будем надеяться, ты знаешь, что говоришь, — пробурчал он, налегая на весла.
Всю ночь они продвигались вслепую, а поутру повеял легкий ветерок, и туман рассеялся. Оставалась надежда, что они достаточно удалились от герцогского корабля, и тот ради них не станет менять курс. И все же следующие сутки они сменяли друг друга на веслах, спали и ели по очереди, не останавливаясь, покуда на рассвете второго дня перед ними не показались скалистые берега Северного Ируата.
Это был край суровый, пустынный и бесплодный. Умершие вулканы, окаменевшие скалистые рифы ничем не напоминали южную часть острова с ее обильными нивами и зелеными пастбищами, фруктовыми садами и виноградниками.
Тиугдал чувствовал некоторое разочарование перед открывшимся ему зрелищем. Но что он, в самом деле, чуда ждал от двух суток пути? Ничего. Следуя вдоль береговой линии, можно добраться до южных деревень, где народ, как ему было известно, гостеприимен.
Море было спокойно, и уже начинало припекать. Тиугдал знал, что днем здесь стоит страшная жара. Но передохнуть, перед тем как свернуть на юг, было необходимо. Тиугдал обнаружил небольшую бухту, где между прибоем и скальной стеной располагалась полоса гальки, и причалил к берегу. Вытянув шлюпку из прибоя, осмотрелся. Место было мрачное. С трех сторон их окружали рыжие камни. Небо, еще по-утреннему голубое и прозрачное, постепенно наливалось синевой и раскалялось. Неожиданно Тиугдал обнаружил, что усталость мучает его меньше, чем жажда и голод. От припасов, захваченных с «Кракена», не осталось ничего. К счастью, в бухте между камнями нашелся источник. Тиугдал напился и наполнил опустевшую бутылку. Голод от этого еще усилился. Он облазил прибрежные камни, ножом наковырял с них мидий, которых оказалось довольно много. Набрал плавника и высохших водорослей, разложил костер, чтоб испечь ракушки. Женщина не помогала ему и не отдыхала. Бродила по берегу, будто что-то искала. Тиугдал окликнул ее, приглашая поесть. Здесь, под ярким солнцем и пахнувшим йодом ветром, вдали от туманов и заговоров «Кракена», он был настроен благодушно. И даже позволил себе пошутить, хотя знал, что его спутница шуток не понимает.
— Жрать хочется, — сказал он, принимаясь за содержимое обуглившихся раковин, — что угодно слопал бы, хоть жареных гвоздей.
Она, как и следовало ожидать, промолчала. За все время, что они провели в лодке, она не проронила ни слова. Всю жизнь Тиугдала злила бабья болтовня, и он представить не мог, что его когда-нибудь будет раздражать женское молчание. Но теперь он был слишком доволен, чтобы обращать на это внимание.
— Хорошо, — подкрепившись, принялся размышлять он вслух. — Сейчас передохнем, потом опять в шлюпку, — и вдоль берега, потихонечку, полегонечку до южного Ируата, а там и в Нимр попадем…
— Нет, — монотонно сказала она. — Прямо. Через горы. В Нимр.
— Ты в своем уме? — он не сразу сообразил, насколько нелеп этот вопрос. — Там же дорог никаких нет! А у нас есть шлюпка!
— Напрямик, — повторила она. После чего встала и пошла к скалам.
— Ну давай, сверни себе шею! А нет, так с голоду сдохнешь!
Она не обернулась.
— Ладно, я тебе не присягал…
И правда. Раньше он шел за ней, потому что у него не оставалось выбора. Теперь выбор у него был. И в самом деле, кто она ему? Не жена, не подруга, не любовница. Он не любил ее и не чувствовал к ней никакой благодарности, сполна уплатив ей за свое спасение, когда доставил с корабля на Ируат.
Может быть, одержимость заразна?
Он с тоской посмотрел на шлюпку, вытащенную на берег. Потом поискал взглядом женщину. Она поднималась наверх. В скалах, спервоначалу казавшихся отвесными, обнаружилась тропинка, вероятно, проложенная случайно забредавшими сюда козопасами. Она начиналась прямо за родником. Но Тиугдал ее сразу не заметил.
— Эй, — крикнул он. — Погоди! Я с тобой!
Переход был ужасен. Тиугдал и по торной-то дороге не привык много ходить, а уж здесь… Дневной жар убивал, а ночи были пронизывающе холодны, и только ради них он не выбросил пропотевшую куртку. Днем он снимал ее и наматывал на голову, как тюрбан.
Женщина шла с непокрытой головой, видимо, солнечный удар ее не страшил, хотя кожа на ее лице, и без того обветренная, от солнца трескалась и шелушилась. Впрочем, с Тиугдалом происходило то же самое.
Пару раз попадались родники. Вода в них была какая-то горькая, но он был рад и такой. С едой обстояло хуже. Тиугдал убивал разомлевших на солнце ящериц. Однажды видел на склоне горную козу, но добраться до нее не было никакой возможности. В другой раз случился праздник — нашел какую-то птицу на гнезде и свернул ей шею. Птицу Тиугдал оставил до ночевки, а яйца выпил тут же. Он и с женщиной пытался поделиться добычей, но она, подержав пестрое яйцо в руках, положила его на камень. Видимо, забыла, что надо делать с едой.
С женщиной произошла какая-то перемена. Если раньше она хоть иногда замечала присутствие Тиугдала, во всяком случае, вспоминала о нем, теперь этого не было. Она совсем перестала говорить: может быть, слова она тоже забыла. Силы постепенно вытесняли все, что в ней оставалось человеческого. Тиугдал понял, что этот процесс шел постепенно, а начался, надо думать, еще раньше, как только она услышала Зов. Но заметно стало только сейчас.
Временами ему хотелось столкнуть ее в пропасть, проломить голову камнем, задушить своей пропотевшей курткой. Убить ее не представляло труда, она совсем не стереглась и не смотрела назад; Тиугдал ведь не существовал для нее. Но он не мог этого сделать. Просто не мог.
Неужели Взгляд Нимра, один-единственный раз коснувшись человека, навсегда лишает его воли?
Однажды, при крутом подъеме, Тиугдал дотронулся до ее руки, и отдернул свою. Несмотря на жару, кожа ее была холодна как лед. Он начал понимать, что от срока прихода в Нимр напрямую зависит ее жизнь. Взгляд Нимра выедает ее изнутри.
Сходят ли одержимые с ума?
Может быть, она уже умирает, вот так, на ходу?
Если только уже не…
Ему стало страшно. Но поздно было поворачивать назад. Он при свидетелях заявил, что служит ей, а судьба такого даром не спускает.
Из-за жары, усталости и страха Тиугдалу казалось, что переход их длится целую вечность, хотя в действительности шли считанные дни. И когда однажды, после полудня, ноги сами повели его под уклон, он всего лишь вяло обрадовался. Но и это Тиугдал сделал напрасно.
Они стояли в русле высохшей реки, один берег которой — тот, где они спустились — был относительно покат. Теперь вода, вероятно, ушла под землю, точнее, под крупный галечник, хрустевший под ногами. Кругом во множестве виднелись крупные валуны и скалы, большей частью выше человеческого роста. Время и ветер придали им самые дикие очертания. А впереди, преграждая путь, высилась скальная стена, и, как ни была она обветрена и изрезана, взобраться наверх не было никакой возможности. Они зашли в тупик, с трудом сообразил Тиугдал. Прямой путь будет дальше кружного. Но у него не было сил злорадствовать. Нужно идти по этому каменному руслу и искать обход.
Но, прежде чем он успел это подумать, женщина своей лунатической походкой двинулась вперед. Она не могла не видеть каменной стены, но шла прямо на нее. И ударилась в скалу всем телом. И еще раз. И еще.
Она хотела пройти сквозь камень!
Но камень ее не пропускал.
Тогда женщина начала кричать. Люди так не кричат, во всяком случае, живые люди. Это был хриплый, безумный вой неизвестного чудовища, рвущегося на волю. Воя, она продолжала биться о камень, пока не налетела на расселину в скале, втиснулась в нее, и зажатая между камней, исчезла с глаз Тиугдала. Слышался только неумолчный вой. Это была агония.
Не сознавая, что делает, Тиугдал развернулся и бросился прочь по высохшему руслу через каменный лес, а проклятый крик гнался за ним, не затихая, и только когда прохладный ветер ударил ему в лицо, он осознал, что из-за этого крика и усталости не услышал шума прибоя.
Тиугдал сбежал по берегу вниз и свалился ничком на мокрый песок у самой кромки воды, зажимая уши руками. Хотел он лишь одного — не слышать воя.
Что-то тяжелое шлепнулось у самого его лица. Тиугдал разлепил веки. Перед его носом валялся вдребезги разбитый сапог. Не в силах сопоставить увиденное с действительностью, Тиугдал поднял голову.
Женщина сидела на плоском камне у песчаного спуска и стаскивала с ноги второй сапог. Подошва его была оторвана.
— Дальше босиком пойду, — сообщила она совершенно обычным, хотя и несколько осипшим голосом. — Жарко…
Вид у Тиугдала, должно быть, был совершенно ополоумевший, потому что она рассмеялась. ОНА СМЕЯЛАСЬ! Тиугдал уставился на нее — до предела истощенную, одетую в грязные лохмотья, со слипшимися и торчащими, как иглы, волосами, с клочьями облупившейся кожи на обожженном лице. Все ужасное, нечеловеческое необъяснимо исчезло. Глаза ее были широко открыты — тоже совершенно обычные глаза, карие, с золотистым райком.
— Я думал, ты умерла, — пробормотал он.
— С чего мне умирать?
— Ты так кричала…
— Новорожденные тоже кричат. Кричало, воплощаясь, Сердце Нимра. — Она встала, потянулась, с видимым наслаждением прошлась босиком по песку. — Сердце Нимра требовало воплощения. Это должно было произойти в храме. Поэтому я так спешила. Но не успела, и меня накрыло здесь.
— Как это? — Ее неожиданная разговорчивость не проясняла ничего. Словно она говорила на неизвестном языке.
— Силы не действуют сами по себе, — пояснила она. — Нужно войти в поле их притяжения, чтобы они вошли в тебя, завладели тобой и стали тобой. Это больно, но, похоже, не смертельно.
Она спустилась к воде и намочила себе лицо и голову. Машинально Тиугдал повторил ее движения. Она засмеялась, шлепая по воде. Что-то во всем этом было не так. Ведь она же должна сейчас падать с ног от голода и усталости, а она полна свежих сил и бодрости.
— Ты устал, — сказала она, — извини. Это все из-за меня. Но мы правильно шли, не сбились. К вечеру мы будем в деревне, а завтра — в Нимре. Там я смогу тебе помочь, но вряд ли это понадобится. В гавани Нимра сейчас стоят восемнадцать гернийских кораблей, и не меньше чем на семи тебя примут с радостью.
— Откуда ты знаешь?
— Это знает Сердце Нимра.
— Что такое «Сердце Нимра»?
Она пожала плечами.
— Трудно объяснить… есть вещь издалека… не из этого мира… из другого времени… благодаря ей можно знать все, что происходит в Нимре и многих других местах. Но сама говорить она не может. А остальное ты и сам знаешь. Однако гернийцы не забивают себе головы байками об оракуле Нимра…
Он вздрогнул. Она не могла помнить — она была безумна… Или он все же ошибался относительно человеческой природы стоящего перед ним существа — вместилища Сил: сначала марионетки их, потом хозяйки, и женский облик ее — лишь видимость?
И что тогда будет с ним самим — ведь он видел то, что видеть нельзя?
— Ничего, — сказала она. — Тебе придется просто жить.
— Ты можешь читать чужие мысли?
— Только когда люди думают обо мне. Или о Нимре, что то же самое.
Он принял это к сведению. Теперь всю жизнь придется следить за своими мыслями. И все же…
— Кто ты теперь?
— Я была никто, — спокойно ответили она. — Теперь я — Нимр.
— Нимр — это город, — сказал он и тут же вспомнил, что в мгновения опасности называл ее именем города.
Она кивнула, словно о чем-то хотела умолчать. Потом протянула ему руку.
— Идем. Недолго тебе осталось мучиться.
Он не нашел, что ответить.
На закате следующего дня они подошли к воротам Нимра, и Тиугдал в первый раз со стороны суши увидел величайший город Ируата, его мраморные и лазуритовые башни — и траурные штандарты на стенах, и черные стяги на шпилях. И еще он увидел, как поползли вверх по стенам и начали спускаться с башен эти траурные полотнища, когда в ворота ступила женщина в грязных отрепьях. Ибо только так, босиком и в рубище, владыки Нимра должны были входить в свой город.
Фред Чаппелл
Алмазная тень
— Мы были идиотами, когда согласились прийти в это поместье, — прошипел я.
— Поместье, — повторили тени справа.
— Бесчестье, — изрекли тени слева.
— Мы были идиотами, Фолко, — заверил Астольфо, — еще до того как получили приглашение. Но трусить уже поздно. Наберись храбрости.
— Храбрости, — гулко отозвались благожелательные тени.
— Ярости, — зловеще откликнулись злобные.
— Никого я не боюсь, — обиделся я. — Только мне не по душе эти тени, которые меня передразнивают. Словно вязнешь в тине.
— Тине.
— Паутине.
— Тени не умеют разговаривать, — отмахнулся Астольфо. — Они безмолвно таятся в своих длинных коридорах. Уверяю, такова странная особенность конструкции этого полутемного хода. Когда мы заткнемся, они тоже заткнутся. У них попросту нет дыхания, так что заговорить они не способны. Смотри, они даже пола не касаются. Бьюсь об заклад, им неизвестно, что такое земная твердь.
— Твердь.
— Смерть.
Поэтому я, по совету Астольфо, заткнулся и не промолвил ни слова, пока мы не отворили массивные двери, замыкавшие коридор. Двери с шумом захлопнулись за нами. Похоже, эти створки предназначались еще и для того, чтобы не пропускать теней, ибо мы оказались в помещении, ярко освещенном стенными факелами и рядами горящих свечей, озарявших мягким светом каждый предмет. Оказалось, что здесь полно народу: напыщенные придворные, дамы в дорогих нарядах со своими камеристками и молодыми дочерьми, угодливо улыбающиеся юнцы в шелковых коротких панталонах и со смешными шпажонками в ножнах. Хотя до нашего появления здесь жужжала обычная светская беседа, стоило нам войти, как все замолчали и уставились на меня и Астольфо с неприкрытым любопытством. Ощущение создавалось такое, что я попал ко двору властителя одного из бесчисленных карликовых государств, хотя наша хозяйка была не более чем трижды овдовевшей графиней. По крайней мере, так объяснил мне Астольфо.
Всего лишь графиней, и все же она восседала, подобно принцессе, на стуле с высокой прямой спинкой из крепкого дуба, украшенной грифонами, львиными головами и геральдическими лилиями.
Правда, тронного возвышения не было, но вокруг самого «трона» образовалось свободное пространство: присутствующие почтительно держались на расстоянии. И по-прежнему не сводили глаз с меня и Астольфо, словно собрались здесь с единственной целью: как следует нас рассмотреть.
Мы, как и полагалось, выразили хозяйке надлежащее почтение, после чего Астольфо уверенно, без всякой скованности, обратился к ней:
— Синьора Триния, мы явились сюда по вашему повелению.
— По моему приглашению, мастер Астольфо. У меня нет права приказывать вам.
Интересно, почему она кажется столь миниатюрной? Может, из-за размеров стула? На вид ей уже далеко за тридцать, но, благодаря манере моститься на сиденье едва ли не боком, она выглядит ребенком. Выдает ее голос. Голос старой женщины. Еще не дрожащий, но неопределенного тембра и чуть заметно надтреснутый. В светлых волосах проглядывает серебро, и стоит ей повернуть голову, как вокруг возникает нечто вроде переливающегося ореола. Нельзя сказать, что взгляд у нее рассеянный. Просто он устремлен в какую-то точку между нею самой и человеком, к которому она обращается, словно смотрит куда-то внутрь… только вот внутрь себя или собеседника? Поэтому и кажется, что она немного не в себе, хотя говорит достаточно ясно и разумно.
— Вы оказали нам огромную честь своим любезным приглашением, — ответил Астольфо и снова поклонился, сняв крахмальный полотняный берет левой рукой и широко взмахнув правой, будто виолончелист смычком.
— Могу я осведомиться о здоровье вашей супруги и деток? — спросила графиня.
— Увы, я не женат, — вздохнул Астольфо, — и, к несчастью, живу один со своим немым слугой Мютано и этим человеком, Фолко.
Он подтолкнул меня локтем в бок, и я поспешно поклонился.
— Это все слуги, которыми я обхожусь. Согласен, иногда мне кажется, что я веду безрадостное, почти отшельническое существование.
— Но, возможно, именно этот образ жизни позволил вам приобрести умение и искусство, необходимые для культа теней. Мне сообщили, что ваше ремесло требует постоянной и упорной практики.
— Да, я действительно много трудился, но, возможно, человек более способный и талантливый усвоил бы все детали куда быстрее.
Графиня ничего не ответила, рассматривая довольно грузную фигуру моего лысеющего хозяина, его умелые руки, пышное одеяние и мягкие серые глаза, в которых никогда не возникало и тени угрозы.
Очевидно, графиня уже многое знала об Астольфо, а возможно, и обо мне, и подробными расспросами она лишь пыталась выиграть время, чтобы получить окончательное впечатление о нас обоих. И все же я немного удивился, когда она вдруг сказала:
— Думаю, мы уже встречались раньше.
Астольфо чуть помедлил, прежде чем ответить:
— Мне так не кажется, синьора. Уверен, что наверняка запомнил бы столь грациозную и очаровательную даму.
Ее голос мгновенно похолодел, как порыв ледяного ветра, прилетевший с замерзшего озера.
— Если я говорю, что мы встречались, значит, так оно и есть. Согласна, ум у меня не так гибок, как в былые времена, да и сообразительность уже не та, и все же я не настолько забывчива, чтобы не припомнить некоего Астольфо, вора, похитившего тень убийцы Торродо и доставившего эту тень его смертельному врагу на издевательства и муки.
— О, те дни давно миновали, и происходившие тогда события теперь, скорее, относятся к разряду слухов, чем принадлежат истории, синьора.
— Послушайте, не стоит меня сердить! Если я говорю, что мы встречались, значит, так оно и есть, — повторила графиня. — Если я утверждаю, что ты сделал то-то и то-то, следовательно, все эти деяния принадлежат исключительно тебе.
Она нервно забарабанила каблуками, скрытыми широкой шелковой юбкой, по подножию стула — совсем как нетерпеливое дитя.
— Синьора… — почтительно пробормотал Астольфо с очередным поклоном.
— Мне не слишком нравятся тени! — объявила она. — Противные, крадущиеся, раболепные создания. Люди говорят, что ты — вор, который крадет и продает тени, получая немалую выгоду. Лично мне не понять, как это можно украсть тень. Но если тень — это вещь, полагаю, ее можно похитить. А грабители… грабители так и кишат повсюду. У меня постоянно пропадают кольца, золотые и серебряные браслеты, диадемы и все такое прочее. Даю слово: кое-кто из наглого жулья околачивается в этой комнате и сейчас.
— Синьора!
— Я не о тебе, Астольфо! Тут полно и других. О, я могла бы столько порассказать о каждом из этой компании — ты бы ушам не поверил! Милейшие люди, ничего не скажешь, милейшие!
Многие из собравшихся, должно быть, слышали ее реплики, но никто и виду не подал. Приглушенная беседа ни на секунду не прерывалась. У меня создалось впечатление, что придворные привыкли к неожиданным взрывам гнева графини и почти не обращали на них внимания.
— Возможно, это всего лишь недоразумение, — предположил Астольфо. — Уверен, все в этом зале — люди порядочные и благородные.
— А вот это зря! Верить никому не стоит. Кстати, почему тебе так нравится противоречить мне на каждом шагу? Считаешь меня дурой?
— О нет, синьора, никоим образом.
— Иногда я действительно веду себя как дура, причем редкостная! Видишь ли, временами откуда-то появляется облако, которое окутывает меня и так затуманивает голову, что я долго не могу сообразить, кто я такая и где нахожусь. Именно в подобные моменты изменники и предатели пользуются моим состоянием и творят свое черное дело.
Я снова оглядел толпу, столь же безмятежную и невозмутимую, как и минуту назад.
— Но кому могут понадобиться эти тени?! Мерзкие, гнусные, вечно шепчущиеся скользкие твари, неотступно ползущие за тобой по пятам или торчащие у стен с угрюмыми, капризными физиономиями. Ни одной радостной. Объясни, зачем они нужны?
— Моя госпожа, — почтительно начал Астольфо, — я и сам часто удивлялся, до чего же разнообразное применение можно найти для теней. Обычно они используются с целью создания прохлады или определенной атмосферы в помещении. Облегчают свободу общения и смягчают остроту спора. Можно нанять арфистов и лютнистов, тихо играющих на вечерах и собраниях и обеспечивающих приятный фон для беседы. Так вот, тени способны служить этой же цели. Возможно, вы слышали, что виноделы часто ставят бочонки в определенных тенистых участках, чтобы получить тонкость и глубину вкуса у сортов, лишенных достойных природных качеств… словом, тысячи вариантов применения. Разве не вы сами наняли ту компанию теней, что толпятся в коридоре, ведущем в парадный зал? Полагаю, вы хотели доставить неприятности гостям, явившимся с неизвестными целями, или подвергнуть испытанию тех, кто пришел навестить вас.
— Мне не нужны никакие тени! Они по своей воле просочились сквозь стены, если только…
Графиня с горечью оглядела общество и рассерженно пробормотала:
— Если только кто-то из этих предателей не привел их с собой, чтобы причинить мне зло. С тех пор как умерла матушка, я больше не знаю, кто — мой верный друг, а кто — тайный враг.
— Скорблю вместе с вами о вашей потере, — учтиво молвил Астольфо. — Когда это произошло?
— Может быть, вчера. А может, много лет назад. — Ее глаза широко раскрылись. Лицо на миг исказила гримаса ужаса. — А может, случится завтра.
— В любом случае, это тяжелая утрата.
Она махнула грациозной, обремененной тяжелыми кольцами ручкой в мою сторону:
— Почему твой друг все время молчит? Я не доверяю тем, кто лишь глазеет по сторонам, но слова не вымолвит.
— Фолко только недавно с фермы, — пояснил Астольфо. — Не умеет себя вести в приличном обществе и больше всего на свете боится показаться неотесанным детиной. Но как помощник он совсем не плох.
— Помощник в твоем предприятии с тенями?
Астольфо мягко улыбнулся и кивнул.
— Так вот, я позвала тебя по поводу омерзительных, грязных теней.
— Повторяю, для меня ваше приглашение — большая честь.
— Почему ты постоянно раздражаешь меня? Я сказала, что настояла на твоем приходе. Я недостаточно хорошо тебя знаю, чтобы приглашать. Я очень редко кого приглашаю последнее время. Нельзя так легко доверять людям.
— И вам даже не с кем потолковать по душам?
Графиня на удивление резко хлопнула в ладоши, и в зале мгновенно воцарилась тишина. Пожилой мужчина, сидевший у стены на скамейке с резными подлокотниками, поднялся, медленно направился к большому столу, накрытому белой дорожкой, и взял с него маленькую шкатулку из тисненой кожи, перехваченную железными полосами.
Шкатулку он понес было графине Тринии, но та взмахом руки указала на Астольфо.
— Пожалуйста, как следует рассмотри драгоценный камень, который там находится. Хотелось бы знать, что ты о нем думаешь.
Астольфо взял шкатулку у пожилого синьора и открыл ее. На мягком фиолетовом бархате лежал алмаз размером с яблоко-кислицу.
Хотя я стоял более чем в семи шагах, ослепительный свет ударил мне в глаза, словно камень вобрал в себя пламя всех свечей, прежде чем разлить это сияние тысячей теплых лучей по большому залу.
Астольфо долго не отрывал взгляда от необыкновенного камня, прежде чем спросить графиню:
— Позволено ли мне будет взять его в руку, синьора?
Графиня милостиво наклонила голову.
Астольфо держал камень перед глазами большим и указательным пальцами, глядя сквозь него. Потом медленно повернулся на каблуках, так что и камень описал полный круг, и стал осторожно переворачивать его снова и снова, осматривая каждую поверхность. Отполированный, но не ограненный, он словно пульсировал, когда свет факелов и свечей пронзал его холодную сердцевину.
Наконец Астольфо бережно положил драгоценность на место и поклонился старому придворному, который вернул шкатулку на стол.
— Итак, — спросила графиня, — что ты там видишь?
— Точно сказать не могу, — признался Астольфо. — Сначала мне показалось, что это трещина, потом, скорее, вкрапление. И все же ничто не нарушает внешнюю поверхность. Жаль, я не захватил увеличительное стекло, чтобы сказать точнее.
— Нет, — покачала головой графиня, — никаких магических стекол! Я им не доверяю! То, что нужно увидеть, следует наблюдать невооруженным глазом. Ты сам скажешь, если заметишь то, что открывается мне.
— Я видел тень.
— Вот оно!
Она снова хлопнула в ладоши, испугав и меня, и всю компанию.
— Я тоже видела тень, жуткую, темную, слизистую, дымную тварь, извивающуюся в самой сердцевине моего камня. Раньше ее не было. Прежде мой алмаз был прозрачным, ярким и сверкающим, как звезда. Сейчас он стал золотистым, желтоватым, и это мне не нравится. Он с каждым днем теряет в цене, верно?
— Но, синьора, он все равно невероятно дорого стоит.
— Нет. Говорю тебе, он дешевеет с каждым часом. Почему ты постоянно споришь со мной?
— Если он не так ярок, как раньше, значит, возможно, поврежден, однако причина мне неизвестна… Могу я спросить, где он был найден и как попал к вам?
— Не можешь! И я устала от постоянных пререканий. Кробиус, — она показала на старика, который приносил шкатулку с алмазом, — расскажет историю камня, если тебе так уж необходимо ее знать. У меня раскалывается голова, а разум скользит, как копыта осла на политой маслом брусчатке. С меня на сегодня хватит. Когда поймешь, что случилось с моим лучшим алмазом, и найдешь способ его излечить, можешь вернуться, уведомить меня, и я щедро тебя вознагражу. Надеюсь, ты не станешь оспаривать размер суммы, которую я решила тебе выделить. Меня тошнит от постоянных возражений.
— Синьора…
Старик подошел к нам, поклонился и направился к двери в дальнем конце зала. Мы последовали за ним на почтительном расстоянии.
В маленькой комнате рядом с парадным залом было тихо. Единственная лампа с абажуром в виде чаши, стоявшая в центре стола между четырех стульев, лила яркий свет, и Кробиус поставил под ней шкатулку с драгоценным камнем. Только сейчас я рассмотрел Кробиуса поближе: тощая серебристая бородка, острый конец которой исчезал за треугольным вырезом мягкого воротника; усталый мягкий голос и тонкие желтоватые пальцы патрицианского философа. Прежде всего он усадил нас и предложил освежающие напитки, от которых Астольфо вежливо отказался. Я, разумеется, последовал его примеру. Затем Кробиус устроился между нами и объяснил, что о происхождении и появлении алмаза, который так тревожил графиню, почти ничего не известно.
— Но как это может быть? — удивился Астольфо. — Такой красивый камень должен иметь долгую и бурную историю.
— Возможно, и так, но об этой истории мы ничего не знаем, — чрезвычайно спокойным, почти гипнотически-размеренным голосом продолжал Кробиус. — Он был найден в вещах Тайрина Бланци, второго мужа графини. Когда-то семейство Бланци считалось одним из самых богатых и могущественных в торговом мире, но потом для него настали тяжелые времена. Как многие торговые компании, семейство посылало корабли в гибельные моря на севере, надеясь на выгодный обмен с лесными племенами Джастерленда и рыбаками с островов Авроры. Но мятежи и пиратство нанесли суровые, а под конец и смертельные удары торговым предприятиям Бланци, и они стали получать доходы исключительно от арендаторов своих поместий. Кое-кто предполагал, что алмаз был получен в результате выгодной торговой операции, но нигде не найдено ни единой записи о его происхождении.
— И сколько времени прошло со смерти Бланци до обнаружения алмаза? — осведомился Астольфо.
— Добрых два года, — подумав, ответил Кробиус. — Графиня к тому времени снова вышла замуж и подумала, что неплохо было бы разобрать вещи покойного мужа, а кое-что, если понадобится, продать. В одном из морских сундуков она нашла шкатулку с камнем.
— Скажи, тогда он был в таком же состоянии, как и сейчас?
— Я не слишком разбираюсь в камнях. Но, по-моему, с тех пор он изменился. Графиня утверждает, что он «позолотел», и мне это кажется наиболее подходящим определением.
— А сама графиня? Сильно изменилась со дня появления алмаза?
— Не сказал бы, что слишком, — поколебавшись, ответил Кробиус. — Сама она говорит о постоянных недоразумениях, жертвой которых становится. Да вы слышали. Но я не знаю, имеет ли камень какое-то отношение к ее нервозности. Мне это кажется весьма маловероятным, но жалобы графини начались примерно в то время. Те, кто хорошо ее знал, утверждают, что она изменилась, и весьма, но я считаю, что госпожа всегда была немного не от мира сего.
— Как по-вашему, кто-нибудь из ее окружения желает ей зла?
— Вы сами видели нашу крошечную вселенную, весьма похожую на двор любого из местных правителей. И как при всяком дворе, мало найдется тех, кто не желал бы зла ближнему своему. О графине и ее непомерной требовательности ходят разные слухи. За ней шлейфом тянутся чужие обиды, горечь и раненые чувства.
— А сами вы когда-нибудь становились объектом ее импульсивности? — поинтересовался Астольфо.
— Нет, мне повезло. Но общеизвестно, что все женщины склонны к постоянным переменам настроения. Положение графини весьма ненадежно и требует, возможно, гораздо большего зова воли, чем она обнаруживает.
— Зов воли? Что за странный термин? И что он означает? Я слышу его впервые.
Кробиус улыбнулся с видом снисходительного наставника.
— В таком бизнесе, как ваш, он встречается крайне редко. Это философский термин, сходный с понятиями «стойкости» или «воинственного духа». Возможно, самое верное его значение — это «мужественность».
— Неужели кто-то замышляет убийство графини? У кого хватит смелости лишить ее жизни?
Кробиус потер клинышек бороды указательным и большим пальцами, словно оценивая текстуру ткани.
— Не знаю. Мне следовало бы считать, что такое совершенно невозможно. Ее последний, третий муж, граф из какой-то отдаленной области, называемой Ондормо, был человеком мрачным и недобрым, никогда не питавшим к ней истинной любви. Но он был изгнан графиней и сейчас пребывает в ссылке.
— Так она не трижды вдова?
— Она считает его мертвым.
— И где он может обитать?
— И это мне неизвестно. Некоторые считают, что он удалился на дикое побережье Кламоргры, изрезанное пещерами, и скрывается в одной из них, как гадюка в норе. Но ходят и другие слухи.
— И чем он не угодил графине?
— Опять же это только слухи. Что-то насчет дележа собственности, но я ничему подобному не верю. Он был упрям, своеволен, спесив. Она, как вы сами видели, иногда выглядит рассеянной, временами словно не в своем уме. Так что, скорее всего, их разлад не более чем конфликт характеров.
Астольфо снова вынул алмаз, поднес к свету и принялся осторожно поворачивать.
— Жаль, что графиня не позволяет более тщательно исследовать его под лупой ювелира, — пробормотал он.
Кробиус расплылся в медленной улыбке:
— Что касается этого… — хмыкнул он и вынул из потайного кармашка в рукаве лупу в изысканной оправе. — Не вижу никакого вреда в увеличительных стеклах и не могу взять в толк, почему графиня возражает. Возможно, это всего лишь одно из ее бесчисленных суеверий. В особенно неблагоприятные дни она теряет всякую уверенность в себе и способность принимать верные решения.
С этими словами он вручил лупу Астольфо.
Лично я как должное принимал то обстоятельство, что мастер теней был к тому же еще и признанным экспертом по драгоценным камням, как, впрочем, и в области многих других искусств и ремесел.
Он продолжал изучать предмет, то поднося еще ближе к свету, то удаляя, снова и снова переворачивая, и выражение его лица из встревоженного становилось озадаченным. Под конец он даже стал напевать что-то себе под нос: верный признак того, что наткнулся на сложную головоломку.
Наконец он почти с благоговением уложил алмаз на фиолетовый бархат.
— Какой позор, если такая редкость окажется орудием зла, — вздохнул он.
— Вы так думаете? — прошептал я.
Не отвечая, он обратился к Кробиусу:
— А вы, синьор, верите, что так оно и есть?
Старый придворный дернул себя за бородку.
— Сегодня все мои ответы — это признание в собственном невежестве, — сообщил он. — Честно говоря, не знаю.
— Мы с Фолко должны навести справки, — решил Астольфо. — На библиотечных полках моего дома наверняка найдется несколько полезных томов. Если вы, Кробиус, отведете нас обратно, в коридор шепчущихся теней, оттуда мы легко найдем дорогу домой.
— О, подобные трудности вовсе ни к чему, — отмахнулся старик. — Есть другой выход, гораздо более короткий и приятный.
— Спасибо за вашу доброту, — кивнул Астольфо, — но, к сожалению, мы должны вернуться тем же путем, каким вошли. У этих теней наверняка найдутся тайны, которыми они жаждут поделиться.
— Думаю, вряд ли от них можно узнать что-то ценное, но буду рад проводить вас.
Он неторопливо направился к двери. В парадном зале уже не оказалось графини, а ее стул-трон был отставлен к стене. Несколько оживленно болтавших гостей, из тех, кто развлекается дольше и уходит позже всех, не обратили на нас внимания. У двери в коридор Кробиус с поклоном распрощался.
В то время я ездил на сером в яблоках кобе[1], характера мирного и покладистого. Мой громоздкий коллега переросток Мютано выбрал эту лошадку по кличке Торта из конюшни Астольфо и передал мне с мимолетной сардонической ухмылкой, означавшей, что он доверяет мне самое смирное животное, поскольку с более резвым я просто не справлюсь. Как раз в этом он ошибался, но я смиренно принял поводья и постарался как можно лучше ухаживать за кобылкой. Сразу было заметно, что у Торты имеются свои преимущества. Пусть она не способна лететь быстрее ветра, зато вынослива и отважна. И не сбежит, если впереди ждет засада.
По пути в особняк Астольфо неожиданно свернул в сторону и, не оборачиваясь, махнул рукой, очевидно, давая знать, что скоро вернется. Я заметил, что он выбрал дорогу в Тардокко, — но кто знает, какие дела ждали его там? День перевалил на вторую половину, и солнце уже садилось за крыши оживленного портового города. Люди старались поскорее закончить дела, предвкушая вечерние развлечения.
Я поставил Торту в стойло, обиходил и пошел прогуляться по двору. Лето в этом году выдалось раннее, и деревья, травы, даже редкие кустарники, любимцы Астольфо, цвели и зеленели.
Я вдруг подумал, что хозяин, должно быть, отправился за советом к одному из друзей, скорее всего, прославленному ювелиру. Может, и мне заслужить его похвалу, постаравшись за это время узнать кое-что о драгоценных камнях? Поэтому вошел в дом, направился в обширную библиотеку Астольфо и сразу бросился к тем полкам, где хранились книги о камнях. К этому времени я уже успел немного познакомиться с прекрасным собранием книг и рукописей, хотя в глубине души знал, что Астольфо вряд ли с этим согласится. По-моему, он считал меня чуть более образованным, чем кобель коротконогой гончей.
Прошло долгих три сезона, с тех пор как я вломился в этот дом в надежде стать вором, а потом и учеником мастера теней. Мои мечты сбылись — и принесли с собой куда больше горестей, чем я предполагал. И все же я знал о камнях достаточно, чтобы сразу заглянуть в последнее издание Великого Альбертуса, а затем, следуя его указаниям — в руководство Родиуса «Камни, светящиеся и прозрачные» и в трактат Кассарио «Огненные опалы и карбункулы».
На страницах последнего труда я и нашел древнюю историю синьоры Эрминии. Эта баронесса всегда носила в волосах ослепительный опал. Великолепный молочный камень в точности повторял смену настроения своей таинственной хозяйки: ярко сверкал, если она веселилась, посылал в воздух красные огни, если она впадала в гнев, и затуманивался, будто мутная лужа на дороге, если она плакала. Когда на склоне лет ее сердце было разбито неверным любовником, опал треснул и развалился на пять частей, выплеснув напоследок все цвета и исторгнув из несчастной леди последний вздох. И едва душа покинула баронессу, все пять камешков превратились в темно-серый порошок, как и иссохшее тело самой Эрминии.
Я немедленно задался вопросом, может ли быть применима эта история к нашей графине, и когда упомянул об этом Астольфо, тот не стал с ходу отвергать мою теорию. Он разыграл неслыханное удивление, застав меня в библиотеке, однако предупредил, что изучение драгоценных камней — дело сложное и неверное.
— Предрассудки и суеверия, окружающие драгоценные камни, влекут за собой столько же сплетен и слухов, сколь и репутация светской красавицы. Чем тверже ее добродетель, тем отчаяннее работают злые языки. Так вот, самый яркий и чистый алмаз может считаться гибельным для своего владельца.
— Но как же это получается? — спросил я.
— Зависть, мой друг… Если у тебя нет ни средств, ни удачи обладать прекрасным сапфиром, который есть у меня, зависть побуждает тебя сочинять всякого рода гнусные истории о камне, приписывая ему самые страшные свойства. И, поверь, ты легко найдешь благодарных слушателей среди такой же швали, как ты сам.
— Но неужели во всех этих россказнях нет ни капли правды? Зловещих историй о драгоценностях так же много, как волков на островах Авроры.
— Нет, почему же, некоторые байки действительно недалеки от истины, — заверил Астольфо. — Я бы, например, ни за что не стал носить черный жемчуг. Но не слушай любого, кто врет, будто сердолик отравлен ядом дракона, хранившего его в своей сокровищнице.
— Но ведь многие верят подобным глупостям!
— Пойми, многие торговцы прекрасно умеют считать, определять плодородие земли, оценивать качество товара, но они совершенно теряются, стоит коснуться вопроса о драгоценных камнях. Эти маленькие сгустки света, должно быть, специально созданы, чтобы люди теряли из-за них разум. Кстати, это же качество присуще женщинам.
— Но разве тревоги графини не имеют под собой основания? Похоже, ее алмаз действительно теряет свои свойства. Он ведь сильно изменился…
— Похоже, что так. Но каково твое мнение о самой даме? Мы пробыли в ее обществе совсем недолго, однако я нахожу, что женщина она необыкновенная.
— Она загадка, — выпалил я. — Я даже не сумел определить ее возраст.
— Расскажи о ее тени.
— Мерцание факелов и свечей затрудняло наблюдение. Но мне показалось, будто она обладает двойной тенью.
— Две главные тени, независимо от всех полутеней, созданных дроблением света?
— Две главные тени, которые будут следовать за ней повсюду.
— И как ты их опишешь?
— Обе невелики. Одна — игривая серая тень, энергичная, с кокетливыми, порхающими очертаниями. Другая гораздо темнее, ее форма несколько искажена, а края неровные и неясные. Кроме того, она словно занята собой и любит уединение, тогда как первая тень — создание жизнерадостное, общительное, готовое лечь на любую поверхность и заиграть даже при косом свете.
— Какая из двух, по твоему мнению, соответствует телу и духу графини?
— Ни та, ни другая, — поколебавшись, сообщил я. — Может, каким-то образом обе, хотя точнее объяснить не могу. И все же ни одна не имеет прочной связи с хозяйкой.
— А алмаз?
— Я не слишком хорошо разглядел его со своего места. Главное его качество — размер. Обидно, если он поврежден, ибо драгоценность такой величины может стоить небольшого королевства.
— Ну а как насчет бархата?
— Бархата?
— Алмаз лежал на подушечке фиолетового бархата. Каковы твои наблюдения?
Я надолго задумался.
— Рядом с тем местом, где лежал алмаз, была небольшая вмятинка.
— Прекрасно, — кивнул Астольфо. — Возможно, у этого выдающегося камня имелся компаньон.
— И вы думаете, алмаз может иметь некую духовную связь с графиней? — не выдержал я. — Судя по тому, что я прочитал, душа некоей леди Эрминии так тесно переплелась с опалом…
— Довольно этих старых басен, — перебил Астольфо. — Они покрылись плесенью, подобно пещере для хранения сыров.
— Значит, это неправда?
— Даже если и правда, историю так часто повторяли, что она потеряла часть своего очарования. Кроме того, изложенные в ней события слишком далеко уносят нас от настоящего. Мы должны все свое внимание обратить на графиню. Что за человек способен отбрасывать две основные тени?
Вопрос, слишком знакомый ученикам.
— Тот, близнец которого умер при рождении. Или тот, кого безумно, отчаянно, безоглядно любил человек, который теперь лежит в могиле. Или тот, чей разум расколот, разделен надвое, так что сам человек раздвоился. Либо мать или отец, рано потерявшие своих дорогих детей. Или…
— Достаточно, — кивнул учитель, глядя мне в глаза. — Вижу, ты не такой олух, каким был когда-то. А теперь объясни, что за человек способен отбрасывать три тени?
— Говорят, что священники, поклоняющиеся трем богам или триединому богу, могут отбрасывать три тени, но точно я не знаю, — неуверенно произнес я.
— Иногда на свет появляются необычные люди, воплощающие в себе дух трех других особ и ставшие не чем иным, как сосудом для хранения этого тройного духа. Они отбрасывают три тени, но ни одна не принадлежит им. Все эти тени — свидетельства существования тех созданий, которые населяют пустые оболочки, называемые людьми. Однако среди женщин попадаются и такие, в которых заключены сразу три существа. Они и воплощают три великие силы женственности: капризное чистосердечие ребенка, несравненную красоту зрелой дамы и мудрость старухи. Но подобные женщины встречаются очень редко и пользуются огромным уважением своего пола, если, конечно, удается их распознать. Мне кажется, графиня Триния и есть такая личность. Она может стать выдающимся, сильным правителем своего народа, если только ее тем или иным способом не лишат власти.
— Она поистине прекрасна, — согласился я, — и капризный ребенок угадывается в ней легко. Но я не увидел ни малейшего признака старческой мудрости. И заметил только две тени.
— Она жалуется, что последнее время стала рассеянной, что ум ее утратил прежнюю остроту, что она в разладе с собой.
— Если она потеряла одну из своих теней, это может означать, что треть ее души отсутствует.
— Пропала? Украдена?
— Откуда мне знать?
— Я бы заподозрил воровство, — объявил Астольфо. — Кробиус предупредил нас, что не все ладно в их «маленькой вселенной», как он назвал парадный зал графини. Вдаваться в подробности нет смысла. Но меня особенно интересует алмаз, который нам показали. Мы должны спокойно исследовать его, предварительно вооружившись знаниями о драгоценных камнях из нашей библиотеки.
— Но как это возможно?
— Тебе придется украсть камень, — отрезал Астольфо. — Не насовсем, разумеется. Мы люди честные и не собираемся оставлять драгоценность у себя.
— Украсть? Но я никогда…
— Ты готов изучать искусство теней или нет? Это самый простой этап, к тому же один из начальных.
— Хорошо, — вздохнул я, но сердце резко дернулось, словно молодая лошадь перед барьером, который предстояло взять.
Я особенно не противился приказу Астольфо похитить алмаз у графини, полагая, что он и его слуга Мютано, мой постоянный и бдительный наставник, проведут следующие несколько недель, тренируя и обучая меня, готовя к ночной экспедиции.
Однако я снова ошибся в своих предположениях.
Грабеж был назначен на завтрашнюю ночь, вернее, на послезавтрашнее утро, ибо мне предстояло появиться в маленьком дворце графини за два часа до рассвета и убраться как раз в тот момент, когда первые лучи солнца коснутся ветхих кирпичных стен, окружающих здание.
— Нужно действовать быстро, — объявил Астольфо, — поскольку я уверен: графиня представляет опасность для себя самой и для своего крохотного королевства. Задача не настолько трудна, как кажется. Тебе предстоит проникнуть не в стальную крепость, возвышающуюся на неприступной скале, а всего лишь в скромное жилище со множеством дверей и коридоров, входов и выходов.
Когда-то там располагалась религиозная община. В парадном зале поклонялись божеству, а остальные помещения и здания служили жилищем для священников и верующих. Поэтому во дворце нет никаких оборонительных сооружений, и всякий может легко туда прокрасться. Конечно, Мютано постарается избавить тебя от природной неуклюжести, но тебе вовсе ни к чему обретать ловкость опытного взломщика. Это место плохо охраняется. Графиня не слишком богата, хотя и не совсем бедна, и ее замок ничего не представляет с точки зрения военной стратегии.
— А если меня поймают?
— Тогда дело плохо, — задумчиво протянул Астольфо, — поскольку тебя узнают и, естественно, предположат, что ты пришел за алмазом.
— Так оно и есть на самом деле.
— После этого они попытаются выведать, явился ли ты по моему приказу и не замешан ли я в какой-то интриге против графини.
— И что я должен ответить?
— Ты решил похитить драгоценность по собственному желанию, ты предал мое доверие, и, услышав обо всем, я приду в бешенство.
— Надеюсь, они удовлетворятся моими ответами?
— После нескольких часов пыток ты, вне всякого сомнения, признаешься во всем.
— Что-то мне расхотелось идти.
— Мютано снабдит тебя великолепным лекарством. Как только тебе начнут угрожать пытками, проглоти всего один шарик. Кончина будет быстра и блаженна.
При этом серые глаза учителя ни разу не затуманились сожалением. Взгляд оставался таким же мягким. Я обратил взор на Мютано. Тот ответил широкой улыбкой и протянул маленькую горошинку цвета гранатового зерна.
— Ладно. Так и быть, — согласился я.
Поскольку ограда дворца была кирпичной и к тому же чуть возвышалась над моей головой, подъемное приспособление состояло из легкой веревки, свитой из конского волоса, к концу которой был привязан железный крюк-трезубец, обтянутый мягкой кожей, чтобы заглушить удар о стену. Обнаженными оставались только острые зубцы. Оружием мне служили короткая шпага с лезвием длиной в три ладони, кинжал с трехгранным клинком, спрятанный в нагрудном кармане замшевого камзола и стальной нож, скрытый в левом сапоге.
— И как мне прикажете драться? — жаловался я. — Если меня поймают, придется сражаться одному против целой толпы.
— Хочешь обвешаться оружием и хлопать на ходу, будто пеликан крыльями? — парировал Астольфо. — Твое истинное преимущество — осторожность и умение оставаться невидимым и неслышимым. Вот единственно верный метод. Лишние клинки только помешают. Кроме того, ты войдешь в замок под прикрытием тени.
— Правда?! — обрадовался я.
Астольфо еще ни разу не позволил мне носить тень. По его словам, я был слишком неуклюж, чрезмерно порывист и не умел плавно двигаться. Даже самая крепкая тень, в которую он, по его словам, облечет меня, скоро превратится в лохмотья, потеряет весь свой темный блеск и покроется пятнами моего пота.
Но теперь мне сулили настоящую тень, ведь мне предстоит настоящее, серьезное задание, а не очередное упражнение для оттачивания искусства и восполнения пробелов в образовании. Конечно, это будет означать, что алое снадобье смерти — действительно яд, а перспектива пыток — не игра воображения.
С каждой минутой мне все больше становилось не по себе, но назад пути не оставалось; я дал согласие и не опозорю себя отказом или колебаниями.
Итак, мне следовало проникнуть во дворец за два часа до рассвета.
— Те, кто веселится допоздна, не встают рано, — пояснил Астольфо, — поэтому сначала небо станет серым, потом предрассветным, и наконец, наступит рассвет. Черная тень будет слишком контрастной, а серая столь же видимой, как и туман. Следовательно, Мютано, нам придется прибегнуть к цветным. Какие оттенки предпочел бы ты для нашего утреннего вора?
Мютано быстро зашевелил пальцами. Я не раз дивился языку жестов, на котором беседовали хозяин и немой слуга, но позже узнал, что они использовали не менее трех жестикуляционных диалектов. Совершенно неясно, на каком они объяснялись сейчас.
Наконец Астольфо лукаво улыбнулся и объявил, что, по мнению Мютано, выбор цветов стоит предоставить мне как обладателю тени.
Изучение цветов тени — дело долгое и сложное, я практически еще не приступал к этому предмету. И поскольку все названные мной оттенки наверняка посчитают неверными, я сделал очевидный выбор:
— Если день будет ясным и солнечным, на небе появятся фиолетовые полосы, которые вскоре сменятся желтыми и серебристыми. Возможно, серовато-коричневый цвет окажется самым подходящим.
Как я и ожидал, коллеги ехидно ухмыльнулись, видя такое невежество.
— Вот что, Фолко, — объявил Астольфо, — еще есть время для короткого урока по подбору оттенков теней.
Он знаком велел Мютано задернуть занавеси на высоких окнах библиотеки, так что мы оказались в полутьме. Затем он подошел к маленькой масляной лампе, стоявшей на небольшом столике, высек огнивом искру, зажег фитиль, поставил за лампой вогнутое, отполированное до блеска зеркало и поманил меня к столу, куда положил листок белоснежной бумаги.
— Сколько видов основного света можно насчитать в этой комнате? — спросил он.
— Два, — ответил я. — Яркий, белый, от лампы с зеркальцем, и более тусклый, мягкий, который сочится через полотняные занавеси.
— Прекрасно. А теперь хорошенько рассмотри тень на этой бумаге. Что ты видишь?
Он взял со стола маленький кинжал, которым обычно вскрывал печати на документах, и поставил его перпендикулярно к поверхности, придерживая кончиком пальца.
— Я вижу две тени. Голубоватую, которая падает от лампы, и мутно-желтую, созданную светом, проникающим в окно.
— Именно так тебе кажется, — кивнул Астольфо и сделал знак Мютано задернуть тяжелую атласную штору поверх занавесей.
— Что ты видишь сейчас?
— Синяя тень от лампы превратилась в черную.
— А края?
— Раньше они были более расплывчатыми. Сейчас же стали очень четкими.
Он кивнул, и Мютано раздвинул занавеси. Астольфо потушил лампу.
— А тень от кинжала?
— Тонкая, размыто-серая, неясная. Самая обычная, я бы сказал.
— Обычных теней не бывает: тебе часто твердили об этом. Свет от лампы и свет, пробивающийся сквозь занавеси, дополняют друг друга, а результатом становится ложное видение. Твои глаза обманывают тебя, и причина проста: смешение двух видов света. Первые лучи солнца на востоке будут сливаться с отступающей темнотой остальной части неба — темно-серый, переходящий в розоватый. Тень, которую ты наденешь, должна дополнять эти цвета, и хотя не станет невидимой, это невозможно, но обманет зрение посторонних.
— Каким же тогда должен быть цвет?
— Подумай сам.
— Я могу полагаться только на свидетельство своих чувств, как бы обманчивы они ни были. Этот нежно-голубой может стать дополняющим, не так ли?
— Да. Это один из дополняющих цветов, но не забывай, что на исходе часа интенсивность и оттенок света изменится.
— Значит…
— Значит, у нас будет многоцветная тень, состоящая из нескольких оттенков, — объявил Астольфо. — Они будут вытекать друг из друга и перетекать друг в друга, как полосы радуги, в том месте, где водопад вливается в бассейн лесного ручья. В этом случае ты сможешь переходить с места на место и казаться частью естественных изменений утреннего освещения.
Мне это показалось не слишком удачным.
— Но разве такое количество цветов не будет выглядеть кричащей, аляповатой аномалией в мирном рассветном сиянии?
— Так ты не доверяешь нашему опыту и глубине знаний?
— Конечно, доверяю, но… От какого персонажа вы получили эту многоцветную тень?
— От прославленного актера Ортинио. Человек, который так убедительно и ярко сыграл столько ролей, должен иметь многообразную и изменяющуюся тень. Правда, она лишена прочной текстуры. Таково следствие актерской профессии, ибо самих актеров нельзя назвать выдающимися личностями. Им приходится полагаться на драматурга, наделяющего их характером. Поэтому под тень необходимо что-то надеть. Я предлагаю тебе разноцветную тунику из нескольких легких тканей, чтобы создать и поддерживать иллюзию. Главная задача цветных теней — заставить людей видеть то, что они, по их мнению, и без того видят.
— Прекрасно. Но как мне пробраться во дворец?
Он отложил кинжал, вынул заостренный уголек и принялся рисовать на бумаге ряд квадратов.
— Вот приблизительный план дворца и окрестностей. Итак, что тебе делать? И откуда, по-твоему, лучше всего войти?
— Это зависит от того, где хранится камень, — подумав, ответил я. — Лучше сразу же оказаться как можно ближе к этому месту, если, разумеется, его не слишком тщательно охраняют. В этом случае стоит, пожалуй, перебраться через ограду в самом дальнем углу двора и не спеша прокрасться к тайнику.
Мютано и Астольфо, переглянувшись, согласно кивнули.
— А где, собственно говоря, может находиться камень?
— Трудно сказать. Думаю, графиня держит его при себе, но вдруг она перестала доверять слугам или считает тайник ненадежным? Возможно, она отдала его на хранение Кробиусу или другому советнику. Или он находится в отдельной комнате под вооруженной охраной.
— Но сумеешь ли ты пробраться в три места разом?
— Время не позволит. Будь у меня три ночи — дело другое. Но у меня всего два часа. Я попробую открыть комнату, специально отведенную для алмаза, ибо так меньше всего шансов, что меня узнают.
Парочка снова дружно кивнула.
— Ты сможешь найти это место на нашей маленькой карте? — осведомился Астольфо, толкнув по столешнице листок бумаги к тому месту, где сидел я.
Его карта представляла собой длинный прямоугольник, тянувшийся с севера на юг. Главное здание дворца обозначалось у восточной стены. С обеих сторон его окружала дюжина квадратиков. Один был разделен надвое: очевидно, здесь находились арсенал и флигель для стражи. Входы не были отмечены, но я предположил, что их четыре, по одному в каждом направлении.
— Здесь.
Я коснулся третьего квадрата слева от главного здания.
— Я смогу перебраться через ограду, залезть на крышу и по ней пройти влево.
— Вполне логично, — одобрил Астольфо. — Насколько мне известно, здесь находятся спальни холостых придворных. Представляю, как они спят на своих топчанах, нарушая тишину пьяным храпом, пока ты на кошачьих лапках шествуешь мимо них. Только посмотри вниз, когда доберешься до угла. Убедись, что в дверных проемах не стоят стражники, готовые немедленно тебя схватить.
— Я буду начеку.
Его предостережение оказалось пророческим.
Ночь тянулась невыносимо медленно, но едва я осторожно, напрягая руки, начал спуск по терракотовой сточной трубе, свисавшей с угла здания, как откуда ни возьмись, словно на звон призрачного колокола, явились восемь дюжих стражников. За ними в огромном дворе стояли еще человек двадцать. Шестеро из восьми окружили меня, обнажив шпаги, а седьмой заломил руки за спину. Восьмой, капитан самого зверского вида, со шрамом на физиономии и таких же габаритов, как Мютано, умело обыскал меня, отбросив в сторону мои короткую шпагу и клинок и выудив из сапога любимый маленький кинжал, который я считал ловко спрятанным.
— Твое имя? — рявкнул он голосом, гарантированно превращавшим кровь новобранцев в кошачью мочу.
— Томболо, — промямлил я, вспомнив мальчишку с соседской фермы, нещадно изводившего меня в детстве.
— Сомнительно! — буркнул он. — Твое занятие?
— Вор.
— Еще более сомнительно, — прорычал он, а его уродливые братья по оружию вторили заявлению презрительным хихиканьем.
— Как ты попал сюда?
— Больше я ничего не скажу. Делайте со мной, что хотите.
— А вот это мы можем, причем без твоего разрешения. Но, пожалуйста, умоляю, ответь еще на один вопрос: почему ты заявился сюда в этих дурацких, кричащих тряпках? Любой человек в таком наряде, будь он вор или корабельный кок, виден за семь миль!
Я оглядел себя и онемел от изумления. Мои плечи, торс и руки вовсе не окутывала едва различимая тень из медленно меняющихся оттенков и форм, подобных языкам пламени. Вместо этого на мне болтался легкий прозрачный плащ из кое-как сшитых обрезков ткани, ярких лент, лимонного алого, лазурного, изумрудного, янтарно-желтого и чернильно-фиолетового цветов. Теперь, узрев все это, я почувствовал вес одеяния, небольшой, но ощутимый.
— Только взгляните на его рожу! — прокаркал мой мучитель. — Нижняя челюсть болтается, будто дверь со сломанной петлей! Просто шут гороховый! Нет, нужно непременно посоветовать графине взять его ко двору… Хотя он слишком высок для шута. Нужно укоротить его на локоть-другой.
Капитан выхватил шпагу и подошел ближе:
— Итак, чего предпочтете лишиться, синьор Дурак? Может, отхватим кусочек с самого низа?
Он шлепнул меня по коленям лезвием шпаги.
— Или сверху?
Грязным ногтем большого пальца он прочертил царапину поперек моего адамова яблока.
— Или уж начать с середины?
Острие шпаги разодрало ткань на груди.
Все эти казарменные шуточки сопровождались буйным весельем его усатых, раскормленных подчиненных, и я дал мысленную клятву, что если когда-нибудь поступлю в стражники, выберу отряд, капитан которого не мнит себя юмористом. Но в этот момент я был так ошеломлен разоблачением, а еще больше — пестрым ленточным одеянием, что не смог найти достойного ответа и вызывающе повторил:
— Делайте, что хотите.
— Что хотим? — издевательски переспросил капитан, смеясь. Смех продолжался долгую, мрачную минуту.
— Синьор Дурак, вы не мололи бы языком, зная, что с вами могут сотворить!
Знакомый, жизнерадостный, мягкий и одновременно повелительный голос донесся из-за кольца солдат:
— Все худшее, что может с ним случиться, сотворю лично я!
Стража немедленно расступилась, и ко мне подошел Астольфо в лучшем военном облачении — камзоле цвета морской волны с широким поясом из золотой парчи, красном плаще с короткими рукавами и высокой широкополой шляпе с белым плюмажем.
У левого бедра красовалась шпага в усыпанных драгоценными камнями ножнах. В левой же руке он держал длинное копье. Подступив ко мне, он зловеще повторил:
— Все худшее, что может с ним случиться, сотворю лично я!
Не успел я оглянуться, как он размахнулся и с такой силой ударил меня по шее, что я повалился навзничь. Рассветное небо, крыша здания и лица Астольфо и солдат закружились в глазах, как листья папоротника, вертящиеся в воронке водоворота.
Я попытался что-то сказать, но удар в шею у самого основания горла лишил меня дара речи. Я не мог ни кашлянуть, ни захрипеть и только ловил ртом воздух, как карп на песке.
— Поднимите его! — скомандовал Астольфо, и по знаку капитана злорадно ухмылявшиеся солдаты рывком подняли меня на ноги. Не поддерживай они меня с боков, за локти и плечи, я наверняка мешком рухнул бы на землю.
Астольфо обошел нашу компанию, время от времени ударяя в землю древком копья со стальным наконечником. Казалось, он был погружен в глубокое раздумье и одновременно сгорал от бешенства. Наконец он остановился и обратился к стражникам:
— Синьоры! Полюбуйтесь, во что может превратить человека вероломная неблагодарность и подлая склонность к мятежу! Когда я только взял в услужение этого Фолко, он был не кем иным, как безграмотным, невоспитанным, грубым крестьянским мальчишкой, от которого все еще несло навозом с каменистых полей его папаши. Подобно многим людям моих лет, я доверился его невинности и дал ему ночлег и стол. Его единственной обязанностью было получать образование и выполнять несложные работы под присмотром моего верного слуги.
Он вонзил древко копья в пыль, прежде чем продолжить:
— Но воззритесь на него сейчас! Он нагло проник во дворец, задумав уж не знаю, какое злодейство. Он явился вооруженным, а это всегда было доказательством подлых намерений. И при том вырядился в дурацкие цветные лохмотья по причине, объяснить которую я не в силах. Этот наряд принадлежал моей младшей сестре — она надевала его на праздник Иванова дня, да и то, когда ей было лет двенадцать, не больше. Возможно, он решил прикинуться безумцем, на случай если попадет в руки стражников. Но, поверьте, он не глупее нас с вами!
Солдаты встречали громким хохотом каждую его фразу. Астольфо снова остановился передо мной.
— По счастливой случайности я нашел в комнате негодяя некие бумаги, из которых узнал, что он задумал сегодня вечером пробраться сюда и украсть все ценности, до которых дотянутся его грязные лапы. Потом он собирался спрятать награбленное в моем доме, а в одну из ночей перед новолунием вознамерился перерезать мне горло во сне, похитить мое скромное имущество и попроситься на службу к бесчестному пирату Морбруццо, чтобы разорить и сжечь город Тардокко, грабя и убивая всех на своем пути.
Он неожиданно поднял древко копья и с силой ткнул мне в живот. Внутри взорвалась невыносимая боль. Колени мои подогнулись.
— Как только я нашел эти обличающие документы, немедленно поспешил к вам — предупредить доброго министра Кробиуса о подлых замыслах моего слуги. Поэтому все вы оказались здесь и в два счета схватили преступника. Графиня будет довольна столь верной службой!
Он повернулся спиной ко мне и возвысил голос, по-прежнему мягкий, но на этот раз проникнутый мощью и силой:
— Взгляните на него и берегитесь! Видите, что грязные кабаки и бордели могут сотворить с молодым парнем, слишком простым, чтобы устоять перед самыми незатейливыми искушениями, слишком слабым, чтобы учиться искусству и ремеслу, слишком трусливым, чтобы по достоинству оценить собственный характер и стараться удержать себя в рамках. Ваш мудрый Кробиус предложил вздернуть мерзавца на виселице, но я убедил его, что прежде необходимо допросить преступника, ибо нам неизвестно, какие еще планы он строил и имел ли сообщников в задуманных злодействах. Мы отведем его ко мне домой, синьоры, и допросим с таким пристрастием, что когда в его теле не останется ни единой целой косточки, он станет со слезами молить нас поскорее надеть ему петлю на шею. Ваш добрый капитан предложил своих людей, чтобы проводить нас домой, и я с благодарностью согласился.
Двое стражников немедленно встали по бокам от меня, а Астольфо и небритый капрал зашагали впереди небольшого отряда. Мы шествовали по двору под издевательски громкое звяканье шпаг о ножны. Медленно вышли из ворот и направились по дороге, ведущей через поля в Тардокко. Постепенно Астольфо ускорил шаг, но все же ранние пташки — фермеры, везущие плоды труда своего на рынок, сонная ночная стража, расходившаяся по домам, мусорщики и подметальщики, а также праздные гуляки с красными от недосыпания глазами — могли вдоволь полюбоваться жалким зрелищем, которое представлял собой несчастный Фолко, тащившийся по улицам в грязных и рваных отрепьях.
Когда мы наконец добрались до особняка Астольфо, он открыл ворота восточного сада и повел нас в будку-ледник над родником, под толстым болиголовом. Туда, в холод и тьму, он зашвырнул меня пинком под зад, обернул цепь вокруг дверной ручки и навесил тяжелый замок.
— Здесь он немного охладит свой пыл, синьоры. А мой слуга скоро придет, чтобы посторожить его. Ну а пока пойдем и посмотрим, что вкусного найдется в кладовой. Припоминаю, что там оставалось блюдо пирогов с ливером и небольшой бочонок свежесваренного пива.
Солдаты дружно прокричали «ура» и удалились во главе с Астольфо, насвистывавшим веселую военную песенку.
— Не удивлюсь, синьоры, если ваша великодушная графиня и старый хрыч Кробиус даже не подумают по-королевски вознаградить вас за сегодняшний труд.
Я устало опустился на каменистые берега ручья, в котором стояли кувшины свежего молока, обернутые промасленной кожей, головки сыра и масла и бочонки с вином. Пока я потирал ноющий живот и раскалывающиеся виски, мой взгляд упал на сплетенную из прутьев ивы корзинку в углу, у моего левого сапога. Открыв ее, я обнаружил оловянную кружку, каравай ржаного хлеба, кусок вареной говядины и нож с вилкой.
С момента появления Астольфо я сразу понял, что попытка ограбления была всего лишь хорошо поставленным спектаклем, уловкой, предназначенной для того, чтобы привлечь внимание ко мне и отвлечь от некоего события. Какого именно? Это было известно одному лишь Астольфо. Правда, в данный момент мне было на все плевать. Несмотря на синяки и увечья, я был смертельно голоден и набросился на еду, как грифон, раздирающий тушу быка.
После я подумал, что жесткие влажные камни этого ледника могут послужить неплохой кроватью. Я ужасно устал, и, хотя еда немного восстановила мои силы, боль никак не утихала. Астольфо успешно разыграл комедию перед солдатами. Но меня он бил от всей души!
Булыжники, конечно, не мягкий тюфяк, но мне удалось вздремнуть. Проснулся я от пинка Мютано. Открыв глаза, я немного растерялся. К этому времени я успел привыкнуть к внушительным габаритам немого слуги, но когда смотрел на него снизу, он вдруг показался мне еще выше и крепче, чем башня астролога.
С громкими стонами я поднялся на ноги и последовал за ним на кухню главного здания. Там уже сидел Астольфо, как всегда, на своем любимом месте — большой мясницкой колоде в центре помещения. Лениво болтая ногами, он махнул мне рукой.
— Ну, как ты, мой храбрый Фолко? Понравилась жизнь вора? Не слишком завидное существование, полное сюрпризов и нежеланных наград. Ты уже приготовился следовать этим путем — к богатству или на виселицу?
Если я выкажу недовольство, его уколы станут еще больнее.
— Когда я соберусь стать вором, — ответил я, — прежде всего, постараюсь убедиться, что мои партнеры достойны доверия и не предадут в трудную минуту, по прихоти или капризу.
— Брось, парень. Ты действительно считаешь, что я способен предать по прихоти и капризу?
— Полагаю, что мой позор и безжалостные удары были частью того плана, который вы задумали. И, несомненно, вы назовете их необходимыми деталями.
— Нам следовало быть убедительными в глазах недоверчивых стражников и хитрюги Кробиуса, — коротко ответил Астольфо. — Уверяю тебя, он наблюдал всю сцену из окна, пытаясь обнаружить признаки обмана.
Я осторожно потер ноющие бока.
— Должно быть, ваши побои его убедили, — процедил я. — И мне очень интересно знать, что унес с собой Мютано, в то время как все наслаждались моими страданиями. Когда вы успели напялить на меня идиотский наряд из ленточек? Отправляясь на дело, я считал, что облачен в тень нежных оттенков и цветов, невидимых в рассветных лучах.
— Так оно и было, — пояснил Астольфо. — Это платье из обрывков ленточек и обрезков, которое ни одна моя сестра, будь у меня таковая, не посмела бы надеть, служило подкладкой для тени, которой мы тебя окутали. Но эта тень обладала некоторыми качествами радуги, потому что брала истоки в сырости и влаге. Как я уже сказал, это была тень актера Ортинио, стоявшая в тумане с ярко горящей лампой у нее за спиной. Когда ты отправился в путь, жар твоего тела и утреннее тепло растопили туманную тень и оставили тебя в пестрых лохмотьях.
— Надеюсь, вам понравился спектакль, ибо, по моему мнению, он не мог пройти удачнее.
— Посмотрим, насколько ты прав и стоит ли нам радоваться, ведь мне очень любопытно увидеть главный приз.
Он сделал знак Мютано. Тот кивнул и с угрюмой улыбкой вытащил из-за пояса белый кожаный мешочек, развязал и высыпал на ладонь левой руки четыре маленьких камешка. Я распознал в них черные опалы, зловещие камни с дурной репутацией, приносящие несчастье своим владельцам.
Астольфо назвал форму каждого.
— Это шарик, это овал, это маленький ромб, а этот, чуть побольше — картуш, или завиток. Мютано, а где крохотный стреловидный опал?
Мютано широко улыбнулся и достал из-за желтого кожаного манжета еще один опал, чернее остальных, в виде наконечника стрелы.
Астольфо легонько похлопал в ладоши, после чего стал радостно потирать руки.
— Итак, наше предположение оказалось верным. Для камня была выбрана форма оружия, хотя это всего лишь предрассудок, а не истинная наука.
— Не пони… — начал я.
— Тебе пора избавиться от своего шутовского одеяния, — перебил Астольфо, сорвал с меня цветастое тряпье и, смяв его, отбросил на пол из каменных плит.
— Ты будешь учиться усерднее, если перестанешь постоянно вспоминать о своем позоре. Давай-ка выпьем по кружке пива, чтобы смыть горечь объяснений.
Он легко спрыгнул на пол, поставил на стол три кружки и налил в них пенящегося пива из глиняного кувшина. Мы дружно подняли кружки и попробовали крепкого напитка. Да, такое пиво способно озарить радостью даже самые мрачные мгновения.
— Помнишь, как Кробиус, демонстрируя нам алмаз, рассказывал о графине?
— Да. Он превозносил ее великодушие, но жаловался на слабость разума, особенно ярко проявлявшуюся в последнее время.
— Прекрасно. И ты помнишь, каким термином он обозначил эту слабость разума?
— Он сказал, что в ней отсутствует надлежащий зов воли.
— Вот именно. Зов воли. Скажи, в своих усердных изучениях деяний магов и старинных саг ты никогда не встречал столь странных слов?
Что-то зашевелилось в глубине моего сознания, как мышь в углу ларя с зерном.
— Это то ли школа, то ли кружок философов, сформулировавших некие правила о природе власти. О том, кому позволено править, каким образом должен осуществляться выбор наследника князей, графов и других аристократов, и…
Пыльная, изъеденная червями рукопись внезапно стала рассыпаться в моей памяти.
— Возможно, ты лучше вспомнишь, если я скажу, что недоброжелатели именовали это сборище мыслителей «Членистоголовыми» или «Членовластами».
— «Маскулинисты»[2], — воскликнул я. — Да, они были уверены, что на дощечках судьбы записано звездами право мужчин и только мужчин властвовать над людьми. Они искренне считали, что это единственно правильный порядок вещей. Любая женщина, занимающая трон или первое место в своих владениях, совершает некий древний и незаконный акт узурпации, который и привел этот мир в нынешнее состояние хаоса.
— Теперь ты все понял, — кивнул Астольфо. — Последователи этого учения считают, что женщина недостойна иметь власть над другими людьми, если не считать ее детей, животных и служанок.
— Так, значит, если Кробиус тоже мыслит так…
— Он вполне может желать свергнуть любую имеющую власть даму. Но какой женщине, какому образцу женского разума он не доверяет, боится и, возможно, завидует больше всего?
— Женщине с тремя тенями. Трижды благословенной, втройне могущественной женщине, ребенку, красавице и старухе в одном лице.
Мысль об этом разожгла во мне такой энтузиазм, что я осушил кружку и протянул ее Астольфо.
Но тот не спешил вновь наполнить сосуд.
— Мы еще не дошли до конца головоломки, так что лучше сохранять ясность мысли.
— О, нет, вы должны мне не только вторую, но еще много-много кружек за все издевательства, которым подвергли меня во дворце.
Он ухмыльнулся, и Мютано вновь наполнил мою кружку.
— Но я не могу взять в толк, каким образом Мютано, украв этот маленький стреловидный опал, сможет разрушить замыслы Кробиуса?
— Он ничего не крал. Он поменял, — пояснил Астольфо. — Ты изучал труды о драгоценных камнях. Читал, как драгоценности, а особенно алмазы, слишком долго находящиеся во владении одного человека, становятся частью души своего хозяина.
— Да. Я напоминал вам легенду об Эрминии, камень которой рассыпался с ее смертью. Но вы от меня отмахнулись.
— История слишком истрепалась от долгого употребления, хотя я не оспариваю ее правдивости. Но ты должен был читать о том, что природу камня можно изменить, если держать рядом с ним другой, и что черный опал, как правило, оказывает на камень разлагающее влияние и ухудшает его качества.
— В «Учении о камнях и душе» Максилиуса существует пространное объяснение…
— Да, а также у Бертралиуса, Ронио, Милитидеса и многих других. Кробиус положил рядом с алмазом графини губительный опал, зная, что она хранит шкатулку у себя в спальне. Понемногу опал, служивший проводником, перетянул одну часть ее тройственного духа в алмаз. Рано или поздно за первой частью последовали бы еще две, и алмаз приобрел бы сначала серый, а потом густо-черный цвет. Сама графиня превратится в куклу, пустую оболочку, без памяти, без искры божьей, без разума, а тело ее будет постепенно таять, как снежный сугроб, исчезающий в первых лучах весеннего солнца.
— И тут Кробиус захватит ее поместье.
— Не сумеет: в нем нет ни капли крови графского рода. Люди графини не потерпят узурпатора. А вот ее третий муж, граф, с которым Кробиус вступил в тайный союз, немедленно вернется из изгнания, объявит своим долгом необходимость заботиться о больной жене, и власть законным порядком перейдет к нему.
— Значит, алмаз, найденный в морском сундучке, наследство ее второго мужа, не принес счастья, как надеялась графиня.
— Никакого наследства не было. Кробиус или его сообщник спрятали алмаз в сундучке.
— Но почему Мютано принес не один, а пять черных опалов?
— Мы не знали, какую форму камня выбрал Кробиус, чтобы подложить в шкатулку с алмазом, так что пришлось действовать наугад, выбрав самые традиционные формы. Фортуна оказалась на нашей стороне.
— Но теперь Кробиус увидит, что камень пропал, сразу вспомнит мою дурацкую попытку ограбления, всю ребяческую комедию со стражей и поймет, что вы…
— Ничего он не обнаружит, поскольку Мютано подменил опал безвредным кусочком обсидиана такой же формы и подложил в шкатулку. А обсидиан не обладает оккультными силами, и со временем душа графини ускользнет из алмазной тюрьмы и снова станет свободной и цельной.
— Но он заметит перемены, осознает, что графиня бодра и рассудительна, как прежде, и тогда…
— Тогда Кробиус поймет, что мы разгадали его планы, и если попытается что-то предпринять против госпожи, мы его разоблачим.
— Но почему не сделать этого сейчас?
— Лучше наблюдать и выждать. Есть ли у него сообщники во дворце? Сумел ли он заключить тайные союзы с другими князьями, другими провинциями или армиями? Он будет повсюду чувствовать наши неотступные взгляды, и если попытается осуществить некий секретный план, мы немедленно об этом узнаем.
— Значит, пока нам ничего не придется делать?
— Говорю же, мы наблюдаем и выжидаем. А ты тем временем можешь совершенствоваться в познании свойств драгоценных камней, и Мютано начнет наставлять тебя в искусстве носить тени: как надевать их, не повредив, как выбрать лучшую для определенного задания, как подгонять их по своей фигуре, как двигаться, чтобы казаться игрой света, а не клоуном, пробирающимся сквозь мутный туман.
— Это самое увлекательное упражнение из всех, которые вы заставляли меня выполнять до сих пор. С удовольствием им займусь.
— Должен предупредить, — заметил Астольфо, — эта дисциплина требует немалого труда и большой выносливости. Мютано вряд ли разочарует тебя в этом отношении. Так что не мечтай о легкой жизни.
Я взглянул на широкую улыбку Мютано, и что-то в ней мне крайне не понравилось.
Мы решили провести разоблачение Кробиуса в три этапа, во время следующего и последнего визита во дворец. Первым этапом должно было служить мое появление перед графиней в цепях и оковах, а также со следами грубого, бесцеремонного обращения: синяками и ссадинами. Мне предстояло исповедаться в несуществующих подлых преступлениях, а на долю графини выпало вынесение приговора.
Эта прелюдия давала нам возможность увидеть графиню и понять, изменилось ли что-то в ее поведении и облике, в работе разума, в душевном и физическом здоровье. Кроме того, нам следовало не спускать глаз с Кробиуса, выискивая любой намек на то, что он обнаружил подмену опала ничего не стоящим осколком обсидиана, и проследить любую перемену в министре, перемену, грозившую опасностью нам или графине.
Сначала аудиенция проходила точно так же, как в первый раз. Правительница опять восседала в парадном зале, на высоком стуле, украшенном изысканной резьбой. Только теперь Мютано играл роль моего стражника и считал своей обязанностью время от времени награждать меня ударом в челюсть и пренебрежительно пинать в скованные щиколотки. Эту часть своей роли он играл с нескрываемым восторгом.
Я стоял перед графиней. Мютано возвышался справа от меня, Астольфо — слева. За нашими спинами маячил Кробиус. Я нес чепуху, которую вдолбил мне Астольфо ценой многочисленных упражнений: как задумал украсть большой алмаз и держать его в тайнике, пока не найду способ приобрести с его помощью расположение кровавого пирата Морбруццо, а потом присоединиться к его шайке.
Благодаря железной дисциплине, насаждаемой моим наставником, я превратился в жалкое, хнычущее, полное раскаяния ничтожество, готовое жить или умереть лютой смертью в зависимости от желания графини.
— Как вы считаете, синьор, — спросила графиня, — искренне его раскаяние или это очередное притворство, посредством которого он надеется избежать сурового наказания?
Астольфо с сомнением покачал головой.
— Думаю, в этот момент он чистосердечен. Но кто может знать, какие мысли зародятся завтра в том клубке змей, которым является его разум?
— Надеюсь, он под надежной охраной?
— О да, синьора. Мой человек, Мютано, не сводит с него глаз.
После этих слов Мютано отвесил мне такую оплеуху, что из моего носа закапала кровь. Похоже, он сильно переигрывает! Я жаждал занять его место в нашей драме. Уж у меня хватило бы смекалки наградить его такими изощренными пинками, тычками и щипками, что у него голова кругом пойдет! Только бы поменяться с ним ролями!
— Тогда окончательное суждение за вами, Астольфо! — объявила графиня. — Если он еще может исправиться — прекрасно, если же нет — этот мир будет чище, освободившись от его присутствия.
— Синьора, — поклонился Астольфо, — я во всем вам повинуюсь. Но теперь об алмазе: вы были правы, заметив, что его сияние померкло, а цвет несколько изменился. Но это такой великолепный и, я сказал бы, отважный камень, что он должен обладать сильными внутренними качествами, чтобы исцелить себя и изгнать мрак, таящийся в сердцевине.
— О, это было бы настоящим чудом.
— Мой совет таков: свет к свету — и тьмы нету! Будет лучше всего, графиня, не закрывать камень в шкатулке или футляре, где он окружен полным мраком и кладбищенской тишиной. Пусть камень постоянно находится на свету, вдыхает чистый воздух, и тогда он снова найдет себя. Да и ваше самочувствие, синьора, заодно укрепится, ибо в древних историях и сагах говорится, что здоровье владельцев тесно связано с состоянием тех камней, которыми они обладают. Я мог бы привести десятки примеров и упомянуть множество трактатов…
Он помолчал и, откашлявшись, продолжил:
— Возможно, если у вас есть время и терпение, вам захочется услышать малоизвестную историю о знатной даме Эрминии и ее опале. Он был так тесно связан с ее мыслями и настроениями, что изменял цвет, а по словам некоторых, и форму, когда дама радовалась или гневалась…
И тут Астольфо принялся подробно, во всех интригующих деталях, красочным языком излагать ту самую историю, о которой не желал слышать ни слова из моих уст. Я нашел это обстоятельство крайне раздражающим и, возможно, предпочел бы даже побои Мютано изысканному повествованию Астольфо. В гневе я зазвенел цепями, и Мютано, словно выполняя мое невысказанное желание, наградил меня увесистым пинком в ногу.
— Поэтому, как видите, — заключил Астольфо, — связи между обладателем и вещью весьма сложны, крепки, а порой и неразрывны. Ради этого камня и ради вашего собственного блага я молю вас поместить алмаз на дорожку из белоснежного полотна, украшающую стол в светлой комнате. Более того, необходимо, чтобы рядом с ним день и ночь горели две лампы, излучающие теплый и лучистый свет. Уверен, рано или поздно вы увидите, как к нему вернется былой блеск.
— Я бы приняла ваше предложение, — заметила графиня, — но мне не слишком нравится хранить алмаз в таком месте, где любой может его видеть и любой может похитить, тем более что каждый день мимо стола будут проходить десятки людей. Сделать так, — значит, попросту искушать вора. С таким же успехом можно послать грабителю приглашение на серебряном блюде.
Столь недвусмысленно выраженное сомнение стало знаком перехода к третьей части плана Астольфо.
— Вы совершенно правы, синьора. В таких обстоятельствах каждому под силу похитить камень. Поэтому его следует постоянно стеречь, причем заботу о нем необходимо доверить тому, кто целиком… нет, рабски предан вашему благоденствию. Он должен охраняться человеком, которого не коснется и тень подозрения, который преданно служит вам много-много лет, кому вы привыкли безраздельно доверять.
— Вы говорите о моем министре Кробиусе, — догадалась графиня.
— Госпожа… — пролепетал Кробиус, выступая вперед.
— Но у нашего Кробиуса и без того много важных дел! Государственных дел, которые требуют его внимания, словно голодные дети, цепляющиеся за материнский подол! Кроме того, его одолевают финансовые проблемы, слухи о вооруженном восстании, об интригах и конфликтах. Каждый час его дня до того заполнен подобными вопросами, что они буквально выплескиваются из отмеренных границ, подобно зернам овса, хлынувшим из порванного мешка.
— Даже опасаясь вашего гнева, госпожа, я вынужден настаивать, — упорствовал Астольфо, — ибо уверен: среди ваших дел нет более настоятельного, чем это. Оно прямо касается вашего здоровья и, следовательно, безопасности ваших земель и их обитателей. Потому я прошу создать специальное, особое ведомство. Позвольте вашему Кробиусу стать Хранителем Камня. И если против алмаза затеется некая интрига, он первым узнает о ней, даже при условии, что заговорщик скрывается, подобно гадюке, в пещере на скалах Кламоргры.
Кробиус с проворством, неожиданным для столь престарелого синьора, выскочил вперед:
— Госпожа, я должен отвергнуть столь неожиданную и неуместную честь. Существуют дела го…
Но графиня, весело хихикнув, захлопала в ладоши, словно довольный ребенок, и принялась барабанить каблуками по подножию стула.
— Хранитель Камня! Какой чудесный, необычный титул! Мне он сразу пришелся по нраву!
— И все же на этом ведомстве лежит тяжкая ответственность, — предупредил Астольфо. — Если что-то случится с Великим Алмазом Графини Тринии, как геммологи отныне называют этот камень, вся ответственность падет на плечи Хранителя Камня, и Кробиусу придется предстать перед судом.
— Да, печально… но и занятно тоже. Так что все решено! — воскликнула графиня. — Итак, мой верный и добрый министр Кробиус, отныне назначаю тебя Хранителем Камня. Теперь твоей единственной обязанностью будет оберегать его день и ночь, во время мира и во время войны, в дурную и хорошую погоду. Не спускать глаз с Великого Алмаза Графини Тринии. И ты будешь щедро вознагражден за свою службу.
Кробиус не выдал себя. Даже глазом не моргнул.
— Да, графиня, — сказал он с поклоном и отступил на свое место, за нашими спинами.
— Вы тоже будете достойно вознаграждены, мастер Астольфо. Назовите сумму и поверьте, что она не будет слишком большим бременем для нашей сокровищницы.
Астольфо ответил неспешным элегантным поклоном.
— О, госпожа, моя услуга слишком ничтожна и, кроме того, я опозорен предательством бывшего ученика, этого негодяя Фолко. Поэтому я не ожидаю награды.
— Но ты должен принять деньги!
— Прошу вас, госпожа, не настаивайте! Но я буду возвращаться каждые две недели, чтобы проверить, все ли в порядке, и убедиться, что рядом с алмазом нет никакого иного камня, что он хранится в хорошо освещенном месте и что никакая тень не прокрадется в его сердцевину, подобно ночному злодею, пребывающему в тайной пещере Кламоргры.
— В таком случае, — произнесла графиня, — я найду способ вознаградить тебя за твои усилия. А теперь Кробиус выполнит последнюю обязанность, прежде чем приступить к новой. Он проводит вас к выходу.
— Синьора…
Астольфо поклонился еще раз, и мы удалились. Злосчастный, избитый, истерзанный Фолко плелся, звеня цепями и изобретая в своем взбаламученном разуме все виды отмщения другу Мютано.
Кробиус шествовал впереди. Пересек парадный зал, прошагал по коридорам, где тени больше не шептали зловещих угроз, и наконец привел нас в широкий вестибюль дворца. Здесь он остановился, повернулся, наградил каждого бесстрастным, холодным взглядом, знаком велел лакею открыть парадные двери, после чего снова повернулся и поплелся назад — нянчить гигантский алмаз до конца дней своих.
А мы тем временем вышли во двор, уселись в экипаж, любезно предоставленный нам графиней, и направились к особняку Астольфо. Я сидел в углу, измученный и злой, но, как ни странно, довольный. Хозяин и слуга устроились напротив и пребывали в прекрасном настроении.
— Великолепная работа, — объявил Астольфо. — И нам не стоит брать за нее золото. Довольно и того, что отныне мы в милости у госпожи и заслужили ее искреннюю благодарность. Да и вероломный Кробиус отныне в нашей власти. Не правда ли, Фолко, это достойное завершение дня? Причем дня вовсе не утомительного.
— Как для кого, — проворчал я. — Мне так туго пришлось.
Я красноречиво звякнул цепями.
Астольфо и Мютано дружно ухмыльнулись.
— Ах, парень, — сказал мастер теней, — когда я вижу, как далек ты от истинного совершенства, перед моими глазами возникает картина необозримого звездного неба.
Перевела с английского Татьяна ПЕРЦЕВА
© Fred Chappell. The Diamond Shadow. 2007. Печатается с разрешения журнала «The Magazine of Fantasy & Science Fiction».
Александр Зорич
Бран
Бран гнал жеребца галопом по широкой мощеной дороге, что соединяла столицу с приморским поселением Геррек. Там, у самого берега, отдавшись колышущей тяжести осенних волн, стояли широкие, мощные корабли — собственность княгини Скелль. Их горделивые носы с чешуей изогнутых, сшитых внахлест досок обшивки наводили страх на все побережье моря Рейвенн. А те, кто плавал на этих кораблях, были известны и далеко за его пределами.
Говорили, что Ледовоокими пугали матери своих детей даже в тех краях, куда дружины и купцы Ледовооких еще не проторили дорожку. Кто-то скажет — дурная слава. Кто-то скажет, что слава не бывает дурной.
На одном из таких кораблей Брану и предстояло отправиться на континент, где пролегала граница княжества. С каждым годом эта граница отодвигалась все дальше и дальше на юг, кое-как тесня варваров.
Бран гнал коня, нещадно орудуя хлыстом. Он знал, что опаздывает, и всему виной — его необоримое желание увидеть на прощание невесту.
Теперь выходило, что несчастное животное, грудь которого была в белом пенистом мыле, расплачивается здоровьем за его лирические прихоти.
— Потерпи немножко, Бел. На корабле отдохнешь, — увещевал коня Бран.
А снег все шел. И с каждым верстовым камнем, приближавшим Брана к морю, становился он все обильнее.
Пустоши, леса, пашни на глазах делались белыми, новорожденно чистыми и печальными той особой печалью, что сопровождает всякую перемену — к доброму ли, к дурному ли.
Именно тогда, по пути в Геррек, Бран впервые признался себе, что в отличие от своих Ледовооких сродников равнодушен к красотам снега. И хотя снегопад в дорогу искони считался знаком, предвещающим удачу, Бран не чувствовал радости.
А потом было море.
На восьми кораблях к Земле — так по-простому называли Ледово-окие континент — плыли, тесно сгрудившись на лавках, воины и их командиры, среди которых был и Бран. И паруса, на каждом из которых красовался герб Ледовооких — свивший спиралью хвост Белокрылый Змей, — были щедро налиты ветром.
Еще восемь кораблей поскромнее везли запасные доспехи и оружие — мечи, топоры, кинжалы, вязанки стрел, — изделия лучших оружейников Урда. А также провизию, сбрую, палатки и прочую необходимую в военном хозяйстве ерунду.
Следом шли еще восемь приемистых кораблей с высокими бортами. Они везли лошадей, среди которых был и вороной Бел.
Штормило. Мореплавателям — двуногим и четвероногим — пришлось несладко.
Оторвавшись от весел, воины дружно опорожняли за борт желудки, а потом сосали лед — не простой, заговоренный. На какое-то время лед помогал. Увы, ненадолго.
А вот кони, лишенные возможности прибегнуть к испытанным средствам, страдали немилосердно. На время путешествия их привязывали к массивной дубовой балке, что служила одновременно и поперечной распоркой для бортов, и основанием мачты. На голову скакунам надевали холщовые мешки. Под хвосты подвязывали торбы.
Сначала животные буянили: пытались кусаться, брыкаться, осаживать, но потом стихали этак безысходно, растратив впустую все силы. Вторую половину пути они вели себя смирно — исподволь сходя с ума от качки и воды, что лилась непонятно откуда им на головы, странной горько-соленой воды, которую нельзя пить.
Когда одноглазый кормчий корабля, шедшего первым, прокричал «Земля!», и эта благая весть посредством сигнальных светильников была передана с корабля на корабль, дружинники испустили единый вопль ликования.
Пожалуй, даже трудной победе в неравном бою воины Ледовооких не радовались так истово.
Брану и его солдатам предстояло нести службу в небольшом городе Ларса. До Ларсы было десять дней пути, и уже с первого дня Брана мучили дурные предчувствия.
А когда на шестой день люди Токи — так звали командира младшей дружины — отделились от них и пошли на восток в поселение Стурр, мысли Брана стали и вовсе чернее тучи.
Да, он отличался чувствительностью, для полководца совсем нежелательной.
Близ урочного камня, который звался Медвежьим Пупком, на перекрестке двух дорог, Токи попрощался с Браном.
— Пусть остаются твои сердце и ум холодными, как предвечные воды, любезный Бран, — сказал Токи. Он был коренастым, невысоким и невероятно серьезным человеком. Свою русую бороду он заплетал в две косы.
— И тебе здравия, любезный Токи, — сказал Бран, положил на грудь ладонь левой руки и удостоил товарища долгого церемониального кивка — так равный прощается с равным.
И, помолчав, крикнул уже в спину воинам младшей дружины:
— Удачи тебе и твоим людям!
Однако знаки, примечать и понимать которые Бран был научен с детства, никакой удачи отряду Токи не сулили.
Одиннадцать воронов вились над черно-белой пустошью слева от дороги. В отряде Токи было четыре серых лошади, все кобылы. А сам Токи поутру говорил Брану, что накануне видел странный сон — будто на лице у него вскочил гнойный чирей величиной с грецкий орех, который рос да рос, пока не лопнул.
За утренней трапезой Токи пытался даже шутить по этому поводу: «Это, видать, к деньгам. Я, братья, не шибко в этих материях смыслю, но если дерьмо снится к деньгам, то и чирей, должно быть, тоже».
Тогда, за завтраком, Бран лишь кивал Токи да похохатывал, без охоты пережевывая волокнистую соленую рыбу. Свою разгадку сна он решил Токи не раскрывать.
«Прорвавшийся чирей на лице — к потере лица. А что есть потеря лица для военачальника? Правильно. Поражение. Позорное поражение».
Глядя на то, как уползает по раскисшей дороге в неизвестность отряд Токи, Бран мучительно размышлял над своим решением.
Возможно, следовало все же растолковать Токи его сон? Тогда тот подготовился бы к ожидающим его испытаниям? Был бы начеку?
Вскоре Бран убедил себя, что поступил правильно.
В конце концов, он ведь не гадальщик, не маг, не жрец. Чего стоят его толкования? И потом, ему ли не знать, что даже верные вещие сны иногда не сбываются, что ошибаются даже несомненные оракулы. Ведь боги — они как люди, тоже не прочь иногда передумать.
Самому Брану сны как назло не снились с самой столицы — ни вещие, ни обычные.
Словно бы повелевающая сновидениями Олеви-Нелави, которую Ледовоокие зовут также Играющей-на-Свирели, ибо звуки этой свирели в мире людей превращаются в сны, обиделась на него и сочла его недостойным своей музыки.
Знаков Бран также почти не примечал. А если и примечал, то все какие-то кособокие, непонятные. Вот заяц дорогу перебежал — к прибыли. Но заяц прихрамывал — а это уже к несчастью… Двусмысленность указаний судьбы Брана страшила.
«Хлопотно быть таким суеверным…»
Впрочем, для тревоги у него имелись и вполне земные основания.
Корабли, как всегда приставшие к берегу у Красной Косы, никто не встречал.
Ни гонцы, ни провожатые, ни праздный люд. А ведь бывало, не то что целый караван, один корабль причалит — а к нему уже сбегаются рыбаки, китобои, их крикливые детишки. Кто — попрошайничать, кто — предлагать свои услуги, а кто и просто поглазеть.
Но в этот раз берег оставался пуст. Над дальней деревней дружественных оседлых варваров даже дымок не курился. Словно вымерли все.
Да и по дороге в Ларсу отряд Брана не встретил ни одной живой души.
Неужто, прознав об их приближении, все окрестные жители попрятались?
Объяснение могло быть только одно — варвары снова объединились. И, позабыв старые междоусобия, зачали новую войну.
Когда до Ларсы оставался один день пути, отряд Брана встал возле старинного каменного жертвенника. Формой тот напоминал восставленный в небеса меч, цветом — зимние сумерки.
Жертвенник был воздвигнут Ледовоокими в незапамятные времена покорения этих скудных земель. И посвящался он всем богам скопом.
Всякий путник был волен выбирать, какому из божеств принести на нем кровавую жертву.
Хочешь — чествуй Олеви-Нелави. Хочешь — Белокрылого Змея. А хочешь — саму княгиню Скелль, которая, и это известно всякому, является земным воплощением суровой, но справедливой Матери Снегов.
Вначале Бран хотел пройти мимо жертвенника, оставив его без приношения. Очень уж ему хотелось попасть в Ларсу поскорее. Шторм спутал все планы, и они добрались до Земли почти на неделю позже срока. Да и на побережье задержались — кони, целых двести восемьдесят голов, так одичали и озлобились за время морского путешествия, что не давали себя оседлать.
Но как следует рассмотрев жертвенник, у подножия которого словно бы клубилась грозная, неведомая сила, Бран все же решился.
Жертва возвысит его дух и развеет дурные мысли!
Тем более, что в обозе имелись для такого случая белый баран и черный козленок. Стреноженные животные смиренно дожидались своей участи на тюках с фуражом.
Солдаты встретили решение Брана одобрительным гомоном. Иные даже принялись стучать в щиты, будто празднуя победу.
Оно и понятно: жертвоприношения любили все. И для такой любви были причины.
Море обессилило не только лошадей. Солдаты тоже выглядели неважно — тощие, растерявшие прежнюю молодцеватость, сутулые, желтолицые, словно и не подкрепление вовсе, а изношенные войной ветераны. Бедолаг радовала всякая возможность гонять лодыря вместо того, чтобы наматывать положенные уставом лиги.
Вдобавок каждый из солдат знал: ему непременно перепадет шмат жертвенного мяса.
Ведь боги, они что в жертве предпочитают? Верно, запах крови. Запах.
А само сытное, мускусное баранье мясцо могут съесть за них и люди. Богам так даже больше нравится.
Жертвоприношение Бран совершил сам, хотя не был ни жрецом, ни магом.
При свете ярко пылающего костра, что разожгли по его приказу у подножия жертвенника, он решительно перерезал горло белому барану, ноги которого были перевиты теперь особыми шелковыми лентами. На каждой ленте рука жрицы вышила посвятительную надпись. Целый клубок таких лент Бран вез в бауле с личными вещами.
Животное нелепо вздрогнуло под ножом, в последний раз мотнуло неразумной головой и покорно затихло. Как видно, давно подготовилось к такому обороту дел…
Тугая кровь быстро заполнила ложбинку в камне жертвенника, которой резчик придал форму спирали — знака Белокрылого Змея.
В ноздри Брану ударил мутный дурманящий пар.
— Прими наш дар, о Белокрылый Змей. И помоги нам в нашем деле, — громко, но без обычного для жреческого сословия пафосного завывания провозвестил Бран, глядя в черные, без облаков небеса, кое-где присыпанные блестким крошевом мелких звезд.
Теперь предстояло выждать положенные минуты.
Лица осунулись, окаменели. А что если Белокрылый Змей, старинный покровитель Ледовооких, в чьем существовании на Северных островах никто не сомневался, ибо многие видели его собственными глазами, не примет жертву? Если гневается? Или просто занят своими божественными делами?
Бран тоже нервничал, несмотря на притворную беспечность.
Но когда кровь с жертвенника начала наконец испаряться, сначала беззвучно, а после — с едва слышным, холодящим хребет шипением, на лице Брана расцвела счастливая улыбка.
«Это значит, совсем плохо не будет…»
Когда спираль жертвенника опустела, Бран поблагодарил Белокрылого Змея за то, что тот услышал его мольбы. Он стащил обмякшую баранью тушку с каменного постамента, продолжающегося украшенной человеческими черепами стелой. Рога жертвенных быков, венчающие стелу, окутало золотом мерцающее облако.
«Так и должно быть…»
С облегчением вздохнув, Бран передал тушку ожидавшему своего часа повару.
Теперь его, поварская, часть работы. Не такая почетная и ответственная, но тоже довольно-таки хлопотная. Освежевать тушу, разделать ее, приготовить, да так, чтобы каждому из ста двадцати человек досталось хотя бы сухожилие…
Но миссия Брана еще не окончилась.
Если баран предназначался Белокрылому Змею, то козленок вовсе не был жертвой. Он требовался для гадания.
Форма его внутренностей должна была указать Брану ближайшее будущее. Если печень и сердце животного окажутся здоровыми, правильной формы — жди успеха. А если нет…
Быстрый посвист меча — и Бран снес козленку голову. Малыш даже не успел проблеять последнее «прости». Бран перевернул тельце на спину и, вонзив меч в грудину, медленно вспорол живот, покрытый шелковыми завитками шерсти. Затем отер меч о нежный, чистый бок животного и возвратил его ножнам.
Еще несколько мгновений Бран медлил в нерешительности, стоя перед жертвенником с закрытыми глазами.
Тишина была такой совершенной, что слышалось, как падает снег.
Наконец Бран захватил сильными пальцами края разреза и, как раскрывают книгу, раздвинул их в стороны.
На каменное ложе жертвенника хлынули склизкие бурые кишки. Костер у подножия любознательно затрещал.
Солдаты затаили дыхание.
Помимо собственно предсказательного был у солдат и обыденный интерес. Если внутренности козленка посулят удачу, его тушку присовокупят к тушке барана, и тогда в солдатской миске с гречей будет плавать не один, а целых два кусочка свежины. А вот если предсказание окажется неважным, труп козленка отнесут в поле, за лагерную межу, и бросят воронью — пусть, мол, склюет к такой-то матери все грядущие неудачи.
Бран сосредоточенно разглядывал внутренности животного.
Конечно, корифеем в таких делах он не был, хотя сызмальства наблюдал за гаданиями в храме Анумана на правах служки. Но ведь и гадание он выбрал самое простое — по сердцу и печени.
«Печень — вот она… Печень как печень. Не сказать, чтобы увеличенная или увечная. Нормальная, обычной формы. А вот сердце — где же сердце?»
Долго Бран щупал теплые козьи потроха пальцами, поначалу стараясь не испачкать дорожное платье, а под конец уже наплевав на осторожность.
Наконец Бран ощупью отыскал его.
Сердце козленка было холодным. Да что там холодным!.. Ледяным!
Возможно ли это — чтобы среди теплых потрохов… у здорового животного… и, главное, неужели это и есть взыскуемый знак?
Ледяные иголочки впились в большой и указательный пальцы Брана, сжимающие сердечко. Холод, исходящий от него, был агрессивным, жалящим.
Но Бран не замечал этого. Он размышлял над тем, как понимать данный ему знак.
Ни с чем подобным он раньше попросту не сталкивался.
Что же теперь сказать солдатам? Печень нормальная — это благоприятно. Сердце есть — это хорошо. Но оно… твердое как камень. Ледяное.
Плохо это? Или не очень? Итак, соврать им, что все прекрасно? Или напугать, чтобы не расслаблялись? Брана учили: солдатам нужно говорить правду — и он, дебютант среди княжеских военачальников, еще слишком хорошо помнил свое ученье… Но как можно сказать правду, когда этой правды не знаешь сам?
Наконец Бран решился. Он величаво сошел с жертвенника, встал спиной к разгоревшемуся, высокому уже костру и, прочистив горло, провозвестил:
— Белокрылый Змей шлет нам дурное знамение!
Солдаты приуныли.
— Но он твердо обещает нам свое божественное покровительство! — добавил Бран. — Гадание объявляется благоприятным!
Бран увидел Ларсу в сумерках следующего дня.
Он и двое его приближенных командиров — Хенга и Слодак — стояли на поросшем хилым березняком холме. Оттуда открывался познавательный вид на окрестности.
Дорога серой змеей ползла к черному, безмолвно раскорячившемуся чудовищу мертвого города и исчезала в его пасти — в растворе городских ворот.
По дороге к холму, на котором стоял Бран, двигались трое всадников.
Это были гонцы, высланные Браном два часа назад.
Да, ему хотелось знать, что скажут гонцы. Хотя и без них главное было ясно: город разорен, разграблен, сожжен.
Остальное — кем сожжен, давно ли, кто уцелел — лишь детали.
— Только не говорите мне, что я трус и паникер, — начал сотник Хенга, разменявший пятый десяток мужчина с бородавчатым лицом. Он выбился в командиры из рядового мечника и этим невероятно гордился. — Но я, братцы, так и думал!
— Да полно заливать-то, Хенга, — спесиво прищурившись, отозвался его молодой товарищ, родовитый Слодак, ровесник Брана. — Помню, вчера мечтал, как в бане нежиться будешь, когда до Ларсы доберемся… Мечтал?
— Вроде мечтал, — мрачно подтвердил Хенга. — Но одно дело мечтать. Другое дело — задницей чувствовать!
— Шел бы ты со своей задницей… Строишь тут из себя, — раздраженно проворчал Слодак.
— Ты сначала повоюй с мое! Тоже небось строить начнешь…
Вот так всегда. Когда дела идут сносно, Хенга и Слодак — не разлей вода, а солдаты друг другу — товарищи и братья. Но стоит только ветру донести запах тлена — и сразу раздоры, ссоры, а то и поножовщина.
— Ладно, хватит, — одернул спорщиков Бран. — Нужно подготовить людей. Особенно новобранцев.
— Уж я их подготовлю… Эх, подготовлю! — криво усмехнулся Хенга, со значением похлопывая хлыстом по ладони.
— А ты, Слодак, — продолжал Бран, — удвой охрану обоза. Твои пойдут замыкающими. Если вожди глевов устроили засаду… Ну, ты понимаешь.
Слодак сдержанно кивнул. Он всегда понимал Брана правильно.
В город они вошли затемно — Бран решил заночевать под защитой крепостных стен.
И хотя в стратегическом отношении это решение сулило некоторые выгоды, в остальных оно оказалось весьма спорным.
Новобранцы, которых с Браном было под тридцать, восприняли открывшееся их взорам зрелище чересчур близко к сердцу.
Увы, они еще не успели подружиться со всемогущей госпожой по имени Привычка. А без ее дружбы грядки разлагающихся, изрядно поклеванных вороньем трупов, каковые варвары не поленились разложить вдоль главной городской улицы, что соединяла северные ворота с южными, выглядели устрашающе. Особенно в призрачном свете молодой луны.
Некоторых рвало.
Другие безостановочно ругались вполголоса.
Третьи молча молились своим духам-покровителям, не реагируя ни на приказы, ни на уговоры.
А неповоротливый и медлительный детина Гуз — над ним без устали подтрунивал весь отряд — и вовсе вывалился из седла, когда его лошадь шарахнула вбок, испугавшись юркой крысы. Брюхо у крысы было круглым, тугим, лоснящимся — от обильного мясного питания.
Нелепо раскинув руки, Гуз свалился в озерцо бурой грязи и обдал загодя спешившихся товарищей веером тяжелых брызг. Его буланая кобыла, отскочив в сторону, принялась отбивать задом — она отчаянно пыталась достать копытами врага, существовавшего только в ее воображении.
Все это выглядело довольно комично. Но никто не смеялся.
Лошади, казалось, были напуганы не меньше людей — многие из них тоже попали на войну впервые. Даже опытным конникам стоило больших трудов удерживать животных в повиновении.
Ни о каком соблюдении строя речь более не шла. Сохранить бы видимость хладнокровия…
Бран выступал одним из первых, ведя Бела под уздцы — словно довершая череду несчастий, его любимец охромел.
Стараясь вдыхать как можно реже, Бран жадно смотрел по сторонам, мысленно воссоздавая картину того, что произошло в Ларсе три, самое большее четыре дня назад.
Прибегнув к некоей хитрости — не исключено, колдовского свойства, — варварам удалось проникнуть за ворота и перебить ночную стражу. Затем нападающие отперли ворота (а может быть, при помощи лестниц перебрались через крепостной вал и невысокую стену). И учинили в городе резню.
Дело было ночью, судя по тому, как одеты погибшие — кто в ночном платке, кто в домашней рубахе.
Не без труда подавив сопротивление захваченных врасплох профессионалов — а их в Ларсе никак не могло оказаться больше сотни, — глевы добили раненых. Один удар топором в основание черепа — и раненый превращается в мертвого.
Затем они захватили в рабство немногочисленных женщин, что жили вместе со своими семьями в домишках, прилепившихся к городским стенам. Перебили мужчин-ренегатов — оседлых варваров, что запятнали себя мирным сожительством с Ледовоокими. Основательно разграбили склады, амбары, жилые помещения и мастерские, увели из конюшен всех лошадей, а из хлевов — скот. Напоследок сняли с воинов хоть сколько-нибудь стоящие доспехи, платье, обувь и нательные украшения. Подожгли все, что могло гореть. И были таковы…
— Какие будут распоряжения? — спросил Слодак.
Он старался держаться непринужденно, но Бран не сомневался: увиденное потрясло его до глубины души. Глаза Слодака блестели окаянным блеском, а его пухлогубый рот искривила капризная гримаса. Да оно и понятно. Одно дело собирать дань по хуторам (раньше они со Слодаком занимались в основном этим) да брать с лета вредные пиратско-«рыбацкие» городишки Западного Аспада. И совсем другое — наблюдать, во что превращается «взятый с лета» городишко спустя три дня.
Но хуже всего был запах. Невыносимо густой, гадкий и сладенький, он поднимался от стылых изуродованных тел и стелился над остывшей землей.
Этот запах проникал, как казалось, не только в легкие, но и в самые сокровенные уголки души, заражая их паршой богооставленности…
Не в силах более вдыхать вязкую отраву, Бран снял шейный платок, кое-как на ходу смочил его крепким вином из поясной фляги и связал его концы узлом на затылке так, чтобы материя, касаясь переносицы, закрывала рот и нос.
— Какие будут распоряжения, благородный Бран? — повторил Слодак. — Мы уже у южных ворот. Нужно что-то решать.
— Что? А-а, распоряжения… Первым делом — похоронить убитых. Со всеми почестями. И пусть жрец свершит соответствующие очистительные обряды.
— Но с нами нет ни одного жреца. А здешние, думается, перебиты.
— В таком случае, обойдемся без очистительных обрядов, — рассеянно бросил Бран.
Больше всего город походил на сгустившийся и обретший материальность вечерний сумрак.
Черными глазницами смотрели на ночных гостей обуглившиеся оконца. Черными ртами ловили воздух двери искалеченных домов.
Тьма клубилась возле колодцев, поземкой ползла вдоль сараев. Омертвелыми щупальцами обнимала голые деревья. И даже факелы, возжечь которые наконец-то разрешил Бран, с этой всепроницающей тьмой, казалось, не могли сладить.
Чавкая сапогами по грязище, Брану оставалось лишь пожалеть о том, что нет снега.
«С ним было бы веселее. Он укрыл бы все это, спрятал…»
Да и мороз бы не помешал. Хотя он по-своему затруднял лагерное житье — удваивая количество необходимого продовольствия и дров, — были у мороза и свои дары. Например, на морозе не так воняло.
«Мороз — очищает, снег — возвышает», — вспомнилась Брану поговорка, бытовавшая в среде настоящих, кровных Ледовооких.
Сам Бран не был Ледовооким по рождению. И его мать, и его отец, и его предки — все были людьми из плоти и крови, заключившими с Ледовоокими спасительный для себя Завет. А значит, недалекими родственниками тех самых варваров, что учинили резню в Ларсе…
Вдруг в доме огдобера — так на языке Ледовооких назывался военный правитель города — блеснул свет. Словно бы некто со свечой подошел к окну второго этажа, но тотчас отпрянул.
«Или померещилось от усталости?»
Бран на секунду зажмурился и вновь открыл глаза. Нет, все верно, свет в окне. Но стоило Брану приблизиться — огонек исчез.
Он передал поводья жеребца слуге и, кликнув телохранителей, зашагал по направлению к погруженному в недоброе безмолвие зданию. Оно пострадало от пожара меньше, чем другие дома, ведь было выстроено из камня.
Бесшумно распахнулась дверь. Под ногой Брана застонала потревоженная половица.
Бран обнажил меч и поднялся на две ступени. Потом еще на три. Его телохранители последовали за ним.
Вот она, дверь в комнату, где блеснул свет. Притворена, но не заперта.
Не церемонясь, Бран распахнул дверь ногой, прикрыл темя восставленным над головой мечом и ворвался внутрь так стремительно, как только умел. Следом бросились его люди.
Свет ударил в глаза, Бран сощурился.
Что ж, свеча по-прежнему горела, воткнутая в морщинистое жерло залитого воском канделябра. Никто и не думал ее гасить. Окна комнаты были занавешены тяжелыми, непроницаемыми для света черными портьерами. Как видно, в тот момент, когда Бран заметил огонек, портьеры были не до конца задернуты. А возможно, случайный сквозняк всколыхнул ткань, и лучи света выскользнули в образовавшуюся щель, разболтав всему миру тайну огонька.
За высоким дубовым столом, развернутым к двери, сидел человек с узким костистым лицом. На нем были свободные черные одеяния и серый матерчатый шлем, закрывающий грушевидную голову и двумя округлыми мысками спускающийся на скулы.
Канделябр возвышался по правую руку от него. По левую стояла чернильница, в которую незнакомец время от времени макал писчую палочку («левша», — машинально отметил Бран). Легонько стукнув палочкой о край чернильницы — чтобы стряхнуть с раздвоенного наконечника избыток чернил, — человек выводил на пергаменте, расчерченном на квадраты, ажурные загогулины. В это верилось с трудом, но человек писал! Но что можно писать в городе, изнемогающем от запаха тлеющих тел? Гимн Матери Смерти, которой истово поклоняются некоторые варвары? Завещание?
Этот вопрос Бран и задал незнакомцу.
— Я знал, что вы придете. Что нужно будет отчитываться. Господин Ревка, наш огдобер, пусть его посмертие будет легким, не очень-то следил за такими вещами… Сколько лошадей пало, сколько ячменя съедено, сколько клинков повреждено, какие суммы выданы солдатам… — левша был невозмутим.
— Отчитываться? — переспросил Бран, недоуменно скривившись.
— Отчитываться.
— Но перед кем отчитываться?
— Перед тем, кто будет новым огдобером Ларсы.
— Да кому нужны эти отчеты, если тех, кого они касаются, больше нет в живых?
— Это совершенно разные вещи, — педантично поджав губы, сказал человек в черном. — Мертвые — это мертвые. А отчеты — это отчеты. Мертвым уже все равно. Но я-то жив! И хотел бы пребывать в этом качестве еще некоторое время, — человек испытующе посмотрел на Брана и его телохранителей. Те, в отличие от Брана, своих мечей не опустили.
— Считайте, что уже пребываете, — неприязненно бросил Бран, возвратил свой меч в ножны и кивнул телохранителям, мол, отбой. — Между тем я хотел бы знать, кто ты такой и что ты тут делаешь.
— Мое имя Сротлуд. Я секретарь покойного огдобера Ларсы, благородного Ревки, — спокойно отвечал левша, не выпуская из рук писчей палочки.
— Что с ним?
— С кем?
— Да с Ревкой!
— Вы предпочитаете краткий ответ или ответ развернутый? — спросил Сротлуд, само спокойствие.
— Давай развернутый.
— Вначале двое глевов стащили его с лошади, затем оглушили ударом дубины, а после подоспевший третий проткнул его копьем насквозь, да так, что лезвие прошло через всю брюшину. Затем труп благородного Ревки взвалили на хребет вьючной лошади и увезли. Очевидно, в Хурт, столицу южных варваров. Там сейчас располагается Совет Вождей.
— Спасибо, что просветил, — с мрачной издевкой поблагодарил Бран. Он, конечно, имел в виду комментарий о Хурте, столице южных варваров. Но Сротлуд никакой издевки не заметил. Или сделал вид, что не заметил.
— Не за что, — кивнул он.
— А ты что в это время делал? — поинтересовался Бран.
— В какое время, извините?
— Во время, когда над благородным Ревкой учиняли расправу трое глевов?
— Я считал.
— Считал?
— Именно. Считал, — невозмутимо отвечал Сротлуд и тут же пояснил: — Столько-то пудов гороха промокло, столько-то свиней дали такой-то приплод, в арсенале имеется столько-то дротиков, из них столько-то произведены городскими мастерскими… Видите ли, когда глевы напали, мне стало очевидно, что мои отчеты понадобятся гораздо раньше, чем планировал благородный Ревка. И я принялся за их уточнение.
Щеки Брана порозовели от гнева, но он все же смог совладать с собой.
— Так значит, пока город грабили и жгли, ты сидел здесь, в этой комнате и кропал отчеты?
— Если быть точным, я сидел в подвале.
— И ты даже не попытался защитить своего господина? — ладонь Брана непроизвольно легла на рукоять меча. — Отстоять свой город?
— Моя защита ничего не стоит, — равнодушно пожал плечами Сротлуд.
— Я почему-то в этом не сомневаюсь, — презрительно выплюнул Бран. — Но иногда даже самая никудышная защита лучше ее отсутствия… На войне ценится каждая капля преданности! Каждый человек. Мужественная смерть лучше подлой жизни. И такие, как ты… — Бран говорил бы еще долго, но его собеседник оборвал его на полуслове.
— Я видел много войн, благородный господин. Так много, что получил право не участвовать в них до самой своей смерти.
— И кто нынче раздает право на трусость?
— Ее Величество княгиня Скелль, — не изменив тона, отвечал Сротлуд. Затем, в наступившей тишине, он встал из-за стола, сжал пятерней бронзовый ствол канделябра и сделал несколько шагов по направлению к Брану.
«Цок-цок-цок», — тревожно громыхнул дощатый пол. Сротлуд сильно хромал, его плечи судорожно ходили вверх-вниз.
Бран и его телохранители напряглись, невесть чего ожидая.
Но напрасно. Вышедший в центр комнаты Сротлуд оказался коротышкой, почти карликом. Его длинные руки с лопатообразными, широкими ладонями напоминали птичьи крылья. Правая же нога у Сротлуда была деревянной от самого колена.
«Да. На деревянной ноге не очень-то повоюешь…» — отметил про себя Бран.
Тем временем секретарь огдобера продолжал:
— Поступи я по-вашему, меня убили бы в первые же минуты боя. И тогда у вас не было бы ни меня, ни отчетов.
— Да что ты заладил со своими отчетами! — вспылил Бран. Ему было стыдно, ведь только что он попрекал трусостью калеку.
— Если отчеты вам и впрямь не нужны, я не стану более сушить над ними мозги, благородный Бран, — кротко отвечал Сротлуд.
— Вот как? Ты знаешь мое имя?
— Не нужно быть магом, чтобы располагать такими сведениями…
— И все же…
— Тут достаточно простой логики. Еще два месяца назад нам обещали подкрепление под командованием благородного Брана. Благородный Бран должен был подчиняться благородному Ревке, моему господину. Благородного Ревку убили, и моим господином стал благородный Бран. А то, что вы благородный Бран, написано у вас на нагруднике, теперь я смог это прочесть. И хотя на вашем нагруднике нет букв, там есть герб рода Безегинов. А в роду Безегинов есть только два отпрыска мужеского пола, Бран и Зон, но благородный Зон опасно ранен и оправится от ранения не раньше весны. Стало быть, передо мной благородный Бран.
«Ну и зануда, — вздохнул Бран. — Хотя умен…»
— В таком случае, будем считать, что познакомились, — с этими словами Бран протянул коротышке правую руку для церемониального поцелуя. Согласно традиции, младший при знакомстве со старшим должен облобызать его запястье и принести клятву верности.
Но Сротлуд и не подумал становиться перед Браном на колени. И приносить клятву, похоже, он тоже не собирался.
— Я жду, — сказал Бран, кое-как смиряя гнев. — Или тебе неведомы правила, Сротлуд?
— Мне даровано право не становиться на колени ни перед кем, кроме Ее Величества княгини Скелль. И не клясться никому, кроме нее, — отчеканил Сротлуд.
С каждым мгновением левша в черном платье нравился Брану все меньше. И Бран подумал, что если он сейчас же не прекратит этот разговор и не займется более насущными делами, то, неровен час, попросту зарубит зазнавшегося коротышку.
«А ведь этот Сротлуд наверняка являлся приближенным соглядатаем Ее Величества, ее глазами и ушами в военном поселении Ларса. И в перерывах между отчетами урод наверняка строчит доносы, которые отправляет с тайной ведьмацкой почтой в столицу», — с тоской подумал Бран.
— Не стоит так сердиться, господин. Нам с вами еще долго работать вместе, — примирительно сказал Сротлуд, словно бы прочтя мысли Брана.
— С чего ты взял, что долго?
— Вы предпочитаете краткий ответ или развернутый?
— Краткий.
— Найти мне замену будет непросто, — вздохнул Сротлуд и поплелся на свой насест. Ветерок, встревоженный колыханьями его одежд, налетел на одинокую свечу, и ее пламя заметалось в жарком припадке.
Несколько последующих дней соединились в памяти Брана в неопрятное черно-серое месиво из гари, смрада и тягучих ночных кошмаров. Олеви-Нелави невзлюбила Брана, а может, решила испытать его, но вместо жарких объятий столичных распутниц Брану теперь снились бездны и тризны.
Погибших хоронили всю ночь и весь день. В целях экономии времени было решено устроить одно погребение на всех, сделав исключение лишь для двух полусотников. Конечно же, было бы сделано исключение и для благородного Ревки, но его тело глевы увезли с собой.
И хотя братские могилы у Ледовооких не поощрялись, обстоятельства не предоставляли Брану более достойных альтернатив.
Оттепель продолжалась. Неотвратимо разлагающиеся трупы грозили в самом скором времени стать источником болезней (не говоря уже о поголовье крыс, которое множилось с противоестественной скоростью). Да и отрядить всех своих солдат в могильщики Бран не мог себе позволить.
Глевы постарались на славу, оставив Брана и его войско без продовольствия, фуража и крова. Новому огдоберу Ларсы не оставалось ничего иного, как разделить наличествующие силы на три равные группы. Первой, состоящей по преимуществу из опытных бойцов под руководством бывалого Хенги, поручили устроение могилы за стенами города.
Второй, ее возглавил Слодак, велели отправиться в ближайший лес за фуражом. Выхода не было, лошадям решили давать измельченную подсоленную листву местного вечнозеленого дерева сер.
А третья группа, состоящая в основном из новобранцев, занялась ремонтом жилищ, очисткой колодцев (в которые варвары не преминули насыпать яду, к счастью, известного) и восстановлением обгоревших дозорных башен.
Существовал еще и сводный отряд, в задачу которого входила охрана города в ночное время.
Днем держать в праздности свежих бойцов Бран счел расточительным. Он был убежден: в ближайшие две недели нападения варваров можно не опасаться. Нрав «говорящих животных» (это определение бытовало среди кровных Ледовооких) Бран успел немного изучить. После победоносной вылазки те, как правило, устраивали всенародный праздник, на котором делилось награбленное добро, распивалось захваченное вино и поедались добытые деликатесы. Затем праздник плавно переходил в оргию, в ходе которой распивались остатки захваченного вина, доедались менее лакомые кусочки и осуществлялся передел награбленного добра…
Согласно свидетельствам очевидцев, такие празднества могли продолжаться от одной недели до двух. В зимнюю же пору, случалось, затягивались на месяц.
«Стало быть, — рассуждал Бран, — у нас от двенадцати до двадцати девяти дней на то, чтобы восстановить Ларсу и как следует укрепиться…»
Появление на горизонте, затянутом густой вуалью тумана, конного отряда — он несся во весь опор к неживописным руинам Ларсы по дороге, что соединяла город с соседним военным поселением Бахт — стало для Брана полной неожиданностью.
Первыми отряд заметили солдаты Хенги. Они все еще возились с братской могилой в некотором отдалении от городских ворот — трамбовали землю при помощи позаимствованных из частокола бревен и устраивали ограждение (ходить по погостам у Ледовооких считалось кощунственным).
— Оружие к бою! — заорал сотник и первым кинулся к мечевой перевязи, что полеживала до времени на деревянной колоде.
Впрочем, почти сразу же Хенга оценил расстояние до отряда, его численность и скорость движения и переменил приказание.
— Всем в город! Бего-о-ом!
Побросав инвентарь, солдаты опрометью бросились к городским воротам. Хотя стены Ларсы были изрядно изуродованы огнем, их наличие все же сулило обороняющимся некоторые призрачные преимущества…
Тем временем оборону заняли и воины Слодака. Стена ощетинилась копьями.
Сам Бран в обществе телохранителей поднялся на уцелевшую дозорную башню — единственную из четырех. В правой руке он нес шлем, в левой — лук. И хотя, согласно правилам «Йавин-Дамин», кодекса военной чести Ледовооких, полководцу пристал меч, а не лук, Бран решил не рисковать. Он знал, его фехтовальным умениям весьма далеко до его же стрелецкого мастерства.
«Лучше убить десяток врагов из лука, чем ранить одного мечом, — заключил Бран. — Не в таком мы положении, чтобы красоваться».
Выложив перед собой стрелы из колчана на деревянное ложе, устроенное под бойницей специально для удобства стрелков, Бран вдруг подумал о том, что это предпочтение, отданное луку — его первое нарушение «Йавин-Дамин» на посту огдобера. Не тяжелое, нет. Но все же нарушение.
Напряжение росло, набухало как предгрозовое облако.
Отряд приближался. Он еще не подошел и на тройной полет стрелы, но все, включая обозных рабов, уже не сомневались: жестокой сечи не избежать.
— Кто сойдет с места, тот покойник. Об этом я позабочусь лично, — наставлял своих «молокососов», выстроенных у пролома в городской стене, Хенга.
Всадники неслись к Ларсе, то выступая из тумана, то вновь скрываясь в нем. Даже в гуле конских копыт Брану чудилось нечто недоброе. Мысли же его водили бессвязные хороводы.
«Проклятый туман. Нужно было принести жертву Ануману… Завтра, если выстоим, прикажу заделать все бреши… Где варвары набрали таких хороших лошадей?… Туман… Когда закончится эта проклятая оттепель? Ануман не оставил бы меня, если бы я принес хорошую жертву…»
Бран смотрел на приближающийся отряд, судорожно сжимая стрелу с белой меткой — Стрелу Удачи. Согласно «Йавин-Дамин», именно Стрела Удачи должна быть выпущена первой.
Он простоял бы так еще долго — задумчивый, оцепеневший, если бы снизу не раздался крик остроглазого Слодака.
— Благородный Бран! — позвал снизу молодой сотник. Лицо его выражало удивление и даже… радость.
Телохранитель тронул Брана за плечо.
— Что там? — спросил Бран, свесившись через башенные перила.
— Я не уверен… — начал Слодак. — Но, по-моему, это наши… Наши, из Бахта!
Бран прильнул к бойнице и всмотрелся в размытые силуэты выплывающих из тумана конников.
В руках знаменосца и впрямь серебристое знамя. Но вот есть ли на нем Белокрылый Змей? С такого расстояния не разобрать. Но пусть он есть. Что если обман?
— Если наши, отчего они идут врассыпную, по-варварски?
— А пес их разберет!
— Слодак прав. Это не варвары, — раздался за плечом Брана знакомый скрипучий голос — голос левши Сротлуда. Как калека забрался на высокую башню? Кто его, в конце концов, пропустил?
— Если вы приглядитесь, благородный Бран, — бесстрастно, как всегда, пояснил Сротлуд, указывая холеным пальцем книгочея вдаль, — вы увидите, что штандартов на самом деле два. Один, серебристый, несет знаменосец, который скачет во главе отряда. А второй, синий, стяг Ее Величества, несет тот, кто едет рядом с командиром.
— Что с того, что их два?
— Варвары никогда не пойдут в бой с двумя знаменами, — сообщил Сротлуд. — Двойка считается у них числом, приносящим раздоры.
Не прошло и десяти минут, как события подтвердили правоту Сротлуда и Слодака — к превеликой радости Брана и солдат.
И хотя Бран чувствовал неловкость — ведь это ему надлежало проявить проницательность и знание варварских обыкновений, — он был не в обиде. Разве что поведение командира союзного отряда по-прежнему вызывало недоумение.
«Неужели нельзя было выслать гонцов?!»
Именно с этой гневной тирады Бран и начал свое знакомство с командиром. Тот как раз спешился и, стоя лицом к своему верткому рыжей масти коню, возился с подпругой.
Гость был высок, худ, кудряв и одет почти по-летнему. Высокие, до середины бедра, сапоги, изгвазданные, как и обувь, шерстяные рейтузы, короткая куртка из собачьего меха, надетая поверх нательной рубахи из небеленого льна. Из оружия при нем был лишь короткий кинжал.
— Вместо того чтобы меня отчитывать, лучше подержали бы моего коня, пока я пощупаю ему спину. Он еще молодой, может наделать глупостей, — тихим голосом, в котором странным образом сочеталась стальная твердость и уступчивость, отвечал Брану всадник. А точнее — всадница. Голос был женским. И наверняка принадлежал женщине из настоящих Ледовооких.
— Простите? — Бран опешил.
Всадница повернула к нему свое белое лицо. Правильный прямой нос, черные, дугой изогнутые широкие брови, горящие холодным черным пламенем карие глаза. На вид ей было никак не больше двадцати пяти. Хотя могло бы быть и тридцать пять, и двадцать. С женщинами Ледовооких никогда не угадаешь.
— Я говорю, подержите коня, — твердо повторила всадница.
Она расстегнула подпругу и рывком перекинула седло с исходящей паром конской спины на деревянный чурбан, для этой цели возле коновязи и установленный. Звякнули стремена. Бран невольно залюбовался движениями ее сильных рук и горделивой осанкой.
Пока девушка прощупывала до крови содранный хребет своего рыжего (конь недовольно пританцовывал на месте), Бран вдруг осознал, что тягостное раздражение, которое он исподволь рассчитывал выплеснуть на гостью, преобразилось в нечто вроде изумленного восхищения.
— Ну что там?
— Чужое седло. Спину натерло… — пояснила гостья. — А теперь говорите то, что хотели сказать.
— Было бы лучше, если бы в следующий раз вы высылали гонцов, предупреждающих о вашем появлении. Поначалу мы приняли вас за глевов…
— Я хотела удивить вас. Поэтому-то мы шли врассыпную, как варвары. Думаю, вашим новичкам такая встряска пойдет только на пользу, — спокойно сказала девушка.
— Что ж… удивили!
— Шани, — сказала девушка.
— Что?
— Мое имя Шани, — девушка кивнула Брану, задержав подбородок у груди. С точки зрения этикета, она должна была облобызаться с Браном, как равная с равным, но Бран великодушно решил не напоминать ей об этом.
«В конце концов, нас никто не видит… Да и потом… она ведь Ледовоокая, а значит, все же не ровня мне. Она — старше. И это навсегда…»
— Красивое имя. Но какое-то непривычное… В столице я таких не встречал.
— Оно варварское. Я получила его в храме Хеи. Хея излечила меня от чумы.
— Но Хея — это богиня… Матерь Смерть?
— Это так.
— Разве она может лечить?
— Хея может все.
— Послушайте, а вы не боитесь? — перейдя на доверительный шепот, спросил Бран. — Ведь «Йавин-Дамин» запрещает поклоняться варварским божествам. Я, конечно, не стану доносить на вас, но, уверен, найдется множество людей, которые…
— Таких людей я сажаю на кол. И советую вам поступать так же.
— Но…
— Именно! На кол, смазанный горчицей, — без тени улыбки ответствовала Шани. И Бран вдруг со всей отчетливостью осознал, что она не шутит. — Между тем вы еще не представились.
— Я Бран. Исполняю обязанности огдобера Ларсы, поскольку благородный Ревка…
— Знаю, — отмахнулась Шани.
— Откуда?
— В тот день шестерым рабам из мастерских удалось ускользнуть от расправы. Голодные и оборванные, они добрались до Бахта и принесли весть о падении Ларсы.
— Отчего же вы не выступили на подмогу?
— А смысл? — Шани нахмурила соболиные брови.
— Возможно, вам удалось бы застать варваров здесь…
— Варвары никогда не остаются в разграбленном городе дольше рассвета. Отправляясь в поход, их вожди дают такой обет…
— Ну… я не знаю… — Бран действительно растерялся. Эта война совсем не походила на те кратковременные победоносные кампании, в которых Брану приходилось участвовать ранее. — Но ведь сейчас вы пришли?
— Мы пришли не для того, чтобы громить варваров. Мы привезли вам еды и фуражу. Совсем немного. Но на первое время должно хватить…
— Это любезно с вашей стороны.
— Здесь нет любезности, — возразила Шани. — Только расчет. Если завтра Бахт постигнет участь Ларсы, вы ведь сделаете то же самое.
— Мрачные у вас расчеты, Шани, — горько усмехнулся Бран. Он живо представил себе раздетую до нательной рубахи Шани, лежащую у дороги с перерезанным горлом, со слипшимися от крови кудрями… Нет, все-таки женщины не должны воевать.
— Мрачные — не значит неверные, — смягчившись, сказала девушка.
— В любом случае, передайте от меня благодарность огдоберу Бахта, благородному… э-э-э… — Бран замялся. Узнать у Сротлуда имя управителя соседнего города он, к собственному стыду, так и не удосужился.
— Между прочим, господин Бран, огдобер Бахта — это я, — без улыбки отвечала Шани.
На следующий день Шани и ее дружинники засобирались в обратный путь. Бран уже заготовил слова прощания, однако произнести их ему было не суждено.
Около полудня у ворот Ларсы остановились две колесницы.
— Господин, тут варвары прибыли… Говорят, к вам, — доложил Брану начальник стражи.
— Кто?
— Варвары. Глевы.
— Посольство, что ли?
— Какое там… Перебежчики… Если не врут.
— Веди сюда.
Вскоре гости предстали пред ясные очи нового огдобера Ларсы.
Оба пришельца принадлежали к высшему сословию глевов. Они были одеты сравнительно чисто и сравнительно богато, бороды их были ухоженными и густыми. На шее старшего красовались три посеребренные гривны. Младший же носил восемь бронзовых браслетов. В движениях обоих сквозила некая быстрая и застенчивая вороватость, свойственная всем варварам, виденным доселе Браном.
Войдя, оба перебежчика пали ниц, закрыв головы ладонями.
— С чем пожаловали? — грозно прогремел Бран.
Младший, как выяснилось тут же, сносно изъяснялся на языке Ледовооких. Он перевел вопрос Брана своему старшему спутнику и впредь служил толмачом в этом разговоре.
— Меня зовут Цертрач Кабанья Нога. Моего племянника — Сус Белоглаз. Отвори нам свои уши и возрадуйся!
— Считайте, что уже отворил, — отвечал Бран. — И можете встать. Ни к чему здесь раболепие.
Варвары охотно повиновались. Цертрач продолжил:
— Мы приехали сюда из-за реки Пенны. С нами семьи. Мы просим тебя, о достославный огдобер, дать нам прибежище и защиту!
— С какой стати я должен это делать?
— Мы повздорили с нашими родичами. И мы не можем возвратиться назад.
— Мне-то какое дело до ваших раздоров? Мы достаточно претерпели от глевов и не испытываем к вам добрых чувств…
— За то, что ты приютишь нас, достославный огдобер, мы скажем тебе важное. Это и будет наша плата за твое гостеприимство.
— Говорите сразу. Потом я решу.
— Большой раскол среди нашего народа. Две головы теперь у него! Вождь Цокка хочет оставаться на юге. А вождь Имынь бахвалится, что пожжет и Бахт, и Стурр, и Ларсу еще до того, как зима войдет в силу. С Имынем идут шесть родов, всего восемь сотен воинов. Через семь дней они выйдут к Бахту.
— Ну а вы отчего не с ними? — недоверчиво поинтересовался Бран.
— В хорошее не верим. В последний раз нас обошли при дележе добычи на шесть мер серебра. И в этот раз обойдут, ибо род наш более не в силе. Даже если задуманное сумасбродным Имынем сбудется, все равно не видать нам ни прибыли, ни почета. Если же не сбудется, потеряем и жизни свои.
— Разумно, — задумчиво промолвил Бран.
— Что ж, мы раскрыли тебе замысел злотворного Имыня. А ты позволь нам и нашим семьям остаться в твоем городе… Более же ничего.
— Какая пытка вам любезней? Водой, огнем или железом? — поинтересовался Бран.
Варвары вновь упали на колени, выставив плотные зады, и униженно залопотали:
— Мы и наши любезные чада всецело в твоей власти! Молим о милосердии, о достославный огдобер! Не следует пытать нас, несчастных изгоев!
— Ладно. Пока пусть будет милосердие. Но если вы соврали, выбора я вам более не предоставлю…
Бран разрешил перебежчикам провести свои колесницы через городские ворота и занять одно из пустующих казенных зданий по своему предпочтению. Не медля, он послал за Шани и Сротлудом — худые вести требовалось обсудить сейчас же.
Те не заставили себя ждать.
Шани выглядела невыспавшейся и издерганной. Зато Сротлуд, как обычно, был само спокойствие. Вдобавок левша уже успел побеседовать с женами перебежчиков на варварском наречии, коим владел в совершенстве, и войти в курс дела не хуже самого Брана.
— Понять не могу, стоит ли верить этим людям, — начал Бран с самого главного.
— Смотря в чем, — рассудительно заметил Сротлуд. — Если хотите знать мое мнение, в той части, где они говорили о вожде Имыне и его военных планах, им верить можно. А в остальном, конечно, врут.
— В чем именно врут?
— Что, дескать, обошли их при дележе добычи… Что повздорили с родичами… Врут и не краснеют!
— Откуда такая уверенность?
Не то чтобы Бран был склонен верить каждому встречному. Но ведь и для неверия нужны основания!
— И жена Цертрача, и жена Суса принадлежат к младшей ветви рода вождя Цокки и, более того, являются его племянницами… Обойти мужей племянниц при дележе добычи — невероятное дело. Таких близких родственников скорее убьют, чем отважатся унизить. Тут что-то другое…
— Не могу понять, в чем их корысть… — задумчиво произнесла Шани. — Зачем им вообще сюда приходить? Чтобы погибнуть вместе с нами?
— Вряд ли они собираются погибнуть, — отвечал Сротлуд. — А значит, и сами они, и тот, кто их послал, уверены: нам по силам разгромить силы Имыня.
— И кто же их, по-твоему, послал?
— Вождь Цокка, вероятно. Ему это выгодней всего!
— Не понимаю…
— Тут нечего понимать, господин Бран. Цокка и Имынь, названые братья, являются приемными сыновьями почившего минувшей осенью вождя глевов Туги. Каждый из них, конечно, желает утвердить свою власть над всеми глевами. При этом Имынь избрал путь безрассудных военных доблестей, до которых варвары столь падки. В самом деле, если роды, пошедшие за Имынем, одолеют гарнизоны Ледовооких, слава их будет велика. И тогда даже те, кто сейчас за Цокку, предадут своего дароподателя и переметнутся к Имыню.
— А что же Цокка? — возбужденно спросила Шани.
— Хладный сердцем, благоразумный Цокка избрал лукавый путь. Он не станет открыто соперничать с Имынем за власть над глевами. Он будет сидеть на юге и ждать, пока его названый братец падет от наших мечей. А чтобы направить наши мечи, он и подослал своих доверенных родичей!
— Хорошо бы если так! — воскликнула Шани. — Но почему Цокка уверен, что мы сможем одолеть войско Имыня? Если с Имынем и впрямь идут восемь сотен, наши дела плохи… Ведь даже если к моему гарнизону прибавить всех, кто есть в Ларсе, у нас не соберется и трех сотен!
— Ах, прекрасная Шани, — проскрипел Сротлуд, — да ведь благоразумный Цокка о ничтожестве нашем не знает! Я сам, при покойном господине Ревке, распускал среди варваров слухи, что из-за моря движется к нам несметное войско! Одних всадников панцирных, дескать, идет шесть сотен!
— Вот бы и вправду… — угрюмо проворчал Бран.
— Ясно… Только что делать будем? — спросила Шани.
— Ну как! Первым делом я воздам по заслугам этим лживым тварям, — зло отозвался Бран. — Это же надо, какое коварство! Вначале будем пытать их огнем, потом казним медленной казнью.
— Это еще зачем? — Сротлуд недоуменно вздернул кустистую бровь.
— Как это «зачем»? Они пытались меня обмануть. Меня, огдобера Ларсы!
— Ну, пытались… Ну, не вышло… Я бы не торопился! В конце концов, вы потратите на экзекуцию время, а у нас каждое мгновение на счету! Посудите сами, благородный Бран, эти варвары — не только лжецы. Они еще и ценные заложники. Как сложится наша судьба? А вдруг так все повернется, что и с самим Цоккой придется переговоры вести? И вот тогда в наших руках будет очень весомый довод!
— Далеко заглядываешь, секретарь, — насупившись, сказал Бран. Он с трудом смирил свой гнев. Однако нельзя было не признать за Сротлудом остроту и трезвость ума.
— Да и сведения полезные можно у них почерпнуть, — продолжал Сротлуд. — Про войско Имыня, его силу и слабость.
— Так что же это ты предлагаешь? Сделать вид, что нам об их обмане и вовсе не известно? — вновь закипая, спросил Бран.
— Именно такой вид я и предлагаю сделать, господин огдобер…
— И все-таки прошу вас вернуться к насущному, — вступила Шани. — Мы должны сейчас же решить, чем встречать глевов. Полагаю, Ларсу мы не удержим… Стало быть, следует отойти в Бахт, туда же вызвать и отряд благородного Токи из Стурра. Только сообща мы можем отбить нападение врага.
— То есть, моя прекрасная Шани, вы предлагаете отсидеться в Бахте? — уточнил Сротлуд. — Соглашусь, что таким образом мы, скорее всего, сохраним свои жизни и дотянем до весны. Но задумывались ли вы о том, что мы при этом потеряем?
— Фактически мы потеряем все, чем владеем на Земле. Варвары сожгут и разграбят Стурр и сравняют с землей Ларсу… Им также не составит труда разорить оловянные рудники и серебряные прииски к северу от города… Они либо вырежут, либо обратят на свою сторону все поселения и деревни, которые были с нами в союзе… В конце концов, им ничто не помешает взять приморский Овур… Есть и еще одно… — Бран смешался. — Впрочем, ладно.
— Нет уж, говорите! — настояла Шани.
— Как вам будет угодно, госпожа… Собственно, я хотел заметить, что княгиня Скелль… В общем, вас-то, может, еще и помилуют, поскольку вы Ледовоокая по рождению… А вот меня и Токи ничего хорошего после трусливой зимовки в Бахте не ждет.
— Мои привилегии вы преувеличиваете, — после долгой грозовой паузы отчеканила Шани. — В остальном — все верно…
— В таком случае мы просто обречены закрыть варварам путь в глубь нашей Земли, — тихо сказал Сротлуд. — Предлагаю собрать все силы у Большого Хутора, что лежит на юге от Ларсы. Оттуда расходятся дороги и на Бахт, и на Стурр. Как ни поведи Имынь свое войско, он непременно пройдет через Большой Хутор. Устроим перед ним засеку и дадим варварам бой…
— Оборонять засеку все равно что оборонять крепость. Боюсь, стоит нам просидеть там неделю, и вместо готовых к натиску бойцов мы получим квохчущих от страха наседок… В лучшем случае варвары, отчаявшись истребить нас, обойдут засеку лесными тропами… А в худшем — мы погибнем на засеке все до единого. Ведь там не будет ни стен, ни башен Бахта.
— Что же вы предлагаете, господин?
— Я предлагаю выступить на Большой Хутор. Но не останавливаться там, а двигаться дальше, на юг, до самой Пенны. Если мы встретим варваров, напасть на них следует немедленно, с ходу. Только так мы сможем ошеломить противника и, если с нами будет покровительство Белокрылого Змея, одержать победу. Если же суждено нам принять смерть, мы примем ее не ропща.
— Быть по сему, — сказала Шани, ее глаза таинственно блестели.
— Пусть так, — сухо кивнул Сротлуд.
Остаток дня Бран и его люди собирались в поход.
Было решено не оставлять в Ларсе никого, кроме десятка вооруженных конюхов: следить за порядком, а заодно и за семьями перебежчиков-глевов, мало ли что.
С Браном готовились выступить на юг сорок всадников и восемьдесят человек пехоты.
Эти последние, хотя и сражались в пешем строю, тоже имели лошадей, благодаря чему их походная скорость обещала быть высокой.
Шани не осталась в стороне — сразу после военного совета она отослала гонцов в родной Бахт с тем, чтобы вызвать подкрепление.
— Больше полусотни бойцов я выделить не могу. Но, заверяю вас, они великолепны. Они нагонят наш отряд близ Большого Хутора.
Бран кивнул. Никакого «великолепия» он от кавалеристов из Бахта не ждал. Но в его положении привередничать не приходилось.
Сборы проходили не слишком ладно.
Для начала выяснилось, что вышла почти вся вода, которую дружина Брана имела с собой в бурдюках. А городские колодцы еще не успели очиститься — противоядие действовало медленно.
Затем стало ясно, что провизии, которую привезла Шани, им едва достанет на половину пути.
И наконец, когда был произведен общий смотр лошадей, оказалось, что ремонтных лошадей, способных заменить охромевших или больных, совсем мало.
Иной полководец отказался бы от похода. Но только не Бран.
— Воду наберем в родниках по дороге. Они встретятся на второй день пути. Потерпим… Что же до еды, я отдал приказ сплести частые сети. Там же, подле родников, есть несколько знатных прудов, где, мне говорили, можно разжиться рыбой. Повезет, подстрелим лося или медведя.
— Насчет лосей сомневаюсь, — сказала Шани. — Не по сезону это… Да и лосятина на вкус на редкость гнусна! Я бы предпочла разжиться провизией на Большом Хуторе, он всегда слыл зажиточным.
— Боюсь, слава зажиточного осталась в прошлом, — Бран вздохнул. — Примите во внимание, дражайшая Шани, что варвары, опустошившие Ларсу, почти наверняка шли именно через Большой Хутор. Едва ли они устояли перед соблазном разорить его.
— Это да, — кивнула Шани.
До самой полуночи военный люд суетился, бряцал оружием, правил клинки, бранился и бахвалился.
Во время запоздалого ужина Бран вдруг вспомнил, что так и не спросил у Сротлуда, не сохранились ли на городском складе походные шатры, пуховые одеяла и прочие необходимые для зимнего ночлега вещи. У его-то людей палатки имелись. А вот люди Шани… Неужели придется размещать их с дружинниками Брана? А ведь это нежелательно. Начнут ссориться, драться… Где размещать саму Шани, Бран еще не решил. «Уступлю ей, что ли, свою палатку… А сам к Хенге… Или к Слодаку… То-то они рады будут… Сколько же хлопот с этими бойцами-девицами!»
Тем временем посланец, отряженный за Сротлудом, вернулся ни с чем.
— Нигде его нет! Все обыскал! Никто господина секретаря не видел… Я даже в подвалы его дома спускался… Ох и страшно же там, как в склепе с упырями…
— Ясно. Свободен.
«Предатель! Сбежал-таки! А ведь он мне сразу не понравился! Нужно было на месте его порешить, не дожидаясь, пока он к варварам убежит… Вот же подлая тварь! Вначале все выведал — и планы наши, и возможности, а потом дал деру! Даром что на костыле!»
Бран сразу отрядил в погоню за левшой четверых.
— Если поймаете, вспорите ему живот, насыпьте туда земли, и оставьте дожидаться смерти! — распорядился он. «Йавин-Дамин» требовал твердости по отношению к предателям.
На рассвете они выступили из южных ворот Ларсы.
Прошло три дня.
Бран сидел во главе роскошного — по меркам военной кампании — стола. Перед ним — блюдо с душистой печеной репой. В руке — кружка со сладким брусничным квасом. Две не лишенные миловидности крестьянские девки под одобрительный гомон кавалерии несут к столу зажаренного на вертеле поросенка…
Это был не сон, навеянный холодным зимним ветром. Но явь, на голодный сон похожая.
Поначалу все шло из рук вон.
Пруды, где Бран рассчитывал наловить рыбы, принесли поживу весьма скудную. Пескарей да мелких карасиков едва хватило на котел жидкой ухи.
С охотой тоже не сложилось. Умница Шани подстрелила двух субтильных зайцев. Остальным повезло меньше. На ужин в тот день были суп из ворон и печеные желуди…
Зато в дне пути до Большого Хутора дорогу отряду Брана перегородила небольшая, но весьма живописная конная группа.
Их было восемь. Они стояли в ряд, от одного края дороги до другого, невинноокие и по-лесному нескладные, но мощного сложения.
Все они были вооружены. Весьма, впрочем, примитивно — ножи, палицы, топоры дровосеков. Одеты, как крестьяне — овечьи тулупы, неладно скроенные меховые шапки, войлочные сапоги.
— Чьих будете?! — крикнул Бран, отчетливо выговаривая каждый слог.
— Мы вольные хуторяне. К вашей милости приехали. В ополчение.
— Кто прислал?
— Батяня наш.
— Что еще за батяня?
— Да вон он! Подотстал чутка… — плечистый детина, с которым разговаривал Бран, указал на дорогу позади себя.
Всадники расступились, открывая Брану обзор.
Каково же было удивление огдобера Ларсы, когда в сгорбившемся человечке на низкорослой мохнатой лошади он узнал… предателя Сротлуда!
«Эх, не настигла его погоня…»
Сротлуд вел за собой еще несколько мохнатых крепконогих коняг. Они ступали тяжело, как видно, из-за навьюченной на их спины поклажи.
— День добрый, господин огдобер, — проскрипел Сротлуд как ни в чем не бывало. Будто и не пропадал никуда. — Я тут подкрепление привел… Сынки мои, отрада моя… И зерна немного… Чем богаты, как говорится…
Бран был так ошеломлен этим явлением, что не сразу нашелся с ответом. Сротлуд тем временем продолжал.
— Тут у меня семья в лесу, на хуторе потаенном проживает… Сыновья… И жены… — пояснил Сротлуд. Он тер красные от недосыпа глаза белыми костяшками пальцев. — Трудятся помаленьку. Скотину выращивают… Зверя бьют… Я так подумал, отчего бы их с собой не прихватить? Парни они уже взрослые… Дерутся бойко… Может, пригодятся в деле каком? Не возражаете, господин огдобер?
Где уж Брану было возражать…
В тот же час устроили привал — с теплой кашей и братаньями. А там и дальше пошли.
Уже ночью, отойдя от костра, где горланили песни его дружинники и сыновья Сротлуда, которых теперь иначе как «Сротлудово отродье» не величали, он думал вот о чем:
«Надо же… А ведь Сротлуд мог просто скрыться… Как бы мы нашли его потаенный хутор в чащобах непролазных? А он не только сам вернулся, но и сыновей своих привел… Ничем мне лично не обязанных… Выходит, в самый отчаянный момент помог… Что за человек этот левша?! Просто талант у него — производить на людей плохое впечатление…»
Благодаря Сротлуду в Большой Хутор вошли величаво, без спешки.
Худшие прогнозы Брана не оправдались. Варвары, конечно, были не прочь разграбить деревню. Но поселяне, легкие на подъем, загодя прознав о приближении орды, укрылись в лесах вместе со своей скотиной. А когда опасность миновала, потихоньку вернулись в дома.
Войско Брана они встретили настороженно, но не враждебно.
На желание Брана купить за полновесную медную и серебряную монету зерна и мяса откликнулись охотно. Впрочем, оно и не удивительно — цену поселяне назначили несусветную.
Вечер удался на славу. Тепло человеческого жилья, вкусная, приготовленная заботливыми женскими руками пища, бархатная хмельная брага… Всего этого люди Брана не видели буквально со дня отплытия из Геррека. Души их размякли. Они были пьяны и счастливы…
По-своему счастлив был и Бран.
Вечером, когда солдаты уже начали укладываться спать, он даже решился на поступок, который трусливо откладывал уже много дней. Он отправился к Шани — та расположилась на ночлег в бревенчатой избе напротив. Он хотел предложить ей… Бран сам не знал, что именно. Но слово «предложить» крепко засело у него в голове.
«Я пришел предложить вам… Я хочу вам предложить… Дорогая Шани… Не откажетесь ли вы от моего предложения? Или так: дорогая Шани… Хотя у меня есть невеста… Моя невеста Арсина, несколько превосходя вас в женской красоте, все же не одарена тем влекущим темпераментом воительницы, который… Тьфу… Что-нибудь соображу по ходу…»
Да, в тот вечер благородный Бран был навеселе.
— А наш-то к вашей пошел, — шепнул пехотинец Брана одному из «крылатых» гвардейцев Шани, и оба понимающе осклабились.
Шани приняла Брана, но держалась отстраненно и холодно.
Бран так и не отважился сделать ей какое-либо «предложение».
Когда он, с пунцовыми от смущения щеками, уже переминался на пороге, путано желая ей, такой невыразимо прекрасной, умной и смелой, всего доброго и спокойной ночи, она подошла к нему совсем близко и положила руки ему на плечи. Бран ощутил запах ее тела, запах, настоянный на вине и меде. Накал блаженства был таким, что Бран окончательно потерял присутствие духа.
— Дорогой мой Бран… — сказала Шани, с магнетической пристальностью глядя в глаза огдобера Ларсы. — Вы очень нравитесь мне. Но в настоящий момент… В общем… сейчас в вас… в вашем характере… кое-чего не хватает… А кое-что в вашей натуре, наоборот, лишнее… Не нужно гадать, о чем я. Вы все поймете… Через некоторое время…
Бран кивнул, хотя действительно ничегошеньки не понял. Как тогда, у придорожного жертвенника.
А возвратившись в свою избу, рухнул, как подкошенный, лицом вниз на колченогую пристенную лавку, застланную заскорузлыми овечьими шкурами.
Второй день шел ленивый влажный снег. До берега Пенны оставалось каких-то жалких четыре лиги, когда, вжимаясь в холки своих лошадей, на резвом галопе вернулись всадники головного дозора.
— Господин огдобер, — обратился к Брану десятник Падок, — на том берегу множество дымов. Мы побоялись выйти к реке. Но сомнений нет — это лагерь глевов.
— Что еще?
— Пенна встала.
— Хорош ли лед?
— Не можем знать… На вид слабоват…
Бран сразу же приказал всем убраться с дороги и отойти в глубь леса. Затем он подозвал к себе сыновей Сротлуда.
— Я хочу знать две вещи. Толщину льда с точностью до пальца и устройство лагеря глевов. Есть ли палисад? Выставлены ли дозоры к реке? Много ли людей? Главное, чтобы варвары вас не заметили.
— А то если и заметят! У нас с ними отношения нормальные. Одеты мы как тутошний люд. Как это батяня нас учит — лучше всех таится тот, кто вовсе не таится!
— Умный у вас батяня, — усмехнулся Бран. — Но вы тогда, что ли, не толпой отправляйтесь, а втроем, или по двое…
— Это уж само собой…
Отправив Сротлудово отродье на разведку, Бран приказал дать отдых лошадям и готовиться к ночлегу.
— Костры не разжигать. Не шуметь. Если варвары заподозрят, что в лесу кто-то есть, мы лишимся своего единственного преимущества — внезапности…
Сыновья Сротлуда вернулись еще до заката — разгоряченные, веселые.
— Ледок-то есть, да только слабый… — начал старший. — На три пальца, не больше. Люди, может, и прошли бы, проползли… Но лошади — никак. Глевы, поди, уже пятый день стоят на том берегу… Дожидаются, пока лед окрепнет.
— Хорошо. Глевы стоят… А как стоят?
— Нагло стоят, открыто. Лагерь у них ничем не огорожен. Только в центре, где вождь, составлены в круг ихние телеги… ну такие… телеги… с двумя колесами…
— Это боевые колесницы, — подсказал Сротлуд. — Знатные глевы выезжают на них воевать.
— Колесницы, значит… — продолжал старший. — Внутри шатер вождя. Охранители тож. Костры везде горят! Видать, ужин приготовляют…
— Сколько их?
— Богато… Как бы не двадцать раз по сто! — выпалил младший.
— Слушайте его больше! Десять раз по сто — самое большее! — перебил старший. — Точно сосчитать никак нельзя… Бегают все время…
— Ну ладно… А сколько штандартов-то у них?
Братья растерянно переглянулись. А затем уставились на отца, как бы ища подмоги.
— Господин огдобер Ларсы имеет в виду длинные палки, у которых деревянные звери наверху! — пояснил Сротлуд.
— А-а, морды, значит, деревянные?
— Да. Сколько их?
— Шесть… Три в круге колесниц… И еще три — за ним…
— По штандарту на род, — сказал Сротлуд. — Это выходит не менее пяти сотен. Но и никак не больше тысячи… Не соврали засланцы Цокки! — добавил левша, подмигивая Брану.
— Правдивость делает честь этим крысам. За это мы подарим им быструю смерть, — Бран криво ухмыльнулся. — Но какая же досада, что лед тонок!
— А по-моему, досада невелика, — заметил Сротлуд. — Благодаря этому у нас есть время обустроить на дороге засеки. Дождемся их — и зададим добрую трепку!
— Тебе бы все засеку городить, секретарская твоя душа, — беззлобно отозвался Бран. — А что если еще десять дней лед будет тонким? А что если оттепель завтра? А у нас еды на три дня всего! Это если без излишеств, впроголодь…
— Вам виднее, господин огдобер, — с учтивым поклоном ответствовал Сротлуд.
— А нам надо бы, — продолжал Бран, распаляясь, — всю свою силу не в засеки, а в удар вложить! Пока она не истаяла тут, в лесу!
— Но ведь лед не выдержит…
— Льдом займусь я! — сказала Шани, появившаяся словно из-под земли.
Когда вышла луна, она сказала Брану, что идет на реку. Попросила, чтобы никто не ходил за ней, ибо не для человеческих глаз это зрелище.
«Ворожить пойдет…» — догадался Бран.
Шани удалилась, и настроение у господина огдобера пошло в гору. В самом деле, кому лучше знать, как управляться со льдом, если не урожденным Ледовооким?
Еще не рассвело. Но на востоке уже светлела небесная лента, предвещающая новый день.
Бран неспешно вышагивал вдоль строя воинов.
— Движемся тесной колонной на рысях. На галоп перейдете вместе со мной. Держать строй. Не растягиваться. Не отставать. Бьем в центр лагеря. Туда, где колесницы. На мелочи не отвлекаться. Захватить центр надо как можно быстрее. Промедление — смерть.
Бран остановился. Перевел взгляд на пехотинцев, возглавляемых Хенгой.
— Выходите на берег шагом, становитесь в ивняке. Все должно быть тихо. Про боевые трубы забудьте. Что бы ни случилось — стойте, где приказано. Сигналом к выступлению будет зов моего боевого горна. Вы все его знаете…
Двадцати шагов хватило Брану, чтобы пройти строй пехотинцев от знаменосца до самого малорослого бойца, он был заикой, его звали Тобак. Дальше стояли воины Шани — двадцать «крылатых» кавалеристов-гвардейцев и четыре дюжины панцирных лучников, подошедших накануне из Бахта. Глядя на их безупречную выправку, на цельнотянутые стальные каски, украшенные звездами из красной меди, Бран ощутил легкий укол зависти. Быть может, его люди в драке ни в чем не уступали этим щеголям. Но щедроты княгини Скелль в их отношении были поскуднее…
— Вас, госпожа огдобер Бахта, я прошу во всем повторять действия моей пехоты вплоть до сигнала моего горна. По сигналу прошу вас преодолеть реку на рысях и зайти на варваров в обход вековой дубравы, что у южного тракта.
— Ваш замысел, Бран, был бы безупречен, окажись в вашем отряде кольчужных конников хотя бы на сорок человек больше… Считаю своим долгом присоединиться к вам со своими «крылатыми» гвардейцами. Что же до лучников, то пусть будет по-вашему.
Бран бросил на Шани тяжелый взгляд. Как же хотелось ему в тот миг оставить эту смелую рослую девушку в Большом Хуторе. Чтобы знать: как ни повернись события, она останется в живых…
— Вы настаиваете?
— Настаиваю.
— Вынужден повиноваться. Только пусть снимут крылья. Их треск и гудение сейчас ни к чему — они перебудят раньше времени всех варваров.
— Вы слышали, что сказал благородный Бран? — спросила Шани, обернувшись к своим. — Выполняйте.
Наконец дошел черед и до Сротлудова отродья. Все восемь секретарских сыновей стояли как бы особняком, и вид у них был, как обычно, насупленно-энергический.
— Ну а вам, друзья, уготована самая почетная роль. Вы вслед за конными лучниками из Бахта обминаете дубраву и, взяв глубже к югу, встаете секретом за лагерем варваров. Когда вождь Имынь надумает бежать, а если все у нас пойдет хорошо, рано или поздно так и случится, вы изловите его и доставите прямо ко мне. Прямо ко мне. Где бы я ни находился.
— А как мы его узнаем, хозяин? — спросил старший.
Бран запнулся… Как узнать вождя глевов?
— Ну кольца там у него… Одежды богатые… Прическа такая… какая-нибудь.
На помощь огдоберу Ларсы пришел кто-то из солдат.
— Увидишь того, кто улепетывает быстрее всех, это и будет вождь! — донеслось из строя.
Дружинники загоготали.
Вдруг рядом с Браном появился Сротлуд.
— Я пойду с ними, господин. Пригляжу за чадами… Со мной они Имыня не пропустят!
Бран заколебался. Что за опасная причуда? Не место почтенному калеке на поле боя! Но во взгляде Сротлуда читались одновременно и отвага, и мольба.
Отказать левше Бран не посмел.
— Что ж… Я отряжу с тобой трех своих телохранителей. И не вздумай перечить!
Шани не подвела — наворожила на совесть.
Лед на Пенне был крепок и надежен — как в последний месяц зимы.
Они двигались в угрюмом смертоносном безмолвии. Только гулкий перестук обернутых суровой мешковиной копыт да негромкое похрапывание лошадей.
Бран шел первым. На него первого наплывал заснеженным увальнем берег. Он полого поднимался вверх, к невысокому плато, усаженному то там, то здесь рощицами и перелесками.
Приземистые, длинные палатки варваров в рассветных сумерках походили на стадо тюленей, зачем-то устроившихся на ночлег в этом далеком от моря укромном месте.
Составленные в круг колесницы с реки не были видны. Но три штандарта, воткнутые возле шатра вождя, Брану удалось разглядеть. Он не спускал с них глаз и вел свой отряд точно на них.
Еще на том берегу Бел, жеребец Брана, зачуяв перед собой простор, то и дело норовил сорваться в галоп. Но Бран не давал ему воли. Причиной тому был лед, в чьей крепости хотя и не хотелось, но стоило сомневаться. Да и ни к чему это — вспотеет, устанет прежде срока, других лошадей своим дурным примером раззадорит.
Когда до южного берега оставалось шагов двадцать, Бран ослабил поводья.
Жеребец полетел птицей, загодя разгоняясь для подъема вверх по заснеженному сизо-серому склону.
Бран бросил взгляд через плечо — отряд не отставал, а Шани, похоже, даже намеревалась вырваться вперед на своем резвом рыжем.
Слева их кто-то окликнул. Но Бран почел за разумное не отзываться, лишь наподдал жеребцу по бокам. Быстрее!
Они перевалили через бугор, заросший чертополохом, и Бран вмиг увидел вражеский лагерь от края и до края.
Хоровод колесниц вокруг нарядного, хотя и изрядно обтрепанного шатра Имыня.
Соцветия палаток близ лениво дымящих костров.
Стоянка обозных ослов — они спали, мечтательно повесив мохнатые уши.
Истоптанный, закопченный снег на сотни шагов вокруг…
Дубовая роща, перед которой должны были развернуться лучники Шани. Листва с дубов еще не облетела, так и стояли они неопрятно-ржавые, недобрые.
Бран не принадлежал к числу натур, склонных к долгим раздумьям и колебаниям. Но в этот раз он до последнего мгновения не мог решить, что предпочесть для первого удара: копье или меч. Решение пришло само — его рука быстрее мысли опустилась к поясу, и меч споро покинул ножны.
Уже через миг его клинок опустился на темя подвернувшегося варвара, покрытое всклокоченной, не знавшей гребня шевелюрой.
Конечно, наивно было думать, что все восемьсот головорезов Имыня спят беспробудным сном.
Иные уже всполошились и орали надсадными голосами, стремясь побыстрее пробудить единоплеменников.
«Не поможет! — злорадно подумал Бран. — Надо ночную стражу в порядке содержать, а не бражку пьянствовать! Самоуверенные ублюдки… Возомнили себя единоличными хозяевами здешних мест…»
Волна ратного веселья захлестнула Брана и растеклась по всем его жилам. Он издал гортанный боевой клич Ледовооких.
Кавалерия подхватила. Вначале нестройно, затем в полную силу. Бран различил в этом хоре хрустальный голосок Шани, налитый нынче певучим звоном оружейной стали.
Как он и рассчитывал, они прошли сквозь ряды палаток легко, не встретив серьезного отпора, но и почти никого не убив.
Бран резко натянул левый повод, и его жеребец, по-змеиному извернувшись, проскользнул в зазор между двумя колесницами — стояли они, по счастью, неплотно. Задние копыта Бела задели обод колеса, и варварская колымага отозвалась глухим гулом.
Навстречу Брану выскочили пятеро варваров — судя по тщательно выпестованной свирепости лиц и дорогому платью, это были телохранители вождя.
Один из них в глубоком выпаде достал Брана копьем.
Удар был силен. Щит, висевший на груди Брана, расколола зазубристая трещина.
Панцирь, однако, выдержал.
Бран, кое-как удержавшийся в седле, со второго удара перерубил копье наглеца, направил жеребца на двух других, все еще сонных, и удачно снес голову одному из них. Второй пробовал мстить, но тщетно — оставшись без руки, он упал на снег, жалобно завывая.
Остальные телохранители вместе с подвернувшимися под руку колесничими, слугами и женами Имыня были переколоты гвардейцами Шани.
Однако самого вождя среди убитых не оказалось.
Похоже, самоубийственная отвага телохранителей, что полегли под мечом Брана, помогла Имыню выиграть спасительные мгновения.
— Скрылся? Ну да пес с ним. Мы все равно его изловим… Потом… — заверил Бран Шани, которая и сообщила ему об исчезновении Имыня.
Бран достал из наспинного чехла копье и соскочил на землю.
— Слушайте меня, воины! — гаркнул он во всю мощь своей глотки.
— Мы взяли три варварских штандарта! И теперь варвары готовы трижды умыться кровью ради того, чтобы вернуть их назад! Связывайте колесницы вместе. Занимайте оборону. До последней возможности бейтесь копьями, не допуская тесного боя! Вы слышали меня?
— Слышали! — прогремели воины.
Бран не был склонен недооценивать глевов. В отличие от многих своих собратьев, эти варвары умели сражаться строем, располагали недурными мечами и ходили в бой под началом опытных сотников. Случись дело в чистом поле да при свете дня, восемь сотен глевов без труда остановили бы таранный удар их маленькой конной дружины и быстро одолели бы числом его скромную пехоту.
Но пока бог войны Ануман был на стороне Брана.
Ошеломленные дерзостью неприятеля, глевы безрассудно ринулись на приступ, не помышляя о воинской науке. Ярость ослепила их, помутила разум. Они набросились на оборонительный обвод, составленный воинами Брана из колесниц, со всех сторон разом. Полуодетые, кто без шлема, кто без сапог, подчас вооруженные вертелами вместо мечей, они с истошным клекотом запрыгивали на колесницы или подползали под них. Но повсюду их встречали острые наконечники копий и лезвия мечей.
Вид пролитой крови довольно быстро отрезвил варваров — уцелевшие сдали назад.
Завидев это, Слодак выхватил из медной треноги-подставки трофейный штандарт с деревянной медвежьей лапой и закричал на наречии варваров:
— Мочился я на ваши знамена! И все мои люди мочились на них!
От такого неслыханного оскорбления глевы вновь впали в яростное помрачение. Людская волна ударила о деревянную стену колесниц с такой силой, что у нескольких варваров первой шеренги от удара лопнули грудные клетки и переломились хребты.
Увы, мощи этого безумного удара достало и на то, чтобы разлетелись в щепу связанные вместе оглобли двух соседних колесниц и надломились их оси.
Разом три дюжины варваров вломились в пределы оборонительного круга.
Но Слодаку с его людьми только того и нужно было.
Заколов девятерых на месте и оставив копья в телах жертв, они схватились за мечи.
Ни один из варваров не ушел за пределы круга.
Вскоре, однако, глевы опомнились.
Бран услышал утробный звук варварских барабанов. Они скликали воинов в боевые порядки и призывали на головы врагов страшные кары.
Глевы облачились в доспехи — сплетенные из просоленных холщовых лент нагрудники, подшлемники, поножи.
Знатные богатыри прибавили к этому железные шлемы и кольчужные рубахи. Три варварских отряда выстроились в пять шеренг, охватывая плотным полукольцом позицию Ледовооких.
Четвертый, ударный, отряд построился колонной по семь человек в тридцать рядов, имея впереди «кабанью голову» из тридцати дюжих мордоворотов с ростовыми щитами.
Этот фаллос, набранный из людей, сдал назад, чтобы, как следует разогнавшись, набрать неотразимую силу таранного удара.
И тогда Бран понял: остаться на месте означает обречь себя на верную гибель.
Разогнавшись на бегу, колонна глевов опрокинет неглубокое построение его копейщиков, разорвет их строй и, рассеяв, лишит их позицию последних преимуществ.
Он обернулся к Шани.
— Остаетесь на месте со своими гвардейцами. У вас будет немного времени. Используйте его, чтобы залатать брешь между колесницами.
— А вы? — спросила Шани, и Брану показалось, что он различил в ее словах ноты неподдельной тревоги.
— Сейчас увидите.
— Подбирайте копья! Строимся в «ежа»! — крикнул он бойцам своего отряда.
Он первым подал пример, выхватив из горячего алого месива под ногами варварскую совну на шершавом осиновом древке.
Два раза повторять ему не пришлось.
И вот уже слева от него встал Слодак. Справа — молодчага Лин.
Всего их было сорок пять. Итого получилось девять шеренг по пять в каждой. Первая, вторая и третья шеренги опустили свои копья горизонтально. Четвертая и пятая возложили их на плечи стоящих спереди товарищей.
— Пошли! — проревел Бран.
Они сорвались с места и побежали вперед на оторопевших от их безумной отваги глевов.
Варварские командиры дали отмашку с роковым опозданием.
Не успела их колонна сделать и нескольких шагов, как в ее голову вгрызся по касательной «еж» Ледовооких.
Сам Бран и его вышколенные бойцы отлично помнили, как действовать в строю «ежа». Оставив свои копья в телах врагов, первые четыре шеренги сразу же ушли в стороны, открывая простор для идущих сзади. И когда колонна варваров была окончательно расстроена вторым копейным ударом, Бран и другие бойцы первых шеренг уже сеяли смерть выхваченными из ножен мечами.
Иные варвары после такого сердечного приветствия уже обратились бы в бегство.
Но не глевы.
Взметнулись в воздух длинные топоры кольчужников.
Подмигнули восходящему солнцу серповидные тесаки простых воинов в холщовых панцирях.
Еще сотня варваров метнулась на подмогу своим от штандарта с обмазанной жертвенной кровью лисьей мордой.
«Ждать больше нечего. Настало время трубить в горн — пусть Хенга и конные лучники поторапливаются!» — решил Бран.
Не переставая отбивать выпады наседающих варваров правой рукой, левой Бран нащупал горн и, провернув его на перевязи, приблизил к губам.
Над объятым битвой лагерем разлился хриплый, низкий трубный звук. Ветер подхватил его и понес над рекой.
«Хенга, на помощь! Лучники, сюда!» — вот о чем пел боевой горн Брана.
— Отходите назад, господин! — крикнул Слодак. — Я оставлю с собой дюжину бойцов и попробую сдержать их!
Бран понимал: Слодак совершенно прав, надо отступать. Но как же хотелось ему покончить со всем этим здесь же, не сходя с места! Изрубить волны варваров одну за другой до последнего человека! Впрочем, врагов было слишком много. И сам он, того не желая, уже пятился назад под частым градом ударов, отдавая врагу пядь за пядью эту злую, ничейную землю.
Превосходный шлем вместе с двухслойными наплечниками оберегал его от размашистых рубящих ударов сверху, а щит, по-прежнему висевший на груди, до времени гасил выпады копейщиков.
Размеренно орудуя клинком, Бран сразил на месте уже четверых, а семерых искалечил.
Конец его счастью положил вражеский шестопер — железные ребра прогрызли щит на всю глубину, и его измочаленные обломки ореховой скорлупой опали на землю.
Теперь грудь Брана отделял от хищных варварских клинков лишь чешуйчатый панцирь. Многим воинам о таком приходилось только мечтать. Но Бран вдруг почувствовал себя невероятно уязвимым, почти беззащитным…
Припав на колено, он попытался подхватить оброненный варварский щит, но удар вражеской палицы, гулко ударившей по шлему выше наносья, отшвырнул его назад.
Кое-как Бран встал на четвереньки. Копье, направленное ему прямо в бок, принял на себя один из его воинов, его звали Луш. Герой упал замертво, оплатив своей смертью несколько мгновений, которых достало Брану для того, чтобы подняться.
— Спасибо тебе! — Бран поблагодарил павшего вслух, как требовал «Йавин-Дамин».
Клинок Брана метнулся к горлу убийцы Луша, но был отбит узким жаловидным мечом какого-то верткого глевского простолюдина. Этот варвар был молод и, вероятно, совсем беден — он не носил даже холщового панциря.
Разъяренный Бран провел выпад на одеревеневших от усталости ногах, силясь достать незащищенный живот наглеца.
Глев ушел от удара, дерзко скаля гнилые зубы.
Раззадоренный Бран перехватил меч обеими руками и отступил на шаг, как бы побуждая супротивника приблизиться.
Бран не сомневался, что глев обязательно ошибется в оценке дистанции, как это свойственно малоопытным бойцам, и станет для него легкой добычей.
Так наверняка и случилось бы, если бы не удар копья, который настиг Брана со спины. Удар был сильным и, хотя пришелся на наплечник, все же лишил Брана равновесия. Чтобы не упасть лицом вниз, он был вынужден сделать размашистый шаг вперед. Молодому глеву этого было достаточно — с победным воплем он напрыгнул на Брана, одновременно вонзая свое смертоносное жало в грудь огдобера Ларсы.
Острие варварского клинка нашло себе путь между чешуями доспеха и, пройдя сквозь ребра, вонзилось в сердце.
Рот Брана затопило соленой густой кровью. Взор заволокло мглистым туманом.
— Господин огдобер ранен! — закричал кто-то из воинов.
Это был самый страшный миг.
Не только для Брана, но и для его дела.
Стоит только унынию овладеть воинами — и битва проиграна. И она была бы проиграна, если бы в задних рядах варваров не раздались первые перепуганные вопли.
Глевы наконец заметили пехотинцев Хенги, несущихся во всю прыть — их подгоняли мороз и страх.
Бран не чувствовал боли. Точнее, в какой-то миг перестал ее чувствовать, словно она вышла из него вместе с первыми натужными выдохами.
Молодой варвар без доспехов, зарубленный на месте рассвирепевшим Слодаком, не успел извлечь свой меч из тела раненого Брана. Когда варвар падал, клинок сломался о ребро, и его острие осталось в сердце Брана. Смертоносное железо перекрыло рану. И лишь благодаря этому Бран не истек кровью на месте.
Его споро оттащили внутрь колесничного круга и посадили, прислонив к треножнику с варварским штандартом.
Никому, даже Шани, казалось, не было до него дела, ведь варвары наседали со всех сторон.
Немногочисленные гвардейцы являли собой страшное зрелище — израненные, залитые кровью и потом, разгоряченные боем, они курились густым белым паром, и каждый из них сражался будто бы в мареве. А может быть, это марево лишь грезилось Брану наяву…
Ясность сознания то возвращалась к огдоберу Ларсы, то оставляла его. Надолго ли? Бран не мог сказать определенно.
Но кое в чем он был все же уверен.
По правую руку от него посвистывали стрелы. Значит, конные лучники все же вышли к дубраве и как следует пристрелялись.
Там, где еще в начале боя в колесничном круге открылся просвет, громоздилась теперь облая, жутковато пошевеливающая щупальцами еще не вполне мертвых рук и голов, груда тел высотою в полтора человеческих роста.
Когда Хенга и его пехотинцы уже выдохлись, не дойдя до колесничного круга десяти шагов — они буквально завязли в гуще израненных глевов, — откуда ни возьмись появились Сротлуд и его сыновья.
— С ними вождь глевов Имынь! Сротлуд предлагает отпустить его в обмен на то, что варвары уберутся восвояси! — сообщила Брану наконец подошедшая к нему Шани. — Вы утверждаете эти условия?
Воинская спесь велела Брану отказаться и отдать приказ биться до последнего. Но губы и гортань не слушались огдобера Ларсы. Все, что он смог сделать — это утвердительно кивнуть.
Пришла ночь.
Свет полной луны освещал берег Пенны и поросший ельником холм. На его продуваемой колючим ветром вершине стояла молодая женщина. Лицо ее было изможденным, усталым, из-за чего она казалась старше своих лет. Женщина была одета не по погоде — кожаные брюки и измазанная кровью холщовая рубаха.
Это была Шани.
Перед ней, прямо на снегу, раскинув руки, лежал Бран, из груди которого на ладонь выдавался обломок глевского меча. Глаза Брана были закрыты.
Бран перестал дышать совсем недавно — когда Шани, выбиваясь из сил, тащила его на вершину холма. Но Шани это как будто не тревожило. Она стояла недвижно, словно состязаясь в безмятежности с храмовыми изваяниями.
Ее взгляд был обращен внутрь себя. Ее лик был печальным и сосредоточенным.
Наконец что-то нарушило мертвенный покой Ледовоокой.
Она подняла глаза к небу. Вынула из-под рубахи амулет с изображением Матери Смерти, висевший у нее на шее, и страстно приложилась к нему губами.
Затем она подобрала с земли топор, который принесла с собой. И, отерши его лезвие девственно чистым снегом, вновь отложила его.
Наклонилась над Браном.
Долго рассматривала благородный рисунок его скул, смелый очерк бровей, героическую тяжесть век, любовалась матовой бледностью кожи. Провела пальцем по спекшимся губам. И нервное лицо Шани озарила улыбка затаенной нежности.
Вдруг, обеими руками ухватившись за обломок меча, она рванула его на себя, упершись в живот Брана ногой.
Варварский меч вышел легко. Она внимательно оглядела обломок и с силой отбросила его прочь.
Наконец пришел черед топора.
Как следует замахнувшись, Шани опустила лезвие топора на грудь Брана, раскроив ее надвое.
Присела на корточки. Извлекла из ножен кинжал. Вырезала сердце огдобера Ларсы. Вышвырнула его вон, вслед за обломком глевского меча.
Зачерпнула окровавленной пятерней лепкий, влажный снег. Смяла его с такой силой, что в ладони у нее оказался твердокаменный кусок мутного, с сапфирово-синей искрой льда.
Затем она вложила льдину в грудь Брана и с надсадным криком на выдохе свела воедино разошедшиеся в стороны ребра.
Обессиленная она упала на снег рядом с Браном, да так и лежала.
Вдруг адамово яблоко огдобера Ларсы пошло вверх, затем вниз.
— Что с тобой, Шани? — с трудом разлепляя заветрившиеся губы спросил Бран, мучительно приподнимаясь на локте. Он назвал ее на «ты», вот те раз.
— Со мной все хорошо. Помнишь, я говорила тогда, в Большом Хуторе, что в тебе есть кое-что лишнее? То, что мешает мне… мешает нам… понимать друг друга. Теперь все как надо.
— Я был ранен?
— Убит. Я сделала тебе новое сердце изо льда. На войне с таким легче.
ВИДЕОДРОМ
КОМИКС
Любопытные варвары
Что общего между типографским знаком и огромным памятником? Ничего. Но если в словах «астериск» и «обелиск» переставить местами два последние буквы, получатся имена едва ли не самых популярных героев французской массовой культуры двадцатого века.
У отчаянного Астерикса два дня рождения. Один был еще до нашей эры. Другой — 29 октября 1959 года, когда увидел свет номер журнала «Пилот» с первым комиксом о его похождениях. И между двумя этими датами лег еще один, самый важный момент — когда встретились два молодых француза, сценарист Рене Госсинни и художник Альбер Удерзо. Встретились и решили создать комикс из жизни своих далеких галльских пращуров. А поскольку историю оба знали не очень, комикс сделали юмористическим, чтобы в случае чего суметь обратить свое незнание в шутку.
Почти сразу же соавторы заспорили: каким должен быть герой? Большим и сильным? Или маленьким и ловким? Победила дружба, и в результате вместо одного персонажа родились два — своеобразные галльские Дон Кихот и Санчо Панса. Только эти двое должны были всегда побеждать и отстаивать независимость родной деревушки благодаря волшебному эликсиру: один эликсир пьет, а второй еще в детстве в нем выкупался. Главного героя решили назвать на букву А — пусть будет первым в любом списке. Так и появился Астерикс, «переименованный» из обозначения сноски.
Впрочем, с буквой «А» можно было и не хитрить. Комикс обрел признание уже со второго выпуска. К двадцать первому веку история похождений Астерикса и Обеликса занимала уже более тридцати томов и была переведена на сотню языков и диалектов. Госсинни и Удерзо даже основали собственную студию «Идефикс», названную в честь забавного ручного пса, с которым не расстается толстяк Обеликс.
Французы давно считают двух комикс-варваров своей гордостью. Те воплощают черты национального характера: жизнелюбие, удаль и патриотизм. На родине героев дипломатично закрывают глаза на то, что их облик далек от исторической правды. Так, галлы никогда не заплетали косичек, а вместо красивых поясов носили… подтяжки.
Веселые варвары стали одним из символов страны, как Эйфелева башня или Собор Парижской Богоматери. Первый французский спутник назывался «Астерикс». Такое же имя получил и огромный парк аттрационов под Парижем.
Уже в 1967 году вышел полнометражный анимационный фильм — «Астерикс из Галлии». Впоследствии появилось еще семь. Два из них поставили сами авторы комиксов. Вероятно, могли бы снять и больше, но этому помешала смерть Госсинни в 1977 году. Удерзо отказался от режиссуры и продолжил книжную серию один, чем занимается и теперь. А фильмы продолжали выходить. Анимированные Астерикс и Обеликс побывали в Британии и даже в Америке. Восьмой и последний на сегодняшний день мультфильм, «Астерикс и викинги», вышел в 2006 году. Но к этому моменту храбрые галлы уже покорили игровое кино.
О возможности кинофильма говорили давно. Комиксы привлекли внимание именитого Клода Лелуша, а роль Астерикса мечтал сыграть Луи де Фюнес. Но вот беда: великий комик ни за что не хотел отращивать или приклеивать усы — и на этом дело застопорилось.
Игровую экранизацию комиксов удалось осуществить только под занавес двадцатого столетия. «Астерикс и Обеликс против Цезаря» оказался самым дорогим и амбициозным европейским кинопроектом века: после него ничего подобного снять уже попросту не успели, начался век следующий. За постановку взялся известный комедиограф Клод Зиди. Был проведен и стопроцентно удачный кастинг: Астерикса сыграл Кристиан Клавье (многие критики считают его наследником таланта де Фюнеса), а Обеликса — Жерар Депардье. Помимо чисто внешнего попадания в типаж оба актера тонко почувствовали «рисованную» природу образов и сказочность предлагаемых обстоятельств. У Клавье и Депардье к тому же был опыт совместной работы в фантастической комедии «Ангелы-хранители» (другое название — «Между ангелом и бесом»).
Клод Зиди снискал популярность еще в начале семидесятых благодаря серии абсурдных комедий с группой «Шарло». Для его типичных героев придуман даже особый термин — «зидиоты». В своей версии приключений Астерикса и Обеликса режиссер тоже сделал ставку на откровенную буффонаду — и по возможности точное воспроизведение оригинальной «картинки» Удерзо.
Кроме пары Клавье-Депардье и приглашенной звезды Роберто Бениньи главным аттракционом стали спецэффекты. Компьютерные технологии, за которые отвечал небезызвестный Питоф, перенесли на экран фирменные комиксо-мультипликационные трюки. Например, галлы «под эликсиром» заставляют римлян гроздьями разлетаться в стороны от молодецкого апперкота. Но дальше таких затрещин и чудесных превращений шутки почти не идут.
Тем не менее лента имела успех, и в 2002 году последовало продолжение — «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра». Новый режиссер Ален Шаба подошел к делу более раскованно, чем его предшественник. Действие перенесли в Древний Египет, а клоунаду первого фильма потеснила легкая прозрачная ирония, отчего продолжение только выиграло. Шаба глубже прочувствовал постмодернистскую природу комиксов-первоисточников и адекватно переложил ее на язык кино. Его версия пронизана духом тонкой пародии и дарит зрителю радость понимания намеков. Депардье цитирует самого себя в роли Сирано де Бержерака, египтяне отплясывают под хит Джеймса Брауна, а финальная драка — мини-дайджест гонконгских боевиков. Актерский ансамбль украсили заводной Жамель Деббуз (глядя на экран, невозможно поверить, что у комика нет правой руки), знойная Моника Белуччи и харизматичный Жерар Дармон, знакомый отечественным зрителям по фильму Григория Данелия «Паспорт». Сам Шаба не упустил случая «назначить» себя новым Цезарем. Практически все персонажи сделаны настолько выпуклыми, что заглавная неразлучная парочка даже слегка затерялась в этом красочном древнеегипетском карнавале.
Третьего фильма пришлось ждать почти пять лет. «Астерикс на Олимпийских играх» вышел на европейские и российские экраны в конце января 2008-го. Режиссеров стало двое — Фредерик Форрестье и Тома Лангманн. Затраты на производство тоже выросли почти вдвое по сравнению с бюджетами первых серий. Действие снова перенесли с территории Галлии — на этот раз в покоренную римлянами Древнюю Грецию. Видимо, проанализировав успех предыдущих фильмов, создатели решили идти по принципу «всего побольше»: шуток, пародий, спецэффектов и действующих лиц. Публику стремятся не только развеселить, но и впечатлить планами величественных дворцов и стадионов, нарисованных в 3D с оглядкой на «Гладиатора», и залихватскими гонками на колесницах, поставленными с оглядкой на «Бена Гура». Произошли замены и в команде игроков: так, Кристиана Клавье в роли Астерикса сменил более молодой Кловис Корнильяк, причем это ухитрились даже сюжетно обыграть.
Французы не были бы французами, если бы не сделали любовную интригу главной пружиной действия. Правда, Обеликса уже «влюбили» в первой серии, Астерикса — во второй, и в третьем туре на арену вышел новый герой с говорящим именем Полюбвикс (эстрадный комик Стефан Руссо). По совершенно сказочному зачину этот галльский Иванушка-дурачок воспылал страстью к эллинской царевне Ирине. Правда, ее рука уже обещана Цезареву отпрыску Бруту. Ранее появившийся только в эпизоде первого фильма и сыгранный другим актером (Бенуа Пульворде) нахальный Брут забрал себе львиную долю экранного времени.
Но главное явление народу случилось в образе Юлия Цезаря — эта роль досталась Алену Делону. Модное голливудское веяние, когда любимые в прошлом актеры с успехом доказывают, что еще живы, захлестнуло и Францию. Хотя в кадре так и не появились заявленные предварительно Клаудия Кардинале и Жан-Клод Ван Дамм. Зато Делон продемонстрировал великолепную творческую форму, сыграв едва ли не самого смешного Цезаря в мировом кино: чванливый государь, страдающий запущенной формой нарциссизма, но не потерявший остатков былого величия. Его игра сдобрена щедрой долей самоиронии, как хороший коньяк — оттенками и нотами вкуса.
Однако то, что ранее лишь наметилось у Шаба, стало главной проблемой триквела. На фоне мелькания старых и новых лиц, на фоне камео спортивных «звезд», вроде Михаэля Шумахера, сами Астерикс и Обеликс превратились из гвоздей программы в почетных гостей Олимпиады. К тому же в соревнованиях как таковых эти персонажи почти не участвуют, ибо волшебный эликсир друида Панорамикса признан допингом. Тем не менее сила третьего фильма оказалась именно в его разнообразии и многоцветье. Здесь нашлось место всему: вышедшим в тираж знаменитостям и «молодой крови», сокрушительным плюхам «…против Цезаря», ярким пародиям «…Клеопатры» и даже, благодаря все тому же Бруту, доле «черного» юмора. Французская комедия в начале нового столетия не потеряла блеска и временами смешит до слез.
Быть ли четвертому фильму и нужен ли он? Ну, как сказал Цезарь: «Эти игры вряд ли проживут две тысячи лет, но…»
Андрей НАДЕЖДИН
РЕЦЕНЗИИ
Миллион лет до нашей эры 2
(Sa Majeste Minor)
Производство компаний Reperage, Malvarrosa Media, Mediapro и Studio Canal (Франция), 2007. Режиссер Жан-Жак Анно.
В ролях: Хосе Гарсиа, Венсан Кассель, Клод Брассер, Жан-Люк Бидо и др. 1 ч. 41 мин.
«Когда б вы знали, из какого сора растут стихи…» Античность с ее мифологией и культурой, как утверждает новая лента Жан-Жака Анно, выросла из нечистот, жажды власти и беспорядочного секса. Совокупляются в фильме часто. Козлы — с козами, кентавры — с лошадьми, сатиры — с людьми, люди — со свиньями… Если же партнерши не нашлось — приходится довольствоваться подходящим дуплом. Нет, ничего такого, чего бы не показали на канале «Дискавери», тут нет, в конце концов, перед нами не «порнушка», а… А, действительно, что?
Усилиями наших прокатчиков фильм-фантазия режиссера «Имени Розы» и «Врага у ворот» о доантичной Греции превратился в продолжение «доисторической комедии» Алена Шаба, которая шла у нас под названием «Миллион лет до нашей эры». В оригинальных названиях обеих лент никаких миллионов, конечно, нет, да и рассказывают обе о временах, к нашей эре расположенных гораздо ближе. Просто, видимо, наши прокатчики чисел меньше чем с шестью нулями не признают.
Увы, тех, кто рассчитывает на безудержное веселье, ждет жестокое разочарование. История деревенского дурачка, выросшего среди свиней и волею случая вознесенного на монарший трон, конечно, не лишена моментов, вызывающих улыбку. Но, к сожалению, большая часть фильма если и способна что-то вызвать, то только зевоту. Ну и, возможно, недоумение — к чему это все? Неужели только затем, чтобы еще раз повторить мысль, выгравированную, по преданию, на кольце библейского коллеги героя фильма: «Все проходит». Повторение про себя ее продолжения — «И это пройдет» — должно помочь пережить навевающие дремоту эпизоды.
По большому счету, фильм оправдывают только присутствие на экране невероятной красавицы Мелани Бернье в роли дочери жреца Клитии и остроумные диалоги главного героя, сыгранного похожим на молодого Жерара Депардье Хосе Гарсией, с дьявольски обаятельным Венсаном Касселем в образе сатира Бу.
Сергей Цветков
Монстро
(Cloverfield)
Производство компаний Bad Robot и Paramount Pictures, 2008. Режиссер Мэтт Ривз.
В ролях: Майкл Сталь-Дэвид, Майк Фогель, Лизи Каплан и др. 1 ч. 30 мин.
В 1999 году малоизвестные режиссеры Дэниел Майрик и Эдуардо Санчес создали мистический триллер «Ведьма из Блэр». Фильм был снят на дешевую ручную камеру без участия кинозвезд и без каких-либо спецэффектов. Невзирая на это, картина по-настоящему напугала публику обрела культовый статус и даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая окупаемая. При бюджете в 25000 долларов фильм в мировом прокате собрал около 250 миллионов. Как и все гениальное, формула успеха «Ведьмы из Блэр» была проста: история о злоключениях трех студентов, потерянных в лесу выдавалась за документальную съемку.
«Монстро» — очередная попытка сделать то же самое, но краше и масштабнее. Главным идеологом нового мокьюментари выступил продюсер сериала «Остаться в живых» Джеффри Абрамс, который либо родился под очень счастливой звездой, либо продал душу дьяволу. Удивительно, но «Монстро» выглядит почти самобытным хоррор-фильмом, хотя приемы используются все те же, начиная с пиар-ходов и заканчивая съемкой ручной камерой. Дремучий лес сменился Нью-Йорком, ведьму из Блэр заменили гигантским монстром. И тем не менее, чувствуя, как учащается сердцебиение, зритель начинает сопереживать киногероям и со страхом погружаться в атмосферу безысходности.
Но дело не только в страхе: неизвестные актеры демонстрируют такие эмоции, что волей-неволей начинаешь верить в происходящее. Именно эти эмоции (а не сюжет о нападении гигантской твари на многострадальный город) и делают фильм ярким, запоминающимся зрелищем.
Сомнений всего два. Во-первых, место действия. Реальный и киношный Нью-Йорк пережил все возможные катаклизмы, какие только можно представить, и оттого уже порядком надоел. Во-вторых, показ, пусть и мельком, того самого монстра. Надо было оставить его за кадром для усиления атмосферы, как в свое время разумно поступили создатели «Ведьмы из Блэр» с мифической колдуньей.
Степан Кайманов
Самый лучший фильм
Производство компаний Comedy Club Production и Эго продакшн, 2008. Режиссер Кирилл Кузин.
В ролях: Гарик Харламов, Михаил Галустян, Елена Великанова, Армен Джигарханян, Павел Воля, Валерий Баринов и др. 1 ч. 50 мин.
Случилось так, что гангстер, пьяница и бабник Вадик Вольнов (Харламов) умер на собственной свадьбе и оказался в Чистилище. Получив аудиенцию у секретаря Господа Бога (Джигарханян), Вадик понял, что райские просторы ему не светят, и потому решил убедить небесного секретаря в своей исключительной добропорядочности…
«Самый лучший фильм» — картина уникальная по одной простой причине: до ее выхода в багаже современной российской киноиндустрии подобных проектов не было. Да и откуда им взяться, если еще года три назад пародировать, по сути, было нечего. Снимали тогда мало и дурно, и потому стеб над блокбастерами оставался голливудской прерогативой. Конечно, можно вспомнить криминальную комедию Алексея Балабанова «Жмурки», но это не столько пародия, сколько очень злая сатира на смутные времена 1990-х. Фильм Кирилла Кузина и резидентов «Comedy Club» претендует на жанр кинопародии а-ля «Аэроплан» и «Очень страшное кино». В списке пародируемых фильмов оказались: «Бригада», «Бумер», «Девятая рота» и «Дозоры». Причем «дозорных» гэгов больше, чем всех других вместе взятых, и, как назло, именно они совершенно не вписались в сюжетную линию. Шутки по поводу лент Тимура Бекмамбетова выглядят настолько инородно, что невозможно понять, зачем их включили в фильм. Для галочки, наверное.
Есть к фильму и гораздо более серьезные претензии. Некоторые сцены откровенно затянуты, другие — скучны, шутки частенько повторяются, да и вообще многие из них «ниже пояса». Финал и вовсе украден из кинопародии «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар». Все это сдобрено матом (матерится даже Чебурашка) и дешевыми спецэффектами.
Увы, у Харламова и компании вышел совсем не «самый лучший фильм». Впрочем, первый блин, как известно, бывает и комом. Правда, «ком» получился уж слишком несъедобным.
Алексей Старков
Телепорт
(Jumper)
Производство компаний New Regency Picture и 20th Century Fox, 2008. Режиссер Даг Лиман.
В ролях: Хейден Кристенсен, Дайан Лэйн, Сэмуэл Л. Джексон и др. 1 ч. 45 мин.
Телепортация и телепорты не раз становились объектами внимания кинематографистов и писателей-фантастов. Киноленты «Люди Икс 2» и «Престиж» в той или иной мере касались проблемы мгновенного перемещения в пространстве. В романе Стивена Гулда, послужившем основой данной экранизации, эта тема стала ключевой.
Начало «Прыгуна» может повергнуть в уныние даже неискушенного зрителя. Главный герой Дэвид (Хейден Кристенсен), он же Мямля — типичный неудачник в типичном окружении злых одноклассников, которые не прочь над ним поиздеваться. Мать почему-то бросила нашего героя, когда ему было пять лет. Отец — тот еще фрукт. Но, согласно всем голливудским канонам, именно таким изгоям достается чудо-сила, именно такие гадкие утята со временем превращаются в прекрасных белых лебедей. Не миновала чаша сия и Дэвида. Пытаясь выбраться из ледяной речки, он не утонул, а очутился в местной библиотеке. Проще говоря, телепортировался. Все шло к тому, что миру явится еще один супергерой. Ан нет! Цепочка штампов внезапно оборвалась, и вместо нравоучений «чем больше сила, тем больше ответственность» зритель услышал очень провокационный вопрос: «А что бы сделали вы на моем месте, если бы обладали подобными возможностями?» Сам Дэвид не стал задумываться о мире во всем мире, а для начала решил ограбить пару банков. При этом, дабы не выглядеть совсем пропащим, каждый раз оставлял записки: мол, взял на время, верну, когда смогу. Именно эти записки и вывели на него таинственный орден паладинов, ведущих охоту на подобных «прыгунов» еще со времен Средневековья.
В итоге у Дага Лимана получился очень бодрый фильм с любопытной идеей и интересными героями, который, как и задумывалось, наверняка превратится в трилогию. К сожалению, впечатление от просмотра сильно подпортили локализаторы. Дубляж вышел бездушным, а фразы типа «Я — телепорт!» звучат совершенно по-идиотски.
Степан Кайманов
ТЕМА
Уходит дракон, приходит Билл
Какой киножанр более матери истории ценен — фантастика или боевые искусства? А может быть, «на коне» окажется нечто среднее?
Уже давно вызывает улыбку идея, будто фантастика должна кого-то к чему-то побуждать. Например, молодежь — к поступлению в технические вузы. Спорят даже о том, а должна ли она побуждать хотя бы думать. Казалось бы, кинематограф таких споров никогда не знал, он всегда проходил по категории entertainment, то есть «развлечение». Но в конце восьмидесятых — начале девяностых был период, когда некую часть зрителей кино подталкивало к действию. Причем кино не самой высокой пробы.
Перестроечные кооперативные видеосалоны показывали в массе своей отнюдь не «Звездные войны». Их основным репертуаром были боевики с Арнольдом и кунгфу с Брюсом. За последнего шел не только сам Ли, но и его многочисленные двойники, которые носили то же имя и мстили за «учителя» в лентах с названиями типа «Уходит дракон, приходит тигр». Даже первая, мистическая, серия франшизы «Не отступать и не сдаваться» с молодым и никому не известным Ван Даммом выдавалась нахрапистыми видеофлибустьерами за настоящий фильм с Брюсом Ли. Юных зрителей не смущало, что по сюжету Брюс восставал из реальной могилы. А возвратившись домой, те же юные зрители тягали гантели, морщась, пытались опуститься на шпагат, после чего шли записываться в ближайшую секцию у-шу.
Прошло совсем немного времени, и уже на мировой арене к середине девяностых жанр «боевых искусств» пережил небывалый взлет. Ленты с участием Ван Дамма и Сигала поднимались в первые строчки хит-парадов. Доля фантастических сюжетов в жанре неуклонно росла. Неожиданно «выстрелил» режиссерский дебют Пола Андерсона — среднебюджетная экранизация компьютерной игры «Смертельная битва». Отечественный лицензионный видеорынок, который только-только зарождался, наводнили недорогие боевики независимой студии Nu Image, наподобие «Киборга-полицейского». Точно так же пиратский рынок еще недавно заполняли кунг-фу-ленты от гонконгской компании Golden Harvest. Кстати, она тоже сумела было поймать новую волну, купив права и запустив в производство сериал о черепашках-ниндзя.
Однако небывалая популярность — верный признак будущего кризиса.
Во второй половине девяностых в жанре наступил резкий спад. Сигал и Ван Дамм теряли обороты, раз за разом испытывая кассовые провалы своих новых фильмов. Иные «бойцы», вроде Дольфа Лундгрена или Марка Дакаскоса, несмотря на талант и фактуру, так, по сути, и не вышли из резервации фильмов категории «Б». Но главное, исчерпались творческие идеи. Любые удары и комбинации сняли едва ли не во всех возможных ракурсах. Единственное, чем мог похвастаться жанр, — это прорывом Джеки Чана на американский рынок.
Но в кино уже появилась новая генерация режиссеров, которые в юные годы видели немало гонконгских боевиков о кунг-фу и теперь черпали из них свое вдохновение. Именно фантастика помогала им воплотить замыслы в жизнь.
Некалендарный XXI век целлулоидные единоборства встретили в 1999 году, когда на экраны вышла «Матрица». Сцены боевых искусств, показанных с применением новаторских методов съемки, сделались одним из «фирменных» аттракционов картины. Причем файтинг занимал в ней едва ли не больше экранного времени, чем в некоторых фильмах «чистого» жанра.
Пример оказался заразительным. Даже старые проекты перекраивались на новый лад и сдабривались щедрой порцией «высоких ударов» ногами. По экранам летали «Ангелы Чарли», кувыркался в воздухе Том Круз, выполняя очередную «невыполнимую миссию», а чистокровный француз Жан Паспарту вдруг приобрел китайскую родословную и внешность Джеки Чана в модерновой версии «Вокруг света за 80 дней». Даже кинохулиган Квентин Тарантино отметился двухсерийным «Убить Билла»: этот фильм, как ни странно, тоже можно отнести к фантастике, поскольку действие происходит в некоей альтернативной реальности, живущей по законам азиатского кино. Рукопашные эпизоды поставил широко известный в узких кругах Юэнь Во-Пинг — он же работал над «Матрицей». А ведь еще десять лет назад при съемках «Универсального солдата» Роланд Эммерих, Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен сознательно уменьшали число сцен с восточными единоборствами, чтобы привлечь больше зрителей.
Однако голливудский мейнстрим, подобревший к восточному собрату, можно сказать, задушил последнего в объятиях.
С одной стороны, новое фантастическое кино предоставило жанру доселе невиданные выразительные средства. С другой стороны, оказалась сниженной планка самого искусства боя. Благодаря спецэффектам, системе тросов и умелым постановщикам из Гонконга стало возможным пригласить любую кинозвезду с танцевальной пластикой и за несколько месяцев обучить ее сценическому варианту восточных единоборств. Неискушенный зритель, увлеченный зрелищем, и не различал, что Кеану Ривз, Бен Аффлек или Камерон Диас в боевых сценах — это далеко не Брюс Ли, который оттачивал свои движения годами по много часов в день. Компьютерная графика и звезды класса «А» исправно приносили кассу, профессиональные «единоборцы», кроме Джеки Чана и Джета Ли, вышли в тираж, боевые искусства из гвоздя программы превратились всего лишь в один из трюков, острую приправу для поп-корна. Хотя внешне все выглядит более чем благополучно, Уже никого не смущает, например, когда в космической «Миссии «Серенити» герои применяют карате или пользуются коротким самурайским мечом вакидзаси вместо бластера.
Но боевые искусства не сдались. Их философия проповедует верность пути воина и равновесие духа. Единоборства начали искать способ, как снова выйти на первый план, привлечь к себе внимание зрителя и стать главным блюдом для киногурманов. На помощь пришла восточная мудрость, которую высказывали еще в «Кавказской пленнице»: «Тот, кто нам мешает, тот нам поможет!»
Речь, конечно, идет о фантастике.
В гонконгских фильмах семидесятых был популярен сюжет: хороший герой борется с плохой школой кунг-фу, но его техника сильно хромает по сравнению с вражеской. Тогда он объединяет два стиля в один, изобретает какую-нибудь «змею в тени орла» — и посрамляет неприятеля. К этой же тактике прибегло боевое кино: стало с чем-то объединяться. Выражаясь терминами ТРИЗ — «свертываться». Сообща, как говорится, и батьку бить легче. Боевые искусства вновь заявили о себе тремя путями. И все три оказались связаны с кинофантастикой — в разных странах и даже на разных континентах.
Первый выход нового дракона состоялся на родине — в Азии. Боевые искусства сделали финт, какого от них никто не ждал, — объединились с арт-хаусным кино. В 2000 году вышел «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» интеллектуала Энга Ли. Появление этого американского фильма, снятого на китайском языке с аутентичным актерским составом, знаменовало ренессанс специфического жанра wuxia. Название метко переводят как «кунг-фу на веревках». Именуется он также «кунг-фу с полетами».
Жанр имеет давнюю традицию в восточном кинематографе, его недолюбливал еще Брюс Ли, ратуя за реалистичную демонстрацию боевых искусств. «Веревочное кунг-фу» невозможно спутать ни с каким иным подвидом азиатского кино. Здесь всегда присутствует мотив фантастических способностей героев, которые сражаются, летая по воздуху, и часто пользуются дистанционно управляемым холодным оружием. Энг Ли в «Крадущемся тигре…» придал wuxia новое, философское измерение. Фильм получил четыре «Оскара» (номинируясь и как лучшая американская лента, и как лучшая лента на иностранном языке!) и многократно окупил в прокате свой относительно невысокий бюджет. Особую роль в успехе сыграли и яркая восточная экзотика, и цифровые технологии, которые позволили шире использовать страховочные тросы, потом «вытирая» их из кадра.
Ни до, ни после «Крадущегося тигра…» Энг Ли не обращался к теме боевых искусств. А потому королем жанра стал другой «высоколобый» режиссер — Чжан Имоу, одну за другой поставивший картины «Герой» (2002), «Дом летающих кинжалов» (2004) и «Проклятие Золотого Цветка» (2006). После «боевиков кунг-фу» и «комедий кунг-фу» с легкой руки Имоу закрепилась новая традиция. Ее можно назвать «историческая фэнтези-драма кунг-фу». Сочный древний колорит, богатый символический пласт, обязательные поединки с нарушением законов гравитации и филигранно отшлифованные, геометрически выверенные планы — вот ее отличительные признаки. К реальной истории эти сюжеты имеют довольно поверхностное отношение, как, впрочем, и к реальным боевым искусствам: сотни лет назад у-шу и другие направления отнюдь не были столь изощренными, как сейчас.
Меньше чем за десятилетие творчества Энга традиция успела обрасти ответвлениями, заполучить своих бунтарей и пересмешников, а главное — распространиться по миру. Оператор «Крадущегося тигра…» Питер Пау поставил фильм «Искатели приключений» (2003), где попытался показать «кунг-фу на веревках» уже в наши дни и скрестить с приключениями в духе Индианы Джонса и Лары Крофт. Но то, что хорошо для виртуальности «Матрицы» и условно-мифического Древнего Востока, вызывает зрительское «не верю», будучи механически перенесено в современность. «Искатели приключений» не сумели стать даже тенью фильмов Энга Ли и Чжана Имоу, хотя операторское мастерство Пау оказалось на высоте.
Комик Стивен Чоу высмеял штампы wuxia в «Убойном футболе» и особенно в фантастических «Разборках в стиле кунг-фу». А в Таиланде на засилье «веревочных» боевиков ответили по-своему: выпустили «Онг-Бак» с восходящей звездой Тони Джаа — в старой манере, демонстративно без тросов, цифровых эффектов и монтажных трюков.
Как пел Высоцкий: «Кроме мордобития — никаких чудес…» Однако здесь также присутствовали элементы восточной мистики: герой должен отвести от своей деревни проклятие, связанное с кражей головы статуи Будды. Любопытно, что Тони Джаа впервые вышел на съемочную площадку, дублируя Лорда Рэйдена в файтинг-сценах продолжения «Смертельной битвы».
Но невидимые тросы по-прежнему востребованы: с ними летают не только китайские герои, но и корейские воины, японские самураи и даже… «горячие финские парни». В 2007 году кинематографисты Финляндии совместно с китайскими коллегами выпустили фэнтези-эпик «Воин Севера». Действие развивается в нашем времени и в древности, а в сюжете переплелись мотивы «Калевалы» и старинных преданий жителей монгольских степей. Фольклорные параллели между сказаниями народностей, столь далеких и географически, и мировоззренчески, действительно существуют, их вскрыл еще в девятнадцатом веке филолог Матиас Алексантери Кастрен. Авторы «Воина Севера» придумали этому объяснение, хотя его вытеснили на второй план фэн-тезийная фабула и снятые рапидом сцены боев, где финны крутят замедленное сальто наравне с китайскими мастерами. Впрочем, Джету Ли еще рано опасаться конкурентов из Скандинавии.
Второй путь открыли в Америке, хотя корнями он уходит снова в ориентальное кино. Режиссер Курт Виммер в фильме «Эквилибриум»/«Равновесие» (2002) совместил борьбу голыми руками и стрельбу из пистолетов с близкого расстояния. Так родился англо-японский термин «ган ката». Кинематограф уже знал единоборства, «изобретенные» специально для экрана. Вспомнить хотя бы искусство боя на световых мечах-«лайтсэйбрах», которое создал для Джорджа Лукаса постановщик трюков Рик Маккаллум, комбинируя приемы различных школ кэндо. Предтечей нового направления следует считать, по-видимому, Джона By: он догадался снимать перестрелки по лекалам для рукопашных схваток. Рано или поздно кто-то должен был сделать следующий логичный шаг и объединить два зрелища в одно. Курт Виммер рассказывал: «Гонконгские режиссеры додумались до того, что, если у человека есть две руки, то он может стрелять сразу из двух пистолетов. Я решил: а почему бы нам не пойти дальше и не попробовать удержать сразу несколько пистолетов одновременно! Мне показалось, что соединение оружия с боевыми искусствами вполне органично, хотя никто до этого и не применял пистолетов в борьбе ката».
То же самое новшество Виммер использовал и в своем следующем фильме — «Ультрафиолет» (2006), где от выстрелов в упор уворачивалась Милла Йовович. Примечательно, что если «кунг-фу на веревках» уводит нас в легендарную глубь времен, то область применения «ган ката» — футуристические миры высоких технологий, манипуляций личностью и подавления свободы. И тут, как ни странно, нашлось, что сказать новоявленной отечественной кинофантастике. Действие двухсерийного боевика Михаила Хлебородова «Параграф 78» (2007) как раз происходит в мрачноватом и близком будущем. И едва ли не лучшей файтинг-сценой оказался поединок между героями Гоши Куценко и Григория Сиятвинды, поставленный именно в режиме «ган ката». Причем этот «танец огня» выглядит даже эффектнее и реалистичнее, чем в картинах самого Курта Виммера: он продолжается дольше, и камера тщательно фиксирует каждую деталь.
Третий путь нашли во Франции. В футуристическом боевике Пьера Мореля «13-й район» (2004) восточные единоборства органично соединены с новым видом европейского экстрима — паркуром. Искусство преодоления препятствий в городских условиях, зародившееся в девяностых и включающее элементы акробатики и страховки из боевых стилей, до того уже переносилось на экран, например, в картине «Ямакаси». Впервые на него обратил внимание вездесущий и чуткий к новым веяниям Люк Бессон. А предшественником этого направления в киномире можно посчитать Джеки Чана, который в лучших работах сочетал кунг-фу и «бег с препятствиями». Однако Чан никогда не гнушался «веревочной» страховкой, отказываясь от нее только в крайних случаях, а в двадцать первом веке, участвуя в голливудских постановках, даже сам начал летать на тросах. В то же время адепты паркура — трэйсеры — строят свою гимнастику именно на трюках без всякой страховки, основанных на точном расчете, безупречном владении телом и неукоснительном соблюдении «техники безопасности».
На съемках «13-го района» состоялся дуэт создателя паркура Давида Белля и профессионального каскадера Сирила Рафаэлли. Они «переоткрыли» экранный стиль боевой акробатики, развитый Джеки Чаном и Саммо Хунгом, перенеся его на новую почву — не только в пространстве, но и во времени. Идеальной ареной для демонстрации возможностей паркура оказались трущобы будущего Парижа, разделенного стенами и форпостами на отдельные районы, которые существуют по собственным правилам. Для выживания здесь необходимо не только уметь стрелять и драться, но и с обезьяньей ловкостью уходить от многочисленных преследователей. Футуристический Париж, к слову, снимался во вполне современной Румынии.
Фильм Мореля словно возвратил историю в начало девяностых годов. Не существует секций «ган ката» и нигде, кроме съемочных площадок, не учат «кунг-фу на веревках», а вот паркур оказался способен вернуть интерес молодого зрителя ко вполне реальной физкультуре. Посмотрев «13-й район», многие подростки действительно увлеклись паркуром, и число трэйсеров стало расти из года в год. Нехитрое развлекательное кино снова превратилось в движущую силу.
Боевые искусства в экранной фантастике еще не нанесли своего последнего удара, и, скорее всего, будут оставаться актуальными длительное время. Возможно, потому, что с ростом технологий и все большим усложнением жизненной инфраструктуры современному человеку важно понять, много ли он может сам по себе — пользуясь только собственным телом и рефлексами.
Аркадий ШУШПАНОВ
ПРОЗА
Святослав Логинов
Без изъяна
В доме — ни корки, в амбаре — ни зерна, а крысы расшумелись, словно свадьбу играть вздумали. Целую ночь за стеной, за печью, в кухонном углу — возня, писк, топотня. Пустой чугун с шестка уронили — то-то грохоту среди ночи! Ванятка проснулся, захныкал. Палей сунул сыну жёванку, не хлебенную, а с зернового овса. Хлеба в доме который день нет, сам Палей пустые крапивные щи хлебает, а мальцу — нельзя. И без того Ванятка не жилец, без мамки-то. Крысы было угомонились, а потом как щелкнет под карзиной[3], как запищит!
Под карзиной возле печи у Палея с давних времен валялся пружинный капканчик, крысобойка. На крючок сальца наживить, пружину взвести и поставить в укромный угол съестного шкапа, куда коту хода нет. Крыса сало учует и с крючка сорвать норовит. Тут ее пружиной и прищемит, чтобы не шастала за чужим добром. А просто в кладовушке поставишь, то и своего кота словить можешь. Машинка железная, понятия в ней нет.
Но теперь крысобойка валялась праздная, и кот из дома сбежал. В кладовке — шаром покати, из пустого дома и крысы ушли, а тут, гляди-ка, вернулись, да с шумом и писком. Говорят, к смерти… Еще примета есть, если птица в дом залетит, дрозд или синица. Ласточка не в счет, эта с человеком в одном доме живет; ласточка в избу влетела — что соседка в гости зашла, а иная птица — к беде.
Птицы к Палею в горницу не залетывали, а крысы — вот они. Вдобавок еще и капкан, невзведенный, щелкнул.
Палей последний раз качнул зыбку, высек огня и пошел в кухонный угол — смотреть. Возня под карзиной не утихала, и Палей прихватил полено, чтобы в случае чего пришибить удивительную крысу.
Под лавкою бился в капкане маленький зеленый чертеныш. Хвост с пушистой кисточкой на конце был зажат железной скобой, а бедолага беспомощно стукотил копытцами и, бурея от натуги, тщетно пытался разжать безжалостную пружину. Увидав занесенное полено, чертеныш пискнул и сжался в комок, прикрыв лапками мордочку.
— Ты чего? — спросил опешивший Палей.
— Бить будешь? — дрожащим голоском спросил чертеныш.
— Погодь. Дурное дело никогда не опаздано. Да тебя, поди, и не убьешь поленом-то. Чтобы ты издох, тебя, наверное, закрестить надо.
— Поленом больно, — чертеныш, не отрывая ладоней от мордочки, сдвинул их чуток, уставившись на Палея черной бусиной глаза. — А закрестить меня ты не сможешь, в тебе святости нет.
— А если попу снесу? Вместе с крысобойкой.
— К попу не надо! — быстро сказал нечистый. — В вашем попе святости с гулькин нос, и та душная, недобрая. Поп меня без толку замучает, начнет изгонять меня из меня самого.
— А тебе, значит, охота, чтобы тебя с толком замучили…
— Нет, что ты! — бесенок замахал ручонками. — Мне такого вовсе не хочется. Но у попа вдвойне противно.
— Между прочим, что ты, чертяка, у меня в избе делаешь? — допросил Палей.
— Я не чертяка, — обиделся зеленорылый. — Я злыдень. У нас, злыдней, с чертями ничего общего. Это только вы, люди, нас путаете.
— А по мне, так хрен редьки не слаще. Ну, отвечай, когда спрашивают, — Палей красноречиво поводил перед злыдневой мордочкой березовым поленом. — Признавайся, друг ситный, что ты у меня натворил.
— Ничего… — пробормотал злыдень, вновь принявшись дергать зажатый хвостик.
— Ой, темнишь! Думаю, без вашего брата здесь не обошлось. Бьюсь, как рыба об лед, а толку — чуть, впору в петлю лезть. Но теперь мне понятно, кто надо мной злые шутки шутит.
— Ты, дядечка, на нас не клепли. Мы хоть твари и зловредные, но таких шуток не шутим. По миру пустить можем, а чтобы смертоубийство — этого нет. По тебе, дядечка, смертное Лихо прошлось. Народец мы мелкий, Лиха сами боимся и такие места, как твой дом, за версту обходим.
— То-то я вижу, как ты мой дом стороной обошел…
— Так я ж не сам, — признался зеленый, с тоской глядя на зажатый хвост. — Меня мои же товарищи сюда притащили и хвост защемили в твоем капкане. Сам бы я ни в жисть в такую дурнотную ловушку не попался.
— За что ж тебя этак?
— Казнить хотят. Чтобы ты меня поленом зашиб, или фелшару снес для вивисекций, или попу отдал. Мне теперь, как ни повернись, всё одно конец приходит.
— А хвост оборвать не пробовал? — поинтересовался Палей.
— Ты что?! — злыденек извернулся, прикрывая собственным телом пленный хвостик. — Злыдень без хвоста ничего не может. Меня первая же кошка съест!
— Сурово они с тобой… Что ж ты такого натворил, что свои же злыдни тебя казнить вздумали?
— То и беда, что ничего не натворил. Другие злыдни людям пакости устраивают, а у меня не лежит к этому душа — и все тут.
— Ишь ты какой! С виду бес, а в душе, выходит, хрустальный херувимчик?
— А ты, дядечка, не смейся. Видишь же, хвостик мне прикусило. У меня без хвоста даже соврать ничего не получается. И сбежать не могу, пружина вон какая тугущая, — зеленый вновь попытался отжать железную скобу, но силенок не хватило, и злыдень чуть не плача опустился на деревянную подставку крысобойки.
— Да, парень, не повезло тебе, — посочувствовал Палей. — Может, ты, конечно, и врешь, ну да ладно, дураком родился, дураком помру. Ну-кася, пусти… Да не кусайся ты!..
— Хвост не тронь!
— Вот дурья башка! Как же я тебя, хвоста не трогая, выпущу?
Платон отжал пружину, которая и для человечьих рук была туговата, и злыдень освободил свой драгоценный хвостишко.
— Ну, беги, болезный. Да смотри, больше хвоста не защемляй.
— Дядечка, ты меня взаправду отпускаешь?
— Понарошку такого не делают. Сам же говорил, Лихо смертное по мне прошлось. И по тебе навроде того. Что же я тебя за это в могилу сводить стану? Я не душегуб, хотя у тебя, наверное, и души нет.
— Есть душа, есть! Только маленькая и зеленая, — возразил злыденек. — А так я все понимать умею. Ты скажи, что у тебя приключилось? Смертью в доме пахнет, это я чую, а больше ничего не разберу.
— Жена у меня померла, — тихо сказал Палей. — А теперь вот сынишка чахнет. Два года ему, а он из люльки не встает. Ему бы молочка поесть, а я его жёванкой кормлю. Весь изнищал, а заработать негде, какие заработки с младенцем на руках? И оставить Ванятку не с кем.
— Я бы с ним посидел, — задумчиво произнес злыдень, — только дитя такому, как я, доверять нельзя. Я его всякому дурну научу, вырастет мальчишка злыдень злыднем. А молочка я тебе добуду…
Злыденек скрылся из глаз и в ту же минуту объявился в дальнем углу. За собой он тащил обливную миску, полную молока.
— Во, смотри, сливок-то поверху сколько! Токо тут одна закавыка имеется, — злыдень замялся на мгновение, а потом, глядя в глаза Палею, продолжил: — Ты сам знаешь, я вредная нечисть. Я бы и хотел по-хорошему, а выходит — с издевкою. Чтобы совсем хорошо, без изъяна, я не умею. Вот и это молоко, оно не совсем хорошее. Его барыня с вечера в собачью миску налила, любимой левретке Жоржеточке. А та, дура обкормленная, молока лакать не хочет. Я его у Жоржетки из-под носа уволок. Будете такое есть?
— Гадости никакой в молоко не налито? — спросил Палей.
— Нет, чистое молоко, только нанюханное. И миска собачья. А так, с вечера парным было.
— Ну и давай его сюда. Все равно наша жизнь хуже собачьей. А река не погана, что собака налакала.
Палей перелил молоко в домашнюю миску, достал горшочек, где был замочен овес, задумался, делать ли жёванку, а потом развести молоком или попробовать, покуда овес не закис, сварить кашку.
— Ты бы кисель затворил, — посоветовал злыдень. — Кисель с молоком — так хорошо! Молочные реки, кисельные берега.
— Киселя ждать долго, — пояснил Палей, — а Ванятку сейчас кормить надо. Я лучше кашку… А ты покуда собачью посудину назад снеси. Зачем зря Жоржетку бездолить?
— И то верно. Хозяйка мисочки хватится — шум поднимет.
Заново объявился злыденек только утром, когда Палей кормил Ванятку молочной кашей. Долго смотрел на бледное Ваняткино личико, потом заметил:
— Что-то он у тебя зеленый, мне под пару. Только я шустрик, а твой головы не держит. Боюсь, ему одного молока мало. Его хворь — от бессолья. Ты кашку-то хорошо посолил?
— Никак не посолил. Откуль у меня соли взяться? Соль только за деньги укупить можно, ни в долг лавочник не дает, ни в обмен.
— Беда с тобой. Что делать, пойду тебе соли искать. Только гляди, у меня и соль будет неисправная.
Палей молча кивнул: знаю, мол.
— Сам заняться чем думаешь? — спросил злыдень.
— Нам с Ваняткой землю пахать. Овес сеять пора.
— Давай, дело нужное. Только я к тебе на поле не приду. У нас с полевиком давние нелады. Он меня и зашибить может, если одного увидит.
Ванятку Палей оставил на солнышке у межевого камня, а сам взялся за пахоту. Как ни крути, а в поле работать надо, зеленый бесенок нанюханным молоком не прокормит. Лошадь, ослабшая с весеннего недокорма, тянула плохо, но потихоньку справились. Все время Палея не отпускала мысль, что Ванятка на меже один в полной власти полевика. О полевике он и прежде слыхал и сам байки баял, но вроде как не всерьез. Верил, но не слишком. А тут… одно дело верить, совсем иное — знать.
Однако никто брошенному Ванятке не навредил, лежал себе парень спокойненько, мусолил с мухами наперегонки жёванку. Назад шли вместе — Ванька у отца на загривке, а дома их встретил довольный злыдень.
— Соли достал, — сообщил он. — Во, какой кусище. Только мокрый он и рыбой провонявши.
Кусок и впрямь был немаленький, с полкулака, и весь заляпан капустным крошевом.
— Попадья щи варила, — доложил злыдень, — стала солить, и нет, чтобы соли в ложку набрать, сколько потребно, да в варево кинуть: она всю солоницу над горшком наклонила и стала соль сгребать. Тут ее словно черт под локоть толкнул, дрогнула рука, так целый ком соли в горшок и ухнул. Теперь узнает, потепа неумная, что такое — пересол на спине. Кусок, пока он во щах не разошелся, попадья вытащила да в сердцах в помойное ведро кинула. Но я его туда не допустил, на лету перехватил. Так что соль щами обмочена, а помоями — нет.
— Что же за черт такой матушку попадью под локоть пихнул? — спросил Палей.
— Право, не знаю, — постно ответил злыдень.
— Не был ли ты у нее за спиной?
— Ну, не без того… Что же мне, век ждать, пока она сама соль во щи опрокинет?
Палей наклонился, нюхнул соляной ком.
— А щи у батюшки рыбные, никак с окушками…
— Круче бери: с лещом.
— И крошево по сю пору не приедено.
— И крошево тоже…
— Значит, буду Ванятку солью прикармливать со щаным духом.
— Ты киселька ему поставь. А то овес не отжатый колко есть.
Палей усмехнулся невесело.
— Овес завтра в землю пойдет. Он у нас семенной. И без того я его добрую меру на жёванку стравил. Не знаю, как и обойдемся с посевом.
— А есть что будете, пока новый хлеб не созреет?
— Бес его знает. Пропадать будем.
— Бес этого не знает, — строго сказал злыдень. — Бесу на землю хода нет, тут наши места — злыдней и другой мелкой нечисти. Бесы, ежели они вообще где-то есть, в аду истопниками работают. Так что они ничего в здешних делах понимать не могут.
— А вы понимаете?
— Мы оченно хорошо понимаем. Не только злыдни, но и домовые, овинники, гуменники, банники опять же… полевики тоже, только они тупые, спасу нет. Есть еще лешие, кикиморы, шишиги, водяные да омутинники, а из пропащих людей — русалки и игоши. Но это народ темный, по глухим углам ютится, и настоящей образованности в них нет. Настоящая образованность только в злыднях и упырях. Но упырю и грамота не впрок, ему бы крови напиться да спать завалиться. Смотрит в книгу, а видит фигу. Так что лучше нас, злыдней, никого нет.
— А люди?
— Что люди? Вы народ крещеный, правда жизни от вас скрыта. Вспомни, какой для вас самый страшный, первородный грех? Познание добра и зла! Так что вы самые темные и есть. Сквозь землю видеть не можете, птицей обернуться не умеете, зверей не понимаете, да и себя самих не гораздо.
— Почему же тогда люди весь свет заполонили, а вашего народа от земли чуть?
— Потому и заполонили. Что вам еще делать, как не плодиться? Вот поумнеете, и начнется людскому роду перевод. Среди ученых и сейчас половина без семьи живет, а у прочих по одному сыночку, худому да бледному. Холят его, лелеют, а толку — чуть. Понимать надо: откуда толку взяться, если сыночек уже и не человек почти, а нежить, немочь бледная, вроде духа бестелесного или, напротив, игоша, — злыдень посмотрел на Ванятку, почесал коготком промеж рогов и добавил: — К Ванятке твоему это не относится, по вам Лихо безглазое прошлось. Но теперь я появился, — злыденек выпрямился во весь двухвершковый рост, — так мы еще с Лихом поратуем, посмотрим, кто кого! Значит, так: я пошел на промысел, а ты Ванятке кисельку поставь, а то он до нового хлеба не доживет. Еще бы ему курочку хорошо, бульонцу с белым сухариком…
— И дурак знает, что воскресенье праздник, — заметил Палей. — Было время, были у нас и курочки, да откудахтали.
— Ничего, не вешай носа, а там и курочкой разживемся! — крикнул злыдень, исчезая.
Явился обратно с большим блюдом наперевес, весь светясь торжеством.
— А вот и курочка! — он поставил блюдо на пол, почесал темя и признал удрученно: — Ну, не совсем курочка, лучшие куски баре съели, а этим побрезгали. Но нам и такого довольно. А что жареная, так навару больше будет. Французы свой жюс только из жареного каплуна и делают. Так что давай ее в горшок. Ваньку бульонцем попоим, а тебе ребрышки пососать — тоже дело.
Палей поглядел на остатки жареной курицы и заметил:
— Блюдо никак серебряное.
— Верно, — согласился злыдень. — Баре завсегда на серебре кушать изволят.
— Надо бы его назад снести.
— Правильно говоришь. Хватятся хозяева блюда — повара пороть велят, лакей за воровство в каторгу пойдет, а вина на тебе. Оно и в сказках говорится: Жар-птицу бери, а клетку не трожь!
— В таком разе давай сюда жареную птицу, — засмеялся Палей, — а клетку ейную тащи обратно.
Целый вечер злыдень носился как угорелый, что-то притаскивая и утаскивая, а Палей пошел в амбар, готовиться к завтрашнему севу. Из двух наделов земли одна полоса была у него с осени засеяна рожью. Зеленя перезимовали хорошо и уже входили в трубку. Вторую полоску, ту, что с утра перепахивал, сметил под яровые. Овсом хотел засеять, овес всегда в цене. И все бы хорошо, кабы не смертное Лихо. В одну зиму Палей прожился дотла. И то подумать: куда вдовцу с младенцем? Ни повинностей избыть, ни на заработки поехать. Теперь сев подошел, а семенного зерна не в обрез даже, а с большой недостачей.
Палей приготовил решето, остатний овес пересыпал в полотняный мешок, горстями, чтобы зерна не потерять. А закончив работу, услыхал шум. Обернувшись, увидал, что в дальнем углу возник злыдень. Волшебный хвостик, напружиненный, торчал вверх, и недаром, поскольку крохотный злыденек волочил разом два преогромных рогожных куля.
— Говоришь, хлеб едомый кончился, — закричал он, — так я, вот, овсецом разжился! Овес — брашно скотское, но в нужде и голоде и с него хлебы печем.
Палей развязал подарок, долго смотрел на то, что было в мешке. Потом спросил:
— Где ж ты такое сыскал?
Злыдень вспрыгнул на мешок, тоже заглянул внутрь. Огорченно скуксился.
— Пожалуй, это и впрямь есть нельзя. Кострики половина, хоть заново вей.
— И мышиные катышки — начерно. Такое и лошадь есть не станет.
— Да уж, вижу. А я-то гадал, с чего бы губернаторскому конюху мечтать, чтобы овес кто-нибудь спер. Решил, что у него в овсе недостача, и он хочет на покражу все списать, а у него вона что! И после этого вы нас злыднями называете. А он в таком разе кто таков?
— Я вот что думаю, — спросил Палей, — этот овес, которые зерна целые, всхожий?
Злыдень прищурился, хвост изогнулся знаком вопроса.
— Ну, если сеять погуще, что-то взойдет.
— Тогда вот что сделаем… На еду пойдет свой овес, а этот завтра пустим на семена. Сеять буду из узла, втрое против обычного.
— Здорово! — восхитился злыдень. — И пашню мышиным навозом удобрим. Этого до нас, поди, никто не делывал.
— Земле все равно, медведь или мышь, — сказал Палей. — Для нее любой навоз — золото.
Вернулись в избу, захвативши полотняный мешок. Чашку овса Палей тут же залил водой, ходить для киселя, две чашки всыпал в меленку, намолоть толокна для Ванятки.
— Меленку я покручу, — предложил злыдень, — а ты покуда огонь под каганком затепли. Я бы и сам управился, но мне огня доверять нельзя, того гляди, пожар случится. Меленка тоже поломаться может, но я постараюсь аккуратнее.
— Будет тебе, отдыхай, я сам управлюсь… А зачем тебе огонь? В доме не холодно.
— Чай как пить будем?
Палей засмеялся.
— У тебя и чай спроворен?
— А как же! И чай, и сахар. Вон, на лавке дожидают.
— Тогда рассказывай, что у них за изъян.
— Чай у трактирщика добыл, у Сысой Андреича. Он его за кяхтинский выдавал, а на деле чай хивинский, дешевый. К тому же он спитую заварку после посетителей сушит и туда замешивает. Так я этого чаю сколько надо нагреб, а в остальной керосину плеснул. Хоть у меня душа и не лежит пакостить, но тут — надо.
— Сахару-то никак целая голова! — воскликнул Палей, обнаруживая на лавке в кухонном углу белый конус в синей оберточной бумаге. Бумага была надорвана и сильно намокла, на лавку натекла лужица сиропа.
— Это не я, — предупредил злыдень. — Это городской лавочник сам себя наказал. Думаешь, почему у торговцев оберточная бумага на сахарной голове всегда надорвана?
— Показывают, что сахар чистый, без обмана, — простодушно ответствовал Палей.
— Тогда он должен бумагу при тебе надрывать. А купцы вот что делают: бумагу надорвут, голову соленой водой спрыснут и оставят на ночь на лавке в протопленной избе. А под лавку — ведро с водой. Так за ночь в голове полфунта веса прибудет. Но этот перестарался, соли взял с избытком, спрыснул слишком щедро, вот голова и потекла. Теперь ее не продашь, хоть сам чай с соленым сахаром пей. Но я купца выручил, теперь ему не надо гадать, куда подмокший товар девать.
— Ты прям всеобщий благодетель, — заметил Палей.
— На том стоим.
Мокрую голову Палей переставил в деревянную мису. Макнул палец в натекший сироп, лизнул.
— А он и не соленый почти. Чуть слыхать. Не знал бы, так и не распробовал. Но хоть бы оно и вовсе напополам было, все одно — не беда. Солдатиков, рассказывают, перед большим походом горячим чаем поят, сколько утроба примет. К чаю дают по целой селедке и сахару пиленого по два куска. Так они пьют сладкое да соленое. Иной десять стаканов выпивает, с двумя-то кусками! Вятские, говорят, водохлебы, они и больше могут. В походе идут по жаре с полной амуницией, а соль да вода с них потом выходит. А без того солдатскую лямку тянуть несподручно.
Истопили плитку, стоящую в стороне от большой печи, накипятили котелок воды, сели пить чай с подмокшим сахаром. Злыденек, хотя стакан ему доставал до пояса, управлялся ловко и выдул три полных стакана.
— И как тебя не раздуло? — удивлялся Палей.
— Я люблю чаевничать, хотя при нашей жизни редко доводится. Жаль, чай у нас фальсифицированный, — злыдень прищурил глаз и со значением поглядел на Палея.
— Поддельный, что ли? — спросил тот, понимая, что злыденьку охота похвалиться ученостью.
— Поддельный был бы, если бы он туда посторонней травы досыпал, липового листа или еще чего. А у него чай и есть чай, только спитой наполовину. Перед законом такая подделка называется фальсификацией… — злыдень помолчал и добавил мечтательно: — Для нас законы не писаны, но знать их ужас как интересно. Слов длинных много.
Под такие разговоры избыли вечер, и ничуть Палею странным не казалось, что он с нечистью да нелюдью чаи гоняет.
С утра Палей с Ваняткой пошли овес сеять. Небо хмурилось, но дело отменять никак нельзя, овес сей хоть в воду, но в пору. Не посеешь на Пахомия, сорная трава поперед овса попрет, тогда доброго урожая не жди.
Злыдень остался промышлять, обещавши сыскать курочку поцелее, а не так, чтобы одни кости. Казалось бы, грядущая шкода скрыта в злыдневых делишках, а повстречалась она в чистом поле на честной работе. По дороге задребезжала таратайка. Остановилась у самой Па-леевой полосы, и на землю сошел Пахом Куваротов — богатей, державший в кулаке деревенское общество.
Хотя первым должен здороваться пришедший, а вовсе не трудящий, Палей поспешил приветствовать мироеда:
— Доброе утро, Пахом Авдеич, с днем ангела вас!
— Доброе, доброе… — отвечал кулак. — Труд на пользу. Что-то, смотрю, сеешь ты густо.
— Сей гуще, соберешь пуще.
— Вот и я о том. Пространно живешь, Палей. Ты про должок-то не забыл?
— Помню, Пахом Авдеич.
— Это хорошо, что помнишь. Так я днями заеду, ты уж денежку подготовь.
— Пахом Авдеич! — взмолился Палей. — Вы же обещались до осени подождать.
— А ты жалился, что весь поиздержался, а сам из узла сеешь. Нехорошо обманывать, братец.
— Так ведь овсишко какой! Его густо не посеешь, так и не соберешь ничего!
— Я в чужие овсы не заглядываю. Я знаю свое: в долг брал — изволь отдавать.
Овес досеяли и заборонили, но домой вернулись смурные. Зато злыденек сиял, что медный самовар.
— Ты смотри, что достал! — закричал он с порога. — Сам! Без изъяна. Не, ты только глянь!
— Что там у тебя? — спросил Палей, глядя на мокрый мешок. За два последних дня столько притаскивалось в дом мокрого, что не слишком верилось, будто новый подарок без изъяна.
Злыдень вспрыгнул на стол, втащил следом мешок и, недолго думая, вывернул. На доски тяжело шлепнулась аршинная щука.
— Сам поймал! Под мельничное колесо за ней нырял, за разбойницей. Она меня заглотить норовила, а я ее — за зёбры! Ух, как мы бились… но я осилил. Мне вообще мало кто конфузию может нанести!
— А что, — спросил Палей, осторожно коснувшись дряблого после весеннего нереста рыбьего брюха, — если эту рыбину продать… хоть трактирщику, хоть в усадьбу… сколько денег выручить можно?
— Да ты что, этакую благодать на базар нести!.. Мы из нее для Ванятки юшки наварим, она знаешь, какая сытная, с нее Ванятка мигом на ноги встанет.
— Понимаю я, — признался Палей, — а делать нечего. Наехал на меня сегодня Пахом Куваротов. Я ему денег должен три рубля с полтиною. Обещался до осени ждать, да как увидал, что я густо сею, и осерчал. То ему за обиду показалось. Грозился днями за долгом приехать, а уж тут у него слово с делом не разойдется, как пить дать приедет.
— Вот, значит, где шкода с зерном была, — произнес злыдень, — а что мышата в нем порылись, это полшкоды. Мог бы и догадаться: два куля овса — не шутка, за них и неприятности немалые. И ведь что обидно: деньги нам, злыдням, запрещены. Если бы мы да еще и деньги иметь могли, то весь мир запакостили бы. А без денег наши дела как сажа бела. Но ты духом не падай и помни: злыдни сдаваться не привыкли. Я буду думать, а ты пока щуку распотроши да юшку свари.
Злыдень устроился на печи у самой трубы, распушил кисточку на хвосте и уставился на нее стеклянным взглядом.
Палей взял ножик и приготовился потрошить щуку. Но едва он взялся за рыбину покрепче, та изогнулась, и острые зубы впились в указательный палец.
— И тут с изъяном, — обреченно произнес злыдень и даже не обернулся посмотреть.
— Плевать, — сдавленно произнес Палей, ножиком разжимая рыбьи челюсти. — Потом пописаю на руку, и ничего не будет. Заживет, как на собаке. Вот ведь, стерва кусачая, так больно цапнула! Недаром говорят, щучка спит, а зубки живут.
Когда Палей закончил свой монолог, злыдня уже не было.
Вернулся помощничек лишь на следующий день, непривычно тихий и серьезный. Хвост устало обвис, и вроде бы волосков в кисточке поубавилось. В лапах у добытчика ничего не было.
— Кушать хочешь? — спросил Палей. — У меня щи крапивны со щучьей головы сварены. С кисликой… вкусные. Я и Ванятке давал, и тебе оставлено.
— Погоди, не время. И вопросов мне никаких не задавай: что можно — сам скажу. Пойди-ка поищи в кухонном углу за поганым ведром, может, найдешь чего…
Палей кивнул согласно и пошел к помойному ведру.
— Да тут никак кошель лежит!
— Развяжи да поглянь, хватит ли, чтобы с долгом расплатиться?
Некоторое время Палей сосредоточенно пересчитывал медяки и мелкое серебро, потом сказал:
— Хватит. Тут четвертаком больше.
— Ну и ладно. Спрячь все и не трогай, пока Пахомка-мироед за долгом не явится.
— Кошелек надо бы назад снести. Сам же говорил: птицу бери, а клетку не трогай.
— Я никакой птицы не приносил. С кошельком, было дело, баловался, да и то не донес, обронил где-то. Так что назад мне нести нечего. А уж что в том кошеле было — знать не знаю, ведать не ведаю. Не полюбопытствовал. Может, там орехов-двойчаток полна мошна.
— Где ж ты такой мошной разжился?
— Кому сказано — вопросов не задавать? — перебил злыдень. — Где взял, там не убудет. Так что прячь находку — и хватит о ней. Пойдем лучше щучью голову рушить. Щука тебя куснула, теперь ты ее кусни.
Пахомова бричка объявилась на следующий день к вечеру. Палей, готовясь к будущему сенокосу, отбивал во дворе косу. По железному стуку Пахом и отыскал должника.
— Доброго здоровьица, Пахом Авдеич, — как всегда первым поздоровался Палей.
— И ты будь здоров. Деньги-то приготовил?
— Приготовил, Пахом Авдеич.
— То-то! А говорил: поиздержался, голодной смертью помираем… Строгости с вами надо больше, тогда все найдется. Давай, неси долг.
Палей достал из-за пазухи кошель, развязал, начал отсчитывать гривенники, но вдруг увидал, как исказилось лицо кулака. Пахом Авдеич покраснел, что рак в кипятке, и беззвучно разевал рот, силясь что-то сказать.
— Да это же мой собственный кошель… — наконец просипел он. — Я гадаю, где он запропал, а это ты его украл! — голос прорезался все громче, звучней, пока не загремел в полную силу: — Попался, ворюга! Я те покажу, как красть!
— Свят крест, не крал! — взмолился Палей.
— Рассказывай кому другому! Там и метка моя есть. Щас я тебя в полицию, каторжна морда, они мигом узнают, как ты не крал!
Куваротов вырвал кошелек, ухватил окончательно потерявшегося Палея за шиворот.
— А ну пошли к мировому!
— Руки не распускай! — проскрипел тонкий словно крысиный голос.
Пахом Авдеич обернулся и увидал злыдня. Зеленомордый выплясывал на перевернутой кадке, в которой по осени рубили крошево. Махонький кулачишко грозил мироеду.
— Это я твой кошель спер, понял? Может, ты и меня в кутузку потащишь? Да я тебя сейчас на вилы и в смоляной котел!
Злыдень спрыгнул с кадки, ухватил преогромные вилы-тройчатки, замахнулся на Пахома. Тощей фигурки не было видно из-за рукояти, казалось, будто вилы сами нападают на мироеда.
— Беси! Беси!.. — Пахом Авдеич пятился, судорожно открещиваясь. Он бы и вовсе кинулся наутек, но выход из двора перегородили вилы-самоколы, так что оставалось искать спасения в пустом свином закуте.
— Беси на небеси, а меня не беси! — орал злыдень. — Я, знаешь, кто? Я страх преисподний! То-то! Я у Палея Иваныча в работниках служу, что он велит, все ему притаскиваю, а ты на моего хозяина хвост задирать вздумал?
На самом деле хвост был задран у одного злыдня, а Куваротов, даже будь у него хвост, вовсе его поджал бы.
Окончательно загнав кулака в свиной закут, злыдень малость угомонился.
Вилы бросил, сам вскочил на загородку, поглядел сверху вниз на трясущегося Пахома Авдеича.
— Ладно, на первый раз прощаю. Понял теперь, как против моего хозяина переть?
Куваротов тряс головой, не то соглашаясь, не то просто от страха.
— Боится — значит, уважает, — постановил злыдень. — А что, Пахом, живешь ты богато?
Пахом продолжал трясти головой.
Злыдень сел на край загородки, свесил ноги вниз, пощелкал копытцами и задумчиво сказал как бы самому себе:
— Может, мне к тебе в работники переметнуться? Харч у тебя, всяко дело, получше. Опять же, ты не как Палей, молоко у тебя свое, крупа на кашу своя, значит, за каждой мелочью гонять не будешь…
— Что платы потребуешь? — спросил осмелевший Куваротов.
— Ничего. За харчи стараться буду, пока ты меня сам не прогонишь.
— Что значит: «притаскиваю, что он велит»? — подозрительно спросил Пахом Авдеич.
— То и значит, — честно ответствовал злыдень, — молока ему приволок, мальчишку кормить. Курицу жареную с барского стола. Овса семенного две рогожи. Овес, правда, получился с изъянцем, мыши его попортили. С кошельком тоже шкода вышла: бывший хозяин объявился…
— Как это — бывший?! — поднял голос Куваротов.
— А вот так. Хочешь, чтобы мои дела для тебя имели силу, ты и прежние в силе оставь. Так что чужой кошелек верни, не хапай попусту.
Куваротов крякнул, но вытащил кошелек и во злобе кинул его в остатки свиного навоза, невыгребленные из закута.
— Подавись!
— Экая шкода получается, — притворно вздохнул злыдень, — знать, и тебе то же будет. Сказки-то слушал во младенчестве? Ну да теперь делать нечего. Палей, подбери кошелек да приглашай гостя в избу. Ты, Пахом Авдеич, расписку-то с собой взял?
— Какую? — немедленно проникся подозрительностью Куваротов.
— Палееву расписку. Что, мол, должен он тебе чего-то, чего не брал.
— Как это не брал? — возмутился Куваротов.
— Ну, может, чего и брал, но отдавать-то ты велел с лихвой.
— Это не твое дело!
— Как раз мое. Лихва — грех смертный и, значит, по моей части проходит. Но ты не тревожься, я тебя от этого греха ослобоню. Пошли в избу, да перо с чернилами захвати, у тебя в бричке есть, я знаю.
В избе Куваротов достал давнишнюю расписку Палея, перо и медную чернильницу, которые всегда носил с собой.
— Пиши, — продиктовал злыдень. — Я, такой-то, имярек, получил с такого-то долг сполна…
— Погодь, я же еще ничего не получил!
— А ты и не получишь. Ты, главное, пиши, а долг получать вовсе не обязательно.
— Да как же это — необязательно? — возопил Куваротов.
— Экой ты непонятливый, — снисходительно объяснил злыдень. — Я-то вижу, ты мне уже работенку придумал подходящую. Но для этого надо, чтобы прежний хозяин меня отпустил. Верно говорю, Па-леюшка?
— Да я тебя не держу, — неуверенно произнес Палей.
— Вот видишь, без расписки не отпустит.
Пахом Авдеич вздохнул и заскрипел пером.
— …долг сполна, — диктовал злыдень, — и не имею к такому-то никаких претензий, ни денежных, ни вещественных, ни моральных.
— Что за претензии — маральные?
— Тебе этого не понять. Ты знай пиши. Написал? Вот и славно. Распишись и палец на всякий случай в чернила макни да оттисни. Теперь бумагу отдай, и я в твоем полном распоряжении. Как понадоблюсь, ты меня позови: «Злыдня!» — я и прибегу. Только не на людях, это дело интимное.
— Не учи! — оборвал Куваротов, сразу почувствовавший себя хозяином. — Поехали, дома дел много.
Дома Пахом Авдеич выгнал из избы жену и позвал:
— Злыдня, подь сюды!
Была в глубине души опаска, что злыдень обманет. В сказках так обычно и бывало, и на этот случай Куваротов заранее придумал, как пустит по миру разбойника Палея. Прежде всего попа пригласит или схимника построже, беса изгнать, а дальше — дело нехитрое. Однако обошлось без обмана, злыдень явился по первому зову.
— Ну-ка, покажь свое умение! — приказал Куваротов для начала.
— Говоришь, Палейке курицу с барского стола приносил? А мне принеси такое, что баре только в праздник едят!
— Ну, это, как говорится, службишка, такое я в две минуты спроворю.
Вернулся и впрямь через две минуты с большим сотейником на воздетых руках.
— Извольте кушать, Пахом Авдеич.
— Что это? — на всякий случай спросил Куваротов.
— Фрикадели под соусом бешамель, — с видом бывалого мажордома ответствовал злыдень. — Его сиятельство с супругой изволили недокушать.
Пахом вооружился деревянной ложкой, выловил одну фрикаделину, отправил в рот.
— Что-то они кислят…
— Как же иначе? Четвертый день блюдо на леднике стоит, пора бы и закиснуть.
— Чем ты меня накормил, стервец! — взревел Пахом, отплевываясь. — Шкуру спущу и заместо козьей на барабан натяну!
— Па-адумаешь!.. — в тон ответствовал злыдень. — Господская жратва ему не понравилась… Ну, с изъянцем, так я тебя предупреждал.
— Погодь, — сказал Куваротов, перестав плеваться, — а сковорода никак серебряная?
— Верно, — постно согласился злыдень. — Баре завсегда на серебре кушать изволят.
— Черт с тобой, — проворчал Пахом, вываливая прокисшее яство в помойное ведро. — Не еда, так сковорода, но я своего не упущу.
— Барыня хватится сотейника, повара выпороть велит, лакей за воровство на каторгу пойдет.
— А мне что за дело?
— Грех на тебе.
— Ты свои грехи считай, а я свои как-нибудь отмолю.
— Давай отмаливай. Только смотри, как бы лоб не намозолить, молившись.
— Ты поразговаривай еще, как раз кочерги отведаешь.
— Не попадешь, — равнодушно сообщил злыдень, усевшись на шестке, где хозяйка выставила сушиться корчаги для молока. — А посуду собственную переколотишь.
— Ну, работничка бог послал! — проворчал Пахом. — Ты ему слово, он тебе десять…
— Меня никто не посылал! — завопил злыдень. — Я сам пришел, на твои посулы купившись. Кто меня кормить обещал?
— Вон, фрикадели тухлые в поганом ведре плавают, — не остался в долгу Куваротов. — Сам приволок, сам жри.
— Благодарствую за угощение, хозяин, — подпел злыдень, кланяясь.
— Хватит болтать, — осадил нечистого Куваротов. — Вот тебе другое задание. Принеси-ка ты мне клад, да такой, которому хозяев уже не сыскать. Старинный чтобы был.
— Где клад лежит — знаю, а принести не могу, — злыдень распушил кисточку на хвосте и принялся выбирать из нее воображаемые соринки… — Не мое дело — землю копать. Хочешь, место укажу, а копай сам.
— Поди, заговоренный клад, — догадался хозяин, — так просто и не взять?
— Заговоренные клады только в сказках бывают, а у нас простые. Всего делов — взял заступ да выкопал.
— Далеко идти?
— Не, туточки он. За деревней — жальник, там он и закопан.
— Тогда пошли.
Жальник — насыпной курганчик неведомых времен, находился поблизости. Когда-то он был разрыт, да ничего не нашли гробокопатели, кроме угольев да битых черепков. Однако разговоры, что лежит там золотой посуды сорок пудов и яхонтов полпуда, не утихали. Приписывали клад разбойнику Кудеяру, хотя кто таков Кудеяр, сказать уже никто не мог.
Злыдень привел Пахома не к самому жальнику, а малость в сторону, где возле старой грудницы никому не приходило в голову ворошить землю.
— Тут он.
— И глубоко зарыт? — спросил Пахом, оглядывая груду стащенного с окрестных полей камня.
— Как положено, три аршина.
— А это, часом, не могила?
— Нет, клад чистый. Ты еще радуйся, что он тут, а не под самой грудницей. Вот бы где помучиться пришлось — камни растаскивать!
— Тут крапивы полно!
— Я ее здесь не сеял, — сообщил злыдень. — А ты что, Пахом Авдеич, никак одетым копать вздумал?
— А как надо?
— Говорят, добрые люди за сокровищами голышом ходят.
— Прохожие увидеть могут!
— А ты думал, с чего такие вещи ночами делаются?
Куваротов поглядел на закатное солнце, на пустую дорогу, плюнул и принялся раздеваться.
— Исподнее тоже снимать?
— А как же! Ты на меня погляди: в чем мама родила, в том и бегаю.
— Так ведь крапива!
— Я тебя не неволю. Не хочешь — не копай.
Пахом Авдеич, чертыхаясь и постанывая, полез в крапиву. Белея телом, долго утаптывал указанное место, отбрасывал жгучие стебли лопатой. Злыдень, забравшись на верхушку грудницы, уселся на самом большом камне и осматривал окрестности.
— Копай спокойно, Пахом Авдеич! — призывал он. — На дороге никого.
Повертелся, умащиваясь поудобнее, пробормотал под нос:
— Надо же, как ловко придумалось: голым клад в крапиве искать… Уже и самому кажется, что так и должно быть.
— Что ты там бормочешь? — подал голос Куваротов.
— За дорогой слежу. Все тихо, никого нет.
— Что-то непохоже, чтобы здесь прежде копали. Земля плотная.
— Слежалась за столько-то лет. Сам же просил, чтобы клад был старинный. Тут, когда татары подходили, один богач свое добро спрятал. А выкопать стало некому.
— Какие татары? Тут их вовек не бывало!
— Вовек — не бывало, а пять веков тому — так очень даже. А ты копай веселее, а то сейчас ребята коней в ночное погонят, заметить могут.
Некоторое время было тихо, только Пахом пыхтел, выбрасывая землю из ямы. Наконец сказал:
— Ага! Вроде есть что-то.
Злыдень спрыгнул с камня и пошел смотреть.
Перемазанный Куваротов сидел в яме на корточках и пытался на ощупь определить, до чего сумел докопаться.
— Труха какая-то…
— Это сундук был, — пояснил злыдень. — В нем одежда нарядная. Подыстлела малость. Рядом, в бадейках, зерно семенное, никак ячмень.
— Какой ячмень? Тут земля одна!
— А ты чего хотел? Погнило все за пятьсот-то лет.
— Где клад? — закричал Куваротов, замахиваясь лопатой.
Злыдень проворно отскочил.
— Вот он, клад. Одежа нарядная, зерно в бадейке. Очень даже хороший клад. Не без изъяна, правда, а кто у нас без греха?
— Золото где?
— Видали: золота ему захотелось… Тут места нищие, золота и прежде не бывало, и сейчас нет. Хочешь золота — иди в хлев и греби из-под коровы.
— Убью поганца! — взревел Пахом и, выбравшись из ямы, ринулся на злыдня. Тот стрелой взлетел на верхушку грудницы.
— Хозяин! Срам прикрой, мальчишки в ночное скачут!
Пахом взвизгнул и полез хорониться в крапиву.
Домой Пахом Авдеич вернулся далеко за полночь. Жена, ожидавшая главу семьи, в голос взвыла, увидав его плачевное состояние. Хорошо хоть батраки у Куваротова были из местных и жили по своим избам, а то ославили бы на всю деревню. А так, жена, нюхнувши кулака, подавилась воем и больше не шумела.
Пахом Авдеич уселся на лавку и глухо сказал:
— Все, лопнуло мое терпение. Я ему покажу, как надо мной шутки шутить.
— А что я такого сделал? — спросил злыдень, высунувшись из-за печки. — Мое дело маленькое: прокукарекал, а там хоть трава не расти. Что ты велел, то я и сделал. Лучше просить надо было.
— Батюшки-светы! — снова взвыла Куваротиха. — Что же это деется? До зеленых чертей допился, ирод!
Пришлось снова осаживать дурную бабу.
— Значит, плохо тебе приказываю? — мрачно спросил Пахом Авдеич, добившись какой-никакой тишины. — Ну-ка, принеси мне барской еды на серебряном блюде!
— Сейчас не могу. Баре отужинали, посуда вся помыта и в буфет убрана. Вот завтра, когда обедать сядут, это — пожалуйста…
— Врешь поди… ну да ладно, обожду до завтра. А что ж ты, бесов сын, мне с кладом подлянку устроил?
— Я не бесов сын, я злыдень, и папа с мамой у меня злыдни. А ты, что просил, то и получил.
— Я клад просил. Где ж там клад, это ухоронка позабытая.
— Позитивное знание не видит разницы между кладом и ухоронкой. Не веришь, ступай в сиянс-академию, там тебе скажут, что это синонимы.
— Грамотный ты очень…
— Да уж, не жалуюсь.
— Ты меня не перебивай! Ты слушай, что я говорю. Клад — это сокровища зарытые. Деньги всякие: золото, серебро, каменья самоцветные, дорогие. Понял, дурья башка?
— Да уж понял, чего тут не понять.
— Вот такой клад мне и нужен.
— Прямо сейчас копать пойдешь? Ты бы баньку истопил, помылся, ноги острекавленные попарил. Глядишь, и полегчает.
— Ты мне зубы не заговаривай, а прямо отвечай, есть ли в округе такой клад?
— Каменьев самоцветных нет, а денежный клад имеется.
— Что ж ты молчал, олух царя небесного?!
— Не ругайся! — взвизгнул злыдень.
— Перетерпишь. Я тебя еще не так приласкаю. Велик ли клад?
— С полпуда будет. Только взять его трудновато.
— Далеко, что ли?
— Не, совсем близко. За деревней церковь новая стоит, знаешь?
— Еще бы не знать, сколько деньжищ на эту церковь мною пожертвовано.
— А поставили ее как раз поверх того места, где клад закопан.
— Ты место точно укажи, я с попом договорюсь, полы поднимем…
— Так не получится. Нам, злыдням, в церковь ходить нельзя. Да и не смогу я под куполом точно место указать. Вот если бы церковь сгорела — тогда иное дело. На пожарище клад найти — легче легкого.
— Ты мне что предлагаешь? — с угрозой спросил Куваротов.
— Я? Ничего. Просто думаю вслух.
— Мал еще думать! — Пахом Авдеич замолк, потом спросил тоскливо:
— Сколько, говоришь, там денег?
— Полпуда. Может, чуток побольше. С гаком.
— Монеты хоть золотые?
— Я же говорил, золота в наших краях нет.
— Серебра полпуда — тоже неплохо…
— Так там и не серебро. В конце века, когда ассигнации ввели, народ начал медные деньги прятать. Там полпуда екатерининских пятаков.
— Тьфу, пропасть! Что ж ты мне голову дуришь?
— Ничего я не дурю. Мне просто любопытно стало, за какую сумму ты церковь поджечь согласишься. Но если медные пятаки тебя не прельщают, то извини. Других кладов в округе нет.
Наутро Пахом Авдеич проснулся разбитым. Окрапивленные ноги распухли и чесались нестерпимо, да и все остальное — тоже. Но больше всего мучила мысль, что злыдень, напросившийся в работники, так жестоко насмеялся над ним. Впрочем, вспомнив о серебряном сотейнике, Пахом Авдеич малость повеселел и, позвав злыдня, велел тащить господских кушаний.
— Рано еще, — отказался злыдень. — Господа почивают, завтрак им еще и готовить не начали, не то что обед. Это мужик в полдень ест, а баре, чем знатнее, тем обедают позже. Царь, говорят, и вовсе на другой год обедает.
— Тогда вот что, — произнес Пахом Авдеич, полночи обдумывавший новое задание. — Будет тебе такой приказ. У меня в стаде две кобылки ходят неогулянные, а жеребца в деревне нет, одни кобылы да мерины. На конном заводе жеребца просить — в копеечку влетит…
— Хочешь, чтобы я жеребца с конного завода увел? — спросил злыдень. — Это хоть прямо сейчас.
— Нет, — твердо ответил Пахом Авдеич. — На заводе жеребца тотчас хватятся, всю волость на уши поставят. Ты мне его издалека пригони.
— Если жеребец хороший, все равно найдут, а абы какого и угонять не стоит.
— Правильно говоришь. Только ты этого жеребца, когда он моих кобылок огуляет, назад отгонишь. Так что если и найдут его на полпути, я тут ни при чем. А жеребята породистые мои будут.
— Из соседней волости коня угонять — дело долгое. Мне сейчас идти или сперва на господскую кухню наведаться?
— Сперва на кухню. Да смотри, чтобы свежее было, а то рога пообломаю.
В седьмом часу вечера злыдень объявился у Пахома Авдеича с серебряным блюдом полным макаронов. Блюдо было тем самым, на котором приносилась Палею недоглоданная курица.
— С пылу, с жару! — объявил злыдень, ставя блюдо на лавку. — До столовой не донесли, так что не беспокойся, все свежее. Вермичели с сыром пармезан! Скоромного на обед не готовили, сегодня пяток, господа пост держат.
— Какое же это постное? — удивился Пахом Авдеич, обнюхав блюдо. — Маслом коровьим полито, и сыра вон сколько.
— У господ пост католический, с молоком и яйцами. А если тебе это грешно, то и не ешь.
— Уж как-нибудь!.. Пост не мост, можно и объехать. Старуха, иди вечерять! У тебя пироги с горохом, а у меня, глянь, вертичели с пармезаном на серебряной тарелке. Ты теперя про горох забудь, будем с княжеской кухни питаться. А ты, братец, — повернулся он к злыдню, — о делах не забывай. К завтрашнему утру жду тебя с жеребцом.
К утру жеребец стоял на Пахомовой конюшне.
Уж и вправду, хорош был конь! Пахом Авдеич и хотел бы худо сказать, да нечего. Стати соразмерны, грудь широка, бабки тонкие…
— Его поводить надо, а то засечется, — предупредил злыдень. — Я его сюда сорок верст гнал. Ездок не тяжел, да путь не легок.
— Где ж ты его добыл? — снисходительно спросил Пахом Авдеич.
— Ой, и не спрашивай! У цыган увел. Табор нагнал и свел коника. Они его берегли, прятали, шкуру глиняной болтушкой под мышиную масть перекрашивали, гриву спутали колтуном, но я все равно понял, какой конь самолучший, и свел. По дороге выкупал, гриву расчесал. Красавец, да и только!
— У цыган, говоришь, свел?… — Пахом Авдеич задумался. — Так им можно и не возвращать… Это племя такое, нехристи, сами все как есть конокрады.
— Смотри, Пахом Авдеич. Цыгане народ злопамятный, коня не простят. Впрочем, мое дело предупредить, а решать тебе.
— Бог с ним, — отмахнулся Куваротов. — Время терпит. Сегодня жеребчик пусть отдохнет, вечерком по прохладе подпустим его к кобылам, а завтра, глядишь, дело и сладится. Там уже и решать будем, как дальше быть.
Полчаса Пахом Авдеич водил коня по проулку, сам, никому не доверив. Потом напоил и отправил в стойло, насыпав в кормушку овса. Перед огульным днем жеребца надо кормить, как перед тяжелой работой.
Вечером, отужинав господским обедом, Пахом Авдеич повел жеребца на луг. Но тут грянул на улице колокольчик, и с подлетевшей тройки пал на Пахомову голову исправник Валериан Сергеич. И прежде, бывало, исправник подъезжал с шиком к богатому дому, но разговаривал с Куваротовым ласково, а тут, слова не сказав, припечатал по сусалам чугунным кулаком и ухватил за шиворот.
— Вяжи вора!
Следом хожалые накинулись, что воронье на падаль. Лишь в избе, крепко связанный и при понятых сообразил Пахом Авдеич, в какую историю влип. Конь оказался заводской, племенной жеребец. Его свели три дня назад, и многотысячную пропажу искала полиция нескольких волостей.
— На цыган грешили, — восклицал Валериан Сергеич, — а он во-на где! Верно говорят, от домашнего вора замка нет!
— Я не крал! — взывал Пахом Авдеич.
— Верно, не крал, лишь чужое брал. Я ж тебя с поличным взял, весь мир видел. Если не крал, то откуда у тебя конь?
— Цыгане увели, а я нашел. Грешен, хотел к своим кобылам подпустить, а назавтра вернул бы.
— Экие цыгане полорукие! Коня свели, да потеряли — таких цыган еще поискать.
— Свят крест, правду говорю!
— Я и не сомневаюсь. Коня свели, может, и цыгане, а ты его у них перекупил. Переводчик краденого, вот ты кто!
— Христом-богом!..
— Ты, Пахомка, зря не божись. Грех это. Сейчас узнаем, что у тебя еще в хозяйстве чужого есть. Понятые собрались? Приступайте к досмотру!
Не прошло и пяти минут, как на свет появились три серебряных посудины, последняя так даже с остатками недоеденного паштета из протертого перепелиного мяса.
Тут уже оставалось валяться у исправника в ногах и пенять на злыдня, который все это добро притащил.
— И каков этот злыдень собой?
— Маленький, зеленый, навроде черта!
— Понятно. Как воровать, так — господи, помоги! А ответ держать — черт попутал. Нет уж, скупал краденое, значит, в воровстве виновен. Не тот вор, кто ворует, а тот, кто переводит.
— Не переводчик я! Правду говорю! Злыдька, мерзавец, подь сюды! Скажи им, что я прав.
Не видать злыдня, не хочет на людях показываться.
Пахома Авдеича под причитания жены погрузили на тройку, а там доставили в волость и заперли в блоховнике. Только тогда злыдень и объявился.
— Что, хозяин, попал под закон? Я ведь тебя предостерегал: не жадничай, лихва — грех смертный. Но ты духом не падай, на каторге тоже люди живут. К тому же я с тобой. Хочешь, я тебе молока принесу, собакой нанюханного?
— Изыди! — простонал Пахом Авдеич. — Век бы тебя не видеть, поганца!
— Слушаюсь, хозяин, слушаюсь! Больше ты меня не увидишь! Ох, до чего же я рад!
— Стой! — спохватился Пахом. — Сначала вытащи меня отсюда! Вернись, кому говорят!
Но в темном блоховнике уже никого не было.
Озимая рожь родилась на диво, да и мышееденный овес не подкачал. Отбыв страду, Палей с Ваняткой вернулись в почти заброшенный дом. Из первого обмолоченного овса Палей испек хлеб. Горячий каравай положил на чисто выскобленный стол. Отрезал горбушку, благоговейно коснулся исходящего вкусным паром мякиша.
— Ванька, поди сюда! Поешь овсяничка заместо пряничка.
Ванятка, игравший на полу, поднялся на ноги, подошел и начал карабкаться на лавку. Палей подсадил сына, вручил горячий ломоть.
— Вот что я думаю, Ванятка… Не дело нам с тобой бобылями жить. Надо бы тебе мамку. Тогда и у меня руки будут развязаны. Ты небось не слыхал, а в Степанове вдова молодая живет, Липой зовут. Муж у ней в извоз зимой поехал, а его волки заели. Одна осталась с двумя девчонками. Кто ж ее возьмет с таким обозом? Атак она и работящая, и ласковая, и собой уродилась… Вот я и думаю: неужто мы, двое мужиков, трех баб не прокормим?
— Покомим! — согласился Ванятка.
— Тогда завтра поедем свататься.
— Поедем! — подхватил Ванятка.
Палей присел на лавку, отломил корочку овсяного хлеба, пожевал, потом произнес:
— Где-то сейчас злыденек гуляет?…
— Привет! — зеленая мордаха высунулась из-под лавки. — Зачем звал?
— Злыдька! Как я рад!
— Ну так, чего надо? Чего тебе принесть-то?
— Да вроде как и ничего. Сам видишь, малость поправились мы с Ваней. А чего нет, то сами заработаем или так обойдемся. Просто я тебе спасибо сказать хотел.
Злыдень сморщился.
— Это какой же «бо» меня спасать станет? Мне от этого «бо» не бобо, но все равно — неприятно. Мой народ под старыми богами досыта находился, так нам теперь никаких богов не надо, ни старых, ни новых.
— Коли так, — улыбнулся Палей, — то давай чай пить. Вода сейчас закипит, а чай у меня теперь торговый, настоящий кяхтинский, без изъяна.
— Вот это — с радостью! — злыдень вспрыгнул на стол, придвинул стакан.
Палей заварил чаю, налил себе и гостю, Ванятке плеснул в блюдечко.
— Хорошо у тебя, — протянул злыдень. — А то ведь Пахомка меня ни разу за стол не пригласил.
— У кого много, тому и жаль.
Злыдень, не обжегшись, хлебнул чая, потом спросил:
— Кяхтинский чай, говоришь? Без изъяна?… И где ты его приобрел?
— В лавке, где же еще.
— Схожу-ка я завтра к вашему лавочнику, погляжу, где он такой кяхтинский чай раскопал.
Мария Галина
Контрабандисты
- По рыбам, по звездам проносит шаланду
- Три грека в Одессу везут контрабанду…
Эдуард Багрицкий.
- Чтоб звезды обрызгали груду наживы, —
- Коньяк, чулки, презервативы…
Молодой Янис нервничал. Шаланду сильно болтало на мелкой паскудной волне, вдобавок сгустился туман. Свет носового фонаря «Ласточки» был обернут туманом, как ватой. Потом папа Сатырос задул фонарь. Слышен был только плеск волн, разбивавшихся о наветренный борт шаланды. А вот уключины не скрипели. Уключины были обернуты тряпками.
Янис еще не привык к тому, что туман — это хорошо. Янис был в деле недавно. Его взяли, потому что деваться было некуда. Прошлой весной он, проходя по своим делам мимо белого домика на лимане, увидел смуглое бедро Зои, единственной Сатыросовой дочки. Зоя развешивала во дворе белье. Она тоже увидела Яниса, белозубого, загорелого, идущего по своим делам.
К осени Янис заслал сваху, усатую старуху гречанку, и мадам Сатырос, поплакав отнюдь не для порядка (она присмотрела Зое гораздо более выгодную партию), уступила. А куда деваться? Живот Зои к этому времени заметно округлился.
Теперь Янис сидел на веслах, а Ставрос — на руле. Янис Ставроса побаивался. Ставрос был мрачный, заросший черным волосом, кривоногий, коротконогий. И папа Сатырос был мрачный, заросший черным волосом, кривоногий, коротконогий. Даже странно, что в семье кривоногих, коротконогих, заросших черным волосом людей получилась такая красивая Зоя.
Самое обидное, думал Янис, что их с Зоей сын удался в Сатыросов. Он даже родился покрытый каким-то темным пухом, весь, с головы до ног.
— Янис, — прошипел Ставрос, приложив тяжелую узловатую ладонь к уху наподобие слуховой трубы, — суши весла, кому говорят!
Янис послушно поднял весла.
— Ну? — спросил папа Сатырос, который был глуховат.
— Таки ничего, — сказал Ставрос, — Янис, греби дальше.
Янис послушно опустил весла и сделал сильный гребок. Мышцы на его спине красиво напряглись. Янис любил свое тело, свои красивые мышцы, белые зубы и черные усы. Он любил себя весело и легко, потому что знал, что его красота доставляет удовольствие — и Зое, и прачке Медее, обстирывавшей рыболовную артель на Лимане, и темнокудрой Рахили, пасшей своих козочек на выжженных жарой склонах. Он любил сам смотреть на себя в мутное бритвенное зеркальце и все старался повернуться к себе в профиль, потому что так он был особенно красив. Жаль только, что сын пошел в Сатыросов.
Темная громада фелуки встала перед ними неожиданно; Янис чуть не врезался в борт, сидящий на руле Ставрос ловко вывернулся, и шаланда подошла к фелуке впритирку. Фелука стояла темная, со спущенными парусами, на борту не горело ни одного огня.
— Спят они там, что ли? — пробормотал папа Сатырос.
Вода билась о борт фелуки, мачты терялись в тумане.
— Это точно «Яффо»? — спросил Янис.
— Нет, — злобно сказал папа Сатырос, — это «Летучий голландец». Видишь огни на мачтах?
— Типун вам, папаша, на язык, — флегматично заметил Ставрос.
Шаланда болталась на воде, норовя врезаться в фелуку носом.
Янис опустил в воду одно весло и принялся табанить. Какое-то время ничего не происходило.
— Крикнуть? — с надеждой спросил Янис, которому надоело.
— Я тебе крикну! — прошипел сквозь зубы папа Сатырос и тут же приложил рупором руки к усам и крикнул: — Эй, на фелуке!
— А-а! — откликнулись сверху. Остальные звуки съел туман.
— Спите, что ли? — воззвал Сатырос наверх. — Эй! Эфендим!
— О-уу! — откликнулись сверху.
Темный человек, перегнувшись с темного борта фелуки, протянул темный тюк. Папа Сатырос осторожно, как ребенка, принял его и уложил под скамью. Полдюжины тюков плотно легло на дно шаланды.
Фелука качнулась на воде, взвились треугольные паруса.
— Пошла, красавица, — крикнул папа Сатырос. — Эй, там, на фелуке! Хошчакалын что ли!
— Оу-а! — отозвались на фелуке.
— Ставь парус, Янис, черт ленивый, — заорал папа Сатырос.
Янис торопливо потянул шкот. Шаланда, лихо накренившись, пошла под парусом. Янис, нещадно третируемый семейством Сатыросов, на самом деле был отменным мореходом, и «Ласточка» легко неслась по волнам, оправдывая свое название.
— Они слева! — закричал Ставрос. Звуки мотора пограничного баркаса доносились как-то урывками, словно туман пережевывал их.
— Эх, не выдай, родная! — Сатырос отодвинул сына и сам сел на руль. Ставрос присел на корме и, широко расставив руки и оперев локти о фальшборт, целился в темноту из нагана. Фонарь патруля тусклым пятном мелькал во тьме, «Ласточка» взлетала на волне и вновь опускалась, брызги летели в греческие лица, и звуки чужого мотора, вернее, обрывки их, доносимые ветром, затихали вдали. Янис убрал парус, а Сатырос вновь уступил место на руле сыну.
— Все, — сказал Сатырос, раздувая усы. Вон ту акацию на обрыве различаешь? Держи на нее, там пещера в скале.
— Мне ли не знать, папаша? — лениво ответил Ставрос. Звуки пограничного мотора привели его в веселую ярость, и сейчас казалось, что в его черных густых волосах трещит атмосферное электричество. Шаланда, убрав шверт, скользнула в укромную бухту, и Янис, как самый бесправный член команды, спрыгнул в воду и принял груз на руки.
— Положь там за камни и давай обратно, — велел Сатырос, ласково похлопывая «Ласточку» ладонью по борту.
Над обрывом уже стояла телега, сонная лошаденка кивала головой и деловитые люди господина Рубинчика спускались по обрыву, прижимая шляпы рукой, чтобы не снесло ветром.
— Ну как? — крикнул один.
— В лучшем виде, — ответил папа Сатырос и закурил самокрутку, — господин Рубинчик будет доволен.
Южное солнце нещадно палило горячие головы биндюжников, но они продолжали нехитрый обед, макая хлеб в оливковое масло и заедая греческими маслинами. Рядом огромные мохнатые битюги сонно переминались с ноги на ногу; вот их-то головы заботливо прикрывали соломенные шляпы со специально проделанными дырками для ушей. Пахло дегтем, разогретыми досками, лошадьми и сухими водорослями.
— Сатырос, люди кажуть, пограничный катер вчера таки висел у вас на хвосте? — спросил Мотя Резник, макая ломоть хлеба в золотое оливковое масло.
— Еще ни один урод, — сказал Сатырос, — не открутил «Ласточке» ее хвоста. Ну, сходили, ну, вернулись…
— И хорошо сходили?
— Господин Рубинчик будет доволен, — коротко ответил Сатырос.
— Слышал за Гришу Маленького? Он таки взял мыловаренный завод на Генцлера. Унес товару на четыреста миллионов рублей. А заодно совершенно случайно изнасиловал счетовода гражданку Розенберг.
— Что такое в наше время четыреста миллионов? — флегматично спросил Сатырос и отхлебнул из кружки.
— Оперуполномоченный товарищ Орлов поклялся, что не успокоится, пока не возьмет Гришу Маленького, — сказал Мотя Резник.
— Круто берет новая власть, — согласился Сатырос. Разговор затих сам собой, слышно было, как мелкие волны лениво плескались о сваи.
— Гляди-гляди, — сказал Мотя, — этот фраер, Яшка Шифман, идет.
Яшка Шифман шел по пирсу, брезгливо отшвыривая носком лакированного штиблета гнилые мидии, выброшенные сюда позавчерашним штормом.
— Привет почтенному собранию, — сказал он, приподнимая канотье.
— Будь здоров, — лениво ответили биндюжники.
— Папа, — сказал Яшка, оборотясь к Сатыросу, — вас баснословно хочет видеть господин Рубинчик.
— И что от меня нужно господину Рубинчику? — поинтересовался грек.
— А это вам скажет сам господин Рубинчик, папа. Он чекает вас у «Гамбринусе». Дуже нервный он сегодня, господин Рубинчик. Нерадостный.
— Скажи господину Рубинчику: папа будет, — сказал Сатырос и закусил маслиной.
Яшка еще раз приподнял канотье и пошел прочь по пирсу.
— Не те маслины нынче пошли, — сокрушенно сказал Сатырос, — вот до войны были маслины так маслины, не поверите, Мотя, с вот этот мой палец!
Господин Рубинчик сидел за отдельным столиком в «Гамбринусе» и кушал жареную скумбрию. Папа Сатырос прошел между столиками, отодвинул стул и сел рядом с господином Рубинчиком.
— Вы позволите? — спросил он для порядка.
— Позволяю, — коротко ответил господин Рубинчик и промокнул салфеткой усики.
Папа Сатырос велел принести себе пива и сидел в ожидании, положив на скатерть огромные черные руки. Половой принес пиво в огромной кружке, шапка пены переваливалась через край.
— Ваше здоровье, — сказал папа Сатырос и нежно подул на пену.
— Как ваше почтенное семейство? — вежливо спросил господин Рубинчик?
— Благодарствую. Все здоровы, тьфу-тьфу-тьфу. А как Эмилия Йосифовна?
— Мигрени, все мигрени, — с отвращением произнес господин Рубинчик, — к делу, папа. Как сходили?
— Таки неплохо, — солидно произнес папа Сатырос. — Все приняли, все сдали.
— Что сдали? — холодно поинтересовался господин Рубинчик, играя рукояткой трости.
— А то и как будто не знаете, господин Рубинчик, — папа почуял недоброе, — только вот этого не надо. Ваш человечек принял, я сам видел…
Господин Рубинчик медленно поднялся и стал страшен.
— Что ты привез? — спросил он тихим вежливым голосом. — Что ты мне привез? Где товар?
В подвале под лавкой господина Рубинчика стоял густой дух оливкового масла и чая. За бочками, бутылями и ящиками лежали распотрошенные тюки; на холодном цементном полу рассыпались тяжелые фолианты с порыжевшими, изъеденными временем страницами, рулоны пергамента, папирусные свитки и даже одна каменная скрижаль с выбитыми на ней жуками и скорпионами — счесть это буквами папа Сатырос в здравом уме не решился бы.
— Это, — холодея, произнес папа, — товар? Господин Рубинчик, Христом Богом…
— А кто это привез, по-вашему? Вот эту пыль веков?
— Приняли, разгрузились, — бормотал папа Сатырос, — ваши люди сами…
— И вот это приняли, — господин Рубинчик поворошил тростью пергаменты; взлетело облачко бурой пыли, — и вот это… И вот, жемчужина, можно сказать, всей этой коллекции.
Он дотронулся тростью до чего-то, завернутого в тусклый кусок золотой парчи. Парча сползла.
— Святая Богородица, — сказал папа.
На него сверкающими глазницами смотрел человеческий череп. Папа Сатырос успел подумать, что с черепом не все в порядке, и только чуть позже сообразил, что именно. Череп просвечивал. В глазницах парно отражалась тускло освещающая подвал лампа.
— Каменюка, — сказал господин Рубинчик, — или стекляшка. У, зараза! — он погрозил черепу тростью. Череп равнодушно таращился на него.
— Может, это какая драгоценность, — робко выказал надежду грозный папа Сатырос, — сокровище? Ишь вылупился, падлюка.
— С тех пор как эти аферисты, братья Гохманы, подделали корону скифских царей, в мире не осталось ничего драгоценного, — холодно сказал господин Рубинчик, играя тростью. — Где товар, гадюка подколодная?
Он коротко ударил папу Сатыроса тростью по мешковатым штанам. Папа охнул и скорчился. Трость у господина Рубинчика изнутри была залита свинцом, это все знали.
— Сьома, приступай, — сказал господин Рубинчик.
Здоровенный Сёма скрутил папе локти, и господин Рубинчик еще раз ударил его тростью, на сей раз с размаху.
— Богородицей клянусь, — сказал папа Сатырос, выплевывая кровь, — Зоей своей клянусь, чтоб ей пусто было, шалаве — что взяли, то взяли… — папа Сатырос упал на колени, — клянусь, не я! На фелуке подменили. Вы Али спросите, компаньона вашего, сами спросите, пока я не вырвал его бесстыжие глаза!
Рубинчик задумался.
— Встаньте, папа, — сказал он наконец, — я справедливый человек. Я, папа, еще на горшок, извиняюсь, ходил, а вы уже бороздили Черное море взад и вперед. И никогда за вами, папа, ничего такого не числилось. Вы же были честнейшим человеком, папа.
— Ну! — сказал Сатырос, вытирая юшку рукавом.
— Но я и Али хорошо знаю, папа. И у него репутация честнейшего человека. И потому я логически предполагаю, что могло иметь место недоразумение. Сьома, ступай на поштамт и пошли до Стамбула у контору молнию-телеграмму. Припиши: ожидаем ответ с баснословным нетерпением. А вы, папа, пока оставайтесь тут. Будьте гостем.
Сатырос, кряхтя, отошел в угол и присел на ящик с колониальным товаром.
Сёма направился к двери в подвал и вдруг замер, вытянув шею. По лестнице грохотали сапоги.
— Кажется, шухер, господин Рубинчик, — печально сказал Сёма.
Деловитые молодые люди в скрипучих портупеях и блестящих хромовых сапогах расхаживали по складу. Серьезные люди в яловых сапогах стояли у входа. Господин Рубинчик, забывшись, похлопал себя тростью по ноге и скривился.
— Чем обязан такому приятному визиту, что сам товарищ оперуполномоченный Орлов сделал мне честь? — вежливо осведомился он.
Молодой оперуполномоченный товарищ Орлов, кудрявый, очень серьезный, в круглых очках, в новенькой портупее, сухо сказал:
— Поступил сигнал, гражданин Рубинчик. О контрабандной партии товара, хранящейся у вас на складе. Предлагаю проявить сознательность и не задерживать товарищей.
— Так я что, — сказал Рубинчик, — я завсегда. Прошу, будьте как дома.
Он тоже сел на ящик с колониальным товаром и скрестил руки.
— Стоять! — негромко сказал товарищ Орлов.
Рубинчик встал. Сатыроса никто не просил, но он на всякий случай тоже встал. Красноармеец ткнул штыком в ящик.
— Чай, — пояснил господин Рубинчик вежливо, — цейлонский чай.
— Накладные есть?
— Все есть, — обрадовался господин Рубинчик. — Сьома, сходи попроси за накладные.
— Сходи с ним, — велел Орлов красноармейцу. — А вот это?
— Оливки из Батума.
— Где разгружался?
— В Карантинной бухте две недели назад. Зря вы это, вот ей-богу зря, товарищ Орлов. Чисто все.
— Бога нет, — машинально ответил Орлов. — А в бочках?
— В этих — семечковое масло, с маслодавильни на Ближних Мельницах, ну вы знаете, кооперативная трудовая артель «Красный маслодел». А в этих — оливковое, тоже из Батума. Тоже кооперативная трудовая артель. У нас все по закону, товарищ Орлов.
«Интересно, какая же сука стукнула», — думал про себя господин Рубинчик. Второй красноармеец вспорол тюк, оттуда, шурша, высыпался чай.
— Батумский, — скучно сказал господин Рубинчик, — третий сорт. Трудовая артель «Красный чай». Сейчас Сьома принесет накладные, дай ему бог здоровья.
— А товар? — оперуполномоченный товарищ Орлов не зря слыл человеком упертым.
— Так ищите, бога ради, — широко развел руками господин Рубинчик, — я что, я разве против?
— Вот, товарищ оперуполномоченный, гляньте-ка сюды, — сказал красноармеец, выгребая книжный хлам, завернутый в парчу и пурпур. Хрустальный череп поглядел на Орлова холодными глазницами.
— Прятал? — спросил Орлов укоризненно.
— Никоим образом, — равнодушно ответил господин Рубинчик, — так валялось.
— Предметы культа?
— Вы, товарищ Орлов, умеете читать на этом языке? Вот и я не умею. Какой же это предмет культа? Предмет культа — это опиум для народа, а этого ни один народ не поймет.
Товарищ Орлов нагнулся и пролистал фолиант. Поднялось облачко красноватой пыли. Товарищ Орлов чихнул.
— Картинки тут, — сказал он неопределенно, — люди и мифические животные.
— Дядя у меня умер в Виннице, — пояснил Рубинчик, — большой чудак был. Древности всякие собирал. Никому не нужный хлам. Но дядя же. Дорого как память. Я из Винницы вывез, сюда свалил. Не домой же везти такое? У супруги мигрень.
— И это? — спросил оперуполномоченный, трогая череп сапогом. Череп неожиданно щелкнул хрустальной челюстью. Оперуполномоченный отдернул ногу и, чтобы показать, что он совсем даже не испугался, тронул череп еще раз. Череп чуть подвинулся вместе с куском пурпурной ткани, на которой лежал.
— На столе у него стояло, у дяди, — тут же сказал Рубинчик, — мементо мори, так сказать.
— Большой чудак был ваш дядя, — признал оперуполномоченный Орлов.
— Это уж точно, — радостно согласился Рубинчик, — такой чудак, что иногда в одних кальсонах на улицу выходил, гм…
Сверху притопал красноармеец с кипой накладных и амбарными книгами.
— Я это изымаю, — сказал оперуполномоченный Орлов, — временно. И предметы культа конфискую.
— На здоровье, — равнодушно сказал Рубинчик.
— А что это у вас товарищ грек с разбитым лицом тут имеет место? — спросил Орлов, ища, к чему бы придраться.
— Помогал передвигать ящики, — сказал Сатырос, — вот… упал неосмотрительно.
— Нарушаете технику безопасности? — с надеждой спросил Орлов.
— За нарушение техники безопасности готов ответить, — радостно воскликнул Рубинчик, — кстати, маме привет передавайте.
Орлов развернулся всем своим перетянутым в рюмочку телом и, поскрипывая портупеей, вышел. Красноармейцы двинулись за ним.
— Уф! — сказал Рубинчик и вытер лоб.
— И не говорите, господин Рубинчик, — согласился папа Сатырос.
— Вы, папа, счастливец, — сказал Рубинчик тихо, покачавшись с носка на пятку и глядя на груду рухляди. — Вы, папа, можете идти. Поцелуйте от меня вашу прелестную Зою. И, кстати, имейте в виду и передайте всем: господин Рубинчик найдет ту сволочь, которая заложила господина Рубинчика, и сволочь этому не обрадуется.
Папа Сатырос коротко склонил голову и тихо вышел. На лестнице он перекрестился.
Директор Археологического музея профессор Отто Штильмарк очень нервничал. А вы бы не нервничали, если бы вас ни с того, ни с сего вызвали в Губчека?
Тем более новая власть совершенно ничего не понимала в археологии. Новая власть смотрела на драгоценные скифские золотые гривны просто как на источник желтого металла, благодаря которому можно было прикупить оборудование для литейного цеха.
Поэтому, когда выяснилось, в чем дело, он облегченно вздохнул. В душе, конечно.
— Откуда вы это взяли? — удивился он.
— Конфисковал у одного элемента, — сказал Орлов.
— Вы хотели бы, чтобы я атрибутировал этот предмет? — спросил он, разглядывая череп. — Боюсь, тут будут проблемы.
Он взял лупу и внимательно обнюхал череп.
— Это драгоценный камень? — нетерпеливо спросил Орлов.
— Господь с вами. Это кварц. Цельный кристалл кварца. Просто очень большой. Впрочем, тут есть свои хитрости. Оптические оси…
— То есть эта штука ничего не стоит? — разочарованно спросил Орлов.
Он очень надеялся, что череп окажется драгоценным, например, бриллиантовым, и что он, товарищ Орлов, сможет лично подарить такую замечательную вещь товарищу Ленину, а заодно и отчитаться о замечательных успехах вверенного ему подразделения Губчека.
— Не скажите, — возразил Штильмарк, — когда речь идет о древности, дело не в материале. Венера Милосская бесценна, а ведь мрамором, подобным тому, из которого она изваяна, выложена лестница доходного дома Поплавского. А золотая тиара царя Сайтафарна, пока считалась настоящей, была куплена Лувром за 200 тысяч франков. Как вы думаете, сколько она стала стоить, когда выяснилось, что она изготовлена в Одессе?
— Хорошо, — терпеливо сказал Орлов, — тогда эта штука, по крайней мере, древняя?
— А вот этого я не знаю, — сказал Штильмарк, — сам Лувр и то ошибался.
Он вновь вооружился лупой. В глазницах черепа блестел, отражаясь, свет фонарей, заглядывающих в окно кабинета товарища Орлова.
— Можно, конечно, позвать анатома, — задумчиво сказал Штильмарк, — например, всеми уважаемого профессора Серебро. Но я уверен, он скажет то же, что и я — анатомия соблюдена до малейшей косточки. Вы только посмотрите, даже видны места прикрепления мышц. По крайней мере, их можно нащупать. Впрочем, от наших умельцев всего можно ожидать. Миша Винницкий, ну вы знаете…
— Мишка Япончик?
— Да. Так он в свое время купил у Гохманов саркофаг. Маленький такой. Я бы сказал, игрушечный. Золотой саркофаг украшен сценками, символизирующими различные этапы человеческой жизни, а в нем — десятисантиметровый скелет из ста шестидесяти семи золотых костей. Анатомия как у натурального скелета, заметьте. Изя Рухомовский десять лет работал над этим саркофагом.
— И что это значит? — спросил Орлов.
— В Одессе могут сделать все, что угодно. Но именно этот предмет трудновато было бы продать. Он ведь не копирует нечто известное. Он совершенно уникален. И если бы он действительно был древним, я бы сказал, что он вообще не отсюда. Новый свет, вероятно. С тех пор как в одиннадцатом году Хайрем Вингхем открыл затерянный город инков, стало ясно, что эта цивилизация нам принесет еще много сюрпризов. А это что у вас?
— Манускрипт, — сказал Орлов, — тоже конфискован у данного элемента. Утверждает, что получил его в наследство от дяди.
— В таком случае, — сказал Штильмарк, разглядывая пергамент, — этот его дядя большой оригинал.
— Этот элемент так и сказал. А что?
— Это шагрень. Очень хорошей выделки. Знаете, что такое шагрень?
— Кожа такая, — сказал Орлов.
— Кожа горного осла. Онагра. Но пергамент свежий. И письмена свежие.
— То есть?
— Дядю было очень легко обмануть. Он купил совершенно новый пергамент с какой-то тарабарщиной.
— А я думал, это иероглифы. Древнеегипетские, — сказал Орлов, который в детстве увлекался книжками про дальние загадочные страны и причудливую смерть расхитителей гробниц.
— Это похоже на древнеегипетские иероглифы, — сказал профессор Штильмарк, — но такой письменности не существует. Это подделка. Причем совсем новая. А если это подделка, надо полагать, что и череп — подделка.
— Там есть и старые книги, — задумчиво произнес Орлов, — точно старые… они крошились в пальцах. И пахло от них мышами.
— Теоретически, может быть, что среди подделок попадется истинная жемчужина, — сказал профессор Штильмарк, — но такие случаи исключительно редки. Хотя среди коллекционеров ходят легенды.
— Значит, этот череп не представляет никакой ценности? — разочарованно спросил Орлов.
— Исключительно художественную, — сказал профессор Штильмарк, прекрасно разбиравшийся в культуре Причерноморья. — Можете оставить его себе в качестве пресс-папье.
И он в терпеливой надежде поглядел на оперуполномоченного Орлова, ожидая, когда тот подпишет ему пропуск и можно будет уйти из этого ужасного места.
Близилось утро, и оперуполномоченный товарищ Орлов у себя в кабинете устало протер воспаленные глаза.
Взять банду Гриши Маленького, совершившего исключительно наглый налет на госзавод, было никак не возможно. Настолько никак не возможно, что товарищ Орлов сильно подозревал: в стройных рядах его родного учреждения наличествует предатель. А как бы иначе Гриша с сообщниками проникли за проходную завода?
Надо сказать, Гриша Маленький был личностью легендарной, последней легендарной личностью в пышном списке одесских бандитов.
Во-первых, он никого не убивал. Даже во время знаменитого налета на мыловаренный завод. Даже во время не менее знаменитого налета на табачную фабрику. Он просто под видом сотрудника Губчека проник на территорию завода (и, как сильно опасался товарищ Орлов, его удостоверение было баснословно настоящим), профессионально обезоружил охрану и запер караульных и рабочих в подсобном помещении. Попутное изнасилование гражданки Розенберг было, так сказать, единственной производственной травмой.
Во-вторых, Гриша Маленький обладал исключительными организаторскими способностями; его крепко сколоченная банда с разветвленной сетью осведомителей, насчитывающая свыше полусотни человек народу, была уже даже и не банда, а организация. А столь хорошо законспирированную организацию с разветвленной сетью осведомителей Губчека у себя под носом вряд ли могло терпеть.
И если бы этот проклятый Гриша ограбил хотя бы того же господина Рубинчика! Тогда бы его дерзкий налет можно было посчитать орудием народного гнева. Но у него поднялась рука на народное имущество.
Над товарищем Орловым висел дамоклов меч инспекции из Москвы.
Товарищ Орлов отчаянно потер лоб, потом глаза — под веками вспыхнули два красных пятна.
«Давно я дома не был, вот что», — подумал оперуполномоченный.
Ему хотелось прийти домой, рухнуть на спартанскую койку и заснуть.
Он открыл глаза. Красные пятна не исчезли.
Они как бы плыли в полумраке комнаты, за окном которой шелестела сухими ветками пыльная акация.
Оперуполномоченный товарищ Орлов заморгал и вновь открыл глаза. Красные огоньки парили в темноте перед чем-то смутным, полупрозрачным, и потребовалось еще какое-то время, прежде чем товарищ Орлов сообразил: огоньки испускает конфискованный у Рубинчика предмет культа. На самом деле, как с облегчением понял несуеверный товарищ Орлов, объяснялось все просто: отполированные до полной прозрачности глазницы черепа действовали как линзы, в результате чего фокусировали лучи света на некоем расстоянии от себя. То, что тусклый свет лампы с зеленым абажуром почему-то становился в глазницах черепа красным, вероятно, зависело от свойств хрусталя. Вернее, кварца, поправил себя товарищ Орлов, этот спец сказал, что череп изготовлен из кварца.
«Надо же!» — подумал товарищ Орлов.
Он осторожно взял обеими руками череп, чтобы получше его рассмотреть; при этом подвижная нижняя челюсть отвалилась, а затем вновь плавно захлопнулась, потом повторила процедуру уже с меньшей амплитудой, в результате чего казалось, что череп беззвучно разговаривает с ним, с товарищем оперуполномоченным Орловым. Глазницы, ловя смутные тени и свет лампы, плыли в хрустальной мути, то проваливаясь в глубь черепной коробки, то как бы выплывая из нее и повисая в воздухе, чуть позади двух красных огоньков.
Какое-то облачко мути прошло в голове у товарища Орлова, но тут же голова стала ясной и холодной, он осторожно поставил череп на стол, зачем-то улыбнулся ему и погрозил пальцем, вызвал дежурного и дал ему кое-какие распоряжения, потом надел кожанку, погасил лампу и вышел в предрассветный туман.
Ранним вечером того же дня у товарища Орлова состоялось деловое свидание с мадам Цилей Лавандер. Свидание проходило в маленьком деловом кабинете мадам Лавандер, на втором этаже ее особняка, который мадам Лавандер сохранила за собой, поскольку у нее были хорошие связи среди нужных людей.
— Гражданка Лавандер, — сказал товарищ Орлов, — я пришел к вам с деловым предложением.
— Очень мило с вашей стороны, но я отошла от дел, — сказала мадам Лавандер, запахивая китайский шелковый халат.
— От этого делового предложения вы не сможете отказаться, — сказал оперуполномоченный, — сегодня днем арестован и препровожден в тюремную камеру ваш сын Додик.
Мадам Лавандер побледнела и подняла на оперуполномоченного большие глаза.
— В чем его обвиняют? — спросила она коротко.
— Патруль остановил его с целью проверки документов, однако он оказал сопротивление при задержании. А когда его доставили в Губчека, один из наших сотрудников, случайно встретив его в коридоре, опознал его как участника контрреволюционного заговора. Наш сотрудник был внедренным агентом, посещавшим по долгу революционной службы ту же конспиративную квартиру.
— Ясно, — сказала мадам Лавандер и плотнее стянула у горла ворот халата, расшитого цветами и птицами, — что вам от меня надо?
— Исключительно добровольная помощь, — сказал оперуполномоченный товарищ Орлов и изложил суть дела.
— Я вам не верю, — прошептала мадам Лавандер, — Додика все равно расстреляют. С таким приговором из тюрьмы не выходят.
— У вас нет выхода, гражданка, — сказал Орлов, — вы же мать, а не волчица. Потом, я даю вам свое честное революционное слово.
Мадам Лавандер какое-то время молчала, глядя на свои белые ухоженные руки, не знавшие стирки и кухни. Потом сказала:
— Хорошо. Я знаю, вы все равно меня обманете, но я не хочу потом остаток жизни себя упрекать, что не сделала ничего для спасения Додика. Я сделаю все, что вы скажете. Все. Я имею в виду, буквально все.
Поздним вечером того же дня маруха Гриши Маленького, Маня Пластомак, состоявшая с ним в давней ссоре и публично утверждавшая, что знать не хочет этого пошляка и грубияна, помирилась со своим дружком. По-человечески это было понятно: какая женщина откажется от мужчины, неделю назад взявшего товару на четыреста миллионов рублей? Тем же вечером знаменитая Верка с Молдаванки обратила свое благосклонное внимание на Сёму Зехцера, напарника и душевного друга Гриши Маленького.
Оба были арестованы в постелях своих марух два дня спустя, во время ночной облавы на Молдаванке. Всего в ходе операции было арестовано восемьдесят два человека.
Додика Лавандера, бывшего гимназиста Первой Одесской гимназии, семнадцати лет, беспартийного, расстреляли по приговору Чрезвычайной судебной тройки во дворе тюрьмы неделю спустя.
Еще через два дня путем опроса личного состава товарищу Орлову удалось установить личность загадочного наводчика. Им оказался уполномоченный информотдела ЧК Женскер. Женскер в том числе сознался, что снабжал грабителей чекистскими документами. Пишбарышни в ЧК шепотом рассказывали друг другу, что сознался товарищ Женскер, после того как пробыл в кабинете у товарища Орлова не менее часа, глядя в глаза страшному хрустальному черепу, служившему прессом для бумаг. Череп, говорили суеверные девушки, как бы смотрит на каждого, кто входит в кабинет товарища Орлова, и входящий как бы прикипает, не в силах отвести взгляда от пустых глазниц, в которых светятся красные огоньки. И поэтому товарищ Орлов знает о своих сотрудниках все-все-все… Впрочем, известно, что пишбарышни умом не отличаются.
Пана Сатырос сидел под шелковицей.
Зоя вынесла бутылку сливовицы, поставила на стол свежевыпеченный хлеб и брынзу и ушла в дом. Папа Сатырос был доволен.
Дом белел свежей чуть голубоватой известкой, пчелы гудели в цветах, а в море шла кефаль. Внуки росли, а Ставрос собрался наконец жениться. Даже этот никчемный Янис остепенился и стал помощником счетовода в артели «Красный маслодел».
Рядом с папой свежий воздух вкушал отец Христофор, священник местной греческой церкви, а заодно — сосед и старый знакомый.
— Устала земля, — сказал отец Христофор, наблюдая за тем, как в небесах парит, трепеща крыльями, жаворонок, — покоя хочет. Цвести хочет. Вон, Зойка твоя цветет, а земля чем хуже?
— И когда они все уймутся? — мрачно спросил сам себя папа Сатырос, скручивая цигарку. — Господина Рубинчика в расход пустили. Прижал его все-таки товарищ оперуполномоченный Орлов.
— Да, лютует товарищ оперуполномоченный Орлов, — покачал головой отец Христофор, — кровавыми слезами умывается Одесса. А был такой хороший, вежливый мальчик. Впрочем, слышал я, его в Москву вызывают. Уж очень хорошо он, товарищ Орлов, себя выказал.
— Ну, Одесса таки вздохнет спокойней, — философски заметил папа Сатырос. — И что оно такое с людьми творится, а, отец Христофор? Или Господь нас совсем оставил в милости своей? Вот чудо бы какое, а? Чтобы все успокоились и занялись своей жизнью, а за то, чтобы строить новый мир, как-то и не думали.
— Чудо, говоришь? — отец Христофор задумался и, задумавшись, выпил еще одну стопку. — Была у меня тут интересная и поучительная беседа с рабби Нахманом, знаешь рабби Нахмана?
— Со Слободки? — спросил папа Сатырос. — Кто ж не знает рабби Нахмана со Слободки. А все ж странно, что вы с ним в таких душевных отношениях.
— Бог один, — сказал отец Христофор, крякнув и выпив стопочку сливовицы, — это мы, дураки, разные. Так вот, рабби Нахман как-то сказал, что, согласно иудейскому вероучению, миров как бы множество.
— Знаю, — сказал папа Сатырос, — звезды и планеты. Зойка лекцию слушала в планетарии, приезжал профессор Карасев и рассказывал, что на Луне тоже люди живут.
— Нет, рабби Нахман про звезды ничего не говорил. Он говорил, что миры — это как бы сосуды, вложенные друг в друга. И кровь, брат мой Сатырос, действует на эти сосуды со страшной разрушительной силой. Особенно, когда этой крови много льется. Как сейчас, чуешь? Оттого на войне чудес всегда много. Только толку от них никакого.
— Как это может быть — чудеса и без толку, — лениво поинтересовался папа Сатырос, наблюдая, как дым от самокрутки растворяется в синем небе. — Ежели там ангелы живут, в этих сферах?
— А вот представь себе, брат Сатырос, попадает к нам из такой сферы светлый ангел, и только-только он успел оглядеться, как его хватают, как нежелательного элемента, и ставят к стенке! А что еще в наше время эти безбожники могут сделать с ангелом?
— Жалко, — сказал папа Сатырос.
— Или того хуже. Там, за стенкой — зло. А мы его — сюда. А, брат Сатырос?
Сатырос посмотрел на пустую стопку и налил себе сливовицы.
— Рабби Нахман завсегда был умным человеком, — сказал он, — он знает грамоте и читает старые книги. Так и я за это думал. Вот, возьми контрабанду. Пока есть люди, всегда есть контрабанда, так? Скажем, где-то есть зло, ну такое зло, аж небо над ним чернеет, его обложили сторожевыми катерами, патрули там, а кто-то под носом у сторожевых катеров шныряет, ну, вроде «Ласточки»… Потому что зло таки имеет спрос, в чем мы имели неоднократный случай убедиться.
— И что?
— И в один печальный момент сосуды соприкоснулись. И — раз! — к нам попала их контрабанда, причем такая баснословная пакость, отец Христо, такая пакость, что она всем нам еще отольется кровавыми слезами. Вот попомните мои слова через пару лет.
Он сдвинул густые черные брови.
«Интересно, что эти уроды будут делать с тем товаром, который должны были принять мы?» — спросил он сам себя.
За окном поезда мелькали припорошенные мелким серым дождиком березняки и ельники, осыпанные черно-белым конфетти сорок, печальные водокачки да товарняки. Товарищ оперуполномоченный Орлов лежал на узкой спартанской койке, привычной ему, поскольку ничем она не отличалась от узкой спартанской кровати у него дома.
Он развернул нехитрый набор командированного — житный хлеб и сало, завернутое в серую тряпицу. Товарищ Орлов был неприхотлив в еде да и в жизни был неприхотлив, он давно забыл, как люди радуются жизни и веселятся просто так, потому что делал только то, что было полезно и нужно стране и мировой революции.
Потом он нагнулся над старым порыжевшим саквояжем и осторожно достал двумя ладонями хрустальный купол, тускло отблескивающий в сером свете средней полосы.
— Что это у вас, товарищ? — с испугом спросил молоденький курсант, его сосед.
— Раритет, — с нежностью, неожиданной для себя, сказал товарищ Орлов, надежно размещая череп на купейном столике. — Такая, понимаешь, штука… Очень интересная и занимательная штука. Это, можно сказать, мой дружок…
Курсантик осторожно покосился на товарища Орлова и ничего не сказал. Он был молод, но успел навидаться всякого разного, потому что в смутное время с людьми делаются смутные вещи.
— И если мне выпала честь работать бок о бок с самим товарищем Дзержинским, — мечтательно сказал товарищ оперуполномоченный Орлов, и его лицо озарилось слабой улыбкой, — то как же я могу оставить своего друга в Одессе? Я никак не могу оставить своего друга в Одессе, товарищ курсант. Я надеюсь, на Лубянке есть музей раритетов. На Лубянке просто обязан быть музей раритетов. И мне кажется, этот экземпляр для него подойдет.
Он на миг прикрыл глаза, и ему в который раз нарисовалась картина, как худой и высокий товарищ Дзержинский сидит, подперев щеку рукой, и смотрит на череп, и череп рассказывает ему о чем-то замечательном, важном и интересном, как он рассказывал ему, товарищу Орлову. Товарищу Орлову было жалко отдавать череп, но ради революции надо жертвовать всем, что любишь, верно ведь?
Поезд покачивался, и молоденький курсантик в ужасе забился в дальний угол койки, не в силах отвести глаз от красноватых огоньков в прозрачных гладких глазницах, и даже когда он закрывал глаза, эти два огонька парили под его веками, как два медленных алых мотылька. А товарищ оперуполномоченный Орлов, подложив ладонь под щеку, спал, как ребенок, и улыбался во сне.
Владимир Покровский
Хор Трубецкого
Во Дворец культуры города Ольховцево (это такой крупный центр с населением в 94 тысячи жителей) пришел человек. Он назвался И.О.Глухоуховым и, предъявив подтверждающий документ, сообщил, что является представителем Хора Трубецкого (с ударением на «бе»). Сообщил также, что сам хор находится поблизости и хотел бы выступить сегодня вечером с единственным эксклюзивным концертом на сцене Дворца.
— Трубецкого? — переспросил директор Дворца Николай Дмитриевич Посадский, к которому пришел И.О.Глухоухов. — Самого Михаила Трубецкого?
И.О.Глухоухов замялся и добавил только, что они здесь проездом, случайно и всего на один день, но запасные афиши у них с собой есть. Николай Дмитриевич было засомневался — с чего бы это знаменитому на весь мир хору устраивать концерт пусть и в крупном центре, но все-таки не только не областного, но даже и не районного значения. Да и вид у представителя назвать соответствующим было трудно, какой-то помятый был у него вид, а глаза смотрели затравленно. Но тут в дело вступила дама, сопровождающая Глухоухова, крупная, напористая такая, напоминающая видом одну из знаменитых характерных киноактрис советского периода Фаину Георгиевну Раневскую — собственно, за Фаину Георгиевну директор ее и принял.
— А вы не сомневайтеся! — сказала она угрожающе. — Это вам хор самого Трубецкого, из самой Москвы приехали, вас потом на руках носить будут за такой хор. Вы только насчет билетов распорядитеся, и зала чтобы была. И гостиница. А насчет остального, так оно у нас все с собой.
— Э-э-э… — сказал директор.
— Сообщ… помощница моя, — объяснил Глухоухов, махнув рукой в сторону дамы. — Фаина… м-м… Глухоухова.
— От так! — радостно подтвердила дама.
— Супружница ваша? — спросил директор и ехидно при этом хихикнул, хотя, по совести, тут и представить себе невозможно, с чего бы это ему ехидничать по вопросам семьи и брака — так потом себе и не представил никто.
— Фея моя, — без особой радости поправил директора Глухоухов, чем еще больше укрепил того в убеждении, что супружница.
Тут надо бы кое-что объяснить. Знаменитый на весь мир Хор Михаила Турецкого в данном рассказе не фигурирует, а вся путаница произошла из-за некоторой отсталости Николая Дмитриевича в вопросах культуры. Он, как это у нас, деятелей культуры, порой случается, что-то где-то слышал, но уже забыл, что, где и как оно правильно называется. Может быть, ничего такого и не случилось бы, если бы в названии хора, представителем которого назвался И.О.Глухоухов, не было ударения на слог «бе».
Правда, сам Николай Дмитриевич был другого о себе мнения в смысле тезиса об отсталости. Он считал себя человеком искусства, личностью возвышенной и непозволительно угнетенной; беспомощность свою в вопросах практических считал недостатком, но из тех недостатков, что представляют собой продолжение наших достоинств; достоинств за собой числил немеренно; в вопросах же искусств позиционировал себя главным городским экспертом, высшей в этом деле инстанцией; был без одного уха.
Если б не это ухо, то фигура вышла бы абсолютно стандартная, что для центра, что для провинции — просто даже неинтересная. Но ухо меняло всё.
Оставим за пределами рассказа трагическую историю потери этого отнюдь не главного органа головы, а также и то, каким образом достался Николаю Дмитриевичу роскошный протез, прикрепляемый к культе тремя золотыми застежками, какими, например, к мочкам крепятся серьги. Так или иначе, все о протезе знали и во Дворец культуры ходили иногда только затем, чтоб издали на изделие посмотреть. Николай Дмитриевич таким просмотрам не сопротивлялся и даже сам выходил во время мероприятий в фойе, вроде чтоб прогуляться, проверить, все ли в порядке, а на самом деле, чтоб и себя показать тоже. Протез у него, к сожалению, был, что называется, с чужой головы и потому чуть больше другого, живого уха, но это совсем не удручало Николая Дмитриевича, даже наоборот.
Если кто-нибудь иногда нечаянно касался директорского протеза, то всегда поражался твердости и холодности предмета, хотя на самом деле ничего поразительного тут нет; впрочем, Николай Дмитриевич всеми силами старался подобных прикосновений избегать. Показать протез, считал он, это часть рекламной кампании, всегда очень удачной, а вот позволить дотронуться — тут уж извините, тут уже вторжение на частную территорию.
А когда вечерами, уже в халате, снимал он тот протез, стоя в одиночестве перед зеркалом, то воображал себя этаким Ван Гогом. И находил сходство удивительное, хотя сходства на самом деле не было никакого, потому что у Ван Гога отсутствовало левое ухо, а у Николая Дмитриевича — правое. Зеркало обманывало его.
Ухо ухом, а в Хор Трубецкого он поверил. Главным образом, из-за Фаины — такая великая актриса, а только в помощницах. Подписал быстренько контракт, ухватил трубочку афиш формата А3, галантно исполненных на цветном принтере, и, жарко попрощавшись с семейством Глухоуховых, побежал раздавать указания. Уже через десять минут, на ходу дожевывая бутерброды, к четырем информационным стендам Дворца злобно бежали «девочки» прикнопливать объявления.
Весть, как водится, первым делом разнеслась среди городской элиты и близкого окружения работников Дворца. Когда поняли, что есть разница между хорами Турецкого и Трубецкого, ажиотаж уже набрал силу, тем более что большинству было все равно, что тот, что этот — ни того, ни другого они не знали, а вот не поприсутствовать на единственном выступлении столичного коллектива, на какой бы там слог он ни ударялся, было нельзя. Билеты раскупали пачками, и вскоре их не осталось.
Несколько странным было то, что до самого начала концерта никто хористов Трубецкого так и не увидел — даже в гостинице их зарегистрировала списком Фаина Глухоухова, за них же и расписалась. И.О.Глухоухов — как выяснилось, Иван Оскарович — затравленно ускакал в свой номер, там заперся и больше в событиях не участвовал.
Уже и фойе заполнилось, уже и Николай Дмитриевич начал исполнять по нему свой привычный пиаровский променад, уже даже и первый звонок раздался, а хористов Трубецкого все не было. Была, правда, Фаина, помощница Глухоухова (оказалась она вовсе не Георгиевна, а просто Фаина; директор, узнав об этом, даже подумал: «А не напутал ли я с отчеством, не оскорбил ли ее?»), причем была, казалось, во всех точках Дворца одновременно — о такой человеческой активности Николай Дмитриевич даже не подозревал.
Она вытеснила и заменила всех — самого директора, отсутствующего зама, радиста и по совместительству киномеханика Федю Лымаря, рабочего сцены Гришу Мишина, давала указания билетерам, уборщице и вахтерше, проверяла также систему водоснабжения и приказала вызвать сантехника (тот, впрочем, не появился), что-то такое самолично выколдовывала на сцене и грозно указывала осветителю (тому же Грише Мишину), как правильно устанавливать осветительные приборы.
Это Николая Дмитриевича пугало.
— Ой, я вас умоляю, — дудела она ему в ухо скороговоркой, — не беспокойтеся вы так сильно! Будут, будут и будут, а и как же ж им не быть, куда ж им еще же ж! Я же ведь здесь же! А? Это у них бренд такой — таинственность, вы шо-нибудь понимаете насчет бренда?
После первого звонка таинственные хористы все-таки появились. Откуда они взялись, непонятно, только прошли в свою раздевалку через черный ход, тринадцать молчаливых фигур, по самые глаза закутанные в плащи, и в раздевалке — вот что удивительно — заперлись.
То, что их было тринадцать, директора неприятно смутило, даже, можно сказать, испугало, хотя: а) он никогда суеверным не был и б) сам лично договаривался с директрисой гостиницы Анной Степановной о пятнадцати номерах для артистов, причем два из них предназначались для Глухоуховых. И забыть об этом он никак не мог, потому что это был незабываемый разговор. Так что вполне мог подсчитать заранее.
К третьему звонку (его тоже дала Фаина) фойе опустело, а зал забился до отказа, проходы вообще исчезли под приставными стульями, просто счастье, что этого не видела пожарная служба!
Как только отзвенело, зал погрузился в полную темноту. Когда спустя минуту она немного рассеялась, все тринадцать хористов в одинаковых костюмах-тройках уже стояли в ряд перед рампой. Николай Дмитриевич, который, конечно же, протиснулся в зал со своим искусственным ухом, недовольно поморщился — не понравились ему на сцене хористы. Слишком одинаковые, слишком грубоватые видом, слишком нестоличные, слишком… как бы это сказать… нетеатральные, уж в этом-то Николай Дмитриевич разбирался — руки на животах сложены, головы горестно наклонены вправо, глаза полузакрыты, пятки вместе, носки врозь.
А уж когда они запели, тут у Николая Дмитриевича и вообще «сердце захолонуло» в нехорошем предчувствии.
Слов нет, пели они слажено, даже, можно сказать, профессионально пели, и мелодию хорошо держали, да и тематика была выбрана такая, что не придерешься — что-то русско-народное, с мотивом, очень похожим на «я за то люблю Ивана, что головушка кудрява», правда, совсем другие слова. Но это и все, что можно было сказать хоть сколько-нибудь хорошего об их пении.
Все остальное было просто никуда, если не еще хуже.
Пели они негромко, правда, так, что слышно было отовсюду, если прислушаться, и почти все слова были понятны; но ужасно, просто ужасающе монотонно и заунывно. И потом, мужской хор есть набор голосов, которые тональностью все-таки отличаются друг от друга — басов, теноров, баритонов, не знаю, каких еще, можно справиться в Интернете. У этих же голоса были одинаковы, что-то такое низкое, грубоватое, немного не добирающее до баса.
Текст был несколько разухабист, даже скабрезен местами, но это, кажется, дозволительно в старинном и современном русском фольклоре. Кто-то кого-то упрашивал, то ли женщина мужчину, то ли наоборот. Припев был:
Особую скабрезность песне придавала некоторая такая классичность, достойность, даже высокодуховность исполнения, так что сразу и не поймешь, о чем это они.
В промежутках между упрашиваниями шел рассказ о местных событиях, сопровождающих жизнь героев песни — о строительстве частного дома, о воровстве, о злобных происках какого-то Парамонова, которого никак не могли найти, еще о чем-то, и все это урывками, осколками, в намеках, невнятицах, будто слушателю и без объяснений все должно быть понятно. Впрочем, похоже, так оно и было, потому что события, о которых рассказывалось в песне, если и не напоминали события, происходящие в Ольховцеве, то были странным образом близки к ним.
В целом текст песни (то, что Николаю Дмитриевичу удалось разобрать) был абсурдистским, то есть полным абсурдных словосочетаний, не тех вопросов, на которые давались не те ответы, и так далее. Словом, вполне позволительная дань почти вековой моде, которая держится по сей день и уже превратилась в классику. И, как это иногда случается в абсурдистских текстах, некоторые из оборотов оказывались настолько пронзительны, настолько, извините за тавтологию, проникновенны, что сразу же затмевали и оправдывали собой всю глупость, пошлость и несуразность песни — Николай Дмитриевич теперь уже и не уверен был, что она такая уж русско-народная.
Но даже и проникновенность не спасала — песня оказалась невероятно длинной, куплет за куплетом все пелась она и пелась, и не было ей конца. На миг Николаю Дмитриевичу показалось ужасное — что весь двухчасовой концерт Хора Трубецкого состоит только из одной этой песни, из этого унылого, отвратительного нытья. Иногда уже казалось, что сейчас все закончится — вот хористы затянули последнюю ноту, вот даже примолкли, паузу подержали… но не успевал раздаться первый аплодисмент, как пение начиналось снова. И снова этот мерзкий, липкий припев: «Раз давай, два давай, обязательно давай».
«Меня уволят! — панически думал Николай Дмитриевич, протискиваясь к выходу из зала. — Меня сотрут в порошок! Расстреляют и отрежут второе ухо! Как-кие там московские исполнители?! Жулики! Грузчики с молокозавода лучше споют. А я-то, я-то! Как я-то мог, с моим-то опытом, с моим тонким чувством прекрасного, не увидеть, что эти полубомжи Глухоуховы (фамилия-то какая г-гадкая!) ну никак не могут представлять столичную супергруппу! А Раневская-то, Раневская! Это же надо, великая актриса, а до чего опустилась!
По какой-то причине, вопреки очевидности, Николай Дмитриевич до сих пор был свято уверен, что странная дама Фаина и есть великая, несравненная Фаина Раневская. Наверное, если бы у него было время как следует призадуматься и сопоставить все известные факты — ну, хотя бы то, что дама была в возрасте «Муля, не нервируй меня», а на дворе-то даже другое тысячелетие, да и Раневской давно уже с нами нет, — то он бы в конце концов понял свою ошибку, догадался бы, что это не Фаина Георгиевна, что не так уж сильно они похожи и что даже сравнивать их — кощунство, с несравненными ведь не сравнивают. Но у него не было этого времени, у него совсем никакого времени не было.
В расстройстве протискиваясь к выходу, он даже не заметил, что до его протеза дважды или трижды дотронулись — существовало в Ольховцеве глупое суеверие о том, что дотронувшийся будет иметь в близком будущем денежную прибавку.
Пронесся сквозь фойе, укрылся в кабинете, сел за стол, заваленный какой-то бумажной дрянью, обеими руками вцепился в волосы, мучительно застонал. В голове гремел навек поселившийся там припев: «Раз давай, два давай, обязательно давай!»
И вдруг раздалось иное:
— Ну шо ж вы так волнуетеся, шо ж вы переживаете так, и совсем, посмотрите, на пустом месте, а? Ведь на вас же ж даже смотреть больно, как вы переживаете. Вот я — не ваша фэя, другого фэя, а все равно жалко.
Директор поднял голову и открыл глаза — перед ним стояла Фаина.
Она возникла сразу, из ниоткуда, из пространства, даже дверь не скрипнула, а ведь обычно скрипит. Вот не было ее, когда он стонал, а сейчас есть.
— А, — скучно сказал Николай Дмитриевич. — Это, конечно, вы. Убили и пришли посмотреть на холодный труп. Можете потрогать, он холодный. Вы меня уничтожили. Радуйтесь — убили человека, зато денежку получили, так оно всегда и бывает. Этот и-и-идол золотой, это ты дал золотой? Хе-хе.
— Между прочим, насчет того идола, — сказала Фаина, сосредоточенно роясь в подержанном ридикюле размером с дорожный чемодан. — Я же ж ведь для этого и пришла. Получите и распишитеся.
И шлепнула на стол толстенную пачку пятисотенных вместе с мятой ведомостью очень неумытого вида.
— Что это? — спросил Николай Дмитриевич, невыразительно глядя вбок.
— Как это что это? — возмутилась Фаина. — Это же ж ваша доля от выручки за представлэние, это же ж доля Дворца согласно подписанного вами контракта!
— А, — равнодушно сказал директор, подписывая ведомость, потому что даже в расстройстве чувств он прежде всего любил соблюдать порядок в делах (правда, не всегда соблюдал, сказывалась художественная натура). — Деньги, это хорошо. И Дворцу будут рояль, паркет, туалет, и мне на похороны останется. Раз давай, два давай, обязательно давай.
Вообще-то все должно было быть ровно наоборот, это директор должен был выдавать деньги Фаине и подсовывать ей бумажку на подпись, но он даже внимания не обратил на такое несоответствие, подписал с ходу, не до того было.
— Я не поняла! — грозно сказала ему Фаина. — Что ж это за второй раз вам давать? За что ж это? Я же ж один раз дала и всё — согласно контракта!
Тут она замолчала и пригляделась к Николаю Дмитриевичу. Лицо ее при этом выразило сложную… даже не гамму, а целую симфонию чувств, какая там гамма.
— От бедный, — с одним из этих чувств сказала она. — От же ж несчастный. Это же ж он про песню. Ему не понравилося исполнэние, так он думает, шо и всем оно не понравилося. Он еще не знает, шо был огромный успех, когда та песня закончилася. Шо люди оглушительно хлопали, а некоторые так даже и со стульев своих вставали.
— Хлопали, потому что закончилась наконец, а вставали, чтобы уйти, — обреченно сказал директор.
— Так никто же ж и не ушел, когда вторую песню начали делать! — возразила Фаина. — Снова уселись, сидят и во все уши слушают.
Пригляделась к протезу Николая Дмитриевича и добавила:
— Я, конечно, извиняюся.
— Да ладно, — сказал директор.
— А шо да ладно, шо да ладно? Вот вы сами пойдите и посмотрите, а то что же ж это я вам рассказываю, а вы ничего не видите, сидит тут один и стонет, и не знает, какой огромный ему успех.
Ведомый слабой искоркой затлевшей при этих словах надежды, Николай Дмитриевич пошел смотреть, Фаина тут же исчезла. Снова протиснулся в зал — действительно, никто не ушел, и действительно, исполняли новую песню.
Теперь это был не русско-народный, а скорее, показалось директору, шотландско-народный фольклор, что-то наподобие того, что сочинял в свое время великий шотландский бард Роберт Бернес, но только в совершенно неповторимом исполнении Хора Трубецкого. Та же заунывность, та же монотонность, то же невнятное перечисление каких-то местных событий, причем далеко не всегда шотландских, а, скорей уж, ольховцевских, но без скабрезностей, да и мелодия поприятнее, а припев так просто трогательный:
Поскольку домой дорогая Сюзи не собиралась, по крайней мере, до конца представления, Николай Дмитриевич решил этого момента не дожидаться. Ему вполне достаточно было того, что эта Сюзи напрочь выбила из головы противное «раз давай, два давай», не хватало еще, чтобы она сама там поселилась так же навек. Перед тем как начать выпрастываться из зала, он окинул глазами зрителей. И тут сердце у него снова «захолонуло».
Что-то было не так.
Слушали действительно «во все уши», но слушали мертво, так не слушают на концертах. Не двигались, не шуршали, не скрипели, не хрустели, не покашливали — словно бы вовсе спали. Однако и этого тоже не было — все глаза широко раскрыты, иногда даже и рты, но никакого выражения в глазах. Гипноз, что ли?
Искра надежды истлела. Нехорошие предчувствия вновь прочно заняли ее место. Они не стронулись с того места даже тогда, когда в кабинет к Николаю Дмитриевичу зашло Первое Лицо и — небывалый случай! — крепко пожало ему руку. По традиции Лицо всегда оставляло в его кабинете свои плащ и кепку, чтоб в гардеробе в очереди не стоять, но в качестве приветствия или прощания всегда только кивало. А тут вдруг пожало руку.
— Молодец, Митрич! — сказало оно ему. — Не ожидал. Так бы всегда. Мне тут сообщили, что это новое слово в хоровой музыке. Впервые в мире — и сразу в нашем городе, о как. Так что с меня причитается. — И ушел себе, под нос напевая: — Пойдем домой, моя дорогая Сюзи, пойдем домой!
Поздравления, восторги, междусобойчик маленький в узком кругу, некоторое удивление по тому поводу, что ребята из хора после концерта тут же куда-то смылись, даже и не попрощались ни с кем (Николай Дмитриевич тут же его развеял: «Сбрендили. Бренд у них такой — таинственность напускать»), разговоры насчет того, чтобы сообщить в областную прессу, а там, глядишь, и в центральную — все это было, конечно, очень замечательно, Николай Дмитриевич счастье изображал: где надо, хохотал, а где надо, и подхихикивал, но на душе черно было. Так, с нехорошими предчувствиями, он и домой вернулся. И предчувствия не замедлили.
Только супруга Тонечка подала ему халат после глажки, только он собрался к зеркалу идти, чтобы протез снимать, как позвонила Анна Степановна из гостиницы.
— Приходи, — сказала она. — Очень надо. Немедленно приходи.
— Что такое? — спросил Николай Дмитриевич, а сам про себя подумал, что вот оно.
— Неладно здесь. Ты, главное, приходи.
И трубку повесила, чтоб больше вопросов не задавал.
Тут же и пришел в гостиницу Николай Дмитриевич, благо было недалеко, примчался просто в гостиницу.
— Что случилось?
— А ты сам послушай!
Анна Степановна у рецепциона стояла танком, руки в боки уперла, одета кое-как, наспех, бигудюшечки розовые кое-где в волосах застряли, на ногах галоши (она совсем рядом жила, дом в дом), и при этом источала, извините, ауру такой ненависти и злости, какие даже за нею не наблюдались. Ночной дежурной не было видно — наверное, аурой ее смыло.
Николай Дмитриевич прислушался. Сначала услышал какой-то гул посторонний, а он и раньше еще, как только вошел, его услышал, мельком подумал — непорядок с канализацией. Гул и гул, что в нем может быть интересного? Теперь, прислушавшись, разобрал, что не гул это, а где-то недалеко, но совсем негромко поет этот самый хор, Хор Трубецкого. Непонятно только, откуда. Звук шел со всех четырех сторон.
— Репетируют? — робко спросил он.
— Ага. Репетируют. В полпервого ночи. И так уже два часа. А у меня все жильцы жалуются, что заснуть невозможно. Ты мне весь бизнес поломаешь, Колян, со своими этими московскими коллективами!
Последние слова Анна Степановна прокричала с визгливым надрывом, да и Коляном в последний раз она его называла еще в школьные годы. Аура ненависти и злости, нацеленная прямо на Николая Дмитриевича, достигла такой немыслимой амплитуды, что показалось директору, будто он трескается. Захотелось немедленно в туалет.
Он даже руками закрылся.
— Так я-то что, Анечка (вообще никогда так ее не называл)? Ведь не я же их приглашал! Сами пришли.
— Так и надо было их гнать в шею, раз сами! Тоже мне, открыватель талантов. Ну вот что теперь делать?
— Как это что? — удивился Николай Дмитриевич. — Сказать им, что так нельзя, что людям спать надо и вообще нарушение. А заартачатся, так сама и гони в шею, у тебя это очень хорошо получается. Мне они уже не нужны. И вообще не нужны были. Сам жалею уже.
— Сказать? — язвительно поинтересовалась Анна Степановна. — И где же я, по-твоему, их найду, чтоб сказать?
Вопрос был такой дурацкий, что Николай Дмитриевич даже и про ауру позабыл.
— То есть? Я не понял, — сказал он в недоумении. — Они ж у тебя в гостинице распеваются, кому ж и знать, как не тебе? Где-нибудь в номерах, или в коридоре, или, я не знаю…
— Да нету их ни в номерах, ни в коридоре, идиот проклятый! — заорала Анна Степановна во всю шаляпинскую силу своего голоса (Николай Дмитриевич немного просел). — Их вообще в гостинице нету! Не приходили они сюда после концерта!
В ходе дальнейших криков выяснилось, что все участники хора сразу после концерта бесследно исчезли вместе с багажом, которого, может быть, и вообще не было. Все номера, якобы занятые хористами и помощницей представителя Фаиной Глухоуховой, остались абсолютно нетронутыми, хотя на каждой двери висела табличка с надписью «Do not disturbe! Не входи!». Что же до самого представителя хора, Ивана Оскаровича Глухоухова — который, как мы помним, зарегистрировавшись, проворно ускакал по лестнице в свой номер и там заперся, никого к себе не пуская, — он к концу представления, прижимая к груди какую-то папочку, вдруг предстал перед ночной дежурной, которая как раз приняла смену, попытался что-то сказать, но не смог, словно бы из-за спазма в горле, а только панически погрозил ей указательным пальцем и умчался прочь, «будто за ним черти гнались», и с тех пор его тоже никто не видел.
Вот его-то номер нетронутым не смог бы назвать даже самый бессовестный человек. Он был весь перебуторен самым непозволительным образом — ванная комната вся в лужах, мокрое полотенце на унитазе, а в самом номере ни одного предмета на своем месте, даже репродукция с елочкой перекошена, и телефон, с корнем вырванный из розетки, на полу разбитый лежал. Что с кроватью было сделано, приличными словами сказать нельзя. Такое впечатление создавалось, что Глухоухов пытался завернуться даже не в одеяло, а в сам матрац. А когда не преуспел, то вместе с матрацем, подушкой и простыней (одеяло почему-то оставил, видно, не влезло) забрался под сетку кровати и там от кого-то прятался. Словом, странный был человек.
А у электровыключателя обнаружили следы крови!
И тогда возникал резонный вопрос, точнее, даже два вопроса — если Хор Трубецкого физически в гостинице не присутствовал (плевать, где он тогда присутствовал, раз уголовных преступлений не совершал), то кто же тогда здесь поет и, главное, где? Задал их, естественно, Николай Дмитриевич, как наиболее умный и творческий из присутствующих.
Пока ответов на эти вопросы не было, и Николай Дмитриевич же предложил ответить на третий — что поют?
Анна Степановна гневно фыркнула, но прислушалась.
Это не было «раз давай, два давай», это не было о дорогой Сюзи, это была какая-то классическая кантата. Или не кантата, а что-то вроде, Николай Дмитриевич все равно никогда ее раньше не слышал, а если и слышал, так не запомнил. Моцарт, Григ, Гайдн, Равель, Гершвин, даже ранний Бетховен, но не Вивальди и не Бах точно. Это мог быть и кто-то другой из классиков, но других классиков Николай Дмитриевич не знал. Пели на иностранном языке, очень похожем на итальянский, потому что порой там мелькали слова, похожие на «куоре» и «бэлло», но в итальянском ни Николай Дмитриевич, ни тем более фуриозная Анна Степановна сильны не были, так что это мог оказаться и какой-то другой язык. Заподозрена была даже латынь.
То и дело попадалась в этом пении одна более или менее понятная фраза, что-то наподобие припева в предыдущих композициях хора: «Триииистэ, трииииистэ, ха-ха-ха-ха-ха, ууууууууууууна мэханика».
Так и назвали ее потом, эту кантату — «Триста механиков».
Но это было и всё.
— Может быть, у них магнитофон где-то спрятан? — вдруг ни с того ни с сего догадался Николай Дмитриевич. — Ну, там, забыли в спешке или нарочно подсунули, чтоб подгадить.
Стали искать магнитофон. Искали без особого рвения, потому что найти не надеялись, а спать очень хотелось. Заснуть, однако, в этом личном концертном доме Хора Трубецкого не было никакой возможности — препятствовали тому «Триста механиков». То и дело из номеров выскакивали всклокоченные жильцы и устраивали истерики, донельзя расстроенная Анна Степановна всеми силами пыталась их успокоить.
— Дура я, дура! — самокритично сказала она вдруг во время тех поисков. — Идиота послушалась, ведь знала, что идиот. Послушалась и прислушалась. Вот теперь у меня все их слова в голове ясно звучат, а от них еще хуже. Прямо долдонят и долдонят!
Действительно, прислушиваться, может быть, и не стоило.
— Это что же, теперь и всегда так будет? — с отчаянием в голосе спросила она.
Николай Дмитриевич благоразумно оставил ее вопрос без ответа.
Магнитофон не нашли, конечно. Не было там никакого магнитофона. Источник звука тоже определить не смогли. Под утро, совсем никакие, разбрелись они по домам.
Дома Николай Дмитриевич, не реагируя на расспросы встревоженной Тонечки, рухнул в постель и тут же погрузился в сон, для того только, чтобы и там смотреть бесконечный сериал про «Триста механиков»: «Триииистэ, трииииистэ, ха-ха-ха-ха-ха, ууууууууууууна мэханика».
В десять сорок пять его разбудила жена с телефонной трубкой в руках.
— Тебя.
— Клай Митрич! — закричала в трубку вахтерша Иеронида, стервозная до обморока, но очень надежный работник, бывший преподаватель русского языка. — Спите? А то лучше бы вам прийти! Тут чё-то непонятное происходит.
Николай Дмитриевич тут же рухнул назад в постель.
— Клай Митрич! Вы где?
— Про дорогую Сюзи поют? — осознав масштабы катастрофы, спросил он.
— А, вы уже знаете. Нет, там у них частушка какая-то. Неприличная. Ну все поют и поют, ну никакого уже терпения не хватает!
И если бы только это! Не прошло и двух дней, как в ольховцевскую милицию стали поступать заявления — и все от присутствовавших на концерте — о том, что соседи совсем уже обалдели и ночи напролет гоняют пиратские записи одного известного хора, не давая при этом спать остальным. Затем настала очередь врачей, пользующих нервные болезни — психиатра, обоих невропатологов, частного терапевта, который к тому времени вообще прогорал без клиентуры, и, разумеется, бабки Марьи, которая лечила всех и от всего тертыми тараканами, настоенными на самогонке, а потихоньку практиковала также и заговоры.
Все было напрасно. Трубецковские композиции крепко-накрепко засели в головы потерпевших и силами официальной или альтернативной медицины оттуда не изгонялись. Единственное средство — самогон и остальное спиртное — если и помогало хоть немного поспать, то только при приеме в больших количествах, а это, сами понимаете, не слишком хорошо сказывается на прочих сторонах жизни.
Воздушно-капельным или каким-то иным путем композиции Хора Трубецкого не передавались, но в городе моментально появились слухи о зараженных. Здания гостиницы и Дворца культуры, срочно закрытые на ремонт, обходили стороной — возможно, не без основания. Пострадавших избегали и общались с ними напрямую только в том случае, если их статус был так высок, что уж лучше заразиться, чем не общаться. Прохожих, которые по забывчивости начинали напевать себе под нос что-нибудь, хоть отдаленно напоминающее репертуар Хора Трубецкого, довольно часто избивали в кровь.
В то же время, вот странно, в городе появились поклонники Хора Трубецкого, и было их немаленькое число. Они могли часами простаивать у опустевших зданий гостиницы или Дворца, вслушиваясь (а во что там вслушиваться, снаружи ничего не слышно!) в звуки, якобы до них доносящиеся, и даже пытаясь им подпевать. К таким агрессивно настроенные с кулаками подходить опасались — здесь очень даже можно было получить сдачи.
Милиция наконец-то зашевелилась, ведь пострадали слишком видные люди, и этого нельзя было так оставлять. Начали искать следы Хора Трубецкого, но следов-то как раз и не оказалось. Никто не видел их — ни на чем они приехали и отбыли, ни как вообще передвигались по городу. Видели только бегущего в панике Ивана Глухоухова, да и то мельком: «Пробежал мужик с папочкой, весь взъерошенный». Даже вездесущую Фаину, и ту нигде не приметили, хотя при ее энергии и внешности это было, казалось бы, теоретически невозможно.
Словом, ерунда какая-то получалась.
Общегородской катастрофой это, к счастью, не стало, потому что хоть и видные люди под раздачу попали, но всего пострадавших от концерта было чуть больше тысячи человек, а два дома — ну, что два дома, это не в счет.
Немножко разрядил ситуацию местный Кулибин. На самом деле его фамилия была Кулямин, но из-за пристрастия к разного рода изобретениям и прочим изыскательским процедурам никто его иначе как Кулибиным и не звал. Закончил он не что-нибудь, а Московский институт стали и сплавов, но столицу покорить не сумел, вернулся на родное пепелище, отстроился и зажил анахоретом — совершенно не понятно на что.
Вот этот-то Кулибин и решил разобраться с источником звука, потому что в мистику он не верил. Точнее, не то чтобы не верил, а так — не принимал во внимание при расчетах. Стал напрашиваться в гости к потерпевшим, из тех, кто рангом помельче, изматывал их расспросами, по комнатам зачем-то водил, пару раз получал по морде от лиц, измученных алкогольной интоксикацией, но в конце концов своего добился. Нашел он источник звука! Или, правильнее сказать, источники, потому что звук-то шел отовсюду.
Этими источниками оказались канализационные и водопроводные трубы. Они, рассказал Кулибин, часто фонят, издают гул ровный, низкий и очень тихий, если все сделано по правилам. А если не все сделано по правилам, то иногда и не очень тихий. Этот фон, по мнению Ку-либина, преобразовывается в мозгу человека, побывавшего на концерте Хора Трубецкого, в музыкальное произведение. Каким образом происходило это преобразование, Кулибин не знал, да и знать уже не очень хотел — ему не понравилось ходить по городу с битой мордой. Он сказал и ушел — и вернулся к изобретению своего полутораколесного велосипеда. Оно вернее.
И все сразу стали удивляться, как же это мы сами не догадались-то, уже по названию этих гадов. Хор Трубецкого! Это ж трубы! Ну точно! Состоятельные пострадавшие срочно перебрались на окраины в бревенчатые двухэтажные домишки с газом, током и телефоном, но без воды и с удобствами во дворе — и облегченно вздохнули. В офисы свои они теперь заглядывали только мельком, а в основном брали работу на дом. А те, кто менее состоятельные, продолжали мыкаться, и даже на улицах не было им спасения, потому что водопровод и канализация, они там везде, а не только в самих домах.
Словом, ситуацию это разрядило, но разве только немножко.
В газетах областного значения про это дело появились две большие статьи — «Призрак музыки» и «Трубные пятна города Ольховцево». Дошло бы и до более центральной прессы, но тут вдруг стало выясняться, что они не одни такие. То здесь, то там на все еще обширной карте европейской части нашей родины стали появляться небольшие города, городишки и поселки городского типа, которых тоже осчастливил своими концертами Хор Трубецкого. При тех же обстоятельствах и с теми же примерно последствиями.
Инцидент, не ставший в Ольховцеве катастрофой городского значения, в один миг превратился в инцидент, не ставший катастрофой значения уже всероссийского. И когда о нем загремела почти самая центральная пресса, то город Ольховцево (вот что было обидно!) упоминался в ее сообщениях лишь в ряду других городов, городишек и поселков городского типа, причем по алфавиту, хотя если по времени, то он, конечно, был первым. А самая-самая центральная пресса об этом инциденте промолчала, потому что не верила. Или не без оснований боялась, что ей в этом деле ни за какие коврижки не поверят.
Мистика мистикой, а между тем все на этом свете должно иметь разумное объяснение. Правда, бывает так, что должно, а все равно не имеет.
В истории, только что рассказанной, есть много висящих концов, вопросов, на которые нет ответа. Что это за Хор Трубецкого? Откуда он появился? Что это за странная парочка представителей? В конце концов, что это за эпидемия такая странная с трубным хором?
На часть этих и прочих вопросов разумные, логичные ответы имеются. Просто автору хотелось рассказать читателю именно так и именно ту историю, с которой читатель имел возможность ознакомиться в вышеприведенных строках — во как. На некоторые вопросы автор ответа категорически не имеет, так что даже зря и не спрашивайте. Зато автору известно, откуда все началось.
Началось оно с некоего поэта-песенника. Сам он считал себя знаменитым, но я не удивлюсь, если вы никогда его фамилии не слышали, равно как и песен на написанные им тексты. Скажем так — он был кое-как известен в кое-каких кругах. Поэтому во избежание судебных исков за клевету, диффамацию и прочее, фамилию этого песенника автор разглашать не желает и присваивает ему фамилию-псевдоним Нектов.
Так вот, этот Нектов жил себе в родительской московской квартире в композиторском доме напротив Главпочтамта, сочинял песни, а потом вдруг заболел. «Заболел» в данном конкретном случае, может быть, и сильное слово, но почувствовал себя нехорошо. Бессонница его одолевать стала. От чего она там появилась, эта бессонница — от чрезмерного умственного напряжения, от неправильной работы какого-то из внутренних органов или просто от алкогольной интоксикации, к которой Нектов привержен был, это уж все равно. Просто ночами стал он маяться от невозможности крепко заснуть.
И в одну из таких ночей услышал вдруг Нектов пение, читатель, надеюсь, сам догадался какое. Потом, вспоминая, он уже и сказать не мог, что это за песня была, да он поначалу и слова разбирал трудно, потому что звук шел на пределе слышимости — так, что-то невыразительное.
Услышать отдаленную музыку в композиторском доме — дело такое же обычное, как увидеть пса на помойке. Несмотря на то, что дом был элитной сталинской постройки, слышимость между этажами была неплохая, так что иногда жильцов чужая музыка, особенно с их чувствительным слухом, просто-таки донимала. Но чтобы завести какую-то ерунду в четыре часа ночи — такое даже здесь случалось нечасто.
Нектов чертыхнулся, обернул голову подушкой, но, естественно, не заснул. Вскочил с дикими глазами.
— Ну, это уже вообще!
Поискал глазами, нашел забытый прислугой столовый нож, ринулся к батарее, застучал по ней.
Действие возымело эффект, музыку выключили, но разве что на минуту, потом запели опять. Нектов еще повозмущался, но потом ему стало интересно. Кто поет? Такого мужского хора он никогда раньше не слышал, но это не очень удивительно, потому что плохой был хор. А вот что пели и что за текст — это уже входило в сферу профессиональной компетенции Нектова вне зависимости от качества. Тем более он должен был знать, если это низкое качество демонстрировалось в четыре часа ночи в композиторском доме.
Но он не знал. Слова, как уже говорилось, были практически неразличимы, ясно было только — что слова, и слова русские. Музыка что-то напоминала, но из-за занудности, долдонистости исполнения тоже казалась неизвестной.
Потом появились первые подозрения — уж слишком длинной была песня, все тянулась и тянулась. Нектов посмотрел на часы; без двадцати пять. Хоровая песня длиной в сорок минут — это что-то новое в музыкальной истории. Здесь у Нектова впервые появилось нехорошее подозрение о том, что все эти звуки ему просто чудятся или, как это принято называть, «являются голоса».
Так, с этим нехорошим подозрением Нектов наконец и заснул.
Назавтра опять случилась бессонница, и опять пришел хор. На этот раз Нектов уже не тратил негодования на бессовестных соседей, он уже смирился с мыслью, что это «голоса». Слова теперь были более различимы, равно как и мелодия. Хор той ночью исполнял русскую народную песню, уже знакомый читателю «Раз давай». Нектов лежал на спине и под «Раз давай» предавался отчаянию.
Он представлял себе длинную вереницу визитов — сначала к психотерапевту, потом к психоневрологу, затем к психиатру, процедуры всякие, таблетки, уколы, капельницы, соболезнующие взгляды коллег, постепенное схождение с ума, а далее санитары, электрошоки, длинные зеленые коридоры с безликими частоколами белых дверей, и под конец он лежит, всеми забытый, привязанный ремнями к кровати, делает под себя и бесконечно медленно умирает, вслушиваясь в мрачное пение явившегося ему хора: «Раз давай, два давай, обязательно давай!»
Слова, по крайней мере, половина из них, были теперь понятны, иногда это было скучно, иногда интересно, только это были не его слова, он никогда даже и близко не придумывал таких текстов, и это означало, что сознание его раздвоилось, что в нем теперь было два человека, мистер Джекил и мистер Хайд, один более или менее нормальный, другой невыразимо унылый и монотонный. Иначе говоря, это означало шизофрению.
Так он и не заснул в ту ночь, так и пролежал, слушая, до самого завтрака. Сказали ему:
— Что-то ты плохо выглядишь. Перебрал вчера, а?
И так пошло каждую ночь. Репертуар у хора был очень обширный. Пелись и русские песни, и украинские, и просто советские, и кантаты пелись какие-то, и оратории даже, затесалось раз вообще что-то армянское, а однажды затеяли какую-то языковую эклектику, слушать было противно, но интересно:
Но казалось Нектову, что это все та же и та же песня.
Самое странное, что в эти дни Нектов стал писать свои песенные тексты куда активнее, чем прежде, и получались они у него куда лучше. То есть, можно и так сказать, что прежние тексты были еще хуже, но это уж зависит от взгляда. Хоть что-то, с усталой безнадежностью думал Нектов.
Спиртное тоже не помогало, даже усугубляло. До какого бы свинского состояния под вечер Нектов ни допивался (а он терпеть не мог допиваться до свинского состояния), ночью, часа в два, в три, он бодро вскакивал с головной болью, начинал водить слезящимися глазами, вслушиваясь; услышав, ворчал себе под нос: «А-а-а, вот и вы, здравствуйте, ну как же без вас!», — и приготавливался к очередному концерту. Так что с алкогольной интоксикацией пришлось расстаться из-за ее ненадобности и болезненности.
Потом вдруг забрезжила надежда, что, может быть, еще не все так ужасно. Заметил Нектов, что хор поет ему только в одной комнате — в той, где он работал и спал. Стоило ему выйти оттуда, как эффект немедленно пропадал. Сначала он не придавал этому значения, а потом подумал — если они поют только в одной этой комнате, то, значит, это как-то с ней связано. Значит, здесь работают какие-то внешние заморочки, и хор этот проклятый есть и их порождение, а не только моих внутренних глюков. Может, и вообще никаких внутренних глюков у меня нет.
Во время очередного сеанса Нектов вскочил с кровати и начал кружить по комнате, внимательно вслушиваясь и пытаясь определить, откуда идет звук. Это было очень трудно — звук был очень тихий и шел, казалось бы, отовсюду. Но, как говорится, человек сильнее механизма, и Нектов, как впоследствии и Кулибин, в конце концов, потерпел удачу.
Звук шел откуда-то от окна. Нектов определил это не по увеличению громкости звука, а по тому, что стоило ему подойти к определенному месту в стене около оконного проема на определенное расстояние, как хористы останавливали течение песни и начинали бесконечно тянуть ту ноту, на которой он их «поймал»: «Пойдем домой, пойдем домой, Сю-ууууууууууууууууу…»
И сразу становилось понятно, что никакой это не хор, а очень тихий гул из стены, по всей видимости, что-то такое с водопроводом.
Нектов на радостях чуть было не заплясал.
Так вот, значит, что рождало звуки, восторженно думал он, водопровод и бессонница! Всего лишь мелкая ерунда, связанная с усталостью от творческих мук, а гляди ж ты, какой эффект! И никаких глюков, покончено, стало быть, с будущими электрошоками, ремнями и санитарами, бьющими прямо в репу! Всего лишь побочное следствие усиленной деятельности мозга, перенагруженного искусством! Вот интересно, страдал ли от того же хора Владимир Владимирович Маяковский, когда писал про ноктюрн на флейте водосточных труб? Что он, точно так же маялся по ночам? От того же ли хора или у него был другой, способный даже к ноктюрнам? Ну, ноктюрн — это что-то ночное, стало быть, и у меня тоже ноктюрны. Кстати, почему водосточные? Они же вроде бы не поют или в начале прошлого века другие водосточные трубы были? Нет, это он просто для размера так написал — конечно, водопроводные! Водопроводные — вот кто у нас кобзоны. Кстати, так и назовем его — Хор Трубецкого, с ударением на «бе».
Так родился Хор Трубецкого, и из болезненного состояния в одночасье превратился в неотъемлемую собственность Нектова, которой следовало гордиться и дорожить, потому что она ставила его на одну доску с незабвенным Владимиром Владимировичем Маяковским.
Правда, собственность эта оставалась для ее хозяина весьма и весьма утомительной — не давала заснуть. Не желая показываться врачам, Нектов стал рыться в Интернете и обнаружил, что подобные «голоса» — вещь очень распространенная. Он все правильно сообразил, просто оказалось, что это не совсем все-таки ерунда, а именно болезненное состояние, связанное с недостаточным питанием мозга. При этом, прочитал он на одном медицинском сайте, некоторые отделы мозга отключаются, хотя задача на вырабатывание мысли остается. Отключенный отдел начинает производить некачественную продукцию, которая даже название имеет — «автоматическое мышление» — и представляет собой что-то наподобие мозгового тика.
Стало быть, все-таки надо лечиться, подумал Нектов, вздохнув. Отключенный отдел мозга — это нехорошо. О врачах, которые обслуживали нектовскую музыкально-поэтическую тусовку, даже думать было опасно, поэтому он нашел хорошего специалиста где-то на стороне.
Специалист был с рекомендациями самыми превосходными, поэтому, заполучив его телефон, Нектов сразу же и позвонил.
И вот тут случилась какая-то несуразица.
Дело в том, что специалист с рекомендациями, которого назвали Нектову, а именно Иван Оскарович Н., действительно существует, у него хорошая репутация и обширная практика как раз по той части, которая заинтересовала поэта-песенника, и номер Нектову дали правильный, он потом проверял. Как произошло, что он позвонил не туда, никому не известно. Может быть, по рассеянности — с человеком, у которого отключаются отделы мозга, и не такое может случиться. Мог, в конце концов, произойти и какой-нибудь сбой на АТС — такое ведь у нас часто бывает. Но вот чтобы человек вместо одного Ивана Оскаровича по ошибке позвонил другому, тут нужно насилие над теорией вероятностей, причем насилие просто невероятное. Автор склонен подозревать здесь вмешательство сил, не подвластных изучению методами науки.
Так или иначе, а из-за этой несуразицы Нектов позвонил не специалисту, а Глухоухову. Подошла дама, он спросил Ивана Оскаровича.
— А кто это? — с большим интересом спросила дама.
— На прием хочу записаться, — ответил Нектов. Дама раздражала его. — Это можно?
— А как же ж! — сказала дама почти без паузы. — Почему же ж, если он Иван Оскарович, так к нему уже и записаться нельзя? Вот вы возьмите и запишитеся. А?
— Да, запишите, если можно. Когда он сможет меня принять?
— А вы кто? — снова с большим интересом спросила дама.
Нектов назвался. В телефоне что-то по-болотному булькнуло, после чего засипело и записклявило — словом, пошел тот звук, который сопровождает работу факса, только тоном повыше. Нектов недоуменно поднял брови. Звук прекратился.
— Ой, — сказала дама, — я извиняюся. Не на ту кнопку нажала. Так, записувую в компьютер. Нектов, правильно? От же ж мне интересно! Прямо как тот великий поэт, шо нам песни пишет! Так это не вы?
— Это я, — скромно ответил Нектов. Дама уже не раздражала его. — Так когда он см…
— А прямо сейчас и сможет, — сказала дама. — Так-кого человека!
Она назвала адрес, сказала, сколько с собой принести денег — сумма была приличной, но не пугающей. Нектов отсчитал деньги, сразу же выскочил из дому, взял такси и только тут обратил внимание, что адрес какой-то подозрительный, черт-те где на куличках, и не только с номером дома, но и с номером квартиры. Не вязалось это с именем специалиста, имеющего в столичном бомонде широкую медицинскую практику.
— Приехали. Вот ваш четырнадцатый, — сказал водитель. Впереди темнела блочная двенадцатиэтажка.
Нектов посмотрел на нее и подумал, что это странно. Но делать нечего, расплатился с водителем и пошел. Прямиком к Ивану Глухоухову и его фее.
Да, именно фее. Потому что Иван не врал директору Дворца Николаю Дмитриевичу Посадскому — Фаина действительно была его доброй феей.
Дело в том, что Иван Глухоухов, пятидесятилетний младший научный сотрудник лаборатории поднятия тяжестей питерской научно-практической организации ЛБИМАИС, человек язвительный, но злопамятный, вечно попадал в неприятные ситуации, и поэтому высшими силами к нему была приставлена добрая фея — вот эта самая Фаина. Правда, фея эта была дамой исключительно странной, в своих кругах считалась существом хоть и высшим, но гиблым, ее вот-вот должны были вытурить из райского воинства за профнепригодность, и Глухоухов был ее последним шансом удержаться на своей должности.
С тех пор жизнь Ивана Глухоухова превратилась в ад. Маленькая неприятность с помощью Фаины каждый раз превращалась в настоящую катастрофу, несколько раз он попадал в тюрьму, несколько раз жизнь его висела на волоске, в конце концов он потерял все — и друзей, и работу, и питерскую квартиру, и вообще Питер, перебрался в Москву, но на самую ее окраину, не имея за душой ничего, кроме одного изобретения, которое в данном рассказе не обсуждается, да и черт с ним.
К моменту рождения Хора Трубецкого он переживал очередной кризис, стараниями Фаины в его квартире не осталось ничего, кроме телефона, который вот-вот должны были отключить, одной кастрюли, из которой он ел, и одного стула, на котором он спал.
Фаина, правда, обещала немедленно исправить положение («ведь я же ж ведь ваша фэя!»), и тут подвернулся Нектов с его необъяснимым желанием прийти к Глухоухову на прием. Фаина во время телефонного разговора с ним быстренько пробила «по своим каналам» личность Нектова и суть его проблемы. И у нее тут же возник план о том, как воспользоваться Хором Трубецкого для очередной помощи ее подопечному.
Нектов открыл дверь со сломанным домофоном, вошел внутрь и упал без сознания, получив мощный удар кастрюлей по голове. Очнувшись, он обшарил карманы и убедился, что ограблен — деньги, которые он приготовил в качестве гонорара для специалиста, исчезли, правда, все остальное, включая документы и кредитную карточку, осталось нетронутым.
Он поднялся, держась за голову, и сказал страдальчески:
— Ну и ну!
Немного придя в себя, подошел к лифтам — ни один не работал. Еще раз произнес: «Ну и ну!», обернулся к выходу из подъезда, но все же решил довести дело до конца и поднялся до пятого этажа, охая и вглядываясь в номера квартир. Нашел нужную (старая железная дверь без обивки), еще немного поколебался и позвонил.
После второго звонка дверь открылась, в темном проеме стоял заспанный мужик старого и очень голодного вида. Был он всклокочен, чрезвычайно небрит, одет в треники с пузырями и ужасающей застиранности футболку с когда-то красной надписью «Мосгаз».
— Ну, — сказал мужик мрачно.
Нектов внутренне охнул, он такого не ожидал даже после всего случившегося.
— Я, наверное, ош… Извините, не знаете, где тут проживает Иван Оскарович?
— Я.
— Что «я»? Знаете?
— Я Иван Оскарович. Дальше.
Нектов изумленно оглядел стоящую перед ним фигуру.
— Извините, — сказал он. — Я все-таки ошибся номером.
Развернулся и стал спускаться по лестнице.
— Эй! Постой! — крикнул мужик в спину.
Нектов остановился.
— Да?
— Картошка есть? — спросил мужик и нелогично добавил: — А то какая-то сволочь кастрюлю сперла.
— Нет картошки, — ответил Нектов и, держась за шишку на голове, продолжил свой спуск. Сверху гулко хлопнула дверь.
Домой Нектов вернулся поздно, с усталостью и головной болью. Тут же позаботился об алкогольной интоксикации, но в небольшой пропорции, так, для уюта. Немного поразмышлял о перпендикулярности происходящих в мире событий и лег спать. О потерянных деньгах он сожалел, но не слишком — в ту пору средства у него были.
Ночью он, как всегда, проснулся, словно кто-то над ухом выстрелил. Часы показывали два десять. Вскочил в кровати, в темноте огляделся, прислушался, было тихо. Голова болела, хор спал.
— Хоть что-то, — буркнул он, укладываясь. Но все равно не спалось. Тогда он встал и, нашаривая домашние туфли, поплелся к окну. Приник ухом к стене, прислушался. Гул шел, он был слышен еле-еле, но совершенно отчетливо. Никто не пел.
— Надо же, — сказал Нектов и снова лег. И промаялся от бессонницы до утра, в полной тишине ночи.
Утром он набрал номер специалиста и выяснил у вежливого, но прохладного женского голоса, что никакой Нектов к профессору Н. вчера не записывался. И вообще этого не может быть, чтобы человек записался и в тот же день попал к профессору на прием. У Ивана Оскаровича очень обширная практика, и «потенциальным пациентам» приходится ждать своей очереди месяц, а то и два, когда как.
На вторую и на третью ночь было то же самое. Бессонница осталась, Хор Трубецкого замечательным образом испарился.
Позвонили на четвертые сутки. Уже известная ему дама с горячим южным акцентом осведомилась:
— Ну, и как? Нету?
Нектов, едва заслышав знакомый голос, приготовился уже было в самых недвусмысленных (или двусмысленных?) выражениях выразить всю силу своего негодования по поводу так называемого приема, но при этих словах осекся.
— Чего нету? — растерянно спросил он.
— Нет, я на него удивляюсь, он еще спрашивает, чего у него нету! — вскричала дама. — Так Хора же ж вашего, вот этого ж вот, Трубецкого! Ведь его же ж нету больше?
— Нету, — вынужден был признать Нектов под напором голоса. — Действительно. А, позвольте узнать, откуда вы…
Ему не позволили. Ему напомнили, что у людей тоже могут быть профессиональные тайны. Его внимание обратили на то обстоятельство, что сеанс по его избавлению от Хора Трубецкого проведен и гонорар за этот сеанс получен полностью. Насчет несколько экстравагантного способа проведения сеанса и уплаты гонорара дама выразила сожаление, «шо больно было, ну так надо же ж было холодное к голове ложить, кто ж не знает», но зато этот способ оказался быстр, эффективен и избавил Ивана Оскаровича от бессмысленных визитов, человек он ученый и время предпочитает тратить на науку, а не то чтобы на людей. А что не тот Иван Оскарович оказался, так это Нектов сам виноват, и нечего тут, главное, чтоб эффект был. Эффект есть?
— Есть, — согласился Нектов.
— Хор Трубецкого есть?
— Нету, — опять согласился Нектов.
— Ну, вот и все, и разговаривать больше не об чем.
И связь отключили. Номер, который высветился на дисплее нектовского мобильника, оказался номером приемной Министерства чрезвычайных ситуаций РФ. Ни о каком Иване Оскаровиче там никогда не слышали.
Так у поэта-песенника Нектова был отобран его знаменитый хор.
В тот же день, когда он был отобран, то есть спустя примерно час или два после того, как Нектова ударили кастрюлей по голове, в квартиру Ивана Глухоухова, что на пятом этаже дома номер четырнадцать, позвонили. Он открыл и увидел перед собой Фаину. Та, отдуваясь, втащила в квартиру две здоровенные синие сумки с логотипами «Метро» на английском языке и поволокла их на кухню.
Глухоухов посмотрел на нее, как на головную боль.
— Что еще?
— Ешьте. Одевайтеся. Собирайтеся, — сказала Фаина. — Я уже все устроила. От теперь вы заживете, как тот кум королю, как тот сыр в масле, закатаетеся.
— Нет, — сказал Иван Глухоухов.
— Шо нет, когда да, — сказала Фаина. — От вы все обижаетеся, а посмотрите, как вы живете. Теперь все будет хорошо. Токо сначала поешьте, смотреть же ж страшно.
Еды действительно было много, но есть ее было не из чего, даже кастрюля у Глухоухова куда-то пропала.
— Это ничего, — сказала Фаина. — Вы пока так ешьте. Потом все будет, я уже позаботилася.
— Нет, — затравленно повторил Глухоухов.
Все последнее время он очень боялся своей доброй феи и ее благотворительных инициатив. Но все же поел и даже очень много поел, потом послушно переоделся в принесенное феей. Одежка была так себе, «лавочная», да и с размером Фаина не угадала, малость великовата оказалась одежка, но все равно это было намного лучше, чем то тряпье, которое истлевало на Глухоухове.
Пока он ел и переодевался, фея рассказывала ему, как хорошо он с этого времени заживет, как не надо будет ему ни об чем беспокоиться, как он купит себе новую квартиру и новую мебель (как будто бы у него была старая), потому что теперь, когда у него есть свой собственный хор…
— X… хор? — Глухоухов чуть было не подавился.
— А что вы так удивляетеся? И хор. И почему же ж, если у человека есть собственная персональная добрая фэя, у него уже не может быть собственного персонального хора?
Чего-чего, а вот собственного персонального хора от Фаины Иван Глухоухов не ожидал.
— Нет, — сказал он в третий раз. — Не надо мне никакого хора. Мне вообще ничего не надо. Я хочу, чтобы ты оставила меня наконец в покое и дала умереть в собственном доме.
— И на чем же ж вы в этом, я извиняюся, доме хочете помирать? А? От на том стуле? Так на стульях не помирают. Помирают в кроватях.
— Или на поле боя, — почему-то добавил Глухоухов.
— Или на поле бою, — согласилась Фаина. — Так я ж вам это ж и предлагаю. Хочете — новая квартира, где будет сколько хочете комнат и туалетов, а хочете — ладно, можно и поле бою, я же ж вас буду там охранять.
Поле боя с Фаиной-охранницей за плечами — это было что-то из фильма ужасов. Глухоухова передернуло.
— Нет, — еще раз решительно сказал он.
Потом, когда он переоделся, Фаина повела его вниз. Ни один лифт не работал, так что пришлось спускаться пешком под добродушное гудение феи:
— От вы сейчас увидите. От посмотрите вы сейчас!
Они вышли из дому, обогнули его и спустились по ступеням к подвалу. Фаина каким-то образом отомкнула дверь, к которой имели доступ только дворники ЖЭКа. Включила свет — тусклую лампочку где-то сбоку. Довольно большое низкое помещение, заваленное строительным мусором, оказалось, как и предполагал Иван, средоточием коммуникаций — переплетением металлических и пластиковых труб, толстых и тонких, ржавых и почти блестящих от новизны, а также матово-черных.
— А теперь смотрите внимательно!
Фаина хлопнула в ладоши.
Непонятно, ну, совершенно непонятно откуда к трубам этим вдруг вышли какие-то мужики в серых костюмах-тройках, приняли уже описанные ранее позы и запели «Дорогую Сюзи».
В музыке, тем более хоровой, Иван Глухоухов понимал не так чтобы очень много, но даже и он понял, что поют они не самым лучшим на свете образом. И еще ему показалось, что эти ребята в их костюмах-тройках странным образом как нельзя лучше гармонируют с трубами, что их окружали, даже можно сказать, орнаментировали. Песня ему совсем не нравилась, но из вежливости он слушал.
Потом Фаина снова хлопнула в ладоши, певцы разом замолчали и гуськом куда-то ушли — Глухоухов не заметил, куда, хотя и очень старался.
— Долго нельзя, а то очень сильно понравится, — объяснила Фаина. — Ну что, понравилося?
— Нет, — ответил Иван. — Не понравилося. Что это было?
— От же ж вы разборчивые какие, — возмутилась Фаина. — Так это ж был ваш собственный персональный хор, называется Хор Трубецкого. Я его у одного хорошего человека купила. Он такой, ну что ж я вам объясняю, он как будто бы сон, но уже же ж и не сон, я так сделала, что его и видно, и слышно. И так же ж удобно, знаете, ой, вы же даже не понимаете, как удобно — кормить же ж их не надо, платить же ж им не надо, поют и все, а вам только деньги собирать надо будет, так и то я же ж и соберу, только подпишетеся, что ж уж вам, ведь я же ведь ваша фэя. Это же ж сплошная музыка, что за хор. А вы — не понравилося! Вот вы сейчас брейтеся, собирайтеся — и на поезд. Мы с тем хором будем ездить везде с гастролями и концерты исполнять.
— Нет! — сказал Иван Глухоухов. — Никогда в жизни. Ни за что на свете. Только через мой труп!
Сел в новых штанах прямо на строительный мусор и горько зарыдал — как ребенок, честное слово!
За что уж так невзлюбил Иван Глухоухов свой собственный персональный хор, автор повествования затрудняется объяснить. Но с самого начала он стал его бояться еще больше, чем боялся Фаины, до дрожи его боялся, все ждал от него каких-то особенных, еще невиданных пакостей. Но с Фаиной не поспоришь — побрился, сел в поезд и вперед, на гастроли, она уже даже и маршрут разработала.
— От я научу вас правильно в ладоши хлопать, пообвыкнетеся и сами будете себе концерты устраивать, а если шо и не получится, так я же ж ведь рядом буду, а как же ж, ведь я же ж ведь ваша фэя!
В первом пункте гастролей — городе Ольховцево — с ним случился конфуз. Сам себе устроил истерику, ничего не помнил, как бушевал, запершись в своем номере, совсем с ума сошел тогда Иван Глухоухов. А потом ни с того ни с сего в ладоши хлопнул — и тут же из одежного шкафа повалили гуськом эти тринадцать, еле сбежал.
Вот если б не сбежал, если б хлопнул еще раз в ладони, то ушли бы хористы обратно в шкаф, и ничего бы с гостиницей неприятного не случилось, и мир не узнал бы про кантату «Триста механиков». А так — стояли и пели в пустом номере, пока их Фаина не прекратила. Но вот взял и сбежал, уж очень он тогда испугался.
Однако если за тебя взялись высшие силы, то от них уже не сбежишь. Фаина его тут же нашла, новую одежду дала взамен порванной, деньгами снабдила и в следующий пункт гастролей направила. Правда, теперь все представительство взяла на себя, «врэменно», а ему лишь деньги отсчитывала. Теперь он только приезжал в намеченный город, поселялся в гостинице, ждал, когда ему принесут деньги, расписывался и тут же улепетывал со всех ног. Однако он все равно чувствовал себя плохо, ждал бед неминуемых и мечтал только об одном — чтоб все это скорей закончилось.
Оно и закончилось, как только в газетах заговорили о Хоре Трубецкого, о последствиях его концертов. Концертов больше давать не стали, зато появились сообщения, что все правоохранительные органы носом землю роют и разыскивают некоего И.О.Глухоухова то ли как основного свидетеля, то ли как основного подозреваемого в афере всероссийского масштаба.
Глухоухов стал скрываться, в чем ему очень хорошо помогала фея.
— Вы только не беспокойтеся, — говорила она. — Концерты уже закончился, я так думаю, врэменно, зато деньги еще будут, у меня же ж еще один план родился.
Глухоухов даже уже не охал и не говорил «нет».
Между тем, действительно, новые денежки появились. Глухоухов в этих денежках только что не купался, только вот потратить их было трудно. Это всегда трудно сделать человеку, который находится в списке федерального розыска. Причем как Номер Один — уж слишком многих крупных людей зацепил он своим собственным персональным хором.
А денежки появились так. В городах, по которым прокатились гастроли Хора Трубецкого, стали поговаривать, что, мол, неподалеку есть человечек, не очень научный человечек — что да, то да, но который может сделать гарантированный отворот от Хора Трубецкого за определенную, довольно крупную мзду.
Человечка того берегли, в милицию не сдавали, а если бы даже он и сам попал туда по недоразумению или собственной оплошности, его бы оттуда в шесть секунд вызволили, вот какой важный был человечек.
Стояли к нему в очередь, принимал он каждого и каждому назначал цену отворота — судя по толщине кошелька клиента и еще по каким-то ему одному известным признакам. Одного мог бесплатно отворотить, а с другого запрашивал так, что глаза на лоб. И лечил всякий раз по-разному — одному таблетку какую даст, другому в морду, над третьим целую поэму прочитает на несуществующем языке, четвертому пропишет режим, а пятого так отпустит, только зыркнет да денежку отберет.
Как по имени его звали, того человечка, никому не известно, только по фамилии называли, а фамилия была — Ухоглухов. Был это представительный, даже толстый мужчина в летах, с бородой, откуда-то с юга, и будь он женщиной, всякий бы нашел у него сходство со знаменитой актрисой Фаиной Георгиевной Раневской — так-то не находили. И, главное, свирепый был — не поспорь, что ты! Но отвороты делал правильные, ни разу не обманул.
А потом и это закончилось, всех отворотил Ухоглухов, да и сам сгинул куда-то, словно его и не было. Остались только многочисленные группы поклонников Хора Трубецкого, которые друг у друга постоянно переписывают несколько коротеньких записей на мобильнике, сделанных во время концертов хора — надеются наткнуться на новую запись. Музыкальные критики эти записи прослушали и на все корки разделали — полная, говорят, чепуха на постном масле, с искусством даже рядом не стояло. А один так даже вообще оскорбительно про эту музыку отозвался — мозговая, говорит, отрыжка, мыслительный тик, трубный бред нездорового разума.
А и ладно, что отрыжка — ответили ему поклонники Хора Трубецкого, — а и пусть, зато как забирает, в какие выси уносит. Может, это отрыжка гениального мозга. А то, может, что все искусство — именно такая отрыжка оно и есть. Почему бы и нет? Кто доказал другое?
Они вместе собираются, позы Трубецкие принимают — ручки на животике скрещены, головка почти на правом плече, глазки скорбно полузакрыты, пятки вместе, носки врозь, и давай долдонить то, что осталось от наследия великого хора.
И число их, между прочим, растет, и даже иногда появляются среди них признанные эстеты. Несколько музыкальных групп родилось — последователей хора. Одна группа называется «Трубач», другая «Вибромастер», третья «Сантехника не позвали». Есть еще четвертая группа «Владимир Владимирович», но она, кажется, не про то. Песни поют длиннющие и занудные, перенимают «поэтику труб» у хора, но пока им до него далеко.
Так что, может, и права Фаина, и когда-нибудь личный персональный хор Ивана Глухоухова вновь будет востребован обществом. Пока же он под запретом.
Сам же Иван Глухоухов живет сейчас очень хорошо — как и обещала ему Фаина, он живет, как тот кум королю и как тот сыр в масле, катается. Арестовали его.
То ли Фаина чего-то не доглядела, то ли сам милиции на глаза попался, но сидит он сейчас в камере предварительного заключения, не скажу какого, но очень крупного города, и вся осевшая там братва относится к нему с исключительным уважением — во-первых, грев ему с воли шлют такой, какой братве и не снился, а во-вторых, Фаина среди братвы разъяснительную работу произвела, да так, что никому мало не показалось.
Саму Фаину к Ивану Глухоухову не пускают, потому что не закончилось следствие — Фаина очень этому огорчается, а Глухоухов наоборот. Он от нее отдыхает, набирается сил для ее новых пакостей, поскольку, говорят, скоро эта лафа закончится и его выпустят на свободу.
Потому что никаких обвинений ему пока не предъявлено, и вряд ли они предъявлены будут — крупные люди, пострадавшие от Хора Трубецкого, уже выздоровели, успокоились и вспоминают о тех временах, когда их донимала музыка, не столько с неудовольствием, сколько с неудовольствием ностальгическим. Так что сидит он в качестве основного свидетеля. А что он скажет? Он и так уже все сказал, и ему ни в чем не поверили. У него даже не смогли отнять деньги, найденные при нем, громадную кучу денег — но нет такого закона, чтоб просто так взять и отнять деньги у человека, против которого даже обвинения никакого не выдвинуто. Может, скоро будет, а пока нет.
Так что сидит он сейчас в предзаке, докатывает, как тот сыр в масле, свои последние счастливые денечки без феи, рассказывает братве о своих немыслимых приключениях, и ему верят — братва и не такому поверит.
Немножко хуже сложились дела у Николая Дмитриевича Посадского. Ему пришлось пережить очень неприятные дни — его уволили, на него завели уголовное дело, а Первое Лицо самолично оторвало ему ушной протез и на глазах у бедняги ботинками растоптало. Так что ходит он сейчас вообще без правого уха, прическу себе особую на голове соорудил, чтоб культи не было видно, но все же видят! Последнее время дела у него стали налаживаться. В самый тяжелый момент позвонила ему Фаина и, добрая душа, сделала ему протекцию к Ухоглухову, чтоб только через Николая Дмитриевича жители города Ольховцево могли с тем человечком связываться на предмет отворот сделать. Денег на этом деле Николай Дмитриевич приобрел и восстановил всеобщее уважение. Опять же в должности восстановлен, и Дворец ему отремонтировали так, что я тебе дам! Правда, вот зовут его теперь не иначе, как Одноухий.
Тяжелее всех пришлось Нектову. Он это сразу понял, через несколько дней после того, как отдал Глухоухову свой Хор Трубецкого, да еще деньги за это заплатил таким оригинальным манером.
Пошла с тех пор у Нектова непись — ну, не получается у него писать стихи под музыку песен, и что ты будешь делать. То есть пишется, конечно, куда деваться, жить-то на что-то надо, и пока берут — может, по старой памяти, а может, потому что в современную песню и такое годится. Но он-то сам понимает, что полная ерунда, и страдает от этого, и занимается алкогольной интоксикацией.
Сначала-то думал — ну, непись и непись, вся моя жизнь, считай, сплошная непись была, и ничего, но потом заподозрил, что это как-то связано с хором. Тик тиком, отрыжка отрыжкой, а может, как раз его для настоящих вдохновений и не хватало. Правда, у Нектова, если признаться, настоящих-то вдохновений почти никогда и не было. Но все равно.
А тут еще пошли разговоры об этом хоре, да еще под тем же названием, которое он сам же ему и дал, и такой ажиотаж вокруг того хора, а он, Нектов, получается, что вроде как бы и ни при чем. А тут еще гениальной отрыжкой его назвали — так это ж моя отрыжка! Моя, Нектова по фамилии! Я ему название дал, мой мозг эти песни создал, пусть даже и без моего прямого участия!
Так ему и поверили. «Твоему мозгу, Нектов, — сказали Нектову, — только стишата для песенок ляпать, да и то не для всякой песенки, ты бы лучше свой мозг проветрил и хотя бы день не попил».
Плачет Нектов.
А в самые черные дни раздается вдруг у него в квартире телефонный звонок, и в трубке слышится родной голос:
— Ой, ладно, успокойтеся, не плачьте вы так уже ж, мне же ж больно. Ведь вы же ж, какой-никакой, а все же ж таки мужчина. Что сделано, то сделано, назад ходу нету, а вот вы лучше послушайте.
Нектов, сморкаясь и подпрыгивая от нетерпения, включает стереосистему, к которой уже давно подсоединен его телефон, включает ее на полную громкость, потому что знает он, знает, будет слышно не очень, и бегом бросается в кресло, и часами, часами слушает милые сердцу звуки:
— Триииистэ, трииииистэ, ха-ха-ха-ха-ха, ууууууууууууна мэханика.
Рон Гуларт
Мемуары королевы ведьм
Он не чихнул.
И это удивило его, потому что, просыпаясь, он всякий раз чихал по нескольку раз. В этой части Коннектикута стояла самая аллергийная пора.
И пока Поль Сансон выбирался из постели в арендованном им небольшом коттедже, зазвонил телефон. Он знал, кто звонит. Они набирали его номер через день — в самом начале девятого.
Зевнув разок, он вышел в небольшую гостиную и взял аппарат с рахитичного кофейного столика.
— Да?
— Поля Сансона будьте добры, — произнес в трубке вежливый и незнакомый женский голос.
— Слушаю.
— Меня зовут Эми, и я звоню по поводу вашего счета в Международном кредитном банке.
— А что произошло с Томом?
Молодая женщина вздохнула.
— Не думаю, что мне следует сообщать вам, Поль, — проговорила она нерешительным тоном. — Однако поскольку вы имели дело с Томом в течение нескольких недель…
— Том досаждал мне своими лживыми утверждениями о том, что я должен…
— Я еще перейду к этому, Поль, — проговорила Эми. — Но сначала позвольте мне рассказать про Тома.
Она снова печально вздохнула.
— Вчера вечером он бросился на своем мотоцикле с моста и бесследно исчез в реке.
Подавив удовлетворенный смешок, Сансон спросил:
— И в какую же реку он угодил?
— О, боюсь, я не имею права предоставлять подобную информацию. Достаточно сказать, что это была очень глубокая река.
— За все то время, что Том преследовал меня с этими деньгами, которых я вам, ребята, не должен, — проговорил Сансон, почесав левую лодыжку правой ногой, — он ни разу не говорил мне о своем увлечении мотоциклами.
— Это так. Очень странная вышла история, — сказала Эми. — Он купил мотоцикл только вчера днем.
— Жаль, — отметил Сансон, испытывая, однако, совершенно противоположное чувство. — Итак, к вам перешла его обязанность спозаранку напоминать мне, чтобы я выплатил деньги, которых…
— Нет, Поль, я звоню вам по другой причине. — Голос ее потеплел. — Оказалось, вы были правы в отношении этой задолженности.
— То есть я вам ничего не должен?
— Словом, за вами более не числится никаких долгов, и вы можете снова пользоваться своей кредитной карточкой прямо с этого мгновения. Ваш новый лимит составляет пятьдесят тысяч долларов.
— Прошу прощения?
— Пятьдесят тысяч долларов, — повторила Эми. — И поскольку вы, Поль, значитесь в нашем списке Особенно Ценных Клиентов, можете не вносить платежи в течение восемнадцати месяцев.
Удивленно булькнув, он проговорил:
— Очень мило с вашей стороны. — И отключил трубку.
Подойдя босиком к окну гостиной, Поль уставился на окружавший его коттедж редкий лесок. Накрапывал мелкий дождик. «И каким же образом я умудрился угодить из недобросовестных заемщиков в особенно ценные клиенты?»
Хрустя хлопьями, приготовленными из отрубей, он просматривал первую страницу «Ньюбекфордского Обозревателя», когда телефон зазвонил снова.
Сансон возвратился в гостиную.
— Алло?
— Привет, удод. Я тебя разбудил?
— Тебе не повезло, Руди. Ну, что там еще стряслось?
— Есть такое понятие — срок сдачи работы, — проговорил его моложавый редактор в далеком Манхэттене. — Оно что-нибудь говорит тебе?
— Издательство «Гринси Паблишинг» нанимало меня для того, чтобы помочь Инзе Варбертон подготовить мемуары, а не писать их, — напомнил он Руди Коркину. — И я отослал в ваше заведение по факсу все исправленные мной страницы, которые к настоящему времени получил от нее.
— Нанимая тебя за такие бешеные деньги, мы рассчитывали, что ты сумеешь поторопить ее…
— Пятнадцать тысяч долларов — бешеные деньги?… Лучше назовем это скромной оплатой. Ребята, подстригающие мою лужайку, зарабатывают столько же за…
— Тебе известно, что законченная рукопись нужна нам через три месяца, удод. И кое-кто в «Гринси» уже начинает…
— Инза Варбертон знает об этом, Руди.
— Мне пришлось побороться, чтобы ее книгу включили в зимний план, — произнес издатель. — И еще за то, чтобы отдать эту работу тебе. Потому лишь, что мне уже приходилось с тобой сотрудничать, и потому, что ты живешь с этой самозваной ведьмой в соседнем городе.
— Среди ведьм она — королева, — поправил Сансон. — То есть занимает высшее положение в этом сборище шарлатанов. И тебе это известно, Руди; не для того ли издательству понадобились ее мемуары?
— Может быть, и так, — молвил Руди, — однако следующие страницы мемуаров нужны нам буквально завтра. Иначе… иначе… иначе…
— Что с тобой, Руди?
Из трубки донесся глухой звук удара, следом за которым как будто бы со стола на толстый ковер съехало несколько увесистых рукописей.
— Руди?
Голос молодой женщины в трубке произнес:
— Поль, это Полли.
— А что там случилось с Руди?
— Не знаю, что сказать. Лежит на полу своего кабинета, дрыгает ногами, и лицо стало, как у вареного рака. Надо позвать на помощь. Перезвоним тебе позже.
— Ага, хорошо.
Опустившись на несколько минут в свое единственное кресло, он уставился на пустую коричневую стену за небольшим диваном, стараясь не замечать унылую серость за окном.
А потом, неторопливо поднявшись, произнес:
— Придется съездить к Инзе Варбертон.
Резная деревянная дверь распахнулась с такой силой, что медная колотушка в виде горгульи сама брякнула по ней. Из сумрачного коридора показалась крупная пухлая рука, втянувшая Поля в дом из недр дождливого дня.
— Я так рада видеть тебя, милый.
Тяжелая дубовая дверь захлопнулась, две объемистые руки обхватили его, и Поль оказался в пылких объятиях внушительной Инзы Варбертон.
Прижав своего гостя к себе, Инза приподняла его на несколько дюймов от видавшего вида паркета красного дерева и утопила в необъятной груди.
— Уф, — умудрился выдохнуть Сансон.
Выпустив его, Инза спросила:
— Итак, каковы твои впечатления?
— От чего? От твоих удушающих способностей?
Уже разменявшая свой четвертый десяток Инза тянула фунтов так на 320. Черные волосы ее были коротко подстрижены и зализаны. Как всегда, Инза прятала свои телеса под каким-то пыльного цвета балахоном, а с ее объемистой шеи на серебряной цепочке свисала серебряная медаль с египетским Оком Озириса.
— Расскажи, как ты провел утро, — предложила королева ведьм, беря Пола под руку и направляя его в заставленную и неярко освещенную гостиную.
Комната с балками, выступающими под потолком, в которой он обыкновенно работал с Инзой, была уставлена застекленными книжными шкафами, пыльными шкафами-витринами, несколькими столиками на гнутых ножках, кроме того, в ней присутствовал целый ассортимент чучел, идентифицировать которые Сансон был не всегда в состоянии. Среди расстеленных лоскутов ярких тканей тосковал пожелтевший человеческий череп, зеленым глазом поблескивал в темном углу хрустальный шар, целая россыпь благовонных палочек посылала вверх цветные, наделенные собственным ароматом дымки.
Когда объемистая дама устроилась в полинялом сиреневом моррисовском кресле[4], он спросил:
— Так, значит, это ты имела отношение к сегодняшним событиям в моей жизни?
Она усмехнулась:
— Последнее время мне все казалось, сердце мое, что на самом деле ты не веришь ни в меня, ни в мои силы.
Сансон присел на край стула с прямой спинкой.
— Три месяца назад, Инза, когда мы начали работать над твоими мемуарами, я говорил тебе, что не верю в колдовство. Однако я считаю себя вполне приличным литератором, способным придать пристойный вид любому тексту.
— Поль, дорогой, каждое написанное нами с тобой слово правдиво. И мне особенно хочется, чтобы ты принял меня такой, какая я есть, поскольку, как ты, наверное, уже успел догадаться, я успела привязаться к тебе.
Сансон отодвинулся вместе со стулом на несколько дюймов от королевы ведьм.
— Мне не слишком удобно завязывать близкие отношения с людьми, над книгами которых я работаю.
— Но я и в самом деле могу помочь тебе, Поль, — проговорила она. — Посмотри, что я сделала сегодня утром. Избавила тебя от аллергии, погасила твою большую задолженность, устроила так, что издатель не будет больше беспокоить тебя.
— И для этого ты воспользовалась колдовством?
— Колдовством, ворожбой, черной магией, — поправила она, выстроив характеристики по нарастающей. — Разве ты не обращал внимания на то, что мы пишем? Я действительно обладаю значительными оккультными силами, мой дорогой.
Поль глубоко вздохнул:
— И ты способна убить Руди на расстоянии?
— Расслабься, он жив. Просто я вывела его из игры.
— Но он находился в коме и…
— Возьми телефон, — указала Инза пухлой, в едва ли не детских перевязочках, рукой.
Мобильник Поля заверещал. Он извлек аппарат из кармана куртки и открыл его.
— Поль, с Руди все в порядке, — проговорила Полли, помощница главного редактора издательства «Гринси Паблишинг», правда, тоном, не внушающим особенного оптимизма. — Он пришел в себя, и этот странный румянец исчез.
— По-моему, уже неплохо. А где он сейчас?
— Насколько я могу судить, по дороге в Иолу, штат Висконсин.
— Зачем?
— Он решил несколько месяцев отдохнуть у сестры.
— Не знал, что у него есть сестра…
— И мы в издательстве тоже не знали. Но Руди всегда помалкивал о своей личной жизни.
— Теперь ты будешь редактировать нашу книгу?
— Как ни странно, нет. К нам присылают новичка из Германии. Оттуда, где находится владеющий издательством оружейный концерн. Из Мюнхена. Но имени я пока не знаю.
— Ласло Фонт, — подсказала Инза из своего сиреневого кресла.
— Полли, если будешь говорить с Руди, передавай ему мои наилучшие пожелания.
— Конечно, передам. Ну и денек, а?
Закончив телефонный разговор, он бросил хмурый взгляд на королеву ведьм.
— Что за черт… Ласло Фонт?
— Наш новый редактор, мой милый, — ответила она. — Не такой солдафон, как наш дорогой Руди…
— Руди был обыкновенным ничтожеством, а не солдафоном.
— А Ласло, невзирая на образование, полученное в отличавшемся весьма строгими нравами военном училище, человек любезный и джентльмен. У нас будет достаточно времени на завершение работы и… возьми телефон.
Телефон его опять трезвонил.
— Это снова Полли. Прости, что отрываю от работы над книгой, но я забыла кое-что сказать…
— Да?
— Сегодня мы выпишем тебе чек, Поль, а завтра отправим его по почте.
— Какой чек?
— Дополнительный аванс из твоей доли роялти. Очевидно, Руди распорядился об этом перед тем, как э… как его сразил удар. Двадцать пять тысяч долларов.
Поднявшись с места, Поль подошел к Инзе.
— Опять твое колдовство?
Она широко развела пухлые руки, безуспешно пытаясь изобразить невинность.
— Ведь такое могло случиться, будь я настоящей ведьмой, одаренной особой силой. Но ты считаешь меня самозванкой…
— Ну, нет. Так называл тебя Руди, — возразил Поль. — Я лично склоняюсь к тому, чтобы признать твои претензии. И совсем не возражаю против твоих попыток выжать из «Гринси» больше денег, чем они обещали.
— Спасибо тебе, дорогой.
— А вот остальные фокусы, Инза… когда мои кредиторы бросаются с моста верхом на мотоцикле или Руди Коркин падает в лихоманке… не знаю, чем ты там его наградила… такие штучки надо прекратить.
Она вздохнула всем телом, так, что звякнули браслеты.
— Ладно. Никакой черной магии и волшебства, — пообещала она. — Надеюсь, Ласло не разочарует тебя.
— Боже, а с ним-то что случилось?
— Ничего такого, просто ему исполнилось двести двадцать шесть лет, — ответила Инза. — Только не волнуйся, на самом деле это незаметно.
— Но как он дотянул до двухсот двадцати шести лет?
— Просто не стал умирать. У вампиров есть такая способность.
Поль вскочил.
— Великолепно, Инза, просто великолепно! Вместо никчемного редактора ты подсовываешь мне живого мертвяка.
— Ладить с ним будет много проще.
Сансон заходил по комнате — насколько это было вообще возможно в набитой вещами гостиной.
— И ты не оставила намерения наделить меня несколькими новыми страницами своих мемуаров…
— Теперь, когда дорогой Руди не имеет возможности давить на нас, я ощущаю прилив вдохновения!
Он повернулся к своему креслу, едва не споткнувшись о керамическую саламандру.
— Отлично, я приеду в пятницу вечером, и мы сможем…
— Мне подумалось, дорогой, что работа пойдет более продуктивно, если ты будешь у меня под рукой.
— То есть?
— Здесь, рядом, так сказать, на борту, — объяснила она. — То есть я хочу, чтобы ты остался у меня. Свободные спальни в доме есть, потом, как тебе известно, я обзавелась кухней для подлинного гурмана со всеми этими симпатичными шкафчиками и полочками…
— Я — писатель, а не шеф-повар, — проинформировал он собеседницу. — У меня есть свой дом. Там у меня компьютер, файлы. Там я пребываю в уединении, Инза. Нет, я не хочу перебираться к тебе.
— Очень хорошо, дорогой. Не стану тебя принуждать, — проговорила она, с пыхтеньем поднимая из кресла массивное тело. — Ты уверен в том, что у тебя нет больше никаких мелких проблем, которые я могла бы решить?
— Нет, спасибо. И больше никакой черной магии. — Поднявшись, он направился к выходу.
— Хорошо. Буду ждать тебя в пятницу, примерно к двум часам. — Инза неловко шагнула к нему.
— Ладно, буду к двум. — И он выскользнул в дверь, успев избежать прощальных объятий.
День приближался к вечеру, и погода сделалась еще хуже. Отъезжая по извилистой дороге от дома Инзы, располагавшегося на самой вершине холма, Сансон не только попал под проливной дождь, но увидел синие вспышки молний, услышал рокотавшие все ближе и ближе раскаты грома.
Либеральная станция, которую он всегда слушал в автомобиле, на сей раз транслировала один лишь треск, и он переключился на единственный джазовый канал в регионе, именно для того, чтобы услышать, как гнусавый диск-жокей объявляет, что весь следующий час будет отведен беспрерывной трансляции лучших произведений группы «Большие Копы».
Он выключил радио.
Дворники на ветровом стекле, которые он все собирался заменить, с каким-то плачущим визгом разгоняли струи дождя.
Ослепительная молния вдруг вырвала из сумрака участок дороги, вдоль которого были посажены деревья, и Поль увидел молодую женщину. Она стояла на обочине, худощавая, в белом плаще с зеленым шарфом, держа над головой небольшой желтый в горошек зонтик.
Он притормозил возле женщины и наполовину опустил стекло.
— Что-нибудь случилось? — обратился он к сплошной стене дождя.
Женщина заторопилась к машине.
— Ничего серьезного. Если бы не эта проклятая гроза, я бы сама добралась до дома.
— Машина сломалась? — спросил он, хотя на дороге не было ничего похожего на автомобиль.
Кивнув, она указала в сторону леса за узкой дорогой.
— Да, оставила на кладбище. Не заводится.
— На Старом кладбище Нью-Бекфорда?
Женщина улыбнулась:
— Звучит, конечно, странно. Но я художница, сидела в автомобиле и зарисовывала некоторые из надгробий и склепов восемнадцатого столетия.
— Что ж, садитесь, — предложил он. — Отвезу вас домой.
Незнакомка обошла автомобиль спереди, сложила зонтик и села рядом.
— Непохоже, чтобы вы хотели взглянуть на мою машину…
— Ну да, — признал Поль. — Любой ремонт выходит за пределы моих способностей.
Она снова улыбнулась:
— Позвоню в свой гараж, когда попаду домой. Меня зовут Сара Бардсли.
— Поль Сансон.
— О, вы писатель?
Тронувшись с места, он посмотрел на нее.
— Вы действительно слышали обо мне?
— Ну, вкусы у меня эклектические, — призналась Сара. — Я читала ваши детские книжки…
— Я написал их шесть лет назад, когда был женат и находился в лучшем настроении, — заметил он. — А теперь в основном перебиваюсь научно-популярной литературой.
— Как стыдно.
— Не стану возражать, но то, что я пишу, дает мне больше возможностей справляться с алиментами и расходами на жизнь. А где вы живете?
— Не скажу, что мне было приятно поселиться на улице с подобным названием, — проговорила молодая женщина, — но когда я увидела коттедж на улице под названием Висельный Холм, я просто влюбилась в него. И купила.
— Купила?
— На свое наследство, — пояснила она. — Я несколько лет занималась промышленной графикой, и когда тетя Тереза оставила мне немного денег, решила взяться за то, о чем мечтала. За живопись. Быть может, несколько тривиальное занятие, но приятное. По крайней мере, для первых пяти месяцев.
— Я бы сейчас от наследства тоже не отказался. — Справа впереди показался поворот на улицу Висельный Холм, и он свернул.
— Мой дом номер 303. И по какой-то неведомой причине 303 находится после 305. Прямо за следующим поворотом, — проговорила Сара. — Над чем вы работаете сейчас, Поль?
— Так пустяк, нечто вроде книги о привидениях. — Заметив впереди серебристый почтовый ящик с номером 303, он свернул на залитую дождем подъездную дорожку.
Небольшой домик был построен в английском духе двухсот- или трехсотлетней давности. Тюдоровский стиль с имитацией соломенной крыши, небольшими окошками из цветного стекла и уймой плюща.
— Неплохо смотрится, да? — заметила Сара, когда он остановил автомобиль возле самой двери. — Но вы не видели его в солнечный день!
— Он весьма мил даже в грозу.
— Учитывая вашу любезность, могу ли я предложить вам чашечку кофе?
— Это было бы неплохо…
Перебежав под дождем к двери, молодая женщина отперла ее.
Гостиная оказалась просторной, под выступающими балками потолка располагалась крепкая старинная мебель.
— Подождите минуточку, — сказала она, выходя из комнаты. — Я позвоню в гараж и сварю кофе.
Расхаживая по теплой и уютной комнате, Сансон заметил на беленых стенах несколько вставленных в рамки акварелей. Все они изображали обветшавшие могильные плиты, ветхие склепы или хмурые осенние пейзажи.
Хозяйка дома окликнула его из кухни:
— Вам без кофеина?
— Конечно.
Когда несколько мгновений спустя Сара появилась с двумя чашками кофе и тарелочкой печенья на подносе, он отметил, что без плаща и шарфа она оказалась весьма привлекательной молодой женщиной: изящной, лет двадцати пяти, с отливающими рыжиной волосами, но чрезвычайно бледной.
— Вы не прихворнули? — спросил он, взяв чашку с поставленного на столик подноса.
— С чего вы это решили? — она присела на подлокотник дивана.
Сансон прикоснулся к собственной щеке.
— Вы так бледны…
— Вам придется привыкнуть к этому. — Сара положила две ложки настоящего сахара в свою чашку. — Я от природы такая.
Он ответил:
— Чтобы привыкнуть, нам придется часто видеться.
— Естественно, — согласилась она.
Пятница тоже началась с дождя. Однако, невзирая на уныние за окном и ожидавший его день в обществе королевы ведьм, Сансон пребывал в великолепном расположении духа.
«Чувствую себя просто отменно, — решил он, изучая себя в кривоватом зеркале аптечки. — Хотя в настоящее время люди редко пользуются этим словом».
Причиной для хорошего настроения было вчерашнее свидание с Сарой Бардсли. Он предложил отобедать в своем любимом ресторане «Мясной пир», что в Южном Норвоке, однако девушка не согласилась, сославшись на то, что является вегетарианкой. Посему им пришлось отправиться в новое для него место — «Вива Лас Вегетерос» в Вестпорте.
«Я способен на вегетарианскую диету только раз в неделю, — рассудил он, заканчивая бритье и переходя к одеколону, благоухавшему как густой сосняк в ветреный день. — Ну, или два-три раза — если в ее обществе».
В его скромной кухне зазвонил настенный телефон. Сансон поспешил к аппарату. Теперь, когда Инза Варбертон с помощью чар уладила его финансовые дела, он был уверен: в такую рань звонит кто угодно, только не кредиторы.
— Алло.
— Быть может, вы поможете мне, сэр, — услышал он хрипловатый женский голос. — Я как раз пытаюсь обнаружить некоего презренного негодяя по имени Поль Сансон. Он опять самым страшным, самым жутким образом задерживает выплату алиментов.
Сансон вздохнул.
— Три дня опоздания, Минди, не тянут и на просто «страшным образом», не говоря уже о «самом страшном» и «самом жутком», — сообщил он своей бывшей супруге. — Назовем их небольшой задержкой, что будет соответствовать юридическому определению. И как там у вас сейчас дела в Санта-Монике?
— Так себе, — ответила Минди Дарр. — Льет день за днем напролет.
— Можешь построить ковчег.
— Если ты уже закончил с остротами, Поль, — проговорила мадам, — давай вспомним о твоем долге. Что конкретно означают эти три дня опоздания?
— Они означают, что я отправил тебе этот поганый чек на три дня позже срока. И эти бешеные деньги несутся к тебе на крылышках, пока мы сейчас говорим. Готов в том поклясться, и пусть мои слова засвидетельствует сам Бог!
— Какого бога ты имеешь в виду… не египетского ли, с шакальей головой? — спросила Минди. — Или какого-нибудь ползучего гада, которому поклоняются каннибалы?
— Ты получишь чек завтра или уже сегодня.
— Ладно, посмотрим, — сказала она. — А пока скажи мне, как тебе понравилось мое шоу?
— И какую из тупых комедий ты имеешь в виду? — спросил он у актрисы.
— Ты выражаешься теперь еще хуже, чем во время нашего нудного брака, — пожаловалась она. — Я исполняю главную роль в «Смертельном уколе: Техас», в высшей степени успешной версии «Смертельного укола». На прошлой неделе мы занимали третье место в рейтинге, как раз после «Я женился на толстушке» и перед «Итак, тебе нужна избирательная хирургия».
— Поздравляю, — сказал он. — Только, Минди, хотя наше соглашение о разводе предусматривает выплату мной немыслимых алиментов, в нем ничего не сказано о том, что я должен в муках терпеть у экрана всю ересь, отснятую с твоим участием по сценарию безмозглого ТВ-писаки, с которым ты сейчас живешь…
— Но я ни с кем не живу, — категорично произнесла актриса. — И мне хотелось бы, чтобы ты…
— Чтобы что?
— Тихо. Мой дом начинает издавать очень странные звуки.
— Ладно, отключаюсь, чтобы ты могла разобраться в них.
— О, Боже! — взвизгнула Минди. — Это оползень! Весь мой дом едет вниз, прямо в чертов Тихий океан. Перезвоню тебе попозже.
Глубоко вздохнув, Поль позвонил Инзе.
— Да, Поль, слушаю тебя, дорогой? — ответила та.
— Мне кажется, мы уже договаривались: никакого колдовства и черной магии, — начал он. — Не устраивай больше никаких своих шуточек над моими знакомыми. И зачем тебе понадобилось убивать мою слабоумную бывшую жену посредством…
— То, что случилось с ее домом, вызвано исключительно естественными причинами. Ты строишь дом в Лос-Анджелесе, на склоне горы, потом идет сильный дождь и — фьюить! — поехали.
— И в каком же качестве я теперь пребываю? Соучастника убийства?
— Дама осталась жива, — уверила его ведьма. — В результате непредусмотренного и некомфортабельного спуска к морю она стукнулась головой. И когда придет в себя, начисто забудет о том, что ты должен ей платить. Напротив, память будет подсказывать бедняжке, что ты разом выплатил ей назначенную сумму и не должен больше ни гроша.
— Зато ее адвокат не забудет об алиментах.
— Давай-ка поговорим о случайностях. Судейский крючкотвор твоей бывшей супруги как раз собрался пройтись по Бульвару Звезд, споткнуться, приложиться котелком к звезде Мэрилин Монро и лишиться сознания. В результате чего в памяти его также появятся некоторые прорехи, — поведала ему Инза. — Ох, я только что увидела в одном из своих хрустальных шаров, как адвокатишко нырнул носом вперед! Какая жалость…
— Ну ладно, Инза, — ответил Поль. — На сей раз я не возражаю против твоего вмешательства, но давай обойдемся без дальнейших любезностей с твоей стороны. Хорошо?
— Как скажешь, — обещала ему королева ведьм. — Не хочешь ли приехать пораньше и пообедать, прежде чем приступим к работе над мемуарами? Я приготовлю акулий стейк под соусом тартар и…
— Спасибо, но у меня уже назначено свидание на это время, — соврал он.
— Поль, никакого свидания у тебя нет. Однако навязывать себя кому бы то ни было — ниже моего достоинства. Я согласна дожидаться своего часа.
— Отлично.
— Желтые розы.
— Что?
— Та вострушка, с которой ты намереваешься встретиться сегодня вечером, — проговорила Инза, — любит желтые розы.
— Инза, моя личная жизнь ничем не связана с делами, — полным досады голосом проговорил Сансон. — Не смей больше совать…
— Милый мой, я и не думала вмешиваться, — проговорила ведьма. — Во всяком случае, пока.
— Буду у тебя в два часа. — Он повесил трубку.
Неожиданным образом оказалось, что на дорожке перед несколько обветшавшим домом Инзы Варбертон уже стояло несколько автомобилей. Сансон оставил свою машину позади серого «мерседеса». Направившись к дому, он прошел мимо лимонно-желтого жучка фирмы «фольксваген» и насквозь пропыленного «сааба». Возле уже желтеющей зеленой изгороди скучал десятискоростной велосипед.
Массивная дубовая створка входной двери была полуоткрыта. В прихожей его встретила улыбкой пышная молодая особа с бутылочкой диетической газировки в руке.
— Вы присоединяетесь к нашему шабашу?
— Пока еще нет, — ответил Сансон, проходя мимо нее.
В тесной гостиной бородатый мужчина критическим оком рассматривал блюдо с сандвичами, приютившееся на шатком столике.
— Спартанское угощение для коктейля, — обратился он к стоявшей возле него тощей женщине.
Инза вынырнула из-под лестницы, уводившей на второй этаж ее дома.
— У меня такой огромный сюрприз для тебя, милый. — И прежде чем Поль успел увильнуть, объемистая дама прижала его к себе в пылком объятии и тепло поцеловала в щеку.
Высвободившись, он спросил:
— Разве сегодня мы не будем работать над твоей книгой?
Инза взяла его за руку.
— Я устраиваю импровизированный прием для Ласло, — пояснила она, эскортируя Поля наверх. — Пригласила членов моего шабаша на встречу со стариной. Но мне хотелось бы сперва представить его тебе.
— Разве он не в Европе? — спросил Поль, следуя за ней в полутемный коридор.
— Стала бы я устраивать прием в его честь, если бы это было так! Видишь ту дверь по левую сторону. Это спальня, которую ты займешь, когда поселишься здесь. Можешь заглянуть на минутку, чтобы…
— Но я не переезжаю, — напомнил он ей. — Лучше познакомь меня с этим Фонтом.
— Как тебе угодно. А вот его комната справа, — она приоткрыла темную деревянную дверь. — Ласло, к тебе можно?
На старинном персидском ковре, расстеленном перед кроватью с пологом, покоился весьма милый гроб черного дерева с богатой серебряной окантовкой.
Сансон застыл на пороге.
— И как ты доставила его сюда? Разве таможня…
— Телепортация, мой дорогой. — Инза с присвистом взмахнула рукой. — Ласло владеет ею куда лучше меня.
— Значит, он телепортировал свой гроб сюда прямо из Европы?
— Причем вместе со мной, мой мальчик. — Крышка гроба с легким скрипом распахнулась, и в нем обнаружился широкоплечий мужчина. — Вместе со мной и малой толикой моей родной венгерской земли. Приятно будет поработать с тобой над книгой, Поль. Я считаю, вы с Инзой затеяли жуткую книгу. Быть ей в списке «Нью-Йорк Таймс»!
Легким движением поднявшись из гроба, широкоплечий и высокий джентльмен протянул Полю руку.
— А я думал, — проговорил Сансон, с опаской обмениваясь рукопожатием со своим новым редактором, — что вампиры днем спят.
Фонт и Инза рассмеялись, и королева ведьм проговорила:
— Бабушкины сказки, мой милый.
— Я дремлю у себя в гробу, — признался вампир-редактор. — В конце девяностых годов девятнадцатого века я провел несколько лет в Испании, где и приобрел привычку так проводить время в сиесту.
— Ласло, целая дюжина людей ждет, когда же ты наконец спустишься вниз.
— Поль, мы переговорим о вашем потенциальном блокбастере после того, как я поприветствую всех участников шабаша. — Отряхнув с темных брюк последние частицы венгерской пыли, граф широкими шагами направился к двери.
— Скажи, разве он не лучше, чем ничтожный Руди Коркин? — спросила королева ведьм, с пылом обнимая Сансона.
— О, да, конечно, — ответил Поль. — И к тому же совсем не скажешь, что он выглядит на свои годы.
Невзирая на нелегкое чувство, которое вызывал у него редактор-мертвяк, Сансон ощущал себя все более счастливым в ту неделю, которая последовала за вечеринкой у королевы ведьм. Причина его радости заключалась исключительно в Саре Бардсли.
Как поведала Инза, любимыми цветами молодой художницы были желтые розы. Обед в «Вива Лас Вегетерос» прошел весьма мило, и Поль обнаружил, что лишенные мяса трапезы ему приятны. В тот вечер Сара поцеловала его, когда он привез ее домой, в псевдосельский коттедж. А в субботу, после того как они съездили в торгово-развлекательный комплекс, чтобы посмотреть фильм, отснятый фирмой «Пуппетун» по роману Филипа Дика, он провел у нее ночь.
Сара стала первой женщиной, в отношении которой он ощутил подлинный энтузиазм. Привлекательная, смышленая и пылкая, она и в самом деле прочла несколько написанных им книг и высказывала по их поводу вполне разумные соображения. Она даже подбивала его начать новую детскую книжку и бралась нарисовать для нее иллюстрации. Ну, а в воскресенье он совершил невиданный для себя за последние два года поступок: отвез ее потанцевать в диско-клуб в Южном Норвоке.
Словом, несмотря на сотрудничество с ведьмой и вампиром-редактором, Сансон ощущал, что жизнь его налаживается.
Агента Международной оккультной полиции он встретил в супермаркете фирмы «Эдем инкорпорейтед» сразу после полудня следующего же понедельника, прямо в отделе соевых бургеров.
Его привело в это место данное Саре обещание исправить свои диетические привычки. Решив не торопиться с полным переходом на вегетарианскую кухню, Поль не стал брать тележку и ограничился самой маленькой корзинкой.
Склонившись вперед, он рассматривал выложенные за стеклом упаковки, когда на него налетел невысокий и почти лысый мужчина лет сорока пяти, споткнувшийся о колесо кем-то забытой тележки.
— Простите великодушно, — извинился, выпрямляясь, нарушитель порядка.
— Должно быть, виноват я сам, — отозвался Сансон. — Я настолько углубился в сравнение и сопоставление качеств бургеров «веган» и «вегги сальса», что не заметил вашего приближения.
Отряхнув свою твидовую спортивную куртку, лысый коротышка проговорил:
— На самом деле, Сансон, вина целиком моя, и все столкновение является простой уловкой.
— Ах так?
Указав на ближайшую к ним закусочную в этом большом продуктовом супермаркете, незнакомец сказал:
— Не могу ли я предложить вам чашечку травяного чая? Мне необходимо переговорить с вами.
— И о чем же? Да, кстати, а кто вы такой?
— Мое имя Виктор Труэкс. Работаю разъездным агентом Международной оккультной полиции. — Взяв Сансона под руку, он отвел его вдоль прилавка к одному из свободных столиков.
— Никогда не слышал о такой организации.
— Естественно. Мы стараемся оставаться как можно более незаметными. Держимся ниже травы, — пояснил Труэкс. — Я не стал бы обращаться к вам, если бы вы не вступили в контакт с графом Ласло Фонтом.
— Значит, он граф?
— О, да, был графом в течение почти двух столетий после того, как отправил на кол троих родственников, преграждавших ему путь к титулу. — Опустившись в одно из светлых деревянных кресел, агент кивнул в сторону пустого напротив него. — Предпочитаю чай с перечной мятой, но вы, может быть…
— Мята годится не хуже всего другого. А почему ваши парни интересуются Фонтом?
— Схожу за чаем и все расскажу вам. — Труэкс поднялся и поспешил к прилавку.
Сансон опустил свою корзинку на кафельный пол возле кресла.
Пока в ней находились только баночка арахисового масла и две жестянки газированного зеленого чая.
Вернувшись с мятным чаем, Труэкс приступил к объяснениям:
— Мое отделение МОП… то есть Международной оккультной…
— Я уже понял это. Так в чем дело?
— Мое отделение занимается истреблением вампиров на всех континентах, — сообщил ему лысый агент. — Мы на несколько месяцев потеряли следы Фонта, пока он не обнаружился здесь в качестве редактора издательства «Гринси».
— Об этом сообщалось в «Паблишерс Уикли».
— Мы прочитали эту заметку.
— Но при чем здесь я?
Труэкс достал из нагрудного кармана куртки старый, поблекший и побуревший фотоснимок размером с открытку.
— Давайте сперва подтвердим, что вы имеете дело с тем самым человеком, которого мы разыскиваем. Это и есть граф Фонт?
Взяв карточку, Сансон рассматривал ее в течение нескольких секунд:
— Он самый, только здесь кажется моложе.
— Снимок был сделан в Будапеште в 1907 году, когда ему было на сотню лет меньше, чем сейчас.
Отдавая обратно фотографию своего редактора, Сансон осведомился:
— Но зачем вам нужна моя помощь, если вы знаете, где он находится?
— Меня интересует, где именно он держит свой гроб, — ответил оперативник МОП. — Когда я уничтожу его вместе с частицей родной земли, с графом Фонтом будет покончено.
— Кажется, это не слишком трудное дело.
— Вся полувековая история МОП свидетельствует об обратном. Задача чрезвычайно сложная, — проговорил Труэкс. — Но если мы заручимся поддержкой своего человека… — Достав из стакана пакетик, он уронил его на салфетку. — Вы находитесь в интимных отношениях с Инзой Варбертон, и…
— Минуточку. Я бы не стал называть наши отношения интимными, — поправил он собеседника. — Я помогаю Инзе писать мемуары. Фонт теперь стал моим редактором. У нас с ней чисто деловые отношения.
— Насколько я понимаю, Инза воспользовалась своими паранормальными силами, чтобы существенно помочь вам. — Труэкс хлебнул мятного чая. — Я бы не рекомендовал принимать такие одолжения от подобных лиц.
— Действительно, она исправила мое финансовое положение. Насколько я понимаю, с помощью колдовства, — согласился Поль. — Но никто от этого не умер.
— Тело представителя кредитного агентства, который бросился в реку вместе со своим новым, с иголочки мотоциклом, так и осталось не найденным, — заметил Труэкс. — И ваша бывшая супруга находится сейчас в госпитале Санта-Моники с переломом ноги и трех ребер.
Наклонившись вперед, Сансон проговорил:
— Но Инза заявила, что Тома вытащили из воды и он благополучно перенес полет с моста. А с Минди вообще ничего не случилось, если не считать нескольких синяков, полученных, пока дом съезжал вниз.
— Наивно ожидать, чтобы ведьма, а тем более королева ведьм, говорила правду. — Оперативник сделал новый глоток. — Кроме того, не думаю, чтобы она сообщила вам про мистера Хенкеля.
— Кто такой этот Хенкель?
— Мистер Хенкель ехал на велосипеде вдоль берега по шоссе, когда дом вашей бывшей жены зацепил его по пути в море. Он до сих пор находится в коме — в том же самом госпитале в Санта-Монике.
— Вот как. — Сансон обхватил свою чашку правой рукой. — Не думаю, чтобы я хотел встревать в это дело на вашей стороне.
Труэкс понизил голос:
— Вы боитесь, что Инза подслушивает наш разговор?
— Ну, у нее есть этот хрустальный шар…
— Опустите левую руку в карман вашей куртки.
Хмурясь, Сансон исполнил указание, и в руке его оказался круглый серебряный медальон диаметром примерно в три дюйма.
— А это что такое?
— Медаль Святого Норберта, — ответил Труэкс. — Самым эффективным образом не позволяет колдунам и ведьмам следить за вами и вредить вам. Эта медаль — и та, которой пользуюсь я сам — была благословлена папой и шестью кардиналами. Кроме того, в нее встроен мощный чип, разработанный в Цюрихе нашей Лабораторией антимагической защиты.
Поль опустил медальон обратно в карман.
— Признаться, я не ощущаю какой-то своей вины в том, что сделала Инза, — наконец проговорил Поль. — А через несколько недель я закончу работу и отделаюсь от нее.
— Зря вы так считаете.
— При той сумме, которую я получу, когда книга выйдет, плюс то, что у меня уже есть, никаких трудностей ожидать не приходится. Нищая жизнь закончена, никаких кредиторов и тревог о том, где наскрести деньги на следующие алименты. — Сансон откинулся назад в кресле. — Как вам, наверное, известно, я познакомился с потрясающей женщиной, и как только избавлюсь от Инзы, поселюсь с ней. Подальше от Коннектикута.
Сочувственно вздохнув, Труэкс проговорил:
— Вы не понимаете, сколь привязалась к вам Инза. Она хочет, чтобы вы перебрались в ее дом и, в конечном счете, стали членом ее шабаша. Вам никогда не удастся избавиться от нее.
— Да нет же! Мы с Сарой…
— Тогда вот вам еще одно фото. — Агент достал из нагрудного кармана столь же побуревший снимок, как и первый. — Сделан в Вене, в 1917 году.
Он подвинул фотографию к Сансону.
Взяв снимок в руки, Сансон выронил его:
— Похожа на Сару, но…
— Ее настоящее имя — Эмилия Вестерленд. Родилась в Англии, в Сомерсете, в 1897 году и завербована в вампиры графом Фонтом в возрасте семнадцати лет во время работы в одном из лондонских мюзик-холлов.
Перевернув снимок лицом вниз, Сансон медленно пододвинул его обратно к агенту:
— Не понимаю…
— Они использовали ее, чтобы заполучить вас, — пояснил Труэкс. — Инза не сумела уговорить вас вступить в ее круг. Однако она уверена, что Саре в конечном счете это удастся сделать.
— Вам нужно добраться до Фонта, — сказал Сансон, вставая. — Насколько я понимаю, с помощью этого фальшивого снимка вы пытаетесь заставить меня работать на вас.
— Спросите Сару, — предложил Труэкс, передавая ему серую фирменную визитку. — А потом свяжитесь со мной, и мы разработаем план действий по разгрому всей банды.
Забыв о своей корзинке, Сансон поднялся и поспешил к выходу.
Облаченная в джинсы и пуловер Сара открыла дверь, когда Поль торопливо шел по полуденной лужайке к ее домику.
— Кофе будет готов через несколько минут, — сказала она, делая шаг вперед, чтобы обнять его.
Поль высвободился из объятий.
— Ты уже знала о моем приходе?
Она улыбнулась, снова обняла его и отступила в гостиную.
— Входи, дорогой.
Он остановился посреди уютной комнатки и посмотрел на яркий огонь в небольшом кирпичном камине.
— Мне нужно кое о чем переговорить с тобой, Сара.
Она устроилась в кресле, подобрав под себя ноги, и произнесла:
— Может быть, лучше сначала выпьем кофе?
— Нет, я… — умолкнув, он набрал воздуха в грудь и проговорил: — Вот что, Сара, скажи, сколько тебе лет?
Поглядев на балки потолка, Сара чуть наморщила лоб.
— Так, посмотрим… я родилась в 1897-м, — проговорила она после недолгого раздумья. — Итак, получается, что мне… Черт, никогда не была сильна в математике. Почему бы тебе не подсчитать самому?
— Не стоит. — Он рухнул на диван. — Вся беда в том, что ты в сговоре с Фонтом и Инзой. И вся наша проклятая связь…
— Я бы не сказала, что мы находимся в сговоре, Поль, — поправила его Сара. — Я просто обязана делать то, что приказывает мне Лас-ло. Видишь ли, таково условие жизни вампира. Поскольку он посвятил меня…
— Боже мой, я спал с вампиром. — Он вскочил. — Прямо название какого-нибудь непотребного второсортного фильмеца, из тех, что показывают на Тернер Классикс… «Я спал с вампиром».
— Ты расстроился, дорогой, — сочувственно произнесла Сара. — Но ты мне действительно нравишься. И как мне неоднократно говорили, особой разницы в постели между кем-нибудь из нас и современной женщиной нет. В самом деле.
— Утешительная весть. — Он снова сел на диван и тут же опять вскочил. — И с каким количеством мужиков ты успела переспать после 1897 года?
Сара пожала плечами:
— Я же сказала тебе, что не сильна в математике.
Он принялся неровными шагами расхаживать по уютной гостиной.
— Но почему тебя приставили ко мне?
— Инза очень симпатизирует тебе, — пояснила Сара. — Она надеялась, что сумеет уговорить тебя перебраться в ее дом и вступить в шабаш без посторонней помощи…
— Она не смогла этого сделать.
— …и осознав это, она обратилась к Ласло, который послал меня сюда, чтобы я попыталась уговорить тебя.
Он кивнул:
— Итак, ты вербовщица. И я для тебя не дороже доллара. Черт, ты даже, наверное, не читала ни одной из моих книг.
— Нет, дорогой, одну я все-таки прочла. Она оказалась не настолько хороша, как я говорила тебе, однако и не была провальной. — Сара поднялась на ноги. — Ты мне нравишься, хотя тебе придется понять, что я была знакома со множеством интересных мужчин. Более чем за столетие нельзя не встретить…
— Хорошо же! — Он шагнул к двери. — Теперь я знаю, что делать: мне надо избавиться от графа Фонта и всего ведьмовского шабаша.
— Проще будет примкнуть к нему, — посоветовала Сара. — Я охотно продолжу нашу дружбу, если ты поступишь подобным образом. Ты же не хочешь и в самом деле рассердить Ласло или Инзу.
Распахнув дверь, он бегом устремился к своей машине.
Запустив двигатель, он сразу дал газу и помчался по улице Висельный Холм прочь от домика Сары.
Набрав скорость, он опустил руку в карман куртки, где оставался защитный медальон.
— Проклятье! — Медальона Святого Норберта не оказалось на месте. — Обнимая меня, она обчистила карманы!
Ничего. Поль схватил свой мобильник, лежавший на пассажирском сиденье. Он позвонит Труэксу, он расскажет ему о том, где находится гроб графа. Начнет прямо с этого.
Он начал искать визитку агента МОП в другом кармане, вынул руку, сбавил газ и задумался.
Отправив мобильник обратно на сиденье, Поль проговорил вслух:
— Связаться с ним никогда не поздно. Однако теперь, когда у меня завелись деньги, можно купить себе несколько хороших вещей. — Кивнув собственным словам, он улыбнулся. — А я всегда мечтал о мотоцикле.
Перевел с английского Юрий СОКОЛОВ
© Ron Goulart. Memoirs of the Witch Queen. 2007. Печатается с разрешения журнала «The Magazine of Fantasy & Science Fiction».
Фредерик Дурбин
Костяной человек
Конлин свернул с шоссе, потому что проголодался. По крайней мере, он решил назвать голодом это ощущение, нарастающее беспокойство, которое невольно заставило его обратить внимание на указатель съезда с шоссе и бросать по сторонам быстрые взгляды, как обычно делают водители, гадая, что скрывается за рекламными щитами и дорожными ограждениями. Он понимал, что увидит там только голые поля, но сейчас ему хотелось оказаться среди них и найти место, где можно наполнить желудок. На перекрестке не было никаких намеков на то, какой путь ведет к цивилизации, но черное дорожное покрытие слева выглядело более перспективным: оно было шире, а на горизонте смутно виднелось несколько строений. И все же Конлин свернул направо и поехал на восток по дороге с битумным покрытием, посыпанной гравием. Он повиновался инстинкту, который до сих пор его еще никогда не подводил. Чем-то его манила пыльная, поросшая лесом низина, где деревья стояли в ярком осеннем наряде. Изрезанные колеями пастбища, провисшие проволочные ограждения, канавы с водой в ржавых разводах — такой пейзаж никогда не менялся, по крайней мере, за тридцать с лишним лет с того момента, как Никсон ушел в отставку. Свиньи валялись в грязи под жарким полуденным солнцем слева от Конлина. Одна свинья стояла у заросшей травой ограды и раздувала ноздри, когда он проезжал мимо. Страшные животные, эти свиньи, особенно крупные, в этих пуговичных глазках светится большой ум.
Дорога вздымалась и опускалась, как американские горки, и каждый спуск оказывался более глубоким, будто впереди текла скрытая от глаз речушка, где-то под красно-золотисто-рыже-оливково-серой массой крон деревьев. Конлину нравились низкие места, лесистые, забытые уголки, в которые трудно проникнуть взглядом и трудно пробраться. Такие места полезны; не то чтобы ему сейчас было нужно такое место. Он ехал ради удовольствия, не по делам.
Впереди виднелся городок, за первыми рощами деревьев. Обычный зеленый дорожный щит с названием отсутствовал, но лезть за картой не стоило. Над поселком возвышалась характерная водонапорная башня цвета тусклого серебра, ржавеющая на своих опорах, словно одна из брошенных марсианских машин Герберта Уэллса. На ней тоже не значилось никакого названия. Конлин опустил стекло со своей стороны на несколько дюймов и впустил прохладный воздух. Несмотря на примесь запахов свиней и пыли, в нем ощущалась чистота, чистота бледного света на деревьях, отходящих ко сну.
Конлин знал, почему он съехал с шоссе. Дело было не только в еде. Такие городишки напоминали ему о том городе, в котором он вырос. «Дом» — это понятие уже не имело большого значения и, уж конечно, не вызывало ностальгии. Но он догадывался, что эти крылечки и переулки никогда тебя не покидают; ты никогда не перестаешь слышать грохот товарных вагонов и лязг их сцепок. Ему нравилось иногда проезжать через такие городки, чтобы убедиться, что они все еще существуют.
Он не ел уже часов шестнадцать-семнадцать, — ночью было много дел, спал всего несколько часов, а потом сосредоточенно и долго вел машину. Нет смысла спешить обратно в Чикаго. Работу он сделал хорошо. Конлин нашел Энфилд — тот был помечен на карте, если приглядеться повнимательнее.
Дорога пошла в гору. На гребне горы вдруг возник комбайн, так внезапно, словно земля разверзлась и изрыгнула его. Конлин свернул правее, сорняки заскользили по бамперу. Комбайнер приветливо поднял руку и исчез в облаке дизельных паров и летящего из-под колес гравия. Сельские жители обычно машут тебе рукой, но это не значит, что они тебе доверяют. «Привет. Здорово. Здравствуй». Как правило, Конлин избегал выходить из машины в маленьких городах, но он уже очень далеко уехал от Энфилда, а старого Купера не объявят официально пропавшим еще дней пять, старик «уехал на рыбалку».
Купер облегчил ему задачу. Хотя в Энфилде он был в безопасности, но нигде нельзя чувствовать себя спокойно. Теперь Купер лежит внутри двойного рулона крепкой, проветриваемой сетки из пластика, придавленный большими камнями, на дне речушки, очень похожей на ту, что впереди. Пластик будет храниться вечно — в этом и прелесть пластика. А вот Купер не будет. Колин представил себе сомов, отщипывающих кусочки от старика; потом их самих поймают и подадут на стол в закусочной. Зря эта мысль так его забавляет.
Слегка постукивая ногой по педали тормоза, Конлин направил «малибу» вниз, на узкий мост через мутную речушку. Как и водонапорная башня, этот мост был старомодным: перила на заклепках, не выше окон автомобиля, равномерно покрытые оранжево-красными оспинами ржавчины; приподнятый настил для колес автомобилей из выгоревших добела досок с подстилкой из гравия между ними. Речушка, где валялись свиньи, пересекала пастбище, направлялась на север и убегала вдаль, к мрачному лесу на юге.
День стоял великолепный, один из тех дней в середине осени, когда кажется, что небо устроило окончательную распродажу солнечного света, типа «все на продажу». Ни облачка, сколько глаз хватает.
Конлин вздрогнул, заметив какое-то едва уловимое движение, и снова крутанул руль. У него возникло впечатление, будто кто-то стоит у самой дороги, возможно, какой-то старый фермер собирался перебежать на другую сторону, совершенно не думая о машинах. Но там никого не было. Может, то была игра теней от деревьев и длинного транспаранта, колышущегося дальше, на самой границе леса, где он уступал место городу.
Конлин заморгал, глядя на этот надутый ветром транспарант. Он был закреплен на четырех шестах, с черными буквами на оранжевом фоне по всей длине:
ПАРАД В ПЯТНИЦУ, В 19:00
Парад. Сегодня пятница. Конлин ухмыльнулся, он вспомнил. Хэллоуин, праздник, когда вдруг становится нормальным затаиться в тени и следить за всем миром сквозь прорези маски. На плакате не было слова «Хэллоуин». Да этого и не требовалось. Всё объясняли дата и цвета. Конлин почувствовал холодок предвкушения: действительно, к чему спешить? Он может неторопливо пообедать, потом побродить по городку до темноты. Посмотреть Парад. Пожить медленно. Понюхать цветы. Хэллоуин — это единственный праздник, который представлял для Конлина какой-то смысл. Он не имеет отношения к тому благородству или альтруизму, которые напускают на себя люди, не имеет отношения к Высшим существам, которых они выдумали и скроили по своему разумению. Он имеет отношение к двум реальным вещам — маскараду и смерти.
Дома, большие дома вырастали на фоне плоского горизонта, окруженные овинами, сараями, машинами, несколькими высокими деревьями. Но здесь, в городке, строения теснились друг к другу, одни — одноэтажные, другие — двухэтажные. Большинство было с верандами. Огромные старые дубы и вязы во дворах опустили ветки на крыши из дранки.
Конлин держал стрелку спидометра примерно на двадцати милях в час, потом стал останавливаться на каждом углу, когда появились знаки «стоп»; ветки вокруг них были аккуратно подрезаны. Люди не обращали внимания на седан, скользящий по их главной улице — Гранд-авеню. Конлин тихо присвистнул при виде этой «грандиозной» улицы. Справа возвышался хлебный элеватор, и, да, — к нему вела неизбежная железнодорожная колея. Магазины с товарами первой необходимости, где продавали газовые насосы. Даже мигающий красным сигнал светофора висел над перекрестком в том месте, где улицу прорезала какая-то окружная дорога.
Почтальон мерно шагал по неровному, пересеченному корнями деревьев тротуару с тяжелой сумкой через плечо. Два старика склонились над поднятым капотом пикапа на дорожке у дома. Неуклюже поставленный трехколесный велосипед с розовыми ленточками на руле сообщал всему миру о том, что здесь живет маленькая девочка.
Конлин с удовольствием думал о своей теории Хэллоуина. Честный праздник — первобытный танец, которым и является человеческое существование: «Мы носим маски. Мы собираем и едим конфеты. Мы умираем».
Дорожные указатели, синие, с белыми буквами — «Элеватор», «Зола», «Чероки», — но ни одного названия самого городка. Например, вывески «Добро пожаловать в Бёрдпорт, население 5000». Может, оно скрыто тем оранжевым транспарантом с объявлением о Параде? Сдержанный городок, он сообщает только самые необходимые сведения. Конлин снизил скорость и почти прополз по участку дороги у школы, хотя все дети сейчас на занятиях. Вторая половина дня перед Хэллоуином, и к тому же пятница: вероятно, у них сейчас там веселье в каждом классе, они едят печенье с апельсиновым желе, а потом устраивают шествия по коридорам школы в блестящих, дешевых костюмах в обтяжку с масками на резинках и стандартным именем и изображением персонажа из мультиков на груди. Да. Можно подумать, волк-оборотень бегает в рубашке с надписью «Волк-оборотень». «Полнолуние… близится Превращение… зарегистрированный торговый символ появляется у меня на груди…» Ха-ха.
Даже на школе не стояло название городка.
Скобяная лавка, почта, магазин электроники (с большим выбором новомодных телевизоров) «Мир игр Джейсона — здесь можно поиграть в ролевые игры!». О-о-о, ролевые игры. Пара закусочных с неоновой рекламой пива в витринах… магазин спиртных напитков, парикмахерская. Там должен сидеть, по крайней мере, один старожил — в кресле для ждущих своей очереди клиентов, не собираясь делать стрижку. Интересно, подумал Конлин, парикмахеры в таких городках по-прежнему намыливают тебе шею пеной с помощью маленького круглого помазка и по-прежнему пользуются грозными опасными бритвами, которые затачивают о кожаные ремни?
Здесь.
«Кухня Стейси». Там должны собираться ушедшие на покой фермеры вокруг огромных тарелок с поджаренной на сале едой, и все сидят в своих кепках с длинными козырьками. Это место ему подходит.
На главной улице есть свободные места для машин, но Конлин свернул за угол на Ореховую улицу и припарковался перед серебристым «фордом»-пикапом у двухэтажного кирпичного торца ресторана.
Поднимая стекло, он огляделся вокруг. В двадцати футах впереди — зеленый контейнер для мусора и переулок. Через дорогу — еще одно старое кирпичное строение, которое казалось заброшенным. На бетонной плите над дверью вырезаны слова «Дейли Ньюс» — новости дня. Вот почему оно заброшено. Наверняка здесь мало «новостей дня».
Никаких счетчиков за парковку, только вывеска, запрещающая парковку в ранние утренние часы. Он потянулся, стоя рядом с машиной, чтобы размять затекшие ноги и спину, наслаждаясь солнечным теплом. На потрескавшейся стене ресторана кто-то написал краской из баллончика «Ферг — горячий парень!», белыми буквами высотой в фут. В нескольких шагах справа красовалась надпись «Ферг + Диана» внутри скособоченного сердца-«валентинки».
Нажав кнопку на ключе от машины, он проследил, как кнопки дверных замков опустились, издав одновременно четыре щелчка. Удобная машина, спасибо Дженку. Дженк — знаток автомобилей. Через пару дней этот автомобиль станет чистым, а потом исчезнет (новые номера, может, даже новый цвет) и будет выставлен на продажу на одной из площадок Дженка, разбросанных по всей стране.
Конлин сунул левую руку в боковой карман серой спортивной куртки, нащупал спрятанное в наплечной кобуре оружие. Он привык к его весу — «Глок-18», не самый маленький в этой серии и не слишком удобный, чтобы прятать. Но он идеально устраивал Конлина. Он не связывался с глушителями. Если тебе приходится заглушать выстрел, значит, ты не контролируешь обстановку. Здесь ему не понадобится оружие, но он не собирается оставлять его в багажнике, даже среди бела дня. Машину могли угнать, разбить стекло или увезти из-за какого-нибудь дурацкого муниципального закона, действующего только в этом городке: может, Конлин оставил машину в «зоне граффити» или что-то в этом роде.
Граффити… Ближе к углу Гранд-авеню на выцветшем торце здания виднелась еще одна надпись, сделанная более темной краской, сине-лиловой, которая навела Конлина на мысль, что она, возможно, светится в темноте. Два слова казались выгоревшими, кирпичи вокруг них выглядели побелевшими, словно кто-то пытался уничтожить это проявление вандализма.
«Люкафер правит миром».
«Люкафер». Конлин сразу придумал ответ на том же языке: «Брось, разозлишь Езуса». Черт, жаль, что у него нет баллончика с краской!
На противоположной стороне Гранд-авеню три женщины бродили вокруг прилавков с уцененными товарами перед магазинчиком, где все продают по доллару. Унылые женщины из маленького городка, одна одета в совершенно не подходящие для нее шорты, открывающие взорам бледную, трясущуюся от целлюлита плоть. Конлин окинул взглядом припаркованные машины и грузовички по обеим сторонам улицы; он ничего конкретного не искал, не опасался присутствия полицейских машин (их тут не было), просто присматривался, что там стоит. Парень в зеленой бейсболке, низко надвинутой на лоб, вошел в магазин спиртного. Представительный седовласый человек в костюме вышел из ресторана и двинулся по тротуару прочь от Конлина.
Яркое пятно привлекло взгляд Конлина к телефонному столбу. На уровне глаз висело объявление о Параде, черные буквы на ярко-оранжевой бумаге. Еще не прочитав слова, он обратил внимание на картинку в центре: скелет, одна рука и одна нога подняты. Черный пляшущий силуэт. «Парад на Хэллоуин, пятница, 31 октября, 7 вечера». Здесь стояло слово «Хэллоуин». А мелкими буквами, ниже фигуры, значилось: «Начинается и заканчивается на южной парковке у Совета ветеранов зарубежных войн. Потом состоится церемония награждения». На крохотной карте в нижнем углу был показан маршрут Парада, квадратный замкнутый контур со стороной в четыре квартала. Конлин посмотрел на названия улиц и сориентировался. Найти это место будет просто. Наверняка сегодня в городке это единственное событие.
Другие оранжевые бумажки, точно такие же, висели на столбах и в витринах магазинов вдоль всей улицы. Скелет — это интересный мотив, необычный выбор: не фонарик из тыквы, не пугало среди стеблей кукурузы, не ведьма на метле на фоне лунного диска.
Скелет.
Глазницы черепа и треугольный нос были просто оранжевым бумажным фоном, который просвечивал снизу, но они подразумевали сверкающий, адский свет внутри, подобный огню в тыкве. Рот представлял собой утрированную решетку, напоминающую гребень из оранжевых полосок. Это изображение вызвало воспоминание — воспоминание о книге, которую он прочел в начальных классах; о книге зловещих стихов с нарисованными рядом различными персонажами Хэллоуина на каждой странице. Оборотень, вампир, мумия, ведьма… Но запомнился ему на всю жизнь скелет. Эта иллюстрация, выполненная пугающими черно-белыми красками, изображала оживший скелет в спальне мальчика, — явно стояла ночь, за открытым окном ярко сияла луна. Ребенок был вне себя от ужаса, старался спрятаться под одеялом, но не мог отвести взгляд от кошмарного гостя.
И маленький Конлин тоже не мог оторвать глаз. Скелет просто стоял там, так близко, что можно было дотронуться, но не тянулся к мальчику, не наклонялся над ним и даже, кажется, не смотрел на него. Просто стоял и все. Без кожи, без обрывков одежды — только две-три пряди волос прилипли к черепу, извилистые черные линии, похожие на струйки дыма. И что скелет мог сделать с мальчиком? Может, в этом и был ужас: ты не мог представить себе, что ему надо, зачем он явился.
Конлин моргал, глядя на плакат, и думал о той давней книге. Он помнил стишок на странице, слово в слово:
Качая головой, Конлин громко рассмеялся. Вероятно, такую книгу в школах сегодня запретили бы. Он подмигнул скелету и повернулся к «Кухне Стейси». Здесь он повеселится.
Двери было, по крайней мере, полвека — деревянная, со стеклянной вставкой посередине. Вместо защитного бруса или фланца на ней имелась ручка из кованого железа с настоящей задвижкой, изогнутой так, что она прилегала к большому пальцу, словно крохотная черная пластинка картофельного чипса. Когда Конлин взялся за нее, он увидел написанное от руки объявление, приклеенное скотчем к стеклу изнутри. Всего лишь карточка среди более крупных, более ярких объявлений о часах работы ресторана, о предстоящем сельском концерте музыки, о цирке, о продаже набора гаечных ключей, она привлекла его взгляд двумя последними словами: Есть в продаже открытки с Костяным человеком.
Толпа обедающих поредела; уже было больше половины второго. Конлин с щелчком закрыл за собой дверь. Запах гриля смешивался с ароматами кофе, сигарет и какого-то лимонного мыла, наверное, им официантка отмывала столы. Компания посетителей, которые могли быть только постоянными клиентами, расположилась вокруг столика справа, возле стойки: трое коренастых мужчин и одна женщина, все уже немолодые. Они отметили приход Конлина и продолжали свою беседу, что-то насчет того, как «Барб» собирается кое-что выяснить. Женщина мудро кивала, один из мужчин покачал головой и погасил сигарету в пепельнице, а другой затрясся от смеха так, что брюхо заколыхалось.
Слева от Конлина двое мужчин помоложе с серьезным видом жевали, сидя друг напротив друга. Не фермеры, но и не служащие из офиса. Старший, тридцати с небольшим лет, со светло-русыми волосами и темным загаром, ел салат. Младший, может быть, лет двадцати пяти, был одет в рубашку-поло и держал в руке сэндвич с многочисленными начинками. Они кивнули Конлину, он ответил им тем же, проходя мимо, и сел за столик на одинаковом расстоянии от обеих компаний, у стены напротив двери. Здесь не было кабинок — только столы с пластиковыми столешницами и бар с табуретами. Конлин повернулся к бару и прочел названия фирменных блюд, написанные синим фломастером на белой доске.
«Сарделька с луком», нет, спасибо. «Говяжьи ребрышки», «рыбный бут.» — конечно, это для наших друзей-католиков. Поставив локти на столик, он сложил пальцы домиком.
Женщина из группы завсегдатаев откинулась на спинку стула и крикнула в продолговатое окно в кухню:
— Пег, тут кое-кто пришел.
Конлин слышал звон тарелок, упругий стук, похожий на стук скалки, и голоса, по крайней мере, двух человек. Пег появилась в дверях кухни, вытирая руки полотенцем.
— Спасибо, — сказала она женщине. — Эта штука опять засорилась.
Женщина резко рубанула ребром ладони воздух, словно прекращая всякие дискуссии.
— Позови Тома. Просто позови Тома.
— Да. — Пег сделала несколько шагов к Конлину. Пухленькая и молоденькая, маленькие круглые очки, короткие каштановые волосы, завитые в тугие кудряшки, покрасневший носик. У нее был вид давней страдалицы.
— Хотите посмотреть меню?
— Гм, нет, спасибо. — Конлин скрестил руки. — Думаю, мне хватит сэндвича с рыбой.
— Чем его приправить?
Слава богу, «бут.» — это бутерброд, а не что-то еще.
— Соус «тартар»? Лук?
Конлину полагалось еще два блюда в дополнение к «буту». Он выбрал кукурузу и чашку куриного супа с рисом. И кофе — черный кофе.
Прошло десять минут. Двое серьезных парней заплатили по счету и ушли. Конлин пил кофе и краем уха слушал рассуждения постоянной посетительницы о том, как бы она все это объяснила Джерри и как, если он хочет сохранить свое место, ему пришлось бы прийти и проявить заинтересованность. Кофе оказался хорошим. Пег снова наполнила чашку, когда принесла Конлину еду.
У булочки был приятный привкус овса, рыба оказалась нежной, не маслянистой. Когда он посыпал перцем суп, постоянные посетители начали расходиться: сначала ушел мужчина с большим брюхом, в комбинезоне, потом тот, что курил одну за другой сигареты. Затем женщина, пообещав через плечо узнать что-то у Викки насчет бройлера. Остался только самый старший, сутулый мужчина в ярко-красной кепке с козырьком, сидящий спиной к Конлину.
Отправляя в рот одну ложку кукурузы за другой, Конлин наблюдал за ним. Казалось, этот человек вот-вот уснет. Вся его голова отливала белым, будто белый цвет проник в кожу с очень коротко остриженных, блестящих волос. Он все время клонился вперед, потом внезапно вскидывался; его голова, увенчанная красной кепкой, напоминала Конлину поплавок рыболова.
Пег подогрела кофе мужчине. Потом Конлину. Когда она начала вставлять салфетки в держатели, Конлин спросил:
— Мне любопытно, кто или что этот Костяной человек?
Пег расплылась в улыбке — первой улыбке, которую увидел Конлин у нее на лице. А старик проснулся, с трудом повернулся на своем стуле и внимательно посмотрел на Конлина ярко-голубыми глазами.
— Он местная… знаменитость? — Пег произнесла «знанемитость». — Как бы ты его назвал, Билли? — Она посмотрела на Конлина и кивнула в сторону старика: — У нас тут есть специалист.
Человек в красной кепке, Билли, сидел теперь боком, костлявые колени в брезентовых штанах торчали сбоку от стула. На вид ему было лет восемьдесят, кожа свободно висела под чисто выбритым подбородком.
— Феномен, — произнес он тихим голосом, не громким, но и не дрожащим. Он слегка сдвинул назад кепку с морщинистого лба и говорил медленно, казалось, он обдумывает каждое слово, выкладывает их, как сокровища из обувной коробки. — Он герой и монстр. Некоторые говорят — призрак. Другие говорят — сам дьявол.
Конлин наклонился вперед, всем своим существом умоляя Билли продолжать.
— Каждый год приходит на Парад. Танцующий скелет, точно как на наших плакатах.
Конлин вспомнил о рождественских парадах, на которых бывал в детстве: в конце действа Санта-Клаус спускался на парашюте с самолета и к восторгу толпы приземлялся с криками «Хо-хо-хо». Наверное, это нечто вроде того.
— Городской талисман? — высказал он предположение.
— О, нет. — Билли покачал головой, больше нажимая на «о», чем на «нет». — Нет, мы уважаем Костяного человека. Мы его любим, но он нас пугает. Или, может, именно поэтому мы его любим. Он намного старше нашего города.
— Он не живой, — подсказала Пег. — Он весь из костей. Он сверхъестественный.
Конлин широко улыбнулся, переводя взгляд со старика на девушку и обратно, в ожидании концовки этой шутки. Но Билли только наблюдал за ним, а Пег вернулась к держателям для салфеток. Костяной человек был достопримечательностью городишки, и эти двое мастерски его рекламировали.
— Значит, он — сверхъестественное явление, — произнес Конлин, — и является каждый год на Парад Хэллоуина.
— Правильно, — ответил Билл. — Только не всякий способен его увидеть.
Конлин фыркнул и быстро постарался прикрыть смех кашлем. Как это удобно! Призрак с уведомлением об отказе. Если ты его не сможешь увидеть, это твоя проблема. Местный совет по туризму работает блестяще.
— Хорошо, что вы изобразили его на почтовых открытках.
Билли рассмеялся.
— Вы придете на Парад?
— Ни за что его не пропущу.
Билли понимающе кивнул.
— Люди приезжают издалека, чтобы посмотреть. Это стоит лицезреть, даже если вы не увидите Костяного человека. Собственно говоря, на вашем месте я бы не слишком жалел, если вы его не увидите.
— Почему вы так говорите?
«Кроме очевидной причины — прикрыть свою задницу».
— Ну… — Билли отвел взгляд. — Кажется, те, кто его совсем не замечает, гораздо счастливее тех, кому выпал такой случай.
— Увидеть его значит навлечь на себя что-то вроде проклятия? Все равно что услышать крик баньши?
— Нет, я не совсем это имел в виду. Я-то его вижу и не считаю себя проклятым. Просто… как сказано в Библии, «кто умножает познание, умножает скорбь», что-то вроде этого.
Библия. Конлин довольно хорошо знал Библию.
— Ты его видишь, — сказал Билли, — а потом видишь много такого, чего, может быть, предпочел бы и не видеть. Костяной человек — это тяжелая правда.
— Ладно. — Конлин откинулся на спинку стула и допил кофе. — Интересно, увижу ли я его.
— Есть способ проверить.
— Вы хотите сказать, если прийти на Парад?
— Я хочу сказать — прямо сейчас.
«Прямо сейчас». Водянистый холод забулькал внизу живота Конлина. Он чувствовал его в тот единственный раз, когда осознал, уже готовясь напасть, что его противник тоже вооружен. Все равно что обнаружить змею в своей постели.
Но почему эта мысль его встревожила? Чем это может ему грозить?
Словно по подсказке, Пег вышла из-за стойки бара и взяла тяжелый альбом с полки, где лежали безделушки и телефонные справочники. Она принесла его на столик Конлина.
Билли подошел, шаркая ногами, и сел на стул напротив Конлина. Пег снова налила им кофе, взяла тарелки и удалилась на кухню. Сморщенными руками Билли повернул альбом к Конлину.
Книга Костяного человека.
Альбом был дешевым, на проволочной пружинке, название на обложке из офсетной бумаги было написано от руки ярко-оранжевым маркером. Слова убегали вверх, к правому краю, результат плохого расчета. Ниже названия были нарисованы персонажи Хэллоуина, многими художниками, более тонкими фломастерами различных цветов. Здесь явно изображался Парад. Некоторые создания были нарисованы детьми и представляли собой примитивные наброски, с одних капала кровь, у других имелись клыки и желтые глаза. Оборотень на двух ногах потрясал большой костью, как в мультике. Некоторые картинки казались работой подростков: злобного вида фэйри в невероятных доспехах, принцессы с развевающимися волосами и громадными, невинными глазами японских «манга». Некоторые существа были выписаны с большим мастерством, тщательно, с тенями, они так и рвались с обложки.
Конлин вопросительно взглянул на Билли.
— Откройте альбом. — Билли подался вперед, опираясь на скрещенные руки.
Конлин взялся за обложку и раскрыл книгу. Новые рисунки теснились на маленькой страничке, где тот же заголовок был размещен более удачно, на этот раз написанный четкими черными буквами, на линиях, прочерченных с помощью линейки. Следующий разворот вспыхнул многоцветными надписями на обеих сторонах, левой и правой. Картинки уступили место чему-то вроде граффити на тему Костяного человека: посланиям от десятков людей. Костяной человек рулит! Фанат. Мы видели Костяного человека, 98 год. Семья Роберта Линча, Сок-сити, Висконсин. Круто, КОСТИ! Остеофил, 1999 год. А под этой строчкой: Дурень, Эта книга — остеофил! Дункан, 11.01.99.
Этот альбом напомнил Конлину книжки для граффити, которые, как он читал, заводят в некоторых ночлежках, в домах с привидениями, переоборудованных в гостиницы. Это дневники, в которых постояльцев просят оставлять свои послания. Интересно, подумал Конлин, расписался ли в этом альбоме последователь «Люкафера» или та, что считает Ферга горячим парнем.
Но этого не может быть на самом деле: он видел, по крайней мере, пятнадцать названий штатов только на этих двух страницах. Он потер подбородок:
— Вы мне хотите сказать, что туристы каждый год слетаются сюда на Хэллоуин?
— Мы себя не рекламируем. Мы любим покой и тишину. Никаких сувенирных лавок, только несколько открыток, потому что люди все время просят чего-нибудь, что можно купить и увезти домой. — Билли пожал плечами. — Мы не возражаем против небольшой компании, если люди умеют себя вести. Они каким-то образом появляются здесь. — Он улыбнулся Конлину. — Как вы.
— Я не знал о… Я просто проезжал мимо.
— Да. Я часто это слышу.
Конлин явственно почувствовал покалывание на коже головы. Он бросил взгляд в окно, представив себе, как этот город наполняется людьми — голодными, как был голоден он сам, или заблудившимися, или у которых сломалась машина, или кому просто нужно залить в бак бензина. Он подумал о тех двух мужчинах с серьезными лицами, которые здесь только что сидели. Может, они тоже приезжие?
Да, наверняка. Все это часть истории, создание настроения для Парада. А что еще такому старику делать весь день, кроме как совершенствовать свое мастерство рассказчика этой истории? Вероятно, его история становится все интереснее год от года. Лучшим объяснением было то, что кто-нибудь из городишки съездил в Мексику и решил, будто День Мертвых — это здорово. Вероятнее всего, пять или шесть местных жителей в припадке буйного веселья достали коробку фломастеров и нарисовали весь этот альбом одним дождливым субботним вечером.
— Видите ли, это новая книга, — объяснил Билли. — Она начинается в 98-м. У Стейси в кладовке их целая коробка, те более старые. И это не единственное место в городе, где ведут книгу Костяного человека. Парады начались давно, и он всегда в них участвовал. — Пожелтевшим ногтем Билли постучал по записи, сделанной пурпурными чернилами. — Вот один из тех, кто его не увидел.
Был здесь, сделал это, видел НОЛЫ Джим, Небраска, ноябрь 99 года.
— Вот еще один, — сказал Билли.
Veni, поп vidi! Костяной человек — миф! Без подписи.
Конлин кивнул.
— Вы честно даете возможность высказаться неверующим.
— Да. — Билли втянул губы и с причмоком отпустил их. — Теперь мы подошли к первой фотографии.
Он перевернул перед Конлином следующий лист, открыв единственную фотографию, приклеенную к правой странице почти посередине, ближе к внешнему краю. Ее окаймляла головокружительная путаница из слов и маленьких нарисованных черепов. Одно фото в море надписей фломастерами.
Конлин наклонился ближе.
Половину снимка занимал деревянный забор, за забором — дом. На переднем плане люди в маскарадных костюмах, дети и взрослые. Велосипед выезжает из кадра слева.
— Вы его видите? — спросил Билли.
Конлин не заметил никакого скелета. Он почувствовал прилив разочарования. А чего, собственно, он ожидал?
— Не волнуйтесь. Его на этом снимке трудно увидеть. — Билли нарочито медленно поднес палец к фотографии, задержал его на весу над людьми в масках, над колесом велосипеда, над ветками темного дерева во дворе.
— Он… там.
Над верхним краем деревянного забора, там, где доски были заострены, словно стены форта, виднелась сероватая тень. Какое-то выпуклое пятно, похожее на донышко перевернутой миски.
— Он спрятался за этим забором. Это его макушка.
Конлин поднял глаза и уставился на Билли исподлобья. Значит, все это шутка, вроде той, когда человеку показывают лист чистой белой бумаги и говорят, что это снимок трех белых собак во время снежного бурана. Но на лице старика по-прежнему не было и намека на розыгрыш.
— Ну, я понимаю, что это фото никого не убедит, — продолжал Билли. — Его сюда поместили, чтобы подготовить вас к тому, что вам предстоит увидеть. — Он взглянул на Конлина, прикусив кончик языка зубами, глаза его выжидающе блестели. Интересно, подумал Конлин, сколько раз старик произносил эти самые слова перед другими, здесь, в этой столовой, за этим самым столом? — И еще этот снимок включили в альбом, — продолжал Билли, — чтобы показать, что Костяной человек всегда является частью нашего пейзажа, замечаете вы его или нет.
Конлин пожевал губу. Это все больше напоминало религию.
— Теперь посмотрим, как вам понравится вот это.
Билли перевернул еще одну страницу. Она сложилась пополам, потом распахнулась под грузом фотоснимков.
Одним из самых полезных качеств Конлина было умение держать нервы в узде. Он невозмутимо смотрел в дуло девятимиллиметрового «танфолио»; он щурился на свет мигалок копов, когда у него в багажнике лежал заказанный объект, и красноречие позволило ему благополучно уехать. Но фото на этом развороте разрисованного альбома подействовали на него, как удар холодного лезвия лопаты в живот. По спине побежали мурашки, глаза заметались от снимка к снимку.
Все это были совсем недавние фотографии, сделанные различными фотоаппаратами. Большинство — цветные, стандартного размера, но пара черно-белых снимков претендовала на художественность, отличалась резкой игрой теней. Фотокадры Парада. Ряды шагающих людей в маскарадных костюмах, стоящих на низких платформах и ухмыляющихся сквозь грим и маски. Они сжимали в руках метлы и придерживали на ветру остроконечные шляпы, за ними тянулись грязные бинты, развевались окровавленные простыни, они прижимали к груди автоматы и топоры из пластмассы, за поясом у них торчали кинжалы. Только на некоторых были костюмы, купленные в магазинах. И взрослых на фото было не меньше, чем детей, а может, и больше.
И на каждой фотографии, обычно на видном месте, присутствовал танцующий скелет человека.
Костяной человек.
Конлин нахмурился. Каким бы способом ни был создан этот призрачный герой городка, он был хорош. Сначала Конлин искал проволочки, устройство, позволяющее управлять марионеткой с какого-нибудь ближнего тягача или платформы на колесах. Но нет, скелет явно не просто болтался на ниточках. Слишком много у него было разных поз, его руки и ноги занимали четкие положения, и он находился повсюду: то на газоне, то в центре Парада, то балансировал на заборе. На одном жутком, отчасти комичном снимке он скорчился на коньке крыши, играя на скрипке.
Конлин провел кончиками пальцев по эмульсии. Он не видел никакого несовпадения, никакой разницы в качестве изображения фигуры и фона. Эти отпечатки не имели никакого сходства с фальшивыми снимками огромной рыбы на открытых кузовах грузовиков или фермеров, сидящих верхом на гигантских тыквах. Большинство фотографий — слишком старые, не цифровые. На некоторых Костяной человек отбрасывал такую же тень, как тени остальных фигур. На многих ужасный фантом взаимодействовал с людьми: жадно тянулся узловатыми пальцами к ребенку, одетому как гроздь винограда, бил чечетку рядом со степистом в цилиндре и фраке, отдавал честь подростку в военном камуфляже. Никто, ни на одном фото не касался Костяного человека, хотя люди явно видели его и расступались перед ним. На лицах, не закрытых масками, Конлин читал хмурое уважение, а в некоторых случаях — и нечто, похожее на страх.
— Вы здесь не увидите никого в костюме скелета, — произнес Билли, и его внезапно прозвучавший голос заставил Конлина чуть заметно дрогнуть. — Вы их у нас не встретите. Никто не хочет наступить Костяному человеку на мозоль.
Конлин глубоко вздохнул и почесал ухо.
— Хорошо сделано. Должен вам сказать, я не понимаю, как это выполнено. Это какая-то реальная фигура, не лабораторный трюк.
— Да, — ответил Билли, с безмятежной улыбкой разглядывая фотографии. — Он настоящий, еще какой настоящий.
Потирая ладонью рот и подбородок, Конлин рассматривал надписи на странице, стараясь систематизировать все, что узнал. «Вы, неверующие! — кричала одна надпись рядом со стрелкой, указывающей прямо на Костяного человека. — Вот он, здесь!»
Эти фотографии убедили Конлина: чем бы ни был Костяной человек, он не являлся массовой галлюцинацией или чем-то примитивным, вроде местной небылицы. У людей, живущих вокруг Лох-Несса, нет десятков четких фотоснимков их чудовища, но все же Несси знают во всем мире.
— Почему я не слышал о Костяном человеке? — спросил Конлин. — Все эти люди, которые его видели… Почему о нем не говорят?
— Вот это действительно хороший вопрос. — Билли откинулся на спинку стула и вытянул старые кости, сплетя пальцы за головой. — Я и сам раньше этому удивлялся. Люди приезжают толпами посмотреть на Парад, и никто им не запрещает фотографировать. Дело в том, я думаю, что Костяной человек предпочитает оставаться в тени.
— Как ему это удается?
— Позвольте рассказать вам одну историю. Я знаю парня с севера штата. Раньше мы с ним играли в боулинг. Он прожил здесь пару лет, работал с нами на элеваторе. Он мог видеть Костяного человека, приезжал на Парад, по крайней мере, два раза, насколько я помню, еще в начале восьмидесятых. Потом переехал обратно на север, кажется, у него дом в том городе, где находится атомная электростанция.
— Клинтон, — подсказал Конлин.
— Да, точно. Во всяком случае, я столкнулся с ним на ярмарке штата лет семь или восемь назад. Он меня очень хорошо знал, расспрашивал обо всех своих старых приятелях, и мы разговорились. — Билли подался вперед, опираясь на локти, его рубашка сухо зашуршала о пластик. Он опять смотрел прямо в глаза Конлину. — Не помню, как возникла эта тема, но когда я заговорил о Параде, он не смог вспомнить Костяного человека!
Конлина опять обдало холодом.
— Как это «не смог вспомнить»? Весь Парад держится на…
— Вот так просто — не смог вспомнить, как будто у него большой провал в памяти, похожий на черную дыру в космосе. — Палец Билли вернулся к снимку и прикоснулся к Костяному человеку. — Как у тех людей, которые его не замечают. Они смотрят на этот снимок и видят всех этих людей, стоящих вокруг пустоты и глядящих в пустоту. Я сказал тому парню: «Ты помнишь Костяного человека?», а он ответил: «Разве там что-то такое было?» Я сказал: «Ты его миллион раз фотографировал», а он ответил: «Я не помню, чтобы снимал нечто подобное».
Теперь Конлин не смог сдержать смеха.
— Значит, все эти люди приезжают сюда и видят его, а когда уезжают, забывают Костяного человека, и на их фотографиях его нет?
Билли кивнул.
— Думаю, это происходит именно так, может быть, некоторые даже и не помнят, что побывали здесь. Скорее всего, Костяной человек любит уединение.
— Да. — Конлин повертел головой, вытягивая шею. — А как же те открытки, которые вы продаете? Они превращаются в пустые картонки на выезде из города?
Билли пожал плечами.
— Никогда не пробовал послать такую открытку.
Конлин взглянул на часы. Шел третий час. Он уже много лет не тратил столько времени на ланч.
— Ну, это было потрясающе интересно. Я вам благодарен.
— Насмотрелись? — спросил Билли, указывая на открытый альбом.
— Не насмотрелся. — Конлин достал бумажник. — С нетерпением буду ждать семи часов.
Билли улыбнулся.
— Приезжайте-ка пораньше, чтобы занять хорошее место.
Конлин оставил щедрые чаевые для Пег. Он вдоволь напился кофе, да и время провел отменно. Весь этот городишко был как раз тем развлечением, которого он искал. Надо будет оторваться на всю катушку — погрузиться в жутковатое очарование Парада, потом хорошенько выспаться ночью.
— Здесь есть мотель? — спросил он у Билли, который сам принялся листать «Книгу Костяного человека».
— Два. «Найт-Лайт» и «У Мецгера», оба на Людерс-роуд. Это последняя дорога, идущая с севера на юг, на западной окраине.
— Как по-вашему, у них есть свободные комнаты сегодня, при таком наплыве народа?
Казалось, Билли поглощен созерцанием альбома.
— О, вероятно, они для вас что-нибудь найдут.
Конлин отодвинул свой стул и непривычным для себя жестом протянул Билли руку для рукопожатия.
— Еще раз спасибо за… — Он не вполне был уверен, как это назвать. Местный колорит?
Билли ответил ему. Его старая рука на ощупь походила на сухую ветку, покрытую воском.
На полпути к кассе Конлин остановился, рассматривая чек, и его внезапно осенила одна мысль. Потом он взял с ближайшего столика запаянное в пластик меню с жирными следами пальцев. Он не сомневался в подсчетах Пег, он искал адрес. Но его не обнаружилось.
— Между прочим, — произнес он, снова поворачиваясь к Билли, — как называется этот город?
Билли поднял взгляд и равнодушно ответил, произнеся название, которое удовлетворило любопытство Конлина: какое-то совершенно естественное название для маленького провинциального городка, затерянного среди бобовых полей. Но едва Конлин подошел к стойке, он забыл название. Конлин заморгал и открыл рот, но он выглядел бы круглым идиотом, если бы спросил еще раз.
«Вот как это работает». От этой мысли его обдало волной холода, будто он открыл холодильник. «Уедешь отсюда, а когда удалишься на милю, забудешь весь город». Нет, Конлин так не думал. Он прошел в туалет — чистый и тускло освещенный, только дверная ручка, казалось, вот-вот отвалится, — потом посмотрел на открытки с Костяным человеком. Пег вышла из кухни и направилась к нему.
— Все в порядке? — спросила она, принимая пухлой ручкой чек.
— Все просто замечательно. — Конлин открыл бумажник и заплатил мелкими, неприметными купюрами.
— Старик вас не усыпил? — Она с улыбкой бросила взгляд на Билли и наколола чек на спицу.
— Вовсе нет. Он разжег мое любопытство.
— Парад? Вам понравится.
В таких ситуациях Конлин обычно не задерживался, не давал кассиршам или продавцам магазинов повода лишний раз взглянуть на него. Но он не мог удержаться, чтобы не просмотреть открытки.
Несколько открыток представляли собой нарисованные изображения танцующего скелета, выполненные в причудливом, старомодном стиле Хэллоуина, который нравился Конлину. Одна открытка была увеличенным снимком рекламного плаката Парада, сделанным в другой год, поскольку на этом снимке Хэллоуин приходился не на пятницу, а на среду. Очевидно, не имело значения, приходится ли Парад на вечер учебного или рабочего дня, день мог выдаться какой угодно — но всегда тридцать первого числа. Открытки в нескольких верхних кармашках на стенде из проволоки были фотоснимками реального Костяного человека, очень похожими на фотографии в альбоме. Конлин, в конце концов, купил по одному экземпляру каждой открытки. Пег положила их в маленький пакетик из белой бумаги, без логотипа, и Конлин сунул их в боковой карман своей спортивной куртки.
Серебристый пикап, стоявший за его машиной, уже уехал, и никакой другой автомобиль на это место не встал. Вместо того чтобы вернуться к машине, Конлин прошел пару кварталов по Гранд-авеню, вдыхая осенний воздух. Он уловил легкий запах костра, наверное, кто-то сжигает листья на заднем дворе, подносит их к дымящейся куче, прижимая к зубьям грабель рукой в перчатке. Конлин представил себе, как потрескивают листья, когда язычки пламени прорываются сквозь них снизу. Этот запах напомнил ему о футбольных матчах, фонарях из тыквы, густеющих вечерних тенях, вкусе засахаренной кукурузы…
В трех кварталах от «Кухни Стейси» он нашел то, что искал: банк для автомобилистов с телефонной будкой в одном из углов стоянки, рядом с банкоматом. Телефоны-автоматы в наше время найти все труднее, а среди тех, что сохранились, все меньше исправных. Но Конлин презирал сотовые телефоны. Он предпочитал звонить только в случае крайней необходимости и на собственных условиях. Было нечто приятное, нечто почти романтичное в том, чтобы найти телефон-автомат и сделать звонок, когда заказ выполнен. И еще: то, что с ним нельзя связаться, заставляло клиентов нервничать. Это тоже плюс.
Он набрал номер, выслушал инструкции и опустил в автомат монеты. Два гудка, и на третьем он услышал, как сняли трубку.
Молчание на другом конце провода требовало, чтобы заговорил звонящий.
— Мистер Кляйн?
— Нет, — ответил холодный, рафинированный голос. — Это мистер Сайрус. Кто говорит?
Прекрасно. Сайрус — помощник Кляйна и имеет все права принять его сообщение. Конлин заговорил четко, без запинок, следя за происходящим вокруг сквозь стекла кабины.
— Говорит Джек, я звоню из дома в Арлингтон-Хайтс. Я только хотел сообщить мистеру Кляйну, что ремонт закончен. Все сделано так, как он хотел.
Последовала короткая пауза.
— Он будет очень рад услышать это.
— Да. — Больше не прибавив ни слова, Конлин повесил трубку.
Вышел из телефонной будки и потянулся в ленивом солнечном свете. Такой звонок был чем-то вроде вишенки в бокале той услуги, которую он оказал; клиентам очень важно узнать, что они получили то, за что заплатили, и не надо ждать и просматривать газеты. Специалисту такого калибра, как Конлин, платили вперед. Клиенты знали, что он выполнит работу. Ему нужно было поддерживать репутацию, и если бы он когда-нибудь потерпел неудачу — ну, Конлину лучше всех известно, что никому не удается убежать достаточно далеко или достаточно быстро.
Когда он снова забрался в «малибу», ему стало жарко, как в разгар лета. За руль почти невозможно было взяться, а запах новой обивки автомобильных сидений от нагрева стал сильнее. Конлин завел двигатель, открыл окно со своей стороны и ехал медленно, пока не попал на маршрут Парада. Вспомнив карту на оранжевых листовках, он поехал по северной стороне — по Тэтчер-стрит — на запад. Увидел указатель к Совету ветеранов зарубежных войн, а потом и само здание с левой стороны улицы впереди; его будет несложно найти.
Улицы жилых кварталов города были почти такими же, какими он помнил с детства, которое прошло в еще меньшем городке. Вагончики-прицепы, собачьи будки, подвесные качели на ржавых цепях, а под ними — лысые пятна на газонах… и повсюду висели праздничные гирлянды. Даже здесь, в глуши, люди вкладывали сотни долларов в обширную индустрию, которой стал Канун дня Всех Святых; а то, чего не могли купить, они делали сами. Нет, в обратном порядке. Здесь предпочитали все делать сами: набивали старую одежду, откапывали пожелтевшие от времени простыни, обшаривали сундуки на чердаках в поисках шляп и пыльников. И все эти пожертвования несли на алтарь Хэллоуина. Гирлянды фонариков украшали деревья, некоторые уже горели при свете дня, мигали оранжевыми огоньками, дальние родственники рождественских гирлянд, которые зажгутся через месяц. Интересно, подумал Конлин, Рождество здесь празднуют с такой же помпой, как Хэллоуин?
Летучие мыши и привидения раскачивались и трепетали на ветвях деревьев. Пластиковые горгульи, скорчившись, сидели на балконе трехэтажного дома. Целые семейства вампиров стояли во дворах, прислонившись к стене, деревенские пугала с кувшинами кукурузного самогона, в запятнанных кровью рубахах. Вокруг крылечек поганками вырастали из земли могильные камни, и Конлина вдруг охватило желание остановить машину и посмотреть, нет ли на них надписей. Что на них написано — обычное «покойся с миром», совсем ничего или маленькие смешные эпитафии в стихах? Но он поехал дальше, вслед за заходящим солнцем.
Вокруг суетились люди: автомобили переезжали из одного двора в другой; взрослые стояли в проемах открытых дверей, бросая реплики невидимым собеседникам в доме. Иногда нетерпеливые дети дергали взрослых за руки. На верандах собирались компании, экипированные узелками и корзинками. Вдоль Тэтчер-стрит уже расставляли шезлонги, за четыре часа до начала действа. С наступлением сумерек проснется, оживет детская страна чудес. Внезапно Конлина охватило жгучее нетерпение попасть туда, вернуться в давно исчезнувшее время.
Улица Тэтчер упиралась в Людерс-роуд, за которой уходили вдаль опустевшие поля, испещренные темными островками леса. Фабрика по переработке сои лиловым пятном маячила на горизонте, словно средневековый замок, охраняющий эти земли. Конлин посмотрел в обе стороны и решил повернуть налево, что оказалось ошибкой: в этом направлении дорога увела его мимо последних домов, стоянки трейлеров, живописного кладбища и перегороженной цепью дороги, уходящей в сосновую рощу. На стоящем рядом дорожном указателе было от руки написано: «Участок ворон». Конлин не знал, оборудовано это место для Хэллоуина или же оно отдано воронам на весь год. Подходящее место, прямо напротив кладбища.
Он развернулся у склада и поехал обратно на Людерс.
Мотель «Найт-Лайт» оказался гораздо новее, чем он ожидал: одноэтажное, длинное, узкое строение. Очевидно, Костяной человек приносил отличную прибыль — стоянка была заполнена машинами, но неоновая вывеска гласила: «Есть свободные места». Скромный маленький мотель — именно то, чего можно ожидать в городке подобных размеров: ни бассейна, ни рекламы фитнес-клуба, ни выхода в Интернет.
Еще две машины притормозили у входа, когда Конлин подходил к стойке ресепшн. Хорошо, в толпе затеряться гораздо легче. Заполняя регистрационную карточку, он понимал, что может написать все, что угодно — любое имя, марку автомобиля и его номер; так он и сделал. Пузатый владелец даже не удостоил его взгляда, когда Конлин сказал, что расплатится наличными. Объявление, приклеенное к стойке, сообщило ему, что нужно платить вперед. Конлина это устраивало. Хозяин заселял мотель, начиная с передних комнат, поэтому окна номера Конлина выходили на сторону, где его машину не увидит никто, кроме обитателей дома престарелых, стоявшего за оградой. Хотя и это неважно. Проезжая через автостоянку, он увидел, что здесь не больше половины составляют номера штата Иллинойс. Были номера из Индианы, Кентукки, даже Флориды. Странно. Подъехав к бетонному ограждению перед номером 18, он запер машину и подергал ручку со стороны водителя. Это было единственное место парковки, которое ему понадобится до утра. Он предпочитал пройти десять или двенадцать кварталов до места, где состоится Парад.
Ключ мотеля оказался современной серой карточкой. Конлин окинул взглядом комнату, чтобы убедиться, что сможет здесь спать: никаких чудовищных дыр в стене или трупов, распростертых на кровати. Трупы. Он слышал однажды городскую легенду, что киллеры иногда избавлялись от трупов, вырезая углубление размером с человека под матрасом кровати в мотеле. Глупо, конечно, поднимать матрас, разрезать ткань и металл и тайком тащить тело в номер мотеля. Ни один разумный человек не станет столько возиться, чтобы спрятать то, что все равно скоро начнет отвратительно вонять. И все же Конлин никогда не ложился, не проверив постель.
Три часа сорок две минуты. Слишком рано, чтобы отправляться пешком, а есть ему ничуть не хотелось. Он стянул туфли, схватил пульт телевизора и пощелкал каналы в поисках новостей. Еще одно крупное землетрясение в Японии, крушение самолета под Мадридом — считают, что оно не связано с террористами. Он переключился на мыльную оперу, где какая-то девица кралась по квартире и шарила по ящикам. Конлину захотелось пошарить в ее трусиках. Потом какой-то парень вернулся домой, в эту квартиру, вместе с горячей блондинкой, так и липнущей к нему, и первая девица пряталась, кипя от ярости и возмущения, пока те двое занимались любовью на диване, а потом выхватила из сумочки миниатюрный пистолет. «Давай, детка», — подбодрил ее Конлин, но тут началась реклама, и Конлин разочаровался. Никаких шансов, что кого-нибудь прикончат до конца уик-энда.
Он нажал большим пальцем красную кнопку. Телевизор больше раздражал, чем помогал расслабиться.
Вместо экрана он стал смотреть на косые лучи света, падающие сквозь шторы. Прислонился спиной к изголовью, сложил руки на животе, скрестил лодыжки. Сидел неподвижно, только иногда моргал. «Как рептилия», — сказал ему один мальчишка в школе, имея в виду, как Конлин сидит в углу на трибуне в спортзале во время перерыва после ланча: «Парень, ты похож на чертову змею». В общественных местах он наблюдал, как люди дышат, следил, куда они кладут ключи, что у них в руках, как они сидят. Это не прибавляло ему популярности в школе. После он сделал на этом карьеру.
Лучи света проникали глубже, удлинялись на дешевом ковре, цвета созревали от золотистых до бронзово-оранжевых оттенков. Конлин сел на кровати и обхватил колени руками, будто голодный пес в ожидании у миски. Луч подполз к комоду, лег на телевизор, на картину, где была нарисована ваза с фруктами.
Пять пятнадцать.
Конлин покинул кровать, «крокодил соскользнул в воду». Сунул ноги в ботинки, зашнуровал их. Натянул спортивную куртку, расправил ее на кобуре, слева под мышкой. Проверил, при нем ли ключи, в том числе ключ мотеля. Посмеялся над собой, над тем, что двигается столь тихо.
Но он действительно чувствовал себя так, словно делает нечто запрещенное, будто подглядывает, собирается войти невидимым в раздевалку для девочек и не спеша смотреть, как раздевается целая волейбольная команда. Это хорошая аналогия — он ощутил, как в паху разливается жар. Он никогда не чувствовал себя злодеем, выполняя заказ. Выслеживал какого-нибудь беднягу, сбивал с ног, заклеивал скотчем рот и связывал руки и ноги, вывозил в лес, приставлял к голове «глок» и видел последнюю мольбу о пощаде в полных ужаса глазах. Никогда ни капли раскаяния.
«Душа» Конлина, если так человеку хочется это называть, напоминала закрытый консервный завод, которого боялись дети в младших классах. Место с привидениями, обычные истории: внутри живет сумасшедший, вместо руки — стальной крюк, там висят пропавшие домашние любимцы и бездомные бродяги, в темноте, истекая кровью, исчезают кусок за куском. Конлин не боялся этого здания, тогда не боялся. Это пришло потом. Когда он обнаружил, на что способны его руки. Летом после восьмого класса он оторвал кусок фанеры от окна завода и обнаружил именно то, чего ожидал. Ничего. Совсем ничего. Пустоту.
Так почему он испытывает сейчас это дразнящее чувство, откуда это ощущение, будто здесь есть нечто такое, что он может нарушить? Странная мысль пришла ему в голову, когда он покинул номер и посмотрел на красное зарево на западе от города, где толстый, раздутый шар солнца висел над горизонтом, как одно из тех иногда попадающихся яиц, которые полны крови.
«Костяной человек знает, что я его не боюсь. Он боится меня».
Конлин запер дверь, обогнул мотель, пересек Людерс-роуд и вошел в темное сердце города.
Черные кусты, раскидистые деревья — казалось, ночью их больше. Пластмассовые фонарики гирлянд сияли среди последних, хрупких листьев: фонарики в форме тыкв, белых призраков, колдуний с зелеными лицами. (Кому пришло в голову, что у колдуньи должно быть зеленое лицо?) Впереди было темно, хотя в небе все еще виднелся огненный след закатившегося солнца. Зеленоватый цвет неба медленно перешел в темно-синий, засверкали звезды.
Конлину казалось, что вокруг него распахнулись завесы, и он снова выходит на улицы своего детства. Здесь, под дрожащими на ветру кленами и дубами, сгорбившимися в преддверии холодов, был уже не век Интернета и маленьких телефонных трубок в кармане, которые фотографируют и снимают фильмы; это, скорее, напоминало ту эпоху, когда машины запирали на рычаг в форме буквы «т», у телефонов были круглые диски с цифрами, телевизоры настраивали большими, неуклюжими кнопками на передней панели. Конлин шел по тротуарам, огибающим деревья, где некоторые бетонные плиты встали горбом под напором корней. Деревья — хозяева этих маленьких городков в прерии, размышлял он; кроны деревьев — стропила над головой; корни глубоко проникают в землю и далеко выходят за пределы последних домов; стволы — это колышки, которые крепят к земле общину.
Велосипеды стояли, прислонившись к крыльцу, валялись разбросанные по двору игрушки. Лестницы, деревянные ступеньки которых были прибиты гвоздями прямо к коре, вели наверх, к ветхим платформам и домикам среди ветвей, их брезентовые клапаны на входе ветер раздувал, словно паруса пиратских кораблей. Все пронизывал теплый, рассеянный свет декоративных фонариков, уличных фонарей и окон домов.
Люди собирались на тротуарах, на вымощенных плитами тропинках, вдоль обочин, они болтали и смеялись, засунув руки в карманы курток, чтобы согреться. Некоторые кивали Конлину, другие улыбались, а кто-то не обращал на него внимания. Пожилые пары сидели в шезлонгах, накрывшись одним пледом. Висящие на верандах качели поскрипывали и раскачивались. Парок поднимался из кружек с горячим сидром, от его терпко-сладкого аромата у корня языка Конлина начала выделяться слюна. Две девочки-подростка пробежали мимо по опавшим, шуршащим листьям, кусая белыми зубами яблоки в карамели. Конлин беззастенчиво уставился им вслед, на джинсы, обтягивающие выпуклости их тел.
Здесь большинство фонарей из тыквы были настоящими произведениями искусства, их вырезали старательно, с любовью. Казалось, их лица гримасничают от пляшущего внутри огня, глаза следят за Конлином, щеки прыгают, а ноздри раздуваются.
Полицейская патрульная машина проехала вдоль улицы, бесшумно и медленно, мигая поочередно красными и синими огоньками. Конлин дерзко встретился глазами с сидящим за рулем полицейским, тот помахал ему рукой. «Привет. Удачного вечера, приятель».
Затем, с топотом, похожим на стук копыт приближающегося табуна, толпа детей в маскарадных костюмах стремительно вылетела на улицу. Недавно Конлин гадал, устраивают ли в этом городе на Хэллоуин обряд «кошелек или жизнь». Очевидно, да. Только он еще никогда не видел такого обряда. Здесь дети не только подходили к дверям дома, но и шныряли в толпе, как банда с большой дороги, как сорок разбойников, как викинги. И жители городка были к этому готовы. Они одаривали шалунов конфетами из пакетов, из рюкзаков, из багажников машин. Ухмыляясь, Конлин поднял вверх ладони жестом, говорящим: «у меня ничего нет», и волна ведьм, пришельцев и серийных убийц стала обтекать его с боков. Конлину показалось, что иногда во взглядах из прорезей масок мелькало сомнение, «грабители» оценивали его и убегали прочь. Невозможно обмануть детей, умных детей. Они знают, кого нужно бояться. Они чувствуют, когда «что-то страшное идет».
Шесть двадцать четыре. Конлин вгляделся в наручные часы. Неужели он действительно пробыл здесь так долго? Он прошел весь маршрут Парада против часовой стрелки и побродил по боковым переулкам, прислушиваясь к взрывам смеха, взволнованным крикам, звону дверных колокольчиков, хрусту сухих листьев под ногами. Он издали наблюдал за фосфоресцирующими жезлами и лучами фонариков в руках детей, за очертаниями их голов в остроконечных шлемах с антеннами, когда они собирались под уличными фонарями, чтобы похвастаться добычей и спланировать следующие атаки. Его приводило в восторг то, как их тени вырастают до громадных размеров на изнанке листвы, когда перед ними открывают двери.
Родителей не было. Вот в чем штука. Конлин никогда не видел, чтобы в «кошелек или жизнь» играли без родителей: обычно те стояли в сторонке и внимательно следили, не появятся ли настоящие ужасы Хэллоуина. Может быть, здесь это не нужно, потому что весь город все равно высыпал на улицы и стал всеобщей армией хранителей… или за этим стоит нечто большее?
Костяной человек обо всем заботится.
Правильно. Так и должно быть, восторженно подумал Конлин, свернул за угол Хаулет-стрит и направился к Совету ветеранов. Костяной человек заботится о своих. «Никто не хочет наступить Костяному человеку на мозоль», — именно так сказал Билли.
Людей становилось все больше, они подходили со складными стульями, одеялами и термосами. У некоторых зрителей были фотоаппараты, они готовились сделать новые снимки Костяного человека, которые заполнят их альбомы, их архивы для гостей, чтобы те удивлялись или смеялись над ними в близком и далеком будущем. Страницу за страницей заполнят эти снимки, подобно падающим осенним листьям. Вера и неверие. Для некоторых тайна остается тайной. Имея глаза, они не видят; имея уши — не слышат.
Конлин видел, и он слышал. Чем бы ни был этот Костяной человек, — а он намерен был это выяснить уже скоро, — эта ночь всегда принадлежала Джеку Конлину, призраку тьмы, идущему по краю земли. Он снова нашел ее после слишком долгого отсутствия. «Пес возвращается на блевотину свою», — сказано в Библии. Все внутри Конлина дрожало от шелеста мертвых листьев.
Не доходя половины квартала до Совета ветеранов, он уже оказался среди участников Парада в маскарадных костюмах, которые толпились, поправляли друг другу крылья, или плащи, или головные уборы, получали номера для конкурса, разговаривали приглушенными голосами из-под масок. Как и на фотографиях, костюмы, в основном, были хорошими, некоторые просто на удивление хорошими. Современные киногерои вперемешку со старыми, традиционными, и с оригинально придуманными, и с совершенно причудливыми. Там были вампиры с выбеленными мукой лицами и красными губами; мумия, закутанная с головы до пят в туалетную бумагу, и штук сто колдуний всевозможных размеров. Там был волк-оборотень, который больше напоминал собаку. Плавно скользили клоуны и феи. Женщина в резиновой маске старухи повисла на локте полицейского в старомодном мундире. Конлин задумался над тем, должно ли что-то означать их совместное появление. Он встретил горбуна, пирата, самурая, джентльмена, который ловко ковылял на трех ногах, высокое существо с горящими красным светом глазами и крыльями гигантской моли. Дважды заметил в толпе прыгающего ребенка, загримированного под уродливого карлика. Или, может, уродливого карлика, лишь слегка загримированного.
Стоянка была заполнена затейливо украшенными платформами, их тягачи рокотали и выпускали клубы дыма. На одном фургоне с платформой без бортов возвышался средневековый замок; на другом — развалины целого дворца, с торчащими вверх башенками, с летучими мышами, подпрыгивающими на эластичных шнурках, с волшебным светом, просачивающимся сквозь ставни. Еще один тягач тащил макет кладбища, где безумный ученый и человек-зверь обкладывали надгробья сухим льдом.
Конлин бродил по стоянке, и казалось, никто не обращал на него внимания. Там были и другие люди без костюмов — родственники и друзья участникоб Парада, помогающие им, как техники автогонщикам на пит-стопе. Там же находились служащие, поглядывающие на часы, возможно, следящие за соблюдением правил безопасности. «Запрещено поджигать тряпки, включать бензопилы». Конлин время от времени прижимал левую руку к туловищу, чтобы убедиться, что его верный австрийский друг скрыт от посторонних глаз. Там были и другие туристы, вытягивающие шеи и слишком громко разговаривающие, словно то, что они проделали такой дальний путь, давало им особые права.
— Иде он? — проблеяла женщина на диалекте Новой Англии. — Иде Костяной человек?
— Он любит появляться эффектно, — весело крикнул один из служащих, пробегая мимо. — С самого начала его может и не быть, но он никогда не пропускает Парад! — Конлин был совершенно уверен, что это тот же полный седовласый бизнесмен, которого он видел выходящим из «Кухни Стейси».
Конлин добрался до дальнего угла парковки, вдали от света, от ярких фар полицейского автомобиля, которому предстояло возглавить действо и повести его под ветвям деревьев, под звездами октября. Обернулся и прислонился спиной к стволу дерева. Всегда на краю толпы, в темных углах — это Конлин. Когда он был ребенком, в такую ночь он обычно старался держаться позади всех, невидимкой, и редко подходил к дверям за конфетами.
Он любил наблюдать за другими детьми, смотреть, как они играют, как вместе бегают, останавливаются и уносятся в другую сторону. Конлин никогда не был по-настоящему одним из них, но постоянно изучал их и мог действовать среди них, когда ему было нужно. Он знал, что они собираются делать, о чем они думают. Он всегда чувствовал испуганных, слабых. Больных.
«Больные» могли быть самыми разными. Однажды больным оказался мальчик по имени Брайен Дилэни.
Они учились в третьем классе, Конлин и Брайен, им было по восемь лет. Мама Брайена где-то пропадала по ночам; родители Конлина напивались до бесчувствия, и их не волновало, чем он занят. Поэтому и Брайен, и Конлин бродили по всему городу. Они не были друзьями. Конлин следил за Брайеном, потому что мог это делать незаметно — наблюдать. И увидеть, что сделал другой одинокий мальчик в ту ночь ночей.
В уединенном месте между парком и железнодорожной колеей Брайен опустился на колени у каких-то кустов и долго стоял там, спиной к улице. Конлин, подглядывавший из-за пучка побуревшей травы, не видел, что он делает, не мог определить, что именно Брайен держит в руках, когда тот встал.
Не мог определить, пока не увидел трясущиеся плечи Брайена, не услышал вой, не увидел хлещущий хвост. В памяти Конлина остался резкий хруст, но это могло быть плодом воображения впечатлительного мальчишки. Затем Брайен обернулся с бессмысленной улыбкой и выронил из исцарапанных рук на тротуар кота. Кот упал на бок с глухим стуком, странно скрученный. И мертвый. Его зеленые глаза были открыты и неподвижны.
Тут Брайен увидел Конлина, который остолбенел от удивления. Не от возмущения, нет, Конлину не было жаль кота. Но какое-то чувство охватывало его, изумление, заполняющее его грудную клетку, словно надувающийся воздушный шарик, так что трудно стало дышать. Будто во сне, он подошел прямо к Брайену, перевел взгляд с кота на пустые глаза Брайена.
Кот только что был живым. А теперь уже нет. Конлин взглянул на свои собственные руки, словно увидел их впервые. Потом обхватил ими шею Брайена, будто ставил какой-то безумный, любопытный эксперимент. Даже когда глаза Брайена вылезли из орбит, они почему-то остались пустыми, но он царапался и вырывался, как минуту назад делал кот.
Кто-то нашел Брайена в другом городке в пустом товарном вагоне рядом с мертвым котом. Никто не задал Конлину ни одного вопроса, только однажды в класс пришел детектив и сказал, что если кто-то что-то знает, он просит их поговорить с ним или с учителем. Но все знали, что у Брайена не было друзей. Никого и никогда не было рядом с Брайеном… кроме той ночи, когда он умер, когда, как решили, он стал жертвой какого-то бродяги, проезжавшего по железной дороге.
Конлин поскреб подбородок, наблюдая, как Парад обретает форму. Он и сейчас мысленно ясно видел Брайена Дилэни, будто это случилось вчера. Психиатр, вероятно, сказал бы, что Брайен убил кота, потому что в мире могущественных, обижавших его взрослых это было существо меньших размеров и слабее его, над которым он мог осуществить свою власть. Конлин знал, что все гораздо проще. Он не сомневался: Брайен, как и он сам, родился без той изоляции, которая большинству людей сохраняет внутри немного тепла. Брайен видел Ничто за, под и внутри всей лжи, которую рассказывали о жизни люди. Есть только Ничто. Нет причин быть счастливым, или надеяться, или сожалеть, или испытывать чувство вины. Нет причин бояться.
— Он хочет вас видеть.
Конлин подпрыгнул, и его рука чуть было не потянулась — но не потянулась — за «глоком». Он обычно отслеживал, кто или что находится у него за спиной, и как близко, но Билли застал его врасплох.
Это был Билли, по-прежнему в красной кепке с козырьком. Он прибавил к наряду стеганый жилет поверх рубашки в бело-розовую клетку.
— Что? — спросил Конлин.
Билли горбил плечи, руки засунул глубоко в карманы жилета, голубые глаза отражали свет огоньков.
— Он хочет вас видеть, — повторил он добродушным тоном. — Костяной человек. Это большая честь.
Конлин вгляделся в его лицо: ни тени юмора. Почувствовал, как дернулось левое веко.
Билли мотнул своей словно заиндевевшей, коротко остриженной головой.
— Вон туда.
Старик сделал несколько шагов, но так как Конлин не последовал за ним, остановился и оглянулся.
Конлин смотрел на него и ждал дальнейших объяснений.
Билли развел руками и поднял брови, словно хотел спросить: «В чем проблема?» Потом показал на часы, болтающиеся на его запястье, как свободный браслет.
— Парад вот-вот начнется. Не беспокойтесь, — прибавил он, словно Конлина держала боязнь опоздать к началу. — Это не надолго.
— Костяной человек разговаривает с людьми?
— Я не сказал «поговорить». Может, он просто хочет взглянуть на вас.
Может быть, и хочет, подумал Конлин. Или, может, это специальная демонстрация, которую устроил Билли для Конлина после их беседы. Возможно, он подумал: «Конлина нужно убедить, что скелет способен гулять сам по себе».
Ладно. Конлин не чувствовал никакой угрозы. Один хороший толчок, и Билли свалится, как Шалтай-Болтай. Конлин не пойдет за ним ни в какой подвал, не сядет вместе с ним в машину. Но он может подыгрывать, пока инстинкт не предупредит его об опасности.
— Откуда вы знаете, чего он хочет? — спросил он, идя на шаг позади Билли.
Смех Билли напомнил быстрый рывок мехов пыльного аккордеона.
— Я прожил здесь всю жизнь.
— Это не ответ.
Билли держался так же уверенно, как и за обедом.
— Вы получите ответы на свои вопросы.
Старик повел его по Хаулет-стрит до пересечения с улицей под названием Ди. Она была более узкой, более старой, вымощена кирпичом давно ушедшей эпохи. Над ней сплетались ветви вечнозеленых деревьев, образуя почти непроницаемую крышу. Их мохнатые, падающие занавесом ветки напомнили Конлину «испанский мох» и далекий юг. Здесь не сияли огни на верандах, не мерцали гирлянды фонариков, не бурлила толпа. Только высокие, роскошные дома, построенные в глубине, далеко от дороги, смотрели на улицу незрячими стеклянными глазами.
— Почему эта улица такая темная? — спросил Конлин, когда Билли повернул налево и зашагал по кирпичам.
— Все, кто здесь живет, ушли туда. — Билли ткнул большим пальцем в сторону Парада. Снова сунул руки в карманы и зашагал прямо посредине улицы.
Конлин догнал его.
— Это здесь живет Костяной человек?
— Он всегда появляется из темноты. Здесь мы должны его встретить.
Сделав еще несколько шагов, Конлин остановился. Ему это перестало нравиться. Конлину пришло в голову, что городок, возможно, достаточно безумен, чтобы решать, какие приезжие ему не по душе — как это делают дети. Там, среди деревьев, возможно, прячется толпа линчевателей. Он только собирался сказать Билли, что они уже зашли достаточно далеко, как впереди вспыхнул свет.
Живой огонь. Старомодный фонарь. Кто-то вешал его на шест, закрепленный на большой темной платформе, — нет, это фургон. Открытая карнавальная платформа. Теперь Конлин увидел силуэт тягача, на сиденье молча сидел водитель в широкополой шляпе.
Конлин прищурился, прикрыл глаза ладонью, заслоняясь от яркого пятна света. С шипением зажглась вторая лампа. Потом третья.
Билли остановился, но продолжал стоять спиной к Конлину — он тоже рассматривал платформу.
Она стояла посредине улицы Ди, готовая ехать к улице Хаулет, хотя двигатель тягача еще не работал. Темой оформления платформы, как и некоторых дворов, которые раньше видел Конлин, были «Чокнугые огородные пугала». Пять человек в омерзительных нарядах сновали по платформе, зажигая фонари, расставляя по углам бочки из деревянных досок. Изодранные рубашки и штаны на лямках, разваливающиеся соломенные шляпы, неопрятные бороды, трубка из кукурузного початка. Четверо мужчин с неровно торчащими зубами, один из них тучный и совершенно лысый, и одна женщина чуть старше двадцати лет, с Длинными, немытыми волосами, в истрепанном платье и испуганными глазами. Все они выглядели так, будто только что выкарабкались из могил. Тощий мужчина помахал Билли рукой, потом глотнул из кувшина, на котором стояли три буквы X.
Билли помахал в ответ.
— Полларды, — сообщил он Конлину с ухмылкой, которая свидетельствовала о том, что он любит Поллардов. — Они всегда гордятся собой.
Когда глаза Конлина привыкли к свету фонарей, он разглядел два объявления, написанные от руки на деревянных дощечках, прибитых к шатким шестам на переднем краю платформы. Одно гласило: «Мы бросаем конфеты», а второе: «Бросайте нам ваших непослушных детей».
Конлин нахмурился, пытаясь понять, почему эта платформа так высока, что пугала возвышаются над улицей на полэтажа. Он сообразил, когда услышал фырканье и хрюканье и уловил запах скотного двора. Это был загон на колесах. В платформе держали живых животных. Наверное, на Параде занавес, или нечто подобное, упадет и откроет внутренность платформы.
— Что?… — начал Конлин, но Билли схватил его за руку.
Конлин проследил за его взглядом — вдоль дорожки к дому, через пожухший газон. В густой тени что-то двигалось. Конлину пришлось сглотнуть, у него внезапно перехватило горло. Несмотря на любопытство, которое привело его сюда, очарование вечера исчезло. Он уже получил свою долю развлечений. Бесполезно искать прошлое. Невозможно вернуться назад, и не к чему возвращаться. Ему стало все равно, что такое Костяной человек. Он захотел найти свой мотель, выспаться и уехать обратно на север. Ему захотелось выпить чего-нибудь крепкого. Впервые в жизни Конлин просто дождаться не мог, когда взойдет солнце.
Нельзя вернуться назад, но и вперед тоже прыгнуть нельзя. Есть только сейчас.
Деревья раскачивались на холодном ветру. Билли уже не смотрел во двор слева; теперь его взгляд переметнулся вправо. Там сухие травы потрескивали за кустами, и ветер крутил смерч из опавших листьев. Конлин озирался вокруг, сгибая и разгибая правую руку. Он отступил на шаг, хотя в этом не было смысла. Он понятия не имел, откуда придет Костяной человек.
Жирный человек-пугало, лысая белая голова которого блестела как шляпка поганки, поднял скрипку. Сунул ее в складки подбородка и заиграл быструю, пронзительную, пиликающую мелодию. Девушка с растрепанными волосами, которая до этого стояла неподвижно, как заборный столб, захлопала в ладоши и запрыгала на месте. Ужасный, долгий вой вырвался из ее рта — то ли она смялась, то ли подпевала. Это не спектакль, подумал Конлин. Полларды и в самом деле ненормальные. Двое других мужчин взяли друг друга под руки и закружились в танце вприпрыжку. Парень на тягаче пнул ботинком задний бампер и закурил свою трубку из початка.
Конлин сделал оборот на триста шестьдесят градусов, пошарил глазами в темноте. Ему хотелось приказать этим чокнутым на платформе заткнуться. Он не мог слышать эти звуки в ночи. У него по спине бегали мурашки; холодные иголки ужаса вонзались в кожу на голове. Он провел ладонями по лицу и ощутил липкий пот.
«Уноси отсюда ноги, — подсказал ему здравый смысл. — Возвращайся к машине, садись в нее и уезжай».
Нет.
Он глубоко вздохнул. Никакого страха. Если он сейчас даст волю чувствам, ему конец — конец в работе, конец в жизни. В любом случае, бояться нечего. И, собственно, какая опасность…
С восточной стороны, далеко от света фонарей, куда проникал лишь слабый свет звезд, блеснуло что-то белое. Белое на фоне густочерного. Что-то рывками двигалось вверх-вниз, словно старая кинопленка застревала на зубцах катушки. Конлин вспомнил о «смертельных салочках» — придуманной чьим-то испорченным воображением версии игры, в которую играли первоклассники. «Если он до тебя дотронется, ты мертвец!» В первом классе ты понимаешь, что это не может быть правдой, но все же на какую-то долю мгновения, когда слышишь за спиной топот и чувствуешь, что не способен укрыться от погони, ты думаешь: «Нет-нет-нет»…
Белое на черном, мерцание, шорох задетой ветки. Очертания фигуры.
Конлину показалось, что к его рту прижали шланг мощного пылесоса и высосали весь воздух. После фотографий, открыток, после детских кошмаров он понял, что появилось перед ним.
Костяной человек. Мчится прямо к нему, неотвратимо, как смерть.
Как смерть. В глубине сознания Конлин зашелся истерическим смехом.
— О-о, — произнес Билли, — вот и он.
— Есть! — крикнул один из людей-пугал.
Конлин заставил себя дышать. Всю свою жизнь он наблюдал. Он научился не приукрашивать, не строить предположений. Четко реагировать на происходящее. Он не мог объяснить, что именно видит сейчас, но одно знал верно: это не зеркала, не проволочки и не ряженый актер.
Это был человеческий скелет, бегущий, перепрыгивающий через упавшие ветки. Черные глазницы уставились на Конлина. Вот он развел свои узловатые конечности в стороны, будто приветствуя его, будто для того, чтобы обнять его. «Джон — мертвец, Джон — скелет…»
Сжав губы, Конлин тряхнул головой, отгоняя мысли. Никакого страха. Никаких колебаний. Именно так он стал первым в своем деле.
Он выхватил из кобуры «глок».
— Что вы делаете? — воскликнул Билли, хватая его за руку, возмущенный, будто Конлин обнажил оружие против президента.
Конлин врезал ему локтем под ребра и нанес два удара кулаком снизу вверх, в грудь и подбородок старика. Тот рухнул на кирпичи. Конлин бросил многозначительный взгляд в сторону пугал, убедился, что они видят пистолет. Комедианты наконец замолчали, скрипач опустил свой смычок, похожая на труп девушка уставилась на него с отвисшей челюстью.
Во внезапно наступившей тишине ноги Костяного человека издавали звук «хруп, хруп, хруп».
Конлин встал в рабочую позу, его пальцы легли в углубления знакомой рукоятки. Он был опытным стрелком, хотя ему редко приходилось делать это вот так. Его объекты обычно стояли на коленях со связанными руками. И в них было полно жизненно важных органов, которые пуля из девятимиллиметрового люгера могла пробить и порвать. Здесь требуется твердая рука. Пускай цель приблизится. Конлин расставил ноги, расслабил колени и прицелился.
Когда Костяной человек одним прыжком перелетел через кусты, Конлин сделал первый выстрел. Бах! — оглушительно прозвучало в тишине.
Чирк! Всего кусочек ребра отлетел в сторону, скелет даже не замедлил шага.
Двадцать футов. Конлин держал оружие в вытянутых вперед руках, пальцы левой обхватили правую. Удобный выстрел, по горизонтали. Лежащий на мостовой Билли застонал.
Бах! На этот раз мимо. Пуля прошла на волосок от тонкой, как трубочка, шеи.
Пятнадцать футов. Конлин зажмурил один глаз. Бах! Снова мимо, и пуля срикошетила где-то вдалеке. Любая из таких пуль могла уложить живого человека. Конлин стрелял хорошо, но тут не во что было попадать.
Приняв решение, он перевел рычажок сбоку со стрельбы одиночными на залп из трех выстрелов.
Десять футов. Три быстрых выстрела. Лучше. Левая нога Костяного человека упала на дорогу, отрубленная ниже бедра. Призрак сделал полный оборот вокруг своей оси и теперь прыгал на кошмарной правой ноге, как на «погостике».
— Иди сюда, — промурлыкал Конлин и на несколько дюймов сместил прицел, твердой рукой сжимая «глок».
Костяной человек приблизился.
Бах-бах-бах!
Есть! Позвоночник разлетелся в щепки, и Костяной человек развалился на верхнюю и нижнюю половины, переломившись в талии. Его нога отталкивалась от земли, и таз вертелся вокруг своей оси, царапая мостовую.
И как раз вовремя. Конлин израсходовал девять пуль из десяти. Он мог бы пустить последнюю пулю в череп, как во время обычной работы, и раздавить в пыль подошвой то, что осталось. Синий дым висел в воздухе, запах раскаленного «глока» придавал ему сил. Старик Билли приподнялся на локте с искаженным от боли лицом.
Пора покончить с этим и исчезнуть. На такой шум сбегутся все копы городка. Они всего в квартале отсюда.
Он прошел вперед и остановился над своей трясущейся мишенью. В этом была ирония — и почти печаль, если бы Конлин позволял себе чувствовать печаль. Оказывается, ночные кошмары и детские фантомы могут быть реальными — вот это открытие! Но их можно разнести на куски пулями. Прощай, поэзия и тайна. Конлин все-таки оказался прав: бояться нечего, справедливости нет, нет добра и зла, все это ничего не значит.
Челюсть, прикрепленная к черепу серыми, похожими на веревки сухожилиями, все щелкала и щелкала, открывалась и закрывалась. Он задыхается? Разговаривает? Кусается? Смеется?
— Над чем тебе смеяться, ты…
Но Костяной человек приготовил для него еще один сюрприз. Его танец отнюдь не закончился. С усилием подавшись вперед, перекатившись на грудную клетку, усеченный призрак расставил обе руки на мостовой, согнув их в локтях. Затем, подобно какому-то ужасному пауку, прыгнул вперед.
Конлин, который продолжал держать пистолет в опущенной вдоль тела руке, почувствовал, как его обхватили лишенные плоти кости. Высохший, полумертвый человек вцепился в него, словно какой-то отвратительный паразит, его вечная ухмылка почти касалась лица Конлина, черные провалы глазниц были в нескольких дюймах от его глаз.
Конлин пошатнулся с хриплым криком, силясь сбросить с себя этого демона, освободить руки. Его ноздри обжигала пыль и кое-что похуже — едко пахнущие остатки того, что когда-то было живой тканью, а теперь превратилось в нечто черное, твердое, липкое и почти полностью съеденное червями времени.
— Отцепись! — прохрипел Конлин, шатаясь из стороны в сторону, раскачивая непрошеного партнера, словно кружился с ним в каком-то диком танце. За его спиной опять заиграла скрипка. Та давняя книжка, та картинка — чего хотел скелет, стоящий рядом с постелью мальчика? Чего он хотел?
Эти глаза были пещерами, ведущими в бездонную глубину, которая никак не могла скрываться в одном высохшем черепе. Уже стоя на коленях, Конлин перестал сопротивляться, завороженный. Глубоко, глубоко внутри этих глаз он увидел что-то во тьме. Что-то громадное и движущееся. Что-то, глядящее на него. Что-то.
Не в состоянии моргнуть, Конлин закричал. Его крик был долгим бессмысленным воем, полным такого ужаса, который он никогда не позволял себе испытывать.
Челюсть Костяного человека распахнулась, это было похоже на улыбку узнавания и восторга. Конлин не сомневался: он слышит шипящий звук, хотя легких, чтобы его создать, не было.
— Хха-а-а-а… — шепнул Костяной человек.
Из челюсти вырвался дурно пахнущий ледяной пар, бело-голубой при свете огней. Его прикосновение обожгло кожу Конлина, и не успел он отвернуться, как пар влился в его нос и рот и, словно когтями раздирая горло, проник внутрь.
Охваченный невероятным ужасом, Конлин вырвал прижатую руку и приставил дуло «глока» к черепу Костяного человека.
Бах!
Казалось, этот выстрел эхом раскатился по вечнозеленым деревьям. Конлин обмяк, откинулся назад, глядя, как костяные обломки взлетели вверх, во все стороны, закружились и дождем посыпались на кирпичи.
Костяные руки разжались. Конлин вырвался из объятий, оттолкнул ногами то, что осталось от верхней половины скелета. Торс скрипнул и затих. Одна нога немного подергалась, потом застыла.
Ноги самого Конлина зашевелились раньше всего остального, и сдвинули его на три шага в сторону быстрее, чем он перевернулся и встал на колени, потом вскочил. Он обрел равновесие, готов был бежать, но резко обернулся назад, заметив что-то в шаге от себя, какую-то черную тень, возникшую между ним и фонарями платформы.
Один из Поллардов. Водитель тягача, в шляпе с обвисшими полями и зажатой в зубах трубкой. Конлин увидел в его отведенной назад правой руке блеск разводного ключа, за полсекунды до того, как ключ врезался в его ухо.
Осознание того, что случилось потом, выглядело как вспышки в красном тумане, которые сменялись темными интервалами: дискретные образы, почти как фотоснимки из «Книги Костяного человека». Что-то случилось с его слухом. Звуки вскипали и колебались, терялись в ночи, которая вспыхивала и дымилась. Сначала кто-то волок его за руки, лицом вниз, и кровь из ноющей головы капала на мощенную кирпичом улицу.
Потом его поднимали, чьи-то руки тащили его наверх.
Затем, когда темнота снова приоткрылась, он оказался под самыми вечнозелеными ветками, и девушка Поллард вытирала его лицо тканью, напевая ему что-то нежным, детским голоском. Рядом с ревом завелся двигатель. Твердые доски под ним затряслись, и низко висящие над головой ветки двинулись, заскользили мимо. Пронзительная скрипка все продолжала пиликать.
Повернув голову, он увидел внизу улицу Ди. Он лежал на высокой платформе, которая начала движение. «Нет, погодите», — хотел сказать он, но не мог произнести ни слова. Внизу, на мостовой, старый Билли хромал к обочине, потирая бедро, словно оно у него болело. Остановился, посмотрел снизу на Конлина с кривой улыбкой, наполовину с упреком, наполовину с удивлением. Рассмеявшись, старик поднял хрупкую руку и помахал ему.
Конлин пошарил вокруг в поисках «глока». Но двое мужчин Поллардов наклонились над ним, схватили его за руки и за ноги. Тот, что был в ногах, жевал табак. А другой, стоявший над головой, улыбнулся доброй улыбкой, показывая неполный комплект желтых зубов.
— Ты почти готов? — спросил он, похлопав Конлина по шее.
«Готов? К чему?»
Бесцветная девушка нагнулась ближе, задев грязными волосами его лицо, и поцеловала Конлина в губы. Вкус ее губ, ее запах, обожгли его горло, будто мускус дохлого скунса. Но Конлин почувствовал, как его губы растянулись в ответной улыбке.
— Ну и ладно, — произнес стоящий над ним мужчина, когда девушка отстранилась. — Вперед.
Двое мужчин подбросили Конлина, но не по направлению к улице. Он смутно видел, что верхний настил платформы представляет собой решетку, сбитую из широких деревянных планок с промежутками между ними. Он аккуратно проскользнул в промежуток и полетел в темное нутро фургона.
Его крик превратился в хриплый визг вырвавшегося из легких воздуха, когда он ударился о горячую, дрожащую поверхность — тело животного. Животное с визгом вылезло из-под него, и Конлин плюхнулся в жидкую, скользкую грязь, под которой опять чувствовались твердые доски.
Похоже на грязь, но не грязь. Этот запах…
Громадные туши толпились вокруг него, терлись друг о друга в темноте. И слышалось «паф, паф» нечеловеческого дыхания. Вероятно, вонь навела его на мысль, что это вантузы для туалета прикасаются к нему, прижимаются к его груди, к его ногам. Нет, не…
Рыла. Круглые рыла, похожие на торцы бревен. Острые, раздвоенные копыта топтались рядом с ним, одно наступило ему на руку и пропороло ее. Умные маленькие глазки на огромных мордах с отвисшими подбородками; эти глаза в просачивающемся свете фонарей сверкали красным огнем.
Заглушая повизгивание и похрюкивание, хриплое дыхание и шуршание волосатых шкур на трущихся жирных тушах, одно из огородных пугал приложило рот к щели наверху и закричало:
— Шу-у-у-у-у-у!
Однажды Конлин воспользовался тисками, зажал ими руку заказанного объекта в его собственной опрятной мастерской, потому что Конлину требовалось кое-что узнать. Он вспомнил теперь эти тиски, подумал о том, что тот человек тогда чувствовал: только тогда тиски были одни, и в них была зажата одна часть тела жертвы, и они сжимались очень медленно.
Его поливали какой-то жидкостью, она дымилась и громко шипела, но всякая боль исчезла. Это было приятно. Он попытался закрыть глаза от облегчения, но глаза не закрывались.
Он снова лежал наверху, на чистых досках, на высокой платформе Поллардов, и та милая девушка смачивала его каким-то химическим раствором, который пузырился, пенился и очищал.
Никакой боли. Совсем никакой боли. Он открыл рот и затрясся в беззвучном смехе. Полларды засмеялись вместе с ним, заулюлюкали, а похожий на жабу толстый скрипач закончил свою мелодию тремя эффектными визгливыми нотами.
Девушка присела на корточки и осторожно поставила свое дымящееся ведро. Откидывая волосы с водянистых зеленых глаз, она широко улыбнулась, словно любовалась новорожденным младенцем.
— Вот так, — сказала она ему. Она умела говорить. — Ты совсем готов.
Интересно, подумал он, как ее зовут. Но с другой стороны, он не мог вспомнить, как зовут его самого, если у него когда-нибудь было имя. Он где-то раньше был? Куда-то ехал?
Нет. Сейчас имели значение только эта ночь ночей и Парад. Он сел, услышал общий вдох тысяч глоток. Затем стали указывать пальцами, и все — на него. Челюсти отвисли; шепот пронесся вихрем, как осенние листья в бурю. Защелкали фотоаппараты, засверкали вспышки. Разные чувства мелькали на лицах зрителей, стоящих вдоль обочины. Вера. Недоверие. Упрек. Страх. Изумление.
Он поднял руку, чтобы им помахать, каждая маленькая косточка была белой и блестящей.
Толпа ждет. Есть только сейчас.
Ночь принадлежит ему; так было всегда. Он вскочил, охваченный растущим ликованием, перекувырнулся в воздухе и легко приземлился на мостовую. Потом начал плясать.
Перевела с английского Назира ИБРАГИМОВА
© Frederic S. Durbin. The Bone Man. 2007. Публикуется с разрешения журнала «The Magazine of Fantasy & Science Fiction».
КРУПНЫЙ ПЛАН
Европа во мгле
Триллион евро. Антология западноевропейской современной фантастики
Составитель и автор вступительного очерка Андреас Эшбах. Издательство «Захаров»
Андреас Эшбах — один из немногих европейских писателей, способных сравниться с американскими производителями бестселлеров масштабностью подхода, умением закрутить сюжетную интригу, удержать внимание читателя до последних страниц и удивить неожиданным финалом. Завоевав имя и популярность, Эшбах, и без того не чурающийся фантастики, выступил в новой для себя роли редактора-составителя антологии фантастических рассказов западноевропейских авторов, выгодно конвертировав название одного из своих романов «Один триллион долларов» в название сборника «Триллион евро».
Основной массив современной НФ континентальной Европы пусть и не является тайной за семью печатями и десятками границ, но определенно малоизвестен отечественным читателям. За исключением нескольких писателей, которые приобрели популярность еще в эпоху советского книгоиздания, и редких попыток выпуска сборников европейских авторов на заре становления российского книжного бизнеса фантастика Европы не особо любима нашими издателями.
Впрочем, «нелюбовь» эта распространяется исключительно на континентальную Европу. Английская НФ уже давно составляет единый корпус текстов с фантастикой американской, уверенно занимающей господствующее положение на книжных рынках, в том числе и национальных. Так Майкл Суэнвик сравнивал книжный рынок США с гравитационным колодцем, который выплескивает многочисленные бестселлеры, но сам с трудом принимает иноязычных авторов.
Симптоматично, что и рецензируемая антология вышла в свет в издательстве непрофильном, зато давно и успешно продвигающем на российский рынок книги Андреаса Эшбаха.
География сборника на удивление обширная. Среди авторов — австрийские, бельгийские, греческие, испанские, итальянские, немецкие, французские и даже финские писатели. Численно преобладают, однако, фантасты Германии и Франции.
Не будем проводить параллели между уровнем развития страны и состоянием ее национальной фантастики, а также упрекать в предвзятости составителя. В авторском вступлении Эшбах описывает трудности, которые ему довелось преодолеть в процессе отбора текстов. Гораздо интереснее — итоговый результат.
Составитель обозначил центральную тему подборки: будущее объединенной Европы. Однако очевидно, что желание опубликовать рассказ того или иного автора зачастую оказывалось сильнее заявленной тематики. И слава Богу! Сборник от этого только выиграл.
Рассказы, посвященные Европе, складываются в весьма удручающую картину. Тягостное впечатление производит не литературный уровень текстов (хотя, надо сказать, качество представленных произведений очень неравноценно), но, собственно, описываемое в них будущее: писатели старательно отображают мрачные перспективы «заката Европы».
Сам Эшбах задает невеселый тон антологии и «моделирует» в своем рассказе финансовый кризис европейского государства, вкупе с инопланетянами и глобальным похолоданием. Вторит теме климатических изменений француз Жан-Марк Линьи в рассказе «Ураган», отображая драму пожилой пары на фоне столь же глобального потепления. Его соотечественник Пьер Бордаж в стилистике дешевого чтива рассказывает о непростой жизни обитателей парижского дна, страдающих под гнетом сторонников Перманентного Джихада[5] и готовых на преступление, чтобы заработать немного дольюаней — единой валюты китайско-американской оси.
Более тонко, но не менее встревоженно описывается проблема заселения Европы беженцами из стран третьего мира. В произведениях, анализирующих эту проблематику, зачастую параллельно говорится еще об одном демографическом кризисе — стремительном старении коренного населения Европы. В рассказе испанки Элии Барсело «Тысяча евро за жизнь» богатая пожилая пара оплачивает переселение в тела уроженцев африканского континента, оставляя им лишь несколько часов жизни в течение дня. Соотечественник Барсело Чезар Мальорк отправляет немногочисленное коренное население Европы в колонию, вверяя их заботам чернокожего доктора и ограждая от нового плавильного котла для рас и наций, в который превратился континент. Евросекунды как новую валюту предлагает рассматривать другой испанец Эдуардо Вакверизо в рассказе «Цена денег», в котором движущей силой общества изобилия становится слава и известность.
Если произведения испанских авторов выдержаны в умеренно оптимистичной манере, то в рассказе греческого фантаста Танассиса Вембоса «Кто платит за переправу?» описывается мир, переживший эпидемии, локальные атомные войны (в том числе между Украиной и Казахстаном), генетически избирательное биологическое оружие и прочие ужасы.
Образы будущей Европы, мягко говоря, лишены притягательности, зато преисполнены тревогами и опасениями и, по сути, являют собой образцы антиутопии. Единственный пример обратного — показательно беспомощный с художественной точки зрения рассказ Сары Доук «Традиционный сбор», патетически представляющий (в форме затянутых диалогов различных персонажей) объединение Европы как уникальный проект, направленный на благо не только континента, но и всего человечества. Есть над чем задуматься и поработать идеологам движения Единой Европы.
Ряд новелл антологии отвлечен от реальных и воображаемых проблем ближайшего будущего. Эти рассказы практически лишены сюжета и являют собой основанные на образах и эмоциях художественные зарисовки. Таковы и небезынтересный этюд финского писателя Паси Яаскелейнена, и псевдопоэтические творения француза Жана-Клода Диньяка и бельгийца Алена Дартевеля.
Любопытно, что по мере удаления авторов от европейских пространств и европейского будущего, качество рассказов, как правило, возрастает. На этом поле господствуют немецкие авторы. Любопытна новелла Михаэля Маррака «Исторгнутые» с оригинальной идей космических самоубийц, однако интригующий сюжет стремительно обрывается скомканным и провальным финалом. «Утка Вокансона» Маркуса Хаммершмитта являет собой неплохой образчик авантюрной истории, продолжающей традиции юмористической фантастики.
Завершает книгу лучший, по моему мнению, рассказ коллекции — «Ожерелье» Вольфанга Ешке. Эта история описывает оригинальный мир с летающими монастырями, перерождающейся богиней и удачно развивает интересную идею в увлекательный сюжет — так что вполне способна потягаться с лучшими рассказами англо-американских авторов.
Сергей ШИКАРЕВ
КРИТИКА
Ларри Нивен, Эдвард М.Лернер
Флот миров
Москва: АСТ, 2008. — 349 с. Пер. с англ. О. Колесникова. 4000 экз.
Еще в 1960-е годы Л.Нивен сотворил одну из самых запоминающихся НФ-вселенных в мировой фантастике. Имеется в виду, конечно, «Освоенный космос». Помимо людей в этой вселенной можно встретить представителей и других разумных рас, среди которых наиболее экзотичной внешностью обладают «кукольники Пирсона». Это трехногие инопланетяне с двумя одноглазыми головами. «Кукольники» — представители самой могущественной цивилизации «Освоенного космоса», постоянно вмешивающиеся в ход развития иных миров. Впервые «кукольники Пирсона» появились в нивеновском рассказе 1966 года «В глубине души». Здесь же фантаст впервые придумал событие, превратившее эту расу в космических странников. Это взрыв ядра Галактики, грозящий уничтожить все живое на Млечном Пути. Однако удрать от катастрофы «кукольники» решили с относительным комфортом, отправившись в путь на целой эскадре движущихся планет — том самом «флоте миров», в честь которого и назван свежий роман Нивена.
Из книги можно узнать, что «кукольники» давным-давно захватили земной звездолет «Большой риск» с группой колонистов на борту, которых превратили в рабов-резервантов. О том, как резерванты узнают правду о своем прошлом и поднимают восстание против хозяев, и повествует роман. Для читателя, внимательно следящего за творчеством Нивена, книга будет интересна не только потому, что возвращает его в хорошо известный мир и знакомит с новым эпизодом ее истории. Во «Флоте Миров» в ряду центральных персонажей вновь появляется «кукольник» Несс (помните старый-старый рассказ «Древнее оружие»?).
А вот читателю-«новичку», боюсь, книга покажется не слишком внятной. Ему лучше сначала обратиться к роману «Мир-Кольцо» — безусловному шедевру из цикла об Освоенном космосе, а уже потом приступать к сиквелам и приквелам.
Глеб Елисеев
Дэн Симмонс
Террор
Москва — СПб.: ЭКСМО — Домино, 2007. — 880 с. Пер. с англ. М. Куренной. (Серия « Книга-загадка, книга-бестселлер»). 10 000 экз.
У всех некогда белых пятен на карте есть своя история и свое кладбище. Команды кораблей «Эребус» и «Террор» внесли свою лепту в хронику географических открытий, не вернувшись из экспедиции, посвященной поиску Северо-Западного прохода между Атлантическим и Тихим океанами.
Симмонс — автор, признающий жанровые традиции, но умело и с удовольствием их разрушающий. В новом романе под видом классического произведения «для детей и юношества» он снова смешивает жанры в крепко пробирающем коктейле. История почти полусотни человек, бесследно пропавших в арктической экспедиции, надежно принайтована и к романам в духе Жюля Верна, и к мистическим иррациональным историям Эдгара По, и к философским идеям Пьера Тейяра де Шардена, которые пронизывают все творчество писателя.
По ходу сюжета герои-«приключенцы» превращаются в персонажей драматической борьбы за выживание. Помимо холода, недостатка съестных и иных припасов полярники столкнулись и с враждебной силой иного рода. Противостоит героям таинственное существо, обладающее недюжинной силой, развитым интеллектом и жаждой крови. И это противостояние подано зрелищно и достигает совсем уж феерических высот в описании снежной гонки.
Бремя белого человека теряется в стране, где различают десятки видов снега и льда. Воля к жизни терпит поражение из-за череды злых умыслов и роковых случайностей. По Симмонсу, залогом выживания оказывается не бессмысленное покорение природы или безвольное смирение с ее силами, а согласие и взаимодействие. Арктический триллер оборачивается драматическим произведением, представляя на фоне ледяных торосов историю почти космического масштаба.
«Террор», пожалуй, единственное произведение Дэна Симмонса, не уступающее знаменитому «Гипериону». А может, даже и превосходящее его.
Сергей Шикарев
Олег Кулагин
Русская кровь
Москва: ЭКСМО, 2007. — 480 с. (Серия « Русская фантастика»). 12 000 экз.
Дебютный роман О.Кулагина «Московский лабиринт» получил широкий резонанс. Его успех объяснялся просто: автор сфокусировался на теме Сопротивления Западу и выдал ее концентрированный вариант. Более концентрированный был, пожалуй, только у Перумова в повести «Выпарь железо из крови», но там автор все испортил тем, что слишком уж упрямо вкручивал в читательские головы свинцовый болт антихристианства.
Кулагин от конфессиональной темы далек. В новом романе он по-прежнему эксплуатирует тему Сопротивления, причем на внешнем плане текста — все тот же вариант вооруженной борьбы. Ватага приключенцев идет по завоеванной, разоренной России, наполненной наймитами властей, продавших страну. Время от времени она, разумеется, по законам жанра затевает стрельбу.
Но ведущий мотив романа не сводится к простенькому лозунгу: «Где найдешь гада, там и мочи!» Олег Кулагин прежде всего старается напомнить читателям: любое Сопротивление имеет смысл только тогда, когда оно опирается на идеал, который является родным, естественно присущим сообществу комбатантов и каждому из них как сознательной личности. Иными словами: каждый должен осознавать, что именно он защищает, ради чего лезет в драку. Кулагин на примере главного героя, сверхбоевика Дениса, указывает читателю путь: идеал достижим, но его можно достичь, только заново обретя собственную память, иными словами, вдумавшись в собственный опыт и отыскав в нем основу собственной личности. Впрочем, и такая постановка вопроса, мягко говоря, вызывает противоречивые чувства.
Для персонажей Кулагина их идеал хронологически вынесен на территорию позднего СССР. Вариант, в общем, простоватый, но верный для очень многих наших современников. Положительным моментом в романе является то, что автор подталкивает читателя снять с исторической памяти табу, наложенные разными агрессивными идеологиями наших дней.
Дмитрий Володихин
Святослав Логинов
Россия за облаком
Москва: ЭКСМО, 2007- 384 с. (Серия «Русская фантастика»). 7000 экз.
Захотелось дачнику, купившему в деревне дом, парного молочка. А нету — старики-соседи перестали держать корову. Тогда сходил Горислав Борисович из родного 1993-го в год 1863-й и привел оттуда бедную, но работящую крестьянскую семью. С коровой. В своем времени Савостиным грозила голодная смерть, а тут — живи не хочу.
Такова завязка нового романа питерского фантаста. Жанр с ходу и не определишь: то ли НФ на тему путешествий во времени, то ли городская (или все же деревенская?) фэнтези, а может, просто сказка… Рецензенту кажется, что правильнее всего назвать это культурологической фантастикой, потому что смысловой центр здесь — столкновение двух культур: традиционной патриархально-крестьянской и современной постиндустриальной.
Савостины обживаются в вымирающей российской деревне, оделяют молочными продуктами своего благодетеля, с его же помощью регулярно наведываются в XIX век — родных повидать, на базаре поторговать. Но чем дальше, тем больше звучит в тексте драматическая, а местами и трагическая интонация. Голова и руки — этого достаточно, чтобы выжить, но слишком мало, чтобы противостоять свинцовым мерзостям нынешней реальности.
Эффект сопереживания почти до самого финала — стопроцентный. Читатель мгновенно успевает полюбить героев, психологически отождествиться с ними — и постоянно ожидает, какая еще напасть грозит им, наивным, не знающим нашей жизни. Так создается нервное напряжение, не отпускающее едва ли не до конца романа.
Ближе к финалу процент фантастики нарастает, в сюжет вклиниваются гэбэшники-прогрессоры, желающие «верхом» на дачнике пробраться в позапрошлый век и подправить историю, дабы нынешняя Россия превратилась в великую и могучую державу. Понятно, зачем это потребовалось автору: прекрасная возможность лягнуть имперскую идею. Но слишком уж все-таки натянуто…
Виталий Каплан
Нил Гейман
Хрупкие вещи
Москва: АСТ, 2008. — 380 с. Пер. с англ. 7000 экз.
Российские поклонники именитого британского фантаста и комиксиста получили очередную порцию утонченной геймановской жути. В сборнике представлены как большие рассказы, так и короткие зарисовки. Эти этюды не всегда могут похвастаться полноценной сюжетной линией, но зато отлично передают атмосферу причудливой, страшноватой, но все же невыразимо привлекательной вселенной, которую конструирует автор. Да, именно конструирует, ибо Гейман относится к тому роду писателей, которые предпочитают достраивать однажды сформулированную концепцию. Дело здесь в особой духовной конституции. Гейман описывает бытие, созерцая его сквозь темную завесу собственной болезненной грезы. Вот почему его «Зеркальная маска» отлично сочетается с «Задверьем», которое, в свою очередь, плавно соединяется с миром «Американских богов».
В какое из многочисленных отражений реальности вы желаете окунуться сначала? Быть может, вам подойдут детские воспоминания о давно пережитом ужасе («Крупицы воспоминаний», «После закрытия») или это будет спринт-хоррор, ослепляющий своей непреодолимой безысходностью («Другие люди»). Возможно, ваш интерес вызовет викторианская история, в которой знакомые с детства персонажи меняют амплуа в соответствии с неожиданным мистическим допущением («Этюд в изумрудных тонах»), а затем зловонный лондонский туман разгонит щепотка пряного вуду («Горькие зерна»).
На «сладкое» составители приготовили сюрприз в виде продолжения приключений немногословного Тени из «Американских богов», который подобно своим воинственным скандинавским предкам бесстрашно осваивает теплые земли туманного Альбиона.
Составленный из произведений разных лет сборник представляет собой не просто коллекцию историй, но достаточно подробную технологическую схему становления и развития амбициозного литературного проекта — здания мечты Нила Геймана.
Николай Калиниченко
Элен Кашнер
Томас Рифмач
Москва: Арда, 2007. — 352 с. Пер. с англ. Н.Григорьевой, В.Грушецкого. 6000 экз.
«Томас Рифмач» — первое произведение американской писательницы Элен Кашнер, переведенное на русский язык. Повесть была напечатана в «Если» еще в 1994 году, и многие читатели ее не знают. По сути, это изложение канонической легенды о Томасе Лермонте, великом шотландском барде, жившем в XIII веке, возможном авторе «Тристана и Изольды», провидце, получившем от королевы эльфов дар правдивого слова.
Кашнер считает себя ученицей Толкина, и, судя по этой книге, считает по праву. «Томас Рифмач» удивительно смотрится на фоне современной фэнтези. На все произведение — единственный выстрел из лука, да и то в голубя. Кровь, конечно, льется… несколько капель, чтобы напоить неприкаянную душу и дать ей возможность рассказать о своих мытарствах. А традиционное для жанра слово «меч» не звучит вообще ни разу.
Зато есть XIII век, есть грязь по весне в холмах, дым в убогом жилище крестьян, приютивших менестреля Томаса, есть ощутимая толща времени, отделяющая наш просвещенный, но вконец изовравшийся век от варварского раннего средневековья, где честь и долг еще в почете. Есть эльфы, да такие разные, каких еще не встречалось. Любовь, страсть, гордость. Автору удалось написать об этом спокойно и мудро. Миф под пером Элен Кашнер обретает плоть, становится настоящей волшебной историей, которые так нравились Толкину. Однако в повести есть и напряженная интрига, только строится она не вокруг борьбы за трон, а вокруг истории несчастного рыцаря, потерявшего семью.
Орсон Скотт Кард говорил об авторе «Томаса Рифмача»: «Никто в наши дни не пишет на английском языке более элегантно и изысканно. Ее книги можно использовать на уроках как образец того, насколько чисто, ясно и прозрачно можно излагать мысли». Наверное, не случайно за работу взялись переводчики, которым принадлежит один из известных переводов «Властелина Колец».
Игорь Троицкий
Дмитрий Володихин
Интеллектуальная фантастика
Москва: ИПО, 2007. — 208 с. 1100 экз.
Монография Дмитрия Володихина базируется на опубликованных ранее статьях, однако для этого издания они были жестко увязаны воедино. Такой подход, конечно, более плодотворен, чем простая перепечатка своих текстов. Важно, что пишет Володихин эмоционально, раскованно, не чураясь ярких метафор, и одно это способно превратить читателя в единомышленника автора. Правда, при том условии, что особо вдумываться в текст читатель не станет.
А вот если все-таки вдуматься, пожалуй, поразишься произвольности и ангажированности авторских суждений. Володихин манифестирует существование в НФ трех «множеств» — массолита, хардкора и так называемой интеллектуальной фантастики (ИФ), условно граничащей с мейнстримом. И начинает сортировать писателей: это вот «массовики», это «интеллектуалы», а вон те забредают временами на территорию ИФ, но вообще-то ее критериям не соответствуют. Какая разница, что роман «Туманность Андромеды» в свое время оказал немалое воздействие именно на интеллектуальную жизнь страны? Не ИФ это, и точка. Или еще пример авторского произвола: критик уверяет, будто Ольга Ларионова не проявляла «духовной связи с комплексом либерально-демократических ценностей», но уже на следующей странице признает ее лидером «гуманитарной» НФ своего времени. Понимать это противоречие надо так: Володихину, признанному трубадуру «имперской» темы, очень хотелось бы уменьшить число своих оппонентов в прошлом нашей НФ (в настоящем их и так не густо), и никакая правда факта не в силах устоять перед этим желанием.
В целом же изобретенная Дмитрием Володихиным ИФ, похоже, выполняет ту же функцию, что и приснопамятный «турбореализм». Все эти «измы» придумываются скорее для того, чтобы публика обратила внимание на упоминающиеся рядом фамилии. Нормальная литературная технология, но не более. Для нашего понимания фантастики эта самая ИФ, кажется, не добавляет ровно ничего.
Александр Ройфе
ПУБЛИЦИСТИКА
Шинель Стругацкого
В этом месяце Борису Натановичу Стругацкому исполняется 75 лет. А его детищу — легендарному Семинару фантастики — скоро уже 35. Если же учесть, что первые шаги к созданию семинара были сделаны еще в 1973 году, то получается, что юбилей-то двойной! Вряд ли существует другое литературное объединение, способное похвастать таким долголетием. И при этом семинар до сих пор остается элитной Высшей школой литературной фантастики. С предложением рассказать о ней мы обратились к представителям трех поколений писателей. Только, вопреки обыкновению, начнем с самого молодого голоса и закончим воспоминаниями ветерана.
Мне кажется, мало что так влияет на автора, как «среда литературного общения». Дело даже не столько в знаниях (хотя они играют большую роль), сколько в общей атмосфере вовлеченности в литературный процесс. В некотором роде это важная составляющая того «первичного бульона», из которого зарождается жизнь. Для меня такой средой стал семинар Бориса Стругацкого.
На семинар меня привел Андрей Лазарчук, с которым мы познакомились на «Росконе». Случилось это весной 2005 года, с тех пор я стараюсь не пропускать ни одного заседания. На то время у меня в активе было всего полтора фантастических рассказа. Именно с приходом сюда для меня началась настоящая литературная работа. С 2007 года я являюсь действительным участником семинара (и, похоже, самым молодым). Для меня это стало, пожалуй, одним из самых больших на сегодняшний день достижений.
Если говорить об атмосфере, которая царит на семинаре… Я охарактеризовал бы ее как «дружелюбно-рабочую». С упором на «рабочую». А где еще можно обсудить новые, еще не опубликованные романы и рассказы признанных мастеров нашей фантастики — Андрея Лазарчука, Святослава Логинова, Вячеслава Рыбакова? Понять, как одно и то же произведение действует на разных людей?
Для меня такая информация всегда обладала огромной ценностью. Семинар учит работе с текстом — как со своим, так и с чужим. Учит не нудными лекциями, а яростно, живо, интересно, заставляя по-новому взглянуть на привычные вещи. В качестве примера, как это бывает на семинаре, можно привести обсуждение рассказа Святослава Логинова «Толкование сновидений» («Сонник»), позже опубликованного в «Если».
На семинаре рассказ прозвучал в авторском исполнении, а участникам предлагалось угадать концовку. То, что на первый взгляд кажется развлечением, на деле обернулось прекрасным уроком по композиции и работе с деталями.
Обидно только, что молодые авторы если на семинар и приходят, то редко. А для многих это могло бы оказаться полезным. Как минимум, туда стоит сходить, чтобы прикоснуться к пишущей машинке братьев Стругацких. Есть легенда, что только после этого начинается настоящая жизнь в фантастике. Я в приметы не верю, но…
Семинар под руководством Бориса Натановича Стругацкого является старейшим литературным объединением в стране.
Он возник в марте 1974-го[6], в годы, когда издание фантастики в стране контролировала так называемая «молодогвардейская» группа, делавшая ставку на массовое издание отвлеченной от действительности и малохудожественной НФ. При этом любым другим фантастам доступ к печатным площадям был перекрыт. В подобных условиях казалось логичным создать из молодых писателей некую группу, которая одним своим существованием привлекала бы к себе внимание и вынуждала бы литературных чиновников как-то на это существование реагировать.
К тому времени ленинградские фантасты уже имели опыт объединения в литературные группы. Перед войной в Ленинграде был создан Дом занимательных наук, в котором собирались Александр Беляев, Яков Перельман, Николай Рынин, Вадим Никольский и другие. В начале 1970 года возник Семинар молодых фантастов при Секции научно-фантастической и научно-популярной литературы Ленинградской писательской организации СП РСФСР под руководством Ильи Иосифовича Варшавского, он просуществовал чуть более двух лет. Однако оба эти объединения не были чисто жанровыми, туда хаживали и представители научно-популярной прозы.
Установка же Стругацкого поначалу отличалась жесткостью: семинар могут посещать только фантасты и только активно пишущие фантасты. Сохранился любопытный документ той эпохи — «Устав Семинара фантастической литературы под руководством Б.Н.Стругацкого». В нем вполне конкретно говорится, что действительный член семинара может быть исключен из состава этого объединения в случае «прекращения литературной деятельности». Сама литературная деятельность определялась регулярным посещением заседаний Семинара, представлением новых рукописей совокупным объемом не менее четырех-пяти авторских листов в год, проведением творческих вечеров не реже одного раза в три года и курированием кандидатов в действительные члены.
Вот уже тридцать пять лет единственным и незаменимым руководителем семинара остается Борис Натанович Стругацкий. Однако он вправе назначать старосту, который ведет административную и протокольную работу. Первым старостой был назначен ленинградский фантаст Андрей Балабуха, занимавший эту должность до 1977 года.
Со временем определился и довольно своеобразный порядок обсуждения рукописей на семинаре. В начале заседания выступает назначенный руководителем «прокурор», который должен найти и проанализировать недостатки обсуждаемого произведения, даже если ему оно понравилось. За ним выступает «адвокат» — действительный член семинара, который согласился защищать обсуждаемое произведение по просьбе его автора. После этих двух выступлений высказываются и другие члены семинара, а итог подводит руководитель. Затем начинается голосование. Оно тайное и денежное. Члены и кандидаты кладут в подготовленные старостой конверты от одного до 13 рублей (до гиперинфляции 1990-х годов — от одной до 13 копеек). Среднее арифметическое от полученной суммы становится официальной оценкой произведения. На дальнейшую судьбу текста значение оценки практически не влияет — автор сам волен решать, публиковать ему свой опус неизменным или подредактировать с учетом мнения коллег.
Кстати, первым произведением, которое обсуждалось на Семинаре Бориса Стругацкого, стал рассказ киевского писателя Бориса Штерна «Чья планета?», считающийся ныне классическим. Это указывает на то, что практически с самого начала на заседаниях семинара стали обсуждать не только ленинградцев, но и авторов из других городов. Тогда же сам собой определился статус заочного члена — им может стать любой русскоязычный писатель, произведение которого пройдет всю процедуру: прокурор-адвокат-дискуссия-голосование.
Как известно, опубликовать даже небольшой рассказ в 1970-е годы было очень непросто. Поэтому семинар считал возможным выдавать рекомендации к публикации тех или иных рукописей в надежде, что литературные чиновники прислушаются, и наиболее серьезные из обсуждаемых произведений будут напечатаны в журналах или сборниках. Вера в силу рекомендации притягивала многих амбициозных авторов, а понимание того, что в литературу «прорвутся» только лучшие из лучших, заставляло писать медленно, совершенствуя стиль, вводя оригинальных персонажей и поднимая острые темы. Несмотря на то, что ожидания скорых публикаций были сильно оторваны от реальности, кое-что все же удавалось напечатать в региональных газетах и журналах, а во второй половине 1980-х годов даже выходили сборники, составленные из рассказов действительных членов семинара: «Синяя дорога» (1984), «День свершений» (1988) и «Часы с вариантами» (1992).
Поскольку присуждение оценок произведениям зачастую зависит от того, как голосующие относятся к самому автору, на семинаре периодически проводились анонимные конкурсы. Рукописи на заданную тему поступали через старосту руководителю, после чего Борис Стругацкий зачитывал их на заседаниях, которые заканчивались общим голосованием. По итогам этих голосований выбирался победитель. Последний такой конкурс под названием «12 июня 2018 года» продолжался с перерывами более пяти (!) лет, победительницей стала Елена Первушина с рассказом «Друг его жены».
Таким образом, семинар является серьезной литературной школой, хотя Борис Стругацкий и говорил всегда, что «научить писать невозможно». Из этой школы вышли известные ныне широкому кругу читателей Андрей Столяров, Марианна Алферова, Ирина Андронати, Святослав Логинов, Наталья Галкина, Андрей Измайлов, Дмитрий Каралис, Николай Романецкий, Вячеслав Рыбаков, Александр Тюрин, Александр Щеголев, Николай Ютанов и многие другие. Среди заочных членов можно назвать Эдуарда Геворкяна, Андрея Лазарчука (позднее стал «очным»), Сергея Лукьяненко и Михаила Успенского.
Еще семинар выполняет функцию дискуссионного клуба, в который фантасты приходят, чтобы обменяться мнениями о текущем литературном процессе. Почти сразу участниками семинара стали критики, художники, переводчики и редакторы фэнзинов. Благодаря этому в более свободные времена и с использованием потенциала творческого коллектива, сложившегося внутри семинара, сформировались издательства (например, «Terra Fantastica»), появились престижные литературные премии («АБС-премия», «Бронзовая улитка», «Интерпресскон» и «Странник»). Активные участники Семинара Владимир Ларионов и Александр Сидорович выступили основателями и организаторами первого ленинградского конвента, который сегодня известен любителям фантастики под названием «Интерпресскон». Другой активист, Андрей Чертков, сравнительно недавно ставший действительным членом семинара, создал литературный проект «Время учеников», в котором отдана дань творчеству Аркадия и Бориса Стругацких.
Сегодня Семинар Бориса Стругацкого работает в несколько измененном формате. Из-за болезни Борис Натанович не может непосредственно участвовать в заседаниях, а потому переложил часть функций руководителя на «ветеранов». Однако при этом мэтр внимательно следит за текущими обсуждениями, назначает прокуроров и высказывает свои оценки. Литературный процесс продолжается…
Кто-то назвал советский мир Атлантидой, о которой теперь складываются легенды. Семинар Бориса Стругацкого — одна из таких легенд.
Я прихожу в семинар зимой 1982-го года. Меня рекомендует туда Александр Житинский. Он прочел мою первую повесть «Ворон» и считает, что лучше «прикрыть» эту вещь жанром фантастики. Мне, в общем-то, все равно. Фантаст так фантаст. В Доме писателей на улице Воинова я разыскиваю Бориса Стругацкого. Я еще не знаю его в лицо и потому спрашиваю каждого встречного: «Скажите, пожалуйста, вы — не Борис Стругацкий?» Наконец, оказываюсь на втором этаже, где начинается заседание секции. Борис Натанович интересуется: «А фантастика у вас есть?» Я нагло отвечаю ему, что конечно, сколько угодно, хотя никакой фантастики у меня, разумеется, нет. Затем возвращаюсь домой и за два месяца пишу двенадцать рассказов. Практически все они будут потом напечатаны. Борис Стругацкий принимает меня в свой семинар. Однако важнее другое. С этого момента я начинаю писать. Не пописывать время от времени, как тогда поступали многие, а упорно, осознанно создавать «нечто из ничего». Я впервые открываю великое правило, сформулированное, впрочем, уже давно: «Писатель должен писать».
«Талант — это вопрос количества».
Заседания семинара обычно проходят в Красной гостиной. Дом писателя — это бывший особняк графа Шереметева. Кругом — лестницы из белого мрамора, стены, обитые шелком, громадные зеркала. Одни названия чего стоят: Дубовая гостиная, Золотая гостиная, Мавританский зал… Здесь каждое слово звучит значительно. Понедельник теперь у меня — священный день. Все дела откладываются — я еду на семинар.
Чему учит Борис Стругацкий? А бог его знает — я не помню ни одного из литературных советов, которые он тогда, вероятно, давал. Сейчас у меня свой семинар, посвященный, правда, не литературе, а аналитике, и я понимаю, что научить никого ничему нельзя. Научиться можно только самостоятельно. А учитель, если он настоящий учитель, только поощряет этот процесс. Учитесь, говорит он. И ничего более.
Учитесь, говорит нам Борис Стругацкий.
Мы все очень самоуверенны. Мы полны «энергией заблуждения», как это называл Лев Толстой. Советская фантастика, воспевающая прекрасное завтра, для нас просто не существует. Не будем мы писать так, как они. Есть Ефремов, Стругацкие, возвышающиеся точно Эверест и Монблан. Немного есть Биленкин, Варшавский, Снегов, Ларионова, Гор. Возможно, есть Громова и Днепров. Но это, пожалуй, и все. Тоже — перевернутая страница. Мы начинаем российскую фантастику заново.
Два совета я все-таки помню. Когда вы пишете большую вещь, говорит Борис Стругацкий, на вашем знамени должно быть начертано: «Вперед, к финалу!» Ни в коем случае не останавливаться. И, во-вторых, если какой-нибудь эпизод у вас не идет, значит, он, скорее всего, не нужен. Выбросьте его к черту, чтоб не мешал.
Этими советами я пользуюсь до сих пор.
Чего мы хотим? Мы хотим вывести фантастику из гетто, в котором она пребывает. Есть великая русская литература, известная всему миру. И есть фантастика, второсортное чтиво, которое, как считается, пишут левой ногой. Если соединить литературу с фантастикой, получится нечто. Ведь сумели же это сделать Гоголь, Гофман, Булгаков, Маркес. Или скромнее — Герберт Уэллс, Аркадий и Борис Стругацкие.
Чем мы хуже?
Это очень тяжелое для авторов время. По мнению советской литературной номенклатуры, фантастика — подозрительный жанр. Что они там выдумывают? Что они под разными «иными мирами» имеют в виду? Борис Стругацкий время от времени говорит: «Только не надейтесь ребята, что вас будут печатать. Уж вы мне поверьте — печатать вас никто никогда не будет».
Такой вот прогноз.
Мы, впрочем, и не надеемся. Публикации, книги, переводы на иностранные языки — это в будущем, которое действительно никогда не наступит.
Характерное свойство будущего — оно может и не наступить.
Я тем не менее собираю книгу и подаю ее в одно из издательств. Месяца через три рукопись мне возвращают. В рецензии, подписанной заслуженным деятелем культуры, сказано, что этой книгой автор опорочил все лучшее, что есть в нашей стране. Все, что есть, все опорочено. В семинаре мне даже завидуют. Это надо же так суметь.
Еще нет компьютеров. Есть пишущие машинки, по клавишам которых нужно лупить со страшной силой. Если в текст вносится правка, его следует заново перепечатывать, и одну из своих повестей я перепечатываю восемь раз. Тысяча двести страниц ручной машинописи. Три-четыре страницы в час, примерно 350 часов нудного механического труда. А еще говорят, что писатель — профессия творческая.
Зато можно было, написав рассказ, позвонить Стругацкому и гордо сказать: «Борис Натанович, я написал рассказ!..» И услышать в ответ: «Несите!..» Сейчас, если у кого-то из приятелей выходит книга, я думаю лишь об одном: не дай бог подарит. Ведь тогда придется читать, а потом еще хуже — высказывать свое мнение.
Десяти читателей, членов семинара, нам вполне достаточно. Если двое-трое похвалят — значит, успех.
Вот ради этого и стоит писать.
А еще Борис Стругацкий время от времени говорит: «Ребята, я вас умоляю, поменьше болтайте. Вот вы тут болтаете, а мне потом объясняться. Меня будут вызывать, спрашивать — что и как. Я буду вынужден врать. А я этого не люблю».
Мы все равно болтаем. А как же иначе?
Впрочем, ну что там — несем какую-то чепуху. Изобретаем велосипеды. Открываем открытое. Это для нас сейчас важнее всего.
Практически рядом с особняком Шереметева — «Большой дом». Так в Ленинграде называется здание КГБ. Иногда телевизор, работающий в ресторане, покрывается рябью помех. Нам объясняют, что у «соседей» заработала радиостанция. А иногда в буфет заходят некие молчаливые люди. Берут сто-двести граммов коньяка, бутерброд. Это «соседи» и есть. На работе им пить нельзя, а «снять напряжение» надо. Вот так и живем. Мы их просто не замечаем. Мы — в ином измерении, где ничего этого нет.
Особого страха тоже не чувствуется. Советская власть одряхлела, впала в маразм. Она уже не рвет горло насмерть, как раньше, а лишь иногда предупреждающе взрыкивает. Надо очень уж стараться, чтобы тебя заграбастали. А мы не стараемся. Мы заняты совсем другими делами.
Неприятно одно. Кто-то сидит среди нас, так же весело выпивает, закусывает, читает наши рассказы, так же кричит и размахивает руками. А потом аккуратно все это записывает и докладывает «товарищу полковнику».
Кто бы это мог быть?
Бог с ним, пусть докладывает!
В перестройку мы все, разумеется, демократы. Даже те, кто станет потом патриотом и государственником. Мы за свободу, за многопартийность, за рыночную экономику. Мы против цензуры и монополии КПСС. А как же иначе? Мы полны самых ярких надежд. Мы еще не знаем, во что это выльется. Позже Борис Колоницкий, один из крупнейших в нашей стране специалистов по Октябрьской революции, скажет мне, что такие же настроения были и в марте 1917 года. Вот свергли царя — сейчас наступит всеобщее счастье. Счастье не наступило, и взоры обратились к большевикам.
И все же что-то сместилось в стране. Видимо, в самом деле идут новые времена. В газетах печатается такое, о чем еще три года назад не мог бы помыслить никакой фантаст. Борис Натанович говорит: «Я был уверен, что до этого не доживу». А еще почему-то цитирует Гегеля: «История учит тому, что она ничему не учит».
Тем не менее сдвиги есть. Коля Ютанов организует издательство «Terra Fantastica». Он выпускает сборники Эдуарда Геворкяна, Андрея Лазарчука, Вячеслава Рыбакова, Сергея Лукьяненко, Сергея Иванова…
Нам тоже когда-то казалось, что мы до этого не доживем.
Саша Сидорович организует «Интерпресскон». Мы — Ютанов, Геворкян, Лазарчук — создаем Конгресс российских фантастов. Уже не помню, кто предложил название «Странник», но звучит оно так, как будто было всегда. Борис Завгородний, «фэн номер один», проводит грандиозный «Волгакон» у себя на родине. Один за другим возникают журналы фантастики.
Вручаются первые премии в нашем жанре. Их присуждают не партия и правительство, а писатели и читатели. Еще не заработали лоббистские машины, сминающие все и вся. Еще нет тусовочного разделения на своих и чужих. Первые «Бронзовые улитки» поползли к небесам. Первые «Странники», созданные петербургским скульптором Василием Аземшей, отправились в путешествие по всему миру. «Дети, бегущие от грозы», называет их Михаил Успенский.
Мне, кстати, уже давно кажется, что Эдуард Геворкян, Андрей Лазарчук, Михаил Успенский, Евгений Лукин — тоже из нашего семинара.
Просто они почему-то редко туда заходят.
На очередной «Странник» приезжает классик американской фантастики Роберт Шекли. Поздно вечером мы сидим с ним в столовой на углу Литейного проспекта и улицы Пестеля. Шекли все допытывается: «За что вы меня так любите?» Моего английского недостаточно, чтобы объяснить за что. Впрочем, к концу конгресса он, кажется, и сам понимает.
Роберт Шекли еще не раз будет участвовать в наших конгрессах.
Сергей Переслегин и я даем интервью какому-то американскому журналисту. Что будет с Россией дальше? Выживет ли она? Мы добросовестно отвечаем, что вопрос о выживании стоит ныне не столько перед Россией, сколько перед Соединенными Штатами. Сергей рассказывает о глобальных террористических стратегиях, которые страны ислама могут развернуть против западной цивилизации. Журналист взирает на нас как на идиотов. Америка в зените могущества, конкурентов у нее нет. Какие террористические стратегии? Что вы несете?
До нападения на Всемирный торговый центр в США еще более десяти лет.
Сейчас Сергей Переслегин — известный аналитик, эксперт, работающий по правительственным заказам.
В день августовского путча я прилетаю из Латвии. Все телефоны молчат, по телевизору идет «Лебединое озеро». Дома оказывается только Борис Стругацкий. Он говорит мрачным голосом: «Знаете, Андрей, я думаю, что это надолго…» Через пару дней ГКЧП разваливается, путчисты арестованы, приостановлена деятельность КПСС.
Начинается другая эпоха.
Таковы прогнозы фантастов.
Правда, Френсис Фукуяма, провозгласивший «конец истории», тоже предполагал, что Советский Союз будет существовать еще очень долго. И это за два года до распада СССР.
Происходит пожар в Доме писателя. Какая-то загадочная история, связанная, по слухам, с расположившимся там издательством. То ли небрежность, то ли поджог. Позже все это будет названо периодом «первоначального накопления капитала». Я приезжаю туда на следующий день. На креслах в актовом зале лежат обрушившиеся промерзшие балки. Пахнет дымом, нет света, где-то журчит вода. На лестнице — потеки грязноватого льда.
Прежняя жизнь закончилась.
Есть время разбрасывать камни и есть время их собирать. Есть время создавать семинары и есть время странствовать в одиночку.
Это как с первой любовью. Хорошо, что она была, но вернуть ее невозможно.
И все же она была.
У меня на книжной полке стоит фотография: Александр Етоев, Андрей Чертков, Николай Ютанов, Екатерина Ютанова, Сергей Переслегин, Вячеслав Рыбаков, Сергей Иванов, Андрей Лазарчук и я — с самого края. Мы снимались когда-то на углу Вознесенского проспекта и набережной Фонтанки.
Недалеко от издательства «Terra Fantastica»…
ВЕХИ
Вл. Гаков
Властелин кольца
В первый раз автор нынешнего очерка написал о Ларри Нивене более тридцати лет назад. Тогда фантаст проходил «по делу» как «яркий представитель нового поколения американской science fiction», лидер того ее направления, которое как раз science… Три десятка лет — срок солидный, но, празднуя в этом месяце 70-летие писателя, мир американской фантастики менее всего чествует его как «заслуженного пенсионера».
Без этого имени сегодня невозможен разговор о той фантастике, которая на английском зовется hardcore, а у нас часто переводится как «твердая». А то и «жесткая», что рождает совсем уж нежелательные ассоциации с другой продукцией — той, что «только для взрослых»! Правильнее, наверное, все-таки «строгая», в смысле научной достоверности и корректности. Причем все молчаливо соглашаются с тем, что под наукой в данном случае понимаются законы, относящиеся к Природе и к человеку как части Природы (например, биология и физиология). А вот законы, по которым человек живет в созданной им же «другой» природе, социуме, это уже сфера гуманитарных наук. Идущих по ведомству совсем иной фантастики — «мягкой», гуманитарной, социальной…
Лоуренс Ван Котт Нивен при рождении получил не только внушительную двойную фамилию, но и завидные стартовые условия. Мальчик, появившийся 30 апреля 1938 года в Лос-Анджелесе, был из тех, про кого в Америке говорят: «Родился с золотой ложкой во рту». Будущему писателю-фантасту повезло с родителями, успешными бизнесменами, а главное — с дедушкой. Внуку нефтяного магната Эдуарда Доэни ковровая дорожка в лучшие университеты страны, а позже в крупнейшие корпорации была расстелена уже при рождении.
Первым Ларри воспользовался, а вот от второго отказался. Он не пошел по стопам родителей и деда, предпочтя строить собственное будущее. Математические способности проявились у мальчика еще в младших классах школы, поэтому не удивительно, что Нивен решил посвятить себя науке. Он учился в знаменитом Calthech'е — Калифорнийском технологическом институте, а затем закончил Университет Уошберна в Топеке (штат Канзас) с дипломом математика и поступил в аспирантуру еще одного престижного учебного заведения — Университета Калифорнии в родном Лос-Анджелесе.
Но не закончил ее, пожертвовав будущей академической карьерой ради нового увлечения. Подобно многим «технарям» той поры, Ларри Нивен зачитывался научной фантастикой, а затем и сам начал писать.
Материальный вопрос перед начинающим фрилансером не стоял, к тому же его первые публикации сразу привлекли внимание и читателей, и редакторов журналов. Дебютировал молодой автор рассказом «Самое холодное место», опубликованным в 1964 году. Уже в первом произведении никому не известный фантаст продемонстрировал свое желание и, главное, умение «играть» с идеями и гипотезами, взятыми с переднего края науки. Другое дело, что в данном рассказе он капитально ошибся: популярная тогда гипотеза о том, что Меркурий не вращается вокруг своей оси и постоянно обращен одной стороной к Солнцу, была опровергнута буквально за месяцы до публикации. Оказалось, что планета все-таки вращается, но уникальным образом — меркурианские звездные сутки равны примерно двум третям меркурианского года, то есть за него планета успевает повернуться вокруг своей оси всего на полтора оборота.
Эту ошибку автору простили, ведь вместе с ним пребывала в неведении и вся наука… И уже спустя три года молодой писатель получил первую в жизни высшую премию «Хьюго» за рассказ «Нейтронная звезда». В данном случае Нивен мог быть спокоен — точные, экспериментально подтвержденные данные о том, что действительно творится в окрестностях нейтронных звезд, наука, очевидно, представит еще нескоро. А сам рассказ стал одним из самых ярких примеров того, как в научной фантастике можно приобщать читателя к последним изысканиям науки, не жертвуя ни сюжетным нервом, ни образами, ни интригой.
Однако в середине шестидесятых у направления, которое исповедовал Ларри Нивен, было много противников. Мир фантастики в ту пору отдавался иным страстям и увлечениям. На слуху были имена звезд, пришедших с «Новой волной»: Урсула Ле Гуин, Джон Браннер, Роджер Желязны, Роберт Силверберг, Сэмюэл Дилэни… Но коль скоро находились авторы, желавшие писать старую добрую научную фантастику, и находились читатели, желающие ее читать, то Нивен быстро отыскал свою нишу. Доказательством тому стали еще три премии «Хьюго», полученные в семидесятые годы за рассказы «Непостоянная Луна» и «Человек-дыра» и короткую повесть «Солнечное пограничье».
Что характерно: в случае с другой высшей премией в жанре — «Небьюлой», присуждаемой не фэнами, а профессионалами, для Нивена все сложилось не столь радужно. Писателю пришлось довольствоваться одной-единственной «Небьюлой». Но зато награжденный ею роман принес автору еще и «Хьюго»! Подобный дубль в мире американской фантастики означает практически абсолютное признание.
Этим романом был «Мир-Кольцо» (1972) — одно из лучших произведений мировой НФ.
Роман был переведен на русский язык, что избавляет меня от необходимости пересказывать сюжет. Замечу только, что обнаруженное землянами циклопическое сооружение неведомых космических «странников» (аналогии с произведениями Стругацких возникают сами собой) — искусственное кольцо диаметром в сотни миллионов километров, обращающееся вокруг центрального светила, — по сей день остается одним из самых значительных рукотворных «чудес» в американской фантастике.[7]
Роман стал вехой и в выстраиваемой писателем «истории будущего». Она рождалась постепенно, от произведения к произведению, но уже с первых рассказов и романов становилось ясно, что Ларри Нивен оказался достойным учеником Роберта Хайнлайна, Пола Андерсона, Кордвайнера Смита. А в чем-то пошел дальше.
События, входящие в суперцикл под условным названием «Освоенный космос» (Known Space), охватывают примерно 1200 лет будущего нашей цивилизации, начиная с середины 1970-х годов. Напомню, что в годы, когда были опубликованы первые произведения цикла, для автора и его читателей семидесятые были хоть и близким, но будущим. Начинается повествование с момента, на первый взгляд, сугубо «земного» — бурного развития трансплантологии. Следствием стали радикальные изменения в уголовном законодательстве: совершивших тяжкие преступления отныне не казнили, а отдавали «на органы». Появился и соответствующий криминальный бизнес — органлеггерство[8]. Чуть позже была открыта телепортация, также принесшая с собой не только блага, но и новые проблемы.
Затем начинается собственно космическая экспансия человечества, которое «на пыльных тропинках далеких планет» не только следило само, но и находило следы иных цивилизаций и их представителей. Нивен напридумывал множество невероятных рас. Тут и способные погружаться в анабиоз «тринты» (рабовладельцы); и «паки» (защитники) — своего рода «прогрессоры» для земной цивилизации; и патологические трусы и перестраховщики «кукольники» с планеты Пирсон; и воинственные кошкообразные «кзинты»[9]…
После длительного периода выяснения отношений — когда мирного, а когда и не очень — наступает кульминация. Как и следовало ожидать от американского писателя-технократа — оптимистичнее некуда. Все наладилось, и космос стал домом для новой расы генетических мутантов, обладающих особыми экстрасенсорными способностями. «Ген удачи», о котором читатели впервые узнали в «Мире-Кольце», отныне охранит новых хозяев Галактики от всех мыслимых опасностей и, как написано в работе одного критика, «гарантирует максимум возможностей для счастья».
Свою космическую телеологию сам Нивен исчерпывающе сформулировал в одном из ранних рассказов, «Конвергентные серии» (1967): «Есть способ победить энтропию и жить вечно». Нивен не скрывает, что его кредо — технократический оптимизм, иначе говоря, вера в новые технологии, с помощью которых рано или поздно можно будет разрешить любую социальную проблему.
Впрочем, на пути к своему Золотому веку каждое из поколений землян сталкивалось с целым ворохом проблем, которые поначалу не давали оснований для оптимизма. Уже открытия трансплантологии и телепортации на заре эры Освоенного космоса привнесли в жизнь землян «новые обычаи, новые законы, новую этику и новые преступления» (слова самого Нивена). А дальше само человечество разделилось на неудержимо расходящихся друг от друга «плосковиков» (Flatlanders — те, кто остался на Земле и внутренних планетах Солнечной системы) и «поясников» (Belters — те, кто выбрал себе средой обитания пояс астероидов). И этот процесс развивался по нарастающей: по мере колонизации иных миров за пределами Солнечной системы возникали новые «субрасы», вынужденные приспосабливаться к непривычным природным условиям.
Достаточно вспомнить, пожалуй, самый экзотический (но не вступающий в противоречие с законами физики) мир Ларри Нивена — Кольцо Дыма. Это газообразный «бублик» вокруг нейтронной звезды, внутри которого парят в свободном падении и скрученные «интегралом» деревья, и обжившиеся в этих «волнах эфира» потомки космических мятежников, некогда бросивших свой звездолет за пределами газового кольца…
К началу Миллениума Ларри Нивен немало написал и кроме самого известного своего цикла. Это и удачные фантастические детективы, и несколько циклов, среди которых выделяется серия «охотничьих баек», рассказанных путешественником во времени, который отправляется в прошлое для отлова вымерших животных. Только прошлое — мифологическое, так что охотничьими трофеями героя оказываются то единорог, то левиафан, то птица Рух… Опубликовал Нивен даже роман в жанре фэнтези; правда, об авторском отношении к этому жанру говорит само название — «Магия уходит» (1978). Убежденный технократ попытался и фэнтезийный мир построить рационально.
И, наконец, с 1970-х годов заработал на полные обороты многостаночный «литературный цех». В соавторстве с Джерри Пурнеллом и Стивеном Барнсом (а эпизодически — еще и с Дэвидом Джерролдом и Майклом Флинном) Нивен выпустил полтора десятка романов, многие из которых стали бестселлерами. Поскольку состав соавторов все время менялся — писали и по двое, и по трое, — но фамилия Нивена присутствовала на обложках неизменно, можно заключить, что именно он был творческим мотором этого беспрецедентного «коллективного подряда».
На сей раз романы, выходившие под именами Нивена-Пурнелла-Барнса (в разных комбинациях), ни на что особенное не претендовали — добротная коммерческая продукция, и только.
Не высокое искусство, а то, что американцы называют entertainment.
Несколько особняком в этом ряду стоит лишь роман Нивена и Пурнелла «Ад» (1975): изящно переписанное великое творение Данте. Герой романа, современный писатель-фантаст, прямо с очередного «кона» попадает прямехонько в преисподнюю. Конечно, в исполнении Нивена и Пурнелла она слегка осовременена. В целом получился не самый трафаретный американский фантастический роман. Оттого и не самый успешный — с точки зрения продаж.
Не буду перечислять все нивеновские идеи, обогатившие мировую научную фантастику или реализованные в сегодняшней реальности. Упомяну лишь один пример; для многих, вероятно, он окажется неожиданным.
Известный ныне всем термин flash mob (мгновенно собирающаяся в одном месте и столь же стремительно растворяющаяся толпа) своим происхождением обязан рассказу Нивена 1973 года, который в оригинале назывался почти так же — «Flash Crowd». Тогда за неимением специального термина название можно было перевести как «Толпа-вспышка». Самое, впрочем, любопытное, что и термин Flash Crowd также присутствует в сегодняшней жизни. Только на сей раз в виртуальной, сетевой: так обозначается ограниченный доступ (или полное его отсутствие) на сайт вследствие перегруженности трафика.
Об интеллектуальной изобретательности писателя говорит и целый ворох предложенных им «законов Нивена» — в духе более известных и широко растиражированных законов Мерфи или Паркинсона. Как известно, подобное «законотворчество» чрезвычайно заразительно, и Ларри Нивен не стал исключением — он постоянно дополняет и корректирует свои законы[10]. Поскольку эта сторона его творчества могла пройти мимо внимания наших читателей, приведу несколько примеров.
«Никогда не кидайте дерьмо в вооруженного человека» (из этого закона логично вытекает другой: «Никогда не стойте рядом с тем, кто кидает дерьмо в вооруженного человека»).
«Никогда не палите лазером по зеркалу» (нужны дополнительные пояснения для гуманитариев? Пожалуйста — зеркало отразит луч, и…).
«Матушке Природе все равно, получаете вы удовольствие или нет» (комментарий Нивена: «вам вольно развлекаться со взрывоопасными химреактивами — никто или ничто «свыше» вас останавливать не станет». Так что думайте сами…).
«Если и существуют экстрасенсорные и/или магические способности, то, значит, они почти бесполезны».
«Любой дурак может предвидеть прошлое».
«Способы быть человеком ограничены, но бесконечны».
«Нет идеи столь верной и справедливой, чтобы не нашлось дурака, который начнет воплощать ее в жизнь».
«Хорошо подумайте, прежде чем совершить трусливый поступок. Старость — не для неженок».
Есть законы, сформулированные специально для писателей и читателей фантастики: «Универсальная идея научной фантастики состоит в том, что существуют иные мозги, кроме ваших, и мыслят они не хуже ваших, но — по-иному». Кроме того, в своей блистательной статье «Теория и практика путешествий во времени» Нивен чеканно сформулировал еще один закон: «Если в описываемой писателем вселенной разрешены путешествия во времени и возможно изменение прошлого, значит, в данной вселенной никогда не будет построена машина времени». Наконец, знаменитый Третий закон Кларка («Любая достаточно развитая технология неотличима от магии») Ларри Нивен тоже вывернул наизнанку: «Никакая достаточно развитая магия не отличима от технологии».
А вот законы для писателей вообще.
«Писатели, которые пишут для других писателей, должны ограничиться эпистолярным жанром».
«Произведения, призванные положить конец всем историям на данную тему, этого точно не сделают».
«Тратить попусту время читателя — смертный грех».
«Если то, о чем вы собираетесь рассказать читателю, важно и/или нелегко для понимания, излагайте это самым простым языком, на который только способны. Если читатель все равно не поймет, пусть это будет его вина, а не ваша».
И на десерт один закон, припасенный Ларри Нивеном исключительно для читателей: «Существует технический термин для обозначения тех, кто ошибочно принимает мнения и суждения героев романа за авторские. Этот термин — «идиот».
Ничего личного — просто закон природы.
СТАТИСТИКА
Дожить до завтра
Московский писатель-фантаст Алексей Калугин в последних своих произведениях все чаще обращается к проблеме выживания человечества. Поэтому неудивительно, что и свой вопрос, адресованный интернет-читателям журнала «Если», он сформулировал в той же тематической плоскости: «Какая угроза близкого будущего наиболее опасна для самого существования нынешней цивилизации?» Ответы распределились следующим образом:
Мировой финансовый кризис — 3 %;
Энергетический кризис — 10 %;
Крах глобальной политической системы и биполярного мира — 7 %;
Конфликт культур, вызванный миграционными процессами — 18 %;
Перенаселение и повальный голод — 3 %;
Эпидемия ранее неизвестной болезни — 5 %;
Терроризм с использованием ядерного оружия — 7 %;
Серия природных катаклизмов — 6 %;
Загрязнение окружающей среды и истощение биосферы — 14 %;
Сумма разрозненных техногенных факторов — 10 %;
Искушение виртуальной реальностью — 3 %;
Человечество сумеет ответить на любой вызов — 14 %.
Всего в голосовании приняли участие 536 человек.
Жить нам суждено долго и счастливо, не боясь перенаселения, голода и вспышек новых, ранее неизвестных заболеваний, при вполне устойчивой политической системе, способной дать отпор ядерному терроризму. Но при этом угробим биосферу и будем лихорадочно пытаться решить проблему столкновения культур. Такие самые общие выводы можно сделать по результатам опроса.
Однако давайте по порядку.
Участников опроса не пугает виртуальная реальность. В то, что повальное увлечение миром за стеклом компьютерного монитора может привести к глобальному катаклизму, верят только 3 %. Да и то правда: после будущего, придуманного Уильямом Гибсоном, нам уже ничего не страшно. Тема угрозы, что таят в себе компьютер и Интернет, — психические расстройства, потеря связи с реальностью, анорексия и суицид, — то и дело всплывает в прессе. Но лично мне кажется, что поднимают ее люди, которые не сумели или не смогли вписаться в реалии нового мира. Виртуальное пространство пугает их, в первую очередь, потому что они его не понимают. А все непонятное, как известно, таит в себе угрозу. Можно, конечно, попытаться понять, но проще запретить. Точно так же в свое время люди старшего поколения обвиняли во всех смертных грехах рок-музыку. Теперь у их последователей появился новый враг. Но, по счастью, мы не из их числа.
Не очень пугает любителей фантастики и мировой финансовый кризис. Пострадать от рухнувших биржевых индексов и обвалившихся курсов валют боятся всего-то 3 % респондентов. Что, в общем, не удивительно — в России до сих пор проще пострадать от упавшей на голову сосульки. Или от глупости чиновников. Или от того и другого одновременно. Это у них там, на Западе, разорившиеся в одночасье держатели акций прыгают из окон небоскребов. Мы же отлично знаем, что нужно делать в кризисной ситуации — бежать в магазин и запасаться спичками, солью и мылом.
При этом несколько странным кажется то, что вариант гибели цивилизации от энергетического кризиса взлетел на четвертое место (10 %). Хотя я полагаю, что истощение невозобновляемых природных ресурсов — газ, нефть и уголь — вовсе не станет причиной энергетического коллапса цивилизации. Альтернативных источников энергии более чем достаточно, и человечество быстро научится их использовать, как только в том возникнет необходимость. Будучи писателем-фантастом, имею право предположить, что даже современные разработки в этой области позволяют перейти на использование альтернативных источников энергии. Противодействует же этому мощное лобби — как политическое, так и финансовое, за которым стоят международные корпорации, зарабатывающие огромные деньги на продаже и переработке природных энергоносителей. И крах этих газпромлукойлмонстров может оказаться страшен не потому, что нам придется пересесть на велосипеды и читать при лучинах, а потому, что следствием этого, скорее всего, станет упомянутый ранее финансовый кризис.
Дальше в ряд по возрастающей выстраиваются перенаселение и нехватка продовольствия (3 %), эпидемии ранее неизвестной болезни (5 %) и серия природных катаклизмов (6 %). Подобные варианты развития событий не пользуются популярностью среди поклонников фантастики. А вот мне кажется, что это именно те проблемы, с которыми человечеству придется столкнуться в ближайшем будущем. И если все они окажутся завязанными в крепкий узел, то последствия могут быть поистине катастрофическими. По данным статистики, которая, как известно, никогда не врет, население наиболее развитых стран заметно стареет. В то время, когда жители беднейших стран третьего мира, в полном соответствии с библейским заветом, плодятся и размножаются. Обитатели ряда африканских стран уже сейчас, судя по всему, понятия не имеют, каким образом еще можно добывать себе еду, кроме как получая ее в виде гуманитарной помощи. И вот теперь представьте, что все это молодое, голодное и злое население рванет туда, где, по их мнению, полно еды. Это будет уже не конфликт культур. Это будет столкновение мировоззрений, которое запросто может обернуться бойней.
Иной вариант — саранча пожрет все и сама после этого перемрет от голода. Что после этого наступит? Правильно — эпидемия. Причем совсем не обязательно это будет инфекционное заболевание. Научившись лечить множество тяжелых болезней, в том числе и наследственных, человечество само с собой затеяло игру в русскую рулетку. Дефектные гены, которые ранее приводили к смерти, никуда не исчезают. Они накапливаются в популяции. В какой-то момент ситуация может стать необратимой — генетический мусор возьмет верх и здоровый генофонд окажется полностью утрачен. Уже страшно, правда? А теперь давайте наложим на выстроенную ситуацию дополнительный фактор — природные катаклизмы. Ну, хотя бы глобальное потепление. Какая часть территории Европы должна оказаться под водой? Уже сейчас те, кто поумнее и побогаче, скупают замки в горах. Замки лучше домиков — их проще оборонять.
Ну, довольно об этом.
Ядерный терроризм (7 %) — это понятно. Действительно, страшно, когда троечник-восьмиклассник, заглянув в учебник, может узнать, как собрать простейшую атомную бомбу. Проблема за малым — где сырье достать. Но ведь для кого-то и это не вопрос.
Сумма разрозненных техногенных факторов (10 %) — ну, так это вообще чисто наше, родное! Один что-то недодумал, другой линию на чертеже забыл провести, третий гайку не затянул — вот тебе и новый Чернобыль. Дома рушатся, поезда сталкиваются, самолеты падают. Да, конечно, от случайностей никто не застрахован. Но почему все это происходит с такой убийственной регулярностью? Как будто кто-то заранее график составил и теперь строго ему следует. Нет, я не про фильм «Поворот не туда». У меня на сей счет имеется своя версия. Не смерть ловит нас в свои капканы, а дураки. Те самые дураки, которые вместе с дорогами составляют две вековечные российские проблемы.
Вот чего я понять не могу, так это почему довольно большое число респондентов (7 %) считает, что человечеству следует опасаться краха глобальной политической системы. Начнем с того, что вопрос был немного провокационным. Главным образом потому, что сам я не понимаю, что представляет собой эта самая ГПС. И почему, собственно, следует опасаться ее краха? Можно подумать, что именно эта самая ГПС последние десятилетия спасала мир от гибели. Какое там! Ежели политикам предоставить полную свободу действий, они этот несчастный мир за пару недель уделают так, что мало не покажется.
С загрязнением окружающей среды и истощением биосферы (кстати, вариант этот оказался вторым — 14 %) все ясно. Тема настолько хорошо отработана фантастами, что добавить к ней что-то новое, наверное, уже невозможно. Да и стоит ли? И без того понятно: чисто техногенная цивилизация — это для киборгов. А нормальным живым людям нужно хотя бы время от времени выезжать за город, чтобы на травке посидеть и послушать, как птички чирикают.
Ну, и наконец самый популярный вариант. Подавляющее большинство (18 %) считает, что в ближайшем будущем человечеству угрожают вовсе не войны, голод и болезни, а конфликт культур, вызванный миграционными процессами.
Даже и не знаю, что сказать. Быть может, все дело в том, что мы заранее не договорились о терминологии? И под термином «столкновение культур» одни понимают споры о литературе и кино, а другие — геноцид инородцев? Вот если бы можно было заново провести голосование, разделив этот вопрос на два… Но это уже точно из области фантастики. Запад есть Запад, Восток есть Восток, — это еще Киплинг сказал. Но почему, к примеру, во Франции довольно-таки регулярно устраивают погромы выходцы из Алжира и Северной Африки, а в той же Великобритании многочисленная мусульманская община вполне мирно уживается с местным населением? Не знаю. Данный вопрос мне не по зубам. А может, все дело вовсе не в столкновении культур, а в тех, кто управляет или пытается управлять этим процессом? Но тогда получается, что мы снова возвращаемся к варианту с крахом глобальной политической системы, которая чем скорее рухнет, тем лучше.
Оптимизм мне внушает то, что все-таки 14 % опрошенных, несмотря ни на что, верят: человечество сумеет справиться с любыми проблемами. А как же иначе? Если мы их сами же и создаем.
И самое главное, господа, не забывайте: я не политолог, не футуролог, не астролог. И даже гадать на кофейной гуще не умею. Я всего лишь писатель-фантаст. А следовательно, знаю о завтрашнем дне не больше вас. Так что поживем — увидим.
Алексей КАЛУГИН
КУРСОР
Телесериал Владимира Бортко «Мастер и Маргарита», похоже, снял многолетнее проклятие, висевшее над экранизациями этого романа Булгакова. Масштабную киноверсию знаменитой книги теперь решили создать в Голливуде. Компания Stone Village Pictures и продюсер Скотт Стейндорф заняты адаптацией произведения. К исполнению главных ролей пытаются привлечь суперзвезд: предложения сделаны Аль Пачино (Воланд), Рэйфу Файнсу (Мастер), Денни де Вито (Бегемот), Джону Малковичу (Пилат), Мэтту Дэймону (Бездомный) и Николасу Кейджу (Иешуа).
Еще одним произведением русской классики заинтересовались на Западе. Занимательно, что режиссером будущей канадо-итальяно-испанской ленты «Вий» станет Роберт Инглунд, известный поклонникам хоррора исполнением роли Фредди Крюгера в одноименной киноэпопее. В картине одну из ролей сыграл не менее знаменитый Кристофер Ли.
Георгий Данелия завершил съемки полнометражного мультфильма, сочетающего в себе как традиционную рисованную технику, так и 3D-технологии, — «Кин-Дза-Дза». Эта лента станет продолжением знаменитого фильма Данелии. Художественным руководителем проекта стал он сам, озвучив также одну из ролей. Режиссер — Татьяна Ильина, композитор — Гия Канчели. Роли озвучивали: Николай Губенко, Александр Адабашьян, сын Евгения Леонова Андрей и Галина Данелия. Премьера мультфильма состоится в конце года.
Выставка об инопланетянах открылась в научном музее Мирайкан в Токио. Посетителям, в основном детям, предлагается поверить, что инопланетяне существуют, а затем посетить четыре зоны: Зону воображаемых инопланетян, где представлены фантастические образы из фильмов, книг и игр; Зону науки об инопланетянах, где рассказывается о реальных поисках иных цивилизаций; Зону, где на огромном интерактивном экране изображен инопланетный мир; Зону общения, где можно самому подать или принять сигнал.
Тропою Лукаса решили пройти в Средней Азии. «Кыргызкино» после обращения его президента Замира Эралиева к парламенту Киргизии приобрело за 4,25 миллиона сомов (117 тысяч долларов) кинокамеру. Оказывается, этой камерой режиссер Джордж Лукас снял одну из серий «Звездных войн». Техника сейчас тестируется и затем будет использована для съемок кинофильмов.
Провальным для кинофантастики оказался «Оскар-2008». Награду Киноакадемии получил лишь фильм Криса Вейца «Золотой компас» по роману Филипа Пулмана, да и то лишь за спецэффекты. Лучшим короткометражным мультфильмом объявлена британо-польско-норвежская экранизация музыкальной сказки Сергея Прокофьева «Петя и Волк», а среди полнометражных анимационных работ победил «Рататуй».
Кормак Маккарти, автор романа «Старикам здесь не место», экранизация которого братьями Коэнами завоевала в этом году аж четыре «Оскара», оказался еще и фантастом. Роман лауреата Пулитцеровской премии «Дорога», повествующий о семье, которая путешествует по бесплодным землям постапокалиптической Америки, сейчас также экранизируется. Режиссер картины — Джон Хилкот, в главных ролях такие звезды, как Виго Мортенсен, Шарлиз Терон, Гай Пирс, а также юный австралиец Коди Смит-Макфи.
Поклонники бондианы любят обуждать вопрос: кто будет следующей девушкой Джеймса Бонда? Муссируется он и сейчас, когда начались съемки очередного хита бондианы с условным названием «Бонд 22». На этот раз партнершей Дэниела Крейга станет уроженка СССР, 28-летняя Ольга Куриленко. Она родилась в Бердянске, но еще в подростковом возрасте переехала в Москву, где стала моделью. Затем был Париж, где Ольга участвовала в телесериалах, а вскоре она появилась и в кино, снявшись в блокбастере «Хитмэн».
«Серебряная стрела» — так организаторы назвали новый фантастический конвент, проходивший в одном из подмосковных пансионатов в середине февраля. Программа конвента выглядела традиционной для мероприятий подобного рода: семинары, концерты, театральные постановки, мастер-классы. Вручалось множество премий — здесь организаторы решили применить «оскаровскую» схему: лучший главный герой, лучший мужской образ, лучший женский образ, лучший фантастический мир… Всего в мероприятии приняло участие более ста человек.
Агентство F-пресс
БИБЛИОГРАФИЯ
ГАЛИНА Мария Семеновна
Писатель-фантаст, поэт и литературный критик Мария Галина родилась в 1958 году в Твери. Окончила биологический факультет Одесского университета. Получив степень кандидата наук, работала в НИИ гидробиологии, занималась проблемами окружающей среды в Бергенском университете (Норвегия). В 1990-е годы сменила науку на литературу и журналистику. В настоящее время редактор отдела фантастики издательства «Форум». Живет в Москве.
Дебютировала в 1982 году как поэт. Ныне М.Галина — автор трех сборников, множества публикаций в периодических изданиях. С 1996-го начала серию романов в жанре «фантастического боевика» под псевдонимом Максим Голицын, Под этим же псевдонимом в 2004 году вышла книга «Глядящие из темноты (Хроники Леонарда Каганова, этнографа)». Под собственным именем выпустила несколько книг в жанрах фэнтези и сатирической НФ: «Покрывало для Аваддона» (2002), «Прощай, мой ангел» (2002), «Волчья звезда» (2003), «Гиви и Шендерович» (2004), «Хомячки в Эгладоре» (2005); в 2007-м вышел сборник повестей «Берег ночью». Кроме того, М.Галина с середины 1990-х активно выступает в роли литературного критика.
М.Галина дважды становилась дипломантом журнала «Если» (за критические выступления), она лауреат премий «Портал» и «Звездный мост», а также двух поэтических наград — «Читательский выбор» журнала поэзии «Арион» и премии «Antologia».
ГУЛАРТ Рон (GOULART, Ron)
Плодовитый американский писатель-фантаст и историк американской поп-культуры Рон Гуларт родился в 1933 году. В фантастике дебютировал еще в студенческие годы — это был рассказ-пародия «Письма в редакцию». С тех пор Гуларт, творческим «коньком» которого стала юмористическая фантастика на грани пародии, абсурда и «черного юмора», выпустил множество серий, например, о планетной системе Барнум (название знаменитого американского цирка), о «фрагментированной» Америке недалекого будущего и других циклах, числом более полусотни, а также около полутора сотен рассказов. Одна новелла, «Вызов доктора Клокуорка» (1965), была номинирована на премию «Небьюла». Ходят упорные слухи, что Гуларт является действительным автором популярных книг из серии TekWar — вместо указанного на обложке известного актера Уильяма Шетнера.
Гуларт написал несколько книг, посвященных американской поп-культуре — в частности, pulp-журналам, в том числе касающихся научной фантастики, комиксов и их героев: «Дешевые страхи» (1972), «Десятилетие приключений: комиксы 30-х» (1975), «Энциклопедия комиксов» (2004) и другие.
ДУРБИН Фредерик (DURBIN, Frederick S.)
Американский писатель и активный лютеранин-миссионер Фредерик Дурбин родился в Тейлорвилле (штат Иллинойс). После окончания колледжа с дипломом лингвиста (специализировался на классических языках — латыни, греческом) посвятил себя религии — пел в церковном хоре, служил ризничим, занимался миссионерской деятельностью в нескольких штатах, Канаде и Японии (там же, в Университете Ниигаты, некоторое время преподавал английский язык).
В фантастике Дурбин дебютировал в 1999 году романом «Стрекоза», номинированным на премию Международной гильдии авторов хоррора. С тех пор опубликовал несколько рассказов.
ЗОРИЧ Александр
Александр Зорич — литературный псевдоним харьковского писательского дуэта Яны Владимировны Боцман и Дмитрия Вячеславовича Гордевского. Оба соавтора родились в 1973 году, учились в одной школе с музыкальным уклоном, затем вместе закончили по два факультета Харьковского университета — философский и прикладной математики. До сентября 2004-го работали на одной кафедре Харьковского национального университета, где Яна преподавала религиоведение, а Дмитрий — культуру древнего Востока. В 1999 году соавторы защитили кандидатские диссертации по специальности «Философская антропология и философия культуры». Авторы многих научных публикаций. В настоящее время полностью посвятили себя литературному труду.
Собственно же писатель А.Зорич «родился» в 1991 году, когда соавторами был написан роман-фэнтези в стихах, но первая публикация состоялась в 1996-м — это был цикл прозаических и стихотворных миниатюр «Heraldica». В следующем году вышли первые романы цикла «Звезднорожденные» — «Знак Разрушения» и «Семя Ветра» (третья книга, «Пути Отраженных», издана в 1998-м).
Среди наиболее известных книг, созданных харьковским дуэтом — романы «Люби и властвуй» (1998), «Ты победил» (2000), «Сезон оружия» (2000), «Последний аватар» (2000), «Боевая машина любви» (2001), «Светлое время ночи» (2001), дилогия «Карл, герцог» и «Первый меч Бургундии» (2001), «Консул содружества» (2002), трилогия в жанре космооперы: «Завтра война» (2003), «Без пощады» (2004) и «Время — московское» (2005) (по трилогии создана компьютерная игра «Завтра война»), роман «Римская звезда».
В разное время А.Зорич становился лауреатом таких премий, как «Расширяющаяся Вселенная» конвента «Портал», «Иван Калита», получил специальный приз фестиваля «Звездный мост», приз «Серебряная полка» еженедельника «Книжное обозрение», а также премии критиков «Филигрань».
ЛОГИНОВ Святослав Владимирович
(Биобиблиографические сведения об авторе см. в № 1 за этот год)
Корр.: Откуда у городского фантаста столь не характерный для этой литературы пристальный интерес к жизни и быту деревни?
С.Логинов: Мне было тридцать лет, когда мне, городскому человеку, пришлось плотно заняться огородничеством. И я до сих пор удивляюсь чуду, когда из махонького семечка вырастает большая морковка. И второе чудо — люди, сохранившие русский язык и обычаи. О чем еще писать фантасту, как не о чудесах?
ПОКРОВСКИЙ Владимир Валерьевич
Московский писатель-фантаст и журналист, один из ведущих авторов отечественной НФ 1980-х Владимир Покровский родился в 1948 году в Одессе. Позже семья перебралась в Москву. Окончив Московский авиационный институт, В.Покровский работал физиком-электронщиком в Институте атомной энергии им. И.В.Курчатова, однако в 1980-е переключился на журналистику (в основном, научно-популярную), с которой связан и по сей день.
Литературным дебютом стал реалистический рассказ «Просчет», опубликованный в 1976 году, а тремя годами позже состоялась и первая публикация в жанре фантастики — рассказ «Что такое невезет?».
Рассказы и повести В.Покровского, одного из самых ярких представителей так называемой «Четвертой волны», быстро вывели автора в первый эшелон отечественной фантастики. Событиями НФ 1980-х — начала 1990-х стали повести «Время темной охоты» (1983), где дана неожиданная трактовка темы «прогрессорства», «Танцы мужчин» (1989), «Парикмахерские ребята» (1989–1990), действие которой отнесено в отдаленное будущее, когда человечество расселилось по планетам Галактики. Перу В.Покровского принадлежит и один из самых ярких НФ-рассказов 1980-х — пронзительная антимилитаристская притча «Самая последняя война» (1984). Однако издательскую судьбу фантаста нельзя назвать счастливой: дебютная книга В.Покровского — сборник «Планета отложенной смерти» — увидела свет лишь в 1998 году. В 2001-м в Липецке вышел еще один сборник В.Покровского «Георгес, или Одевятнадцативековивание».
РЕЗАНОВА Наталья Владимировна
Нижегородская писательница, эссеист, критик и редактор Наталья Резанова родилась в 1959 году. Филолог по образованию, работала на местном ТВ и в различных нижегородских издательствах; в настоящее время — редактор издательства «Деком». В 1980-1990-е Н.Резанова была активисткой КЛФ-движения, долгое время возглавляла городской КЛФ «Параллакс», редактировала одноименный литературный и критико-публицистический фэнзин, издавала информационно-критический ньюслеттер «Славная подруга».
Первой прозаической публикацией стал рассказ «Вид с горы», напечатанный в 1989 году в журнале «Уральский следопыт», а спустя 10 лет состоялся и книжный дебют: в 1999-м увидели свет сразу два фантастических романа Н.Резановой — «Последняя крепость» и «Открытый путь». Первый из них в 2000 году был удостоен премий «Старт» и «Большой Зилант» за лучший дебют в жанре. С тех пор писательница, одна из самых заметных представительниц интеллектуальной и исторической фэнтези, выпустила десять книг — «Удар милосердия» (2002), «Чудо и чудовище» (2004), «Не будите спящую принцессу» (2005), «Явление хозяев» (2005; премия «Портал»), «Дети Луны» (2006) и другие.
ЧАППЕЛЛ Фред (CHAPPELL, Fred)
Американский прозаик и поэт Фред Чаппелл родился в 1936 году в Кантоне, штат Северная Каролина, учился в Университете Дьюка, в настоящее время ведет творческие курсы в Университете Северной Каролины в Гринсборо.
Первый НФ-рассказ «Дуэт» Чаппелл опубликовал еще в 1975 году. Но с тех пор выступал нечасто, хотя всегда заметно. На его счету всего два десятка рассказов и два романа — «Я навеки один из вас» (1985) и «Дагон» (1987). Последний, навеянный Лавкрафтом, был признан Французской академией лучшим переводным романом года. Помимо этого Чаппелл дважды награждался Всемирной премией фэнтези: в 1992-м за рассказ «Двери куда-то» и в 1994-м за рассказ «Жилец».
Подготовили Михаил АНДРЕЕВ и Юрий КОРОТКОВ
ПОДПИСКА
на второе полугодие 2008 года
Журнал «Если» предлагается в любом почтовом отделении в двух каталогах: «Пресса России» и «Роспечать. Газеты и журналы».
Цена подписки на второе полугодие — 337 рублей.
Индекс — 73118.
Порода коренастых верховых лошадей. (Здесь и далее прим. перев.)