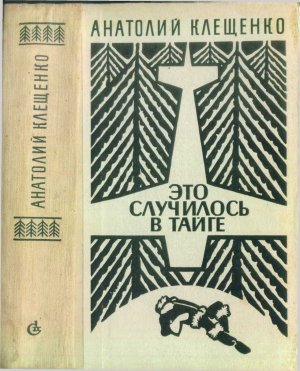
Дело прекратить нельзя
Без свидетелей
Существует неписаный таежный закон, запрещающий перехватывать зверя, преследуемого другим охотником. Кто-то идет по свежему следу, может быть на последнем дыхании, на ходу хватая горстями снег. Если хочешь ему пособить — стреляй, но дождись на убоище хозяина добычи. Он позволит вырезать кусок мяса для варева. Это твое право, плата за выстрел.
Наткнувшись на свежий след лося. Валентин Бурмакин не отвернул за ним. Лоси не делают в это время переходов. Значит, зверя «будили», спугнули с места жировки. Значит, по следу идет охотник. Бурмакин решил посмотреть на этого охотника — что за нетерпеливый мужик, не дождавшийся доброго хода по настам, когда и гнать зверя, и мясо вывозить легче?
В ожидании — зачем терять время впустую? — надумал перекусить. Костерок, чтобы не тонул в снегу, сложил на трехрогой развилке матерой талины. Когда дрова разгорелись, пристроил над огнем набитый снегом котелок и скрутил папиросу. Усмехнувшись, подумал, что неизвестному охотнику повезло — поспеет к горячему чаю, пожалуй.
Он выкурил три папиросы и напился чаю. В одиночестве. Потом нашел заделье — починил разлезающееся по шву голенище бродня, хотя мог бы и подождать с этим. Кончив починку, воткнул в шапку иглу, примотал ее хвостом оставшейся дратвы. По времени охотнику давно бы уже пора подойти, но заснеженная гарь, через которую прошел лось, просматривалась более чем на километр. У дальнего края ее кляксами на голубом небе чернели косачи, безмятежно кормившиеся на березняке. Значит, никто не приближался к гари с той стороны. Лося никто не преследовал.
— Интересно! — сказал Бурмакин кедровой сушине, расщеперившей обломки сучьев, и подмигнул ей.
Конечно, зверя могли пугнуть случайно. Например, жировал на чьем-нибудь покосе, люди приехали за сеном и — пожалуйста! А может, на жирах стояло несколько зверей. Одного или двух убили, остальных разогнали. Во всяком случае, ясно, что бык бесхозный. Ничей. Стоило посмотреть, где он остановится, — может, пригодится потом? И Бурмакин пошел по следу.
Перед тем как наткнуться на этот след, Валентин огибал заросший дремучим молодняком склон сопки — лучше крюк в два-три километра, чем продираться через чапыгу. Лось предпочел прямую дорогу, и они разминулись. Двухметровой глубины снег замучил зверя — судя по следам, он едва волочил ноги. Спустившись в разложину, к продавленной Бурмакиным лыжне, он заробел переступить через нее и пошел вдоль. Туда, откуда пришел Бурмакин. К поселку.
Иногда след зверя отдалялся в сторону от лыжни, но в основном лось двигался параллельно, ей. Надеялся, наверное, что лыжня кончится, оборвется. Наверное, в ожидании этого косил на нее пугливым глазом. Не дождавшись, сворачивал в тайгу, но, возвращаясь на выбранное направление, снова выходил к лыжне. Кое-где, на ходу, он скусывал тальниковую ветку. Значит, устал крепенько! — решил Бурмакин, прибавляя шаг.
На спуске к заболоченному ручью вдруг остановился, растерянно присвистнув. Четко видимая со склона, внизу сакма — след зверя — подворачивала почти к самой лыжне, а лыжня почему-то разветвлялась на две. И одна убегала по звериному следу!
Он ничего не понимал.
Если поднявшие зверя охотники не стали выпутывать след, а решили обрезать, перехватить впереди — они не могли бы идти зверю навстречу, от поселка. Значит, еще кто-то вмешался? Кто-то воспользовался промятой Бурмакиным лыжней, чтобы не ломать новую дорогу, и вышел по его лыжне к дармовому зверю?
Виляя между редкими соснами, он заскользил вниз, к месту разветвления лыжни.
Так оно и есть, елки зеленые! Кто-то пришел из поселка по проторенной им дороге и, увидав сакму зверя, свернул. Какой-то дурак, потому что кинулся было не туда, куда ушел лось, а пятным следом, назад… Вот здесь он топтался на месте, поняв-таки, видимо, свою ошибку. Поворачивая, перебирал лыжами, точно изображал на снегу солнце, — ходок, видать, тоже! Лыжи, однако, с загнутой пяткой, пятка круглая, ремни юкс заделаны камусом… черт, это же Гани Кустикова лыжи! Конечно, его! Ах он старый паскудник!
Валька задохнулся от ярости: ловушечный вор, канюковский прихвостень, гнилозубый черт — вот это кто, оказывается? Ну держись, покажет тебе дармового сохатого Бурмакин!
Лыжи заскользили вперед сами собой. Подъем? Наддай, Валя! Спуск в разложину? И-эх, сосны! Расступись, посшибаю!
Ярость только веселила. Лично его лось не интересовал, нет, но Кустикову позволить?.. Кому-кому, только не Кустикову!.. Но пусть Ганя застрелит лося, пусть! — тем обиднее будет отдавать добычу. Особенно если умотается как следует, пока догонит… Нет, не умотается, пожалуй. Зверь устал, еле идет.
Неожиданно где-то впереди и справа тишину расколол выстрел, сухой и резкий.
«Карабин! — позавидовал Гане Валентин. — Трется возле заготовителя Канюкова, собака, уже карабин завел».
Бросив след, он побежал напрямую, на звук выстрела, и угадал в непроходимую чапыгу: молодой березняк, согнувшийся зимой под тяжестью кухты, все еще, не смог распрямиться и пружинистыми арками заплетал сопку. Чертыхнувшись, Бурмакин двинулся в обход, и тут по ушам резанул второй выстрел.
— Чего это он? А? — вслух удивился Валентин, от неожиданности приостановившись.
Все стало ясным, когда вышел к следам лося и человека, изъязвившим снежный покров, уже по-весеннему присыпанный хвоей. Звериная сакма прерывалась вытоптанными в снегу провалами, следы лыж окутывали эти провалы, словно человек ходил вокруг, боясь приблизиться и заглянуть — что там, на дне? А на дне, из-под желтого снега, иногда проглядывал зеленый брусничник.
Это измученный до потери страха зверь не хотел идти дальше, не мог идти. Ложился, не обращая внимания на преследователя. Но человеку нужно было подогнать зверя поближе к поселку, к дороге, по которой можно будет на коне приехать за мясом. Человеку не хотелось таскать мясо на нартах через сугробы и валежины… Наверное, поднимая лося, он размахивал руками, кричал, как кричат на заленившуюся скотину. И стрелял в воздух…
Третий выстрел раздался совсем близко.
Стреляли за ручьем, который угадывался по зарослям пихтача и тальника, только у воды растущих так густо. Стараясь хорониться в них, Валентин начал перебегать от дерева к дереву, на всякий случай взяв на изготовку ружье — с Ганей следовало разговаривать на равных.
Сначала он увидел зверя.
В прогале между пихтами, уже отряхнувшими кухту, медленно ворочался бык. Он отаптывал снег, мостясь улечься. Пропотевшая шкура казалась черной, от нее валил пар.
«Дошел, сердяга», — подумал Бурмакин о лосе я увидел человека.
Человек, размахивая длинной тальниковой палкой, появился слева от зверя, вынырнув из пихтачей. Валентин не мог видеть лица — только спину с лежащим поперек ее карабином. Но и по спине можно было Узнать, что это — не Ганя.
— Ну, иди! Иди, тварь! — упрашивал человек зверя знакомым Валентину голосом.
Он махнул жердиной, лось рванулся в сторону и пошел. Медленно, тяжело, но пошел.
— Куда, гад? — закричал человек и, забегая вперед зверя, повернулся лицом к Бурмакину.
Валентин узнал Канюкова.
В то же мгновение лось как бы качнулся вперед, а Канюков, роняя жердину, взмахнул руками и полетел в снег.
— Аа-а!..
Валентин вдруг увидел уже не круп зверя, а всю его спину, заслонившую лежащего в снегу человека, и, с ужасом угадывая занесенные над этим человеком копыта, выпалил из обоих стволов разом.
Начало этого дня ничего недоброго заготовителю Канюкову не предвещало. День начался обыденно, как всегда.
Отодвинув стакан, Канюков пальцем размазывал по клеенке лужицу пролитого чая. Это не мешало внимательно изучать плакат-пособие, только что прибитый на стену там, где обои начали усиленно выцветать. — против окна. Теперь на месте светлого пятна красовалась веселая, но совершенно нелепая картинка — дужка древесного капкана прижимала к лесине огненно-рыжую белку. Охотники называют таких по-своему — зелеными и капканов в это время не ставят. Ждут, пока мех зверька выкуняет, станет серым. Это знал даже Канюков, не больно-то опытный специалист по пушнине.
Первое время он вовсе ни черта в ней не смыслил. Когда принимал шкурки, на помощь звал соседа Ганю Кустикова, доку по этим делам. Слышал, конечно, что Ганя — браконьер и вор, не однажды ловленный у чужих капканов. И конечно, такой помощник не шибко его устраивал, но особенно выбирать не приходилось. Во-первых, потому что Ганя во всех отношениях мужик свой, нужный, беда и выручка. Даже по доброхотству ухаживал за казенным конем, освобождая от этого Канюкова. А во-вторых… из кого выберешь? Не стало у Якова Канюкова ни друзей, ни приятелей с переходом на новую работу.
Зато появились недруги. Более чем достаточно.
И одним из них был Валька Бурмакин.
Он дважды ловил этого браконьера с поличным. Первый раз тот выкрутился, заявив, что лося, мясо которого нашли при обыске, задрал медведь. В качестве доказательства представил парную шкуру косолапого, будто бы убитого прямо на лосе. И наивный судья засомневался, присудил только сдать мясо. Зато в прошлом году Бурмакин выложил-таки пятьсот рубликов штрафа и распрощался с ижевской бескурковкой. Прижал его, что называется, к ногтю Канюков!
Парень стал заниматься охотой, воротясь из армии. Но тогда Канюкову было невдомек, что за вредная штучка Валька Бурмакин. Заключил с ним договор на сдачу пушнины, продал кожу на бродни, дробь и три пачки пороха.
Даже договаривался на руднике, чтобы Бурмакину отпуск приурочили к началу охотничьего сезона. Все честь честью. Но в тот день, когда Бурмакин собирался завозить продукты в тайгу, коня попросил завмаг Тихон Васильевич — сено со Светлореченских гарей к дороге выдернуть. С этого все и началось.
Бурмакин ни с того ни с сего поднял шум. Используют-де служебного коня не по назначению, в своих корыстных интересах. А какие могли быть корыстные интересы? Да предложи даже Тихон Васильевич уплатить за коня — разве бы Канюков взял с него деньги?
Потом Бурмакин прискребся к тому, что двух якобы первосортных соболей у охотника Винокурова приняли со скидкой на средний дефект. Конечно, за Таню Кустикова поручиться нельзя, мог отколоть и такой номер. Но ведь Винокуров молчит, а горло-то дерет Бурмакин.
Другой понял бы, что не по себе сук заломил. А Бурмакин все еще петушится, бодаться пробует. Дободается!
— Черт! — выругался вслух Канюков и пожаловался жене, гладившей возле окна белье: — Понимаешь, лезет в голову этот гад Бурмакин, да и только. Вот зараза!
Тряхнув головой, Татьяна отбросила упавшие на лоб волосы. Не оглядываясь, вздохнула:
— Дался же он тебе, господи! Точно на нем свет клином сошелся!
— Не в том дело…
— Оставил бы лучше в покое парня. И так говорят, что напрасно взъелся на человека.
— Говорят много чего… зря. Ясно?
Сам Канюков не любил говорить много. Даже не зря. Вероятно, это осталось от прежней профессии.
— Зря или не зря, а Светка — и та болтает.
Он помрачнел и громко, чтобы услышала за переборкой дочь, пригрозил:
— Еще что? Только и не хватало у Светки спрашивать, что к чему. Ее дело тройки свои исправлять, скажи, да меньше по танцам бегать. А не то я скажу, по-своему!
— Вот сам и говори. Ей теперь не больно укажешь!
— Я укажу, не бойся!
Про себя он согласился с женой, что — не больно! Светке шел девятнадцатый, нынче заканчивает одиннадцатилетку и уже черт те что о себе воображает. Не удержался:
— В маму родную удалась!
— Ты же все похвалялся, что дурь выбьешь! — отпарировала Татьяна.
В сенях хлопнула дверь, заелозили по полу подошвы катанок.
— Ганя, слышно по шорканью, — небрежно ответила жена канюковскому настороженному взгляду. — В такую рань некому больше.
И — угадала.
Кустиков потоптался на пороге, с показательной добросовестностью затворяя дверь, стащил с лысеющей головы ушанку.
— Якову Иванычу и Татьяне Сергеевне! — сказал он сладким голосом.
— В чем дело? — коротко, начальнически спросил Канюков.
— Стало быть, отправился. Утром, по темному еще, — непонятно ответил Ганя.
Но хозяин его понял.
— Куда?
— На Ухоронгу, видать. В тую сторону чумница.
— Это что такое? — удивилась Татьяна.
— Лыжня. Эвенки, что ли, так говорят, — через плечо объяснил муж и, барабаня пальцами по столешнице, спросил Ганю: — Один?
— Валька — он завсегда один.
Татьяна в сердцах не поставила, а швырнула на подставку остывший утюг.
— Тьфу! Опять Валька!
— Та-ак… — заканчивая барабанную дробь аккордным ударом всей пятерни, Канюков встал. — Думаешь, за сохатым пошел?
— А еще пошто нынче в тайгу идтить? По кедровую шишку не пойдешь, не август месяц, поди.
И тогда Канюков неожиданно для себя вспылил:
— Черт бы тебя взял с радикулитом твоим. Не вовремя. Надо бы нам вдвоем.
— Без меня управишься, Яков Иваныч, с его чумницы никак тебе сбиться нельзя. Сам Валька дорогу покажет, на всю четверть лыжина топнет.
Щуря недобро глаза, Татьяна повернулась к гостю:
— Никуда он не пойдет. Нечего ему ходить врагов наживать лишних. Я знаю…
— Ладно! Довольно! — властно оборвал Канюков. — Светку учи, понятно? Я из пеленок вышел!
Жена шумно вдохнула воздух, словно запасала его для очень длинной фразы, и вдруг, часто-часто замигав накрашенными ресницами, выбежала из кухни.
«Опять реветь будет», — с раздражением подумал Канюков и, притворяясь равнодушным, усмехнулся Ку-стикову:
— Смех и горе с этими бабами!
Кустиков, нарочито громко, срывающимся на зазывную скороговорку базарной торговки голосом, попытался схитрить:
— Женщина, Яков Иваныч, завсегда беспокоится, — такая у них натура, женская то исть! Это от душевного качества по беспокойству за вас. Вы за сохатым собираетесь, всего и делов, а жена неизвестно что предполагать может!
— Ни к чему, брось! — неприязненно приказал Канюков, понимая, что Татьяна не так глупа, как думает Ганя. Кроме того, Кустиков ненароком напомнил обидное для Якова Ивановича обстоятельство — он, обладатель двух медвежьих шкур и пары великолепных сохатиных рогов на стене, никого, кроме рябчиков, не убивал. Знал, что догнать по глубокому снегу лося — пустяк, но вот не приходилось как-то. И это заставляло чувствовать себя в некотором роле неполноценным, ущемляло самолюбие: ведь кто только в поселке не добывал сохатых! Безногие да безглазые инвалиды разве, а вот он, Яков Канюков, имея дальнобойный карабин, — нет, ни разу! Чего доброго, над ним даже посмеиваются втайне?
— А что, снегу ведь в самом деле до черта нынче, самому матерому быку по брюхо! — топом бывалого охотника сказал он Ганс. — Знаешь, лыжи я твои, пожалуй, возьму, твои полегче. Если не Бурмакина — сохатого, может, погоняю.
Истошный вопль Канюкова еще резал уши, хотя звучал какую-то коротенькую секунду всего. Пальцы еще давили на спусковые крючки. Вдох, задержанный в момент выстрелов, еще не стал выдохом. А мысль уже успела задать страшный вопрос: куда опустились копыта?
— Живой, эй? — робко окликнул Валентин.
— Живой… мм-м… — ответили ему, и тогда Бурмакин, наконец освобождая грудь от давящего ее воздуха, выругался радостно и уничтожающе. Теперь уже не просто человек перед лицом смерти — в снегу лежал живой Канюков. Канюков!
Он лежал рядом с мертвым быком, каким-то чудом не придавившим его при падении. Лежал, не делая никаких попыток подняться, не надевая упавшей шапки, жалкий, испуганный.
— Бур-рмакин? — точно не веря себе, глазам своим, спросил этот смешной Канюков.
— Он самый, тридцать шестого года рождения. Будем знакомы, товарищ заготовитель. Как поохотились?
Канюков, не мигая, смотрел на него, отвалив челюсть.
— Ты что, онемел с переляку? Вставай!
— Не могу, — сказал Канюков, — не встать.
— Следующий раз домкрат захватывай.
— Он меня… в пах… стукнул… Мм-м… — отрывая слова, объяснил Канюков.
— Надо было ему насмерть тебя затоптать. Дурак я, выручать сунулся. Думал, другой кто, — соврал Валентин.
— Бросишь меня? — пробуя опереться на локти, Канюков забарахтался в снегу. — Бурмакин, я тебе чего хочешь… Не бросай… Слушай, Бурмакин!..
В глазах парня погас насмешливый огонек, взгляд стал строгим, внимательным.
— Ты что?.. Выходит, он тебя здорово стеганул? — Валентин задумался на мгновение, растерянно оглядывая черные пихтачи вокруг, истоптанный снег, мертвого лося. — Дела! Попал ты в переплет, заготовитель! Амба теперь тебе, а?
— Слушай, я тебе мотоцикл свой… Не бросай только!
— Не бросай! Сказал тоже! Вместе с тобой пропадать, что ли? Да и чем я тебе помогу? Медицина для меня темная ночь. Сам подумай!
— Значит… погибать оставишь? — у Канюкова перехватило дыхание.
— Погибать не оставлю. Ладно уж, поверну в поселок. Скажу там.
Канюков просительно вытянул руку в огромной, по локоть, рукавице-лохмашке. Казалось, будто подает какого-то рыжего зверя.
— Бурмакин! Валя! Ты же мне: как сын. Ты пойми, замерзну я один. Замерзну…
Валентин собрался язвительно усмехнуться, но усмешки не получилось, получилась, растерянная гримаса. Два чувства заспорили между собой — сострадание к попавшему в беду человеку с презрением к Якову Канюкову. Это он, выступая на суде, обзывал «сорняком» и требовал «вырвать с корнем», а теперь вдруг ласковый стал, в сыновья берет — осчастливил!
Победило сострадание. Вместо дергавших за язык слов — мол, при таком батьке только сиротой быть! — сказал, утешая:
— Зачем замерзать? Пару кряжей приволоку потолще. Ладью излажу такую, что два дня гореть будет. Пролежишь, как на печке.
Сбросив понягу, он выпутал из ремней топор и, сняв чехол, стал искать взглядом сухостойное дерево. Поблизости таких не было, только далеко на косогоре, за пихтачом, поднимались сосны, пригодные, для особого костра, называемого в Сибири «ладьей». Там, наверное, и сушину можно найти.
— Валя! — услыхал он неузнаваемо мягкий голос заготовителя. — Валя, ты бы помог лечь мне половчее, мм-м…
На этот раз Канюков не двигался, и Валентин понял, что стонет он, стараясь пуще разжалобить. Но просьбу выполнил — придерживая раненого за спину, осторожно освободил от карабина и рюкзака. С трудом распустив юксы, сыромятные ремни которых начали смерзаться, уложил канюковские лыжи вверх камусом.
— Койка — как в больнице. Только что простыней нет.
И, не слишком бережно подхватив Канюкова под мышки, потянул к лыжам.
— Ааа!..
— Черт! — испуганно выругался Валентин, разжав руки. — Вот горе! Ты уж потерпи малость, слышишь — надо на лыжи лечь, а то снег под тобой протает. Окажешься в яме. Потерпишь?
— Пот-терплю. Только ты… полегче…
Полегче оказалось не так просто. Мешали свои лыжи, а с лыж не сойдешь. Когда удалось все-таки устроить грузного и совершенно беспомощного заготовителя на жесткой подстилке, увидал: на лбу его крупными каплями выступил пот. И у Валентина сочувственно сжалось сердце:
— Эх, мужик!..
Вздохнув, он осторожно подсунул под голову раненому его вещевой мешок и, оглядываясь, двинулся за дровами для костра.
Сосну, сломленную давним ветровалом, но оставшуюся стоять опираясь на соседок, нашел в трех сотнях шагов по косогору. Чтобы опустить ее, пришлось свалить две живые, в сучьях которых запуталась костлявая нагая крона.
Когда вернулся, сгибаясь под тяжестью полутораметрового комля, боязливо — как бы не изломались! — передвигая лыжи, Канюков встретил его жалкой и вместе счастливой улыбкой.
— А я боялся, что ты в поселок ушел…
— Спятил, что ли? — искренне удивился парень. — Сказал же, — костер направлю сначала. Сейчас еще кряж притащу, подожди.
Когда в обоих кряжах были вырублены подобия пазов, а кряжи уложены один на другой — паз к пазу, — Канюков робко окликнул:
— Валя! Я же беззащитный совсем. Вдруг зверь подойдет? А? Тайга же!..
— Зверя к костру силком не затащишь. Да и время сейчас такое, если медведь и встал, так возле самой берлоги лазает.
— Есть шатуны…
— Шатуны только с осени. По такому снегу плохо шататься.
— Ох-х!
Громко вздохнув, Канюков умолк, а Валентин принялся разжигать хитроумный костер. Напиханные в лазы между кряжами смолевые щепочки загорались споро, запахло ладаном.
— Зверя в тайге полно разного. Росомаха. Рысь, — снова заговорил Канюков.
— Говорю, не полезут они к огню.
— Костер, Валя, и погаснуть может.
Не того, что костер может погаснуть, боялся Канюков. Не зверей, рыскающих по тайге. Больше всего, прежде всего пугало одиночество. Сознание невозможности убежать от заснеженной тайги и ночной тьмы. Даже не подбросишь в костер дров, чтобы разогнать тьму хотя бы вокруг, вблизи. Нет, он должен будет лежать возле печки-ладьи, щедрой на тепло, но не на свет. Один, совсем один! И — ждать… чего? Сколько времени? А если Бурмакин обманет, не пойдет в поселок? Или — выпадет снег, завалит следы и его не найдут? Не найдут, и все. Как он когда-то не нашел убежавших из оцепления в лесосеке троих заключенных, на вытаявшие трупы которых наткнулся в мае медведь? Можно пройти в полусотне шагов и не увидеть. Все может случиться, все! Самое ужасное! Может ведь?
— А, Валя?
Он хотел ответа на свои мысли, забыв, что Бурмакину они неведомы.
— Зачем ему гаснуть, костру? — пожимая плечами, ответил и не ответил тот. — Ладью — ее и дождь не всякий зальет.
Канюков про себя выругался — ему хорошо говорить так, сильному, здоровому. Как заговорил бы на месте Якова Канюкова? А Бурмакин поднялся с колен я, удивленно глядя на отблеск огня, позолотивший снег, сказал:
— Ты смотри, вечер уже, вот так да… Месяца нет, все глаза повыкалываешь — в темень идти. Да и дорогу не враз найдешь ночью.
Канюкову даже в голову не пришло, что задержка, отдаляя заботы врачей, обрекает на лишние часы страдания. Главное — сегодня, сейчас он не останется один. С глазу на глаз с небом, потому что надо поворачивать голову, чтобы увидеть землю. А это отдается болью во всем теле. Каждое движение отдается болью, страшно даже подумать о движении. Но еще страшнее вспоминать о наступающей темноте, в которой, потрескивая ветками и роняя остатки кухты, станет копошиться нечто, не имеющее названия и образа. Нечто, начинающее жить, когда невозможно сделать шаг от костра — убедиться, что это белка перепрыгнула с дерева на дерево или ткнулся в лесину ослепленный светом костра филин. Нечто, обступающее человека, когда он беспомощен.
— Конечно, утром пойдешь, — прикидываясь, будто жалеет Валентина; посоветовал Канюков.
Парень бросил в его сторону косой взгляд.
— Утром! Тебе, может, некуда торопиться, а мне два дня даром потерять не шибко охота. У меня — отгулы, мне на работу надо!
— Даром не потеряешь, — неопределенно пообещал Канюков.
Бурмакин понял его по-своему:
— Пропал бы он совсем, этот зверь. По такому снегу мясо таскать мало радости.
— Так ведь ты за этим и шел…
— Я из ума не выжил пока. За этим, — он подбородком показал на лося, — по настам можно сбегать. Я шел ток присмотреть, глухарь чертить начал. А зверь — он на меня сам набежал, как нарочно.
— К Чикилевской дороге вытащишь, а там на коне. Я Кустикову скажу, чтобы коня дал.
— По Чикилевской с января не ездят. Тот же целик. Не коня, трактор надо.
Он с раздражением сплюнул и, вытаскивая нож, шагнул к лосю. Канюков потерял его из поля зрения, но по шуму угадывал, что парень отаптывает снег возле звериной туши, собираясь снимать шкуру. Значит, решил ждать утра.
То ли от мысли об этом, то ли от излучаемого ладьей тепла, но Канюков перестал мерзнуть. Небо поднялось выше, не грозя вдавить в снег. Но, не заглушаемая страхом перед одиночеством, пришла боль, ставшая нестерпимой, когда он попробовал повернуться спиной к костру. Стон, а может быть, крик Канюкова заставил обернуться Валентина.
— Чего ты?
Тот, бессильно расслабляя мышцы, ответил еще одним стоном.
— Обснимаю зверя — на шкуру тебя положу, — словно обещая избавление от боли, прозвучал бурмакинский голос. Но Канюков с ужасом подумал о том, как будет перебираться на шкуру, о новых страданиях.
— Не надо!
— Надо! Сохатиную шкуру холод не прошибет, а тебе знаешь сколько лежать придется? Завтра к вечеру навряд поспеют к тебе, если я утром только пойду.
Здравый смысл подсказывал Канюкову, что иного выхода нет. Бурмакину следует идти в поселок за помощью. И в то же время Бурмакин был необходим здесь. Необходим, как тепло костра, воздух для дыхания или снег под лыжами, чтобы не провалиться в бездну. Потому что теперь это был не только Бурмакин — он был люди.
— Боюсь я… Один…
Валентин усмехнулся, как усмехается взрослый беспричинному страху ребенка. Канюков не видел его усмешки. Он угадал ее по молчанию парня, как давеча догадался по скрипу снега, что Бурмакин разделывает лося. И, закусив губу, притих.
Без жалоб и возражений позволил переместить себя на охапку пихтовых веток, застеленных шкурой лося. Когда стала утихать вызванная этим боль, попросил:
— Папиросы у меня в кармане… Ты мне, — он поморщился, пересиливая желание застонать, — прикурил бы одну, а? В правом кармане они.
И ждал: бередя боль, равнодушная к этой боли рука вонзится в его исстрадавшееся тело, как вонзается нож.
Ожидание затягивалось, он устал готовиться к боли. Потом Бурмакин заслонил теплый ток воздуха от ладьи, зайдя сбоку, и Канюков увидел над собой руку с прикуренной уже самокруткой.
— У меня «Беломорканал», — сказал он.
— Ничего, покуришь махорку. Люди курят, не подыхают.
По бряканью котелка, скрипу снега и колыханию теней на бронзовых стволах сосен, подпирающих тьму, Канюков знал, что парень находится рядом, возле костра. Собирается варить мясо или варит уже. А может быть, просто чай кипятит? Пожалуй, чай даже лучше. Сладкий, горячий, крепкий. Непочатая пачка грузинского, сахар в банке из-под пороха и кружка — в рюкзаке. А где рюкзак?
— Валя, в мешке чай есть. И сахар. Сало еще жена клала.
Валька не ответил, и у Канюкова появилось такое ощущение, будто его слова висят в воздухе, как птицы, которым некуда опуститься. И сам он висит в черной пустоте. Ему стало жалко себя, жалко как-то со стороны, словно не Канюков жалел Канюкова, а кто-то посторонний. Жалел за боль и беспомощность, за нелепость судьбы и за обиду, чинимую презрительным молчанием Бурмакина. Чудак он, этот Бурмакин, — представилась возможность заручиться дружбой и признательностью Канюкова, а он не пользуется этой возможностью, пренебрегает.
— Сохатину жрать будешь, заготовитель?
— Чайку бы, — сам удивляясь, зачем кобенится, попросил Канюков.
— Тогда жди. Котелок-то один!
К горлу подкатился ком голодной слюны, заполнил рот. Глотая ее, Канюков представил себе парня, рвущего белыми зубами мясо, и про себя выматерил, словно тот обманул его, только подразнив пищей. Минут десять он мучился, непрестанно глотая слюну, потом не выдержал:
— Пожалуй, надо бы мяса поесть. А то вовсе ослабну. Слышишь, Валя?
— Слышу. Сейчас.
«Но торопиться он и не думает, — решил про себя Канюков. — Чего торопиться? Свое брюхо набил, плевать ему на других. Раскуривает, наверное. И в зубах ковыряет, скотина».
— Юшки тоже дать? — спросил Бурмакин.
— Дай.
— Хоть приподнимись чуток, что ли!
Опираясь на локти, Канюков попытался приподняться и, не сумев, снова упал на спину.
— Не могу, — выдохнул он и закрыл глаза, в которых плавали разноцветные круги. — Не могу, Валя!
— Накачался ты на мою шею, — пробурчал совсем рядом невидимый Бурмакин. — Нянчайся теперь с тобой.
Руки его оказались куда ласковей голоса — присев возле Канюкова, левой бережно приподнял голову раненого, а правой зачерпнул в котелке ложку варева, скомандовав:
— Открывай шире пасть, ну!
И, странное дело, Канюков не поверил грубости слов. Она показалась нарочитой, искусственной.
Не поверил и сам Валька Бурмакин.
У него вдруг защипало в гортани. Такое ощущение ему приходилось испытывать и прежде, глядя на беспомощных слепых щенят, тычущихся в блюдечко с молоком, или на волочащую крыло тетерку, когда уводит от выводка. Он считал это не приставшей мужчине слабостью и, чтобы не заподозрили в ней, грубил, прикидывался. А еще — это был Канюков.
Правда, какой-то иной Канюков, незнакомый.
— Спасибо тебе, Валя! — прочувствованно сказал этот Канюков, как не сказал бы тот, которого Бурмакин знал до сих пор и недомолвки о прошлом которого были красноречивее пространных рассказов. — Спасибо, друг! Ты уж меня извини, что так вышло.
— Беда со всяким случиться может, это дело такое, — успокоил Валентин, набирая в опорожненный котелок снегу. Набрав и утискав кулаком, навесил котелок над огнем — ополоснуть, когда снег растает. В ожидании этого, скручивая себе папироску, предложил: — Покурить свернуть тебе или как?
Канюков облизнул жесткие, шелушащиеся губы. Вместе с чувством сытости пришла тошнота, спазмами стискивая желудок, отдаваясь колющей болью ниже пояса — там, куда ударил копытом лось. Может быть, затяжка папиросой облегчила бы эту боль, как облегчает зубную? Но — только папиросой, не вонючей махрой, которая сама вызывает тошноту.
— Ты мне, — он подавил приступ рвоты, — папиросы достань.
Бурмакин, по пояс проваливаясь без лыж в снег, зашел справа.
Пальцы его закопошились возле туго обтянутого кармана, возле самого места удара.
— Осторожнее! — попросил Канюков.
Он хотел чуть повернуться, чтобы ослабить натяжение кармана.
— О-о-о!
Теперь это был крик, не стоп.
Отпрянув, Бурмакин испуганно смотрел на раненого. А тот, пожевав белыми губами, дождался, покамест утихнет боль, прошептал:
— Черт сунул…
Новый приступ боли заставил сморщиться, замолчать. Потом, облегченно выдохнув круглым ртом — так выдыхают задержанный в легких табачный дым — парную струю воздуха, повторил:
— Черт сунул за ним идти. Любой охотник принес бы мяса. Мигни только. Так нет, сам испытать захотел, как ходят за лосем. Дур-рак… Ганя это все, — погодя вспомнил Канюков. — Все он. Сбил с толку. Я ведь пошел, чтобы… — и смолк, растерянно косясь в ту сторону, где предполагал Бурмакина. Порадовался, что не встретился с ним взглядом.
— Ладно, — отмахнулся от разговора Валентин. — Поздно теперь жалеть. Давай лучше спать, до рассвета долго еще.
Он устраивался на ночлег по ту сторону ладьи, а Канюков думал о том, каким долгим будет завтрашний день, заранее его страшась.
Потом забылся, на мгновение расслабив тяжелые веки, и, как ему показалось, тотчас проснулся. Разбудил огонь, живой тварью прыгнувший на него из костра. Вонзил в тело тысячу ядовитых зубов. Проник внутрь и там вспыхнул, и ринулся по жилам в сердце и мозг. Бурмакина всполошил крик, показавшийся ему диким, звериным.
— Яков Иваныч! Да Яков Иваныч же! Очнись! — впервые так называя заготовителя, почти кричал парень.
Тогда Канюков понял, что не в костер закатился спросонья и не огонь отталкивал от себя, а боль. Видимо, разбередил ее, поворачиваясь во сне на другой бок.
— Плохо мне! — тяжело дыша, пожаловался он. — Жарко.
Боясь повернуть голову, он водил по сторонам не узнающими мир глазами. Мир был черным вверху и серым снизу, бесформенный, похожий на продолжение кошмара. И щерился безгубым кровавым ртом — мерцающим между кряжами ладьи тихим огнем, не умеющим светить.
— Квасу бы. Кислого, — мечтательно прошептал Канюков.
Валька Бурмакин жадно затягивался махорочным дымом, не чувствуя, что догоревшая самокрутка обжигает пальцы. Как поступить, что делать? Тайга, ночь, двадцать с гаком километров до поселка. Дороги нету, лыжня. Когда доберутся сюда непривычные к тайге люди, когда доставят раненого в больницу? Как будут его доставлять — человека, не кусок дерева, который можно принести на плече к костру? Ему вдруг представились два барахтающихся в снегу санитара с носилками, которые приходится тащить волоком, буровя снег. Два жалких маленьких человечка под огромными нагими лиственницами. Два потерявшихся в бескрайности тайги муравья, волокущие непосильную ношу к муравейнику.
— Горе мне с тобой, заготовитель! — вздохнул он и, подняв топор, двинулся в тьму, начинающую расползаться, редеть.
Канюков не слышал. Боль поутихла, стала тупой, терпимой. И не мешала мыслям прикасаться к тому, что он страшился бы увидеть, не то что рукой тронуть. К ноющей пустоте ниже живота, где начиналась правая нога, легкая и послушная недавно, а теперь тяжелая, чужая, не принадлежащая телу. Просто ушиб или перелом? Если поврежден таз, то… нет, лучше не думать об этом! Просто ушиб, конечно. Надо потерпеть, завтра увезут в поселок, в больницу… На чем его увезут в поселок? На чем, ну?
Тайга. Мутная мгла рассвета. Синий снег.
— Валя! Сын-нок!
Молчание.
— Вал-ля! Эн, где ты? Валя-а!
Все. Конец. Бросили умирать в тайге. Умирать. А?
Ужас навалился на него, зажал рот, остановил сердце. Оттого, что сердце остановилось, тишина вдруг сделалась звонкой и вибрирующей, как кожа на барабане. И кто-то, как в барабан, бил в нее: бум! бум! бум! Где-то далеко-далеко. Глухо-глухо. Но ведь это топор.
— Валя-а-а!
— Ого-го-го-го! Иду! — раздалось в пихтачах за ключом. — Ого-го!
Он явился, поскрипывая креплением лыж, сбросил возле костра вязанку свеженарубленных палок — не мог найти порядочных дров, что ли, или поленился искать? Поленился, конечно, — зачем, если он уйдет, а у костра останется Яков Канюков. Наплевать, пусть замерзает, да?
— Чего звал? — спросил Бурмакин. — Я черемушник для вязьев искал. Нарту хочу сделать. Иначе никакого выхода нет.
Впадая по временам в забытье и теряя ориентировку во времени, Канюков слышал настойчивое шорканье топора по сырому дереву и, успокаиваясь, опять начинал дремать. Солнце еще пряталось за сопками, когда Бурмакин, тронув за плечо, позвал:
— Эй, Яков Иваныч! Проснись! Ехать будем!
Открыв глаза, Канюков увидел рядом с собой некруто загнутый сапный полоз с врезанным белым копылом, на котором застыла капля смолы, и посчитал это продолжением сна.
— Набирайся духу — грузиться на транспорт надо! — сказал Валентин.
Значит, сани существовали в действительности. Не сани, нарта, сделанная Валькой Бурмакиным при помощи топора и ножа, пока Яков Канюков спал. Нарта, на которой Бурмакин — до чего же замечательный, мировой парень! — повезет Якова Канюкова в поселок, к людям, к врачам. К жизни!
— Сынок, Валя, — на глазах Канюкова заблестели слезы, — я тебе… В общем, на всю жизнь…
Валентин усмехнулся, притворяясь равнодушным.
— Как вот только грузить тебя? Хоть вырубай вагу…
Не было особенного тепла днем, ночью не было приморозка. Наст образоваться не мог, образовался чир — тонкая, хрупкая ледяная корочка. Слишком тонкая и хрупкая, чтобы держать лыжника. Достаточно толстая и твердая, чтобы затруднять движение. Лыжня, продавленная в скованном чиром снегу, не хотела пропускать нарту, цеплялась льдистыми краями за телогрейку раненого. Проминая дорогу, Валентину приходилось широко, на ширину плеч, расставлять ноги. Это очень и очень нелегко, если тащишь за собой нарту с пятипудовым грузом.
И все-таки, сокращая путь, он решился перевалить через сопку, а не обходить ее. Косогор оказался довольно пологий, не заросший подлеском, но заваленный буреломом. Приходилось кривулять, огибая завалы, а они попадались чуть ли не на каждом шагу. Одолев подъем, Бурмакин сбросил с плеча лямку нарты и тыльной стороной ладони вытер со лба пот.
— Надо было низом, по распадку идти, — сказал он.
— Тяжело? — соболезнующе спросил Канюков.
— А ты как думаешь?
Канюков никак не думал. Он тоже отдыхал — от боли, прожигавшей поясницу при каждом толике нарты. Пожалуй, он поменялся бы местом с Бурмакиным, согласился бы тянуть нарту с еще большим грузом, две нарты, только избавиться от боли! Конечно, достается и парню, крепенько достается. Но с ним Канюков расплатится за его труды, щедро расплатится. Отблагодарит! Душу за него отдаст!
— Виноват я перед тобой, Валя. За прошлое, — сказал он. — Не угадал прежде, что ты за человек.
— Обыкновенный, — усмехнулся Валентин. — Как все люди.
— Не скажи. Другой бы…
Канюков вдруг осекся, испугавшись, что наговорит на свою голову такое — пальцы кусать потом придется! Действительно, чего особенного сделал Бурмакин? Конечно, не всякий способен смастерить нарту и тащить на ней восемьдесят килограммов. Но сообщить в поселок, позвать на помощь обязан в таких случаях всякий. Гражданский долг, за невыполнение которого привлекут как миленького. Валька, безусловно, понимает это. Правда, Валька имеет на него зуб, а поэтому…
— За прошлое я сквитаюсь с тобой. В обиде не останешься, не думай, — пообещал Канюков.
Сплевывая горькие табачины, Бурмакин докуривал самокрутку. Он снял ушанку, и влажные от пота волосы его отсвечивали рыжиной, как и хвоя столпившихся вокруг сосен. Это солнце, собираясь выкатиться из-за хребта на востоке, торовато раскидывалось своим невесомым золотом. Впереди, где кончался сосновый бор и начинался светлый, далеко просматривающийся осинник, золото растекалось по отлогому склону, исполосованному только-только намечающимися тенями. День обещал быть по-весеннему погожим, и парень обеспокоенно покосился на широкие полозья нарты.
— Ростепель вроде начинается.
— Добро бы, — обрадовался промерзнувший Канюков.
— Нарта — это тебе не лыжа, подбитая камусом, — не разделил его радости Валентин. — Если распустит, к ней снег подлипать начнет. Тогда наплачемся.
Как в воду глядел Валька Бурмакин. Часам к десяти от чира не осталось и следа, снег сделался волглым, словно пропитанная водой вата. Теперь Валентину приходилось тащить за собой не только нарту, но и тяжелый, скатывающийся плотным валом снежный ком впереди нее. Он рос, этот ком, потом раскалывался, заставляя нарту рывком перевалиться через обломки, и снова — из ничего — начинал расти. Валентин то и дело останавливался, по-рыбьи хватая ртом воздух.
— Больше не могу, — не снимая лямки, он присел на согнутую в дугу талину. — Что станем делать, заготовитель?
Опять заготовитель, не Яков Иваныч! Злится малый, что тяжело тащить нарту, что к полозьям подлипает снег и они не скользят по лыжне, а вгрызаются в нее. Так разве Якову Канюкову легче? А? Каждый толчок, каждый крен нарты отзывается болью во всем теле. Но ведь Канюков не жалуется и не злится, молчит.
Он промолчал и на этот раз.
Закурив и выровняв дыхание, Бурмакин сам ответил себе:
— Чай будем пить, вот что будем делать.
Пока он искал дрова и раскладывал костер, Канюков думал. Впервые в жизни думал о том, что о ней — об этой самой жизни — следует думать вперед. Что следует подстилать солому даже там, где не собираешься упасть. Потому что можно упасть именно там. На ровном месте.
Мог ли Яков Канюков ожидать, что ему понадобится доброе отношение такого вот Бурмакина? А вот понадобилось. И ничего не стоило бы Канюкову махнуть на этого Бурмакина рукой, когда тот в прошлом году попался с мясом. И надо было махнуть. И конечно, махнул бы, не будь Валька занудой, лезущим не в свое дело.
— Хороший ты человек, Валя, — сказал Канюков и умолк, подбирая удобные слова. — Только… почему ты такой чудак? Не понимаю…
— Не чудак, а дурак, — серьезно поправил его парень. — Разве умный бы стал цацкаться с таким, как ты? За все твои подлости?
— Эх, Валя, Валя! Молод ты, ну и действительно… — Канюков чуть было не сказал «глуп», но вовремя спохватился. — И зелен. Не усвоил еще, что не один на свете живешь, а между людей. Легкомысленно судишь о вещах, Валя: подлости! Это, видишь ли, как посмотреть…
— Как ни смотри, все одно. Ты же в позапрошлом году знал, чья это была работа, тот сохатый. Вместе с Ганей на убоище следы высматривали. Да и без следов дураку понятно, что не мог я целого медведя перетащить к лосю или лося к медведю. А на суде ты что говорил?
— Я и не оправдываюсь, но ты пойми — обстоятельства так сложились. Чего ты из-за коня скандал устроил? Напраслину на меня возводить стал?
— Какая же напраслина? Правда.
— Верно, что зеленый ты вовсе. Жизни не понимаешь. Кричишь, про корыстные интересы и не догадываешься, что с завмага брать за коня деньги — надо головы не иметь. Все равно что нагадить себе в тарелку.
— Все равно корыстные интересы, — уперся на своем Бурмакин.
— Не все равно, Валя. Не корыстные интересы, а человеческие взаимоотношения. Ты ведь и подождать мог один день.
— Небось старику Никишину ты в человеческих взаимоотношениях отказал, когда он попросил дрова подвезти к трассе! — съязвил Валентин, разливая заваренный брусничником чай и раскладывая по кружкам сахар.
— И опять ты понять не хочешь, в чем тут закавыка. Копь у меня один. И завмаг у нас в поселке один только. Да, скажем, других разных люден, с которыми приходится по всяким делам общаться, десяток-два наборется. А таких, как Никишин, в поселке тысяча. Разве я их одним конем обслужу? А? Это, брат, только Иисус Христос одной буханкой хлеба сколько-то тысяч накормить мог, так ведь это бабушкины сказки, легенда.
— Но в общем-то меня ты ни за что под монастырь хотел подвести, — упрекнул Бурмакин, насмешливо прищурив один глаз. Его забавляло, что говорит такое Канюкову и в то же время поит его, как малого ребенка, из своих рук чаем. — И в прошлом году постарался. Пятьсот рублей штрафа, да централка рублен семьдесят стоила, хотя и не новая была…
— Это уж ты сам виноват. По радио бы еще объявил, что лося трахнул. Сам ведь раззвонил по всему поселку.
— Сам, — согласился парень. — Что верно, то верно.
— Ну и чего ты этим хотел доказать? — спросил Канюков.
— Доказывать ничего не хотел. Так. Из принципа, что одним нельзя, а другим можно. В общем-то сдурил, конечно.
Канюков, сжав челюсти, доцедил остатки теплого чая и, меняя тему, сказал:
— Я вот тоже… свалял дурака. Раньше сказали бы — черт попутал. Понимаешь, работа у меня такая, что неловко как-то не испытать на опыте, как бьют сохатых…
— А испытал, как сохатые бьют? — заулыбался парень и, перекинув за плечи рюкзак, взялся за лямку нарты. — Ну и как? Здорово?
— Тебе, конечно, смешно… — обиделся Канюков.
Бурмакин переступил лыжами, пробуя плотность снега, посерьезнел:
— Не до смеха. Вовсе не держит снег. Дела!
Подавшись всем телом вперед, он рванул лямку, и Канюков увидел свои ноги словно при спуске с горы. Но никакого спуска не было, нарта не сдвинулась даже. Нарта зарылась передком в снег.
Бурмакин выругался сквозь зубы. Тогда Канюков, понимая, что ругательство в какой-то мере относится и к нему, рассчитывая задобрить, пообещал:
— Теперь, Валя, сохатых промышлять лафа тебе будет. Возьмешь у меня лицензию для вида и — бей сколько захочешь. Хоть сотню.
Эффект оказался неожиданным. Вместо того чтобы обрадоваться, поблагодарить, Бурмакин оглянулся через плечо и сказал с насмешливым восхищением:
— Ну ты и гад же, однако!
— Это почему? — искренне удивился Канюков.
— А потому, что гад. Ясно?
Нет, Канюкову не было ясно. Потом он решил, что Валька действительно восхищен. Разные люди по-разному выражают восхищение, в конце концов. Говорят же: «Ну и здоров, собака!» или: «Хитер, сволочь!» А Вальке навернулось на язык слово «гад», вот и все. И Канюков сказал:
— Ясно.
Валька как-то неопределенно хмыкнул, упал грудью на лямку и, сорвав с места нарту, зашагал, трамбуя лыжами снег. «Совсем как норовистый конь», — подумал Канюков. И усмехнулся — конь в таком гиблом снегу утонул бы по уши, не до норова было бы! Сохатый вон еле-еле выдирал ноги, грудью дорогу буровил. Только человек, опираясь на легкие лыжи, мог идти поверху. И только человек мог позволить себе роскошь показывать норов. Что же, пускай поуросит, ежели есть охота. Надолго ли ее хватит?
Валькиного норова хватило ненадолго. Канюков понял это, когда нарта остановилась.
— Трактор надо по такому снегу тебя тянуть! — сказал у него над головой парень, и по трудному, прерывистому дыханию можно было заключить, что он не шутит.
Канюков приготовился к отдыху от толчков, но нарта, словно задумав выскользнуть из-под него, неожиданно рванулась вперед. А через полсотни метров последовала новая кратковременная остановка — перед новым рывком.
С утра, пока снег более или менее держал, Канюков, поворачивая голову, мог оглянуться по сторонам. Теперь взгляд упирался если не в небо, то в бесконечные, как бред, стены белого коридора. Они поднимались вровень с его глазами, а то и выше еще — так глубоко тонули Валькины лыжи, торя дорогу для нарты. Иногда — при поворотах — снежная стена рушилась на Канюкова, и он чувствовал, что одежда становится все более влажной, холод пробирается к телу. А хуже всего были толчки, спотыкания нарты, вызывавшие боль, иногда почти нестерпимую. По Канюков крепился, заставляя себя вспоминать, что по его вине добровольно мучитея и Валька Бурмакин.
Он сознавал, чего стоило это Вальке — вылезать из кожи ради Якова Канюкова, оплачивать добром зло. И все-таки не мог думать о парне без раздражения.
Сначала раздражение царапалось, как жучок под обоями. Поцарапается и перестанет. Потом стало назойливым бормотаньем ручья, через который нет брода.
— Поправишься — морду тебе набью! — неожиданно сказал Валька, бессильно приваливаясь плечом к березе, стягивая с мокрой головы шапку.
И тогда Канюков понял, почему раздражал его этот парень.
Это была другая человеческая порода. Особенная. Непонятная своей откровенностью, лезущая на рожон из-за ерунды — из принципа. Чудак, не желает ловить за хвост удачу, когда та сама в руки дается. Угрожает набить морду, когда следует сказать любезное слово — ведь все равно не набьет, треплется только. И не понимает, что зряшная эта угроза ему же запишется в убытки. Эх, Валька, Валька! Не умеешь ты жить с людьми, не можешь! Трудная у тебя жизнь будет!
Пожалуй, Канюков действительно жалел пария. И вместе с тем к жалости примешивалось неприятное чувство. Наверное, так жалеют больных дурными болезнями или припадочных. Издали, не сердцем, а взглядом только.
— Жаль — разные мы с тобой люди, Валя! — вздохнул он.
Он не видел, как усмехнулся парень. Усмешка получилась не язвительной, а робкой, жалкой, одними губами. Вальке Бурмакину, дышавшему как запаленная лошадь, впору было плакать, а не смеяться.
Отошел он только возле костра, опорожнив котелок горячего чая.
— Злопамятный ты, — упрекнул Канюков, прикуривая от поданного Валькой уголька. — Вот морду мне хочешь набить…
Скуластое Валькино лицо вдруг показалось Канюкову совсем мальчишеским — так изменило его выражение озорства, вдруг заигравшее в глазах.
— А что? — спросил он. — Думаешь, не набить?
— Ни к чему это, Валя! Мы с тобой не врагами теперь будем, а, как бы это сказать… союзниками, что ли. Одним словом, товарищами.
— Гусь свинье не товарищ, — брякнул Валька и захохотал. — Ладно, не обижайся. И про морду тогда так это я… Не всерьез.
— Я понимаю — нервы не выдержали.
— Вот именно. Из сил выбиваешься, а из-за чего? Из-за того, что люди тебя судят, а сами шкодничают…
— Гм! — сказал Канюков, болезненно поджимая губы.
Но Бурмакин разговора кончать не собрался.
— Вот наша часть, к примеру, на территории заповедника дислоцировалась. Речка там была, мы еще на ней учения по форсированию водных преград проводили. Ну, и в ней рыба. Лосось. Слыхал такую?
— Слыхал и про лосося, — сказал равнодушно Канюков.
— Рыба под строжайшим запретом, редкая, — уточнил Валька. — Даже на спичечных коробках пишут, чтобы ее беречь. Ну и, конечно, к речке с удочкой или спиннингом лучше не подступайся. Рыбнадзор. Общественники. Я считаю, что это и правильно, поскольку ценная такая рыба, а?
— Правильно, — согласился Канюков.
Валька, видимо, того только и дожидался. Вскочил, отшвырнул окурок и, зайдя так, чтобы видеть лицо Канюкова, загремел:
— А то правильно, что приедет какой-нибудь «чин» и думает, что никакого для него запрета нет? Правильно? Ну, скажи?
— Видишь ли, Валя… — Канюков, собираясь с мыслями, тянул паузу, мямлил. — Тут такое дело… Разобраться надо! Понимаешь, у иного товарища не тот возраст, — он чуть было не сказал «не то положение», — чтобы впустую терять дорогое время.
Улыбка Бурмакина стала ядовитой, глаза сузились.
— Допустим, что из него песок сыплется. Или — жир не позволяет. В общем, если не может по-человечески, пускай этих лососей в магазине покупает. Денег у него хватит, я думаю!
— Вот именно, — обрадовался Канюков. — Денег у него хватит. Следовательно, материальной заинтересованности у товарища нет. Ему, собственно, не рыба нужна, а удовольствие поймать эту рыбу. Сугубо спортивный интерес. А браконьер — это хапуга, действующий совершенно из других побуждений. Смекаешь, в чем разница?
— Нет никакой разницы. Закон для всех существует, — уперся Валька.
— Ну, закон… — снова смешался Канюков, удивляясь про себя тому, как могут не укладываться в голове у взрослого человека такие простые истины. — Нельзя же в законах делать оговорки, что на таких-то, мол, и таких-то граждан закон не распространяется. Понимаешь, это как-то подразумевается, это же общеизвестно!
— Так… — дернув углом рта, задумчиво протянул Бурмакин. — Значит, ты это считаешь правильным, чтобы — одним разрешать, а других за это же самое — под суд, да? И совесть тебе позволяет?
Канюков устало прикрыл глаза.
— Так ведь закон… — бесцветным голосом сказал он, понимая, что говорит бессмыслицу. Но как еще можно разговаривать с этим дураком, не желающим видеть очевидное?
— Закон? Плевал я на такое твое понятие! — вдруг заявил Валька, когда Канюков позабыл уже о последних своих словах.
Наверное, он ждал реплики Канюкова. Не дождавшись, влез в лямку и, вздохнув, тронул нарту. Двигались на юго-запад вдоль крутобокого косогора, и Канюков, скосив глаза, мог видеть легкую Валькину тень на белом снегу. И — думать. Например, о том, что парень не отдает себе отчета в своих словах. Эх, Валька, Валька! Счастье твое, что времена переменились, прежде тебе за твои безотчетные слова… А может, ты отдаешь себе отчет, Валька?
— Ты это что, серьезно? — спросил он.
Ответа не последовало. Наверное, парню было не до разговоров. Канюков понял это умом, но не захотел понять сердцем. А мучившее его раздражение вдруг перешло в неприязнь.
Нарту неожиданно повело в сторону, вершины сосен с несвойственным деревьям проворством устремились к земле. Крик испуга уперся в глухую снежную пробку, заткнувшую рот. Лишенный возможности вдохнуть воздух, крикнуть или выпростать руки, Канюков конвульсивно забил ногами, и дикая, невыносимая боль вонзилась в его тело. Новый истошный вопль, захлебнувшись снегом, прозвучал только в сознании.
Валька Бурмакин не мог слышать этого молчаливого вопля — просто его рванула назад лямка, когда нарта провалилась в яму, прикрытую снежным наметом. Но Канюкову казалось, что парень поспешил на помощь по его зову: услышал, сумел услышать! Выплевывая изо рта снег, превозмогая боль, он благодарно смотрел на своего спасителя, силившегося перевернуть опрокинутую нарту.
— Черт! — мрачно сказал Валька. — Вот вляпались! Гады, сволочи, псы…
Он разразился замысловатым площадным ругательством и, выскребая набившийся в карман снег, полез за кисетом. И он, и Канюков, и задравшая концы длинных полозьев нарта, тоже казавшаяся живой, барахтались на дне довольно глубокого провала. Всем было тесно, все мешали друг другу. Наконец Бурмакину удалось выпихнуть наверх пустую нарту, и тогда он, заботливо помогая Канюкову принять более удобное положение, объяснил:
— В сохатиную яму ухнули. Я на лыжах прошел с маху, а у нарты, ясное дело, не лыжи, а полозья. Втюхалась вместо зверя. Голову бы открутил гаду, чья ловушка, чтобы на зиму настороженной не оставлял! — Отшвырнув папиросу, Валька запустил руку по локоть в снег и, поковырявшись, вытащил обломок гнилой жерди. — Однако работа давняя. Настил ни на чем держался, изопрел от времени. Не за год и не за два.
— Болит шибко, — пожаловался Канюков.
— Н-нда… — парень закусил губу и, расталкивая руками снег, как пловец воду, полез к краю ямы. — Вытянешь тебя отсюда не враз!
Постоял, что-то обдумывая. Потом дотянулся до заднего копыла нарты и снова стащил ее вниз. Поставил на попа. Ступая на вязья, как на ступеньки лестницы, выбрался из предательской ловушки. И потянул к себе нарту…
— Ты… что? — в ужасе прохрипел Канюков.
— Ничего.
Он стоял на краю ямы, Валька Бурмакин, широкой своей лыжей спихивая вниз снег. Деловито. Сосредоточенно. Не глядя на Канюкова.
— Ва-аля… Сын-нок!
— Сейчас.
Сейчас он завалит его снегом, похоронит живого!
— Валя-а-а! Не губи-и!
— Рехнулся, Яков Иваныч? — спрыгнув в яму, парень смотрел испуганными, немигающими глазами. — Спятил?
Канюков молчал, бессильно откинув голову, тяжело дыша. Валька растерянно пожал плечами и начал обминать накиданный снег, устраивая относительно некрутой лаз наверх. Закончив, снова стащил вниз нарту, вопросительно посмотрел на Канюкова.
— Не знаю, привязывать тебя или сам станешь держаться? Больно крутой подъем.
— Сам, — сказал Канюков.
И удержался, вцепившись в обвязку нарты так, что побелели в суставах пальцы. Вальке, чтобы выволочь наверх тяжелую нарту, пришлось наклонить гибкую березку и, перехватываясь по ее тоненькому стволу, выжиматься на руках.
— Чем не ГАЗ-53 с лебедкой? — похвастался он, когда нарта стояла наверху, в светлом сосновом бору, приютившем под своей сенью редкий молодой березничек.
Канюков не ответил. Ему было стыдно своей истерики, своего необоснованного страха. Стыдно встретиться глазами с Валькой. Боясь Валькиного взгляда, он смотрел на изрытый снег, потому что все еще лежал вниз лицом и переживал свою новую вину перед Валькой. Перед человеком, выбивающимся из последних сил ради спасения Якова Канюкова. А Яков Канюков…
— Ты не сердись, Валя. Стукнуло же такое в голову, а?..
— Чего?
— Ну, когда подумал, что ты… Ну, в снегу меня… закопать хочешь. Верно, рехнулся совсем.
Он чувствовал, что на него смотрят. Взглядом, сквозь шапку прожигающим затылок. Затем услыхал скрип снега и догадался — парень подошел и стоит над ним. Молча.
— Ты! — сказал наконец Валька. — Эх ты-ы, называешься человеком! Чтобы за централку да за пятьсот рублей жизни его лишать, ха! Да пропади они пропадом, лучше тебе еще полтыщи отдать и ружье…
Слишком поздно Канюков понял, что сам, бабьим своим языком, выболтал парню правду, о которой тот не догадывался. Ну, думал бы, будто заговаривается Канюков, бредит. Лось, мол, тот самый привиделся, вот и заорал «не губи!». Так нет, надо было разъяснить все толком! Признаться в трусости! А кого трусит? Вальки Бурмакина, сосунка, теленка!
— Валя, жар у меня, видать. Вот и порю ерунду всякую. Ты не слушай, не обращай внимания…
И опять — выдавленный в снегу коридор, болезненные толчки, частые остановки. Канюков так и остался лежать на нарте лицом вниз, только что держался теперь за вязья не голыми руками, а в рукавицах-лохмашках. Рыжая собачья шерсть их намокла и потемнела… или все кругом потемнело, потому что наступил вечер?
Да, вечер. Снег, вон, синевой стал отливать. И вроде подмораживает. Неужели не доберутся до поселка, опять в тайге ночевать?
Валька словно прочитал его мысли.
— Темняет. Пройдем сколько можно да месяца подождем. Небо сегодня чистое, свету хватит. Боюсь я еще ночь ночевать, раз температура у тебя.
— Горю весь, — солгал Канюков больше для того, чтобы Валька утвердился в мнении, что давешние признания были бредом. И сразу же раскаялся в своей лжи — подмораживать стало ощутительнее, влажная одежда начинала индеветь, браться стеклом. А теперь Валька, чего доброго, даже костер разводить не станет в ожидании луны?
Но Валька развел костер и даже догадался пощупать канюковскую телогрейку.
— Аж звенит! — сказал он. — Так и простыть недолго. Ну-ка я тебя поближе к огню передвину, подсушить.
От телогрейки и ватных брюк повалил пар. Живительное тепло жадно впитывалось измученным болью и усталостью телом, умиротворяло. Мысли текли, не царапая души, тоже теплые, податливые, словно нагретый воск. Валька Бурмакин снова стал милым и добрым парнем. Эко, подумаешь, брякнул, что плюет на законы! Пускай поплюет, к законам не пристанет. После жизнь научит держать язык за зубами. И Канюков, когда вернется в поселок, кое-что растолкует, с глазу на глаз конечно. Выпьют пол-литра, посидят, побалакают. Валька вытаскивает его, обезножевшего, из тайги — он поможет Вальке тверже стоять на ногах, не спотыкаться. Услуга за услугу.
А мороз явно нажимал, и Канюков скоро почувствовал это боком, повернутым от костра. Помня о своей беспомощности, окликнул Бурмакина:
— Валя! Мне бы левой стороной к огню повернуться, а?
— Можно, — ответил тот.
Пользуясь вынужденной остановкой, он опять варил мясо, запасливо прихваченное в дорогу. Кроме мяса в его мешке оказалось еще полбуханки хлеба. Черт, сколько же Валька тащил на себе тяжестей? Рюкзак с продуктами, котелок, топор… Да еще патронташ и ружье. И тут Канюков вспомнил о своем оружии. Впервые с тех пор, как освободился от него с помощью парня.
— Слушай-ка, а мой карабин?
— Возле сохатого, под кривой сосной в снег сунул. Тяжелый он больно, с собой тащить. А вещмешок на сук повесил.
— Карабин не пропал бы, — забеспокоился Канюков.
— Куда денется? Принесут, как пойдут за мясом.
Канюков насторожился — что значит «пойдут за мясом»? Разве за ним не Валька пойдет? Кто же тогда пойдет? А?
— Так кто же за ним пойдет кроме тебя. Я, как сам видишь, не могу…
— А мне оно на черта сдалось? Пока тебя вез, на обоих плечах шкуру себе лямкой протер до дырок.
— Интере-есно, — сказал Канюков и закрыл глаза.
Валька, поддев топорищем проволочную дужку, снял подвешенный над огнем котелок. Вспомнил:
— Ложка-то у нас с тобою одна!
— Ты ешь, — буркнул, не открывая глаз, Канюков. — Я подожду. Ешь, ешь…
Яков Канюков подождет. И подумает. Кажется, ему стоит кое о чем подумать. Необходимо подумать. О том, какие такие планы держит в голове Бурмакин. Везти-то он Канюкова везет, спору нет, а вот карабин оставил. Почему? Правда, и вещевой мешок тоже оставил. Но именно канюковский вещевой мешок, не свой, хотя в канюковском имелось, например, сало, которого у Бурмакина нет. Да и карабин… Тяжесть, конечно, так ведь Валькино ружье вместе с патронташем, набитым патронами, весит не меньше. Почему не захотел оставить ружье и патронташ, а взять карабин? Может, с какой-то своей целью оставлял возле убитого лося именно канюковские вещи, а?
— Твоя очередь, Яков Иваныч! — сказал Валька и, подмостив две палки, поставил на них котелок — так, чтобы Канюков до него дотягивался.
Тогда тот открыл глаза и повторил:
— Интерес-сно…
— Что — интересно? — полюбопытствовал Валька.
— Да так… Это я насчет котелка. Палки подложил под него зачем.
— Палок не подложить — моментом уйдет в снег, Горячий же!
— А-а! — протянул Канюков и стал есть.
Он ел без Валькиной помощи, так как лежал на груди. Котелок стоял между полозьями нарты, чуть боком. Черпая варево, Канюков каждый раз тыкал ложкой в зыбкое отражение месяца, уже выплывшего на небо.
— К утру занастит — хоть конем езди! — сказал Валька.
— Ага, — согласился Канюков, отставляя в сторону котелок.
Парень убрал посудину в рюкзак и, подавая прикуренную от головни папиросу, спросил:
— Так что? Тронемся? Свету хоть отбавляй.
— Угу, — сказал Канюков.
Теперь нарта ползла не по набрякшему водой снегу, а по ломкому, звенящему под полозьями чиру, который к утру станет толще и будет называться уже не чиром, а настом. Зато двигаться стало куда легче. Снег не подлипал к полозьям, не тащился впереди парты. И шла нарта ровнее, без нырков. Но думать стало труднее, потому что звон ломающегося чира казался Канюкову оглушительным громыханием. Голова разламывалась, и все-таки нельзя было не думать.
Допустимо, что Валька оставил карабин без задних мыслей. Может, даже собирался вытащить мясо и заодно оружие. А наломавшись за сегодняшний день, передумал, — чего он теряет, Валька? Несколько пудов мяса? Плевал он на мясо, деньги за него не плачены. А Яков Канюков не может, не имеет права потерять карабин. И дело не в его стоимости, — четырнадцать каких-то рублей! — а в том, что нарезное ружье, винтовка. За утерю придется отчитываться, объясняться. Гм! Ганю Кустикова не пошлешь принести — еле-еле ползает со своим радикулитом проклятым, почтовым ящиком зад оттопыривает. Кроме Гани, просить некого. Почешешь в затылке!
Собственно, можно было бы и не чесать — придумать обстоятельства, при которых потерял оружие, не так уж трудно. Например, провалился в промоину при переходе речки и — утопил. И все. Все, коли бы… не длинный Валькин язык! Разве есть гарантия, что не трепанет? А какая-нибудь сволочь не поленится сбегать в тайгу, проверит — дорогу вон какую проторили нартой. Раз плюнуть найти место и карабин при желании. Желающих приобрести нарезной ствол найдется немало, а на оружии номер… И сразу пойдут разговоры, что Канюков на пару с браконьером Бурмакиным бьет лосей. Канюков с Бурмакиным! Да-а…
Он представил, как его будут упрекать: доверили, ручались, подрываешь авторитет, тень падает, с кем связался? И разве докажешь, что не связывался? И разве будут иметь значение доказательства? Значение будет иметь не факт, а последствия. Разговоры, болтовня.
— Валя! — крикнул Канюков. — Валя!
Нарта остановилась.
— Давай перекурим!
— Можно, — сказал Валька и, подавая папиросу, спросил заботливо: — Не замерз?
— Чуток.
— А мне жарко, хоть и мороз заворачивает.
Валька отдыхал, присев на передок нарты, и Канюков чувствовал щекой исходящее от его бедра тепло. За голенище Валькиного бродня, пахнущего дегтем, набились осколки чира. При свете месяца они вспыхивали голубыми искрами. Весь снег, где не лежали на нем серые призрачные тени, вспыхивал голубыми искрами — чир достаточно отвердел, нарта шла почти поверху, снежный коридор не мешал смотреть по сторонам. Остановились они перед крутым спуском в широкую, видимо болотистую, разложину. Высокоствольного леса внизу не было, тальник и молодой березник почти не давали тени. Оттого по всей ширине разложины голубой свет гулял вольно, снега казались чистыми и праздничными, как подсиненная скатерть.
— Красотища! — сказал Валька.
— Угу, — отозвался Канюков, попыхивая папиросой. Ему было не до красот природы.
В разложину спускались, чтобы не раскатывалась нарта, вдоль косогора. Валька шел сбоку, страховал от раскатов. Нарта сама бежала под уклон, не разбирая дороги, норовя вырвать лямку. Но вот спуск кончился, и Канюков, расслабив напряженные, изготовленные к падению мускулы, облегченно вздохнул: пронесло! Эх, кабы так же вот историю с карабином, убитым лосем и Валькой Бурмакиным пронесло! Черт, почему он сказал «пойдут за мясом»? Пойдут — это значит несколько человек. Во всяком случае, не один. Следовательно… Нет, не может быть!
Не может?
А почему не может?
Кто поручится, что Бурмакин не приведет завтра к убитому зверю людей и не скажет: вот карабин Канюкова, вот его мешок и вот убитый им лось. Убитый Яковом Канюковым, обязанным бороться с браконьерством!
Может сделать такое Бурмакин. Из принципа своего дурацкого сделает. Нечего даже сомневаться в этом.
— Дорога! — раздался ликующий Валькин крик.
Нарта, словно подстегнутая, рванулась вперед, с маху перевалила наметенную снегоочистительным клином бровку и остановилась, кренясь набок.
— В каком месте вышли? — спросил Канюков.
— У Косой плеши. За ручьем.
Упираясь руками в снег, Канюков передвинулся чуть вправо, позволяя отдохнуть намозоленным о нарту ребрам. Ручеек, по берегам которого располагались елани Косой плеши, пересекал трассу на шестом километре от поселка. Можно считать, что они дома. Имеет смысл развести костер и подождать утра. Утром машины пойдут, любой шофер увезет в поселок.
Но Валька небрежно махнул рукой, когда Канюков заикнулся об этом.
— А, еще ждать утра! Часа через полтора будем на месте. — Он выдернул ремешок, перехватывающий в лодыжке бродень. Продев в дыры на носках лыж, привязал лыжи к заднему копылу нарты. Топнул ногой, пробуя, как держится обувь без ремешка. Пошутил: — Конь, конечно, не кованый, зато конюшню зачуял! Пойдет без кнута! Рысью!
— Весел ты чего-то, — сказал Канюков.
— А мне чего плакать? — удивился Валька, впрягаясь в лямку. — Мне плакать нечего.
Канюков дернул бровью: тебе, конечно, незачем нынче плакать. Канюкову следует плакать, да? Это хочешь сказать? Что же, может, Канюкову всплакнуть придется… Эх, не то время…
— Не то время! — забывшись, сказал он вслух.
— Чего? — переспросил Валька.
— Время, говорю, не то… Поздно. Ночь. Да и воскресенье, в больнице только сестра дежурная, врача нету.
— Найдем! — сказал Валька. — По телефону разыщем.
— Ночь же!
— К утру дело! Мимо пожарки проходить будем и мимо милиции. Там же всегда дежурные сидят. Круглосуточно. И телефон.
— Точно, — сказал Канюков. Он сказал это своим мыслям — точно, что Валька намерен поднять шум! В милицию торопится, другой дороги не знает. Так что же придумать? Ну что?
Ничего не придумаешь.
Ни-че-го!
— Заезжай в милицию! Валяй! — бросил он, горько кривя рот.
— Ладно, — охотно кивнул Валька.
Нарта моталась по обледенелой дороге от обочины к обочине. Комочки смерзшегося снега испуганно брызгали из-под полозьев, иногда больно стегая Канюкова по лицу. Он не замечал их, как не замечал и ноющей боли в паху. Куда болезненнее было сознавать, что такие ничтожества, как Валька, могут безбоязненно распускать языки, посягая на авторитет человека, заслужившего право… Черт, он совсем позабыл, что не имеет теперь никаких прав. Да, не то время, не то!..
Машинально спасая лицо от брызг льда, он поднял голову и увидал впереди огни поселка. Двойную цепочку фонарей на главной улице, расточительно не погашенную на ночь, и освещенные окна зданий комбината. В окнах жилых домов свет не горел, но его и так хватало, чтобы небо над поселком было не черным, не темносиним даже, а белесым. Это белесое небо поддерживалось гигантским столбом тоже белесого дыма над вечно дымившей электростанцией. Тайга осталась позади. Позади оставалась дорога к поселку. Теперь поселок надвигался на Канюкова, как надвигается туча, от которой некуда, спрятаться.
Они двигались, провожаемые оголтелым брехом собак, преследуемые особенно нахальными, еще более сатаневшими при попытках Бурмакина отогнать их от нарты. И Канюков на время забыл обо всем, кроме собачьих зубов, лязгавших около его беспомощного тела. Наконец нарта остановилась.
— Брысь, я вас! — загремел Валька.
Собаки отпрянули, напуганные взмахом перехваченного за стволы ружья, а Бурмакин проворно взбежал на высокое крыльцо, очень знакомое Канюкову. Слышно было, как шоркнула по половицам облезшей клеенчатой обивкой входная дверь, донесся обрубленный затворенной дверью окрик:
— Эй, есть кто живой?
И все смолкло. Даже собаки успокоились и подходили по очереди, чтобы обнюхать неподвижного человека и равнодушно потрусить прочь.
Потом раздались приглушенные расстоянием голоса, снова хлопнула дверь, и обледенелые доски крыльца загремели под торопливыми шагами.
— Яков Иваныч, как ты это, а?
Канюков по голосу узнал старшину Леменчука и, принимая соболезнование за осуждение, не сомневаясь уже, что Валька успел все рассказать, буркнул:
— Да так… вышло. — И потому что скрывать было бы теперь смешно, сказал с горькой иронией над собой. — Повезло, в общем. Он же меня и узувечил вдобавок.
— Он? — глазами показал на Вальку старшина.
Канюков приподнялся на локтях и, проглотив слюну, сказал:
— Нет. Лось же…
— Бурмакин опять сохача завалил? Си-лен па-рень! — вроде даже обрадовался догадке старшина, не утруждая себя размышлениями о том, как мог убитый Валькой лось изувечить кого-то.
Канюков недоумевающе посмотрел на милиционера, потом — уже совсем по-другому, что-то напряженно обдумывая, — на Вальку.
А Валька весело усмехнулся и, поправляя висящее на плече ружье, спросил то ли Канюкова, то ли Леменчука:
— Так что же, врачу надо звонить? Или везти в больницу?
Леменчук переступил с ноги на ногу, а Канюков неожиданно заговорил жестким, всегдашним канюковским голосом:
— Ладно, не твоя забота. Ты, — кивнул он старшине, — ружье у него забери. И патронташ тоже. Как вещественные доказательства.
Валька продолжал было улыбаться. Но вот глаза его посерьезнели, стали растерянными, и только губы все еще не то улыбались, не то кривились.
— Ты… что? — недоверчиво, споткнувшись на двух коротких словах, спросил он. — Всерьез?
— Показания будешь давать потому властно, одним углом рта, сказал Канюков. — Следствие установит, чья пуля в звере.
Парень молчал. Потом жалкая улыбка на его губах превратилась в злую и презрительную усмешку, глаза стали узкими, мутными, как у готовящегося к прыжку зверя. Но — не прыгнул, хотя Канюков на момент сжался, ожидая этого.
— Ловко! — с какой-то неестественной веселостью выдохнул он наконец, запаленно схватил ртом воздух и, передав старшине двустволку, начал медленно отстегивать патронташ.
Как бьют тревогу
Старший конюх подсобного хозяйства при комбинате — подхоза, как называли в поселке, — Александр Егорович Заеланный{1} вышел из дому вовсе не для того, чтобы чесать язык с бабами. Вышел наколоть дров, потому что жене подходило время топить печь, а дров он обещал наколоть с вечера, да запамятовал. И надо же было черту в этакую рань вынести на крыльцо Пелагею Бурмакину, поди ж ты!
— Ране-енько ты нынче за работу принимаешься, сосед! — пропела она и только после того спохватилась. — Здравствуйте вам, Александр Егорыч! Бог помочь!
— Спасибо, — ответил он, хотя в бога не верил давным-давно.
— Дрова колешь хозяйке? — спросила Пелагея.
— Капусту рублю, — последовал неожиданный ответ.
Пелагея захихикала:
— И всё-то вы, мужики, над бабами изгаляетесь. Нет чтобы честь честью ответить женщине.
— Сын-от в тайге? — поинтересовался Заеланный, главным образом для того, чтобы перевести разговор.
— В тайге, дядя Саша. Там.
— Опять этого… браконьерствует? Мало денег переплатил?
— Сказал, что за глухарями. Тока какие-то искать.
— Бить его некому, — свел к переносице густые брови Заеланный. — А ты куда собралась? До ветру, что ли?
— Тьфу, бесстыжий! Воскресенье сегодня, на базар. В райпе-то одна консерва из овощей, мало что нас к Крайнему Северу по снабжению отнесли.
— Грамотная! — усмехнулся в прокуренные усы старик.
— Да уж грамотная!
— А в численник смотришь? Или нет?
— Чего я в нем не видала, в численнике?
— Того, что месяц нынче какой? Апрель? Вот и посчитай, сколько времени свежего подвозу нет. Навигация в сентябре закрылась, звон когда!
Заеланный надул щеки и с силой выдохнул воздух, так что ржавые усы его зашевелились. Собрался сказать еще что-то, но только безнадежно махнул рукой, буркнув:
— Была бы ты поумнее…
— Мне моего ума хватит. Твоего не пойду занимать, не бойся.
Он добродушно рассмеялся:
— Ох, Пелагея Васильевна, Пелагея Васильевна! Моего ума мне и самому не хватает, верно тебе говорю. Я все больше на совесть стараюсь надеяться.
У соседей звякнула щеколда, и Валька Бурмакин, в расхристанной телогрейке, с тощим рюкзаком на одном плече, остановился в калитке, загораживая широкими плечами улицу. Обшитые камусом, лыжи полетели в угол тесного дворика.
— На совесть? — громко и язвительно переспросил он. — Эх ты, хрен старый! Там, где совесть была, знаешь что выросло?
Не стесняясь матери, он бросил неприличное слово.
— Ва-аль! — ахнула та.
— Родительницу бы хоть постыдился! — гневно упрекнул Заеланный.
Валька резанул его синеватыми белками остро прищуренных глаз:
— Стыд, дядя Саша, сняли с вооружения. Понял?
Отодвинув плечом мать, он прошел в дом.
— Видала молодежь? — спросил старик Пелагею.
Та, думая о своем, обеспокоенно развела руками:
— И без ружья, и мешок вовсе пустой…
Заеланный молча вздохнул и, выбрав чурку посолиднее, так трахнул колуном, что развалил с первого же удара.
Когда он с охапкой поленьев, терпко пахнущих сосновой смолой, показался в кухне, жена встретила воркотней:
— За смертью тебя посылать, больше ни за чем. Ходишь, ровно сырой какой-то.
Дрова загромыхали о железо подтопочного листа. Обычно медлительный, рыжий кот стремглав метнулся из кухни.
— Ладно положить не можешь? Все швырком надо?
— Брось, — устало отмахнулся Александр Егорович. — Отстань. Без тебя тошно, мать.
— С чего опять затошнило?
— С молодежи. Валька сейчас домой заявился. Ни стыда, ни совести не стало у парня.
— А было?
Он только плечами пожал.
— Говорит, что заместо совести… в общем, поговорка такая есть. А стыд, мол, с вооружения сняли. Ненужен, значит. Да еще при матке своей загнул такое… Уши вянут! Свой бы такое сказал, оглоблю бы, кажись, изломал на нем.
— Своего лучше не поминай. Не сравнивай.
— Золотая была головушка… Воевал, в танке сгорел, а вот живые… За живых другой раз самому впору сгореть. Со стыда. Который… этого… с вооружения сняли.
Старик помолчал, сворачивая воронкой треугольный клочок газеты для козьей ножки. Насыпав махорку и аккуратно подогнув края, медля прикуривать, сказал:
— Вроде на глазах без портков еще бегал. Парень как парень. И вот поди ж ты…
— Дался тебе этот Валька!
— Нет, ты пойми, как он это сказал. Не то чтобы вгорячах или в шутку. Сознательно сказал. Это что же выходит такое, а, мать?
— Ну, поехал теперь!
— Да ты погоди, тут вопрос серьезный. Ведь ежели человек без совести и без стыда жить намерен, какая у него жизнь получится? Волчья получится жизнь, А я еще, — верно, что хрен старый, — когда в прошлом году его судили, к судье Виктору Авдеевичу на поклон ходил. Доказывал, что хороший парень.
— То-то он твоих доказательств и послушался, судья-то. Мыслимое ли дело, пятьсот рублей ахнуть за дикого зверя?
— Ох, мать! Тебе про Фому, а ты про Ерему. — Он помолчал, кусая ус. — Я думаю, Вальке таким путем в подлецы выйти недолго. Можешь ты допустить такое, если за ухи его трепала?
— Ты это его трепал. Когда стекло в сараюшке выставили.
— Я же про то и говорю, ты не переворачивай меня, не сбивай с мыслей. В общем, нельзя такое допускать! Тем более без отца рос.
— Ну и не допускай. Надоел, все про одно тростишь. Парень, поди, из озорства брякнул, позубоскальничать, а ты забродил, как хмель на дрожжах.
Александр Егорович укоризненно покосился на жену и громко, безнадежно вздохнул. Потом, поплевав на палец, аккуратно заслюнил козью ножку, бросил в поддувало и, рассматривая потолок, сказал:
— Инда к Филиппычу сходить, что ли? Ты бы выдала нам на махонькую, а, мать? На предмет воскресенья.
— Ждут не дождутся тебя у Филиппыча с маленькой с твоей. Сударев разве рюмку какую выпьет, остальное ведь сам высосешь. На, отвязни! Глаза бы мои на тебя не смотрели!
Маленьких в райпо не было. Поллитровки.
— В продовольственном всяких полно, Александр Егорович, — утешила его незнакомая, хотя и назвала по имени-отчеству, женщина с продуктовой сумкой.
Стоявший со скучающим видом у прилавка шофер Пермяков поднял в знак приветствия растопыренную пятерню.
— Может, разольем?
— Посудину, Варя, дашь? — спросил Александр Егорович у продавщицы.
Доверив разливание Пермякову, он отошел к витрине промтоварного отдела, колупнул ногтем приставшую к стеклу мусорину.
— Готово, — позвал Пермяков. — Как в аптеке, грамм в грамм. Можешь не сомневаться, на совесть!
— На совесть, говоришь? — вспомнил старик. — Утресь мне Валька Бурмакин, сосед, объявил про совесть, что где она была, там… — он глянул через плечо на продавщицу, — там, значит, ее нету теперь. Вот как!
— А ты думаешь, Егорыч, она обязательно должна быть?
— Думаю, что должна. Особенно у Вальки. Ему еще полную жизнь жить.
— Так без совести-то жить легче, — пошутил Пермяков.
Александр Егорович нахмурился, морщины возле углов рта стали еще глубже.
— За такие шутки морду набить, — серьезно сказал он. — Только стар я бить морды. Твое счастье, — и Александр Егорович, не прощаясь, пошел из магазина.
— Ох и потешный старик! — повернулся к продавщице шофер, когда дверь захлопнулась. — Чудной!
— Это у него, что ли, в войну сын добровольцем ушел да сгорел в танке?
— У него.
— Судьба! — глубокомысленно изрекла продавщица, по молодости лет не помнившая войны. Смотрясь в захватанное пальцами стекло витрины, она поправляла выкрашенные хной волосы.
А Александр Егорович уже сворачивал в переулок, опасливо обходя месиво из грязи и снега на повороте. Хотел было пройти по бровке канавы, но там, загораживая дорогу, по брюхо стояла чья-то корова. Она подбирала клочья вытаявшего в апрельских лучах сена, потерянного при зимних перевозках.
За новым рейковым палисадником, на крыльце домика о двух окнах стояла девушка в накинутом на плечи пальто. Зубной щеткой, просыпая на крыльцо порошок, она обихаживала казавшиеся игрушечными валенки.
— Наташка! — окликнул Заеланный. — Цыган шубу уже когда продал, а ты в катанках куда-то собираешься. Глянь-ка, что на улице делается, Вода.
— К вечеру опять подморозит, дядя Саша. Вы к нам?
— К вам. Дома Филиппыч?
— Дома. Строгает что-то в сараюшке.
Старик обогнул дом и остановился перед открытой в дощатый сарай дверью.
— В воскресенье работать грех, — громко сказал он. — Бог накажет, смотри!
— Работать никогда не грех, — весело отозвались из сарая, — а наказание я вперед за все грехи отбыл. Десять лет. Погоди, только фартук сниму…
— Драться станешь, что ли? — пошутил Александр Егорович.
Из сарая, отряхивая с пиджака кружевные рубаночные стружки, вышел совершенно седой мужчина с удивительно молодыми, задорными глазами. Оттого седина казалась неестественной, хотя глубокие, резкие морщины были под стать ей.
— Драться сегодня не стану, так и быть, — шуткой же ответил он гостю. — Это тебе все бы драться с кем-нибудь. Пойдем в дом, воитель! Чаем напою.
В светлой, оклеенной обоями кухоньке он сунул в розетку штепсель электрической плитки. Загремев крышкой, глянул в пузатый никелированный чайник — есть ли вода.
Александр Егорович сокрушенно вздохнул.
— Медицина, Филипп Филиппович, знаешь что говорит? Она говорит, что чай действует на сердце. Отрицательно.
И, раздув усы, выставил на стол бутылку.
— Это с какой радости? — спросил хозяин.
— Не с радости. С горя.
— О-о! И половину уже успел трахнуть?
— Старуха на полную капиталов не выделила, с Пермяковым из транспортного пополам розлили, чекушек в райпо не было.
— Разлагаешь ты меня, товарищ Заеланный! — усмехнулся Филипп Филиппович и позвал: — Наталья! Ты бы нам оборудовала что-нибудь закусить. Гость-то с водкой явился.
Пока приготовлялась закуска, мужчины курили, перебрасываясь обычными в таких случаях словами: погоду леший не разберет, но, по зиме судя, лето должно выдаться не очень дождливым.
— Так какое же у тебя горе? — спросил, посмеиваясь, хозяин, когда наполнены были рюмки, а от тарелки с огурцами своего посола вкусно запахло смородиновым листом.
— Горе не горе, — Александр Егорович разгладил ладонью усы, задумчиво поднял рюмку. — Давай выпьем. Как говорится, чтобы дома не журились… фу, гадость! И как это люди ее пьют, а?
Нюхая корочку, блаженно сощурился. Потом потянулся вилкой к миске с квашеной капустой.
— Горе, говорю, не горе, а радоваться причин нету.
— Чем недоволен? Опять поди овес твоим клячам срезали?
— Не овес. История тут с одним парнем вышла. Вчера под стол пехом ходил, а сегодня мне заявляет, что совести у людей никакой нету. И парень как будто стоящий, Бурмакин Валька.
— Знаю его маленько, у нас в горном работает, да и родня какая-то Наташке. Из этого толк выйти должен.
— Так Валька ж, подлец, и сказал такое! Про совесть!
— А-а, просто дурачится.
— Тут, Филипп Филиппович, не то. Сознательно он это сказал. Ему жить надо, а как жить без совести?
Отодвинув стул, хозяин прошелся по комнате, поправил мимоходом сбившийся половик и, видимо думая вслух, заговорил:
— Ну, ляпнул. Завтра, может, позабудет. Вообще-то ерунда, конечно. Но поговорить с ним при случае придется. Парнишка-то он вроде серьезный…
— Не будет он с тобой разговаривать. Шибко умный.
— Тоже верно. Молодежь не любит, когда старики с поучениями лезут. Ладно, я завтра с Рогожевым потолкую. Он от молодежи не оторвался еще. Должен найти ребят, которые с Валькой по душам поговорить сумеют. А не ребят, так… — не договорив, Филипп Филиппович показал подбородком на крутившую регулятор радиоприемника Наташу.
— Валька вроде за Катюшкой Шорниковой ухлестывал, — вспомнил Александр Егорович.
— Скажете тоже, — вмешалась девушка, — Катюшка давно с Витькой Голченко дружит, А Валька с Верой Вахрамеевой теперь.
Филипп Филиппович расхохотался.
— Видал? Полная осведомленность! — Он повернулся к Наташе, продолжая смеяться. — А ты чего наши разговоры слушаешь, бессовестная? Не стыдно?
Тем временем Александр Егорович, тоже ухмыляясь, снова наполнил рюмки.
— Рогожев? — спросил он. — Это который? Покойника Василия Терентьевича сын или брат?
— Сын. Павлом Васильевичем зовут.
— Василия-то ты не знал?
— Нет.
— И не мог, однако. Он в сорок девятом помер, теперь вспоминаю. Так, говоришь, начальством он у вас каким, Рогожев?
— Каким там начальством — отпальщиком. Ну и комсомолом на руднике заправлял, а теперь — парторг. Вырос!
— Батька у него печи знаменитые клал, на весь район славился. Каков-то сынок удался?
— В прошлом году в райком его сватали, Пашку. На отдел пропаганды, — вспомнил Филипп Филиппович. — Не вышло.
— Это как понимать?
Филипп Филиппович пожал плечами.
— Рогожев сам не рвется из рудника уходить.
Заеланный согласно закивал.
— Человек, Филиппыч, как кошка. К месту привыкает. — И, поднимая рюмку, глядя через нее одним глазом, спросил: — Так что, опрокинем давай? Чтобы дал бог не последнюю…
Утро рудника начинается с разнарядки.
Как всегда, сменные мастера и бригадиры грудились возле стола в раскомандировочной, получая задания. Работяги толпились поодаль, прислушиваясь к разговорам своих командиров. Шум трущихся друг о друга заскорузлых брезентовых спецовок походил на шелест листвы в лесу. Несмотря на раздающиеся время от времени призывы прекратить курение, слоистые облака табачного дыма плавали у потолка.
— Бросят в конце концов курить или нет? — начальник рудника Сергеев выжидательно поглядел туда, где заметались, роняя искры, огоньки спешно гасимых папирос. Когда огоньков не стало, позвал:
— Герасимюк!
— Есть!
— Почему зашился в субботу с выдачей?
Парень в прорезиненной робе, очень похожей на водолазный скафандр, развел руками:
— Так, Николай Викторович, сменный механик скип остановить велел.
Сергеев, не поворачивая головы, спросил:
— Филипп Филиппович, что там с подъемником у них? Вам докладывали?
— Трос поизносился, пришлось заменять.
— День могли подождать. До воскресенья. И следовало поставить в известность меня или главного инженера. Или вас. Не самовольничать.
— Сменный механик с Рогожевым посоветовался, Николай Викторович.
— Рогожев — взрывник и в подобных вопросах не компетентен.
Недовольно закусив губу, Сергеев заглянул в рапортичку.
— Голубев!
— Я, Николай Викторович!
— Что решила бригада?
— Решили, чтобы повременить.
Начальник резко повернулся к Филиппу Филипповичу и сидевшему рядом с ним главному инженеру рудника. От переплетенных на рапортичке пальцев оторвал два больших и развел в стороны, изображая недоумение.
— Не понимаю. Бригаде присваивают звание работающей по-коммунистически, а бригада не соглашается?
Шахтер в каскетке, названный Голубевым, переступил с ноги на ногу.
— Неловко получается, Николай Викторович. Карпов у нас тогда, после получки… Знаете? Кривицкий вечернюю школу бросил. На Чеботаря жена к вам же приходила жаловаться…
Вокруг засмеялись, стали отпускать шуточки. Улыбнулся и Сергеев, но сразу погасил улыбку.
— Ну, это не главное. Изживете.
— Вот когда изживем, тогда… — Голубев опять переступил с ноги на ногу. — Мы, Николай Викторович, в общем, не против. Честь, сами понимаем. Только с Рогожевым вчера получился разговор… что, мол, с одной стороны честь, а с другой — усмехаться могут. Неловко — над таким делом! Ну и ребята с ним согласились…
Задребезжал телефон. Сергеев снял трубку, помахал окружающим рукой: тише! Потом приказал кому-то на другом конце провода:
— Давайте резервный. Ну, сколько потянет. Ладно, Сударев сейчас туда подойдет. — Бросив трубку на рычаг, объяснил: — Компрессорная. Опять дров наломали. Филипп Филиппович, посмотрите, что там у них.
Филипп Филиппович, наступая кому-то на ноги, уже выбирался из-за стола. Выходя, услышал, что начальник спрашивает, где Рогожев. И огорченно подумал — ну, сцепятся!
В компрессорной ничего особенного не произошло. Старый, иностранного происхождения компрессор — один из трех — забарахлил. Такое случалось уже не впервые. Удостоверившись, что воздух в шахту подается нормально, а электрик и дежурные слесари ковыряются во внутренностях престарелого иностранца, Филипп Филиппович направился, через крепежный двор к зданию копра, внимательно поглядывая на шахтеров, одинаковых в своей спецодежде.
— Кого ищете, Филипп Филиппович? — спросил один из рабочих.
— Парторга, — ответил тот.
Очевидно, Павел Рогожев задерживался в раскомандировочной. Туда можно было попасть боковым входом, через душевую и гардеробную Заглянув в раздевалку, Филипп Филиппович увидел знакомую спину. Человек снимал грязный резиновый сапог, цепляясь задником его за ножку скамейки. Он был один в раздевалке.
— Эй, Павел! Ты разве с ночной?
— Привет, Филиппыч! — Рогожев стащил наконец сапог и, облегченно вздохнув, откинулся на спинку скамьи. — С ночной. Слушай, я только что с Сергеевым малость срезался. По поводу голубевской бригады…
— Так я и знал, — усмехнулся Филипп Филиппович.
— В общем, я против такой липы. Работают ребята как следует, а в остальном не дотягивают. И сами это понимают. Но Сергеев настаивает. Дело ясное — как это у него в руднике бригады коммунистического труда нету? Обидно!..
— Ну и что ты? — спросил Филипп Филиппович.
— Может, вынесем на бюро? А? Ты как думаешь?
— Можно и на бюро.
Рогожев задумчиво провел пятерней по светлым упрямым волосам, забыв, что брался за сапог. Поперек лба обозначилась ржавая полоса грязи. Филипп Филиппович невольно усмехнулся, но парторг не заметил его усмешки.
— Да-а, — протянул он. — Утрясем, конечно. Мало этого. Понимаешь, в принципе неправ Николай Викторович.
— Начальство неправым не бывает, — усмехнулся Филипп Филиппович.
— Николай Викторович обязан помнить, что сначала он коммунист, а потом начальник. Иначе некоторые будут вспоминать, что он член партии знаешь когда? Когда говорят: «ай-яй-яй, а еще коммунист!» Конечно, не на собраниях, а так, в разговорах. Не согласен?
— Согласен. Только вот кое-кто считает еще, будто признание личных своих ошибок порочит партию. И другой раз такой человек из кожи вон лезет, доказывая свою непогрешимость в ущерб правде.
— И партии, — вставил Рогожев.
— Отрыжка прошлого, Паша. Подожди — избавимся, не сразу Москва строилась.
— А зачем ждать? Сам же говоришь: кое-кто, а мы — все! Сила! Короче говоря, будем на бюро разговаривать?
— Ну что ж, поговорить стоит. Пожалуй, стоит! — Филипп Филиппович испытующе посмотрел на собеседника и вдруг вспомнил: — Да, у меня же к тебе дело есть, искал тебя специально!
— Что за дело? — спросил Рогожев, стараясь освободиться от второго сапога.
— Дело не дело, а как бы тебе сказать? Кстати, опять голубевской бригады касается. Знаешь бурильщика у них, Вальку Бурмакина?
— Как не знаю? Вчера только вспоминали о нем с Ильей Черниченко…
— Черниченко? — перебил Филипп Филиппович. — Следователь, что ли?
— Ну да. Дружок мой.
— Выкинул что-нибудь Бурмакин?
— Лося опять трахнул. Второй или третий раз уже. Но тут интересная штука получилась, честное слово! Говорят, будто Канюков застукал его прямо на месте. Да, видимо, погорячился — подлетел сразу после выстрела, пока зверь еще дрыгал ногами. И так получил копытом, что нога вывернулась из тазобедренного сустава. Пришлось Бурмакину вместо лосятины вытаскивать из тайги Канюкова, а снег знаешь какой нынче? Во! — ребром ладони Рогожев провел у себя под подбородком. — А ты что про Бурмакина?
Филипп Филиппович, достав пачку «Севера», раскатывал в пальцах папиросу. Помолчав, буркнул:
— Да так… — и зажег спичку.
Рогожев, справившись с сапогом, вылез из громыхающих брезентовых штанов и, медля идти в душевую, ждал членораздельного ответа на свой вопрос. Но Филипп Филиппович вместо этого спросил сам:
— Это когда было у него, с Канюковым?
— Да в ночь на воскресенье. Вчера, одним словом. Черт его знает как это получается у парня? Бурильщик, зарабатывает дай бог каждому, чего ему эти сохатые понадобились? Да и не похоже, чтобы жадничал, а вот… Пробовал я с ним говорить — отмахнулся, своя, дескать, голова на плечах. А парень вроде неплохой, ребята в основном за него. Сам знаешь, как у нас некоторые на такие дела смотрят: не украл, в тайге добыл!
— Судить будут?
— Наверное!
— Тогда все ясно, пожалуй. Видишь ли, ко мне один славный дядька забрел, Заеланный, конюх подхозовский. Ну и рассказывает про этого Бурмакина, что парень стыд и совесть в человечестве отрицает. Вот мы и хотели как-нибудь выяснить, как дошел он до жизни такой. А теперь понятно. Как же, мол, человека из тайги вытащил — и меня же судить? Нет, дескать, на земле правды!
Обидно, конечно, — согласился Рогожев.
— Еще бы не обидно — Канюков его и в прошлом году прихватил с лосем. Парень, поди, в этот раз надеялся: выволоку, грех покроет! — Он поискал глазами, куда бросить окурок, и, не найдя, затушил в спичечном коробке. — А вообще-то, Паша, получается нехорошо, а? Чего доброго, Бурмакин в самом деле вобьет в голову, что с ним поступили бессовестно, а так и на людей ополчиться недолго. Самому совесть потерять.
Рогожев усмехнулся:
— Ее, видать, и так было не много!
— Совсем плохо, если потеряет остатки. Втолковать надо бы парню, что если бы Канюков, наоборот, промолчал, то оказался бы подлецом. Ну, ладно, иди мыться! — спохватился Филипп Филиппович. — Нашли время разговаривать!
Парторг зябко передернул голыми плечами, кивнул:
— Добро. Я настропалю Черниченко, он мужик с мозгой. — И пожаловался: — Умотался я сегодня, спать хочу чертовски.
Прихватив мыло и полотенце, он шагнул к дверям душевой, но в этот момент распахнулась противоположная дверь — из раскомандировочной.
— Здесь! — через плечо крикнул кому-то парень в брезенте. И, держа перед собой незажженную карбитку, словно освещая ею темноту, сказал: — Павел Васильевич, тебя там Шелгунова Маруська спрашивает.
— Чего ей?
— К работе не допускают, что ли… За опоздание.
Рогожев растерянно посмотрел на мыло и полотенце, на мгновение задумался.
— Скажи, пусть в раскомандировочной подождет. Я только сполоснусь да переоденусь. Моментом.
— Брр! Дохи надо было брать, а не полушубки!
— Ты и валенок брать не хотел.
В доме, на крыльце которого закуривали двое, погас свет. Наверху сразу же ярче вспыхнули, замигали голубыми и оранжевыми огнями звезды. Где-то в черных пристройках к дому жалобно заскулила собака.
— Просится! — усмехнулся мужчина в белом полушубке, поправляя за спиной ружье. — Чувствует, куда собрались. Имей совесть, Паша, возьми с собой человека!
Говоривший явно шутил. Не отвечая ему, Рогожев поднял воротник, пробурчав:
— Однако к рассвету жиманет!
И первым пошел с крыльца.
Приморозок оковал черные проплешины на скатах кюветов тускло поблескивающим ледком. Наверное, он был очень хрупким, этот родившийся из тепла обласканной солнцем земли ледок. Зато промерзнувший снег на огородах, куда свернули двое, не уступал в крепости граниту.
— Наст так паст! — сказал спутник Рогожева.
— Только сохатых гонять! — подхватил Павел.
— Бурмакин вон уже погонял. На свою голову.
Рогожев отшвырнул окурок, прочертивший в темноте огненную дугу.
— Он что, под следствием у тебя?
— Какое может быть следствие? Дело не возбуждали, обыкновенный гражданский иск за причиненный государству ущерб. Мера, так сказать, скорее административная. Тем более человека вытащил из тайги на себе. Если только прокурор не потребует привлечения как злостного браконьера…
— А следовало бы?
— Третий раз попадается. Рецидив.
— Хм!.. Я вот почему интересуюсь. Главный механик наш, Сударев такой, Филипп Филиппович…
— Он же москвич, кажется? Чего не уезжает?
— Женился, когда еще в ссылке был, взял вдову с дочкой. В позапрошлом году сам овдовел, а девочка школу нынче кончает. Как кончит — собираются уехать. — Рогожев, придерживая ружье, перелез через жердяную изгородь, подождал товарища. — Ну, в общем, Сударев вчера об этом Бурмакине разговор затеял. Понимаешь, Илья, какая тут чертовщина, получается…
За изгородью и кюветом убегала к вершине почти безлесой сопки широкая тракторная дорога. Впереди, ближе к небу, она казалась рекой — так отражало свет звезд ее обледенелое полотно. Рогожев на мгновение умолк, то ли подбирая нужные слова, то ли привыкая к необычности пейзажа.
— Какая чертовщина? — напомнил Илья Черниченко.
Рогожев уже шагал вперед, скорее размышляя вслух, чем говоря:
— Допустим, ты совершил преступление. Попался. А с тем, кто схватил тебя за руку, случилось несчастье, беда. Ты его из этой беды выручаешь и, конечно, надеешься, что он промолчит, покроет твое шкодничество. Вроде услуги за услугу.
— Чего-то ты загнул, Паша! — покачал головой Черниченко.
— Подожди! Я не о том, что это правильно, а что Бурмакин, наверное, так рассчитывал. Допускаешь?
— Допускаю.
— Но Канюков не промолчал, верно? Иначе говоря, с точки зрения Бурмакина, поступил подло. И тогда Бурмакин решает, что и он имеет право поступить подло. Тем более…
— Заткнись! — оборвал Черниченко. — Пришли.
Рогожев посмотрел на часы — стрелки, казавшиеся одной, упирались в узкий голубой треугольник напротив заводной головки.
— Самое время. Четвертый час.
Стараясь не громыхать литыми резиновыми сапогами по насту, двинулись в сторону от дороги. Редкие — оставленные во время рубки на семена — нагие лиственницы не заслоняли неба. Обтаявшие выворотни лезли из снега, как фантастические звери из берлог. Возле одного, обставленного валежником, Черниченко сказал:
— Твой.
Тогда Павел понял, что валежник не просто прислонен к выворотню, что это — специально построенное укрытие, шалаш. Скинув ружье и бережно прислонив его к валежнику, он полез внутрь шалаша. Согнувшись в три погибели, кое-как переобулся. Потом умостился поудобнее и, просунув руку между валежником, втянул ружье.
Курить было нельзя, оставалось только слушать тишину да вглядываться в густой сиреневый мрак, похожий на темную воду. Оттого казалось, что у лиственницы вдали, у ближнего выворотня и костлявого остожья размытые, зыблющиеся очертания. Как у предметов на речном дне.
Тьма была зыбкой и непостоянной. Тишина — тяжелой и незыблемой, как скала. И вдруг, расталкивая легкими крыльями эту незыблемую тишину, с черного неба на лиловый снег упал тетерев и, придавленный тишиной, расплющился, став черным пятном на снегу.
— Ччу-шшши!
И, подождав, снова: ччу-шшши! ччу-шшши! чу-шшши!
Рогожев застыл, придерживая дыхание. А черное пятно передвинулось вправо и с лопотом крыльев подскочило вверх.
— Ччу-шшши!
Потом покатилось обратно, влево, словно убегая от оглушительно забулькавшего, забурчавшего ручья, а журчание преследовало его, становясь все громче. Нет, это же не ручей и не река вдруг проснулись под снегом — это сам тетерев заиграл свадебную свою песню!
— Ччу-шшши! — ответили ему из-за выворотня.
— Ччу-шшши! — раздалось справа, со стороны остожья.
Три, подумал Рогожев, недоумевая, откуда взялись еще два тетерева. Повернув голову, он попытался разглядеть того, что чишикнул возле остожья, когда над шалашом опять прошумели крылья и четвертый тетерев побежал по насту. Павел поднял ружье, но в то же мгновение раздался выстрел Черниченко. Рогожев даже выругался про себя, завидуя расторопности товарища, но подлетевший последним тетерев, чей бег оборвал выстрел, неожиданно бормотнул и снова затих. Видимо, петух просто затаился, напуганный выстрелом. Рогожев поймал его на конец планки, вспыхнувшей голубым пламенем звездного отражения, и нажал спуск.
Звезды еще светили вовсю, но рассвет уже набирал силу. Поэтому оранжевый сноп огня, вылетев из ствола, не осветил, а только на мгновение расколол мрак. Птица, выцеленная Рогожевым, застыла на синеющем насте сгустком тьмы, не желающим уступать рассвету. Выжидая, пока напуганные выстрелами тетерева поверят в незлонамеренность тишины, боявшийся пошевелиться Рогожев чувствовал, как в левой, неловко подвернутой ноге останавливается кровь. Наконец за остожьем дважды урлыкнул один — самый храбрый. Тогда токовик — тот, что прилетел первым, — уже хорошо видимый на снегу, ставшем из синего голубым, ударил крыльями и чишикнул. Его поддержал тетерев за остожьем. Захлопали крылья, и еще один тетерев, прилетев из-за выворотня, опустился на снег неподалеку от токовика, пробежал немного и, прижимаясь к насту, вытянув раздутую шею, замер. Токовик остановился, тоже припал к насту — вот-вот кинется в драку. Не кинулся. Захлебываясь злостью, забормотал, журча и переливаясь бурным весенним ручьем. Неторопливо выделив его противника, Рогожев выстрелил.
На этот раз выстрел не породил тишины. Вдребезги разбитая крыльями, она, казалось, в разные стороны раскатывала свои осколки по звенящему насту. Это, как по команде, разлетались тетерева вслед за токовиком, сорвавшимся с места первым. Дуплет Черниченко потерялся в хлопанье крыльев и тревожном квохтанье тетерок, ничем не выдававших до этого своего присутствия на току.
— Лапоть ты, а не охотник! — гневно загромыхал Черниченко, подходя к шалашу Павла. — Кто же стреляет по тетереву, с которым другой нос к носу стоит, а? В таком случае нужно или обоих бить сразу, или ни одного.
— Другого нельзя было, токовик другой.
— Ну и что? Нашелся бы завтра тетерев первым прилететь.
— Ладно, — умиротворяюще сказал Рогожев. — Хватит с тебя и одного. Не жадничай.
— Почему одного? — удивился Черниченко. — Я двух добыл. Во, гляди!
Словно выжимая штангу, он поднял в каждой руке по тетереву. И, прикурив от зажженной приятелем спички, спросил:
— Ну что? Домой потопали?
— Придется. Мне, сам знаешь, на смену заступать.
Поселок лежал внизу, под ногами. В домах кое-где уже зажгли свет, а уличное освещение дежурный электрик не торопился выключать. Многосвечовые лампочки уличных фонарей казались стекляшками, отражающими чужой свет. В небе над хребтами, подступавшими к поселку с востока, разгоралось спокойное и ровное зарево — солнце должно было вот-вот выкатиться из-за сопок. В ожидании этого оба, не сговариваясь, замедлили шаг.
— Кажется, и денек же будет! — с сожалением — ему предстояло лезть в шахту — сказал Рогожев.
Черниченко согласно наклонил голову, не спуская глаз с седловины между сопками, откуда ожидал появления солнца. И дождался. Слепящий луч стегнул по глазам, заставив опустить их, ударился в край продавленной полозом тракторных саней колеи под ногами и рассыпался по насту многоцветными искрами.
— Ух ты! — вырвалось у Рогожева, он даже зажмурился на мгновение. Из-под ладони восторженно оглядел как-то сразу потеплевший мир, вдруг ставший живым и трепетным до самой крохотной ледяной звездочки и каждой хвоинки, впаянной в наст ночным приморозкой. Потом перевел взгляд на поселок внизу, сказал решительно:
— Ну, давай, давай. Двигай.
Некоторое время шли молча. Молчание нарушил Черниченко:
— Весна ведь, брат, весна! А?
— Весна! — радостно выдохнул Рогожев и неожиданно вспомнил:
— Так как же с этим парнем, с Бурмакиным?
Черниченко пожал плечом, отчего ружейный погон пополз вниз.
— Не понимаю, чего ты все-таки от меня хочешь? Я-то при чем?
— А я? — вопросом ответил Павел.
— По-моему, тоже ни при чем, — усмехнулся Черниченко. — Тень на плетень наводишь. Мало ли о чем думает Бурмакин?
— Пройти мимо?
— Мимо чего пройти или не пройти? Может, вся эта бурмакинская психология существует только в твоем воображении.
— А если не только в моем?
— Если бы да кабы…
— С тобой серьезно, Илья! Нельзя, чтобы парень озлоблялся. Канюкову, наверное, не шибко хотелось его прижимать, такое не легко дается. Со слезами.
— Слушай, я-то что могу сделать? Ведь у меня даже дела нет на него. Нет дела. Следственного.
— Я тебе не про следствие. Про то, что по-человечески поговорить надо, растолковать. И именно тебе, как следователю, чтобы Бурмакин не считал закон слепым!
— Антон Петрович? Антон Петрович, Черниченко беспокоит… Что?.. Да нет, не странно разговариваю, тут у меня дело такое… То есть дела у меня нет, а надо бы поговорить с одним человеком. Что? Нет, не показания. Что вы сказали? Нет, Антон Петрович, не путаюсь, а объяснять сложно по телефону. Зайти? Есть зайти!
Илья Черниченко положил трубку на рычаг и облегченно выдохнул застоявшийся в груди воздух. С шумом, как вынырнувший на поверхность пловец. Потом, запирая сейф, иронически усмехнулся своему отражению на его полированной дверце: втравил-таки Паша Рогожев в дурацкую историю с этим Бурмакиным! Втравил!
Впрочем, по совести говоря, не разговор с Рогожевым заставил обращаться к прокурору. Расставшись с приятелем, Черниченко считал, что вопрос исчерпан — дела на Бурмакина пока нет, а значит, и оснований для объяснений с ним тоже нету. И потом, мало ли что придумает Паша Рогожев. В этом отношении у Паши всегда было что-то вроде заскока. Но днем, рисуя в настольном календаре тетеревов, Черниченко мысленно вернулся к утреннему разговору. И задумался.
Допустим, Рогожев заинтересовался Бурмакиным из-за своей слабости к проблемам воспитания. Ну, это его дело. Но дело Ильи Черниченко бороться с преступностью, и если взглянуть на Пашины рассуждения с этих позиций, то… Иногда людей толкает на преступление черт те что, сущая ерунда. Разве можно поручиться, что этому самому Бурмакину не втемяшится в голову подкараулить Канюкова в тайге и шарахнуть картечью — мол, не отплатил за услугу, так получай! Канюков, как говорит Паша, может, действительно со слезами в сердце заставил себя сказать про лося. Потому что в таком случае не сказать легче, чем сказать. И пожалуй, действительно следует растолковать это Бурмакину, хотя бы в порядке профилактики преступлений…
Кабинет районного прокурора ютился под одной крышей с райисполкомом. Черниченко отдал ключи дежурному и, выйдя на крыльцо, закурил. День — как они и предполагали с Рогожевым на рассвете — выдался на славу. Сидя в помещении, можно было забыть об этом, на улице — нет. О весне названивали бегущие по водостокам тоненькие ручейки, час или полтора назад бывшие то ли льдом, то ли снегом. Веспа весело поскрипывала досками обтаявшего тротуара под шагами прохожих в распахнутых пальто. Скаты грузовиков с шелестом, похожим на шелест дождя, разбрызгивали жидкую кашу из воды и снега. Лохматые собаки всех мастей, а им в поселке числа не было, стаями ходили за притворно огрызающимися невестами. Шерсть на них висела неопрятными клочьями — собаки снимали жаркие зимние шубы.
— О чем задумался, эй? — окликнула Черниченко девушка с непокрытой головой, приветственно взмахнув платком, который предпочитала нести в руке. Ее подруга фыркнула, сказав что-то вполголоса.
Илья сбежал по ступенькам и, подлаживаясь к короткому, но быстрому шагу девушек, пошел рядом.
— Куда собрались? — спросил он.
— На Кудыкину гору.
Он усмехнулся:
— Значит, по дороге.
— Да не по пути, — рассмеялась простоволосая.
Перебрасываясь шутками, дошли вместе до райисполкома.
В вестибюле Черниченко бросил окурок в урну и, подойдя к двери с табличкой «Прокурор. Младший советник юстиции А. П. Блазнюк», осторожно постучал. Потом толкнул дверь.
— Здравия желаю, Антон Петрович!
Прокурор — плотный, начинающий расплываться мужчина — смотрел с откровенным недовольством. Его составленные вместе локти прижимали к полированной столешнице какие-то бумаги, словно младший советник юстиции боялся, что их унесет сквозняком. Но воздух в кабинете был душным и неподвижным — очевидно, форточку давно не открывали.
— Ну и ну! — сказал прокурор. — Ты еще вытянись да каблуками стукни! Точно не человек к человеку пришел, а этакий, ну, нижний чин, что ли. Черниченко беспокоит, здравия желаю, — передразнил он. И, убирая локти с бумаг, укоризненно покачал головой. — Слушать противно. Ясно?
— Ясно, Антон Петрович, — вздохнул Черниченко.
— То-то. Садись и выкладывай, что у тебя за вопросы ко мне?
Стараясь быть предельно немногословным, Черниченко изложил свои соображения. Заканчивая, спросил неуверенно:
— Может, Антон Петрович, вызвать Бурмакина? Втолковать?
Прокурор насмешливо прищурился:
— Значит, как бы чего не вышло? А?
Именно этого Черниченко и боялся.
Но, к его удивлению, прокурор продолжал другим тоном:
— Ну что ж… Вопрос ставишь правильно. Очень хорошо, если преступление удается раскрыть и преступник несет заслуженное наказание. Но еще лучше, если удается предупредить преступление. Не позволить человеку стать преступником, не допустить до этого. Именно этим и должна начинаться та благородная борьба за человека, вести которую мы призваны. Мы с тобой. И если нам выпадает случай принять меры именно в плане профилактики преступления — мы обязаны сделать все, что можно. Даже когда серьезность опасений хочется поставить под сомнение, как в данном случае.
— Значит, — обрадовался Черниченко, — стоит его вызвать?
— Почему нет? Тем более привлекать, наверное, будем. Хотя парень и выволок на себе Якова. Что он сам-то говорит, Канюков?
— Канюков в больнице, Антон Петрович. Но было его устное заявление дежурному, старшине Леменчуку. Ружье у Бурмакина изъяли, отдал без возражений…
— Ясно. Ну что ж… Иск там и нее прочее — дело райпо, охотинспекции. Там посмотрим. А парню разъяснить следует, ты прав. Вызывай. Действуй.
— Есть действовать! — сказал, поднимаясь, Черниченко.
Пелагея Бурмакина, обычно суетливая, излишне разговорчивая, на этот раз смирнехонько уселась на табуретку и тяжело завздыхала. Соседей Пелагея навещала частенько, приход гостьи удивления не вызвал, но столь необычное поведение ее насторожило Заеланных.
— Ты что вроде как не в себе сегодня, соседка? — откровенно полюбопытствовала хозяйка.
Александр Егорович, ковырявший шилом кирзовый сапог, выжидательно поднял на лоб очки.
— Лучше и не спрашивай, Матвеевна! — Бурмакина сокрушенно покачала головой. — Мало что не в себе. Рука на себя наложить в пору.
— Что так страшно? — спросил Александр Егорович.
— Сроду никого из родни по милициям да судам не таскали, — сказала Пелагея и всхлипнула. — Из-за родимого сыночка срам теперь принимать должна. Опять к следователю вызывают.
— А тебя зачем?
— Не меня. Вальку. Повестку принесла почтарка. Ты не слыхал, за что?
— Сам разве не говорит?
— Спрашивала. Сказал: отвяжись.
— Да-а… — неопределенно протянул Засланный и, опустив очки, снова принялся за сапог. — Толком ничего не слыхал, Васильевна, врать не стану. А был в конюховской разговор, быдто не то Яшку Канюкова сохатый покалечил, не то еще что. А Валька, значит, в поселок его доставил, Яшку-то. Ежихин Алексей брехал, который у Канюкова скот бьет завсегда на бойне. А Канюков сам в больнице.
— Страх меня берет, — сказала Пелагея, мелко и часто моргая покрасневшими веками, — неужто это Валька его, Канюкова? Злой он на него.
— Пронеси господи! — испуганно перекрестилась хозяйка.
Александр Егорович обрезал лишнюю дратву и, обстукивая ручкой шила пристроченную заплату, недовольно буркнул:
— Выдумаете тоже! В таком разе его не повесткой бы вытребовали. Передачи бы носила уже.
— Слова не добьешься, точно я ему враг какой! — пожаловалась Пелагея.
Отремонтированный сапог полетел через всю комнату к порогу. Воткнув в стену шило, Заеланный повесил на него остаток дратвы и встал.
— Видать, мне с ним надо разговоры поразговаривать.
— Лучше бы не встревал, — забеспокоилась Матвеевна. — Пошлет он тебя по-матерному, и разговор весь.
Старик расправил ладонью усы и пошел к вешалке. Рука, не угадывая в рукав полушубка, долго блуждала в дремучей овечьей шерсти.
Сказал с порога:
— Матерки — они, мать, не липнут.
Расстегнув полушубок, Александр Егорович постоял за калиткой, приучая глаза к потемкам, слушая обычный перебрех собак. Вечерняя прохлада, только-только начавшая оборачиваться ночным морозом, приятно бодрила. Потом он решительно толкнул скрипучие воротца соседей. В сенях не сразу нащупал обитую кошмой дверь. Вошел без стука, по-хозяйски.
— Ты, мать? — спросил из-за перегородки Валька.
Александр Егорович не спеша вылез из полушубка, повесил его на гвоздь и только тогда ответил:
— Мать твоя не в дом, а из дому. Довел.
— А-а, дядя Саша. Значит, жаловаться приходила старуха?
— Не жаловаться. Горе свое принесла.
Валька промолчал. Зажав в коленях ствол старой ижевской одностволки, шуровал шомполом. На полу — там, куда упирался конец ствола, — расплывалось пятно рыжего от ржавчины масла.
— Это на кого оружию-то готовишь?
— Кто попадет.
— Хм… За гусями быдто бы рановато собираться. Соболь с белкой линяют. Кто тебе попадет? Сохатый? Вроде обжигался уже ты…
— На ошибках учимся, дядя Саша! — сказал Валька и как-то залихватски-отчаянно подмигнул.
— Научился уже чему?
— Ага. Научили.
— Значит, теперь посмирней будешь?
— Умней буду наверняка, дядя Саша.
Старик, в ниточку сложив губы, закивал с явно двусмысленным, одобрением:
— И то дело, и то дело… — Неожиданно он подался вперед, гневно и вместе смешно шевеля усами, сорвался на крик: — Срамец ты! Последний ты человек! Нелюдь. Матка тебя без отца выходила, думала в люди вывести, а ты? Затюремщиком стать хочешь. Чего язык-то под хвост спрятал?
— Нечего мне отвечать, дядя Саша, — насильно, одними губами усмехнулся Валька:
— То-то, что нечего. К следователю тебя за что завтра?
Снова парень не то усмехнулся, не то болезненно сморщился:
— Говорят, лося опять убил. Разве не слышал?
— Говорят! — передразнил Заеланный. — Зря, Валя, не скажут.
Валька смотрел в сторону. Старик подождал, пытливо следя за ним из-под лохматых бровищ, и вдруг как-то обмяк, сжался:
— Эх, Валька, Валька! Глупая твоя голова, сынок! Бросил бы ты охотничать, вот что. Такое это дело, соблазн. Встретил в тайге зверя, не удержишься, трахнешь…
— А если я не трахал его? — недобро щурясь, перебил Валька.
— Это как то есть? — опешил Александр Егорович.
— А так… — Валька отвел глаза, безразлично махнул рукой. — Ладно, лишние разговоры это.
— Пошто лишние?
— Сам ведь говоришь, что зря не скажут.
— Это, брат, присловица есть такая.
— Черт с ней, — опять отмахнулся парень. — Все равно не докажешь правды.
Александр Егорович засопел, полез за кисетом. Скручивая козью ножку, заговорил, не глядя на собеседника:
— А я думаю — было бы что доказывать.
— Нечего мне доказывать, — сказал Валька и тоже закурил, стал жадно затягиваться. — Свидетелей нет. Ну, кто поверит?
— Может, путем расскажешь, чему верить надо?
— Бесполезно.
— Ну что ж, дело твое. К следователю, значит, пойдешь завтра?
Валька отрицательно помотал головой.
— Нет. Не пойду. Пусть пишет что хочет.
— Матку бы поберег, па-арень! — укоризненно протянул Александр Егорович. — Сходить надо, раз вызывают. Хуже, когда на машине за тобой приедут. Вовсе матка с ума сойдет.
— Ладно. Схожу, — подумав, сказал Валька.
— Так-то лучше. И мать успокой. Обскажи ей в чем дело, а то она невесть что думает.
— Нельзя ей рассказывать, — вздохнул Валька. — Она тогда такое устроит… Запросто под суд сама угадает!
— Да-а!.. Все могет быть, — пробормотал Александр Егорович. — Однако, парень, домой мне пора. Пойду.
И, уже надевая полушубок, повторил:
— Все могет быть…
Женщины встретили его тревожным, напряженным молчанием. Первой не выдержала Пелагея Бурмакина:
— Сказал что? Ай нет?
— Все могет быть, — ответил старик все той же вертевшейся на языке фразой и, словно просыпаясь, растерянно заморгал: — Тьфу! Сказал, что быдто бы сохатого опять. Да.
— Батюшки-светы! Полтыщи! Да пропади они пропадом, эти сохатые! Чтоб их и не было никогда, — запричитала Матвеевна.
— А Канюкова? Не он зашиб, нет? — робко спросила Пелагея.
— Об Канюкове не было разговора. Нужон ему Канюков…
— Слава царю небесному! Камень с сердца!
Под усами у Александра Егоровича мелькнула улыбка, хотя глаза продолжали смотреть сурово.
— Шла бы ты домой, царь небесный. Забыть уж про него пора, про царя. Лба ведь, поди, разу не перекрестила в жизни?
— Какое, Александр Егорыч! Не вспомню, какой рукой и креститься надо. Только что слово одно осталось, навроде поговорки.
— Вот и наказывает бог, — наставительно объяснила старуха Заеланная, не забывая боязливо оглянуться на мужа. К счастью, он не услышал. А Пелагея, безразлично махнув рукой, — не все ли равно, кто наказывает? — спросила хозяина:
— Меня не поминал Валька?
— Как не поминать? Думаешь, у твоего пария насчет материнства понятия нету? Есть, не бойся! — внушительно сказал Александр Егорович.
Проводив соседку, Матвеевна долго поправляла сбитые половики, потом без толку переставляла на столе с места на место грязную чайную посуду, исподтишка сердито поглядывая на мужа. И наконец отважилась:
— Креста-то, знать, тебе не хватает. У человека горе, а он из избы гонит. Больно помешала она тебе?
Он, разглаживая топорщившиеся усы, не сразу услышал. Потом поднял голову и по-ежиному фышкнул носом.
— Креста, жена, точно на мне нету. Зуб вставил из материнского благословения. Эвон, погляди! — раскрыв рот, старик сунул туда прокуренный палец. — Видала? А что касаемо Пелагеи, так лучше ей при сыне находиться. Я думаю, Валька оттого лютует, что душа у него не на месте. Ты скажи, отчего он тростил, что правды не доказать?
— А я почем знаю?
— Вот и я не знаю. А из него нужного слова не вытянешь. Характер!
Александр Егорович закурил и, выдохнув дым, вернулся к своим мыслям. Но размышлять стал вслух:
— Я думаю, время сейчас какое? Прежде, бывало, о сю пору и я в тайгу подавался. Мясо в руки само просилось. А охотники до него и доси не перевелись…
— Вот он и поохотничал. Опять на полтыщи.
— Нет, ты подожди, мать. Ежели, скажем, кто-нибудь сохатого добыл, а Валька на убоину наткнулся? Могет такое быть?
— Поди-ко Валька сам дал бы маху!
— В чем и дело! Вот тебе сохатый, вот тебе Валька Бурмакин. Чего искать больше. А тут еще Канюков Яков Иваныч. Помнишь, что ему Валька на суде выкладывал?
— Так нешто Валька напраслину даст на себя возвести? С его-то языком да характером? Подумай своей головой!
Это был аргумент. Александр Егорович надолго примолк — сидел, двигая время от времени бровями. Матвеевна перемыла и убрала со стола посуду, разобрала постели. А старик все молчал, перебирая в памяти разговор с парнем, оценивая и переоценивая его. И вдруг, решительно махнув рукой в сторону жены, словно та была надоедливо жужжащей мухой, решил:
— Могет дать!
Он ждал возражений или вопроса — повода для развития доказательств своего утверждения. Но теперь молчала жена, занявшаяся пришиванием пуговиц к наволочке. Александр Егорович обиженно засопел, бросив на нее косой взгляд. Когда это не помогло, он повторил уже не столь безапелляционно:
— Могет, говорю, слышишь? — и, помедлив, стал объяснять: — Вот из-за характера-то и могет! Потому как гордый он шибко. А свидетелей, сам говорит, нету. И он в этом деле не впервой замеченный. Смекаешь?
— Спать укладывайся, довольно тебе лопотать.
Старик будто не слышал.
— В ту весну, однако, когда брату Онисиму помереть, у меня как получилось? Вышел в Кедровую рассоху, а там лабас на двух лесинах излажен. Дровы понатасканы, возле кострища лапник настелен. Время ночлег строить, чего сыщешь лучше? Я лыжи долой, к лабасу сунулся — мясо. Вовсе ладно выходит! Отрезал от шеины на варево — шеина аккурат сверху лежала, — наварил, наелся да лёг спать. Утром собаки будят — и свои и чужие. Опосля охотник подходит, Вася Савельев с Перегонного, знакомый. Глянул на лабас, интересуется: добыл, мол, Александр Егорыч? Скольких? А я не боле его знаю. Мои, говорю, еще на своих ногах ходят, только добывать иду… — Старик значительно посмотрел на жену, усмехнулся. — Ладно, тогда время нестрогое насчет зверя было. А ежели бы, к примеру, теперь? Да увидал меня у того лабаса Канюков Яков Иваныч, прежний большой начальник? Куда бы я делся, хотя и за чужой грех?
— До утра станешь лопотать или спать лягешь? Завтра не воскресенье, поди. На работу вставать! — напомнила Матвеевна.
Проняло. Александр Егорович повернулся прочь от стола вместе со стулом и принялся стягивать сапог. Тот сначала не поддавался, а потом вдруг снялся легко и неожиданно. Потеряв равновесие, старик ухватился за спинку стула. Стряхивая с ноги портянку, сказал:
— Однако к следователю завтра схожу. Ильюха Черниченкин теперь следователем, который на выборах агитатором всегда. Узнаю, что ему Валька говорить будет. Какие такие оправдания…
— Тьфу! — не выдержала Матвеевна, гася свет.
В темноте ойкнула и заскрипела ее кровать, потом все смолкло. Александр Егорович разулся, натыкаясь на стулья, прошел к плите — повесить портянки. Хотел было закурить еще раз, на сон грядущий, но не осмелился шарить в потемках, искать спички — уронишь, не дай бог, что-нибудь, тогда старуха покажет!
К следователю Александр Егорович попасть не смог. Не только к следователю — на работу Матвеевна не пустила. То ли оттого, что постоял вечером на дворе в распахнутом полушубке, без шапки, то ли по какой другой причине, но утром старик почувствовал себя вовсе больным. Голова казалась огромной и страшно тяжелой, подушка засасывала ее, как болото засасывает камень, брошенный на зыбкую торфяную сплавину. От подушки нестерпимо несло жаром.
Ахая и причитая, Матвеевна суетилась у плиты — заваривала простудный чай. Врачевание было давнишним ее пристрастием, запасы целебных корешков и трав пополнялись из года в год. Теперь они пошли в дело. Резко пахло душицей, пряный аромат ее забивал запахи других трав.
— Росянки совсем ничего осталось, — качала растрепанной после сна головой Матвеевна. — Да и череды тоже.
— В баню бы, — мечтательно и робко произнес Александр Егорович. — Попариться. И двести грамм после. Как рукой сымет.
— Кабы в ограде баня была, — посетовала жена. — А в баню да из бани полверсты ходить — пуще застудишься. Весной погода обманчивая, теплу нельзя верить.
— И то. Придется тогда без бани… двести-то грамм. С малиной или перцем, что ли… — совсем замогильным голосом прошептал старик.
Увы, Матвеевну не так-то легко было разжалобить, если речь заходила про двести граммов.
— Малина тебе в чаю будет, — заявила она. — А перцем только горло сожгешь без толку. Лежи уж, нечего выдумывать.
— Ох-х! — вздохнул Александр Егорович и, заскрипев кроватью, отвернулся к стене. На ней, меж выгоревшими цветами обоев, зайчиками мельтешил солнечный свет, отраженный ведром воды. Матвеевна только что лазала в ведро ковшом, оттого вода колыхалась и зайчики на обоях были такими веселыми.
— Худо! — пожаловался старик.
Как будто прислушиваясь, зайчики перестали прыгать, только мелко-мелко дрожали. Точно им было очень смешно, а вслух смеяться нельзя.
— Напою чаем, так за докторицей сбегаю, — пообещала Матвеевна. — Потерпи.
Александра Егоровича это мало утешило.
— За докторицей! Скажи: за Клавкой Миняевой. Какая из нее докторица, ежели позавчера волоком куклу за собой по грязе таскала?
— Хватился! Позавчерась! У ней живой кукле третий годок пошел. Пять зим, поди, в институте училась. Недаром.
Видимо, Александр Егорович в самом деле чувствовал себя из рук вон плохо, иначе спросил бы, к чему относится «недаром». К тому, что у Клавки после пятилетней учебы появилась живая кукла? Но старик только про себя усмехнулся смешной фразе жены. А вслух сказал:
— Шут с ней, зови Клавку. Больничный листок составлять надо.
Целебный чай он выпил покорно, хотя и морщился. Отодвинув кружку, попросил закурить, но табачный дым оказался противным на вкус, затхлым, словно курил не махорку, а прелое прошлогоднее сено. Тогда, уронив папиросу, Александр Егорович напомнил жене:
— Мать! По Клавку-то ступай, что ли…
Когда она вышла, закрыл глаза. В красной темноте заплавали белые пятна, точь-в-точь как пузыри на кипящей воде. Беспорядочное движение их раздражало, смотреть на стену или потолок было куда спокойнее. Выбеленный потолок напоминал снежную равнину. Тоже выбеленный электрический провод перерезал ее, как перерезает лыжня закутанную в снега безлесую гарь, если смотреть на гарь с высокого хребта. Такая же лыжня оставалась за Валькой Бурмакиным, наверное. Разве что менее ровная, потому что приходится кривулять, обходя выворотни и завалы валежника. Да это же и есть Валькина лыжня! Но ведь сохатые на такой чистой гари жировать не станут, им нужны тальники или осинники. Значит, Валька не мог убить зверя. Как убьешь, если его нет? И — не было! Иначе снег был бы истоптан, а сохатиную сакму видать издали, как лыжню. Так зачем про Вальку говорят, будто убил? Зачем говорить зря? Вот можно же доказать! Смотрите!
Александр Егорович облизнул спекшиеся губы, чтобы произнести вслух это «смотрите!», но опомнился. И вместо «смотрите» сказал:
— Ну и ну..
Огляделся, как оглядываются внезапно пробудившиеся люди, в то же время понимая, что не спал. Все было на своих местах, все как всегда. Стена как стена, только зайчики переместились левее, оттого что солнце поднялось выше. Чего ему вдруг примерещилась гарь?.. Ах да, Валька, Бурмакин!
Вспомнив Вальку, Александр Егорович вспомнил о намерении поговорить о нем со следователем Ильюхой Черниченко.
Усилием воли Александр Егорович заставил себя видеть, в потолке только потолок. На потолке никаких доказательств Валькиной невиновности нету, если даже Валька и не виноват. А виноват он или не виноват все же? Вот если бы не на потолке увидать Валькину лыжню — в тайге! И пройти по ней! Надо будет следователя Ильюху направить, чтобы непременно прошел, у него ноги молодые, к девкам через ограды что твой ушкан сигал. И ежели Ильюха увидит, что Валькина лыжня ведет к лабасу в Кедровой рассохе, сомневаться нечего: его работа, он мясо добывал, так прямо и надо сказать Ваське Савельеву с Перегонного…
Это опять был бред. Или сон. Давным-давно обрушился и сгнил неизвестно чей лабас в Кедровой рассохе, на который набрел когда-то охотник Александр Заеланный. Давно истлели в германской земле кости Василия Савельева, забыла думать о нем вдова. Эх, коротка бабья память, коротка! Но ведь и он, старый черт, забыл, о чем только что думал… Нет, не забыл! Он думал о том, какие доказательства получил бы следователь, пройдя по тайге Валькиным следом. Никаких бы он не получил доказательств, этот шалопутный Ильюшка, которого, бывало, тумаками учили поселковые ребята не липнуть к чужим зазнобам. Правда, тогда он не ходил еще в следователях, работал электромонтером, а потом ездил в область, учился где-то. А разве выучишься в городе понимать, что писано на снегу в тайге? Вот если бы Александр Егорович Заеланный стариной тряхнул, встав на лыжи, — тогда дело другое. Но Александр Егорович уже не ходок по тайге. Нет, не ходок! Эх-х!..
В сенях брякнуло железо — наверное, щеколда наружной двери. Потом растворилась дверь в кухню, невидимая за перегородкой. По долгому вытиранию ног о половик Александр Егорович догадался, что вернулась жена.
— Была в больнице? — спросил он.
— За тем и ходила. Не стало полегче-то тебе? — стоя в проеме перегородки, Матвеевна распутывала платок. — Все так же, поди?
— Так же.
— Клавдия по вызову убежала куда-то. Как явится, скажут ей. Ты, может, хоть молока кислого попьешь?
— Не…
Вздыхая, Матвеевна поправила ему подушку, подобрала и вынесла в кухню — бросить в помойное ведро — козью ножку.
— Лыжи у меня где? На вышке? — внезапно спросил он.
— А я знаю? Валялись где-то, если мыши камасьев не съели. Зачем лыжи вдруг занадобились?
— Так… вспомнил.
— Об лыжах только и думать тебе! Ну-кось, голову-то приподними хоть маленько!
Поверх застиранной цветастой наволочки она старалась напялить на подушку еще одну, только что вынутую из ящика комода, ослепительно чистую. Покончив с этим необходимым ввиду визита врача делом, вспомнила:
— Регистраторша пытала, какая у тебя температура. Говорит, в каждой семье градусник быть должен…
— Ох-х! — вырвалось у Александра Егоровича. — Помолчала бы ты, мать, а?
Матвеевна, обиженно поджав губы, ушла на кухню. Но через минуту или две больной сам окликнул ее:
— Мать!
— Чего?
— Бродни у меня, однако, ссохнувши. Не надеть будет. Ты бы их того, деготьком помазала.
— Лежи знай, все одно некуда тебе в броднях.
Он неопределенно хмыкнул, долго что-то обдумывая. Потом сказал:
— Мозоль у меня. Намял задником, твердые они у сапогов.
— В катанках ещё ходить можно.
— В катанках у нас на конном дворе нельзя. Мокро.
— Тьфу! — рассердилась Матвеевна. — Привяз со своими броднями что банный лист! Молоко пропущу — намажу, коли найду деготь.
Александр Егорович успокоенно смежил веки и обрадовался, что тьма уже не пучится огненными пузырями, а походит на обыкновенный ночной мрак. Потом она, и без того не имеющая границ, стала расплываться, пухнуть, как пухнет в квашне тесто. Он стремглав полетел куда-то в бесконечность, и тьма пела, расступаясь перед ним… Так поет воздух в распущенных перьях «небесного барашка» — бекаса, когда тот пикирует из-под облаков. Или, может быть, это жужжал сепаратор на кухне?..
Разбудил его приход врача — той самой Клавки Миняевой, что таскала за собой волоком куклу. Пока молодая женщина мыла под рукомойником руки, Матвеевна подтыкала выбившуюся из-под одеяла простыню.
— На что жалуетесь, больной? — строго спросила врач, вытягивая из кармана белого халата резиновую змею стетоскопа. — Как температурка? Меряли?
— Градусник разбитый у нас, — вместо Александра Егоровича ответила его супруга извиняющимся тоном.
Врач понимающе кивнула. Стукнув кулачком с зажатым в нем термометром о другой кулачок, чтобы стряхнуть ртуть, сама откинула край одеяла, которым до самого подбородка был укутан Александр Егорович.
— Давайте посмотрим температуру, больной.
— Валяй, покорно согласился старик.
Он с грустью думал о том, что знает по именам чуть не половину людей в поселке, помнит их еще босоногими и мокроносыми, а они не замечали его и не знают. Им неинтересно было к нему присматриваться, запоминать. Редко кто из них — молодежи — именовал по имени-отчеству или дядей Сашей, а чаще безлико: отец, дед. А эта вот зовет просто «больной», хотя родитель ее уважительно здоровается первым, называя, как положено, Александром Егоровичем.
— Ничего страшного, — заявила врач, глянув на термометр.
Потом заставила сесть, снять рубашку. Долго выслушивала, заставляла ежиться от прикосновения холодного стетоскопа. Наконец, сказав «можете одеваться», повернулась к Матвеевне.
— Бабушка, я выпишу рецепт, будете давать больному по три таблетки в день. Ну, и постельный режим, безусловно. Придется полежать, больной.
— Мне бы, Клавдия… — Александр Егорович запнулся, то ли вспоминая отчество, то ли раздумывая, заслуживает или не заслуживает Клавка Миняева величания по отчеству. — Мне, Клавдия Андреевна, завтра край на ногах стоять надо. Ты уж, Клавдия Андреевна, поспособствуй.
— Об этом не может быть и речи, дедушка! Покой и только покой! Ничего страшного нет, обыкновенный приступ малярии. — комарик в прошлом году укусил, но вставать категорически запрещаю. Послезавтра я забегу.
— Забегай, — безразлично согласился старик, словно делал одолжение Клавке, словно та в гости напрашивалась. — Могешь забежать, если тебе нужно. Не препятствую.
— Поправляйтесь, больной! — по-казенному пожелала врач, направляясь к вешалке.
Когда провожавшая ее до калитки Матвеевна возвратилась, муж сидел, спустив на пол ноги в теплых кальсонах.
— Обыкновенная лихоманка, — назидательно сказал он. — Приступ!
— Лежи уж! — отмахнулась Матвеевна. — Я тебе лучше ведро подам.
Александр Егорович попытался сложить губы в презрительную ухмылку:
— Ведро! Туда, мать, я на своих ногах доберусь, если спонадобится. А пока незачем мне туда. Ясно?
— Тогда ляжь как полагается, погоди, наволоку только сыму.
Вытряхнув подушку из парадного одеяния, Матвеевна аккуратно сложила наволочку. Убирая в комод, сдула прилипшую пушинку.
— Шибко тепло на дворе, мать? — спросил вдруг Александр Егорович, по привычке протягивая руку за кисетом, выпавшим из-под подушки во время возни с наволочкой.
— И не скажу даже. Вроде бы потеплее вчерашнего.
Он рассеянно повертел кисет, будто не знал, что с ним делать, и снова затолкал под подушку. Сокрушенно покачав головой, буркнул:
— Худо это, однако!
И, сбрасывая одеяло, встал.
Широко расставив жилистые босые ноги, придерживаясь за спинку кровати, Александр Егорович молча смотрел через окно на голый скат драночной крыши соседского дома, на единственное деревцо возле него. Жалкая, тоненькая черемушка казалась черной, забитой копотью трещиной не то на стекле, не то на самом небе.
— Лександра!
— Ну-у?
— Докторица тебе чего велела?
Подгибая в Коленях ноги и опираясь в то же время о них ладонями, словно не хотел, чтобы сгибались, он опустился на край постели. Оторвав ладони от колен, раскачиваясь, погладил тощие бедра и сказал:
— Мало что велела. Лыжня — она, мать, от тепла могет затаять. Черта тогда разберешь. Вот оно дело-то какое…
Точки зрения
Перед ним, волоча за собой две порожние нарты, шел Алексей Ежихин. Длинноствольная, с выгравированными на казенниках царскими медалями, «тулка» на великаньей его спине казалась хрупкой игрушкой. Лыжи — чуть не по две четверти шириной! — умотали бы другого ходока на первом же километре. А Ежихин передвигал их с такой легкостью, будто совсем ничего не весили. Начал от самого поселка вымахивать саженным шагом и разу не приостановился бы, наверное, не окликай его время от времени Александр Егорович:
— Эк тебя разнесло, лешака длинноногого! Запалишься!
Или:
— Тпррру, дьявол! Нуздать тебя надо, что ли?
Насмешливо прижмурив один глаз, Ежихин ждал старика. Когда тот догонял, в свою очередь шутил, тоже на «конный» лад:
— Чего спотыкаешься? Глянь, может, снег под копыта набился, так я обушком выколочу!
А то спрашивал добродушно, с ухмылкой:
— Тебе старой, овса не задавали, видать, сегодня?
Черниченко предпочитал двигаться стороной, не по лыжне, промятой три дня назад Валькой Бурмакиным, тащившим за собой нарту с Канюковым. Пока на лыжне различались четкие следы нарты, она не представляла особого интереса, не могла ничего объяснить. И Черниченко то и дело отворачивал на шум крыльев или тоненький свист рябчика, томимого любовью, либо ударялся в распутывание глухариного «чертежа» на снегу.
Говоря начистоту, следователь не шибко интересовался бурмакинской лыжней. С самого начала он не очень-то верил в эту затею — будто осмотр места происшествия сможет объяснить что-нибудь, когда такая теплынь стояла все время. Это все старик Заеланный. Не побоялся дорогой в труху рассыпаться, черт старый! Мол, следы по ельникам да по пихтачам не успели затаить, за мясом все равно кому-то идти надо! Разных историй нарассказывал — какие с ним в молодости путаные случаи происходили на охоте. В общем, уговорил, а вернее — соблазнил тайгой.
Черниченко вытряхнул набившийся в патронташ снег. Сложив губы трубочкой, дохнул — возьмется или не возьмется дыхание паром? Не взялось. И следователь, восторженно прищелкнув языком, объявил:
— Честное слово, весна!
— Апрель, — равнодушно согласился немногословный Ежихин.
Не снимая лыж, Черниченко присел рядом с ним на нарту. Вынув из помятой пачки «беломорину», потянулся было прикурить. Не прикурив, завистливо посмотрел на пухлую самокрутку соседа:
— Махнем?
— Не, — сказал Ежихин. — От них кашель. Скрути, табаку хватит.
Он протянул залоснившийся кожаный кисет, сложенный аккуратной гармошкой кусок газеты. Следователь довольно неловко свернул себе папиросу. Затянулся, блаженно сощуривая глаза.
— Вещь! Жалко, ни дома, ни на работе нельзя курить.
— Табак воньковатый, это точно, — поддакнул Александр Егорович. — Зато в тайге летом без него — никак! Мошка заест начисто.
— Дегтем намажешься — не заест, — сказал Ежихин.
— Конечно, можно и дегтем. Отчего нельзя? Только зверь тогда, скажем, до себя уже не допустит. И пытать нечего.
— Зверя собаки постановят, Егорыч!
— Какие собаки и какого зверя опять же. Другой, если человечьего запаху хватил, на гачах собак утащит.
— Бывает и так, — солидно подтвердил Черниченко, хотя у него не бывало ни так, ни этак. — А я сейчас двух глухарей согнал.
— И близко пустили?
— Нет, далеко за выстрелом снялись. И тот, и другой. Вот рябчик в ключе из-под самых ног вылетел, даже напугал. И сел рядом совсем, хоть палкой кидай.
— А чего не стрелил? — спросил Ежихин.
Черниченко пожал плечами. Он и сам не знал, почему даже в голову не пришло снять ружье, Стоял и смотрел, как в кино. Наверное, потому, что с осени не видал рябчиков.
Но Александр Егорович по-своему понял молчание следователя.
— Чудной ты, парень, однако! Птицу берегешь, а людей в тюрьму садишь?
— Птицу я не берегу, дед. Позавчера на току трех польников загрохал! — Черниченко даже не заметил, что одного тетерева присчитал лишку. — А людей… я же их сам в тюрьму не сажаю. Это не моя забота.
В самом деле, разве он сажает людей в тюрьму? Нет, он, так сказать, ни при чем, хотя… Заканчивал дела, передавал в суд и как-то особенно не задумывался, что дальше действительно начиналась иной раз тюрьма. Для тех, кто ее заслужил, конечно.
— А ты что, Александр Егорович, против тюрьмы возражаешь? Принципиально?
Старик притушил козью ножку о полоз нарты.
— Характером твоим интересуюсь. У другого петуху голову отрубить руки не поднимаются, а к людям — равнодушный. Рябок нам на похлебку сгодился бы, зря не стрелил.
— Ого, старина! Ты у нас, оказывается, философ! — Черниченко снисходительно заулыбался. — Ладно, пошли, что ли?
— Надо бы, — легко поднял свое массивное тело Ежихин. — Еще шагать да шагать, может, и не дойдей сегодня.
— Дойдем, — сказал Черниченко. — Я у Бурмакина спрашивал. Он утром вышел, ночью уже в поселке был. Так ему же нарту с каким грузом переть пришлось, а мы налегке!
— Зато у нас ходоки — не сравнишь с Валькой! — поморщился Ежихин.
Александр Егорович сплюнул под ноги себе, ладонью обтер усы.
— Трогай знай, от тебя нешибко отстану, — он повернулся к следователю. — Ты, парень, про место не спрашивал у Вальки? Чтобы точно?
— Не спрашивал, — сказал Черниченко и невесело усмехнулся воспоминанию: черта с два расспросишь в подробностях этого проклятого Вальку!
Явился, молча положил на стол повестку. Даже «здорово» не сказал, хотя в клубе на танцах не один раз встречались. На вопрос, догадывается ли, зачем вызвали, ответил, что знает. Незачем, мол, и вызывать было: ружье в милицию отдал сразу, полтыщи или сколько там надо — заплатит. «Все равно заставите», — сказал. А на Канюкова, дескать, не обижается, наоборот. Полтыщи не разорят, зато жить научили крепенько, спасибо за науку Канюкову! И — аж губы дергаются от злости.
Тогда, как договаривались с Рогожевым, он попытался объяснить парню, что Канюков по долгу службы не мог поступить иначе. И тут… тут Валька брякнул такое…
Он отпустил Вальку и стал раздумывать: свой же парень, недавно из армии. Правда, из комсомола в прошлом году исключили, так тоже за лося, не из-за чего-нибудь… Но и без причины подобные слова вырваться не могли, тем более — в кабинете у следователя.
Пожалуй, очень и очень кстати пришел старик Заеланный со своими историями да примерами. Напрасное обвинение, вот что могло взбесить парня. Если Канюков не захотел разобраться, не поверил какой-то Валькиной правде — парень вгорячах что угодно сказать мог. Так как Бурмакин не пожелал разговаривать откровенно, следовало пойти в больницу и расспросить Якова Ивановича. Но Заеланный сманил в тайгу: погода-де теплая, следы могут затаять, нельзя терять время.
— Александр Егорыч, а Александр Егорыч! — окликнул старика Черниченко.
Тот остановился.
— Я думаю, Александр Егорыч, если лось успел звездануть Канюкова копытом, тогда что получается? Тогда, выходит, твоя версия несостоятельна!
— Ты про что это?
— Ну, про предположение, будто Канюков мог повстречаться с Бурмакиным у лося, убитого неизвестными охотниками.
— Я тебе не про Бурмакина, а про себя говорил. Ты не путай.
— Да я же не о том, старина! Ты послушай: ведь если Канюков подскочил к лосю, когда тот еще дрыгал ногами, — значит, стрелявший не мог быть далеко. А если Канюков видел одного Бурмакина…
— Погоди, — оборвал следователя Александр Егорович. — Погоди, покуда не дойдем до места. Там след сам покажет. Зверь, парень, ранетый мог свободно откудова хочешь прийти. И на том месте, где Валька его нашел, помирать лёг.
— Сомнительно, — покачал головой Червиченко, ловя одновременно себя на том, что радуется доводам старика. Тому, что остается надежда на ошибку Канюкова, оправдывающую в какой-то мере безобразные Валькины слова.
Оставив спутников двигаться по лыжне, некруто сбегавшей в разложину, он свернул вправо. Заметив по солнцу направление, высмотрел внизу островок пихтача и, пригнувшись, понесся к нему, дав полную волю лыжам. Больше он не думал ни о Канюкове, ни о Бурмакине — только о том, чтобы не врезаться с маху в лесину. Не врезался, но, уже притормаживая внизу, схватил в объятья подвернувшуюся на пути сосенку, прижался щекой к шершавой, нагретой солнцем коре. Переводя дух, оглянулся на прорезанный лыжами след. Глубокая тень вытянулась по одному его краю, словно уронил кто-то наверху каплю лиловых чернил, а она сумела скатиться к самому подножию сопки.
Расставшись с сосенкой, Черниченко достал завернутый в бланк опросного листа манок на рябчика. Размотав нитку, повесил на шею. Потом заглянул в стволы ружья — не набился ли туда снег? Сейчас он попробует «стрелять рябка» старику, так и быть.
Но рябчики почему-то не хотели подлетать. Черниченко манил разными голосами — и петушком, и самочкой. Безрезультатно! Разок отозвался один где-то далеко-далеко, и все. Следователь перекинул ружье с плеча за спину и двинулся к следующему пихтовому островку. Сделал какой-то десяток шагов, и вдруг — фрр-рр-р — чуть не рядом вылетела из-под снега парочка и тут же, на глазах, потерялась в седой пихте на краю острова; словно шапки-невидимки надели!
На всякий случай Черниченко посвистал в манок, хотя знал, что вблизи рябчик отлично улавливает фальшь. Ответа, конечно, не последовало.
— Черти полосатые! — выругал он птиц и усмехнулся: «черти»-то ведь не полосатые, рябенькие!
Приготовив ружье, стал подходить к пихте. Подошел почти вплотную и снова вынужден был чертыхнуться — отсюда дерево просматривалось еще хуже. Задрав голову, передвинулся на три шага вправо, и опять — фрр-рр-р-р — еще один рябчик, разбрызгивая снег, вырвался из-под ног и укрылся на дереве. Черниченко сделал шаг, затем другой. Шум крыльев сзади заставил стремительно обернуться, но заметить он успел только, что оба рябчика с ближней пихты перелетели в глубину островка. В самую что ни на есть чащобу.
Выплюнув потухшую папиросу, он сделал еще пяток шагов в направлении пихты, на которой затаился одинокий рябчик. Присматривался долго, заслонясь ладонью от назойливого солнечного луча; однако что это за черно-серый комок на ветке? Похоже, рябчик? Ну конечно, рябчик!
Черниченко торопливо прицелился, потянул правый спуск и — на снег посыпалась посеченная дробью хвоя. А рябчик, сорвавшись много выше из-за ствола дерева, перелетел к двум давешним. Черниченко спустил второй курок, придерживая его большим пальцем, и, развернув лыжи, решительно зашагал на пересечение с дорогой, по которой ушли спутники. Надо же, добрых полчаса угораздило потерять зря!
Но если не везет, так уж не везет до конца. Теперь он, как нарочно, угадал в чапыжник, полез напролом через кусты, запутал лыжу. Потом оступился на ловко замаскировавшейся валежине и, упав, набрал полные рукава снегу. Дойдя наконец до лыжни, вытер вспотевший лоб, прибавил шагу.
В это время где-то впереди хлопнул негромкий выстрел, а погодя немного — второй. Кому-то везло, кто-то, наверное, не по сучьям стрелял. И, похоже, в той стороне, где должны быть Заеланный с Ежихиным. Неужели на рябчиков или глухарей наткнулись?
Он не сразу понял, что настроение вконец испортилось. Тайга вдруг обернулась совершенно неинтересной, неласковой, захотелось скорее из нее выбраться. Угораздило же старика Заеланного втравить его в такую идиотскую авантюру! Да и Ежихин тоже хорош гусь — на блины к теще, что ли, спешит? Знает ведь, что отстал человек, можно бы подождать, кажется!
Он догнал их ровно через сорок минут. Не поленился засечь время. И конечно, сказал бы пару теплых слов обоим, не догадайся они все-таки остановиться и даже костер развести.
— Пожрать надо, товарищ следователь! — встретил его белозубой улыбкой Алексей Ежихин. — Кишка кишку сосать стала.
Черниченко посмотрел строгим начальническим оком на костер, на двух ощипанных уже рябчиков и набитый снегом котелок, разрешил:
— Давайте обедайте.
И стал закуривать.
— Может, махорочки? — предложил Ежихин.
— Черти бы ее курили, — фыркнул Черниченко.
— По кому стрелил-то? — не унимался Алексей.
— Ни по кому. Заряды на кучность пробовал.
Отогнув лохматые голенища, Черниченко комельком веточки выцарапал из унтов обтаявшие слюнявые льдинки. Расстегнул юксы. Снег перед костром успели маленько отоптать, но разве придет в голову, что именно маленько? Ступив мимо лыж, провалился выше колена. Ругаясь, взобрался на лыжи, как пловец на плот. Снова пришлось отворачивать голенища, выгребать из них снег. Теперь уже на лыжах, только не застегивая юкс, он подковылял к отдыхавшему на нарте Александру Егоровичу. Стоя над ним, сказал с неизвестно откуда взявшимся раздражением:
— А ведь я, пожалуй, не совсем понимаю, зачем нам это понадобилось?
Александр Егорович поднял на него удивленный взгляд.
— Вся эта петрушка, — разъяснил Черниченко. — Тащиться в тайгу, искать какие-то следы. Браконьер убил лося и схвачен за руку, причем сам этого не отрицает. Собственно, чего мы добиваемся с вами?
— А тебя зачем на работу твою поставили? — Александр Егорович смотрел на него со снисходительным любопытством, как смотрит взрослый на мальчика, строящего в комнате пароход из перевернутых табуреток. Поелозив задом по нарте — видать, отсидел старые-то мослы на жестком, — сказал: — Чудишь ты, парень, ей-богу! Взбрыкиваешь, ровно вожжа, у тебя под хвостом, — мы с тобой в поселке еще про все обговорили, забыл разве? От тебя требуется, чтобы все в аккурате было, без сомнения…
— Он что вам, родня какая — Валентин Бурмакин? — строго, чтобы оборвать разглагольствования старика, спросил Черниченко.
— Такая же, как и тебе, — тут Александр Егорович увидел, что Ежихин берется за топор. Забывая о следователе, закричал: — Эй, Алексей, погоди! Погоди, слышишь? Я дров нарубаю, ты варевом занимайся.
Упираясь ладонями в колени и сильно нагибаясь вперед, Заеланный с трудом встал с нарты. Распрямляя спину, пожаловался:
— Хоть не садись вовсе. Опосля, пока не разомнешься, поясницу ровно у кого в долг взял. Чужая, и никаких.
— Ладно, нечего тебе, — нахмурился Черниченко. Круто повернувшись, — так, что чуть снова не соскочил с лыж, — он спросил не у Александра Егоровича, а у Ежихина, хотя тот находился дальше:
— Каких дров-то надо? Я схожу.
— Железных, — блеснул озорными глазами Алексей.
Но Черниченко и сам спохватился, что сказал глупость. Молча взял топор и, словно убегая, заторопился прочь от костра. Выбрав из подроста сосенку с изржавленной редкой хвоей, рубанул с такой силой, что сразу не смог вызволить топора.
Даже еще не пробуя, он решил, что похлебка из рябчиков, Для которой у мужиков нашлись и картошка, и луковица, окажется невкусной. Ошибся, но из необъяснимого упрямства ложку отложил первым, хотя котелок опростали только наполовину, есть хотелось еще. Обиженно косясь на сотрапезников, потянулся за папиросами.
Когда собрались трогаться дальше, Черниченко, заставив Ежихина усмехнуться, сердито расшвырял костер, будто в апреле можно запалить тайгу, оставив огонь. Первым затянул юксы и, не дожидаясь, пока Ежихин впряжется в нарты, зашагал по бурмакинской лыжне.
Шел, не глядя по сторонам, даже под ноги не смотрел, благо лыжня направляла лыжи, как рельсы направляют поезд. С закрытыми глазами можно было идти по ней. Черниченко не закрывал глаз, но смотрел вперед как бы сквозь предметы, не видя их. Так бывает, если задумаешься.
Он сердился на себя и думал о том, что Александр Егорович славный, хотя и чудаковатый старик, — с больной поясницей пошел в тайгу. А ему, Илье, не везет, и поэтому он, скотина, захотел сорвать досаду на старике. Это так, двух мнений тут быть не может. Но позволил старику уговорить себя он зря. Вряд ли мог ошибиться Яков Иванович Канюков — оперативным уполномоченным работал когда-то. Глаз наметал, наверное. А Бурмакин — браконьер, это всем известно, — заставил впустую ломать этакую дорогу… Хм! Бурмакин, положим, не заставлял, наоборот. Но виноват все-таки он, из-за него заварилась каша. И отчасти виноват Засланный — надо же было впутаться старику, а? Да и Пашке Рогожеву — тоже!
Лыжи неожиданно разъехались в разные стороны. С удивлением оглядываясь вокруг, Черниченко замедлил шаг, — не заметил даже, что вышел на просторную гарь. Лыжня дальше выпучивалась горбом, шла поверху. Это солнце осадило на гари снег, а с плотной натоптанной лыжней справиться не смогло.
— Сворачивай вцело, эй! — крикнул ему Алексей Ежихин. — Свежиной легче идти будет.
— Хаживал, не учи! — бросил через плечо следователь и пошел рядом с лыжней. Сделал несколько шагов только, как вдруг впереди из снега вырвался угольночерный тетерев и полетел через гарь к лиловеющему вдали сосняку.
Черниченко схватился за ружье, да разве успеешь его снять? Обескураженно махнув рукой, хотел достать папиросу, но взгляд бессознательно остановился на изъязвивших снег многочисленных лунках. Похоже было, что впереди дневали тетерева, целый табун. Он торопливо сдернул двустволку, предостерегающе поднял руку, веля Ежихину остановиться.
Тот понял, тоже потянулся за ружьем.
Черниченко крадучись передвинулся метра на три вперед и выпугнул трех птиц сразу. Поймав ближнюю на конец планки, выстрелил и — не увидел за дымом, попал или не попал. Почти одновременно грохнуло два выстрела сзади. Раскидывая крыльями снег, рванулись в небо еще несколько тетеревов. А когда дым пронесло, следователь посмотрел в направлении своего выстрела и закусил губу, чтобы не выругаться.
— Здорово стрелять, молодчик! — сказал подошедший Ежихин.
Черниченко в бешенстве обернулся:
— Иди ты… знаешь куда?
Алексей растерянно замигал белесыми ресницами.
— Ты чего, парень? Я же не под руку. После того как ты стрелил.
— Солнце в глаза, вот и промазал, — доставая папиросу, сказал Черниченко. — Понимать надо!
— Так вон же где он пал, за листвягом, — Ежихин скинул с плеча лямку нарты и, подойдя к обгорелому лиственничному пню, нагнулся. — Видал?
В вытянутой руке он поднимал тетерева, безвольно раскинувшего крылья. Чтобы скрыть радостную улыбку, Черниченко отвернулся — будто от ветра прячется — и стал прикуривать. Краем глаза увидел, что мир вокруг удивительно светел и по-весеннему ласков.
— Кого стрелили-и?
Это кричал Заеланный, только-только вышедший их следом на гарь.
— Польников, Егорыч! Следователь одного сшиб, матерущего! — отозвался Ежихин и, воротясь к Илье, протянул добычу.
— А ты ведь тоже стрелял? — вспомнил следователь, принимая тетерева и прикидывая вес его на руке.
— Я по летячим не бью, заряды жалею.
— Так стрелял же, я слышал!
— Сейчас поглядим, — сказал Ежихин и, неторопливо передвигая лыжи, пошел к лункам. Видно было, что ковырялся в снегу прикладом ружья. Выпрямляясь, сообщил. — Не угадал. Или глубоко зарывшись сидели.
— Охотник тоже! — рассмеялся Черниченко. — Кто же стреляет наугад по лункам? Влет надо было, легко и просто. Если не черным порохом, я и второго свалил бы. Дым помешал, собака!
— Влет знаешь сколько зарядов растрахаешь попусту? — сказал Ежихин.
Подошел Александр Егорович, с кряхтеньем опустился на заднюю нарту, достал кисет.
— Махорочки дашь закурить, старина? — весело окликнул его Черниченко.
— А пошто не дам-то? Кури-и!
Небрежно швырнув тетерева на переднюю нарту, Черниченко уселся рядом со стариком. Перезаряжая централку, подошел Ежихин, глазами показал Александру Егоровичу на следователя:
— Летячего ведь сбил, ты скажи! С одного разу!
Илья с показным равнодушием повел плечами.
— Влет стреляешь — зевать не приходится. Верно, Александр Егорович?
— Я влет не баловался, — сказал старик. — Птицы раньше куда с добром было против теперешней. И подпускала без малого вплоть. А по сидячей всегда верней стрел ишь.
Черниченко с удовольствием посмаковал очередную затяжку, сплюнул горькую желто-зеленую крупинку.
— По сидячей, Александр Егорович, неинтересно…
Он первым поднялся, докурив самокрутку, и, переменив патроны в стволах, с ружьем на изготовку пошел через гарь. Но тетерева не вылетали больше, лунки по пути попадались двойные, с входом и выходом, помеченным следами ударов крыла. В лунках желтел смерзшийся тетеревиный помет — несегодняшний.
Ладно, тетерева еще встретятся ему! И глухари тоже — ведь впереди, дальше от поселка, птица должна быть менее пуганой. А похмерять тайгу, вероятно, еще достанется. Даже до того места, где лежит мясо. Потом, возможно, понадобится выпутывать следы — черт его знает, откуда пришел этот раненый лось. Если только он пришел уже раненный. Мог, конечно, прийти. А Канюкову откуда знать, Валька или не Валька стрелял, если захватил Вальку около зверя? Одним словом, следователь Илья Черниченко поступил правильно, решив осмотреть место происшествия. По крайней мере совесть будет спокойна — все досконально изучит.
За гарью бурмакинская лыжня опять стала аккуратным желобком. Здесь снег не торопился таять и было сумрачно, оттого что небо занавесили ветки сосен, а еще оттого, что близился вечер. Но вот впереди снова посветлело. Это сосняк сменялся редким листвяжником, почти без подлеска.
Впереди — за выстрелом! — снялся с одной из последних сосен бора глухарь. И, судя по звуку, сел где-то, дальше, на лиственницу. Следователь взвел оба курка и двинулся вперед, осторожно передвигая лыжи, обшаривая взглядом вершины деревьев. Устав задирать голову, посмотрел под ноги.
Что это?
— Ого-о! — закричал он, забывая о глухаре. — Мужики, давайте сюда! Тут сохатиный след!
Начало, как всегда, было назначено на восемь вечера. И, как это происходило не всегда, по часто, завклубом Андрей Силачев к началу опоздал. Дежурная уборщица тетя Маша, прижатая нетерпеливой толпой к дверям зала, стояла в позе княжны Таракановой на картине Флавицкого, не уставая повторять одно и то же:
— Хоть что хочьте делайте, не отомкну!
И не отомкнула, покамест не пришел Силачев.
Завклубом явился в половине девятого. Поблескивая очками в массивной роговой оправе и тем не менее близоруко щурясь, оглядел набитый людьми вестибюль.
— А ну сдайте все в тую сторону, — он картинно сделал ручкой от двери в зал. — Куда прете? Сдайте, кому говорено!
От дверей «сдали». Светке Канюковой кто-то наступил при этом на модную чехословацкую лодочку. Она обозвала неизвестного обидчика скотиной, а зло сорвала на Силачеве:
— Очкастик проклятый, когда его выгонят отсюда?
— Никогда не выгонят, девушка, — поучительным тоном ответил ей леспромхозовский нормировщик Славка, всегда выступавший в самодеятельности. — Он же за рудкомовский счет на курсах культурников учился. А раз уж деньги на него стравили, выгонять жалко.
— Идиотство! — сказала Светка и стала искать глазами Наташку Судареву, потерявшуюся в толкотне.
Увидела, когда часть людей схлынула из вестибюля в зал. Там уже захрипел, словно пробуя голос, усилитель — это завклубом приложил руку к музыкальной технике.
— Наташка! — позвала Светка подругу, а когда та оказалась рядом, пожаловалась: — Чуть ногу не раздавили, бегемоты! Ты с кем там стояла?
— А с Валькой Бурмакиным, — небрежно ответила Наташка.
— Ты разве знаешь его?
— Родня нам. Тетя-то Поля Бурмакина матери двоюродная сестра приходится. Пошли раздеваться, Да?
— Погоди, билеты найти не могу… Не знала я, что Бурмакины вам родня. Это же Бурмакин моего папашу из тайги вытащил.
— Ага, он. Ну, не нашла?
— Нет. А ведь все время в руках держала… — Она нащупала билеты за обшлагом рукава, обрадовалась. — Вот они, я же помню. Пошли.
Оба пальто повесили на один номер, а фанерную бирочку Наташка взяла себе.
— Запихаешь куда-нибудь, как билеты, — сказала она Светке. — Придется тогда ждать, пока все оденутся.
В зале уже танцевали.
Молодежь знала друг друга если не по именам, то в лицо. Порой выяснялось, что знакомому лицу принадлежит знакомое имя. Так Валька Бурмакин, чье имя частенько склонялось у Канюковых в доме, оказался гем широкоплечим задавакой, которого Светка видела не раз на танцах.
Сегодня он не танцевал. Стоял с каким-то парнем в углу, заигрывали с танцующими девчатами.
— Сейчас к нам привяжутся, вот увидишь! — сказала Светка, вынужденная «за кавалера» вести подругу. Их относило в общем потоке танцующих туда, где стояли парни.
Но как Валька, так и его приятель только скользнули по фигуркам девушек равнодушными взглядами. Как по пустому месту. Не обратив внимания на Светкины чехословацкие туфли с каблучками-иголочками, посчитали слишком девчонками, мелкотой. Светка, задетая за живое, презрительно скривила губы:
— Его что, в шахте по башке стукнуло, твоего Вальку?
— Почему?
— Да разве нормальные такими бывают? Отец в прошлом году устроил ему пакость, теперь опять поймал с лосем, а Бурмакин его на себе вытащил из тайги. Чудно!
— Отчего ты такая злющая, Светланка? — ужаснулась Наташка.
— Вовсе не злющая, нормальная. Просто не люблю дураков.
Светка уселась на свободный стул возле стены и вытянула ноги — выставляла на зависть девчонкам роскошные туфли, а заодно мстила равнодушным, мешая проходить мимо. Пожалуй, она действительно начинала злиться, что никто из парней не догадывается «подсыпаться» к ней. Но это потому только, что надоело таскать «за кавалера» Наташку. И ни почему больше!
— Никого знакомых, словно бы нарочно! — вздохнула она.
В репродукторе засипело — вальс кончился, иголка не снимала звука. Пары танцующих распались.
— А вон Витька Костянкин, около двери. Видишь?
— Витька не вещь, — сморщила нос Светка.
В этот момент завклубом снова опустил на завертевшуюся пластинку звукосниматель, и в репродукторе рявкнул саксофон. Светка подобрала ноги, собираясь встать, и увидела подходившего Вальку Бурмакина.
— Пойдем, родня, дадим жизни! — сказал он Наташке.
Он сказал это, словно одолжение делал: ладно, мол, так уж и быть! Светка ни минуты не сомневалась, что Наташка его не интересовала. Но тогда почему бы не пригласить Свету Канюкову — все-таки не чета Наташке? Конечно, она очень бы еще подумала, танцевать с ним или нет, но это уже другой вопрос…
Наташка растерянно посмотрела на подругу — захочет ли та остаться одна? Светкина приподнятая бровь ничего доброго не предвещала, пожалуй. И Наташка, оттягивая решение, спросила Вальку:
— Да ты что, родня? Возьми глаза в руки, я ведь не Вера Вахрамеева!
— Вспомнила тоже! — залихватски усмехнулся Валька. — Разошлись как в море корабли.
— Ну уж? — Наташка выставила вперед подбородок, прищурилась. — И не врешь?
— Точно, — сказал Валька. — Вчера вконец разругались. Стала мне мораль читать, какая я вредная личность.
Он опять попытался усмехнуться, но усмешки не получилось. Даже отвернулся от Наташки, и тогда убегающий взгляд его на мгновение остановился на Светке.
А та, картинно откинув голову и нарочно чуть-чуть кося, сказала:
— Вас и надо учить. Чтобы научились не попадаться.
Валька смерил ее пренебрежительным взглядом. Взгляд остановился на затянутой в капроновую паутинку ноге и, став внимательным, встретился с вызывающим Светкиным взглядом. Потом Валька спросил, но не Светку, а у Наташки:
— Что за учительница такая?
— Познакомься, — сказала Наташка. — Это Света Канюкова.
— А-а! — губы парня сложились в брезгливую усмешку. — Все понятно, раз Канюкова. Пошли?
Он положил было руку на тоненькую Наташкину талию, но девушка, быстро взглянув на Светку, ускользнула:
— Не могу, родня. У меня авария, чулок спадает.
— Тоже мне… — разочарованно фыркнул Валька, отстраняясь ближе к стене, чтобы не мешать танцующим.
Светка поднялась со стула. Стрельнула дерзкими карими глазами.
— Не родню вы не приглашаете?
— Нет, — отрубил Валька.
— Боязно же со мной, верно? Передадут еще Канюкову Якову Ивановичу, а он рассердится. Точно?
Валька вдруг усмехнулся неведомо чему и, с ироническим любопытством глядя прямо в глаза, спросил:
— Разрешите?
Она удивленно подняла брови: вот как? Сделала строгое лицо и милостиво положила руку на плечо парня. Милостиво и убийственно равнодушно. Как королева — решила она про себя.
Оказалось, что Валька танцует ничего себе. Медленный фокстрот по крайней мере. Даже очень ничего. И вообще — Светка из-под ресниц присмотрелась к скуластому лицу партнера — вообще он тоже ничего, не урод, даже напротив. Правда, не мальчишка уже, лет двадцать пять, наверное, но это тоже не минус — с таким интереснее. А главное — это же так забавно, танцевать с Валькой Бурмакиным, который бесится, услышав ее фамилию, и мило обмениваться «любезностями». Еще более забавным будет, если она сумеет его приручить — укротительница Света Канюкова!
— Чего вы на меня так смотрите?
— Так, — продолжая в упор разглядывать её, отозвался Валька. — Интересно…
— На мне ничего не написано, по-моему. Вы лучше скажите, отчего каждый раз попадаетесь со своими лосями. Другие ведь не попадаются, верно?
— Верно! — язвительно усмехнулся Валька. — Канюков, например, не попадается!
Светка дернула плечиком.
— Конечно, нет! Кто-кто, а Яков Иванович жить может, не беспокойтесь! И хоть у нас с папашей совершенно разные взгляды на жизнь…
— А какие у вас взгляды на жизнь, можно узнать? — перебивая её, кавалерским тоном поинтересовался Валька.
В глазах парня затеплилось насмешливое любопытство. И еще тот особый интерес, который запросто угадывается девушкой во взгляде парня, даже если гадалке совсем недавно стукнуло восемнадцать. Тем более если она хорошенькая.
— У меня?.. — Светка томно завела глаза, изображая раздумье. — У меня обыкновенные…
Она никогда не задумывалась, какие у нее взгляды. Вот глаза — карие, и ресницы красивые, длинные, это куда важней взглядов на жизнь. Про взгляды сказала просто так, а он к этому привязался… Как будто больше говорить не о чем!..
Даже самая долгоиграющая пластинка в конце концов умолкает. Музыка внезапно оборвалась. Люди оглядывались, как будто хотели увидеть, куда же исчезла она вдруг.
Валька предложил:
— Сядем?
— Стоит ли? Забыла эту пластинку. Кажется, на другой стороне тоже медленный фокстрот, да?
— Вроде бы так, — безразлично согласился Валька.
Вместо фокстрота тоскующий баритон с придыханием запел итальянское танго. Светка по-дирижерски взмахнула руками, качнулась с ноги на ногу, а когда Валька подхватил ее и повел, движением головы закончила отсчет тактов.
— А какие — обыкновенные… — напомнил Валька, — взгляды на жизнь?
Прикусив губку, Светка интригующе поиграла глазами, опять не забывая взмахнуть ресницами. И улыбнулась скорбно — зачем, мол, говорить о пустяках?
— Господи! — ответила она со вздохом мученицы. — Я же не Вера Вахрамеева, меня никакая мораль не интересует, можете не опасаться.
— Ого! — вырвалось у Вальки.
— Вот вам и «ого»!
— Это хорошо, если не опасаться, — он смелее привлек девушку к себе, спросил трепливо: — А что вы называете моралью? Можно уточнить?
— Моралью? Ну, всякие такие поступки. Например, ваши…
— Какие?
— А, ну эти же… Любые. По-моему, делайте что хотите, только… — она многозначительно поиграла глазами. — Только умейте делать. И — все!
Светка, словно эта музыка убаюкала ее, склонила голову. От этого темно-каштановая прядь, сбегавшая на ухо, переплеснулась на щеку и открыла маленькое родимое пятнышко. Розовое, — как наманикюренный ноготь. И Валька вдруг вспомнил, что видел точно такое у заготовителя Канюкова, когда кормил его, раненого, в тайге.
— Да-а, — протянул он, обращаясь к этому пятнышку, но как бы говоря с Канюковым. — Взгляды у тебя подходящие, с такими не пропадешь…
И, почти отшвырнув девушку резким поворотом корпуса, пошел, задевая плечами танцующих, к двери. Словно продирался через кустарник.
Ладью складывать не стали — зачем, если чуть свет трогаться надо. Накидали в обычный костер, когда жару нагорело достаточно, не скоро поддающегося огню березняка. Сырья. Занимается такое не враз, но тепла от него потом уйма. Правда, поправлять надо костер. Ну, да ежели спать некогда, беды в этом особой нет.
Спал или прихитрялся спящим один Ежихин. Поел, выкурил папиросу и, умостившись на охапке пихтового лапника, притих. Повернулся спиной к огню и как воды набрал в рот.
— Умаялся мужик, — глазами показал на него Александр Егорович.
Черниченко заталкивал в огонь выкатившееся из костра полено. Водворив его на место, отодвинулся подальше, заслоняясь от жара рукавицей, которую держал двумя пальцами, как держат что-нибудь мерзкое.
— Пекет? — спросил Александр Егорович.
— Картошки бы сюда, — помечтал следователь, слово «пекет» заставило его вспомнить о нехитром ястве.
— И двести бы грамм, — подхватил старик.
— Без двухсот граммов голова кругом идет, Александр Егорыч. Как у пьяного.
— Пошто?
— По то, что ни черта я не понимаю пока.
Еще один обгорелый кругляк скатился с горки таких же охваченных пламенем кругляков. Увлеченный током горячего воздуха, в небо метнулся сноп оранжевых искр. А оттуда, порхая мотыльками, начали падать хлопья серого пепла — то, чем стали искры. Теперь Александр Егорович принялся закатывать кругляк в пламя, используя для этого обгорелую хворостину. Управившись, сунул занявшийся конец хворостины в снег, а когда тот перестал шипеть, задумчиво сказал следователю:
— В том, парень, нет дива, что ты не понимаешь. Дивно, что я не понимаю. Заблудил!
— Да еще как основательно заблудился, старина, — согласился Черниченко. — От твоего предположения, что зверь был ранен кем-то другим, камня на камне не остается.
Александр Егорович кивнул, отчего отогнутые наушники его шапки мотнулись, как живые уши беспородной дворняги.
— Зверь вполне здоровущий был, пока его Валька не умотал, это точно. Но ты скажи, как он его выгнать в самую точку сумел, на Канюкова? Я, парень, такой хитрости объяснить не могу!
— Скажи лучше: не сумел, дал маху. Какая же тут хитрость?
— Какая? А ты испытай связчика на месте постановить и аккурат к этому месту пригнать сохатого.
Черниченко засмеялся.
— Опять заблудился, Александр Егорыч! У тебя уже Бурмакин с Канюковым вроде бы связниками стали!
— Ну не связниками пускай — а как? Раз вместях, значит, связники. По-нашему, по-таежному.
— Стой, стой, стой! Ты, никак, в самом деле считаешь, что Канюков и Бурмакин действовали сообща? Да ты чего, старина? А?
Сидевший на березовом полене Александр Егорович, не поднимаясь, а только переставляя ноги, неспешно повернулся к собеседнику. Свет костра падал теперь на него сбоку, и лицо старика казалось слепленным из двух разноцветных половин.
— Я ничего, — сказал он. — Следы — те чего. И ты, парень, их, однако, смотрел.
— Ну, смотрел…
— А пошто не понял?
— Так ведь и ты не понял, Александр Егорыч! Сам же говорил.
— Кто за кем шел — этого как не понять? Вон хоть Алексея разбуди — спросить. От ключа зверя Канюков погнал, а Валькина лыжня, где поверху канюковской не лежит, так вовсе от сакмы в стороне.
Черниченко пожал плечами, отчего накинутый на них полушубок сполз. Поправив его, следователь набрал в горсть волглого снега и, стиснув, выцедил воду. Рассеянно подбрасывая на ладони серый бесформенный комок, сказал:
— Тебе фантазировать легко, старина, а мне твои домыслы обосновывать да проверять надо. Есть ли у нас с тобой веские аргументы, чтобы…
— Чего нет — того нету, — перебил следователя старик, глубокомысленно хмурясь. — Действительно. Только и ни к чему они, я думаю… ну, эти самые, как ты сказал. Валька с Канюковым лыжами Своими все — как есть обозначили. В лыжах у них чуть не три пальца разницы, в ширине. Видать, где чьи расписались. Возле ключа Канюков Вальку сменил, к дороге зверя погнал. А Валька стал правей забирать, стороной. Лыжню делал, чтобы зверь не отскочил куда не следует, — зверь лыжни страх до чего боится. И от поселка, опять же, след в след шли оба, Канюков с Валькой.
— Канюков в милиции говорил, пока до больницы дозванивались, что он за Бурмакиным следил. По его лыжне.
— Сказать, парень, все можно, — согласно закивал Александр Егорович. — На то и язык, чтобы говорить. Без костей. Слыхал?
Червиченко не ответил — он думал о том, что сказать, действительно, все можно. Но ведь можно и промолчать, вот в чем загвоздка! Предположим, Канюков и Бурмакин охотились вместе, с натяжкой, но можно предположить. Но тогда зачем нужно было Канюкову обвинять Вальку, а Вальке брать вину на себя одного? Конечно, его мог подбить на это Канюков: тебе, мол, не привыкать, а мне выгоднее остаться чистым. Только для чего такое саморазоблачение? Ведь их никто не тянул за язык. Ради чего жертвовать мясом, которое очень не легко добыть, терять деньги и ружье? С какой целью? Ведь цель должна оправдывать средства!
Следователь достал папиросу и прикурил, выхватив из костра головню. Забыв о ней, держал в руке до тех пор, пока боль ожога не заставила пальцы разжаться. Ткнув их машинально в снег, пробурчал:
— Странно…
Но ведь факты остаются фактами, какими бы странными ни были. Что, если попытаться рассуждать иначе — с конца? Например, так: не являлась ли целью канюковской инсценировки в некотором роде организация общественного мнения? Подумаем…
Прежде всего, была ли у Канюкова особая нужда в этом? На первый взгляд нет, но… Скажем, опасение каких-то разоблачений, обвинение в попустительстве браконьерам? Такие слухи ходили. И вот Канюков решает создать себе репутацию неподкупного человека. Подговаривает Вальку Бурмакина, они убивают лося и… и что? Канюков специально ломает ногу? Да? Бред собачий!
Версия не получалась. Черниченко тяжело вздохнул и закурил новую папиросу.
— Не получается, — пожаловался он Заеланному.
Тот, думавший о чем-то своем, обсасывая прокуренный ус, кивнул.
— То-то же, что не получается. Никак.
Но следователь Илья Черниченко уже не разделял этого мнения. Подмигнув, спросил с лукавой усмешкой:
— Да ну? Неужели правда?
У него уже получилось: мысль об инсценировке появилась у Канюкова, когда повредил ногу! Это лишало сообщников возможности вывозить добычу, и они договорились поступиться ею. И ружьем, и штрафом в придачу. Дескать, потом с лихвой вернут потери — канюковская «неподкупность» будет служить надежным щитом. Гм… Так-то оно так, а вот маленькое «но» все-таки остается! Козырь в игре, легко оборачивающийся битой картой, по крайней мере для Бурмакина. Какие у них могли быть гарантии, что Вальку, как браконьера-рецидивиста, не привлекут к более строгой ответственности? А садиться за чужое похмелье в тюрьму…
— Глупо! — решил он вслух.
— Чего? — встрепенулся Александр Егорович.
— Глупо, говорю, было Бурмакину вину на себя брать!
— А он и не брал, — равнодушно сказал старик.
— То есть как это?
— А обыкновенно.
— Опять ты мудришь чего-то, — укоризненно покачал головой следователь.
— Пошто, парень, мудрить? Канюков это Яков Иванович одного Вальку кругом обвиноватил. Потому и злой на него Валька.
Александр Егорович пытливо смотрел на собеседника, точно проверяя на нем Валькино утверждение. Потом, подавшись вперед, как будто посторонних ушей боялся, стал объяснять:
— Когда, я думаю, Канюков обезножел, Валька на предмет мяса кукиш ему показать захотел. За старое еще зуб был у Вальки. Ну, а Яков Иваныч, гражданин Канюков, осердясь, и заявил на него милиции.
Следователь молча смотрел в пламя костра. Намечалась еще одна версия, и опять с окаянным «но»: Валька Бурмакин далеко не дурак, разве стал бы он по дороге исповедоваться Канюкову в намерении не делиться мясом? Не стал бы, и даже не из боязни, а просто потому, что о таких вещах заранее не говорят. Нет такого человека, который предупредит: хочу украсть, или отнять, или обмануть. И Черниченко обескураженно вздохнул.
— Нет, старина! — сказал он. — Отпадает. Психология не тянет.
Старик подумал.
— Это ты зря, однако. Психология очень тянет. Валька — он псих очень даже ужасный. Заводной, ежели чуть что.
Черниченко не смог сдержаться, улыбнулся. И сразу же, пряча улыбку, прикусил губу: смех смехом, а в какой-то степени Александр Егорович, сам того не понимая, подсказал дело. Если Бурмакин действительно так невыдержан, он мог раскрыть свои планы преждевременно. Даже в порядке мести беспомощному сообщнику, за былые обиды. Но как тогда объяснить поведение Канюкова — что не побоялся Валькиного обвинения в соучастии? Рассчитывал опять-таки на худую Валькину славу, на то, что не поверят браконьеру? На пули от гладкоствольного ружья, которыми убит лось? Что же, так могло быть. Только почему молчит Валька?
— Ладно, убедил! — сказал он старику. — Но почему тогда Валька молчит о Канюкове?
Александр Егорович той самой хворостиной, которой ворошил в костре, дотянулся до котелка с простывшим чаем. Поймав за дужку, переставил котелок на уголья. И только тогда ответил:
— Это не секрет почему. Сам он мне обсказывал: свидетелей, говорит, нет, два раза таскали за такое самое дело. Понимает, должно, что никакой веры ему быть не может. Все одно штрафу или чего там полагается дадут.
— Что ж, будь по-твоему! — согласился Черниченко и встал. — Концепция получается довольно стройная. Во всяком случае — похоже.
— Много ты понимаешь, — вздохнул старик. — Я думаю, что нисколь не похоже.
Черниченко рассмеялся:
— Ну вот! Строил, строил, крышу подвел — а жить негде? Так, что ли?
— Характер, видишь ты, у Вальки больно худой, — печально ответил старик. — Гордый и на обиды памятный. Не мог он с Канюковым за сохатым идти. Ни в жисть!
— А как же быть с доказательствами, которые свидетельствуют о совместной охоте?
— Ты мне свои доказательства в нос не тычь.
— Доказательства-то ведь твои, Александр Егорыч!
— Все одно чьи. Доказать все можно. А я человека знаю вот с этаких, — он чуть не вровень с землей протянул хворостину.
— Ладно, сдаюсь! — поднимая руки, сказал Черниченко. — До утра долго еще. Будем еще одну версию разрабатывать! Новую! Куда ни шло.
Стараясь не опалить лохмы унтов, он обошел костер. Повернувшись спиной к огню, долго смотрел, как звезды играют в прятки с черными, плоскими вершинами сосен, — где-то поверху, крадучись, шастал ветер.
— Эй, парень! — окликнул его старик, забрякав железом. — Давай-ко чай пить. В тайге чай — милое дело.
Черниченко нехотя повернулся.
— Чай? Можно…
— А чего не можно? С дымком! — нахваливал старик.
Следователь выбрал из кучи дров толстый суковатый чурбан и, швырнув огню, вернулся на свое место. Отмахнувшись от назойливой как муха искры, ногой перекатил служившее сиденьем полено ближе к Александру Егоровичу.
— Знал бы ты, какое это паршивое дело, старина, — перебирать возможные варианты со всех точек зрения. Приходится такое о хороших людях думать — тошно становится! Вот как с Канюковым теперь. Веришь или не веришь, а проверить обязан.
— Завидного мало в твоем деле, что и говорить, — посочувствовал Александр Егорович, — но и без него, парень, нельзя… К примеру, об том же Вальке — как без следователя? Я ведь ему, подлецу, поверил, что он о сохатом ни сном ни духом. А оно видишь как получается: пули-то в звере сидят чьи? Ясно тебе?
— Ясно, — сказал Черниченко и вздохнул. — Ладно, давай чай пить.
Александр Егорович глянул на котелок, на Черниченко, досадливо сплюнул:
— Раньше-то где был — напомнить? Теперь его наново снегом заправлять надо, выкипел твой чай.
Черниченко принялся набивать котелок снегом. Старик подгребал угли на край кострища. Потом, гася вспыхнувшую хворостину, помахал ею над головой. Не погасив, хотел затолкать в снег, но до снега, оттесненного жаром костра, ему было уже не дотянуться. И Александр Егорович швырнул хворостину в пламя.
Случись это в обычный день, он и слова бы не сказал. Но Анна, как нарочно, вот уже второй раз выкидывает такой номер, когда ему позарез необходимо уйти. В прошлый четверг заставила опоздать на кружок, и сегодня предупреждал, несколько раз повторил: к семи нужно быть на бюро! И вот, пожалуйста — уже без пятнадцати… нет, уже без одиннадцати семь!
— Ну и ну! — сказал он в сердцах Вовке и, отойдя к окошку, нетерпеливо забарабанил пальцами по стеклу.
За окном — на огороде — пучились верблюжьими горбами кучи навоза. Каждую окаймляло кольцо ржавчины, разъедавшей заметно осевший снег. Кое-где уже проглядывала чернота земли. Неопрятная, заношенная повязка грязного снега уже отслужила свой срок, приходил черед сбросить ее.
Тем временем Вовка решился оставить ножку стола, за которую цеплялся из страха перед пространством. Не рискуя путешествовать на двух конечностях, применил для этого все четыре. Разноцветная лоскутная дорожка привела его прямо к дверце курятника, оборудованного на зиму под большим кухонным столом. Здесь путешественник поднялся с четверенек и, сосредоточенно пыхтя, стал отжимать вертлюжок дверцы. Тот не поддавался. Тогда Вовка, хватаясь для устойчивости за рейки, стал обходить курятник — высматривал курицу, до которой можно дотянуться через решетку. Истошное кудахтанье переполошившихся птиц заставило Рогожева оглянуться. С покорностью человека, обреченного выполнять заведомо бесполезную работу, он подхватил сына под мышки и отнес в самый дальний угол.
— Играй тут! — Он пододвинул к Вовке плюшевого медвежонка с вылезавшим из рваной раны в боку мочалом. Но сын, даже не взглянув на игрушку, снова устремился к курятнику.
— Тут, говорю, играй! — успел осадить его за рубашонку отец и покосился на ходики, большая стрелка которых придвигалась вплотную к цифре двенадцать.
Вовка шлепнулся мягким местом, обиженно сквасился, заревел. И точно в ответ на это дверь неожиданно распахнулась. На пороге, тревожно вытягивая шею, чтобы заглянуть через стол и увидеть сына, стояла Анна. Убедившись, что орет Вовка без особых на то причин, заговорила нарочито громко, певуче:
— Кто Вовочку обидел? Папка обидел Вовочку? Вот мы сейчас надаем папке…
Размотав с головы платок и скинув пальто, гневно посмотрела на мужа:
— На десять минут одних оставить нельзя!
Павел, хлопая себя по карманам, проверял, на месте ли папиросы. Снимая с гвоздя куртку, поправил жену:
— Не десять минут, а почти два часа. Час сорок!
— Не по мужикам бегала, — огрызнулась Анна, подолом вытирая у Вовки под носом. — За делом!
— Так я же на партбюро опаздываю!
Она язвительно фыркнула:
— Только и знаешь по собраниям своим пропадать, дома забот не стало. Пол перестилать надо, так двух половиц не выходил. Партийный называется!
— Думаешь, в партию для этого вступают?
— А ты на людей посмотри. Ляхин вон в какой дом въехал.
— То Ляхин, — миролюбиво сказал Павел. — Ладно, я пошел.
Он опоздал на пять минут. Но второй секретарь райкома Иван Якимович Ляхин, просивший не начинать без него, приехал с пятнадцатиминутным опозданием. Извинившись, прошел к столу, нетерпеливо взглянул на парторга.
— Давайте…
— Заседание партийного бюро рудника считаю открытым, — сказал тот. — Слово представляется присутствующему здесь второму секретарю райкома товарищу Ляхину.
Иван Якимович кашлянул и, отпихнув задом стул, поднялся.
— Как же это так получается, товарищи? — Он трагически развел руками, лицо стало скорбным. — В дни, когда вся страна мобилизует силы в предмайском соревновании…
Выступление Ляхина было традиционной «накачкой» — на руднике срывалось выполнение месячного плана. Слушали его без особого внимания.
— Будете говорить, Николай Викторович? — спросил Рогожев начальника рудника Сергеева, когда второй секретарь закончил. Тот кивнул:
— Да, разрешите мне.
Сергеев повернулся вместе со стулом так, чтобы все видели его лицо, но обратился ко второму секретарю райкома:
— Я красивых обещаний давать не могу и не буду, Иван Якимович, — сразу же предупредил он. — Если говорить о метраже проходки, о кубатуре выданной на-гора породы, горняков нельзя упрекнуть в отставании. Но в этом месяце на пути к рудам приходится преодолевать массивы пустых пород. Естественно, процент добычи значительно снизился. И несмотря на то, что проходка на шестом горизонте ведется бригадой Голубева, которой присваиваем звание бригады коммунистического труда…
— Николай Викторович, — вмешался Рогожев, — с этим решением надо все-таки погодить.
Сергеев бросил в его сторону равнодушный взгляд, ответил небрежно:
— Об этом будем говорить на производственном совещании. Возвращаясь к вопросу о плане, я хочу отметить, что коллектив рудника винить не в чем. Работали как положено. Ну и… темпов сдавать не собираемся, так? — Он с улыбкой оглядел присутствующих, словно заручился поддержкой. — Если так, то у меня все.
Павел встал.
— Николай Викторович, надо все-таки решить с Голубевым. Здесь все члены партии…
— Но не все разбираются в наших производственных делах. — Сергеев покосился на Ляхина.
— Дело не столько производственное, сколько принципиальное, Николай Викторович. Зачем разводить липу, когда…
— Я бы на вашем месте выбирал выражения, Рогожев. Думайте, что говорите.
— Это все ребята у нас так говорят. Горняки, — пояснил Павел для Ивана Якимовича Ляхина.
Сергеев усмехнулся углом рта и заговорил спокойным лекторским тоном:
— Отдавая должное вашей принципиальности, товарищ Рогожев, я должен напомнить, что у меня кроме принципиальности есть некоторый опыт работы с людьми. И вот, исходя из него, я считаю, что присвоение бригаде Голубева звания работающей по-коммунистически будет очень своевременным. Минуточку, не перебивайте меня! Да, в мелочах бригада не дотягивает. Но — в каких? Поругался с женой, выпил лишнее у кого-то на свадьбе? А! Это же действительно мелочи. Те самые мелочи, которые тем скорее люди вынуждены будут изжить, чем раньше их обяжет к этому высокое звание.
— А как они Бурмакина изживут? — спросил председатель охотничьего коллектива Семиветров. — Бурмакин опять сохатого стебанул, мне из милиции звонили.
Сергеев брезгливо поморщился.
— Опять Бурмакин? Ну что ж, цацкаться с ним больше не будем, хватит! Уволим — и все!
— Просто и ясно, — саркастически сказал Сударев и нарочно поймал взгляд Сергеева.
Ответу Сергеева помешал Рогожев:
— Мне думается, Николай Викторович, что решать это должна бригада.
— Бригада будет со мной солидарна. Паршивая овца стадо портит.
— Так то — стадо! — сказал Рогожев. — Да и Бурмакин… хороша овечка!
Многие заулыбались, усмехнулся и Сергеев.
— Не привязывайся к словам, Павел Васильевич. Пословица есть пословица.
— Понимаю, — кивнул Павел. — Я к тому, что в бригаде насчет Бурмакина свое мнение как раз. Неплохой парень и хороший работяга.
— В наше время хорошим работягой быть мало. Неплохим парнем тоже. И позорить бригаду это не дает права. — Сергеев повернулся к бригадиру, — Голубев, если дадим вам бурильщиком Стасюка?
Голубев ответил не сразу.
— Бурмакин справляется, Николай Викторович, — сказал он наконец. — По работе упрекать не приходится, а что лося опять трахнул, говорят, так… не человека же, зверя дикого!
— Одобряете браконьерство? — удивился Сергеев.
— Не одобряем, а только… Подумать надо!
— Чепуху порете, — жестко оборвал его Ляхин. — Бурмакину в вашей бригаде не место.
— А где же ему место? — хмуро спросил Рогожев. — Выгоним — может и вовсе потянуть на легкие заработки, сохатых по тайге ходит довольно.
Голубев вдруг встал и, поочередно, заглядывая в лица присутствующих, заговорил виноватым тоном:
— Понимаете, с этими сохатыми у Вальки вроде заскока, — он даже покрутил возле лба пальцем. — В прошлом году мы знаете как навалились на него? Дурак, мол, на кой черт тебе это нужно? Парень-то ведь как парень, а вот…
— Все? — насмешливо прищурился Сергеев, когда бригадир смущенно умолк.
Тот кивнул.
— Ага, все! Пускай в бригаде работает, Николай Викторович! — и неожиданно улыбнулся. — Берем, как говорится, на поруки! Тем более Валька человека из тайги вывез своей тягой, Канюкова.
— Канюкова не следовало вывозить, — грубовато пошутил Семиветров. — Нам на общество только две лицензии дал осенью, а лесному отделу три!
А Сергеев, задумчиво глядя мимо Голубева, сказал с нотками огорчения в голосе:
— С Бурмакиным не выйдет Или Стасюк, или Палахин. Выбирайте.
Наступило неловкое молчание.
— Как же так, Николай Викторович? — с подчеркнутым удивлением спросил Сударев. — Неужели присвоение звания бригаде важней судьбы человека? Думаю, парня надо оставить, у Голубева как раз необходимо оставить.
Сергеев неторопливо повернулся, но возразить Суда-реву захотел второй секретарь райкома.
— Должен заметить, товарищ Сударев, что тебе не пристало в некотором роде учить Николая Викторовича. И следует различать причины, которыми он руководствуется, смотреть глубже. Сущность, так сказать, видеть, коммунисты не должны быть близорукими…
Голубев, не слушая его, тронул Рогожева за рукав:
— Непонятно все же с Бурмакиным. Павел Васильевич! Ведь слово в прошлом году давал: амба, не повторится! И вроде не пустобрех малый, а тут… снова! — Он растерянно пожал плечами, а потом закончил неожиданно: — Но из бригады его никуда, ты это учти! Как парторг учти, понял?
Свой первый вопрос Бурмакину Илья Черниченко продумал еще в тайге. Понимал, что в некотором роде пользуется запрещенным приемом, и все-таки сознательно шел на это.
— Скажите, Бурмакин, из каких соображений вы скрывали от дознания, что Яков Иванович Канюков охотился на лося? — Он впился взглядом в широкоскулое, уже обожженное загаром лицо парня, стараясь не проглядеть, как изменится выражение этого лица. Надо угадать даже то, что не отразится на нем.
Бурмакин пожал плечами.
— А я и не скрывал…
И вдруг серые глаза его потеплели, словно на металл лёг спокойный отблеск огня. В них промелькнуло сначала недоумение, потом растерянность — так по крайней мере расшифровал следователь бег неуловимых теней в зрачках.
— Он что, сам это сказал? — спросил Валька.
— Договоримся, что вопросы задаю я, — казенным голосом ответил Черниченко и преднамеренно умолк, вынуждая заговорить Бурмакина.
— Интересно, — не следователю, а своим мыслям сказал Валька.
Ведь никто не мог рассказать, что Канюков охотился за сохатым, кроме самого Канюкова. Но тогда, значит, не такой уж он гад все-таки, этот Яков Иванович?
— Ну? — настаивал следователь.
Парень явно не понимал, что от него требуют.
— Чего — ну?
— Рассказывайте все с самого начала. И не крутите, это не в ваших интересах, — стереотипно предложил Черниченко, нисколько не надеясь, что Бурмакин последует его совету. Ясно, будет изворачиваться, хитрить — так до поры поступают все.
Но Вальке незачем было хитрить. Тон следователя, первый неожиданный вопрос — все убеждало, что Канюков сознался. И Валька усмехнулся смешному предположению следователя, будто он станет крутить. К чему?
— Если надо — расскажу. Пошел глухарей смотреть, выскочил на сохатиный слет. Ну и… — он замялся, потом наплевательски махнул рукой, — решил посмотреть, где зверь встанет.
— Минуточку, — у Черниченко «заело» авторучку, он встряхнул ее, как встряхивают термометр. — Продолжайте.
— Ну и… смотрю потом, что зверя перехватили. По лыжам решил, что Кустиков, я его лыжи знаю.
— Так, — сказал следователь, записывая. — Дальше?
Валька опять замялся.
— В общем, обозлился, что Кустиков зверя добудет. Я же на Канюкова тогда не думал.
— Решил не уступать Кустикову добычу, — вслух прочитал Черниченко последнюю фразу своих записей и вопросительно посмотрел на парня. — Так?
— Точно, — сказал Валька и доверительно добавил: — Жалко же, понимаешь, такому паскуднику отдавать.
Следователь исправил точку после слова «добычу» на запятую и записал: «так как испытывал к гражданину Кустикову чувство неприязни».
— Дальше?
— Дальше Канюков все знает, — сказал Валька.
— Представьте, я тоже знаю, — легко соврал Черниченко. — Но это не освобождает вас от дачи показаний. Продолжайте.
— Пожалуйста, — фыркнул парень и стал рассказывать, как побежал на выстрелы, потом увидел размахивающего жердиной Канюкова и, когда лось сбил того с ног и хотел затоптать, выстрелил.
Сначала Черниченко с невозмутимым видом записывал, кое-где приглаживая корявые фразы. Потом позволил себе иронически усмехнуться. Чуть-чуть, чтобы Валька не очень-то рассчитывал на простодушие следователя, — пусть думает, что следователь видит его насквозь, а терпеливое фиксирование Валькиных дутых показаний — особый следовательский прием.
— Так. Допустим, — сказал Черниченко и про себя перечитал записи. — Допустим, что вы говорите правду, Бурмакин, — помните, я предупреждал об ответственности за дачу ложных показаний?
— Да ладно, предупреждал, — пренебрежительно отмахнулся парень.
— Тогда меня интересует, как вы объясните тот факт, что сначала брали вину на себя? Кто вас к этому вынуждал?
Бурмакин снисходительно посмотрел на следователя — зачем-де объяснять и без того понятные вещи? Все так просто!
— Вину я на себя не брал, — сказал он. — А оправдываться было бесполезно, это же ребенку ясно. Ты бы мне поверил, если бы Канюков не сказал правду? Поверил бы, да?
Черниченко неопределенно хмыкнул, боясь ляпнуть что-нибудь невпопад, потому что не знал, как следует повести себя, не успел продумать. Валька смотрел на него с довольной усмешкой человека, победившего в озорном споре, и Черниченко с нарочитой медлительностью стал закуривать — за это время можно было собраться с мыслями. Но мысли разбегались, противоречили одна другой. Лучше всего было отпустить парня, обмозговать его показания на досуге, но железо, говорят, надо ковать горячим!
— А что, если Канюков никаких показаний не давал? А, Бурмакин?
Тот состроил насмешливую гримасу.
— Брось, товарищ следователь! Если бы не Канюков — откуда бы ты все знал? Ну?
— Что именно? — вопросом ответил Черниченко.
— Да про Канюкова, что он за сохатым ходил. Я же не вчера родился, чего там! — Валька достал папиросу, прикурил. Потом неожиданно спросил. — Централку, значит, получить можно теперь? Ага?
Следователь сделал вид, будто углубился в перечитывание допроса. Подавая парню густо исписанный бланк, решил:
— Об этом говорить преждевременно. Сейчас ознакомьтесь со своими показаниями и подпишите. Вот здесь и вот здесь.
Пока Валька знакомился с протоколом, следователь исподтишка наблюдал за ним. Но на лице парня ничего не отражалось. Подписав бланк, равнодушно положил на середину стола. Неторопливо завинтил авторучку и только тогда спросил, не тая насмешки:
— И на кой черт эта писанина сдалась? Для проформы?
— То есть как это — для проформы?
— Аа-а, — пренебрежительно протянул Валька. — Разве я не понимаю, что Канюкова привлекать не будут?
— Очень интересное мнение! — возмутился Черниченко.
— А разве неправда? Выкрутится, чего там. — Валька раздавил о край пепельницы окурок, пошел было к двери, обернулся. — Да ты не волнуйся, это я так, к слову. Я же не против, раз у Канюкова все-таки человечество оказалось. Ну ладно, пока!
И — вышел.
У Ильи Черниченко осталось нелепое впечатление, будто Валька Бурмакин снисходительно похлопал его по плечу. Но какого черта он так себя держит, позвольте спросить?
Голова, что называется, шла кругом. Было над чем задуматься: новая, совершенно неожиданная версия. Если ему удалось уверить парня, что Канюков дал какие-то новые показания, он должен был отвечать правдивее, нежели прежде. Но если допустить такое — что же получается? Что Бурмакин спас Канюкова от смерти, притащил из тайги, а тот… Абсурд получается, бред!
— Бред сивой кобылы, — вслух уточнил он и, засунув руки в карманы, зашагал из угла в угол по кабинету.
Ладно, он допускает все: Бурмакин выслеживал лося или гнал его, лось был перехвачен Канюковым, Канюков по неопытности получил удар копытом, подоспевший Бурмакин убил зверя. Пусть так, это не противоречит написанному лыжами на снегу. Наоборот, очень даже ловко укладывается — как рука в перчатку. Но — только до определенного момента!
Он снял трубку, назвал телефонистке номер.
— Здорово, Черниченко говорит. Леменчук в отделении или нет? Где на посту? Ага, понял. Нет, надо было уточнить кое-что.
Трубка улеглась на рычаг. Потом следователь надел полушубок и, рассеянно подбрасывая на ладони шапку, пошел к двери. Конечно, он мог поговорить со старшиной Леменчуком, когда тот будет в отделении, не искать его по всему поселку. Может быть, так и поступить? Или найти старшину и поговорить сейчас? Пожалуй, лучше сейчас, позже другие дела найдутся.
Сдав ключ от кабинета, Черниченко вышел на улицу. Дежуривший по поселку милиционер обычно крутился возле столовой, а вечером около клуба. Черниченко зашел в столовую, спросил у буфетчицы:
— Леменчук не показывался, Нюра?
— Показывался Леменчук. Вызвали его.
— Куда?
— А к Сашке Скорнякову, свинью стрелять.
— Какую свинью? — удивился Илья.
— А какие свиньи бывают? Обыкновенную.
— Где этот Скорняков живет?
— Как в больницу идти, новый дом с узорчатыми наличниками знаешь?
— Знаю.
— Наискосочки от него, увидишь, дверца голубая в ограде.
— Найду, — кивнул следователь.
Миновав новый дом, Черниченко услыхал негромкий хлопок пистолетного выстрела, погодя немного — второй. Толкнув голубую калитку, по зыбкому тесовому настилу прошел к стайке, в открытых дверях которой углядел красный милицейский погон. Леменчук торопливо прятал в кобуру пистолет.
— Свояк, товарищ лейтенант, пособить упросил. Больно здоровущая была, холера, с ножом разве подсунешься? — движением головы старшина показал в глубину стайки. Там, на золотой нарядной подстилке из соломы, лежала огромная свинья. Задние ноги ее все еще вздрагивали. Давно не бритый мужчина — видимо, леменчуковский свояк — нагнулся над зеленым эмалированным ведром. В ведро из перерезанного горла свиньи со звоном хлестала кровь.
— И до чего живучая, — пожаловался он. — С первого раза нипочем не легла, ты скажи!
Так как Леменчук явно не собирался уходить, следователь спросил, косясь на небритого свояка:
— Слушай, старшина, Канюкова при тебе Бурмакин привез?
— Однако при мне. Я и в больницу звонил, чуть не час добивался у телефонисток. Голос сорвал вдребезги.
— Как себя Бурмакин держал, не помнишь?
— Ничего держал, подходяще. Врать не стану, потому как без всякого упорного сопротивления закону. Сперва глаза вылупил, а после централку отдал вполне культурно.
— Что-нибудь говорил?
— Чего ему говорить?
— А Канюков?
— Канюков его враз на место поставил, товарищ лейтенант. Следствие, мол, выяснит точно, какой пулей зверь стрелян. Валька и скис, крыть-то нечем!
Черниченко задумчиво кивнул.
— Добро. Может, понадобится твои показания. Пока, мужики!
Неразрешимых «зачем» и «почему» набралось до чертиков. Даже если предположить, будто Канюков действительно обвинил в браконьерском выстреле человека, сделавшего этот выстрел для его спасения, то одно «зачем» останется по-прежнему неразрешенным: зачем, ради чего решился он на такую подлость?
Невозможно было предположить; что Канюков безосновательно обвинил Вальку. Человека, дважды спасшего ему жизнь, потому что вытащить из тайги — тоже спасти. Впрочем, отчего это следователь Черниченко сбивается именно на бурмакинскую версию? Ах да, следы на месте происшествия! Канюковской версии эти следы не подтверждают, даже расходятся с ней. Но подумаем еще раз, не выпущено ли какое-то звено, позволяющее свести концы с концами хотя бы! Слежка за Бурмакиным, преследующим лося. Выстрел. Бьющийся в конвульсиях зверь. Гм, Илья Черниченко, например, не полез бы под его копыта. Вообще не стал бы подходить к браконьеру. Подкараулил бы, когда браконьер повезет мясо в поселок. Почему же не поступил так достаточно опытный Канюков? Зачем сунулся к лосю? И, наконец, почему следы лыж не подтверждают его рассказа? Тьфу, черт! А чего ради дознаватель Черниченко торопится с выводами и заключениями, если еще не спросил Канюкова?
В самом деле, он даже не представляет себе, что и как объясняет Канюков. Неизвестно, в полном ли сознании находился заготовитель, информируя о происшествии Леменчука, правильно ли понял его Леменчук. Может, у человека получилось сотрясение мозга, не понимал даже, о чем говорит. Правда, удар пришелся не по голове, а в пах… То есть как это в пах, однако? Лось Лежит на снегу, вернее — в снегу даже, потому что снег глубок и рыхл, а человек стоит наверху, на лыжах. И лось бьет человека в пах? Опять бред сивой кобылы!
Значит, все-таки приходится верить Бурмакину?
Нет, нельзя поверить!
Нельзя, потому что человек не может быть таким бесчеловечным, каким оказывается тогда Канюков.
Не может!
Светка скучала.
Она полулежала на застеленной дерюжным покрывалом Наташкиной кровати, днем служившей диваном, и дразнила подругу. Обычно дразнить Наташку было сплошным удовольствием — она не сердилась, не обижалась, а лезла с дурацкими жалостями. Смех же один, да? Наташка Сударцева жалеет Свету Канюкову! А если сказать за что, так это совсем умора — за то, чего самой не хватает, ну прямо как ног безногому.
Сегодня Светка дразнила Наташку без удовольствия, Наташкины наивности не смешили ее, а злили.
— Пожалуйста, можешь себе играть в куклы, если тебе так хочется! — Светка постаралась улыбнуться, как улыбается Джина Лоллобриджида. — Хоть до двадцати пяти лет. Потом сама же спохватишься.
Двадцатипятилетие в Светкином представлении было порогом старости.
— А при чем здесь куклы? — спросила Наташка, уставшая раздувать пламя, которое не желало перекидываться с быстро прогоравшей лучины на поленья. Оттопыренным от перепачканной в саже ладони мизинцем поправила упавшую на глаза прядь волос.
— Потому что ты обо всем судишь по-детски. Как будто тебе пятнадцать, а не девятнадцать.
— Ничего не по-детски. Просто не желаю понимать твоих взглядов на любовь.
Последний год или около того она все чаще и чаще не желала понимать подругу. Светка менялась на глазах, и старая девчоночья дружба начинала давать трещины. Она не разваливалась только потому, что Наташка страшилась обидеть подругу беспричинной — так ей казалось — холодностью. А Светка, не сходившаяся близко ни с кем из сверстниц, предпочитала Наташкино общество одиночеству.
— У нас с тобой разные возможности, — посожалела Светка, разглядывая в зеркале над комодом свое отражение — хорошенькую девочку с модным начесом. — Зачем я обязана принимать всерьез какие-то чувства, если мне никто не нравится?
— Тебе нравится, чтобы все парни за тобой бегали, а за другими девчонками — никто.
— Тебе не понравилось бы, да?
— Даже нисколечко, — не задумываясь ответила Наташка и вздохнула. — Интересно, когда настоящая любовь.
Ее подруга расхохоталась. Смех был наигранным, чересчур громким, но в подобных тонкостях Наташка не очень-то разбиралась.
— Можешь смеяться сколько угодно, мне наплевать, — сказала она. — Главное в жизни — это любовь. Такая ну… именно настоящая!
— Настоящая любовь была раньше, у всяких там Ромео и Джульетт. Ну кого ты можешь полюбить в нашем поселке, например? Абсолютно некого! И вообще надо поскорее выбираться из этой дыры!
— А мне так и не шибко хочется, — вздохнула Наташка. — Страшно.
Светка округлила глаза.
— Страшно?
— Ну не страшно, а… боязно. Честное слово, боязно!
— А я так дождаться не могу. Ты только представь — разные там фестивали, вечера, знакомства. Блеск!
— На стипендию много не наблестишь.
— Ха! Папаша подбрасывать будет. Им здесь много не надо, а денежки у него водятся.
Обе примолкли: в сенях стукнула дверь, заскрипели жидкие половицы.
— Дядечка Филипп пришел, — ответила Наташка вопросительному взгляду подруги.
Та приняла более чинную позу, оправила на коленях платье. Но Сударев почему-то медлил входить. Наконец дверь приотворилась.
— Натаха, где у тебя тряпка — ноги вытирать? Собственных трудов не жалеешь?
— Она же на дворе, дядечка. Под самым крыльцом лежит, на мостках. Принести?
— Не надо, — Филипп Филиппович закрыл дверь, снова скрипнули половицы.
— Я пойду, подруга, — сказала Светка, вставая.
— Сиди, вместе пойдем. Я только дядечку накормлю.
— А-а, — недовольно поморщилась Светка. — Дай хоть книжку какую-нибудь. Терпеть не могу вежливых разговоров со старыми чудаками…
— Ты чего так поздно? Шесть часов скоро! — встретила Сударева Наташка и, подражая кому-то, дурашливо повела носом — дескать, не пахнет ли ненароком спиртным?
Филипп Филиппович ласково ткнул ее пальцем в лоб, сказав:
— Тоже туда же… Старика Заеланного встретил, рассказывал мне…
Наташке показалось, будто осекся он, метнул встревоженный взгляд на Светку.
Пока девушка нарезала хлеб, Филипп Филиппович мыл руки под рукомойником. Сев к столу, зачерпнул ложкой щей и, не донеся до рта, неожиданно спросил Светку.
— Отец в больнице еще, Светлана?
Та, не подняв глаз от книги, кивнула. Потом, усмехнувшись, в свою очередь спросила:
— Что это вы вдруг заинтересовались его здоровьем?
В тоне вопроса звучала откровенная ирония — она знала, что Сударев помнил отца по лагерю. Знала, что воспоминания не доставляли удовольствия ни отцу, ни Судареву. Но Светке всегда нравилось играть на чужих нервах.
— Так, — буркнул Филипп Филиппович и прихлебнул щей.
— Я думала — навестить хотите…
Сударев промолчал, но Светка не собиралась униматься.
— Грех вам, Филипп Филиппович! Пора прошлое забывать.
Он не то усмехнулся, не то поморщился.
— Ядовитая ты стала, Светланка! И языкатая!
Светка пососала и без того яркие губы, удивилась с притворной скромностью:
— Вы думаете? — и вдруг, положив книгу, рассмеялась. — Разве вы не знаете, что гуманизм — признак сознательности? Вон Валька Бурмакин даже из тайги моего папашу на себе вытащил, а папаша знаете каких свинок ему подкладывал? Ого!
Филипп Филиппович крякнул и принялся за тушеную капусту, которую подставила ему молчаливая Наташка. В наступившей неожиданно тишине было слышно, как ходит по чердаку ветер.
— Презираю такую сознательность! — фыркнула вдруг Светка. — Никакой гордости у людей нет, смотреть противно. Разве Бурмакин мужчина? Баба он худая! — Она не могла забыть Вальке обиды в клубе.
Сударев положил вилку и, отвернувшись от стола, обняв ладонями колени, всем корпусом подался в сторону Светки.
— У тебя странные понятия о гордости, Светлана, — сказал он. — Валентин Бурмакин не мог оставить твоего отца замерзать в тайге. Человек прежде всего должен быть человеком, понимаешь?
— Это называется гуманизм, да? — тоном примерной ученицы спросила Светка и, показывая, что разговор ей наскучил, стала царапать ногтем покрывало, вызывая на игру вылезшего из-под кровати котенка. Но тот, равнодушно проследовав к порогу, принялся «намывать гостей». Тогда Светка, разочарованно вздохнув, сказала:
— Все это красивые слова…
— А я, например, думаю, что, если прежде твой отец поступал в отношении Бурмакина несправедливо, теперь он испытывает угрызения совести… — Филипп Филиппович не был уверен в справедливости, своих слов, но со Светой он не имел права говорить иначе.
— Сомневаюсь, — не поверила ему Светка.
Он внимательно посмотрел на девушку.
— Очень трудно тебе будет жить…
— Меня ваша Наташка зажалела уже совсем, Филипп Филиппович. Такая я несчастная — и думаю не так, и поступаю не так, и вся-то я не такая… — Она вдруг вскинула голову, театрально сощурила глаза. — Не хочу, чтобы меня жалели. Не нуждаюсь!
Сударев только пожал плечами, стал закуривать. Наташка убрала со стола, вынесла в сени кастрюлю со щами. Вернувшись, напомнила подруге:
— Пойдем?
— Куда собралась? — спросил ее Филипп Филиппович.
— К Надьке Звягинцевой, за мулине. Ей из Красноярска целую посылку прислали, разного.
— А я, — сказала Светка, поглядев на часы, — в больницу. Передачу родителю понесу, мать приготовила уже, наверное.
Никаких угрызений совести Яков Иванович не испытывал. Наоборот, во всем случившемся винил Вальку и только Вальку. Не будь у этого человека такой дурацкой натуры, Якову Канюкову не понадобилось бы выслеживать его, стараться поймать с незаконной добычей, из-за чего все и произошло. В конце концов Яков Канюков не лося искать отправился, а браконьера Бурмакина уличать. Значит, причина — Бурмакин, а лось и больница — следствие. И в том, что этот Бурмакин спас его от копыт зверя, тоже нет никакой личной заслуги его перед Яковом Канюковым, парень не догадывался, кого выручает. Когда узнал — за голову схватился, сказал: надо было ему насмерть тебя затоптать! И тем не менее Яков Канюков в благодарность за своевременный выстрел и доставку в поселок постарается спасти Вальку от штрафа. А если Бурмакину и придется все-таки пострадать, тоже особой беды не будет — и без Канюкова убил бы лося, за тем шел! Смешно же верить его россказням, будто высматривал глухариные тока!
Опираясь на локти, Яков Иванович передвинулся ближе к стене, нашарил под подушкой пачку «Беломорканала», закурил. В палате курить не разрешалось, но после обхода врача дежурные сестры заглядывали редко и не очень придирались. Из шести коек были заняты только три, самым тяжелым считался Канюков. Старик пенсионер, лежавший с расширением вен, уходил обычно точить лясы в соседнюю палату, а плохо говоривший по-русски мальчик-эвенк с переломленной в лодыжке ногой никогда ничего не требовал и о нем попросту забывали. Поэтому Канюков мог без стеснения курить, когда ему этого хотелось.
И все-таки дым он пускал на всякий случай по стенке — ничего не поделаешь, порядок есть порядок! А Яков Иванович искренне верил, что всегда стоял за порядок…
На этот раз предусмотрительность оказалась кстати: из коридора донесся не по-больничному громкий мужской голос, ему отозвалось низкое контральто дежурной сестры Тамары. Потом дверь палаты отворилась, но в проеме ее Канюков увидел не врача, а следователя, или, как их называли теперь, дознавателя, Черниченко. Узнать его не составляло труда, хотя кургузый белый халат делал человека похожим черт те на кого. Черниченко приостановился на пороге, осматривая палату, и Яков Иванович обрадованно махнул ему рукой:
— Давай, давай, заходи!
Он не думал, к нему или не к нему пришел дознаватель. Просто обрадовался знакомому человеку, возможности перекинуться с ним словечком. И только когда Черниченко, сказав «Здравствуйте», подвинул к изголовью белую табуретку и уселся, понял — следователю нужен именно он. И досадливо поморщился:
— Значит, уже раскрутили колесо? Пошла писать губерния? Жалковато!
— А что? — спросил Черниченко.
Канюков засосал верхнюю губу под нижнюю, укололся о давно не бритую щетину.
— Такое дело, понимаешь… Все же парень меня из тайги выволок. Думал я — оприходовать это мясо, и все. Раз уж так получилось.
— Так не выходит, — сказал Черниченко.
— Понимаю, что не выйдет теперь, если уж дело завел. Раньше, конечно, надо было мне с начальством твоим договариваться. Ладно, ничего не поделаешь!
Яков Иванович держался простецки, выкладывая такое, о чем следователям обычно не говорят. Это очень подкупало. Захотелось откровенно признаться, что дело по сути не заведено, что главное — не в нем, и попросить в тон Канюкову: будь другом, выведи из тех дебрей, куда я забрался! Но об этом мог попросить мальчик, следователь — нет. И Черниченко, выложив на тумбочку бланк, предложил Канюкову по-официальному немногословно:
— Яков Иванович, расскажите, что вы делали восемнадцатого числа этого месяца.
— А установочные данные чего же? профессионально спросил Канюков.
— Потом впишем, какая разница.
— Потом так потом, — охотно согласился Яков Иванович и подмигнул: — Много писать не придется, не бойся. Вот мне доставалось бумаги поисписать, ох и порядком! — он закрыл на мгновение глаза, собираясь с мыслями. — Так вот, утром восемнадцатого числа охотник Кустиков поставил меня в известность, что браконьер Бурмакин отправился в тайгу, хотя сезон охоты на пушного и другого зверя закончился в феврале…
Рассказ Канюкова, словно считываемый с заполненного уже опросного листа, потек ровно, гладко. Только, вопреки ожиданию, он ничего не объяснял — очень правдоподобный рассказ, если бы дознаватель Черниченко не выпутывал человеческих и звериных следов, на месте происшествия. Но дознаватель выпутывал следы и уже сопоставлял их с тем, что рассказывал теперь Канюков. Концы с концами не сходились у Черниченко, не сходятся они и у Канюкова, безусловно более опытного в следовательской работе.
— Скажите, пожалуйста, — невежливо взбаламутил Черниченко гладкий ручеек повествования, словно шагнул в него с берега. Он даже смог бы поклясться, что ручеек гневно забурлил, ткнувшись в препятствие. — Скажите, пожалуйста, где именно вы находились, когда услышали выстрел Бурмакина?
Яков Иванович удивился наивности дознавателя.
— Ну как тебе объяснишь, где именно? В тайге. Елки — они одинаковые, лейтенант.
— Справа или слева от вас находился Бурмакин?
— Видимо, впереди, поскольку я шел по его следу.
Взгляд и улыбка Канюкова были по-прежнему исполнены доброжелательности. Но теперь Черниченко не поверил им. Теперь он уже не попросил бы Якова Ивановича: будь другом, объясни! — понимал, что Канюков ничего не объяснит. Что будет путать и лгать.
— По его следу вы шли только до того места, откуда повернули за лосем. Помните, у ручья?
Канюков опешил. Черты его лица как-то вдруг обострились, как бы испуганно прижались друг к другу. Но Канюков не испугался, только удивился.
— Тебя что, — спросил он, помолчав, — в тайгу, что ли, носило?
Черниченко подмывало насмешливо прищуриться и сказать «допустим», но он передумал и сказал просто:
— Да, был.
— Хм! — Канюков дернул плечами. — Зря. Следы-то, наверное, совсем затаяли.
— Не совсем, — ответил Черниченко.
— В тайге, может, и не совсем, — согласился Канюков. — Не то что на открытых местах. Да ведь все равно ничего уже не увидишь, ушло время.
— Три дня назад все можно было увидеть, — не моргнув глазом и не покраснев, приврал для убедительности Черниченко.
Канюков, сведя к переносице густые брови, кивнул:
— Вот оно что… И что же ты углядел?
— Поймите, Яков Иванович, что вопросы должен задавать я. Вы же знаете!
Яков Иванович понял. Пока он понял немногое — что колесо действительно закрутилось. Видимо, мальчишка по дурости горячо взялся за дело и кое-что успел. Это безусловно неприятно, но не так уж страшно — есть репутация Бурмакина, есть бурмакинское ружье и пули от него. А больше ничего быть не может, потому что на Якова Канюкова работает сейчас время, да, да, обыкновенное время, отмеряемое тикающими на руке часами, — с каждым часом тончает снежный покров в тайге. И Канюков постарался снова придать лицу доброжелательное выражение.
— Давай поговорим по-деловому, лейтенант. Не знаю, что именно Валька тебе наплел, но мне ты не доверяешь напрасно. Я тебе доброго хочу. Учти, в милиции находятся вещественные доказательства, изобличающие Бурмакина. А следы, если даже они говорят в его пользу, — черт, он же мог каких угодно следов нафабриковать, пока я лежал у костра! — следы, лейтенант, перед судьями на стол не положишь. И погода, — движением головы он показал на окно, — вон какая стоит, не осталось, пожалуй, следов. Взвесь, братец!
Черниченко поиграл бесполезной авторучкой — последняя тирада Канюкова в протокол не ложилась. Похлопал себя по карманам — в каком папиросы? — и обескураженно вздохнул, вспомнив, что находится в палате. А закурить следовало бы. Закурить и обдумать между затяжками, как действовать дальше.
Образ действий решил подсказать Канюков:
— Дело, лейтенант, пустяковое, выеденного яйца не стоит. На нем благодарность не заслужишь, а взыскание заработать сможешь. Боюсь, обведет тебя вокруг пальца Бурмакин, задурит голову. Тебе бы не мудрить, а попросту: раз-раз и решил!
Илья Черниченко невесело усмехнулся. В больницу он шел без твердой уверенности, но все-таки с надеждой встретить человека, который освободит от тяжести нехороших подозрений. Увы, все получилось наоборот — перед ним был хитрый и опытный противник. Так неужели все-таки за правдой следует идти к браконьеру Вальке Бурмакину?
— Объясните, каким образом вы попали под удар лося?
— А я объяснял, — лениво ответил Канюков. — Брось ты, говорю, воду в ступе толочь. Зачем второй раз объяснять?
— Уточним, — заупорствовал Черниченко и, найдя нужное ему место в опросном листе, зачитал: «Услышав выстрел, выбежал из тайги на сравнительно чистое место, где увидел Бурмакина с ружьем в руках и лежащего на боку лося. Выругав Бурмакина, я вгорячах подбежал к лосю со стороны головы, и лось, находившийся при последнем издыхании, ударил меня копытом в пах». Я правильно записал ваши слова?
— Вроде правильно, — кивнул Канюков.
— Ознакомьтесь с вашими показаниями и подпишите, — попросил Черниченко, боясь выдать торжество.
Но Канюков все-таки услыхал в тоне следователя необычные жутки, насторожился. Заполучив в руки бланк, подолгу вчитывался в каждое слово. Возвращая, устало вздохнул:
— Возьми. Подписывать не стану, надо было оформлять как следует. Ни имени, ни фамилии — что это за документ?
— Сейчас заполним, — сдерживая себя, сказал Черниченко.
— Не надо. Потом новый напишем. Человек белого света не видит, а ты с допросом к нему лезешь. Как будто по делу о грабеже или убийстве. Я же тебе черт знает что в таком состоянии наговорю, может, на свою голову. Так не годится, лейтенант!
Черниченко не оставалось ничего другого, разве пожать плечами.
— Это ваше право — отказаться от подписи.
— А я и без тебя помню еще об этом, милый! — усмехнулся Канюков.
— Кон-нечно помните, — снисходительная улыбка Канюкова вывела наконец следователя из равновесия. Нго поймали, словно студента-практиканта, на неверно оформленном протоколе? Так пусть Канюков знает, что это ничего не значит! — Наверное, помните и то, как объясняли происхождение вашей травмы в милиции? И, — он подумал об этом только сейчас, — врачам как объясняли? Помните?
— Помню, — спокойно подтвердил Канюков. — Таки объяснял. А что, Бурмакин объясняет по-другому? Как, если не секрет?
Теперь уже Черниченко усмехался самым откровенным образом, не пряча торжества, бравируя им:
— Вы знаете как! Прекрасно знаете, Яков Иванович! И вы, человек опытный, здесь промахнулись — зачем мне спрашивать Бурмакина, если достаточно сделать экспериментальные измерения? Самые элементарные, Яков Иванович, подумайте только!
Канюков нахмурился; Мальчишка, кажется, нашел единственно слабое место и — лягнул! Лягнул, как тот сволочной лось! Черт побери, разве могло прийти в голову, что кто-нибудь станет выискивать слабые места, копать? В никудышном деле о штрафе, из-за какого-то браконьера Вальки Бурмакина?..
Он сказал, когда Черниченко устал уже ждать его слов:
— Чудак ты, лейтенант, — роешься в несущественных мелочах. Ты пулю из лося извлек?
— Извлек.
— Тогда какая для тебя разница, где и как получена травма? Между прочим, теперь я вспомнил, что попятился и упал, зверь ударил меня лежащего. Удовлетворяет это тебя?
— Нет, — сказал Черниченко.
— Почему?
— Вы же не хуже меня понимаете — разве бы это был удар? Шлепок! И потом, Яков Иванович, я же действительно извлек пули. Две, а не одну. После такого попадания ногами не дрыгают.
— А, иди ты к чертям собачьим, — вроде бы шутя заругался Канюков. — Надоел! Пойми, что я уже не помню подробностей, не до того было. А ты заставляешь меня их выдумывать. Не веришь мне, коммунисту, и веришь Бурмакину. Да ты что, парень?
Тогда Илья Черниченко отважился плюнуть на следовательскую этику, на статьи процессуального кодекса. Он был не только дознавателем — был человеком с сердцем и нервами.
— Вы коммунист, да? — спросил он с дрожью в голосе. — Так докажите это! Докажите! Ведь Бурмакин спас вашу жизнь! Спас дважды! А вы? Решили отыграться на нем, да? Вы же говорите — дело пустяковое, штраф. Так скажите правду, потому что для Бурмакина это не пустяк. Для него это все. Все, вы понимаете? Потому что теперь… ну, я не знаю, как это сказать! Теперь же он всем нам в глаза плевать может, Яков Иванович! Признайтесь, извинитесь перед ним как-нибудь, что ли!
Канюков задумчиво смотрел перед собой, еле заметная улыбочка ходила на его тонких губах. Потом чуть-чуть повернул утонувшую в подушке голову.
— А если… если не буду я извиняться? Что ты станешь делать тогда, лейтенант?
В глазах Черниченко погасло нетерпеливое ожидание, они сузились и как будто остыли. Пряча в папку не подписанный Канюковым бланк опросного листа, сказал, глотая не то слюну, не то слезы:
— Буду доказывать.
— Валяй, — усмехнулся Канюков. — Доказывай. Желаю успеха.
— Спасибо, — тоже выжимая улыбку, поблагодарил следователь. Он ненавидел себя за целый ряд оплошностей, ребяческие свои выходки и идиотскую горячность, но все-таки и теперь не смог сдержаться. Взявшись за ручку белой двери, обернулся и, первый раз называя Канюкова на «ты», сказал:
— Однако и гадина же ты, Яков Иванович! Ну и гадина!
Это было разрядкой. Он спокойно толкнул от себя дверь и удивился, отчего та сначала не поддалась. Нажав вторично и посильней, открыл, а выйдя в коридор, увидел испуганно отшатнувшуюся от двери молоденькую девушку в белом, как и у него, халате, с высокой модной прической. Поняв, что она подслушивала, брезгливо поморщился. И, только снимая халат, вспомнил, что девушка — дочь Канюкова, с которой несколько раз танцевал в клубе.
Она думала, что усмехается, но губы только неуверенно искривились. Потом стерла неполучившуюся усмешку тыльной стороной ладони.
«Велика важность — у двери стояла! — мысленно сказала она Черниченко в ответ на его презрительный взгляд. — Может быть, и не подслушивала вовсе, только что подошла. И вообще не виновата, если разговаривают так громко…»
— Подумаешь! — сказала она вслух.
Она рада была бы не слышать разговора в палате, в конце концов она принесла пирожки и просто ждала возле двери, пока выйдет Черниченко, чтобы не помешать. А он еще смеет смотреть такими глазами!
Теперь Светка могла беспрепятственно войти в палату, но что-то заставило ее медлить. Почему-то не хотелось встречаться с отцом, говорить с ним. И она пошла не в палату, а в процедурную.
— Сестричка, — попросила она, положив пакет с пирожками на стул, — передайте это, пожалуйста, Канюкову.
— А ты что сама не отдала? — удивилась сестра.
Светка замялась только на одно мгновение.
— Там у него следователь Черниченко сидит, ну их! Может, дела какие-нибудь, а мне домой надо.
— Оставь, — сказала сестра. — Я передам.
Выйдя на улицу, Светка решила забыть о подслушанном разговоре. Нарочно стала думать о новом пальто Аськи Григорьевой, как пошел бы этот фасон ей и как поглядывали бы парни, приди она в таком пальто в клуб. В связи с клубом и танцами только, честное слово ни почему больше, вспомнила о Вальке Бурмакине. И удивилась, что вспомнила о нем отдельно от грязной истории с отцом, от подслушанного разговора. Как же так? Разве не он виноват во всем? Не было бы этого Вальки, так не было бы ничего: ни происшествий в тайге, ни встречи в дверях палаты. Это из-за него Светка должна теперь слушать, как оскорбляют отца, а значит, и ее, Светку! За что? Почему ей надо стыдиться своей фамилии и думать, что за спиной показывают пальцами: дочь того самого Канюкова!
Девушка бросила возмущенный взгляд на фигуру в форменной шинели, заворачивающую за угол, и, решительно пересекая улицу, закричала:
— Послушайте! Подождите!
Черниченко остановился.
— Могу я узнать про дело Канюкова? — спросила она, не поднимаясь на мостки и поэтому чувствуя себя ужасно маленькой рядом с высоким лейтенантом.
— Такого дела у меня нет, девушка, — сказал тот.
— Ну, дело Бурмакина, какая разница. Я дочь Канюкова.
— Знаю, — кивнул следователь. — На Бурмакина тоже нет дела. Не возбуждали.
Она растерялась на секунду, потом рассердилась.
— Вы можете говорить серьезно?
— Я серьезно и говорю.
— Но вы же назвали отца гадиной, я слышала!
Черниченко вдруг посуровел, начал как-то по-особенному чеканить слова:
— Видите ли, девушка, я тоже с нервами, И когда человека выручают из беды, потому что человек должен выручать, а тот валит на него собственную вину, тогда, знаете… Да, назвал. И не собираюсь отрицать этого.
Светка смотрела на сияющие носки его сапог, словно глаз не могла отвести. Так и не отведя, спросила:
— Значит, отец свалил всё на Бурмакина, да? А Бурмакин совсем не виноват?
— Виноват в том, что лось не затоптал вашего отца насмерть, — взорвался Черниченко, которому почудилась в словах Светки ирония, но тотчас же спохватился: — Впрочем, пока это не доказано еще, что Бурмакин не был соучастником…
— Наверное, не был, — грустно сказала Светка и, перестав прятать глаза, объяснила: — Отец же ушел Бурмакина ловить. А если не поймает — охотиться за сохатым. Я теперь вспомнила весь их разговор.
— С кем? — почти машинально спросил Черниченко.
— Да с Кустиковым же, — утомленно ответила девушка, как отвечают надоедающим глупыми вопросами детям.
Ее откровенность заставила следователя растеряться. Девчонка подслушивала у дверей палаты, конечно ничего не поняв толком, обидевшись за отца, потребовала объяснений и вдруг… Что это, ребяческая наивность или что?
— До свиданья, — сказала Светка и пошла через улицу, равнодушно ступая по лужам, зеленым от раскисшего конского навоза. Она их не видела, как не видела впереди застроенную домами сопку, что загородила следующие сопки, давно оголенные лесорубами и еще не тронутые, поросшие снизу пихтачовым густолесьем, к вершинам уступающим место соснам. Светка смотрела сквозь ближнюю, застроенную, как смотрят через прозрачное — до неверия в его существование — стекло, и взгляду ее открывалось нечто похожее и непохожее на действительность — тайга, какой она воображала ту тайгу, где охотники добывают соболей и медведей. Она представлялась наполненной смутными неведомыми ужасами, как темная комната в детстве, хотя тьмы в этой тайге не было, был призрачный, отраженный снегами свет, незыблемая тишина, обреченность и подбирающийся к сердцу холод смерти.
«Вот дура», — сказала она себе, потому что вместо тайги перед ней лежал поселок и по-весеннему легкомысленное солнце втискивалось в крутой и узкий Горняцкий переулок, словно собиралось скатиться по нему к подножию сопки. С веселым урчанием бежала вниз талая вода, норовя выплеснуться из кюветов и разлиться морем. Там, где ей удавалось это, мальчишки строили недолговечные запруды, а взрослые, чертыхаясь и заблаговременно поднимая полы, высматривали обходы. Но чертыхались они благодушно, не всерьез, про себя тайно радуясь наготе земли, звонкой разговорчивой воде, солнечному теплу и свету.
Она не пыталась больше представить себе тайгу, в ней Бурмакина и отца, почувствовать: как это происходило у них? Страшилась почувствовать! Так хотелось, чтобы день оставался по-весеннему светлым и ясным, чтобы не прикасаться к холоду и мраку тайги, не думать о нем! Но как это сделать?
— Как, а? — спросила жалобно Светка у штакетника, который неожиданно заступил ей дорогу, и, ухватившись за него обеими руками, как через решетку, стала смотреть в чей-то огород на прыгающих по суглинку шустрых воробьев. Два из них дрались, не поделив вытаявшей из земли картошины.
— Ну, дают воробьишки! Полезете разнимать?
Она стремительно обернулась — сзади стоял Валька Бурмакин! Он щурился, потому что в глаза ему лезло пылающее на сопке солнце.
— Вы меня презираете, я знаю! — сказала Светка. — Из-за отца. Правда?
— А-а, — небрежно протянул Валька, — чего там! Все же человек, видать, Яков Иваныч. Хотя и хреновый. Следователь меня утром вызывал, так вроде и хитрил, а — куда денется? Ясно, что Яков Иваныч ему рассказал, как все получилось. Свидетелей не было.
Светка выпустила из рук штакетник. Попросила:
— Вы можете объяснить, как все случилось? Только правду?
— А почему нет? В общем, наткнись я чуть позже, конец Якову Иванычу был бы, это точно. Понимаете, понадеялся он, что вконец умотал зверя. И сунулся под копыта — не знал, а может, забыл, что лось — не лошадь, передними ногами как хороший футболист бить может. И — получил… Ну, потом пришлось нарту делать и везти, потому что такое дело — сам на ногах держаться не может и в тайге оставаться один боится. А то бы я костер около него разложил да в поселок смотался, чтобы людей послали. Одному такого битюга тащить — ох и досталось!
— А в поселке… что? — спросила Светка.
Он усмехнулся;
— В поселке Яков Иваныч… А, ерунда это, незачем вспоминать.
— Понятно. — Светка задумчиво наклонила голову, а снова вскинув ее, встретилась с веселыми Валькиными глазами. — Раз Канюков рассказал правду, да?
— Конечно!
Светка молчала, связывая нехитрый Валькин рассказ со словами следователя и услышанным за дверью палаты — в одно. Потом просительно тронула парня за рукав:
— Послушайте, Валентин… Вы… вы не поможете донести мне чемодан?
— Какой? — он, недоумевая, осмотрелся.
— Нет, я зайду сначала домой. А вы меня подождете. Минут пять или меньше даже…
— Ладно, давайте! без особой неохоты согласился Валька.
— Спасибо, — сказала Светка и, решительно закусив губу, двинулась вверх по переулку.
На ходу прикуривая папиросу, Бурмакин последовал за девушкой. Подходя к канюковскому дому, нарочно приотстал. Прошел до конца улицы, покрутился возле забуксовавшей в грязи автомашины, подкладывая под колеса битые кирпичи. Когда шофер, помахав рукой, уехал, вернулся к канюковскому дому и, присев на корточки, принялся тормошить чьего-то большеголового щенка, блаженно растянувшегося поперек мостков.
Щенок повернулся на спину. Доверчиво запрокинув лопоухую голову, пуская слюни, подставил ласковым человеческим пальцам горло, украшенное нарядным белым пятном — словно хвастался украшением, и тихонечко урчал от удовольствия.
— Пошли? — услышал он над собой голос Светки. Тень ее заставила потемнеть белое пятно на щенячьем горле.
Валька встал. Помедлив, поднялся и щенок. Встряхнулся, вопросительно взглянул на Вальку — разве кончили играть? Так скоро? Он тронул лапой резиновый Валькин сапог, попробовал притиснуть его зубами. Но человек не заметил щенячьих ухищрений — он с, удивлением смотрел в лицо девушки, в ее глаза, почему-то полные слез.
— Вот, — сказала она, протягивая чемодан, а себе оставляя узелок. — Я специально хотела, чтобы вы знали. Я ухожу из дому, совсем. Потому что не могу… Понимаете?
Валька не понимал — он попросту растерялся. Оба молчали.
— Бросьте вы, — решился наконец заговорить он. — При чем вы? Мало ли что… бывает…
Светка отрицательно покачала головой.
— Нет, вы не знаете всего. Отец… Он ни в чем не признался, это все Черниченко. Он же ходил в тайгу, нашел там ваши следы. И… не уговаривайте меня.
Он опустил глаза на чемодан, зачем-то взвесил его на руке. Спросил растерянно:
— Так… куда теперь?
— Не знаю, — вздохнула Светка. — Куда-нибудь. Проводите меня к вашей родне. К Наташке.
Валька тоже вздохнул, переступил с ноги на ногу, словно не решающаяся сдвинуть тяжелый воз лошадь, и покорно пошел вперед.
Павел Рогожев забросил на стайку последний навильник сена, вилами же собрал в кучу раструшенные по земле клочья. Отойдя от стайки, чтобы угол зрения стал шире, прикинул на глаз — хватит ли до первой зелени. И решил: нет, не хватит, придется еще прикупить.
— Ты чего, Паша, в работники нанялся? И, никак, сена уже накосил? — окликнул с улицы Черниченко и, нашарив вертлюжок, распахнул калитку. Он недоумевал, каким образом очутился Павел в неизвестно чьем дворе, возится с чужим сеном.
— Накосил, как видишь! — невесело усмехнулся Рогожев, пожимая руку приятелю. — У Кустикова, по тринадцать копеек за килограмм. Чуть не полсотни пуд, если по-старому. Лихо?
— Стыдобушки нет у человека, — сказала с крыльца Анна, и Черниченко вспомнил, что дом и стайка принадлежат вдовой ее сестре Александре. — Хоть бы еще сено доброе было, а то одни дудки.
Черниченко укоризненно развел руками:
— Не надо было покупать.
Рогожев зашвырнул наверх вилы, стал надевать телогрейку. А жена его, словно оправдываясь в чем-то, вздохнула:
— Спасибо, хоть такого нашли — весна же. Чего уж, если покоса настоящего для своячины допроситься не может, — подбородком показала она на мужа.
— Корову продать можно, — заметил Рогожев.
— Точно, Паша! — поддержал его Черниченко.
— Будет болтать-то. — Анна метнула в его сторону осуждающий взгляд. — Без коровы Шурке вовсе не прожить. Женишься да полон дом ребятишек заведешь, тогда узнаешь!
— Женятся чудаки вроде Паши Рогожева, я не из таких.
— Зарекался кувшин по воду ходить, — рассмеялась Анна. — Погоди, как миленького обротают! Долго не напрыгаешь.
Анна ушла в дом.
— На глухарей сманивать пришел? — спросил Рогожев, когда они остались вдвоем. — Ничего не выйдет. Дел всяких по хозяйству собралось — уйма! Да а на руднике тоже.
Черниченко махнул рукой — как перебитым крылом птица. Усаживаясь на козлину для пялки дров, сказал, поджимая губы:
— Мне тоже не до глухарей, Паша. И настроение не то вдобавок. Такое, брат, настроение, точно хорек в душе навонял.
— С похмелья бывает, — пошутил Рогожев.
— Иди ты к черту — с похмельем! Канюкова сегодня допрашивал. Вернее, не допрашивал, а так… поговорить хотел.
— Ну и что? Плохо ему шибко?
— Плохо, только не в смысле здоровья. Это чепуха, что из какой-то там вертлужной впадины бедренная кость выскочила. Вправили, зарастет как на собаке. Его от другого лечить надо.
Черниченко толкнул ногой нерасколотый сосновый чурак, и тот, укатившись в сторону, повернулся косо обрезанным торцом с выеденной гнилью сердцевиной.
— Понимаешь, Паша, как получается — здороваешься с человеком за руку, с уважением первый шапку снимаешь, а у него, как у атого полена, нутро гнилое.
И ведь пока не распилишь, в голову не придет! Да рассказал бы ты мне раньше, что Канюков на такое дело способен, я бы тебе в глаза плюнул!
— Я тебе ничего не рассказывал, а ты, если уж начал, объясняй толком, если не следственная тайна.
— Какая там к черту тайна, об этом в газете написать надо! Его же Валька Бурмакин у смерти вырвал, когда Канюков лося гнал и угадал под копыта. Потом такую дорогу — я же ходил, видел! — на себе вытаскивал, а тот… Тот его браконьером выставил вместо себя. Можешь ты в это поверить?
— Так кто у тебя, выходит, сохатого-то гонял? Бурмакин или Канюков?
— Похоже, что на этот раз Канюков, а не Бурмакин.
— Только похоже?
— Может, и Бурмакин за этим ходил, наверное даже за этим. Скорее всего даже гнал, но зверя перехватил Канюков. На Канюкова зверь вышел, представляешь? И тот, не подозревая, что за зверем кто-то идет, дунул его догонять.
— И убил?
— Убил Валька, когда…
— Валька не убивал, но убил Валька? — рассмеялся Рогожев. — Ты что, в самом деле с похмелья?
— Да ты слушай! Валька — это уж он сам рассказывал — пошел на выстрелы…
— Бурмакин рассказывал?
— Слушай, иди ты к черту! — обозлился, на друга Червиченко, услыхав в голосе иронию. — Я же на месте происшествия следы выпутывал, да еще не один, а с таким следопытом, что дай боже! Со стариком Заеланным! Ну а потом, имея уже некоторые данные для определенных предположений, второй раз вызвал Бурмакина. Взял в некотором роде на пушку и… хоть стой, хоть падай! Не поверил я сразу Бурмакину, Паша, не мог! Пошел к Канюкову в больницу….
Он замолчал, обескураженно махнув рукой.
— Понятно, — сказал Павел и тоже надолго замолчал.
Толкнув мордой незаложенную дверь, из стайки вышла корова. Потерлась боком о косяк и, углядев на земле сено, потянулась к нему, с шумом втягивая влажными ноздрями воздух, словно не доверяя глазам. Её опередил неизвестно откуда взявшийся дрозд-рябинник. Упав перед самой коровьей мордой, угрожающе растопырил крылья. Сказав по-своему что-то оскорбительное — будто провели ногтем по зубьям гребенки, — схватил длинный стебелек мятлика с уцелевшим мохнатеньким соцветием. Крутанув головой, отчего белесая метелка соцветия отклонилась кверху, как залихватский ус, и удовлетворенно чирикнув, полетел к трем голым березам за палисадником.
— Строиться начали уже, — улыбнулся вслед ему Черниченко.
Павел рассеянно играл спичечным коробком, позабыв о приклеившейся в уголке рта папиросе. Так и не прикурив, только оторвав папиросу и соскоблив зубом оставшуюся на губе бумажку, спросил:
— Так что же он, Канюков? Начисто отпирается, да?
— Посмеивается. Говорит: доказывай, желаю удачи.
— А ты? Уверен, что не ошибаешься?
— Не из пальца же высосал!
— Да, дела… — Рогожев откусил половину папиросного мундштука, прикурил. — Мужик он, конечно, битый. Голыми руками не возьмешь.
— Понимаешь, я даже не об этом думаю. Не о Ка-нюкове… Канюкова, видать, могила исправит, а вот Валька Бурмакин… Ты же ведь высказал эту мысль, помнишь, что если человек считает, будто, с ним поступают подло, то это и ему руки на подлости развязать может.
— Так что же будешь делать, Илья?
— Что я могу делать? Оформлять следственное дело и передавать в суд. Канюков заплатит полтыщи, а Бурмакину вернут ружье. Тебя это устраивает?
Рогожев подумал.
— Не шибко.
— Меня тоже не устраивает, Паша. Поэтому надо действовать и по партийной линии.
— Из партии его исключат и без нашей помощи, я думаю, — уверил Рогожев.
— Речь совсем не о том, Паша. Хотя, конечно, и о том, что Канюков коммунист…
— Не всякий член партии коммунист, Илья. В партию и прохвосты иногда пролезают. Это же вполне понятно, раз партия наша правящая.
— Короче, Паша, пусть его в райкоме вздрючат как следует. Это не для него надо — для Бурмакина, чтобы уважения не потерял к людям. В общем, данная операция поручается тебе. — Черниченко положил тяжелую руку на плечо друга. — Я пока свидетелями займусь, чтобы в случае чего ушами не хлопать.
Ежихин сидел верхом на завершающем венце сруба, выпиливал гнездо для стропилины. Крупные сосновые опилки порскали из-под ножовки и, подхваченные ветром, легкими белыми снежинками падали наземь. Одна из них угадала в любопытный глаз младшего ежихинского отпрыска — трехлетнего крепыша Кольки, с задранной головой следившего за работой отца. Колька зажмурился, принялся тереть глаз грязным кулаком.
— Три к носу, Колюха, — посоветовал сверху Ежихин, искоса поглядывая на сына.
По Колькиным пухлым щекам, оставляя светлые дорожки, катились слезы. Тем не менее он вовремя усмотрел подходившего Заеланного, опасливо подгреб ближе к себе собранные в кучу колобашки — вдруг незнакомый дядька отнять задумает?
— Не отыму, не робей! — успокоил его Александр Егорович. И, прикрываясь ладонью от летучих опилок, крикнул. — Бог в помочь, Алексей!
— Не помогает бог, — ухмыльнулся Ежихин. — Не хочет.
Заеланный опустился на лиственничный чурак, пальцем попробовал, не клеится ли проступавшая на нем смола. Неторопливо достал кисет.
— Это он оттого не хочет, что участок ты непутем выбрал. Эвон на каком отшибе, ровно в поселке места не стало.
Притиснув коленом ножовку — чтобы не упала вниз. — Ежихин выгнул колесом грудь и, раскинув руки, благостно потянулся. С явным довольством повел вокруг себя лукавыми глазами, задерживая взгляд на склоне зарастающей буйным сосновым подростком солки.
— Так, Егорыч, и задумано было, чтобы в отшибе, на глаза не лезть людям, — сказал Алексей.
— А тебе что — глаза? Деньги фальшивые печатать хочешь?
— Настоящих девать некуда, стены оклеиваю заместо обоев, — пошутил Ежихин.
Старик поперхнулся махорочным дымом, покашлял.
— Тоже дело. Однако все на стены-то не клей, плотников лучше найми. А то все один корячишься.
— Вдвоем, одному где управиться. Мне вон Колюха пособляет.
Александр Егорович, не принимая шутки, постучал ногтем по лиственничному обрезку, на котором сидел, пошлепал бескровными губами:
— Таких чертей на одиннадцатый ряд поднимать, а? Смотри, с килой ходить будет неладно:
— Я, Егорыч, такую-то листвяжину на плече унесу куда хошь. Понял?
— А ты шибко не хвастай. Не везде и твоя сила выдюжит. Людьми не брезгуй — помочи попросить.
— Не брезгливый, — опять усмехнулся Ежихин. — Вчерась только оксовскому завскладом кланялся, чтобы помог.
— А помог?
— Без него, Егорыч, пропал бы. И стекла дал, и пятидесятки на полы. И скажи, магарыча две пол-литры пришлось, ясное дело, поставить, а получилось не дороже, как если бы по казенной цене. Совестливый мужик!
— Совестливый, говоришь?
Странные, недобрые нотки в голосе Александра Егоровича заставили Алексея Ежихина снова засунуть под колено пилу, за которую было взялся.
— А скажешь — нет?
— Бессовестный, скажу! Об него людям — мараться только, верно, что не брезгливый ты, Лешка. Он же тебе, гнилая его душа, государственный матерьял краденый продает да еще пол-литру требует, вроде как за хоро-шесть, Могешь ты это своей головой сообразать?
Алексей дурашливо передвинул на лоб шапку, насмешливо прищурился.
— А ты соображаешь своей, что мне дом надо строить? Где я тес или стекло брать буду, ежели в райпе нету?
Но Заеланный не собирался умолкать.
— В том, парень, и суть делов! Матерьял есть, только у нас в торговой сети не наблюдается. А почему? — Последовала многозначительная пауза. — Потому что не требуем, поближе ищем. Чтобы с магарычом. Потворствуем то есть. Вот ты бы подсказал кому следует, тогда…
— Это пускай подсказывают кому надо, я малограмотный, моя хата теперь вовсе с краю. — Подмигнув, Алексей похлопал ладонью по срубу — ласково, как по шее работящего коня.
— С краю… Хата еще ништо. Лишь бы душа на хуторе не жила, не дичала. К тебе, Алексей, однако, вопрос у меня есть. Я со следователем Ильюхой толковал опять нонеча, он говорит — свидетелям полагается быть в таком деле. Ну, что Канюков поперед Бурмакина шел за зверем. А свидетели, сам понимаешь, я да ты.
— Не, — решительно отмахнулся Алексей. — Не пойдет. Я, Егорыч, ничего не видал и не слыхал.
— Да мы ж с тобой вместе…
— Не, — перебил Ежихин, — я сам по себе. Пускай милиция разбирается, за это ей деньги платят.
— Тут дело в справедливости, ты пойми…
Алексей выдернул из-под колена ножовку, вставил в начатый рез.
— Иди, Егорыч, гуляй. У меня дело стоит, план не выполняется. Баба премии лишить может. Так что давай иди. Дуй.
И зашоркал ножовкой.
Но Александр Егорович только вздохнул и, опираясь на руки, поискал для тощего своего зада более удобное положение — отсидел. Покачав головой, спросил:
— Выходит, справедливость тебе ништо? А?
Ежихин не ответил, и старик, подождав, с нарочитой серьезностью обратился к Кольке, строившему что-то из колобашек:
— Видал? Вырастешь — совестно тебе будет за отца, это уж точно. Если человеком вырастешь. А человеком, однако, враз не станешь при таком батьке, ежели другие не пособят.
Он встал, разогнул спину.
— Верно, что надо мне идти. Отцу твоему, парень, лучше вон с Ганей разговоры разговаривать, — глазами показал Александр Егорович на проходившего мимо Кустикова, будто Кольку и вправду могло интересовать это. — С Ганей ему сподручнее, чем со мной. Антиресней.
И в самом деле окликнул:
— Эй, Ганя! Зайди с человеком покурить, побеседуете, как шило на мыло сменять. — Не прощаясь, он зашагал прямо по липкой, чавкающей земле, высматривая, где ловчее будет перебраться через наполненный талой водой кювет.
Кустиков осторожно снял с плеча новую, сплетенную из краснотала нехитрую рыболовную снасть — морду. Норовя уберечь сапоги от грязи, подошел к срубу.
— Чего звал?
— Шибко ты мне нужон, звать тебя, — нелюбезно ответил Алексей, но погодя объяснил: — Егорыч это почудил, смехом.
Ганя стрельнул бесцветными глазками в спину уходящего старика, ругнулся. Потом, доставая кисет и усаживаясь на чурку, с которой только что поднялся Заеланный, пожаловался:
— Пристал. Да еще спина, — он снова выругался, — ни согнуться, ни разогнуться.
— Реку городить будешь? — небрежно поинтересовался Ежихин.
— Загородил. Не реку, ключ. Реку разве дадут загородить? Общественный рыбнадзор. Теперь ни к чему подступиться не позволяют, ни к рыбе, ни к зверю. Скоро такой закон придумают, что и дышать не моги.
— А надо бы для тебя такой закон выдумать. В единоличном порядке! Ведь ежели тебе дать волю — все живое да годное враз переведешь в деньги. Скажи — нет?
Ганя ничего не пожелал сказать.
Ежихин отложил ножовку и ловко, одним ударом топора, сколол еще одну колобашку, швырнул сыну. Оставалось подчистить пропил долотом.
— Место выбрал, однако! — не то позавидовал, не то похвалил Кустиков, оглядываясь вокруг. — Никто не видит.
— Егорыч хаял, — вспомнил Алексей.
— По дурости, — фыркнул Ганя. — Тех же хариузьев поймаешь, так без всякого домой принести можно. Разговоров лишних не будет.
Он курил, время от времени слюнявя палец и примачивая самокрутку, чтобы не горела слишком быстро, — экономил табак. Ежихин, передвинувшись по бревну к месту следующего гнезда, некоторое время работал молча, не глядя на Кустикова. Потом без особого интереса спросил:
— Яшку-то не видал?
— Якова Иваныча-то? — подчеркивая, что по имени-отчеству величает, не фамильярничает, уточнил Ганя. — С Татьяной переназывал мне в больницу завтра придтить. А тебе чего?
— Так, — буркнул Ежихин.
— Скажи ты какая напасть на человека! Ни за што ни про што пострадать пришлось, ай-яй-яй!
— Друзья в красных погонах разберут, за што или ни за што, — усмехнулся Алексей.
Кустиков насторожился.
— Милиция?
— А кто же еще?
— Чего им разбирать?
— Найдут. Ильюха-следователь копает уже.
— Чего ему копать?
— Знает, поди. Зря в тайгу бегать не стал бы.
— Обязан бегать, порядок такой, — сказал Кустиков. — Хошь не хошь, а беги. Служба!
— Все может быть, — с особой значительностью, заставляющей догадываться о скрытом смысле, согласился Алексей с Кустиновым.
Тот недоумевающе поморгал.
— Слыхал про что или так брешешь?
— Зря кобели вроде тебя брешут, Петрович!
— А про что слыхал-то?
— Слухом бабы пользуются, а мне глаза дадены. Понял?
— Ты не зубоскальничай. Делом обсказать не можешь?
— Мое дело, Петрович, стропила ставить, — с откровенной издевкой подмигнул Ежихин. — А твое — морду на Плешивом ключе.
Кустиков обиженно сплюнул, не по годам легко встал. Увидев кусок алюминиевой проволоки на куче щепы, поднял и, вытерев об штаны, стал скатывать в кольцо.
— Ты клал? — продолжая посмеиваться, спросил Алексей.
— Валяется ни к чему, а мне пригодится морду подвязать.
— Возьми вона еще обруч от кадушки, Колька выкинул. Все меньше хламу убирать потом.
Ганя промолчал, пошел.
— А Яшке скажи, что погорел он, как швед под Полтавой! — крикнул ему вслед Ежихин.
Кустиков замедлил шаг и вдруг решительно повернул назад. Вплотную подойдя к срубу, воровато оглянулся по сторонам, пригрозил негромко:
— Ты, парень, знай про кого трепать. Гляди, Яков и вспомнить может. Тогда враз дорогу на бойню забудешь.
— Насчет того, чтобы трепать, так у меня язык всю дорогу стреноженный пасется. Лишнего не скажу, не бойсь.
— Мне можно, я человек верный, — неожиданно успокоил Ганя и выжидательно примолк.
— Камень! — вроде бы согласился Алексей и тут же, подчеркивая насмешку, добавил: — Украдешь — хрен кому скажешь! И хрен с кем поделишься. Точно?
Переминаясь с ноги на ногу, Кустиков ждал, что Алексей начнет-таки разгадывать свои загадки. Но тот, будто забыв про Кустикова, яростно зашоркал ножовкой. Тогда Ганя, уже через плечо, бросил многозначительно:
— В обчем, смотри, на свою голову натреплешь. Пожалеешь тогда. Поздно будет.
— Да ты, никак, стращаешь меня, Петрович? Ну, парень, я теперь сна решусь.
Кустиков уходил, делая вид, будто не к нему относятся. Алексеевы насмешки. Перебравшись по мосткам через кювет, вскинул на плечо морду, сплюнул окурком, прошипел под нос себе:
— Сволочь. Просмеешься, погоди. Еще как.
Ежихин не слышал.
Заглаживая неровности на месте плохо сколовшегося сучка, неторопливо орудовал долотом и, казалось, отдавал этому все свои мысли. Но думал он о другом. О многом.
Вот — два старика потолковать заходили. Два одногодка или вроде того, пожалуй, а ведь до чего не похожи. И обличьем, и по характеру, прямо как лиса с медведем. Впрочем, Ганя не с лисой характером схож, а с росомахой, самой пакостливой зверюгой. И еще пугать задумал, пес шелудивый! Алексея Ежихина пугать, а?
Конечно, встревать в это кляузное дело он не собирается. От милиции лучше в стороне держаться. Только ведь что получается теперь: Ганя Яшке Канюкову похвалится, что застращал Ежихина, да? Что поэтому Ежихин отказался следователю показания давать на Канюкова! Срывая бессильное зло, он так стукнул по долоту, что завязил его в древесине и с трудом выдернул.
Помянув божью матерь, побросал инструменты на груду щепы внизу, закурил. Недобро щурясь, долго смотрел в ту сторону, куда ушел Ганя. И, растерянно запустив пальцы под шапку, протянул:
— Дела-а…
О том, что на плите стоит чугунок со щами, Наташка вспомнила тогда только, когда пар поднял тяжелую крышку и варево хлынуло через край. Вскочила, хотела в спешке снять крышку голой рукой и, ойкнув, бросила на пол.
Светка даже не повернула головы.
— Руку обварила, — пожаловалась ей Наташка.
Светка не ответила.
Она опиралась широко расставленными локтями на валик дивана и не мигая смотрела в никуда. Растерянный Наташкин взгляд скользнул по затылку и шее подруги, по нитке огненно-красных бус, прикрытых нарочито небрежными прядками модной прически. Бусы казались крупными каплями крови, и Наташке вдруг стало страшно. Беспомощно оглянувшись на закрытую дверь, вздохнула и робко, словно в чужом доме, где лежит покойник, присела на самый краешек стула.
— На первый случай пальто можно продать, — сказала вдруг Светка, скорее всего себе самой, и тихонько заплакала, потому что, закрыв глаза, увидела себя, жалкую и обездоленную, в одном платьице мокнущую под дождем. — Или… туфли. Пока не устроюсь куда-нибудь…
У нее задергались плечи — Света Канюкова, которую с таким нетерпением ждал театральный институт, пойдет работать куда-нибудь! Может быть, картошку сажать в колхозе? Или на рудник, камеронщицей? Господи, какая она несчастная, как ей не везет в жизни!
Наташка робко погладила ее вздрагивающую спину.
— Ну, потерпи дома, пока школа. Чтобы аттестат…
— А, все равно теперь, — слабо махнула рукой Светка. — Все равно прахом пошло…
— Тогда не уходи. Подумаешь…
Светка прикусила губу, упрямо покачала головой:
— Нет. Я… решила уже. Что уйду. Что не могу там. Дома.
Шмыгнув носом, она стала подолом вытирать слезы.
Всего несколько часов назад отцовский дом был удобным и теплым, единственным на свете. Маленькие горести и печали всегда можно было оставить на улице, захлопнув дверь перед самым носом. А сегодня она захлопнула за собой дверь, чтобы печали и горести остались в доме, в его холоде и неуютности. Почему так случилось?
Пожалуй, она не смогла бы этого объяснить толком.
Под окном, зимнюю раму которого поторопились выставить, зарокотал басок Филиппа Филипповича, ласкавшего обрадованную приходом хозяина собаку. Слышно было, как та повизгивает, а Сударев с деланной строгостью уговаривает ее отстать. И Светка почему-то подумала о своем Огоньке — что тот никогда не ластился к отцу.
Заплаканных Светкиных глаз вошедший Сударев не заметил, но выражение растерянности на лице падчерицы сразу же привлекло внимание. Взял ее шершавой рукой за подбородок, начинающие седеть брови поползли вверх.
— Ты чего?
По Наташкиным губам скользнула робкая улыбка, и девушка, устыдясь ее, отвернулась. Вместо подруги ответила Светка — встала и, тщетно пытаясь притвориться, будто ничего, собственно, не происходит, спросила:
— Филипп Филиппович, можно я у вас несколько дней поживу?
Тот посмотрел на нее, смешливо выпятив нижнюю губу.
— Жалко, что ли? — И вдруг посерьезнел, начиная понимать, что за просьбой Светки и Наташкиной растерянностью скрывается нечто большее, чем девчоночьи выдумки да фантазии. Но все-таки позволил себе пошутить. — А тебя что, клопы дома заели?
— Она хочет насовсем из дому уйти, дядечка! — испуганно объяснила Наташка.
Суда рев долго молчал, словно забыв о девушках. Мыл руки, потом усердно разминал папиросу. Прикурив, вплотную подошел к Светке и спросил;
— С чего это вдруг, можно узнать?
Сдерживая слезы, Светка с шумом втягивала через нос воздух. Не поднимая глаз, ответила одним-единств венным словом:
— Отец…
Филипп Филиппович прошелся по комнате, прямо на пол стряхнул с папиросы пепел.
— Видишь ли, отцов, мы не выбираем. И поэтому чуть ли еще не в Библии сказано, что дети за их грехи не отвечают. Да и как ты можешь судить о том…
— Нет, — перебила его Светка. — Вы не знаете. Я ходила в больницу и… Следователь там…
Она смешалась, а Сударев невесело усмехнулся:
— Н-да…
— Так… можно я у вас? Пока на работу?
— Пока Наташка на стол накроет, а ты вымой лицо. Там видно будет.
— Значит, нельзя?
— А при чем тут можно или нельзя? Садись есть, а потом вместе решим что и как.
— Я решила, — упрямо сказала Светка.
За стол она сесть отказалась. Впрочем, и Филипп Филиппович ел нехотя, словно тянул время. Отодвинув тарелку, забарабанил пальцами по ее краю, вздохнул.
— Решила! — передразнил он девушку. — Легко сказать. Тут ни один суд и ни один бог сразу не решат.
— Если не хотите меня пустить, я у кого-нибудь другого перекочую.
— Дура, — бросил через плечо Сударев. — Если бы сложность заключалась в этом… Эх, Светлана, Светлана!
Но Светка никогда не любила жалости посторонних.
— Может, я и дура, Филипп Филиппович, — без обиды, но представляясь обиженной, сказала она, — но кое-что я понимаю, не думайте. Как я смогу жить с отцом, если… Ну, когда презираешь? Может, он еще хуже что делал, но того я не знала. По-вашему, я должна притворяться, что уважаю? Да? А если мне это противно?
— Тяжелый случай, — поморщился Сударев. — Не знаю, что тебе и сказать.
— А я не нуждаюсь, чтобы говорили.
— Не ершись, Светлана. Пойми, за твою судьбу отвечает не один отец. Раз ты пришла ко мне, я тоже отвечаю. И даже Наташка. Вот и ищем, как лучше. И еще многие искать будут, хочешь ты этого или не хочешь.
— Мне бы только на работу устроиться.
Он покачал головой.
— Самое простое решение, что и говорить. А о том ты не вспомнила, что тебя одиннадцать лет учили…
— С одиннадцатилеткой теперь тоже на производство идут!
— Верно. Но ты настраивалась на другое, я же знаю. И будешь считать, что тебе изломали жизнь. Не работать станешь, а зарабатывать. Влачить существование, как говорили раньше. Верно?
Ответа не последовало. Девушка сидела опустив голову и рассеянно перебирала складки на подоле платья.
— Верно? — переспросил Сударев.
— Н-не знаю.
— Знаешь, что верно.
— Я на заочное отделение пойду, Филипп Филиппович, — неуверенно пообещала Светка.
Заслонив сутулой спиной окно, Сударев рассеянно следил за потяжелевшими от густоты закатного цвета облаками. Ветер, по воле которого плыли они невесть куда, заставлял гнуться вершинки голых рябин. Росли они на изломе косогора, поэтому казались забравшимися высоко в небо, и думалось, будто это не ветер, а тяжелые облака, задевая их, наклоняют долу.
Неожиданно Филипп Филиппович повернулся.
— Так вот что, Светлана. Возвращаться домой неволить тебя не стану. Сама со временем разберешься. Но относительно остального сделаем так… — он испытующе посмотрел на девушку, — будешь кончать школу и жить у нас. Места… ну и всего остального хватит. А потом, если не передумаешь, поедешь вместе с нами в Москву поступать в институт.
— Филипп Филиппович…
Сударев ободряюще улыбнулся Светке. И, догадываясь, что подругам куда проще с глазу на глаз разбираться в происшедшем, снял с вешалки пальто, не торопясь влез в рукава.
— Ты куда, дядечка? — удивилась Наташка.
— Пойду… — он придумывал, куда бы ему пойти. — К Павлу Васильевичу обещал. К Рогожеву. Надо ему помочь полы перебрать…
Во дворе он тяжело вздохнул и вполголоса чертыхнулся — выкинула номер девчонка, голова кругом идет! В самом деле, стоит сходить к Павлу Рогожеву, вместе пораскинуть мозгами. Придерживая — чтобы не брякнула — калитку, вышел со двора и машинально поднял воротник, будто его до костей пробирал холод.
А вечер был теплым, несмотря на то что вершины редких деревьев все еще покачивало, что кое-где еще лежал снег, каким-то образом умудрявшийся днем прятаться от солнца. И Филипп Филиппович вспомнил, что это последняя его весна в Сибири, и пожалел, что последняя.
— Понимаешь, грустить начинаю, когда подумаю об отъезде, — пожаловался он Рогожеву, скидывая пальто и высматривая гвоздь, чтобы его повесить.
— А зачем тебе уезжать? — поднялся Павел навстречу гостю. — Дров полная тайга, спирту в райпо хватает. Нет, без шуток? Что не нравится?
— А тебе все нравится?
— Так я никуда уезжать не собираюсь. — Рогожев посерьезнел. — Если что не нравится — уехать проще всего. Только получается, будто жил в доме, а полов не наладил. Вот как я, — он улыбнулся, глазами показывая на черные трещины между половицами.
— Я затем и пришел, — не поняв или не желая понимать иносказания, кивнул Филипп Филиппович.
— Пол перестлал, — глядишь, новое дело есть. Потолок вроде поштукатурить надо, — Павел, будто и впрямь соображая, что надлежит сделать еще, обвел взглядом комнату, — стены обоями оклеить… А там — опять что-нибудь… Н-да, уехать проще всего.
Сударев развел руками:
— Надо, Паша! Родные места зовут, как ни говори, да и Наташке все равно в институт. А теперь еще… штука!
— Что такое?
— Черт знает что. Светка, дочка этого самого Канюкова, Наташина подруга, права убежища у меня попросила.
— Ничего не понимаю, Филипп Филиппович.
— Думаешь, я много понимаю? Говорит: ушла из дому, буду устраиваться самостоятельно, разрешите пока пожить.
— Нашкодничала чего-нибудь дома?
— Да нет… Из-за этой истории с Бурмакиным. Мол, уважение к отцу потеряла, не хочу притворяться. С одной стороны, можно только приветствовать, как-никак человек из этого составляется. А с другой…
— Задача… — кивнул Рогожев.
— Не просто задача, головоломка.
— Ну и что ты сказал ей?
— Сказал, пусть заканчивает школу. Гнать не намерен. Не объест.
— Может, с матерью ее поговорить?
Сударев задумался, потом отрицательно мотнул головой:
— Думаю, не стоит. Обидится, что за ее спиной с мамой советуются. Вгорячах махнет куда-нибудь к чертям на кулички…
— Девка с характером, выходит?
— Характера еще нет, больше в него играет пока что. Мечется. Примеривает, какой к лицу. Ну, да это и понятно — в такие годы. Вроде бы плохого не должна выбрать, поэтому и боюсь: не сбить бы!
— Не знаешь действительно, как лучше…
— Ладно. Поживем — увидим. А пока, может, полом твоим займемся? — Сударев прошелся по комнате, пританцовывая на особенно зыбких половицах, поморщился. — Боюсь, балки менять не пришлось бы, тогда возни хватит. — Он решительно сбросил пиджак, закатал рукава. Под нездоровой, давно не видевшей солнца кожей толстыми синими шнурами лежали вены. Склероз начинал уже завязывать на них узлы.
Рогожев вышел из дому почти на час раньше — может быть, удастся поговорить о Бурмакине, если первый секретарь вернулся. От райкома до рудника десять минут ходьбы, успеет вовремя заступить на смену — Крутых долго не задержит, мужик понятливый.
— Чего так рано отправился? — окликнул его электрик Ерников, тащивший от водокачки сразу три ведра с водой — два на коромысле, а третье, обливая штанину, в руке.
— В райком надо зайти.
— А-а, — Ерников уважительно кивнул и стал бережно опускать на землю ведра, явно рассчитывая скрасить кратковременный отдых разговором. — Так что, Пал Васильич, значит, прикрывают райком-то? Слухи такие ходят, однако.
Павел заулыбался.
— Зачем слухи — об этом в газетах пишут, почитай. Только не прикрывают, а реорганизуют. У нас районного комитета, как такового, возможно, и не будет.
В кабинете первого секретаря принимал Ляхин, — Крутых еще не вернулся из командировки.
Разговаривать с Иваном Якимовичем Рогожеву не хотелось: второй секретарь обычно избегал самостоятельных решений. Отделывался общими фразами, обещаниями подумать и чуть не о каждом пустяке советовался с первым секретарем. Но теперь, показавшись Ляхину, уходить было неудобно.
Слушая Рогожева, Иван Якимович сосредоточенно постукивал по столу торцом наборного мундштука, потом долго и внимательно разглядывал его, словно боялся, что пластмасса могла треснуть. Поморщившись и сокрушенно покачав головой, как будто углядел-таки трещину, сказал:
— Н-нда, неприятно. Представляешь, какая история, а?
Павел пододвинул к себе пепельницу и, закурив, ждал, что скажет второй секретарь дальше. Но Ляхин, забыв о хрупкости мундштука, снова начал выстукивать стол — думал.
— Понимаете, нельзя до суда доводить! — устал ждать Рогожев.
Иван Якимович взглянул на него, как смотрят на чудаков, надоедающих повторением всем известных истин.
— Это ж главное, чтобы до суда не доводить. А то коммунист, уважаемый человек — и под суд! Некрасиво получится.
— Главное не в этом, — не согласился Рогожев. — Главное в человеке.
— Ну, а я тебе о чем? На виду всегда был, поддерживали его. Позор!
— Кажется, вы меня не хотите попять, Иван Якимыч, — нахмурился Рогожев. — Я совсем о другом говорю. О том, что Бурмакин — главное.
— Бурмакин? — удивился Ляхин, но тотчас вспомнил. — Ах да, Бурмакин! Действительно, Бурмакин еще… А, черт!
— Как бы характер на всю жизнь не сломать парию, Иван Якимыч.
Ляхин прекратил наконец выстукивать стол.
— Хм… И что ты предлагаешь? Конкретно?
— Нужно, чтобы Канюков в партийном порядке ответил за свой поступок. А если понял, что натворил, — пусть хоть поговорит с Бурмакиным. Нельзя, чтобы парень перестал верить в людей…
Ляхин понимающе прищурился.
— Значит, покончить дело мирным путем? Высокие договаривающиеся стороны? Ну что ж, правильно.
— Опять вы не о том, Иван Якимыч…
Ляхин не позволил ему закончить. Встал, оправляя под офицерским ремнем темно-синюю гимнастерку, кивнул.
— Ясно, Рогожев. У тебя все?
— Все… — Павел пожал плечами.
— Ну, хорошо, что зашел. Правильно поступил.
Пожав пухлую ладонь, Ивана Якимовича, парторг двинулся к двери.
Стрелки часов подвигались к трем — Рогожеву пора было заступать на смену.
А Иван Якимович, когда дверь за Павлом затворилась, почему-то вдруг обратил внимание на то, что к косяку она примыкает неплотно, и неожиданно для себя сказал:
— Непорядок.
Сказано это было не столько двери, сколько самому себе. И не про щель вовсе. Но так уж получилось, что адресовался Иван Якимович вроде бы именно к двери. Усмехнувшись несуразности этого, встал. Заложив руки в карманы, прошелся по кабинету и остановился, с любопытством разглядывая свое отражение в настольном стекле.
Отражение было мутным, призрачным. Иван Якимович недовольно поморщился: ему всегда нравилась собственная вещность, телесность, чтобы энергия источалась из него, как тепло от хорошо натопленной печи. И снова он пробурчал под нос себе:
— Непорядок.
Происходило недопустимое безобразие, конфуз, а больше всего Иван Якимович боялся именно скандалов и конфузов.
— Дубина, — сказал он.
Теперь слово имело точный адрес — Якова Ивановича Канюкова, который подводил не только себя, не только себе пакостил, но и Ляхину Ивану Якимовичу. Человеку, ни сном ни духом не повинному в каких-то дурацких охотах за лосями. «Черт побери, до чего же мельчают люди, не удерживаемые больше высоким должностным кредо!» — огорченно подумал Иван Якимович, не без удовольствия произнося про себя неточное, но почему-то понравившееся словечко: кредо.
Второй секретарь давненько-таки знал Канюкова — с тех пор когда Яков Иванович вершил дела оперативного отдела, а Иван Ляхин работал начальником культурно-воспитательной части. Неудивительно, что Иван Ляхин побаивался подтянутого, окруженного ореолом тайны капитана. Тогда многие побаивались таких, нечего греха таить. Но и Канюков казался серьезным, не способным делать глупости человеком.
Теперь, если в районе заговорят о Канюкове, Ивану Якимовичу Ляхину не преминут вспомнить, что это он — тогда уже председатель рудничного комитета — ратовал за устройство отставного капитана в райпо. Он и еще кое-кто из местных товарищей. И пострадает, следовательно, не только его, Ивана Якимовича, авторитет, но и авторитет еще кое-кого. Нет, он не имеет права допускать это! Иван Якимович решительно снял телефонную трубку.
— Ляхин говорит, девушка. Мне бы прокурора. Если нет в кабинете, дайте квартиру…
Тем временем Павел Рогожев, щурясь от нестерпимо яркого солнечного света, неторопливо шел к руднику. Как он и думал, разговора с Ляхиным не получилось, — следовало, конечно, дождаться первого секретаря. И теперь Павел не знал даже, на кого сердиться — на Ивана Якимовича или на себя? Пожалуй, виноват он сам — ради чего, спрашивается, порол горячку?..
То, что над копром не было традиционного красного флажка, свидетельствующего о выполнении рудником плана, далеко не улучшило настроения. Машинально потушив недокуренную папиросу, Павел рывком отворил дверь в раскомандировочную. Здороваясь с горняками из бригады Вешкина, табунком выходившими из раздевалки, приостановился, чтобы не заступать дорогу. Но его окликнули:
— Слышь-ко, тебя начальник кликал. Чтобы как придешь, так к нему.
Рогожев, согласно мотнув головой, повернул к лестнице на второй этаж.
— Пал Васильич, тебя Сергеев спрашивал, — через плечо бросил ему попавшийся навстречу нормировщик Булышенков.
— Ага, знаю уже, — отмахнулся Павел, угадывая, что Сергеев вызывает для разноса по поводу перепалки на бюро. И решил: ну что ж, потолкуем, кстати придется разговор!
Сергеев заканчивал обычные дела с бухгалтером, уже собиравшим со стола ворох бумаг. Кивнув приветственно, глазами показал на стул.
— Присядь, Павел Васильевич. Я сейчас.
Рогожев сел, начал отковыривать ногтем мозоль на ладони. Половину отковырял, когда Сергеев, подписав какую-то ведомость и отпустив бухгалтера, тяжело поставил локти на стол. Не глядя на собеседника, сказал:
— Так вот…
И задумался.
— Я слушаю, Николай Викторович.
— В общем, такое дело, Рогожев. Хотя начальству вроде бы не полагается признаваться в своих ошибках без крайней необходимости, — он иронически усмехнулся, — но я тут, понимаешь, подумал… Ну и — приходится признать тебя правым. В споре из-за голубевской бригады. То есть правым в некоторой части твоих положений. Точку зрения на своевременность присвоения звания бригаде я не переменил. Бригада заслуживает этого, и бригаде звание присвоим, конечно. Мелкие срывы можно уже теперь не принимать в расчет, но… если партийный организатор рудника не хочет понять побуждений, из которых это следовало бы сделать, то что, же спрашивать с остальных? Кажется, это наш Сударев тогда высказался: липа, мол? Да?
— Насчет липы сказал я, Николай Викторович.
— Виноват, запамятовал. Вернее, хотел запамятовать, — одними губами улыбнулся Сергеев. — Никакой липы, Павел Васильевич, нет, безусловно. Есть вера в людей, знание их. Но с легкой руки нашего главного механика, то бишь твоей, кое-кто мог бы принять это непродуманное словечко на вооружение. Поэтому я вынужден присоединиться к твоему мнению, что сейчас присваивать звание бригаде нельзя. Одним словом, поле боя за тобой. Ясно?
Павел отрицательно помотал головой.
— Не за мной, Николай Викторович, за фактами, И смотрите вы на все это… ну, как бы поточнее… однобоко, что ли? Со своей точки зрения.
— Со своей точки зрения я смотрю абсолютно на все. До сих пор это не мешало руднику выполнять план.
— Николай Викторович, я же не о том. Может, выразился не так, вы же понимаете…
— Не понимаю, Павел Васильевич!
Рогожев устало вздохнул.
— Вы просто не хотите понимать. Именно не хотите, Николай Викторович! Рудник, и план, и бригады коммунистического труда — это же все для людей, да? А вы сначала о руднике и о плане думаете, а потом о людях. Вы не обижайтесь, я это… ну, по душам, что ли!
— По душам?
Вставая, Сергеев опирался на массивные подлокотники кресла, словно не мог выбраться из него. Прошелся по кабинету, заложив руки за спину.
— Тебе, Павел Васильевич, обо всем этом судить просто, — заговорил он наконец. — Теоретически всегда проще судить, а вот когда с практикой сталкиваешься… Я, брат, и сам знаю, что люди — главное. И что все для людей. Но о том, что я — понимаешь, я! — для людей сделал, о моей работе судят именно по выполнению плана. По работе рудника. И… по числу коммунистических бригад даже. Вспомни, как ставит вопрос тот же Ляхин…
— Н-да, Ляхин… — Рогожев нахмурился, помолчал. — У меня такое впечатление, что Иван Якимович плохо понимает решения последних съездов. Судит кое о чем по старинке. Инерция в некотором роде.
— Не думаю, — не согласился Сергеев. — Просто поторопились выдвинуть на эту работу. Крутых это наверняка понял, но так как райкому нашему, видимо, существовать осталось недолго, то… Вопрос решается сам собой.
— Снова в председатели рудкома? — усмехнулся Рогожев.
Сергеев ответил ему такой же усмешкой.
— Не знаю… Как говорится, поживем — увидим.
Ежели с самого утра все начинает из рук валиться — и топор соскакивает с топорища, и супонь рвется, и кобыла ни с того ни с сего уросить начинает, — считай, что весь день полетел черту под хвост. Тут уж ничего не поделаешь.
Выпросив у агрономши три рубля до получки, Ежихин распряг лошадь и, вытянув по крупу оборванной супонью, завел в стойло. Потом, пожалев, что ударил зря, гвоздем отомкнул замок конюховской и приволок кобыле внеплановый котелок овса. На всякий случай — чтобы не усмотрев старший конюх — притрусив овес сеном, Алексей пошел домой. Но дорога вела мимо магазина, поэтому ничего больше не оставалось, как взять у Вари двести граммов спирта. Случайно и порожняя посудина в кармане оказалась — ненароком, наверное, прихватил, уходя с конного двора.
— Совести у тебя нет, в будний-то день… — вздохнув, посетовала жена, когда он выставил бутылку на стол.
— Не бабьего ума дело, — прикрикнул Алексей и стал разводить спирт. — Капусты, что ли, дазай. И грибов.
— Это ты в честь чего?
— Военная тайна, — пошутил Ежихин, хотя шутить не хотелось. Махом перекинул стакан. Потянувшись за капустой, спросил: — Луку у нас, что ли, не стало? Порядка не знаешь? Отлуплю!
От спирта сразу потеплело в душе, и вопрос, заданный с показной строгостью, был продолжением шутки, как и угроза отлупить. Елизавета давным-давно привыкла к нарочитой грубости мужнего разговора, не больно-то боялась угроз. Но сегодня Ленька явно был не в себе, поэтому она — чего обычно не делала — промолчала.
Ежихин выцедил в стакан остатки спирта. Но пить не стал. Глянув на сбившихся в дальнем углу ребятишек, пальцем поманил меньшого.
— Эй, Колюха, топай сюда! Выпьем, а?
Шлепая по выскобленным добела половицам босыми ногами, мальчишка подошел к отцу, полез на колени. Умостясь, решительно потянулся за стаканом.
— Видала? — подмигнул Ежихин жене. — Мужик растет, а?
Та скорбно покачала головой:
— Брось чудить-то, не изгаляйся!
— Ништо, — ухмыльнулся Ленька, хотя стакан со спиртом отставил дальше. — Он у меня из троих самый главный герой. Скажи, Колюха?
Колюха ничего не сказал, зато заграбастал полную пятерню квашеной капусты, стал сосредоточенно запихивать в рот. Начавший понемногу хмелеть отец ткнул его под бока большими пальцами, повторил:
— Из всех троих главный, хоть и без портков ходит! Верка мышей боится. А, дочка? Боишься? Витька, — Ежихин презрительно махнул рукой, — темноты трусит. Мы с Колюхой ни черта не боимся, скажи, Колюха?
Колька дожевал капусту, сполз с отцовских колен. Он потер голое пузо, проехавшись им по грубому брезенту рабочих брюк Алексея, и засопел. А Елизавета вдруг вспомнила:
— Лёнь, утресь Ганя Кустиков тебя спрашивал. Поди, опять скот бить хотят?
Алексей не ответил. Одним глотком допил спирт и, забывая закусить, стал сворачивать папиросу. Колька потянулся было погасить спичку, но отец, не глядя, отпихнул его в сторону.
— На испуг хочет взять Ганя, — сказал он, пальцем пробуя крутануть по столу тарелку.
— Ты не бойсь, он тощой, — авторитетно успокоил семилетний Витька, пристраивая к старой ружейной ложе кусок жесткого резинового шланга вместо ствола. — Ты ему ка-ак дашь!!!
— А папка никого и не боится, — обиделась за отца Верка, вырывая у Витьки шланг и пряча за спину.
Витька полез отнимать его, мать прикрикнула:
— Ну, вы! Я вам сейчас!
Алексей хмурился, уставившись соловеющим взглядом в пустой стакан.
— Пап, а пап! — дернул его за штаны Колька.
Не обращая на него внимания, Алексей поднялся, громыхнув табуреткой. Собрал в широкую ладонь бумагу и кисет со стола. Прогибая тяжестью богатырского тела жидкие половицы, пошел к двери. Выругался, споткнувшись о сбитый половик. Так трахнул дверью, что в окнах задребезжали стекла.
— Нажрался! — тяжело вздохнула Елизавета.
Но Ежихин не «нажрался». Хмель, начавший было одолевать его, стал расслаиваться, редеть, как редеет по утрам туман. Обогнув дом, он присел на завалину, упирая локти в колени.
Когда Верка, в огромных для нее материнских галошах на босу ногу, вышла на улицу, отец хмуро смотрел в одну точку.
— Мамка говорит, если коровов резать пойдешь, так чтобы ты куль взял и кишков принес поросенку.
— Марш домой, быстро! — сердито прикрикнул Алексей.
Быстро никак не могло получиться — девочка сделала большой крюк огородом, чтобы проволочить галоши через лужу. Потом оказалось невозможным подняться в них на крыльцо. Не задумываясь, она подхватила великанскую обувь в руки, но выронила, открывая дверь. Долго заталкивала пинками в коридор.
— Ругается папка, — пожаловалась она в комнате.
— Шары-то налил, вот и чудит, — охотно объяснила мать. — До ночи будет теперь куражиться.
Ежихин не стал куражиться. Пришел, собрал инструменты, коротко спросил жену;
— Оселок брала?
— На што мне твой оселок?
— Язык точить. — Он пошарил под сундуком, заглянул в ящик с железным хламом, чертыхнулся. Попробовав ногтем острие топора, решил, что обойдется без оселка. Уже в дверях буркнул: — Ежели что, я к срубу пошел.
И не пошел к срубу.
Будь у него деньги еще на двести граммов, вообще никуда не пошел бы. Можно и дома день просидеть, крыша не течет. Но ни на двести, ни даже на сто граммов денег не было. Если вот только Ганя звал бить скот и Яшка Канюков заплатит по рублю или по два за голову? Сколько захочет, столько и заплатит, заставив, как обычно, расписаться в незаполненной ведомости…
Против воли вспомнившийся Канюков еще больше испортил настроение — словно прятался все время за спиной у Ежихина и вдруг подошел, сплюнув с насмешкой под ноги ему. Ну чего он в печенках сидит этот Канюков? А? Одно спасение — перехватить где-то еще трояк. Пожалуй, ни у кого из знакомых, однако, перед получкой свободных денег не водится. Разве к свояку Мишке нагрянуть, тот на баян копит. Но Мишка живет на Подгорной улице, идти к нему — мимо дома старика Заеланного проходить надо…
Мимо дома старика Заеланного проходить почему-то не хотелось, хотя долгов за ним нету, за Ежихиным. Наоборот, он как-то дяде Саше колья для огорода привез, старик маленькую еще поставить сулился, да так до сих пор и ставит. Значит, вроде бы не Ежихину, а дяде Саше в пору избегать встреч, но… А ну его к черту, Мишку!
— Пусть у него черт лысый просит, — выругался Алексей и презрительно скривил губы, будто разговаривал с кем-то.
Но разговаривать было не с кем. Он все еще стоял в одиночестве на крыльце, долго уже стоял, поправляя выезжавший из-под локтя топор, когда руки, забыв об этом топоре, начали, сами собой чего-то искать. Поняв наконец, чего они ищут, Алексей вытянул за шнурок кисет, закурил. Потом выгреб из широких карманов брезентовки долото, чертилку. Вместе с топором швырнул в сени.
И пошел с крыльца, сам не зная еще, куда идет.
Воскресное утро почти всегда и у всех начинается позже, чем в обычные дни. Солнце уже давно расстелило поверх лоскутных половиков свои, сотканные из света и золота. Комната стала удивительно нарядной, праздничной. Легчайшие золотники пылинок плавали в косых столбах света медленно словно пух одуванчиков летом, и поэтому думалось, что за окнами по-летнему тепло, даже жарко.
Филипп Филиппович уже строгал что-то на дворе в своей крохотной мастерской. Тоже поверив в теплынь, он даже не надел телогрейку. Ее потом утащила в мастерскую Наташка, по-бабьи всплеснувшая руками, увидев, что телогрейка висит дома. Вернувшись, она успела вовремя снять с плитки кипевший чайник, о котором совсем забыла Светка. Расставив чашки и нарезав хлеб, позвала:
— Давай, подруга, чаю попьем. Дядечка после придет — его никогда не дозовешься, если начнет столярничать.
Светка, поджав губы, оглядывала стол: хлеб, сахар, раскисшее сливочное масло, забытое с вечера в теплой комнате. А у них дома по воскресеньям всегда пекут сладкий пирог, соседка тетка Настасья накануне тесто приходит ставить. Утром мать поднимается раньше всех и колдует у плиты, из духовки вместе с теплом ползут волшебные запахи. Светке это с такой отчетливостью представилось, что защекотало в носу. Но как-то постранному, не сладко, а горько.
— Не хочется чего-то есть, — сказала она.
Наташка укоризненно всплеснула руками и шлепнула себя по бедрам.
— Да ты что? Утром же обязательно чего-то поесть надо! Садись!
— Отстань!
Наташка подошла сзади, бережно обняла ее за плечи.
— Страдаешь, ага?
— И ни капельки! — Светка выскользнула из объятий подруги. — Очень нужно!
Она усмехнулась: действительно, очень ей нужно страдать, чтобы пожалела какая-то там Наташка, когда в пору Наташку жалеть! Живет, как «бедная Лиза», а туда же, жалеть лезет! Светка слышала, или даже в школе когда-то проходили, что была какая-то «бедная Лиза», но прежде за именем не стояло образа. Теперь имя обретало образ — Наташку.
Наташка управилась с чаепитием, убрала со стола. Обиженная холодностью подруги, молча надела пальто, нарочно помедлила, оправляя берет, — ждала, чтобы Светка спросила, куда она собирается. Но та отчужденно смотрела в окно, и Наташке пришлось перебороть чувство досады:
— Пойдем за билетами? И в магазин надо.
— Неохота, — сказала Светка.
Они вчера еще уговорились идти в клуб, на предпоследний сеанс, как ходили на все без исключения фильмы. Но сегодня билеты следовало приобретать заранее: по воскресеньям в клуб устремлялся весь поселок.
— Я сбегаю. Какие места брать?
— А, все равно, — отмахнулась Светка, — какие хочешь.
— Ряд десятый, ага?
— Ай, ну какая разница? — В голосе Светки послышалось раздражение, и Наташка, обиженно фыркнув, прекратила разговор.
Светка осталась одна.
Постояла у окна, размазывая по стеклу капельку влаги, бывшую недавно — пока не стучалось в окно солнце — осевшим на раме дыханием мороза. Когда это наскучило, поискала взглядом, чем бы заняться, как убить время.
Сорвав темно-зеленый в белых крапинках лист цветка на окне, покусывая упругий его черешок, Светка думала о том, как изменилась ее судьба, и любовалась собой, своей самоотверженностью — подумать только, на какие жертвы она пошла, чем поступилась! Светка обвела рассеянным взглядом бревенчатые неоштукатуренные стены, допотопный пузатый комод, лживое зеркало.
— Ну и что? — спросила она у отражения.
Отражение нервно пожало плечиком, сделало безразличную гримаску. И вдруг, брезгливо выплюнув крапчатый лист, страдальчески закусило нижнюю губу, а из-под ресниц покатились слезы.
Светка вытерла их шершавой тюлевой занавеской и, взяв с комода первую попавшуюся книжку, забралась с поджатыми ногами на диван. Перелистнула несколько страниц, не вчитываясь, бездумно пробегая глазами по строчкам. Как и следовало ожидать, книжка оказалась совершенно неинтересной. Не про любовь и даже не про шпионов. Что-то о тайге и геологах, как будто такое может интересовать! Светка отшвырнула книжку, уткнулась лицом в жесткую диванную подушку.
На стене монотонно и надоедливо тикали ходики. Пришел Филипп Филиппович, подтянул гирю, отлитую из чугуна в виде еловой шишки, спросил:
— А Наташка где?
— Кажется, пошла за билетами в кино, — небрежно ответила Светка. Разговаривать с Филиппом Филипповичем не хотелось.
Сударев погремел на кухне посудой, уселся пить чай.
Закончив трапезу, снова отправился в свою мастерскую. Светка дождалась, пока хлопнет дверь в сенях, прошла на кухню. Отрезав ломоть хлеба, густо намазала киселеобразным маслом, откусила. Бутерброд не лез в горло, пришлось посыпать его сахарным песком. Но и с сахаром хлеб остался хлебом, начинающим черстветь. Но, может быть, в шкафу есть свежий? Светка поискала взглядом шкаф с хлебом, забыв, что находится в чужом доме. Спохватившись, чтобы не видеть этого чужого дома, зажмурила глаза и — увидела свой, свою комнату, обставленную милыми, заботливыми вещами. Без чужих людей, вещей и… без чужих мыслей, которые здесь пытаются навязать ей, выдать за ее собственные.
Нет, конечно, никаких мыслей ей не навязывали. Она подчинилась порыву благородного сердца, уйдя из дому. И очень хорошо, что у нее благородное сердце, но ведь она как-то не думала о том, что произойдет дальше. Просто не думала, и все! Ей не позволили этого, уверили, что все будет хорошо — и Москва, и театральный институт. А человеку надо позволить думать самому. Она разобралась бы кое в чем, да, да! Смешно сказать: дети не отвечают за грехи родителей, а Светлана Канюкова — отвечает! Отвечает именно она — спит на чужом диване, ест чужой черствый хлеб, дальше будет вообще невесть что! Где же справедливость на свете? В чем виновата она, за что страдает?
Мучительно захотелось, чтобы кто-нибудь пожалел, утешил. Мать — та прижала бы к теплой груди. Вкусно пахнущей тестом ладонью провела бы по волосам. Мать!.. Как-то она там, дома, одна, брошенная дочерью? Да, брошенная! Ее благородная дочь, возмущенная бессовестным поступком, сама поступила бессовестно в отношении родной матери. Да ведь это же самое главное — мать! Так отплатить за ее многолетние заботы, за любовь? Да есть ли у нее сердце, наконец, у Светланы Канюковой?
Оглянувшись на дверь, Светка вытащила из-под дивана свой чемодан, комком запихала в него кофточку и, послушав, не идет ли кто; надела пальто.
И ее собственное пальто, видимо успев набраться чужого духа, вдруг заупрямилось, не желая с обычной предупредительностью подставлять рукава.
Закрывая за собой калитку, Светка подумала, что чемодан вовсе уж не такой тяжелый, каким казался вчера. И тем не менее остановилась и устало поставила его на землю, дойдя до угла.
— Расчувствовалась? Маму пожалела? — спросила она себя, саркастически скривив губы, будто все еще смотрелась в Наташкино зеркало. И ответила с внезапной злостью: — Врешь, себя пожалела! Испугалась! Струсила!
Да, испугалась, что останется одна в мире, как в заснеженной холодной тайге, только не с переломленной ногой, хуже — раздавленная обрушившимся несчастьем, ужасом. Одна потому, что возле не будет матери, могущей провести по волосам теплой ладонью, утешить, когда вес остальные будут от нее отворачиваться, говорить: вот идет дочь того. Канюкова. Или, что еще отвратительнее, жалеть, как Филипп Филиппович с Наташкой, А если она не хочет жалости к себе, действительно не хочет жалости посторонних, чужих?
— Глупо! — вслух произнесла Светка.
Ну, она вернется домой. Ну, мама ее утешит, вместе поплачут. А остальные? Ведь для остальных она тем более останется дочерью Канюкова, яблоком, недалеко падающим от яблони, — хотела уйти и… передумала. Разве не так?
— Не так! — сказала она твердо и так громко, что проходившая мимо женщина с кошелкой оглянулась. И Светка обрадовалась, что есть свидетельница окончательного ее решения, что теперь нельзя уже идти на попятную, легче не идти.
Подхватив чемодан — и на этот раз вовсе не почувствовав его веса, — Светка поспешно вернулась в только что оставленный чужой дом. В дом, из которого трусливо бежала. И чтобы он перестал быть чужим, чтобы ее не жалели здесь, сбросила туфли и чулки, влезла босыми ногами в Наташкины старые галоши, а потом перелила воду из чистого ведра в стоявшее под рукомойником. Не найдя тряпки, догадалась, что можно воспользоваться постеленной на крыльце для вытирания ног. Принесла, окунула в ведро и, оставляя водяную дорожку, полезла под стоявшую в дальнем углу кровать. С непонятным удовлетворением шлепнув там тряпку на пол, выругала себя «неумехой» — не сообразила прихватить ведро, кто же таскается с мокрой тряпкой через всю комнату?
Районный прокурор Антон Петрович Блазнюк елозил лбом по холодному стеклу окна; когда стекло нагревалось, передвигал лоб вправо или влево, на новое прохладное место. Нет, у него не болела голова, просто так было легче думать. А подумать кое о чем следовало.
Первый секретарь вот уже несколько дней задерживался в краевом центре. Даже по этому можно было судить, что реорганизация райкома дело решенное. И хотя лично прокурора Блазнюка это касалось мало, можно сказать совсем не касалось, он с неудовольствием думал о предстоящих переменах. Сложились определенные отношения — привычные, испытанные временем, и вдруг нате вам! Люди должны будут сниматься с насиженных мест, менять привычки, знакомства налаживать заново.
— Ты думаешь, Ляхины тоже уедут? — спросила его жена. — Анна Михайловна вряд ли захочет везти с собой пианино…
А-а, это их дело!
— Но если не дорого, Антон? Ведь не за одиннадцать же тысяч они будут продавать, оно уже шестой год у них.
— Теперь за одиннадцать тысяч можно купить десять.
— Ах, не могу я привыкнуть считать по-новому, вечно путаюсь!
— Пора привыкать, милая, — сказал Блазнюк и, помолчав, решил: — У нас нет лишних денег.
— Ты мог бы попросить Ивана Якимовича подождать…
Прокурор неожиданно выругался:
— Черт! Иван Якимович звонил мне по поводу Канюкова, я совсем позабыл.
Недовольно морщась, он стал одеваться.
— Так как будем с пианино? — неуверенно спросила жена.
Но у прокурора, видимо, иссяк запас благодушия. Вожжа попала под хвост, как выражалась его жена о таких колебаниях в настроении супруга.
— Как были! Без пианино, — сказал он и, уже с порога, оглядываясь через плечо, прибавил: — Что бы ты с ним стала делать, интересно? Лишнюю пыль стирать? Кто на нем играть будет?
Она попыталась робко возразить:
— Но у всех порядочных людей…
— С жиру они бесятся, вот что! — зло сказал прокурор и, чтобы не слушать дальнейших возражений, хлопнул дверью.
«Действительно, — думал он, — на кой ляд нам заводить пианино? „Чижика-пыжика“ одним пальцем бренчать, как Ляхин?» Ей-богу, подобные бессмысленности всегда вызывали у него чувство раздражения! Когда-то за преферансом даже посмеялся над этим… как он тогда выразился? Ах да, музыкальным чудачеством! Но дело, конечно, не в чудачестве, а все в том же «равнении на порядочных людей». Мода в некотором роде, что ли? Извините, прокурор Блазнюк за модой гнаться не собирается! Его, в конце концов, положение обязывает вести себя подобающим образом, как и Ивана Ляхина тоже. Плохо, что Ляхин этого не сознает, очень плохо! Впрочем, Ляхин не сознает многого, за примерами далеко ходить не надо, звонок о Канюкове тому примером.
Неужели Ивану Якимовичу не ясно, что приятельские отношения — приятельскими отношениями, а юстиция остается юстицией?
Тем более, Канюков уже давно не работник такого масштаба, чтобы ломать с кем-то из-за него копья. Просто не хочется лишних сплетен вокруг Канюкова и райпо, но советовать прекратить ради этого дело, даже пустяковое… Нет уж, Иван Якимович, увольте: прокурор Блазнюк уважает закон, которому служит!
Впрочем, Черниченко, помнится, ничего не говорил о каком-либо нарушении закона Канюковым. Нет, браконьер убил лося, и речь шла о том, чтобы объяснить браконьеру именно законность действий Кашокова. Так, кажется? Черниченко, безусловно, более квалифицированно разобрался в происшедшем, нежели Ляхин. И не исключена возможность, что Иван Якимович, перепутав ситуацию, забил в набат зря.
— Тяжелый день понедельник, а, Черниченко? — весело спросил он, без стука входя к лейтенанту, читавшему какое-то дело. Судя по всклокоченной шевелюре и количеству натыканных в пепельницу окурков, день у того действительно был тяжелым. — Ну, хвастайся, как дела?
— Хвастаться нечем, Антон Петрович. Да и дел, собственно говоря, нет.
— Значит, уже есть чем хвастаться, — добродушно пошутил прокурор. — Отсутствие дел тоже показатель нашей работы. А что листаешь, на кого?
— Да так, прошлогоднее дело о браконьерстве в архиве взял, первое. На Бурмакина. Я вам докладывал, помните?
— Помню. Говорил с ним?
Черниченко вздохнул и запустил обе пятерни в растрепанные и без того волосы:
— Не только говорил, Антон Петрович, на место происшествия выезжал…
— А это еще зачем? — перебивая Черниченко, удивился Блазнюк. — Дела о браконьерстве относятся, согласно последнему разъяснению, к числу дел, принимаемых к производству не прокуратурой, а милицией.
Пусть они этим и занимаются. Им, как говорится, карты в руки! Дело несложное, насколько я понимаю?
Забывая о субординации, следователь встал и, отойдя к окну, повернулся к начальству спиной. Побарабанил пальцами о подоконник.
— Дело, Антон Петрович, такое… В общем, нехорошее дело. Грязное. Привлекать надо не Бурмакина, а Канюкова.
— Гм! — обронил, хмурясь, прокурор.
Черниченко обескураженно развел руками.
— Надо привлекать, а… обвинение обосновать Почти не на чем. То есть обосновать можно, только вот… прямые улики работают в пользу Канюкова. Разрешите доложить суть?
— Докладывайте, — прокурор грузно опустился на стул, сплел пальцы на коробке «Беломорканала», лежавшей поверх бумаг.
— Тогда разрешите, я закурю, Антон Петрович. Потому что дела, собственно, нет, придется излагать устно.
— Давайте.
Слушая, Антон Петрович играл пачкой следовательских папирос, посыпая черную клеенку столешницы раструсившимся табаком. Когда Черниченко закончил, он, брезгливо отряхнув длинные белые пальцы с коротко обрезанными ногтями, сказал:
— Так. Ясно. Ясно в смысле ваших предположений. — Блазнюк почему-то перешел на суровое «вы». — Но совершенно не ясно, чем вызвана ваша уверенность в их непогрешимости. Понимаете, я говорю сейчас как прокурор, который обязан будет потребовать неопровержимых доказательств в подтверждение обвинения. Что можно положить на стол перед судом, кроме ваших — пока, кстати, довольно голословных — утверждений?
И опять, как давеча, Черниченко развел руками.
— Вот видите… — начал было прокурор, но Илья его перебил:
— Антон Петрович, кроме моего личного мнения, есть мнение старого таежника Заеланного, соседа Бурмакина, вместе со мной изучавшего следы. Потом — врача, о характере травмы. Показания Бурмакина есть, ну а…
Теперь перебил Блазнюк:
— Вы отдаете себе отчет, как будут расцениваться показания Бурмакина? Насколько убедительными будут они для суда, после того как…
Дверь неожиданно распахнулась — без робкого просительного постукивания, столь обычного для двери в следовательский кабинет. Так недавно вошел Блазнюк, только начальство входит таким образом, а на пороге стоял всего-навсего Алексей Ежихин.
— Здорово, начальники! — сказал он, заботливо прикрывая дверь.
— Мы заняты, — резко бросил ему прокурор. — Зайдите позже, только предварительно постучите.
— У меня время не казенное, свое, чтобы по десять разов приходить, — ответил, вытаскивая кисет, Ежихин. — Точно? — фамильярно повернулся он к Черниченко.
Тот, перехватив вопросительный взгляд прокурора, объяснил:
— По этому самому делу: Вы извините, Антон Петрович…
Блазнюк на мгновение задумался. Потом обратился не к следователю, а к Ежихину:
— Минуточку посидите в коридоре, товарищ. Мы только закончим разговор.
— Ладно, валяйте! — подумав, согласился Ежихин и доверительно объяснил Черниченко: — Я пока на Подгорную схожу, дело у меня к свояку. Ежели задержусь маленько — ты подожди, слышь?
Когда он вышел, прокурор встал, с грохотом отодвинув стул. Не глядя на Черниченко, молча прошелся по кабинету. Наконец, рассеянно отскребая носком сапога приставшую к полу капельку сургуча, заговорил, снова переходя на «ты»:
— Да, история некрасивая. Очень. В этом я совершенно с тобой согласен. Возмутительная история! И конечно, надо привлекать Канюкова. Так что пусть милиция принимает дело к производству и действует.
— Я сам закончу, Антон Петрович.
— Зачем — сам? Делами о браконьерстве занимаемся не мы, нельзя лезть через голову милиции. Давай-ка, брат, будем соблюдать порядок.
Черниченко жевал мундштук погаснувшей папиросы и думал о том, что следы в тайге наверняка затаили теперь, дознавателю из уголовного розыска Николаю Махоткину думать нечего в них разобраться. Что Канюков твердо упрется на своем, выставляя Вальку Бурмакина браконьером. И Махоткин, пожалуй, вынужден будет ему поверить, как поверил бы и следователь прокуратуры, Илья Черниченко, не побывай он вовремя на месте происшествия. Конечно, Черниченко не преминет разъяснить кое-что Махоткину. Но если у того не будет собственной безусловной уверенности, то… дело могут и прекратить.
— Милиция может прекратить дело, Антон Петрович. Не сумеют доказать.
Прокурор укоризненно покачал головой:
— Нехорошо, Черниченко. Это называется самомнением — считать, что только вы справитесь с какой-то задачей.
— Но, Антон Петрович, ушло же время, весна ведь! И потом, вещественные доказательства, пули… Создается превратная картина…
— А если кое-кому кажется, что превратна созданная нами картина?
— Так есть свидетели… Косвенные улики…
— Свидетелей, Черниченко, с таким же успехом опросит милиция. И разберется в уликах, на то розыск у них существует. Вот когда он не разберется, тогда мы с вами скажем свое слово. Поможем, в крайнем случае подключимся. А пока… пока у меня к вам все. Желаю успеха.
Он вышел, поскрипывая мерцающими сапогами.
Блазнюк был доволен и недоволен собой.
С одной стороны, — правда, ради соблюдения законности! — в какой-то мере выполнена дурацкая ляхинская просьба. С полным правом можно ему сказать, что прокуратура расследования не ведет, а с милицией пусть сам разговаривает, если хочет. Во всяком случае, ему, Блазнюку, можно не давать Ляхину объяснений, почему да отчего «не прислушивается к мнению товарищей, далеко не безразличных к происходящему в районе», как любит выражаться Иван Якимович. Нет канюконского дела в прокуратуре — и все! Но, с другой стороны, дело перейдет милиции, а там… Там улита поедет — подумаешь, дело о браконьерстве! — и может действительно никуда не приехать. В этом отношении Черниченко прав, пожалуй. Но и прокурор Блазнюк тоже прав, ему не в чем упрекать себя. Разве у него есть основания не верить в оперативность работников милиции? И потом, в конце концов, прокуратура всегда сможет вмешаться, хотя бы даже в порядке надзора. А пока пусть Черниченко привыкает к дисциплинке, не думает, что на нем одном свет клином сошелся, — хороший парень, но следует несколько охлаждать его горячность, юстиция обязана быть выдержанной…
И все-таки, не находя никакого криминала в своих поступках, он испытывал чувство, с каким мальчишкой возвращался домой, получив в школе двойку за поведение.
А Черниченко закуривал новую папиросу. Погасив спичку, остановил взгляд на злосчастной сургучной капле, которую безуспешно отскребал с половицы прокурор. В это мгновение зазвонил телефон.
— Паша? — удивился Черниченко, подойдя к аппарату. — Ах да, ты же в ночь сегодня! Настроение? Настроение такое, что… Ты откуда? Звонишь, говорю, откуда? Нет, не могу, тут один свидетель появиться должен. Именно сейчас. Слушай, ты лучше загляни, все равно мимо проходить. Да, буду на месте! Не десять и не пятнадцать минут, дольше буду!
Он с силой положил на рычаг трубку — никакого желания «рассказать кое о чем» Пашиным горнякам у него не было, тем более сегодня. И ради чего вздумал Рогожев пропагандировать на руднике криминалистику?
— Заносит же тебя, однако! — встретил он приятеля, когда тот появился на пороге. — Какой из меня лектор, сам подумай! Чего я им буду рассказывать? Шейнина пусть лучше читают, в сто раз интересней получится!
— Ты меня не так понял. — И, как прокурор недавно, Павел без приглашения уселся за следовательский письменный стол. — Ребятам из голубевской бригады надо объяснить толком, как это у Бурмакина с Канюковым получилось. Ты извини, может, я преждевременно, но нельзя было молчать, понимаешь? А теперь хотят посоветоваться с тобой, чтобы показательный процесс и всякое такое…
— И всякое такое? — с невеселой усмешкой переспросил Илья.
— Ну, например, в газету…
— И процесс показательный, значит?
— Ну да… а чего ты так? Вроде с иронией, что ли?
Волоча ноги, будто они перестали сгибаться, Черниченко приблизился к столу и, трогая подбородком пуговицу на груди, сказал:
— Без иронии, Паша, какая к чертям ирония… Приказано передать расследование милиции, в новые руки… Так что, боюсь, показательный процесс не состоится. Ну и… пока у меня к вам все! — с горечью передразнил он Блазнюка.
Рогожев посмотрел на него с откровенным недоумением.
— Объясни, чего ты в бутылку лезешь? Ну, передашь в милицию, там проведут следствие и — в суд. Так я понимаю? Или обиделся, что в некотором роде поработал на дядю, жалко передавать?
— Эх, Паша, Паша! — Черниченко обогнул стол и, подойдя к приятелю, облокотился на его плечи. — Ни черта ты, Паша, не понимаешь! Следствие — это тебе не теорему доказать на бумаге. О тонкостях говорить не буду, поверь на слово: зашиться может Махоткин в таком деле. Запутает его Канюков.
— А ты?
— Что — я? Я отстранен. Вот так… — с горечью объяснил Черниченко.
Рогожев запрокинул голову, чтобы увидеть лицо стоявшего за спиной приятеля, и рассмеялся. Не очень весело, но явно без наигрыша. И у Черниченко, ошарашенного этим неожиданным равнодушием к совершающейся ошибке, сразу пропало желание продолжать разговор.
— Смешно, куда там! — сказал он, кривя рот, а Рогожев опять рассмеялся, на этот раз еще веселей даже.
— Сердишься? — спросил он.
— Чего на тебя сердиться?
— Точно, ведь на дураков не сердятся? Да, Ильюха? — Рогожев встал и, напирая грудью, загнал следователя в угол. — А ведь дурак-то не я, а ты, верно тебе говорю! Правда, после беседы с Иваном Якимовичем о Бурмакине я тоже полным идиотом себя чувствовал. Но сегодня еще один разговор состоялся на ту же тему…
— С кем? — насторожился Черниченко. — Разве Крутых вернулся уже?
— Нет, я с другим высоким начальством говорил. Эх, надо было тебе послушать! А то как спичка: загорелся, а чуть дунули — и погас!
— Ладно тебе, скажи лучше, какое начальство. Из края?
— Какое? — Рогожев тянул с ответом, нетерпеливое любопытство друга забавляло его. — Говорю, здорово высокое — общественность! Вела разговор вся проходческая бригада Голубева, да еще ребята с обогатительной фабрики были.
Черниченко разочарованно хмыкнул.
— Ты не хмыкай, а лучше подумай как следует, — посоветовал Рогожев. — Его величество народ, понимаешь?
Скрипнула, приоткрываясь, дверь, и ухмыляющийся Алексей Ежихин, убедясь в отсутствии прокурора, показывая на Рогожева пальцем, сказал устрашающим густым басом:
— Точно он, гражданин начальник! Я его знаю, тот самый!
От Ежихина попахивало перегаром, и Черниченко, пряча невольную улыбку, — хорош, показания давать явился! — совсем не по-уставному спросил:
— Ты хоть помнишь, зачем пришел?
— А трояк взять до получки, — серьезно объяснил Ежихин, потом лукаво прищурил один глаз. — Ладно, не бо-ойсь! Дядя Саша Заеланный к тебе направил, в помощники. Сказал, что один ты не выдюжишь против Канюкова.
Рогожев тронул следователя за рукав:
— Один, Илья! Тебе ясно?
Черниченко ему не ответил; он повернулся к веселому свидетелю, по-ежихински плутовато щурясь:
— Значит, говоришь — один? А ну, дай-ка махорочки завернуть!
Ежихин протянул следователю кисет. Скручивая толстенную папиросу, наблюдал за ним краем глаза и удивлялся недавней своей растерянности: Ведь он же не один действительно! Испугался, что дело может быть прекращено, если им будет заниматься другой дознаватель? Ерунда. Вернется Крутых, тот все поймет, обязательно поддержит. И дело прекратить не позволит. И он, Илья Черниченко, не позволит прекратить, никто не позволит, потому что это не только Бурмакина и Канюкова дело. Вон сколько еще проходит по нему людей — старик Заеланный, Пашка Рогожев со своими ребятами из рудника, даже этот вот баламут Ежихин. И они не только просто проходят, это же их кровное дело! Черниченко вспомнил Канюкова, отказывающегося подписывать протокол, его самоуверенную усмешку: «Валяй, доказывай, желаю успеха!» Неужели все еще думает повернуть по-своему?
Он прикурил самокрутку и закашлялся — ежихинский табак оказался чертовски крепким.
— А знаешь, Алексей Батькович, махорка у тебя что надо! — сказал Черниченко, хлопая Ежихина по плечу. — Прямо аж мозги прочищает. Добра!..
1962
Распутица кончается в апреле
Девяносто шесть километров, ровно девяносто верст по прежнему счету. Старики хвастали, будто обыденкой успевали когда-то добрые ходоки в город на ярмарку. А нынче, казалось бы, на автомашине за день и обернуться можно, если у шофера в городе родни нету. Девяносто шесть километров — разве это расстояние теперь?
Но легли на пути реки да речонки. Важа, Лужня, Вижня. Мостов через них не наводят — стали бы мешать сплаву, а летом перебираться и бродком ладно. Беда, что слишком круты глинистые берега, осклизлы после дождей. Не только автомашине — хорошему коню иной раз не одолеть подъемов.
Исправную дорогу ни к чему строить. Куда? В лес? К трем затерянным в лесу деревушкам? В вёдро леспромхозовский ГАЗ-53 при нужде пробирается в Сашково. А до Сашкова от самой дальней деревеньки, Чарыни, рукой подать — десяти километров не будет.
Ещё дальше — в трех километрах — леспромхоз начал разработку нового участка. Выстроили общежитие, конный двор, баню.
За ними — лес.
Здесь обрывается дорога.
Пасеки — рабочие наделы новой лесосеки — начинаются у реки, возле присадистого конного двора, крытого белой, в неподсохших смоляных слезах, дранкой.
Скудные лесные травы упали по велению осени, пни стали казаться выше. Ржавые листья, издалека принесенные ветром, не укрыли черных проплешин, оставленных кострами, где лесорубы сжигали сучья. Не искры, а редкие ягоды вспыхивают в коричневом брусничнике. От леса остались пни, да брусничник, да хилые кустарники кое-где. Старый ельник, что заслонял им солнечный свет, скатан в аккуратные штабеля на берегу.
Часть бревен пошла на постройку барака.
Барак тоже все еще сочится смоляными слезками. Поэтому к нарядным стенам его липнут паутинки и летучие семена каких-то цветов или трав, похожие на тонконогих букашек.
В бараке, веселом и опрятном снаружи, внутри ничто не радует глаз. Разве что комнатка мастера Фомы Ионыча. Но она обычно заперта большим висячим замком, туда не всегда заглянешь.
Остальные комнаты общежития пугают голизной стен, казенной одинаковостью одеял на плохо заправленных койках.
Начальник райотдела милиции майор Субботин поднял двумя пальцами край одеяла, заглядывая под койку.
— Да-а! — тоскливо роняет он и качает головой, отчего седеющий чуб падает на лоб. Обычно подтянутый, майор оброс за время странствий по бездорожью района колючей белесоватой щетиной. Она колется, если в раздумье поскрести подбородок.
Под койками прячутся от дневного света порожние водочные бутылки.
— Зарплату выдавали недавно?
— Третьего дня, Сергей Степанович! — ответила с порога тоненькая девушка. — Не сегодня-завтра сдавать унесут посуду. Уже на хлебе да на чае сидят…
— Да-а-а… — тянет майор и начинает разминать в длинных костлявых пальцах пухлую беломорину. — Да-а-а…
В бараке живут его «подшефные», как невесело шутит иногда Субботин.
Их пятеро.
Майор сам просматривал их новенькие паспорта, полученные по справкам об освобождении. Все освобождались досрочно, по решению комиссии. Майору очень хотелось верить, что эти решения не ошибочны.
И — не верилось.
«Надолго?» — спрашивал он, заранее зная ответы: «Всё, начальник. Завязано. Хватит. Надо трудиться честно…»
Все они всегда отвечают так.
Леспромхоз принял многих. И вот эти пятеро оказались на самом дальнем участке. Одни в полупустом новом бараке. Там, где кончается дорога.
Из местных лесорубов только Фома Ионыч, назначенный мастером участка, поселился в прирубе. Ревматизм заставил перебраться поближе к месту работы. Чтобы не оставлять деда в одиночестве, внучка его Настя устроилась уборщицей в общежитие.
Остальные рабочие предпочитали жить в Чарыни. Пусть за три километра от лесосеки, зато с женами и ребятишками. Под своими крышами, возле своих огородов и худосочных яблонь. Несколько человек дальних в той же Чарыни «стояли на квартирах». Платили за стол, за стирку, за призрачное иногда сознание, — что живешь дома, не в общежитии.
У пятерых, занявших половину барака, не было на жен, ни яблонь, ни собственных крыш. Даже телогрейки, брезентовые куртки и постельные принадлежности им выдали в леспромхозе. Собственными были только две бритвы на всех, да у каждого — по колоде затрепанных карт. Их не влекло к домашнему теплу и уюту. Поэтому и решил наведаться сюда майор — на всякий случай.
Разглядывая ежащуюся на сквозняке девушку, майор выбирал слова для вопроса, который обязательно следовало задать:
— Как… ну, в общем, не пристают ребята, не дают воли рукам?
Настя вспыхнула.
— Нет. Днем они на работе, а вечером, если я в Чарынь не убегу, так деду книжки читаю. Мы сами по себе, они — сами по себе…
Майор запахнул шинель. Сутулясь, пошел к двери.
— Плохо, что они сами по себе. Плохо. Им бы с народом надо. А где ты его тут возьмешь, народ?
— Наш начальник говорил, что еще сюда лесорубов добавлять будут. И шесть новых пил «Дружба».
— Он наговорит, — буркнул майор и подумал, как нелегко будет леспромхозовскому начальству комплектовать здесь рабочую силу. Кой черт согласится в этакую глушь забираться, в медвежий угол?
— В Чарынь-то ходят они? Не за водкой, а в кино, что ли?
— Запретили, Сергей Степанович, в Чарыни кино показывать. Велят кинобудку сперва кирпичную сделать, чтобы пожара не было. Да вторые двери в культ-уголке.
Майор ссутулился еще больше. Одиннадцать дворов вся деревня, разве повезут сюда по бездорожью кирпич из города? Нет, конечно.
Стоя на пороге, он смотрел через распахнутую настежь дверь в задымленную туманом даль. За этой далью прятался город, районный центр. Воротясь из поездки, майор пойдет в отдел культуры. Там обескураженно разведут руками. И сам он обескураженно разведет руками: что сделаешь? Противопожарные правила нарушать нельзя. За их нарушение следует отдавать под суд.
— Черт! — выругался он, прикуривая новую папиросу, хотя докторам обещал воздерживаться. — Только и остается пить водку. Что им еще делать?
Майор спрашивал себя, но девушка тем не менее пожала плечами. Погодя вспомнила.
— Дед говорит — работают здорово. Не хуже наших кадровых.
— Кадровых? А они какие, не кадровые?
— Они, Сергей Степаныч, только до весны. Витька Шугин объяснял, что расчет потребуют, как первые грачи прилетят.
— Ладно, я пошел, — оборвал майор. — Фоме Ионычу привет передай.
Высоко поднимая — ноги в тяжелых, рыжих от грязи сапогах, он зашагал по обочине. И тогда Настя крикнула вдогонку:
— Сергей Степаныч, вы бы запретили в райпо водку им продавать…
Манор не оборачивался.
— Слышите. Сергей Степаныч?
— Слышу. Права такого у меня нету. Понятно?
Он подобрал полы шинели, оберегая от грязи. И девушка с неприязнью подумала: по-бабьи! Шинель запачкать боится, чистюля! А на пропивающих все свои деньги лесорубов ему плевать. Не может сказать в магазине, чтобы водку ребятам не продавали.
Чувство неприязни было несправедливым, а потому мимолетным. Взгляд, провожающий долговязую черную фигуру, потеплел. Настя вспомнила, как майор ругался с директором леспромхоза, не хотевшим авансом выдавать новичкам спецодежду. «Не путайтесь в чужие дела, — говорил директор. — Они через неделю сбегут». А начальник милиции ему: «И правильно сделают, если будете посылать людей в лес нагишом. Не заставляйте меня идти в райком, черт побери!»
Кажется, он все-таки ходил в райком, потому что ребята прибыли на участок в новенькой спецодежде. И конечно, майор запретил бы продавать водку, будь у него право на это…
Со вздохом оправив одеяло, загнутое начальником милиции, девушка прошла к себе в комнату, попыталась открыть книгу. Строчки расплывались, путались. Мысли не желали уклоняться от живых, знакомых людей. Судьбы героев книги меркли, казались незначительными рядом с нескладными судьбами новых лесорубов. Настя впервые сталкивалась с корявой; неласковой действительностью. Это была чужая действительность, но девушка и к чужой не умела оставаться равнодушной.
До постройки барака на высоком берегу Лужин жизнь текла ровно, обычно. Деревенское детство, не приученное к сладостям, не избалованное ласками, всегда нетребовательно… Школа в Сашкове, кажется только вчера законченная. Теперь Настя готовилась к поступлению в институт. Любовь молодой учительницы ботаники к своему делу да пристрастие бабки — отцовской матери — к врачеванию травами определили выбор учебного заведения. Может быть, сначала на заочное отделение — не оставлять же деда, вырастившего ее! Отец погиб на фронте, а через два года — мать, от укуса змеи. Не нашлось тогда у бабки Груни нужной травки, а может, и не существует такой вовсе? Да и сама бабка на год только пережила невестку.
Деду пора на пенсию, но Фома Ионыч слышать об этом не хочет. Говорит: «Кабы не ноги, не мастерство-вал бы, а сам лес рубил!» Два года назад старик с лучковой пилой еще не отставал от молодых вальщиков с электропилами. Сказывалась сноровка: как ловчее подойти к дереву, куда положить хлыст, чтобы удобнее кряжевать. Но за два года много утекло воды.
Перейдя на попечение деда, Настя сначала поневоле узнала дорогу в лес, а потом пристрастилась к нему, полюбила. Ей нравилось как бы растворяться в нем, родниться с лесом. Научилась чувствовать себя связанной с травами и листьями невидимой, но неразрывной связью. Казалось, что сама она — маленькая частичка леса, необходимая ему. Пожалуй, это была игра, но девушке нравилось играть так.
Три километра между бараком на Лужне и деревней тридевятью земель отдалили Настю от немногочисленных подруг. Днем никого не застанешь, все на работах, а по вечерам — в клубе, в Сашкове. Между Сашковом и новым лесоучастком почти тринадцать километров разбитого проселка, который приходится находить ощупью в ранней темноте морошных вечеров осени.
Кончив уборку барака, Настя садилась за учебники, поджидая деда. Времени не хватало, с трудом удавалось выкраивать его на засолку грибов, стирку.
Некогда было и задумываться о чем-либо, не входящем в неширокий круг собственных забот. Все привычно и гладко в жизни, разве что споткнешься о корень на лесной тропе да незлобиво поматерят бога чарынские лесорубы, вытянув при жеребьевке плохую пасеку.
Прибытие новых рабочих перевернуло этот спокойный и ласковый мир. Или — ее мир остался прежним, а какой-то другой, страшный своей нелепостью, нагло потеснил его, заставил дать место?
Новичков привел инженер по лесоустройству Латышев. В бараке их ждали по-домашнему застеленные Настей койки с чистыми до хруста пододеяльниками и намытые полы. Из большого медного самовара Фомы Ионыча валил пар.
Сначала новички показались Насте совершенно одинаковыми. Такими делали их брезентовые спецовки с наплечниками. Они пришли налегке, с небрежно переброшенными на спину тощими вещевыми мешками.
Вошедший первым, в кепке почти без козырька, в упор оглядел Настю, движением головы подчеркивая, что мысленно раздевает ее. Прищурив глаза, спросил Латышева:
— Смуглянка — тоже в общее пользование? Как самовар? Возражаю!
Инженер растерялся.
Фома Ионыч, сдвинув седые брови, шагнул к самовару, коротко бросил внучке:
— Убери!
Затем повернулся к парню, намереваясь сказать что-то гневное, уничтожающее, но сказал только:
— Эх! — и, махнув рукой, плюнул себе под ноги.
Так Настя познакомилась с Виктором Шугиным, Витьком Фокусником, одним из пяти и вожаком «кодлы».
На участке прибавилось пять лесорубов. Немного. Но изменилось многое… Теперь при оформлении нарядов частенько грозили отрубить мастеру голову, ругались без нужды какой-то особенно гнусной матерщиной, хвастались один перед другим прошлыми кражами, называя кражи «работой». Впрочем, пока это были только слова. Новички «брали на горло».
Настя избегала их, стараясь не попадаться на глаза. Но люди жили рядом, за стенкой. Жили как на ладони у нее. И, перестав бояться, привыкая к ним, девушка не переставала удивляться их жизни. Тому, что поневоле приходилось называть жизнью, так как другого слова она не могла подобрать.
Брезгливость и неприязнь растворялись в жалости. Она жалела этих пятерых, как, наверное, жалела бы слепых, — за то, что не видят несметно богатого радостями, прекрасного мира. Что они не хотят видеть его — девушке не приходило в голову. Разве можно не приглядываться к цветам, не прислушиваться к голосам птиц?
Жалела за то, что они ни к чему не стремятся. У этих людей не было ни цели, ни освещающей путь мечты. Они жили одним днем. Ничто их не интересовало больше и дальше.
И она прощала им многое, как прощают слабости убогим. Даже водку прощала, не умея понять, водка ли порождает слепоту или слепота заставляет искать утешения в водке.
Работали они здорово, у всех пятерых имелся опыт работы в лесу. Зарабатывали помногу. И — пропивали всё, щеголяя один перед другим презрением к деньгам, к полуголодному завтра. Выигранное в карты тоже тратилось на водку. Никто не вспоминал, что следует приобрести какую-нибудь одежду, — все дорывали спецовки, выданные при поступлении на работу.
Пьяные, они матерились истеричнее и страшнее, чем обычно. Скрежеща зубами, раздирали на себе рубахи. Пели что-то на странном, полурусском языке.
В такие дни Настя уходила в Чарынь, чтобы не видеть и не слышать ничего.
Сегодня ей можно было остаться — у ребят начинался пост, уже успели пропиться после получки.
Принуждая себя не думать о подшефных начальника милиции, Настя занялась хозяйственными приготовлениями к возвращению лесорубов с работы. Собственно, приготовления касались одного Фомы Ионыча. Пятеро обслуживали себя сами. Остальные проходили мимо барака, к Чарыни.
Обычно первыми вваливались новички. Поэтому девушка очень удивилась, увидев в проеме распахнувшейся двери деда.
— Ну-ка, давай аптечку! — вместо обычной неторопливой шутки приказал ей Фома Ионыч. — Бинты, йод, чего еще надо? Ты лучше знаешь…
С перепугу у нее опустились руки, она растерялась.
— Что с тобой, деда?
Старик нетерпеливо, досадливо отмахнулся:
— Аптечку готовь, Шугин разрубил ногу, сейчас принесут… Шевелись, чего рот разинула?
У девушки отлегло от сердца — слава богу, с чужим человеком несчастье, не с дедом! Она захлопотала у белого с красным крестом шкафчика на стене. Два индивидуальных пакета, йод, марганцовка. Что может понадобиться еще? Наверное, спирт, но спирт давно выкраден.
На крыльце затопали, тяжело задышали люди.
— Открой дверь! — нетерпеливо прикатали кому-то, видимо медлившему. Чья-то рука с такой силой рванула за скобу, что в окнах задребезжали стекла.
— Тише, гад! — снова загремел тот же голос.
«Воронкин, — узнала по голосу Настя, — вечно ругается».
Двое, задевая плечами косяки, внесли раненого. Он обнимал их за шеи. Тряпье, кое-как намотанное на его ногу, набрякло от крови.
— На койку ложьте, ребята! — распорядился Фома Ионыч. — Подводу сейчас пригонят, только перепрягут коня. Надо перевязать покуда…
Шугин, побледневший, с ввалившимися от потери крови и трехдневного пьянства глазами, по обыкновению, старался прикинуться неукротимым, удивить лихостью.
— Обойдусь, мастер! Лучше прикажи, чтобы шофер «скорой помощи» не сигналил сиреной. Напоминает спецтранспорт… на котором в уголовку возят…
Он внезапно обмяк, бессильно привалился к стене. С бесформенной, похожей на грязный узел ноги на пол скатывались тяжелые красные капли.
Тихонько ахнув, Настя метнулась в свою комнату. А через мгновение была уже возле раненого. Ловкими движениями разматывая уродливую повязку, попросила:
— Подай мне бинты, деда! И ножницы!
Из раны на плюсне, ничем не удерживаемая, бежала кровь. Стиснув зубы, девушка сыпала прямо на рану содержимое жестяной коробки из-под чая. Коричневатый, летучий, как дым, порошок темнел, брался коростой.
И вдруг — кровь остановилась!
— Ловко! — уважительно сказал тот самый Воронкин, который не умел обходиться без ругательств.
Словно извиняясь, Настя подняла на него робкий взгляд:
— Это споры дождевика. Гриб такой есть, знаете? Пыхалка…
В ее проворных пальчиках с хрустом рвался пергамент обертки индивидуального пакета. Когда под окном заскрипела несмазанными осями телега, девушка кончала накладывать аккуратную новую повязку.
Еще до того Шугин открыл глаза:
— Мотануло!.. Как из-за угла кирпичом…
Он словно стеснялся чего-то.
— Деда, скажи: пусть едут осторожно. Шагом. Чтобы рану не разбередить. Крови он много потерял…
— Черт, дорогого… Сама знаешь!
Николай Стуколкин, наиболее уравновешенный из пятерых, раздумчиво сдвинул на затылок шапку.
— Да, дорожка!.. А может, он в бараке дня два полежит, а потом — в Сашково?
— Нашел место, — хмыкнул Воронкин. — А за санитарку ты будешь? Ведь человек встать сам не может.
— Ничтяк! — попытался браво усмехнуться Шугин, но улыбка получилась жалкой. — Доеду как-нибудь.
Настя решительно обернулась к Фоме Ионычу.
— Деда, я тут присмотрю за ним. Лучше не возить. Все-таки тринадцать верст до Сашкова…
Мелькнувшее в глазах внучки простое беспокойство Фома Ионыч посчитал страхом за человеческую жизнь. Черт его знает, сколько парень потерял крови? Вдруг…
Боясь даже мысленно заканчивать это «вдруг», решил:
— Ладно. В Сашково накажем, чтобы фельдшер приехал за ним. Пока пущай лежит дома. Завтра останется кто-нибудь при нем, я повременно проведу день. Согласны?
— Порядок, — ответил за всех Стуколкин. — Повременка так повременка, черт с ней. Я останусь…
В тот вечер Настя больше не видела Виктора Шугина.
Хотя в общежитии было тише, чем обычно, она не знала, чем вызвано затишье: болезнью товарища или безденежьем. Но за водкой в Чарынь никто не бегал.
Утром, собираясь в лес, Фома Ионыч подозрительно посмотрел на Стуколкина:
— Смотри мне, без всяких. При больном остаешься.
А внучке предложил:
— Ты, может, в Чарынь сходишь? Девок проведать?
Она угадала причину его тревоги:
— Деда, пусть Стуколкин идет на работу. Я присмотрю за Шугиным, если что.
Но тут заупрямился раненый:
— Брось, девушка. Никола со мной побудет, а ты жми в деревню, чтобы мастер не волновался.
— А что ему за меня волноваться? — притворилась непонимающей девушка. — Волки сюда не забегают, а если забегут — у нас заряженное ружье на стене висит.
Она не ушла в Чарынь…
К вечеру из Сашкова приехал фельдшер.
Он долго, обстоятельно привязывал к березе коня, распускал ремни нового седла. Потом ходил на конный двор за охапкой сена.
Торопившей его Насте объяснил, словно оправдывая свою медлительность:
— Овса сейчас нельзя задавать, пусть выстоится. И поить рано. Ну, где тут у вас больной? Веди, что ли.
Уже пожилой, уверенный в себе или равнодушный к страданиям других, еще постоял на крыльце, осматриваясь:
— Ну и глушина у вас. Конец света.
— Здорово, молодцы! — приветствовал он Шугина и Стуколкина, войдя в барак. — Что это вы вместо сучьев ноги рубите.
Оба промолчали.
Уловив недоброжелательность в их взглядах, фельдшер поспешил расстегнуть брезентовую сумку с когда-то красным крестом. Сказал Шугину, боднув подбородком воздух:
— Чего там у тебя, показывай.
Потянулся к повязке.
— Вы бы хоть руки вымыли, — не выдержала Настя.
— А ты меня не учи, что делать. Сам знаю.
И, опять перехватив враждебные взгляды лесорубов, усмехнулся:
— Когда надо будет — вымою. Видишь, мне еще грязный бинт снять требуется.
Обнажив рану, колупнул пинцетом черную коросту на ней:
— Хоть бы грязь смыли сначала, доктора. Эвон что делается. На палец навозу.
Возмущенная Настя покраснела.
— Это же не грязь, а споры дождевика. Я кровь останавливала.
Фельдшер прищурил один глаз, сморщился.
— А чего жене коровьим пометом или не петушиным словом?
У обиженной девушки задрожали ноздри, она еле удерживалась, чтобы не разрыдаться:
— Дождевик — это кровоостанавливающее. И еще — антисептик. Порошкообразные споры…
— Ох, умна! А от дурного глаза твой дождевик не помогает?
Всхлипнув, Настя стремглав выскочила из барака, не закрыв за собой двери.
— Ле-кар-ша! — язвительно процедил фельдшер, глядя ей вслед.
Шугин здоровой ногой отпихнул брезентовую сумку. Сказал, словно сплевывая каждое слово сквозь зубы:
— Слушай, ты. Ну-ка, исчезай отсюда. Быстро. Пока тебе нос не обрезали.
Фельдшер испуганно попятился — на него, засовывая руки в карманы, грудью наступал Стуколкин.
— Да вы что, ребята?
— Рви когти, сука! Ну?
Тогда он, не спуская испуганного взгляда со Стукол-кина, поймал за ремень лежащую на полу сумку и, продолжая пятиться, нащупал ногой порог. Не закрытая Настей дверь с грохотом захлопнулась за ним.
— Вот потрох подлючий! — выругался Шугин. — Девку ни за что обидел. Посмотри, куда она убежала…
Отворив дверь, Стуколкин увидел уже взгромоздившегося в седло фельдшера. Повернув танцующего коня головой к дороге, считая себя в безопасности, фельдшер кричал через плечо:
— Шпана тюремная, хулиганье! Начнется гангрена — я пальцем не шевельну!
Опираясь рукой на перила, Стуколкин легко перемахнул через них. Фельдшер испуганно подскочил в седле, ударив коня каблуками. Конь с места перешел в рысь.
— Настя! — лесоруб рупором сложил ладони. — Настя! Витек зовет!.. На-стя..
Отозвалось только эхо.
Он вернулся к товарищу, беспомощно развел руками:
— Не видать.
Шугин, глядя на опять закровоточившую рану, жадно глотал папиросный дым.
— Дела!
Стуколкин вздохнул и снова отправился искать девушку. Повернув за угол барака, он услышал приглушенные рыдания за следующим углом. Обогнув его, увидал вздрагивающие плечи Насти. Лицо она прятала в сцепленных руках, опираясь локтями о стену.
— Брось! — несмело, словно это он обидел ее, сказал Стуколкин. — Брось, слышишь? Турнули мы его, гада. Иди, перевяжи Витьку ногу… Слышишь, Настя?
Девушка продолжала всхлипывать.
— Брось, не обращай внимания!
— Могут подумать, что я нарочно… Какой-то гадостью… А про дождевик… в лекарственнике написано даже… Народное средство…
Слова перемежались неудержимыми рыданиями.
— Да плюнь ты на этого гада! Все же видели — сразу кровь остановилась. Пойдем. Ногу-то перевязать надо, а я не умею…
— А фельдшер?
— Говорю, шугая мы ему дали!
Она все еще недоверчиво, с опаской оторвалась от стены. Рукавом вытерла слезы.
— И ногу не перевязал?
— Не позволил ему Витёк… Тебя ждет…
Очертание тонких губ Шугина изменила необычная улыбка, когда он увидел девушку. Лицо просветлело, потеряло всегдашнюю презрительность.
— Шурнули лекпома. Чуть в окошко не выскочил. Ты завяжи мне копыто да присыпь своим порошком, а? Разбередили…
— Может, другим чем? Или — простую повязку? — забеспокоилась она.
— Давай свой дождевик. Лекарство правильное.
На новый белоснежный бинт падали слезы, не оставляя следов. Настя все еще не могла успокоиться.
— Не знает он ничего, а говорит. И дождевик и тысячелистник кровь останавливают. Но пыхалка лучше, честное слово!
— Молодчик! — похвалил ее Стуколкин, оглядев наложенную повязку. — Назначаем тебя заведующей медпунктом…
— Не треплись! — оборвал раненый. — Спасибо, Настя. Ловко сработала.
Вечером, когда в барак вернулись остальные и окружили его, Виктор Шугин, не отвечая на расспросы, сказал с наигранной беспечностью:
— Слушайте, вы! Если какая тварь протянет лапы к девчонке или не придержит язык — припорю!
Настя не слыхала этих его слов, и никто не передал их ей. Но она угадала каким-то внутренним чутьем, что подобное кем-то сказано. Безразлично кем и безразлично какими словами. Она угадала смысл сказанного по взглядам, которые перестали раздевать, по обрываемым при ее приближении громким разговорам.
Слово Виктора Шугина было законом для остальных. Никто не выбирал его в законодатели, но никто не посмел бы усомниться в его праве приказывать. Ни один из четверки. Даже Воронкин.
Усомниться в этом мог только сам Виктор Шугин. Сам Витёк Фокусник.
По неписаным правилам людей, называюших себя «преступным миром», Витёк опирался на мрачную славу «вора в законе», дерзкого, не желающего ни перед чем останавливаться, скорого на расправу при сведении счетов.
— Правильный босяк! — уважительно говорили о нем такие, как и он.
— Ну и разбойник! — качал головой Фома Ионыч.
Шугин в таких случаях делал вид, будто не слышит.
Улица в огромном городе, где он родился и рос, имела два названия. Одно было написано под номерными знаками немногочисленных домов. Старожилы именовали ее по-своему, Козьим Болотом.
Витька Шугин рос до одиннадцати лет в семье, где слова «уличный мальчишка» произносились с брезгливостью. На двенадцатом году Витькиной жизни семья распалась. Отец ушел к другой женщине.
Он хотел взять Витьку, но мать оставила сына у себя. Поступила работать на механический завод.
Козье Болото засосало мальчишку. Сразу за дверью, на гулкой парадной лестнице, он забывал все, что внушалось ему с пеленок. Он стыдился показаться улице таким, каков был дома. Делал все, чтобы улица не заподозрила в нем того Витеньку, которого целовала мать, уходя на работу, и крестила бабка, провожая в школу.
Школе он предпочитал Козье Болото.
Огороженный забором пустырь в конце улицы стал первым классом Витька Фокусника, когда Витька Шугин решил, что ради него стоит поступиться шестым классом школы.
На пустыре играли не только в футбол и в пристенок по двугривенному. За сараем частенько резались в буру или стосс. Ребята немногим старше Витьки по возрасту, называвшие Витьку пацаном, пили водку, хвастались пачками денег. Он далеко не все понимал из разговоров на блатном жаргоне, именуемом «феней», но кое-что уже умел понимать. Непонятное угадывал или строил о нем догадки, завидуя посвященным.
У Козьего Болота имелись свои легенды, свои герои. Он знал клички героев: Косой, Витька Поп, Настырный. Он встречал, видел этих героев.
В легендах рассказывалось о Пеше, Дашином Кольке и Кольке Корявом. Легенды не имели концов и могли обернуться действительностью. Иногда они оборачивались ею. Ненадолго.
Витька мечтал стать героем, о котором будут после рассказывать на Козьем Болоте легенды, а пока — хотя бы приблизиться к тем, кто запросто пьет водку с ворами или играет с ними в «коротенькую», стать одним из «своих». Хотя бы затем только, чтобы не называли презрительно пацаном!
Оказалось, что и таким нельзя стать сразу, просто пожелав этого. Преступный мир не принимает к себе всех желающих, не зазывает: иди к нам! Он не вербует рекрутов, это выдумки. Воры не любят новичков: зачем выделять лишнюю долю из добычи, опасаться лишних свидетелей?
Надо доказать свое право на прием в кодлу, заставить принять, вырасти, созреть в кодле. И Витька Шугин рос, как растут сорняки.
Рядом, на том же пустыре, где воры играли в карты и делили добычу, росли и вырастали другие ребята. И они играли в пристенок, но не учились тасовать карты, а пристенку предпочитали гонять мяч. Били из рогаток стекла, мечтали о финках и пистолетах, «мотали» наиболее скучные уроки в школе, но не тянулись к ворам.
Почему?
Почему Витька Шугин захотел быть другим, не похожим на них?
Кто знает это?
Может быть, все началось с детской романтики, которую никто не догадался направить. Арсен Люпэн, или Лорд Листер — вор-джентльмен, или Картуш, чьи похождения в лубочных обложках из-под полы продавались еще в те годы на толкучке, оборачивались в мальчишеском представлении Дашиным Колькой, Косым, Пешей…
Возможно, началом послужила зависть к имевшим деньги. С такими ребятами некоторые девчонки с окрестных улиц, о которых говорили грязно и волнующе, уединялись в сараях на пустыре, в глухих парадных. А детству так хочется поскорее считаться и сознавать себя взрослым. Или привлекала и увлекала угарная бесшабашность, показная удаль, хождение по острию ножа?..
В первый раз он попытался украсть пачку дорогих папирос из кармана пожилого человека в трамвае. Сделал это лишь для того, чтобы восхитить другого мальчишку, чтобы тот, млея, посмотрел на него, как сам он — на карманника Вальку Кота.
Попался, конечно.
Вырвавшись, на ходу выпрыгнул из вагона и побежал, не сознавая куда. Убегал от безумного ужаса, заслонившего мир.
Догнали.
Стуча зубами, отвечал на вопросы дежурного в милиции. Зато на другой день тоном бывалого человека говорил:
— Привод? А, привыкать, что ли?
С тех пор он боялся красть, не хотел красть — и должен был красть. Для того чтобы не прослыть трусом. Чтобы не показаться чужаком, когда про него начали говорить «свой», «жуковатый».
И он крал.
Проигрывал вещи или деньги, вырученные за продажу краденых вещей. Рассказывал, небрежно роняя жаргонные словечки, о «принятом лопатнике», что означает, украденный бумажник, или про то, как «помыл бухаря» — обобрал пьяного.
Подробности он выдумывал.
Витёк не «расписывал» карманов, не обворовывал пьяных на улице. Все украденное выносил из своей квартиры. Из комнаты соседа, одинокого инженера-гидролога, командированного в Заполярье.
Так он обманывал свой страх — его не могли захватить на месте преступления, расплатой грозило будущее, о котором можно не думать.
Так обманывал кодлу.
На суде Витька Шугин плакал и клялся, что больше не станет воровать. Никогда. Пусть только простят, помилуют!..
Его направили в исправительную колонию для несовершеннолетних.
Даже в таких колониях дети пытаются иногда играть во взрослых, опытных преступников. Это страшная и жестокая игра.
Тот, кто упрямо хочет остаться вором, и в заключении стремится отшлифовывать свои познания в «законе», противопоставленном всем человеческим законам. Здесь такие воры, вынужденные на свободе прятать свое настоящее лицо, носить маску, с гордостью заявляют: «Я — вор!» Не фрайер, попавший случайно, не мошенник и не хулиган. Вор, босяк, жучок, жулик. Главный и постоянный съемщик этого дома. Барин.
Вору не положено работать — за вора и на вора должен работать фрайер.
Вору не положено есть из одной миски с фрайером. По-братски вор делится хлебом лишь с вором. Фрайеру он может швырнуть объедки.
Вор не имеет права проиграть свой хлеб, свой золотой зуб — «фиксу». Поставивший их на карту становится подонком преступного мира. Но можно проиграть хлеб фрайера, его вещи…
Взрослые уголовники об этом предпочитают рассказывать, как о золотом прошлом. Но те, кто начинает, еще не умеют понять, что все это — только тень мертвого, запах трупа.
Первый шаг здесь решает судьбу.
Витька не пришел, робко прижимаясь к стене, не забился в угол. Он сказал, как говорили воры, приходя к играющим в стосс на пустыре Козьего Болота:
— Здорово, жучки!
В колонии обучали столярному или слесарному делу. Но Витька научился еще «бацать» цыганочку и вальс-чечетку. Так тасовать и подрезать самодельные карты, чтобы уже по ловкости рук догадывались: это не фрайер! Узнал, что «роспись» ре имеет никакого отношения к живописи, хотя является искусством. В зависимости от того, как расписывается — вырезается бритвой — карман, она именуется одесской, варшавской или ростовской.
На языке преступного мира нет понятия «смелость». Есть «дерзость». Витька научился играть дерзостью, точно обрезанными на клин картами. Скрежеща зубами, изрыгая ругательства, бросаться на перечащих. Научился помыкать, чтобы другие не помыкали им, — принято верить, что дерзость опирается на силу.
На свободу вышел не Виктор Шугин, а Витёк Фокусник. «Вор в законе».
Быть другим он и не собирался.
Прежде всего Витька направился к пустырю.
На пустыре высаживали молодые деревца. Пацаны играли в футбол. Няньки катали колясочки с чужими малышами, малыши радостно смотрели в небо, почмокивая сосками. Сосредоточенные дети постарше ковырялись в песке.
Пустырь переставал быть пустырем. Воры не собирались больше здесь. Их «замели», выловили.
И вдруг Витька обрадовался этому.
Обрадовался, что не нужно оставаться Витьком Фокусником на воле, не перед кем оставаться. Можно не рисковать этой «волей», без которой обходился в колонии, но теперь не хотел терять, боялся потерять.
Мать устроила его к себе на завод.
Здесь людей сближали другие интересы, иные стремления. Все еще мальчишеское желание, чтобы на него смотрели, говорили о нем, помогло Витьке, в союзе с природной сметкой, уже через полгода слесарить по четвертому разряду. Некоторый опыт парень приобрел в колонии: жизнь все-таки сильнее воровских законов, ему приходилось зарабатывать паек у тисков.
Витька не вспоминал о своей кличке, о кодле. Может быть, потому, что всегда тянулся не к воровской профессии, а к угарной воровской славе. Пожалуй, он и раньше предпочел бы считаться вором среди воров, обходясь без краж.
Новая жизнь не казалась праздником, но устраивала больше прежней. Конечно, недурно украсть тысяч десяток сразу, для карманных расходов, и прибарахлиться как следует, но…
За этим «но» стоял страх.
А мать радовалась, что сын выправился, поумнел. Откуда ей знать, матери, что не разум и не совесть решают такое. Случай решает, и решает слабость.
Случай окликнул Витьку хрипловатым голосом пария с беспокойным взглядом:
— Витёк, ты? Давно на воле?
Три года назад квартирный вор — скокарь Солидный — называл Витьку пацаном. Теперь он разговаривал с ним как равный:
— Я только позавчера вышел. Три года тянул. Слыхал, босяки толковали — душок у тебя правильный, оказывается. Молодчик… Ну, как?
Под этим «как» подразумевалась целая куча вопросов: с кем ты, везет ли тебе, что ты можешь предложить?
— Да не шибко, — неопределенно ответил Витька.
— Есть дело. Правильное, свободы не иметь. Кусков на сорок.
Сорок тысяч!.. Витька прикинулся равнодушным, а не испуганным.
— А если пустышку потянем?..
Пересыпая речь жаргоном, Солидный принялся уверять, что игра стоит свеч. Предполагалось обворовать квартиру зубного врача, работающего частным образом.
— Скок — это не моя специальность, — увиливал Витька.
Солидный прищурил бегающие глаза:
— Коленки трясутся?
На этот раз, по 167-й статье Уголовного кодекса, Шугин получил пять лет.
— Здорово, урчки! — крикнул он, заглушая голос отчаяния, когда пришел в камеру после суда. И запел, приплясывая:
Всю жизнь по проволоке.
Все дальше к северу.
Зачем поймал, легавый? Отпусти!..
Снова, на этот раз надолго, он стал Витьком Фокусником.
Смакуя, рассказывал о ловких и добычливых кражах, якобы совершенных им за годы жизни на свободе. Десятками вел им счет. Для большей убедительности называл имена воображаемых соучастников, небрежно щеголяя кличками знаменитостей. Знал уже: выдумки его потеряются среди других, похожих рассказов. Забудутся подробности. Да и не станет никто проверять — было это или не было этого.
Через два года попытался бежать, опять-таки — не отставая от других, чтобы не усомнились в его дерзости.
Поймали, судили за побег.
И — сызнова впереди пять лет, как будто еще не разменивал их. Об освобождении перестал думать — слишком далеко отодвинулось оно. Все его интересы и даже мечты перестали порываться за пределы тюрьмы — там все труднее и труднее приходилось таким, как он.
Труднее им приходилось и в заключении. Строже становились порядки, вынуждая все чаще поступаться воровскими «законами». Кодла распадалась, волки становились уже не волками, а шакалами, даже в отношениях друг с другом. Грызлись между собой, подчас насмерть. Не в стае, одиночками, они уже не внушали прежнего страха.
И все-таки цеплялись за старое. Обманывали себя, будто преступный мир все еще придерживается своих законов, хотя «честных воров» остается все меньше и меньше.
Шугин считал себя одним из немногих. Одним из последних рыцарей распавшегося ордена. Он не мог не считать так — что осталось бы тогда в жизни? Только неволя?
Вперед он не смотрел — смешно было бы загадывать на пять лет вперед…
Но они прошли, эти пять лет.
Известие о смерти матери он получил еще в заключении. Ему некуда было возвращаться, не к кому идти. Нигде не ждали. Витьке показалось, словно его выбросили из дома на улицу. В пустоту. В незнакомый и неуютный мир.
По старой памяти — зная, что ничего не найдет там, — прошел мимо пустыря на Козьем Болоте. Молоденькие деревца, высаженные в прошлую побывку здесь, разрослись вверх и вширь. В их тени, на присыпанных песком дорожках, стараясь не забегать в газоны, играла ребятня. От старого не оставалось и следа.
Он присел на краешек свежевыкрашенной скамейки с таким чувством, будто боялся ее запачкать. Долго разминал в пальцах папиросу, прежде чем закурить.
— Витек?
Двое парней, ничем в одежде не напоминающие воров, оказались тем прошлым пустыря, которое не всегда умирает с обновлением жизни. Но Витька, не философствуя, обрадовался им. Теперь у него было место для ночлега, не требующее прописки, и «свои» в городе, от которого он отвык.
Его не спросили, как он собирается жить. Но предупредили:
— Старые времена прошли, помял?
Фраза означала, что ремесло вора стало более сложным, требует куда больше осторожности. Но Витька не успел понять этого толком. В ту же ночь его подняли с постели работники угрозыска.
Их привели сюда ценности, похищенные из «Ювелир-торга» по предварительному сговору с директором магазина. При обыске, кроме ювелирных изделий, в квартире нашли вещи, добытые другим преступлением. А под матрацем постели, на которой спал гражданин Шугин, освободившийся из заключения и не имеющий права проживать в данном городе, был обнаружен маленький тупорылый пистолет «вальтер».
Казалось бессмысленным доказывать, что оружие не его, что он не знал о нем. Мало того, это явилось бы обвинением хозяев квартиры, почти доносом. Обвинить их, оправдывая себя? Нарушить самую святую заповедь преступного мира?
У тех, кто дал кров Витьку Фокуснику, недостало мужества признаться, что пистолет принадлежит им. Шугина судили на этот раз за незаконное хранение оружия. Соучастие в ограблении «Ювёлирторга» доказать не смогли, но прежние судимости и проживание в городе без прописки говорили не в пользу подсудимого.
Виктор Шугин снова получил пять лет.
Через год с небольшим его досрочно освободили по решению комиссии. Торопясь зацепиться за что-то, он сразу оформился в леспромхоз — и вновь оказался среди таких, как сам.
Новый лесоучасток — Лужня.
Новый, полупустой барак.
Воры — законные или незаконные, черт их знает! — тоже освобожденные досрочно. Может, решившие в самом деле покончить с прошлым. Но кто первым отважится признаться в этом? Разве честный дотоле человек среди честных людей заявит вслух, что хочет стать жуликом? А как вор, честный в глазах воров, скажет такое?
Самый «законный» из них — Витёк Фокусник — в действительности меньше других имел основание считаться вором. Но знал это только он сам. И разве мог в этом сознаться, поступиться своей славой — первым отколоться от кодлы? Потерять право на уважение тех, с кем живет под одной крышей и делится куском хлеба?
По инерции Шугин продолжал оставаться Витькбм Фокусником. По инерции повелевал. По инерции четверо остальных не возражали ему. Некому, нечему было остановить эту инерцию.
Барак стоял на самом конце вилючей проселочной дороги.
Настя не разделяла соседей на законных и незаконных. Пожалуй, даже не считала их ворами — они ведь ничего не воровали, да и нечего было воровать здесь. Просто одни будили в ней больше жалости, другие — меньше. Жалость уходила корнями в прошлое, когда слова «арестант» и «несчастный» звучали одинаково. На старых корнях выросли новые побеги. Девушка думала, будто заключение отучило ребят от обычных человеческих радостей и печалей, исковеркало, озлобило.
Возможно, жалела не их, а человеческие жизни, в них загубленные. В этом она не умела разобраться.
Больше других Настя жалела Шугина.
Женское сердце всегда подкупает превосходство одного над многими. О подоплеке шугинского превосходства Настя ничего не знала. В «разбойничьем», по словам деда, взгляде читала то ли грусть, то ли горечь. Так ей казалось, по крайней мере.
По ее мнению, пьянствовал Шугин меньше остальных. И реже ругался нехорошими словами.
Только это она и смогла бы сказать, покамест ранение не приковало Шугина к бараку. Поневоле станешь приглядываться к человеку, если он все время перед тобой.
В первые же дни девушке стало ясно, что у него два лица. Одно — чем-то смущенное, нравящееся. С затененными длинными ресницами глазами, печальными морщинками в углах тонких губ. Лицо обиженного человека.
С возвращением в общежитие рабочих оно пропадало куда-то, подменялось другим. Холодным, настороженным, с вечным насмешливым прищуром глаз и усмешкой одной половинкой рта. Лицо человека, намеренного оскорбить, обидеть.
Сначала Настя думала: Шугин не любит своих товарищей, они раздражают его. Но потом стало казаться, что он с нетерпением ждет их возвращения, тяготясь ее обществом. Видимо, скучно с ней? Тогда, считая себя сиделкой у постели больного, девушка решила больше уделять внимания ему, развлекать, подбадривать.
Делала это как умела.
По-своему.
Не зная, чем лучше заинтересовать, рассказывала обо всем, когда-либо остановившем внимание. Настя считала себя необычайно мудрой утешительницей. Старалась так строить разговоры с больным, чтобы Шугин черпал в них бодрость и терпение. Примером должны служить люди, в подобных случаях терявшие больше его.
Хитрости были удивительно бесхитростными.
Словно ненароком вспоминала, что Фома Ионыч однажды рассадил косой ногу накануне открытия охоты. Ждал этого дня, как праздника. Чуть не за два месяца готовиться начал. И пожалуйста! Пришлось перебинтовать ногу, чуть не выше головы задрать. Кровь никак не могли остановить иначе. А дед знает одно — ругается. Ведь в лесу-то — восторженно полузакрыв глаза, девушка представляла себе августовский лес, еще щедрый на запахи и цветы, — в лесу-то!.. Торопясь, рассказывала о взлетающих из-под самых ног тетеревах и глупых еще глухарятах, уверенных, будто неподвижность делает их невидимыми. Как деду не ругаться? Хоть всего два охотника в деревне, а пойдут — не перебьют выводки, так разгонят!
В паузе, якобы невольной — надо-де сходить по воду или растопить плиту, — Шугину полагалось прочувствовать бездонную глубину горя Фомы Ионыча. Гремя ведрами, девушка исподтишка взглядывала на него: понял ли?
И только после этого, как ей думалось, утешала: к деду пришли охотники, Иван Васильевич Напенкин и бригадир Горшков, без ружей. Пришли, чтобы сказать: «Дедко Фома, решили тебя подождать. Пусть подрастут тетерева. Чтобы не обидно тебе дома сидеть одному».
Взгляд ее светился торжеством: каково? Стоит ли мучиться и переживать, если, в конце концов, все складывается благополучно?
Или случай с Наташкой Игнатовой в Сашкове. Жалко, что Виктор не знает Наташку. Первая красавица, а плясунья — на областной смотр два раза ездила! Вот той не повезло так не повезло: перед самым маем упала с крыши. Антенну полезла ставить, приемник купили Игнатовы. Ну и сломала ребро. В клубе выступать надо, шефы должны приехать, а ей с постели не встать. Так что он думает? — сашковские девчонки вместо клуба пришли к Наташке праздник встречать. Натащили кто чего мог. И не танцевали, только что песни пели весь вечер…
Настины рассказы целительным бальзамом не проливались. Шугин томился, кусал губы. Не сознавая того, девушка открывала ему новый, совершенно неведомый доселе мир. Не дерзость и не сила управляли взаимоотношениями живущих в нем.
Люди, населявшие его, совсем не походили на известных ему прежде.
Этот мир был как ярко освещенная витрина игрушечного магазина в детстве. Отгороженный от действительности стеклом. Недоступный и непонятный.
Дороги туда Шугин не знал, не собирался искать.
— Брось! — болезненно кривясь, приказывал он.
А помолчав, опалив губы жадно докуренной до самого конца папиросой, просил:
— Настя! Ты чего молчишь? Тисни чего-нибудь про своих тетеревов, что ли…
Девушка терялась — сбивали противоречия в его настроениях. Но ведь больным следует потворствовать, даже когда они капризничают. И опять Настя, думая успокоить, бередила ему душу. Опять заставляла заглядывать туда, где просто, без надрыва и наигрыша, жили люди, занимаясь вроде бы неинтересными, но почему-то будящими зависть делами. Трудные будни здоровой веселой молодости выглядели праздниками. Вечера перешептывались и пересмеивались в синем сумраке голосами гуляющих по деревне парочек, ничего не боящихся, ни от кого не прячущихся. По утрам у колодцев девчата обливали водой парней, не вовремя пристающих с любезностями. Языкатые бабы отпускали беззлобные шуточки вслед пострадавшим. Точно, без промаха били в цель озорные частушки…
И опять, кусая губы, Шугин отмахивался:
— Брось!
Очень хотелось уверить себя, что все это не интересует. Подумаешь, жизнь! Да что она видела хорошего, девчонка?
А что видел он?
Ну что?
Его мутило от раздражения, причины которого он не знал. Но возвращались с работы лесорубы — и все становилось на свое место. Подхватываемый течением, он с радостью отдавался ему. Только временами беспокоило чувство, что это — именно течение. Зыбкое, неверное.
Можно держаться на поверхности, делая какие-то усилия. Можно плыть.
Но опоры, дна под ногами не было.
Прорва, пучина.
Наедине с Настей, испытывая болезненное раздражение от ее рассказов, Шугин не находил себе места. Метался, не зная, куда девать себя. Но плыть по течению, удерживаясь на поверхности, — это уже требовало какой-то целеустремленности, даже если впереди не существовало цели. Это позволяло пристроить себя куда-то, пусть ненадолго.
Ребята приходили злые, ругая бога, в которого не верили, переругиваясь друг с другом. Сбросив ватники, начинали варить картошку, выручающую в дна безденежья после пьянок. Картошку воровали на полях в Чарыни. Только Стуколкин, во избежание соблазна всегда покупавший в запас крупу, макароны и сахар прежде, чем первую бутылку водки, стряпал особо. Заботу о пропитании больного Шугина он решил взять на себя. Без просьб или принуждений, по доброй воле.
Стуколкин — иначе Никола Цыган — был самым пожилым и, наверное поэтому, самым спокойным. Единственный из всех, он не стеснялся говорить иногда, что пора «завязывать».
— Разве вы босяки? — издевался он, по очереди сверля каждого острыми, в самом деле цыганистыми глазами. — Украсть любая шпана может, это еще не гор — украсть… А вам только картошку и воровать, иначе с голодухи сдохнете…
Шугин догадывался: Стуколкин хочет дотянуть до весны, получить расчет и сразу же уехать куда-то далеко. Чтобы оторваться от воров, затеряться в людской сутолоке, притихнуть.
Шугин тоже не воровал картошку. Зачем, если это другие делают? Но Стуколкин не потому выделял его из числа остальных.
— Заблудился ты, малый! — сказал он как-то. — В трех соснах. В цвет тебе гадаю, я ведь цыган.
Играя в карты, Стуколкин всегда выигрывал. Потом, когда остальные проигрывались, пропивались вконец и в похмельной тоске облизывали шелушащиеся губы, он опохмелял их, посмеиваясь:
— За ваши же гроши, без убытка!..
Сам или пил меньше других, или водка его не брала.
Наиболее приверженным к пьянству был Костя Воронкин. Ростовчанин, отбывавший меру наказания на Севере, он с еще большим, чем другие, нетерпением ожидал весны. Теплого попутного ветра.
Шебутной — была его воровская кличка. Он заслужил ее за крикливость, скандальность. Может быть, поэтому не любил уравновешенного, сдержанного Стуколкина.
— Сука, кого он учит? За меня люди скажут, босяк я или нет? Витёк, я что? Сявка? Да я ему, падлюке, пасть порву!
Шугин знал цену таким истеричным выкрикам — не много они стоили.
Знал и Стуколкин.
Дружок Воронкина — «зверек» Закир Ангуразов — был его немногословным, по верным подголоском. Предпочитал держаться в тени, за него все решал Костя.
Пятый, самый молодой из всех, — харьковчанин Ганько, по кличке Хохол, с чистыми девичьими щеками, — не выпускал из рук карт. Водку он пил, чтобы не казаться белой вороной в стае, похмелье переносил особенно трудно.
Вместе этих разных людей свел случай, а умирающая темная традиция заставила играть в дружбу, в товарищество. Кто они в самом деле? Волки, вынужденные спрятать клыки, или только представляющиеся волками шавки, как считает Стуколкин?
По собственному опыту Виктор Шугин понимал, до чего трудно судить об этом.
Да он и не пытался судить. Главное — остальные считали его волком. Может быть, один Стуколкин сомневался, но молчал. И все поджимали перед ним хвосты. Большего ему не требовалось.
Досрочное освобождение он принял как случайный выигрыш. Они также, наверное. Но что делается в их душах теперь — Виктор не знал, не пытался узнать. Никто не открывает козырей до конца игры, не позволяется заглядывать в чужие карты. Значит, все идет своим чередом…
Оживление, вызванное возвращением в тепло и хоть скудным, но все-таки ужином, гасло очень скоро. Впереди ждал долгий осенний вечер, который следовало занять чем-то.
Чем?
Не хочется отворять двери в промозглую тьму, чтобы выбросить окурок. Хлюпать в этакой тьме по грязи в деревню не хотелось тем более. Да и что за радость идти туда? Киносеансы запретили, немногочисленные чарынские девчата убегают по вечерам в клуб, в сельпо без денег водку не отпускают.
До клуба, до Сашкова — тринадцать верст, чертова дюжина. Конечно, в клубе весело: почти каждый день кино, танцы под радиолу. Можно познакомиться с хорошенькой девчонкой, есть такие в Сашкове. А что, если махнуть все же туда?
Начав традиционной руганью, Костя Воронкин изрекает фразу, тоже ставшую традиционной:
— С этой зарплаты надо будет лёпень купить.
Лепень, лепенец, лепеха — так на воровском жаргоне именуют костюм.
Помолчав, он замечает насмешливые ухмылки товарищей и начинает горячиться:
— Свободы не иметь, куплю! Не в чем в деревню показаться, надоело…
— Значит, после получки обмывать будем? — с фальшивым добродушием спрашивает Ганько.
Стуколкин подмигивает ему:
— А как же иначе? Только ты, Костя, не торопись его надевать. Поношенный не возьмут обратно, когда тебя похмелье начнет ломать.
— Я на похмелье у тебя поищу грошей. Ты, наверное, еще с прошлой зарплаты зажал?
— Поищи! Поищи! — Стуколкин ласково кивает. — Лапы у тебя длинные, вполне по локоть секануть можно.
— Ты, что ли, секанешь?
— Я, милый. Попробую…
— А ну, пробуй! Пробуй, или я тебя…
Протягивая руки, Воронкин подступал к Цыгану. За ним, сверкая голубоватыми белками, молча поднимался Ангуразов.
Успокаивал их Шугин:
— Кончайте шумок, вы! С чего заводитесь, идиоты?
Стуколкин — как ни в чем не бывало — только пожимал плечами. Воронкин утихал неохотно, долго.
— Делать нечего больше, твари? — упрекал его Виктор.
Делать было нечего, разве играть в карты.
Первым об этом, как правило, вспоминал Ганько. Положив перед собой затасканную подушку, по-казахски усаживался на койке. Согнув колоду, чтобы пружинила, ловким нажимом пальцев заставлял карты с шелестом перемещаться из правой ладони в левую. Впрочем, жонглировать картами умели все пятеро.
Начиналась игра.
Играли под будущую зарплату — больше не на что было играть. Неуплата карточного долга наказуется изгнанием в «железный ряд», потерей всех прав «честного вора». Поэтому игра всегда протекала напряженно и страстно — за нею стояли верные деньги. Цену каждого рубля увеличивало сознание, что он не краденый, а заработан в поте лица.
Брань, фантастичная своей изощренностью, никого не оскорбляла, воспринимаясь как припев в песне. Угрозы не пугали. Истерики не беспокоили.
Таким был ритуал игры.
Ритуал соблюдался не только при игре в карты. Поступки, разговоры и жесты даже — все выдерживалось в единожды установленном каноне. Все должно свидетельствовать, что нечем дорожить в жизни, ничто не должно трогать сердца, сердца не существует.
Никто из пятерых не рассказывал о прошлом, если оно не касалось краж или странствий по тюрьмам. Как будто у людей никогда не было родных, отчего дома, а жизнь начиналась с первого привода в милицию. Правда, порой вспоминали женщин — как вспоминают выпитую бутылку водки, невесть куда брошенную или разбитую о камень.
Все человеческое считалось слабостью, унижало, заслуживало только насмешки и презрения.
Люди не хотели казаться людьми.
Они похвалялись друг перед другом звериными повадками, гордясь ими.
И некому было научить их иной гордости.
Именно об этом разговаривали Фома Ионыч и Латышев, инженер по лесоустройству, обходя лесосеку.
Мастер никогда не чувствовал себя способным учить там, где речь шла не о сортности древесины, технике валки, леса или ледяных дорогах. Считал, что всему остальному должны учить люди более грамотные. За собой он оставлял право иногда наставлять внучку. Наставления сводились к одному — поступать, советуясь с совестью.
В то, что у присланных под его начало лесорубов имелась совесть, Фома Ионыч не верил. И все-таки, изменив обыкновению, попробовал однажды вмешаться:
— Поменьше бы вам заглядывать в бутылку, ребята…
Ему ответили коротко:
— Поменьше бы ты совался не в свое дело, мастер. Пьём на свои. Ну и… заткнись! Понял?
Фома Ионыч не нашелся, чтобы ответить достойно. Махнул рукой. Он никогда не отличался умением говорить. Наоборот, слов всегда не хватало его чувствам и мыслям.
В 1917-м помалкивал, слушая красивые фразы о войне до победного конца, — и воткнул штык в землю. Потом, тоже молчком, вновь взял винтовку, пошел отстаивать в гражданской войне мир. В партию большевиков записался, потому что там был Ленин. Но ни разу он не произносил речей, не провозглашал лозунгов, незаметный, рядовой солдат и чернорабочий революции. Красно говорить он так и не научился.
Инженер Латышев знал это:
— Трудно тебе с ними, Фома Ионыч. Понимаю. Но ведь на участке работают как-никак семнадцать человек. Коллектив!
— Коллектив? — мастер вздохнул, полез за кисетом. — Коллектив — он у нас, Антон Александрович, в лесосеке. Сам знаешь, кто валит, кто возит. Всяк своим занят. А после работы коллектив домой подается, в Чарынь.
— Да-а… — раздумчиво процедил Латышев сквозь поджатые губы.
Он хотел развести руками, но правая оказалась в кармане — искала спички. На растопыренные пальцы левой инженер посмотрел так, словно это были пять лесорубов, с которыми надо что-то придумывать.
— Сопьются мужики. А от водки и до тюрьмы недалеко. Работают, говоришь, ничего?
— Работают как надо. Да что работа? В бараке-то сидеть вовсе тошно, а так хоть поразомнутся малость. Лошадь — и та из конюшни рысью бежит, ежели застоится. Опять же деньги — водку бесплатно не дают.
Миновав пасеку второй очереди, по правилам техники безопасности разделяющую те, на которых ведется рубка, они подошли к костру. Невидимый за густым дымом сучкожог только что завалил на огонь охапку еловых лап. Пламя накинулось на них с жадностью. Трескотня охваченных им хвоинок походила на треск разрываемой материи. В клубах черного дыма на оранжевом стебле взметнулся рассыпающим семена огненным цветком сноп искр.
Латышев попятился, отмахиваясь от их укусов.
— Как дела? — громко, стараясь перекричать треск костра, поинтересовался он. — Идут?
Сучкожог отвел от лица руку в рваной верхонке, Фома Ионыч узнал Стуколкина.
— А ты попробовал бы, начальник! Спецовку вот на два года даешь, а ее через полгода в утиль не примут. Зола останется.
— Я спецовки не даю, — сказал инженер.
— Значит, твоя хата с краю?
Латышев помолчал. Что ему скажешь? Действительно, тут никакая спецодежда двух лет не выдержит. Но ведь сроки носки не им установлены.
На помощь пришел Фома Ионыч:
— Два века только осиновая жердина да вересовый кол живут. В самое-то пекло не лезь, маленько и сбережешь одежину.
— Можно. Я постою в стороне, а ты побросай сучья, — ухмыльнулся Стуколкин. — Лады?
Фома Ионыч смешался, но все же ответил:
— У меня, брат, своя работа. С тобой делом говорят, а ты…
Дым посветлел. Огненный цветок завял, сник.
К костру подошел Ганько с бензомоторной пилой на плече. Видимо, он прислушивался к разговору.
— Вы все с нас требуете. А как с вас спросишь, так — в камыши. Молодчики!
— Это ты брось! — запротестовал Фома Ионыч. — Чарынские вон уже год в спецовках работают, а вы за три месяца попалили…
Стуколкин, оправлявший сучья в костре, снова повернулся к нему:
— У чарынских, мастер, жены чинят спецовки. Знаешь, бабье дело: ниточка да иголочка.
Фома Ионыч вспылил:
— А у тебя руки отвалятся — пришить заплату?
— Мы, мастер, народ балованный! — насмешливо щурясь, снова вмешался Ганько. — В заключении о нас начальник заботился. Вечером соберет дневальный барахло — и в мастерскую, в ремонт. Так что сами непривычные…
Латышев решил прекратить неприятный разговор:
— Вот что, товарищи. Я тоже считаю срок носки спецовок завышенным. Буду об этом говорить с кем следует. Обещать ничего не могу, но… До свиданья, товарищи!
— Вот спасибо! Утешил, начальник! — закричал ему вслед Ганько. Парень откровенно издевался.
На следующей пасеке работали звеном чарынские лесорубы. Несклонные тратить время на разговоры, они степенно поздоровались с инженером, не выключая моторов бензопил «Дружба».
— Как дела? — ответив на приветствие, по обыкновению, спросил инженер.
— Лес мелковат, да и подлеска гибель! — ответили ему. — На костер больше, чем на склад. Какая это, к чертям, вторая группа?
— Посмотрим, — пообещал Латышев и, балансируя на поваленных вперекрест бревнах, пошел дальше.
— Тонковат лес! — тоном упрека вполголоса сказал он мастеру и посмотрел испытующе: что ответит?
Фома Ионыч пожал плечами:
— Бог сажал, с него спрашивай. Таксацию делали честь честью, а тут плешина попала.
— Большая?
— Гектара полтора будет…
Латышев замолчал, обдумывая положение. Но Фома Ионыч пообещал:
— Сами разберемся, не впервой. Это они для порядка шумят.
Впереди, явно встречая начальство, на волоке стояли два лесоруба.
— Из новых, — мотнул головой в их сторону мастер. — Воронкин с Ангуразовым, дружки.
Латышев поздоровался. Спросил, опережая обязательные вопросы и жалобы:
— Чего это вы, ребята, — живете вместе, а работаете врозь? Расстояние вывозки позволяет, организовались бы в малую комплексную бригаду?
— Так проживем, — сказал Воронкин.
— Как заработки? — инженер спросил это для продолжения разговора. Заработки лесорубов он знал.
— Выгоняем рублей по сорок, когда и больше. Все равно — за такую работу и ста мало.
— В бригаде товарищи и по семьдесят выгоняют, если лес подходящий.
— А мы с корешком не жадные…
Инженер присел на бревно, застелив его полой брезентового плаща, полез за папиросами.
— Не понимаю я вас, ребята! То ста рублей мало, то больше сорока не надо.
— Комплексом покупать нечего: семьдесят рублей я и один заработаю. Что в бригаде, что в одиночку — сто семьдесят процентов надо для этого. Здоровье дороже… Нам, начальник, лишь бы до весны перебиться.
— То-то у тебя здоровье плохое, — Латышев с завистью посмотрел на красную шею Воронкина, на расхристанную не по времени года грудь. — А весной куда?
— Советский Союз велик.
— Зря денег нигде не платят.
— Не в деньгах счастье, начальник…
— А в чем?
На это Воронкин не мог ответить. За его словами стояла бездумная пустота, желание позубоскалить — и только. Он махнул рукой: не стоит, мол, рассказывать…
— Секрет, что ли? — настаивал инженер.
— Личная жизнь. Ты лучше прикажи, начальник, чтобы продукты под зарплату отпускали. По безналичному расчету, — зажмурив один глаз, парень смотрел нагло и вызывающе.
— Я не начальник, — сказал Латышев. — Я инженер-лесоустроитель. Вот пни, которые у тебя выше стандарта, по моей части. Придется их обрезать.
— Понятно! — Воронкин продолжал гримасничать. — Ваше дело на нас жать, а если людям жрать нечего — вам до лампочки…
— Сколько ему начислили за прошлый месяц? — спросил Латышев мастера.
— Тысячу с чем-то на руки, вроде…
— А у меня, — инженер попытался встретить ускользающий взгляд парня, — оклад тысяча сто. И у меня в семье четверо. И все сыты.
— О чем разговор, начальник? У нас разные взгляды на жизнь. — Он повернулся к напарнику: — Давай начинать, Закир! Зря нас от работы оторвал начальничек…
Взгляда его Латышев так и не встретил.
— Что скажешь, Аптон Александрович?
Латышеву показалось, будто Фома Ионыч торжествует, радуется: говорил, мол, каковы субчики? Разве не прав?
— Что тут скажешь? Трудный народ…
— Бросовый народ! — подхватил Фома Ионыч. — Никудышный, прямо-таки никудышный! Нелюди!
Латышев молча теребил рукавицу. Он был значительно моложе мастера, только-только на пятый десяток перевалило. Теперешняя его работа, по сути административная, заставляла много и упорно думать о людях, людских характерах. Они были совершенно разными — и в то же время одинаковыми. Нелюдей он не встречал, пожалуй! Просто к каждому надо найти ключ, а не ломиться в стену. Но чтобы подбирать ключи, требуется время. Времени у него всегда не хватает, да и ни у кого нет его лишнего. Что сделаешь: век скоростей, дорога каждая минута. Вот и обобщаешь поневоле людей, делишь, как лес, по группам, по сортности. Для каждой группы своя спецификация. А, черт, разве в нее уложишься? Инженер мучился сознанием, что делает частенько не то, не так — и некогда было делать иначе. Как, например, быть с этими вот ребятами? На ремонт машины можно запланировать определенное время, средства, материалы. Но как учтешь, как рассчитаешь необходимое для ремонта такого несовершенного, темного механизма — человека? Как потребуешь, чтобы Фома Ионыч разобрался, люди они или нелюди?
Оба стояли на вырубленной делянке, печальной своей ненужностью, — на не пригодной ни к чему замшелой болотине.
Даже брусничник вытоптан, выхлестан, вбит в мох падавшими деревьями.
Видимо, инженера отвлекла вырубка. Он сказал:
— С весны восстанавливать надо. Сажать.
— Надо бы, — согласился Фома Ионыч.
— Сложно будет с посадкой. Болото. Как думаешь?
— Думаю, Антон Александрович, что ежели потрудиться, так и лес нарастет. Пни, конечно, некоторые покорчевать надо.
— А может, не будем сажать? Черт с ним, с болотом?
— Жалко. Пропадает земля…
В глазах инженера притаилась невеселая усмешка.
— А люди?
Не отвечая, Фома Ионыч удивленно поморгал сначала, а потом занялся трубкой.
— Смотри ты, куда подвел! — сказал он наконец. — Я ведь не против. Только одно дело — новый лес ростить, а другое — засохший выхаживать.
— Верно. И все же иное дерево выходить удается. Так то лес, а тут люди! Стоит приложить руки?
— Ты меня не агитируй Антон Александрович! Газеты читаю, радио слушаю. Знаю — борьба за человека. Только пойми: мне тут не за них, а с ними воевать впору. Один. Вот как получается!
Латышев пожевал губу, что-то придумывая. Придумав, тряхнул головой, победно глядя на мастера:
— Условия для воспитания неважные, ты прав. Но так случилось. Я, Фома Ионыч, предлагаю что? Подбросим тебе еще человек шесть лесорубов. Холостяков, в общежитие тоже. Вот и будет у тебя опора, актив.
— По мне, делай как знаешь. Только, по-моему, с оглядкой такую шпану выпускать следовало. Живут — ни себе, ни людям. Пословица что говорит: как волка ни корми… Уголовники — они, брат, и есть…
— Может, не все убегут?
— Поди-кось, останутся тебе в леспромхозе, куда там. Спят и видят, как навострить лыжи.
— От нас пусть бегут, не имеем права держать. Дело не в этом… Ладно, нам еще к нижнему складу завернуть надо. Пойдем, что ли?
— Пойдем, пойдем помаленьку! — явно обрадовался Фома Ионыч окончанию разговора.
Нижний склад покамест существовал только по названию. Лес на верхних складах, а то и окученный прямо «у пня», ждал легких для коней зимних дорог. Дача на Лужне, отведенная для рубки, была сравнительно небольшой, механизировать участок не имело смысла. К весне заготовленный лес доставят к берегу. В апреле сплавщики скатят его в бурную, переполненную талой водой реку, а она без особых затрат доставит по назначению.
Оглядев уже расчищенное над рекой плотбище, инженер согласно кивнул:
— Место под склад выбрал удачно.
И, столкнув с высокого берега обрубок жерди, в такт всплеску снова мотнул головой. Медленное течение развернуло обрубок, вынесло на середину. Латышев следил за ним до поворота реки, заросшей по мысу рыжей, мертвой уже осокой.
— Так что готовь общежитие. Коек семь-восемь ставить придется, — неожиданно напомнил он.
Виктор Шугин начал передвигаться при помощи самодельного костыля. Настя обшила его рукавом старого ватника, но и так ломило под мышкой. Шугин злился, но от ругательств, которыми привык отводить душу, воздерживался. Только скрежетал иногда зубами, заставляя Настю испуганно оглядываться.
Изнывая от безделья, однажды попросил книжку. Настя дала любимую — «Как закалялась сталь». Когда-то, очень давно, прочитанная и забытая после книга сначала увлекла только удальством Павки. Зуботычина реалисту на рыбалке, кража пистолета у немецкого офицера, освобождение Жухрая — вот что вызывало восторг Шугина. Языком, вовсе не похожим на литературный, он пересказывал эти приключения Насте. Потом вдруг примолк, замкнулся. Возвращая книгу, на вопрос девушки: «Ну, понравилось?» — буркнул:
— Читать можно.
И, не попросив ничего взамен, притих на койке.
Но на другой день он без спросу пересмотрел немногочисленные книги на полке. Как все малочитающие люди, выбирал по заглавиям. Выбрал почему-то сборничек Паустовского и, раскрыв с середины, прочел «Доблесть».
Насти не было — убежала в магазин, в Чарынь. Словно боясь, что девушка вернется вот-вот, увидит у него именно эти рассказы, Шугин торопливо проковылял в не запирающуюся теперь пристройку Фомы Ионыча и спрятал сборничек среди Настиных учебников.
История о том, как город хранил тишину, спасая жизнь больного мальчика, что-то перевернула в душе Шугина.
Книга оставила такое чувство, будто тайком от Насти, воровски проник в ее мир. Не заглянул, а проник, побывал в нем — в мире, созданном не для него, где не было места не только Витьке Фокуснику, но и Виктору Шугину. Наверное, в этом погруженном в молчание городе он тоже, как и все, ходил бы на цыпочках. Может быть, даже тише других. Но это были бы только осторожные, крадущиеся шаги человека, боящегося обратить на себя внимание, выдать скрипом сапог, что он — чужой этой тишине.
Жизнь он всегда принимал так, как рыба воду. Считал, что выбирать не из чего, в голову не приходило искать чего-то. Жил, как колесо катится. И даже свою дорогу видел только у себя под ногами.
Он и теперь ничего не переоценивал, не искал определении или причин для своих поступков. Сознание оперировало не мыслями, а чувствами, смутными, не имеющими названий.
Не умея разделить или назвать чувства, Шугин принимал их за одно. Чувствовал себя бесконечно обиженным, обойденным. Кому адресовать эту обиду, он не знал.
Вернувшуюся Настю встретил внимательным, тревожным взглядом. Не первый раз смотрел так — хотел увидеть и разгадать, что делает людей вхожими в непонятный ему игрушечный мир. В чем их отличие от таких, как он? Почему, например, даже в голову не приходит притиснуть эту девчонку, утолить давний голод?
Конечно, опять не увидел.
И не понял, что нельзя увидеть.
Чувство обиды от этого стало еще тошнее. Зная только одно лекарство, Шугин вздохнул:
— Не догадалась принести пол-литра? С получки бы отдал…
— Прямо, торопилась тебе литр принести. Даже вспотела. С получки лучше бы рубашку себе купил. В сельпо навезли всяких.
На мгновение у него мелькнуло предположение, что дело именно в одежде. Что чистота, прозрачность неведомой ему жизни начинается с бани и свежего белья. Догадка опять была только чувством, а не мыслью — он понял бы это, если бы задумался. Но задумываться не стоило — на Насте Виктор увидел заштопанную кофточку да такой же, как у него, ватник, хотя и без прожогов.
Девушка тем временем затапливала плиту, по обыкновению рассказывая деревенские новости. Шугин слушал с усмешкой снисходительности, кривящей тонкие губы. Иногда ему хотелось что-либо уточнить, узнать подробнее, но тогда пришлось бы поступиться этой усмешкой. И он молчал.
Новостей Настя, по собственному мнению, «уйму раздобыла», и очень важных при этом.
Конечно, все они в действительности были пустяковыми, касались совершенно незнакомых людей. Какое, например, дело Шугину, да и Насте тоже, до того, что какая-то бабка Капитолина будет получать пенсию на двести рублей больше? Разве может интересовать кого-то, кроме самого Ивана Семеновича или Семена Ивановича — черт его знает, — рождение внука? Шугину во всяком случае наплевать. Но какая корысть Насте болеть за них? Хоть бы родственниками считались, нет — чужие совсем!
Пожалуй, он слушал не ее рассказы об этом. Слушал голос, как слушают птичий щебет. Не все ли равно, о чем щебечут они, птицы?
А Насте нравилось приручать этого дикого парня, сознавать себя сеющей какие-то добрые семена. Девушка наивно предполагала, будто ей удалось всерьез убедить Шугина не ругаться. Парень понял, как это некрасиво и ненужно. Теперь следует отучить его от водки.
Она была уверена, что точно так же убедила бы и остальных, довелись ей не мельком встречаться с ними, а вот так коротать вместе целые дни. Жаль, не получается. Что же, покамест она будет перевоспитывать одного Шугина!
Самое главное — показать, доказать ему интересность и полноту жизни. Чтобы понял, как жалко, глупо смотреть кругом себя мутными от водки глазами. Смотреть и не видеть ничего.
И Настя показывала, тыкала пальцем во все то, что сама считала прекрасным, удивительным, наполняющим радостью жизнь. Открывала ему те детали, те мелочи, из которых складывается великое чувство любви ко всему живому.
Ничего этого Шугин не замечал раньше.
Теперь уверял себя, что от безделья только, от скуки теряет время, позволяя забивать голову разной ерундой. И для того, чтобы не обидеть девушку.
Он лгал сам себе.
Настя приносила ворох сосновых веток — и подолгу медлила, прежде чем поставить их в банку на подоконнике. Пряча лицо в неколючей хвое — если держать ветки вверх комельками, — не могла надышаться слабеющим ароматом. Для Шугина это был просто запах смолистого дерева. Даже работу в лесосеке он не напоминал почему-то. Умом, а не памятью ощущения, Виктор связывал его с лесом: там должно так же пахнуть.
А девушка рассказывала, блестя глазами:
— Знаешь, у сосны самый стойкий запах. Елка никогда так не пахнет. А сосна даже зимой, даже в морозы. Зимой — и вдруг пахнет летом! Слабо, как будто издалека очень, ветром доносит. Мне всегда кажется — пройдешь подальше, а там снега не будет. И трава зеленая. Смешно, да? Зато до чего весело так думать!
Улыбаясь, она замолкала. Видимо, набегали какие-то воспоминания, связанные с теплом, с летом, с запахом сосновой хвои. Но молчание длилось недолго, Настя не умела даже воспоминаниям радоваться в одиночестве. Следовало ими поделиться, порадовать других:
— В прошлом году мы с девчонками в апреле хвойную баню устроили на снегу. Честное слово! Конечно, не баню, а разделись, чтобы позагорать, и давай сосновыми ветками хлестаться. Снег, а теплынь такая, как летом. Это мы за подснежной клюквой на Мочалинские мхи ходили… Весну встречали…
Шугин никогда не встречал, никогда не провожал весен. Не замечал прихода и ухода их — для сердца, для воспоминаний. Разве что для перемены валенок на сапоги, когда начинало таять.
Теперь он впервые узнавал о запахах, красках и радостях весны.
Узнавал осенью, может быть, накануне первого снегопада…
Но и у снега, у зимы, оказывается, тоже имеются радости, о которых Виктор не подозревал даже. Настя рассказывала ему, как, играют в снежки парни и девчата, возвращаясь из клуба. Как девчонки валяют парней в снегу, толкая снег за пазуху, за воротник.
— Поостыли чтобы, — подмигивала Настя.
И Шугину захотелось, чтобы его тоже вываляли в сугробе, захотелось почувствовать спиной обжигающий холод снега…
Черт, это опять был мир за стеклом!
Шугин сознавал, что нечего ему принести туда, нечем поделиться с живущими в нем, как делится Настя.
Но и вечером, среди таких же, как сам, чуждых веснам и играм в снежки, ему уже недоставало чего-то, что-то казалось чужим, опостылевшим, душным.
Нет, он ничем не мучился, ничего не хотел другого!
Просто ему осточертело сидение без дела в бараке. Надоело видеть перед собой по вечерам одни и те же морды, словно в тюрьме.
И вдруг вспомнил, что в тюрьме это не тяготило. Там он не чувствовал себя связанным по рукам и ногам, прикованным к неведомой, но такой ощутимой тяжести.
Даже там!
Задумываться о том, что переменилось в его жизни, в требованиях его к ней, он побоялся. Но обмануть себя не сумел, не смог. Успокоения не получилось, только разбудил дремавшее беспокойство.
В этот вечер Фома Ионыч выбрался из своей комнатушки напомнить Шугину об оформлении бюллетеня.
— Ты вот что, парень, — посасывая трубку, приступил он к разговору, — съездил бы ты в Сашково? Чтобы честь честью больничный листок дали. В Сашково нам все одно коня посылать надо, за постелями для новых рабочих. Человек восемь обещал Латышев…
Шугин согласился сразу, хотя не очень охотно:
— Надо, так привезу…
— Да я не об этом. Какой из тебя коновозчик об одной-то ноге? Конюха пошлю, он тебя и свезет…
Прислушивавшийся, как и все, к разговору Стуколкин решил вмешаться:
— Брось, мастер. Проживем без твоего больничного листа, подумаешь…
— Вот и подумаешь! — недовольно покосился на него Фома Ионыч. — Дело не в деньгах. Без бюллетня должен я ему прогул поставить в наряде, потому как оправдания нету…
— Да ты что, сам не видишь? — загорячился Воронкин.
— Видение мое к наряду не пришпилишь. Документ надо.
— Ладно, — сказал Шугин, — я поеду. Надоело сидеть в бараке. Прокачусь.
Стуколкин только пожал плечами: делай как знаешь, тебе виднее.
Воронкин, подмигнув, предложил:
— У лекаря, который сюда приезжал, насчет спирта спроси. Скажи — Цыган требует. За то, что брюхо не распорол…
— Верно, привет передай дружку! — ухмыльнулся и Стуколкнн, вспомнив визит фельдшера.
А Фома Ионыч забеспокоился, не уверенный в шуточности их слов:
— Ты, Виктор, не вздумай чего. Не дури. К фельдшеру тебе и заходить нечего, прямо к врачу ступай. Я ему записку напишу, Григорию Алексеичу.
— Я ему так все расскажу, деда! — крикнула из-за непритворенной двери Настя, гремевшая в сенях ведрами. — Я тоже поеду, если подвода будет. В библиотеку мне надо, книги поменять.
— Езжай, коли так! — разрешил мастер. — Тогда и без конюха управитесь. Заодно мне растирание спросишь от поясницы. Такое же, как давали, скажи.
Поездка прибавила еще одну каплю отравы в мятущуюся душу Виктора Шугина. Самую горькую, самую ядовитую…
Оберегая больную ногу, он сидел на щедрой охапке сена, придерживаясь за борта телеги, спина в спину с Настей. Дорога из-под колес, по ступицы утопающих в разбитых колеях, струилась обратно, куда ему поневоле приходилось смотреть. Туда уплывали вороха изоржавленных листьев, наметенных ветром к обочинам, свежие вдавлины от подков с устремленными по течению дороги рогами. Рыжая густая вода в частых колдобинах, взбаламученная ногами коня и колесами телеги, усиливала впечатление потока. Шугину казалось, будто поток этот порывается унести его назад, вспять.
Раздетый ветрами да утренними приморозками, лес просматривался далеко, казался чахлым, костлявым. Места, которыми приходилось уже проходить или проезжать, стали неузнаваемыми, не радовали воспоминанием о знакомстве, хотя бы и мимолетном.
— Гляди-ка, снегири пожаловали! — Настя показала кнутом на пухлых красногрудых пичуг, прыгающих по веткам придорожных кустарников. Виктор взглянул равнодушно, не понимая ее удивления. Птицы как птицы, почему бы им не летать здесь? А Насте невдомек было, что спутник не увидел в них вестников зимы. Она продолжила мысль фразой, показавшейся Виктору не связанной ни с чем, пустой, бессмысленной:
— Как бы обратно сани запрягать не пришлось! Вот бы здорово, правда?
Сани?.. Снег?..
Вспомнив ее рассказ о снежках, он обрадованно заулыбался, с трудом опираясь на руки, оглянулся на нее:
— Хочешь снегу мне за шиворот напихать? Да?
Настя искренне удивилась:
— Только с тобой — с таким — и озоровать! — движением головы и глаз она указала на его ногу, а Шугин увидел высокомерно вскинутую голову, презрительный взгляд через плечо. Потому и услыхал вовсе не то, что хотела сказать девушка.
Слова ударили, оглушили, сшибли.
Прошлись по нему, распластанному, коваными каблуками.
Раздавили стопудовой тяжестью: с тобою? С таким?
Шугин не подумал, что одним и тем же словам присущ иногда разный смысл. А эти слова, еще никем не произнесенные, жили в нем. Червями точили. Смысл, вложенный им в них, камнем висел над головой.
Натянутый как струна тоненький волосок нерва, на котором висел камень, лопнул.
По всегдашней привычке Шугин попытался изобразить усмешкой, что не раздавлен, не задет даже. Получилась только болезненная гримаса. Он угадал это и поспешно отвернулся, нашаривая в кармане папиросы.
Спички ломались в пальцах, сделавшихся вдруг негибкими.
В груди кипело: девушка обманула, оплевала его. Нет, обманула, чтобы оплевать! Да, да, манила к себе, в мир, отгороженный стеклом, звала. Уверяла, что и ему там есть место, обещала это. Он не верил, она заставляла верить. Для того, чтобы теперь ушибить больнее! «С тобою? С таким?»… Да сама ты чего стоишь? Кому нужна? Во всяком случае, не Виктору Шугину? Дешевка! Падаль!
Он давил зубами мундштук папиросы, вымещая на нем свой позор. Мысли, что хоронились прежде за другими, стесняясь до времени заявить о себе даже шепотом, кричали теперь в крик. Не Виктор Шугни управлял ими, а мутный вал бешенства.
— Ты чего словно воды в рот набрал? — окликнула удивленная его молчанием Настя.
Шугин дернулся, заставив все-таки тонкие губы сжаться в дерзкую, уничижительную усмешку:
— Иди ты знаешь куда…
Девушка, оторопев, повернулась к нему. Вожжи натянулись, конь встал.
— Что с тобой, Виктор? Ногу разбередил?
Так она еще издевается над ним?
— А-а… тварь… — Не думая о больной ноге, о костыле, он ринулся в темноту захлестнувшего все гнева, рывком перекинулся через борт телеги и, взвыв уже от физической, телесной боли, в закушенной ладони приглушил стон:
— Ммм…
Над ним склонилась перепуганная Настя.
— Да что ты?
В ее глазах он увидел ужас человека перед безумием другого. Зарычал в исступлении:
— Уйди отсюда!.. Падлюга!..
Но Шугин просмотрел в ее полных слез глазах жалость и сочувствие, умеющие побеждать страх.
— Не уйду. Слышишь? Давай я помогу влезть на телегу.
Стиснув челюсти до боли в скулах, Шугин смотрел в землю.
Истерика кончилась, трезвая настойчивость девушки убила ее. Бессмысленно было бы упорствовать — глупо оставаться одному в лесу, не имея возможности передвигаться.
— Я сам, — пряча взгляд, сказал он.
Встал, придерживаясь за колесо. Оттолкнув девушку, перевалился в телегу.
Боязливо оглядываясь на него, Настя тронула лошадь.
До приезда в Сашково она даже не пыталась заговорить, опасаясь новой необъяснимой вспышки. Новых, ничем не заслуженных ругательств.
У двухэтажного домика с полусмытой дождями надписью на резной верее — «Больница» — остановила коня.
Спросила робко:
— Помочь тебе?
— Обойдусь.
Опираясь на костыль, он заковылял по дощатым мосткам к крыльцу.
— Я приеду, — крикнула вслед Настя. — Только обменю книги и получу вещи. Через час!
Шугин даже не обернулся, чтобы кивнуть — понял, мол…
Тугие, простеганные ромбами матрацы и лохматые бобриковые одеяла она укладывала в телеге так, чтобы удобно было полулежать, вытянув ноги. Торопясь, даже не поменяла книг. И все-таки захватила Шугина уже не в приемной больницы. Он сидел на крыльце, положив рядом костыль, докуривая — она посчитала разбросанные возле окурки — шестую папиросу.
— Все в порядке?
Он опять не ответил.
— Я к Григорию Алексеичу зайду. За растиранием только.
Ступеньку, на которой он сидел, девушка боязливо переступила. Когда возвращалась, снова пересчитала окурки.
Их стало восемь.
Вечером за стеной опять пили водку.
Настя догадывалась, что денег заняли у чарынских: выдача зарплаты предполагалась через два дня. Шугин, конечно, пил тоже. «Дурак, — думала о нем Настя, — упадет пьяный, опять ногу разбередит…»
Девушка простила ему дикую выходку по дороге в Сашково, вдруг изменившееся отношение к ней. Каждый больной капризничает по-своему. Дед, например, когда его особенно донимает радикулит, начинает придираться: чай плохо заварила, щи недосолены. Никак ему не угодить тогда. Что ж, обижаться на него за это?
Вот и Витька так же. Весь какой-то дерганый, сумасшедший. Но если бы перестал пьянствовать, был был парень как парень. Не трепач… Интересно, умеет он танцевать? Умеет, наверное. Наверное, нравился бы девчонкам…
Она не подозревала даже, что причисляет себя к этим девчонкам, за них решает. Но ведь Шугин занимал ее мысли только на правах человека, с которым чаще других встречаешься. Да и о ком думать еще? Ну, дед. Ну, Шугин. Ну… остальные…
У остальных не было лиц. Ничто не выделяло кого-либо, о них думалось общо, без подробностей.
Виктора Шугина выделило ранение. Ничего больше. Но, выделенный однажды, он уже не смешивался с другими, не терял лица.
«К пню — и то приглядишься, если перед глазами торчит», — словно оправдывая себя в чем-то, думала Настя.
А за стеной, прерываемая незлобной безотносительной руганью, текла песня:
Она даже не текла — цедилась, как цедится самогон. И, как самогон, пахла сивухой. Или подобным чем-то, заставляющим тяжелеть голову.
Фома Ионыч, с горячим кирпичом на пояснице, ворочаясь под двумя ватными одеялами, ворчал:
— Что ни день, то праздник. Ну и народ! И ведь скажи — на хлеб при нужде не враз денег найдешь, а на водку всегда выпросишь.
Мастер с нетерпением ждал обещанного пополнения. Ему не хватало рабочих в лесу, а дома — соседей, от которых можно не отгораживаться стеной.
Они прибыли на следующий день, застав в бараке только Настю и Шугина.
Шугин скользнул подчеркнуто равнодушным взглядом по лицам новоприбывших, небрежно кивнул в ответ на чье-то «здравствуйте» и поковылял к себе, на обжитую половину барака. Встречать и устраивать новичков выпало Насте.
Инженер Латышев похвастался — не восемь, а шесть человек пополнили число лесорубов лужнинского участка. Четверо налицо, двое задержались в Сашкове — зашли в магазин. Должны вот-вот подойти.
Не снимая с телег чемоданов и вещевых мешков, люди с забавной для Насти неуверенностью оглядывались по сторонам, перемигивались, улыбались смущенно. Они словно не верили, что барак, и баня, и задернутый туманном ельник за вырубкой — настоящие. Что мешки и чемоданы можно безбоязненно ставить на землю — она не зыблется, не проваливается под тяжестями.
— Да… Место веселенькое… — наконец протянул насмешливо рыжеволосый скуластый парень в ушанке со вмятиной от звездочки. — Вроде целины, что ли?
Высокий, сутуловатый мужчина в новом ватнике, первым решившийся снять с телеги фанерный сундучок, пальцем сколупнул с его крышки засохшую грязь и спросил, плюнув:
— А ты думал в Москве лес пилить?
Парень улыбнулся, показав сплошные стальные зубы:
— Ага. На Сельскохозяйственной выставке.
Двое разгружали вторую телегу. Один из них, деловито распутывая стянувшие кладь веревки, чмокнул сожалеюще губами:
— Все ничего, плохо — электричества нет. Ни здесь, ни в лесосеке.
Второй, под стать ему немолодой и широкоплечий, рассмеялся:
— Чего захотел — электричества! «Дружбой» поработаешь, ничего…
У них завязался свой, почти технический разговор:
— Трещит, Иван Яковлевич!..
— Зато, Николай Николаевич, тянет. Не хуже К-5.
— А вес?
— Что вес? Главное — проводом к станции не привязан…
А рыжий в солдатской ушанке вздохнул:
— В лесу — черт с ним. Плохо, что в бараке нет света. Керосин — освещение восемнадцатого века.
Наконец обе телеги разгрузили.
Сутулый лесоруб с фанерным сундучком, ревниво оглядев сложенную на крыльце кладь, спросил Настю, показывая на дверь:
— Сюда, что ли, девушка?
— Больше некуда, — улыбнулась Настя. — Не в баню же…
— Оно бы и баньку неплохо, с дороги. Очень хорошо, что есть банька, первое дело банька! — обрадованно зачастил тот, которого звали Николаем Николаевичем.
А его товарищ, ратовавший за пилу «Дружба», поинтересовался:
— Начальства-то дома нету?
— Какое у нас начальство? — удивилась вопросу Настя. — Один мастер, так он в лесосеке.
Рыжий решил польстить ей:
— А я думал, что вы и есть начальство. Очень похожи…
— Я уборщица! — отрезала Настя. — Идемте. Койки для вас уже приготовлены.
Сутулый с сундучком забеспокоился, заводил глазами по сторонам:
— Девушка, а вещи-то, которые на крыльце? Ничего?
— Некому тут брать, — успокоила его Настя и вдруг спохватилась, что сказала это по давней привычке — может быть, здесь не следовало говорить так?
Но тот и сам ей не поверил:
— Все-таки надо в дом занести. Пусть на глазах будут. Двое наших отстали, пропадет что — отвечай потом перед ними.
Пожав плечами, Настя распахнула дверь в пустовавшую до сих пор половину барака. В коридор пахнуло теплом и запахом свежей побелки.
— Устраивайтесь! — пригласила она и, не желая мешать, пошла к себе. На пороге обернулась: — Чаю если захотите, так самовар горячий…
И, повернувшись, почти столкнулась с теми двумя, что задержались в Сашкове.
— Виноват, — сказал ей высокий парень в такой же, как у рыжего, ушанке, с такой же вмятиной от снятой недавно звездочки. Опуская глаза, Настя увидела зеленый солдатский бушлат, перетянутый широким ремнем, и щегольские хромовые сапоги, почти не забрызганные дорожной грязью.
Парень посторонился, потеснив плечом стоящего позади. Взглянув мельком, Настя запомнила полупальто с бобриковым воротником и немолодое лицо.
«Все собрались, слава богу, — подумала она. — Хоть не будут спорить теперь, что первым лучшие койки достались…»
Вечером Насте пришлось подогревать ужин на керогазе — простыл, покамест Фома Ионыч знакомился с пополнением. Зато старик был доволен. Обычно молчаливый за едой, в этот раз он умудрялся забывать о не-донесенной до рта ложке. Рассказывал, расплескивая по клеенке борщ:
— Четверо — куда с добром мужики. Наши, кадровые. Тылзин да Сухоручков — с третьего участка. Электропильщики. У них там две станции, каждая по шесть пил тянет. У нас, говорю, на бензине придется — чих-пых! Смеются: осилим как-нибудь. Директор их до сплава уговорил здесь поработать. Согласились, чтобы, значит, раз в две недели семьи проведывать. Такое дело. Чижикова потом на ледянку поставлю, дорожничать, а покудова пусть оба с Коньковым на передках возят. Кони — видела? — у нас останутся. Ничего, добрые кони. У Серого только плечо маленько намято, потник придется подкладывать…
Покончив с борщом, Фома Ионыч пододвинул к себе тарелку с жареной картошкой.
— Чижиков, наверно, в Чарынь своих привезет. К Ивану Горбашенкову, свояки они, что ли. У него жить будет. Да, бензопил новых прислали две только. Крутись как хочешь — им там и горя мало. А тут еще эти демобилизованные. Сухачев или Рогачев, да этот, с железными зубами, Скрыгин. Леса не нюхали.
— Деда, а ты директору докладную напиши. Насчет пил.
Он отмахнулся гневно:
— Пиши не пиши, а если на складе их нету…
В дверь постучали…
— Не заперто, — громче обычного сказал Фома, Ионыч.
В дверях стоял тот парень, с которым Настя днем столкнулась в сенях. Она определила это по росту и по сапогам — свет от подвешенной на стене лампы застила открытая дверь. Лицо парня пряталось в тени.
— Извините за беспокойство…
— Что скажешь? — перебил его не привыкший к подобным вступлениям Фома Ионыч.
Парень на мгновение потерялся, но продолжал без тени смущения, обращаясь к Насте:
— Я к вам. Мастер говорил, что вы в институт готовитесь. У вас, наверное, художественная литература должна быть…
— Дверь-то закрой, — напомнил Фома Ионыч. — Дует. Не лето ведь на дворе…
Парень притворил дверь, свет лампы упал ему на лицо.
Это было лицо знающего себе цену, довольного собою и жизнью человека. Взгляд ждущий и настойчивый, но без тени наглости. Чувствовалось, что парень не привык прятать глаза. Плотно сжатый рот и подбородок кажутся выдвинутыми вперед благодаря привычке высоко нести голову.
«Любит задаваться», — по-своему определила Настя и, сделав неуверенный жест в сторону полки с книгами, сказала:
— У меня мало, я сама в библиотеке беру. Посмотрите…
— Если разрешите, — чуть наклонил голову парень. Поскрипывая сапогами, твердо прошел к полке.
Книги стояли с наклоном вправо. Одним пальцем, как перелистывают страницы, он перебрасывал их влево, сообщая о каждой:
— К сожалению, знакомо… Читал… Это я знаю… Довольно скучная книжонка…
И вдруг, отделив ладонью просмотренные уже, принялся объяснять:
— Понимаете, так сказать, необычная обстановка. Заняться нечем. Хотел скоротать вечер за книжкой.
Его взгляд просил каких-то поощрительных слов, повода для продолжения беседы. Но Настя молчала.
Перебрав все книги на полке, он остановился на «Поднятой целине», сказав:
— Читал когда-то, но можно и перечитать…
Настя решила: не читал, хвастается. Но парень, явно желая вызвать ее на разговор, постарался доказать, что говорит правду:
— Тут есть очень смешные места. Как Щукарь кашу с лягушками варил. Вы читали?
— Читала, — пришлось ответить на вопрос Насте.
— Ну и как? Понравилось?
— Ничего, — она сердилась за нотки покровительства, услышанные или померещившиеся в голосе парня.
— Сюда бы библиотеку из нашей части. Можно бы жить, — сказал он.
Тогда Насте захотелось сбить с него спесь:
— Что же это вы, из армии — и в лес?
Она знала: для деревенских парней армия была воротами в мир. В армии получали специальности, армия открывала дороги всюду. Мало кто возвращался в деревню — разве что погостить, показать себя.
Парень оправил под ремнем и без того безукоризненно разглаженную гимнастерку, объяснил просто, без рисовки:
— Мечтаю приехать домой с баяном. Ну, и приодеться надо. А в армии какие деньги? На табак… Устраиваться по специальности на два-три месяца не имеет смысла. А тут работа сезонная. Да и заработать можно на лесоразработках…
— Откудова сам? — вмешался Фома Ионыч.
— Сибиряк. Из-под Томска. Слышали, наверное…
— Слыхал. А второй, который с зубами, тоже оттуда?
— Скрыгин? Никак нет, местный.
Он подождал, не спросит ли мастер о чем-либо еще, и, чувствуя, что ниточка разговора с Настей оборвана, заверил:
— О книге не беспокойтесь. Верну в целости. Разрешите идти?
— До свидания! — сказала Настя.
Парень повернулся по-воински. Гимнастерка, разглаженная спереди, сзади была собрана меленькими, опрятными складочками.
Фома Ионыч проводил его благожелательным взглядом. Погодя похвалил:
— Подходящий, видать, малый. Солдатчина — она всегда выучит. Там человеком сделают.
И неожиданно закончил:
— Однако — Усачев. А я — Рогачев. Тьфу! Вовсе не стало памяти…
Настя осуждающе покачала головой:
— А похвастать, что я в институт готовлюсь, не забыл!
— К слову пришлось. У Тылзина Ивана Яковлевича дочка в техникум поступила, ну и… разговорились… — оправдывался Фома Ионыч.
Прибыли новые лесорубы. Заселили пустовавшую половину барака. Работы прибавилось — топить лишнюю печь, полов мыть куда больше. «Вот и все, что изменилось!» — сказала бы Настя.
Фома Ионыч добавил бы: «Заготовка древесины по участку увеличилась на столько-то кубометров». И непременно бы оговорился: «Пока…»
Это «пока» означало уверенность, что новички не развернулись еще как следует. Применяются к новым условиям, к новой технике. Да и вообще, стоит ли говорить об этом до снега, до нормальной вывозки по ледянкам?
А в бараке, на двух его половинах, по-разному жили люди. Разные люди, не похожие друг на друга и еще более не похожие одни на других, новые жильцы на старых. Жили, стараясь не мешать соседям за стенкой, чтобы от греха подальше.
— Не получается дело с твоим активом, — доложил Фома Ионыч приехавшему «утрясти организационные вопросы» инженеру Латышеву.
Тот мотнул головой в сторону левой половины барака:
— Пьют?
— А чего им еще делать?
— Да… — собираясь с мыслями, вспомнил Латышев. — Начальник милиции на партактиве опять шум поднимал. Говорит: беремся людей выправлять, речи произносим, а потом что? Прав Субботин. Потом — как у нас: живите себе по-своему!
Фома Ионыч, помусолив во рту карандаш, которым подсчитывал что-то для отчета, спросил с ехидцей:
— А чего он хочет, Субботин? Чтобы их, значит, за ручку водили? Их, Антон Александрович, не шибко поводишь…
— Какие-то пути надо искать, Фома Ионыч… Воспитывать… Чтобы коллектив болел за этих людей…
— Верно, что на речи-то вы мастера! — недовольно забрюзжал Фома Ионыч. — Как ты его воспитывать будешь? Говорить: не пей да не воруй? Об этом, брат, сорок лет Советская власть твердит, и раньше по божественным книгам попы учили. Там же еще сказано было: имеющий уши да слышит! А ежели человек не хочет услышать, тогда как? Чтобы коллектив болел! Ну, сказал! У меня внучка вон как за ихнюю пьянку переживает, а что толку?
— Вот и подумаем все вместе. Сегодня партсобрание созвать надо. Теперь у тебя на участке четыре коммуниста. Да комсомольцев двое.
— Ну и что? Ну и четыре! — начал раздражаться Фома Ионыч. — Я тебе наперед все расскажу за них. За Тылзина, и за Сухоручкова, и за Фирсанова нашего чарынского. Скажут, что воспитывать надо, и болеть, и — что ты еще говорил?.. А как таких воспитаешь? Агитацию проводить? Да твоя агитация в одно ухо влетит, а в другое — тю-тю! — вылетит. Пошлют они тебя с ней подальше. Душу у человека задеть надо, Антон Александрович! Душу! Тылзин, или Васька Фирсанов, или я — можем такое? Скажи, можем?
Латышев промолчал.
— То-то, милок! — вздохнул Фома Ионыч и, тоже помолчав, добавил: — И еще нужно, чтобы душа имелась. Вот и подумай…
Инженер думал.
— Понимаешь, Фома Ионыч, — заговорил он погодя. — Надо, чтобы тянулись они к чему-то. Увлечь чем-то. Чтобы вросли в коллектив…
— Голые, опять же, слова, — возразил мастер. — Каким лешим их увлечешь? А насчет «врасти» — как они в Конькова врастут, ежели он и во сне боится, что упрут часы? Да и я, грешным делом, побаиваюсь. Народ такой, что лучше от него в сторонке… милиция отсюда далече…
Инженер развел руками: верно, слова голые. Но вовсе ничего не говорить, ничего не пытаться — еще хуже! И он сказал с укоризной:
— Да что ты, Фома Ионыч! Стыдись!
Фома Ионыч хотел было ответить, но только вздохнул — который раз уже! — и демонстративно занялся своей трубкой.
Вечером, вместо собрания, Латышев решил провести беседу. Поговорить по душам.
— Гостей к вам позвать можно, товарищи? — предварительно спросил он у новичков и пояснил: — Соседей. Ну и чарынских, конечно. Поговорить о житье-бытье…
— Полов, поди, не прошоркают, — пожав плечами, поскреб требующий бритвы подбородок Чижиков, доживающий в общежитии последние дин.
Но и неотделяемые стеной, пятеро лесорубов с левой половины барака не пожелали смешиваться с остальными. Трое — Воронкин, Ганько и Ангуразов — уселись на корточки у дверей, привалясь спинами к стене. Стуколкин придвинул к ней две табуретки — себе и Шугину.
Все остальные сгруппировались почему-то возле противоположной стены, у окоп. Снаружи к окнам вплотную приникла ранняя осенняя темень, дыхание ее оседало на стеклах капельками холодной мороси, Вблизи было видно, как стекались капельки в капли и скатывались вниз, оставляя недолговечные глянцевые черные дорожки.
Последней пришла Настя, робко прислонилась к косяку. Она — единственная — невольно оказалась на стороне пятерых из левой половины.
— Что с ногой? — поинтересовался Латышев у Шугина, одновременно приветствуя его кивком головы, как знакомого.
— Бюллетень до пятнадцатого. Надоело…
— Надо потерпеть… Так вот, товарищи… — инженер сделал паузу и продолжил неожиданно: — Давайте бросим курить! Собралось нас много, а люди здесь ночевать будут… Поговорить я хотел вот о чем!.. Небольшой сравнительно объем работ и отдаленность не только от районного центра, но и от ближайшего населенного пункта ставят в очень тяжелое положение организацию вашего отдыха. В смысле бытовых условий. Я имею в виду клуб, кино, скажем… В общем, понятно? Ну, с электрическим освещением наладится — поставим движок. Так что почитать книгу…
— А где их брать? — спросил, блеснув сталью зубов, Скрыгин.
— Я скажу… Значит, свет будет. Будет радиоприемник или радиола… Но этого, конечно, мало, товарищи. Электрическое освещение и радио погоды не делают. И книги. Насчет книг — я думаю, что культотдел обяжет библиотеку в Сашкове выделить нам передвижку. Заведовать этим делом будет… вот вы же, товарищ Скрыгин, или товарищ Усачев. Как членов ВЛКСМ попросим. Да… Что еще? Доставим настольные игры: шашки, шахматы, домино. Но веселее не будет, если книги да игры будут пылиться на полках. Можно организовать коллективные читки, шахматные турниры…
Фома Ионыч вздохнул и, забыв о запрещении, стал набивать трубку. Пятеро у дверей перемигивались. У окна закашляли, заскрипели стульями.
— Извините, — сказал Усачёв, по привычке одергивая гимнастерку. — Как с кинопередвижкой?
Латышев развел руками:
— Вряд ли получится. Демонстрация фильмов разрешается только при наличии каменных кинобудок. Были случаи пожаров…
— Позвольте… — Усачев даже шагнул вперед. — Ведь есть негорючие материалы… Я имею в виду киноленты.
— Ничего не могу сказать, хотя и слыхал. Возможно, опытные экземпляры? В прокате таких нету пока. Ну, а строить будку, везти кирпич — сами понимаете. Через пять месяцев мы должны вырубить дачу…
— А пять месяцев вполне можно жить без кино, бриться топором и жениться на Жучке, с которой мастер зайцев гоняет? Точно, начальник! — выкрикнул Ганько.
— Ну, знаете, невест вам я искать не могу. Сваха из меня плохая! — попробовал отшутиться Латышев.
Кругом заулыбались, зашелестел приглушенный ладонями шепоток. Иван Яковлевич Тылзин сказал громко и добродушно:
— За этим, паренек, ты не только в Сашково — в город босиком сбегаешь. Такое дело!
— А женишься, — подхватил Фома Ионыч, — так я тебе свою пристройку отдам, если в Чарыни жить не захочешь. Ей-богу!..
На этом и кончилась беседа. Люди заговорили друг с другом, задвигали скамейки. И Латышев должен был признаться себе, что иначе кончиться и не могло. Ничего определенного, действенного не выдумаешь. И не заставишь укладывать досуг в рамки «рекомендуемых мероприятий» по рецептам культотдела. Не для таких мест писаны. Инженер собрался уже сказать: «До свиданья, товарищи», еще что-нибудь приличествующее и уходить, но дорогу загородил Усачев:
— Разрешите обратиться. Хочу сказать, что библиотеку возьму на себя охотно. Но, знаете, книгами мало интересуются. Скрыгин если да Иван Яковлевич… Не знаю, как среди этих товарищей, — он показал глазами на пятерых у двери. — Вот если бы сюда музыку. Баян. Спели бы что-нибудь хором…
— На баяне играть надо, — усмехнулся инженер.
— Так я же баянист, товарищ инженер!
Широкие плечи и солдатская подтянутость собеседника не вязались с обликом музыканта, который почему-то представил себе Латышев.
— Баянист?.. То есть ноты читаете и вообще?..
— Так точно. Играл в полковом ансамбле.
— Интересно… Знаете, я поговорю с директором. Действительно, баян… — Он сделал жест, будто ловил плывущую в воздухе паутинку. — С уверенностью сказать не могу, но думаю — фонды у нас есть…
Тут он услышал, как кто-то из пятерых, гурьбой двинувшихся к двери, воскликнул: «Баян — это вещь, братцы!» Реплика пришлась кстати, инженер решительно хлопнул по плечу Усачева:
— Будет баян. Устроим!
Словно ненароком отстав от своих, Шугин задержался около Насти. Глядя в сторону, неловко ворочая языком, сказал:
— Слушай, ты не сердись. Психанул я тогда…
И, уже не пряча глаз, посмотрел виновато, просяще:
— А?..
Девушка успела только растерянно улыбнуться в ответ — Шугина подхватило волной уходящих чарынских лесорубов, вынесло в сени. Но и улыбка эта говорила яснее ясного, что Настя не думала сердиться, что сердиться ей было всегда трудно, а прощать или мириться — легко.
Зато нелегким, кружным путем шел к этому необходимому для него примирению Шугин. Шел, спотыкаясь на обидных для мужской гордости думах, приостанавливаясь, колеблясь…
Но та самая попранная мужская гордость, которая норовила загородить дорогу, его же и подхлестывала. Тишком, исподволь, хоронясь за другими чувствами.
Сначала он только искал в девушке такое, что оправдало бы его презрение и злобу. Искал слабостей, изъянов. «Девчонка, дура, черт знает что воображающая», — уверял он себя. И вдруг напал на удивительно емкое слово: «Кокетка!» Напал и уцепился за него, не сознавая, что ищет спасительную соломинку.
И сразу все стало простым, понятным. Таким, с чем можно мириться.
Конечно, кокетка, как и все девчонки на свете. Да разве хоть одна скажет сразу, что ты ей нравишься? Никогда в жизни! Станет крутить носом, будто смотреть на тебя не хочет. Чтобы распалить, а себе набить цену.
Черт, может, Настя и не хотела набивать себе цену? Даже наверняка не хотела. Но ведь она девчонка, а все девчонки обязательно выламываются сначала: мол, нужен ты мне очень, как же!
Просто они не могут иначе, девчонки… А он, псих несуразный, невесть что подумал!
Улыбка Насти вернула беспокойство, к которому Шугин начал уже привыкать, как к обычному состоянию, к покою.
Утром он, опираясь на палку, загородил ей двери на половину новичков. Спросил:
— Не сердишься?
— Чего мне на тебя сердиться? — вопросом же ответила девушка. — Матерков я наслышалась, они не липнут. Напился опять зачем?
Испытывая странное удовольствие от ее попечения, желая продлить его, так как наперед знал, что скажет девушка дальше, прикинулся кающимся:
— Ребята втравили. Как откажешься?
— Ребята! Свою голову надо иметь, не маленький. Смотреть противно! — гневно заглядывая ему в лицо, Настя подняла поставленное на пол ведро с водой. — Не мешай, мне убирать надо.
Шугин отступил с дороги, позволяя ей пройти в комнату. Провожая взглядом, остановил его на солдатском бушлате, висящем в простенке между двух окон. В груди шевельнулось чувство опасения чего-то. Он сказал, пристально наблюдая за девушкой:
— Баянист объявился. Слыхала вчера? — И испытывая и боясь этого испытания: — Кажется, парень правильный. Ничего парень.
— Все вы ничего, пока спите, — не поворачиваясь, ответила Настя, хотя он и не спрашивал, а делился своим мнением. — Уйди, я мыть буду.
Подождав, когда Шугин притворит дверь, девушка подоткнула юбку, принимаясь за уборку барака.
— Нашел правильного! — подумала она вслух. — Колю Курочкина из «Свадьбы с приданым»…
На редкость обильный первый снег выпал, когда Виктор Шугин вышел на работу. Подготовленный наивными восторгами Насти к чему-то новому в нем, скрытому, прятавшемуся доселе, парень с удивлением смотрел вокруг. Смотрел, как будто впервые видел непорочной белизны землю, расцветшие огромными и пышными серебряными цветами березы и ольхи, еще вчера костлявые, дрогнущие на ветру.
Снег выпал ночью. Первому зимнему дню сопутствовала праздничная торжественность, складывающаяся из необычной нарядности, сбывшегося ожидания и щедрости света.
На вырубленных делянках зайцы застрочили снег узорными вышивками хитро запутанных следов. Пни спрятались под белыми папахами. Не стало ни черных, неопрятных кострищ, ни ржавчины листьев и трав. Вместо прели в лесу пахло свежестью и чистотой, как летом после дождя.
К полудню снегу еще добавило.
Шугин, Стуколкин и Ганько работали втроем.
С корня лес валил Шугин «Дружбой». Ганько стоял рядом — «на подхвате», как говорил Стуколкин, не спеша обрубавший сучья у нераскряжеванных хлыстов. В обязанности Ганько входило подрубить лесину топором, вовремя поднести жердь с вилкой и, маневрируя ею, помочь дереву упасть в нужную сторону. Расторопный, сметливый, он легко управлялся с этим.
Прикинув на глаз, что дневная норма на троих с корня спущена, Шугин передавал «Дружбу» Стуколкину. Тот брался за раскряжевку, начинал распускать хлысты на бревна. Шугин с Ганько в два топора рубили сучья и окучивали раскряжеванный лес, готовя к вывозке.
Дело у них спорилось — за плечами значился многолетний опыт работы в лесу. Они бравировали этим. В конце рабочего дня Ганько колотил обухом в заржавленный лемех, подвешенный на лесине, — он не ленился перетаскивать его с пасеки на пасеку. Рупором складывая ладони, орал:
— Съё-ё-м!.. На проверку стройся!.. Снимай оцепление!
А Воронкин, вкладывая в рот засмолившиеся пальцы, свистел залихватски.
Норму на участке не вырабатывали двое — Усачев и Скрыгин. Не хватало сноровки, старались брать силой. Силы у обоих было хоть отбавляй, оба верили в нее, но «на одной силе недалече ускачешь», как поучал Фома Ионыч.
В течение рабочего дня мастер по нескольку раз наведывался на четвертую пасеку, которую рубили демобилизованные солдаты.
Усачев нервничал. Вытирая пот рукавом, нетерпеливо выслушивал советы и наставления — считал, что теряет драгоценное время. Почти пудовая «Дружба» казалась игрушкой в его руках, парень не чувствовал ее веса. На деревья к концу дня он смотрел, как на своих личных врагов.
Спокойный, добродушный Василий Скрыгин, внимательнее прислушивавшийся к советам мастера, пробовал иногда уговаривать напарника не торопиться, не пороть горячку:
— Давай поспокойнее, Борис! Тише едешь — дальше будешь.
— Время же идет, Васька. Люди уже норму заканчивают, а у нас еще пяти кубиков нету…
Работая через пасеку от тройки Шугина, оба видели не однажды, как у соседей от толчка последней, умело направленной елки или осины заваливалось сразу добрых полтора десятка деревьев.
— Полпасеки! — завистливо говорил Усачев. — Видал, как работать надо?
— Ловко! — вздыхал Скрыгин и, подумав, добавлял: — Научимся, ни черта!
Усачев, помня запрет мастера — не оставлять на корню надпиленные деревья, кривил губы:
— Научишься, если тебя не лес валить, а в рюхи играть учат! Люди без перестраховки действуют, вот у них и получается.
Не слушая предостережений Василия, однажды он запилил десяток лесин, рассчитывая, что все они лягут в направлении подрубов. И конечно, не подумал о ветре. Ветер опередил направляющий удар оставленной для этого осины. Одна из подпиленных елок неожиданно взмахнула ветками, валясь поперек пасеки. И не упала, ткнувшись вершиной в еще более матерую ель. На них навалились сбитые толчком деревья. Перепутались сучья, завязли друг в друге.
Образовалась грозящая каждое мгновение рухнуть и не рушащаяся груда висящих друг на друге лесин. Залом.
Ухватив топор, Усачев ринулся было под этот не желающий падать зеленый шатер, чтобы помочь ему завалиться. Скрыгин ухватил его за плечо:
— Ты что? Смерти ищешь?
Борис нерешительно затоптался на месте. Действительно, может быть, одного удара топором достаточно, чтобы залом рухнул и накрыл сделавшего этот удар.
— Намудрили! — сказал Скрыгин, принимая часть вины на себя.
Но напарник не согласился:
— Я виноват. — Он покрутил в руках топор, словно впервые взялся за него. — Все равно так оставлять нельзя.
Это было утверждение и вместе вопрос, просьба о совете: как быть?
Борис Усачев впервые обращался за советом к напарнику.
Скрыгин сдвинул на лоб ушанку, почесывая затылок. Невесело, для ободрения улыбаясь, решил:
— Пойду за мастером. Пусть он сам…
Усачев не возражал, и. Василий зашагал по делянке, отыскивая Фому Ионыча. Нашел его в бригаде Тылзина — мастер и коновозчик Коньков возились около трелевочных саней СЛЗ-3, нагруженных лесом-подтоварником.
— Пособи сзади стяжком, на пень угадал слепой черт, — первым окликнул Скрыгина Фома Ионыч, сердито поглядывая на Конькова. — Возит по земле, а смотрит в небо.
Он дождался, пока Василий подберется стяжком под полоз, и скомандовал;
— Ну… раз, два… взяли!..
Сани накренились, переваливаясь через пень. Коньков задергал вожжами, заорал:
— Но!.. Но, милые!.. Но еще!..
Воз выровнялся. Крупная гнедая кобыла приостановилась, перебрала задними ногами и пошла без понукания, ровно, ненатужливо.
Скрыгин, бережно прислонив к пню стяжок, словно это была хрупкая и ценная вещь, сказал:
— Фома Ионыч, мы там… лес завесили… Не подступиться…
Мастер издал скорбно поджатыми губами чавкающий звук, всплеснул руками.
— Горе мне с вами, — вздохнул он и, не глядя на Скрыгина, буркнул. — Пойдем. Посмотрим.
Разборку залома Скрыгину и Усачеву Фома Ионыч не доверил. Поручил двум чарынским лесорубам, работавшим в смежной пасеке. Но прежде чем допустить и тех, долго, со всех сторон обхаживал залом. Потом велел подпилить старую ель с краю, в которой увязло поваленное ветром дерево, и «стронуть» ее ударом еще одной лесины:
— Этой, что скособочена малость… — ткнул он пальцем.
Борис Усачев стоял в стороне, стараясь не смотреть на «дело Своих рук».
— Вот он, — кивком головы показал на него мастер. Пасеку зараз хотел повалить, герой! Солдат, а порядка не понимает!
Большинство лесорубов узнало о происшествии только вечером. «Что ж, — думал каждый, — с кем не случалось?» Даже язвительный Ганько изрек нечто сочувствующее:
— Хорошо еще, что не пришибло. Остались бы без баяниста.
Но Виктор Шугин подчеркнуто громко — чтобы все слышали — рассказывал Воронкину:
— Мне бабка когда-то сказку читала про чудака, который хотел веревкой весь лес обвязать и на спине уволочь. У нас тут в натуре такой делец есть!
Шугину не нравился Борис Усачев. Не нравился потому, что Виктор Шугин, вожак и главарь, угадывал в нем человека, не умеющего ходить в рядовых, в незаметных. Боялся, что Усачев захочет поднять голову выше его, Шугина.
Но если бы Шугина спросили, почему не нравится ему Борис, — не солгал бы, ответив: «А черт его знает? Просто не нравится — и все!»
Он не умел, не собирался докапываться до причин своей неприязни. Считал, будто чувства рождаются сами по себе — из ничего, как и предчувствия.
Зато Усачев с этого дня знал, из-за чего ненавидит Шугина. Мог бы назвать многое, не нравящееся в нем, вызывающее неприязнь. Но не назвал бы главной и единственной причины — уверенности в неприязни Шугина к нему, Усачеву.
Вечно мотающийся по участкам Антон Александрович Латышев обманул Лужню, пообещав ей электрический свет. На складе нашелся подходящий движок, но не нашлось генератора. Зато в счет обещанного привез на легких, без подрезов, розвальнях два клетчатых ящичка с шахматами, в которые никто не умел играть, шашки, пять партий домино и баян Новосибирского завода в коричневом, тисненном под крокодилову кожу футляре.
Приехал он к концу дня, в лесосеку не пошел. Настя накормила гостя щами с капустой-хряпой, а к чаю подала янтарного морошкового варенья. Кончив чаепитие, Антон Александрович переписал на разграфленной синим карандашом бумажке все привезенное им, бумажку протянул Насте.
— Распишись. Тебе на подотчет, как инвентарь общежития.
Настя расписалась. Латышев бережно достал из футляра баян и, прижав пальцем беленькую пуговку, потянул мехи. От высокого, режущего слух звука обычно медлительный кот Пушок пулей ринулся под кровать. Тогда Латышев нажал пуговку слева, на басовой клавиатуре, и на этот раз удивился приятному, бархатистому голосу инструмента.
— Получается, а? — спросил он Настю, но, проводив взглядом напуганного кота, смилостивился: — Ладно, пойду в общежитие. Так и быть…
За опробованием баяна застали его вернувшиеся лесорубы. Степенный Сухоручков, войдя первым, сказал только:
— Ого, музыка появилась!
Высокий, всегда пасмурный, Коньков хлопнул в ладоши и, выбросив вперед ногу, пристукнул пяткой. Обут он был в растоптанные валенки, потому Сухоручков спросил как бы шутя:
— Подошвы показываешь? — И по-деловому — Латышеву, благо нашелся повод: — Валенки новые пора выписывать, Антон Александрович. Срок вышел. Да и брюки ватные надо бы поменять.
Борис Усачев приостановился на пороге, обрадованно загорелись глаза. Улыбаясь, забыв поздороваться, принял у инженера инструмент. На вытянутых руках, словно боялся запачкать о спецовку, поднес ближе к лампе. И только там, присев на краешек скамейки, любуясь на утонувший в черной глубине полировки блик отражения, яркий, как сама лампа, выдохнул:
— Новосибирский… Полный…
И, полузакрыв глаза, растянул мехи, сверху вниз пробежав правой рукой по всем клавишам.
Баян выкрикнул что-то, сыпанул щедрую россыпь разноголосых звуков, сник на высокой стеклянной ноте…
— Может! — кивком головы показал на музыканта Сухоручков и хотел продолжить разговор о спецодежде, но Усачев вдруг откинулся, разворачивая грудь, уронил голову на плечо и заиграл, словно откуда-то издалека принося мелодию за душу хватающей «Лучинушки», приближая ее, но все еще жалея отдать полностью.
Забыв, что собирался сказать, Сухоручков смотрел на Латышева. Вернее — сквозь него, через оклеенную цветастыми обоями стену за ним, через метель и тьму за стеной. Смотрел в зыбкую, как море, как море бездонную, и светлую, и непроглядную глубину певучей грусти.
Вечно недовольный, суетливый Коньков, привалясь к распахнутой двери, зажмурив глаза, беззвучно шевелил губами. Иван Тылзин в темных сенях не решался перенести ногу через порог.
А мелодия крепла, ширилась. Баян пел во всю мощь. И когда он неожиданно умолк, люди продолжали прислушиваться к чему-то…
И только один человек — Борис Усачев — собранно, победно тряхнул головой, испытующе оглядев слушателей. Его взгляд встретился с блестящим от слез взором Насти. Он отвел глаза и снова проиграл гамму.
— Не ожидал. Честно говорю, не ожидал! — покаялся Латышев. — Только повеселее бы надо что-нибудь… Посовременнее…
Борис послушно наклонил голову, тронул клавиши. Баян запел с придыханиями, приглашая подпевать:
Колдующее обаяние глубины, в которой каждый видит свое, сокровенное, пропало. Люди заулыбались. Коньков, пританцовывая, прошел к своей койке и стал разуваться. Тылзин движением руки сверху вниз надвинул ушанку на глаза Скрыгину, подмигнул. Сухоручков бочком обошел баяниста и, скорбно покачав головой — оборвалась вешалка, — снял брезентовку.
тихонечко напевала за стеной Настя, не в такт позванивая посудой.
Только Фома Ионыч, не прислушиваясь, подводил итог дню — считал кубометры.
Лесорубы умывались, садились ужинать, А Борис Усачев все играл и играл, переходя от одной песни к другой. Но вот он, оставив баян, вопросительно посмотрел на Латышева. Видимо, его не удовлетворило инженерское «не ожидал!».
Антон Александрович подошел к баяну, рукавом протер затуманившуюся от дыхания музыканта полировку. Он был доволен, довольство открыто просвечивало сквозь торжественное выражение лица, как спелая мякоть — через кожуру яблока.
— Очень хорошо! Просто удача, что вы оказались на этом участке, товарищ Усачев. Очень кстати! Будет теперь на кого опереться… — оживленно заговорил инженер.
Он представлял себе Усачева-баяниста самонадеянным любителем, с грехом пополам играющим несколько избитых песенок. Не верил в его умение. Обрадованный ошибкой, подсознательно стараясь искупить былое недоверие, Антон Александрович поверил теперь в Усачева-культурника, в Усачева-организатора. Здесь позарез нужен был такой человек, и он нашелся. Он превзойдет все ожидания так же, как с баяном. «Следует только предупредить его, что это нелегко», — подумал инженер и сказал, грустнея:
— Конечно, трудностей много. Лес, глушь… До сих пор светом обеспечить не можем… Привез я тут кое-какие игры, книги в культотделе пообещали… Что и говорить, на этом далеко не уедешь. Но большего нет! В общем, полагаюсь на вас, на товарища Скрыгина. Сбивайте вокруг себя актив, тяните к себе остальных…
И тут из сеней, где все еще толпились люди, привлеченные музыкой, насмешливо выкрикнули:
— Другим баяном, начальник, тянуть надо. Двуручным, который пилой называется. Работать надо, положенные кубики давать.
Это сказал Шугин, который никогда не ратовал прежде за кубометры, за план, за производственные показатели участка.
У Бориса Усачева помутнел взгляд.
Каждый человек имеет право плясать, петь или играть на баяне. Но песня, залихватская присядка, с душами разговаривающая гармонь хороши в праздники. В будни за это не уважают. Только работа служит мерилом доблести там, где людям не приходится меряться ничем иным. Здорово, когда умелый товарищ по ремеслу может играть на баяне. Но если баянист взялся пилить лес, не по игре — по работе судят о нем.
Борис Усачев знал это.
Он понимал, что здесь, на Лужне, похвала человеку укладывается в близкие и понятные каждому слова, счетом немногие:
«Крепкий работник».
«Добрый хозяин».
И только в приложении к работнику или хозяину имеющее цену, вес и значение — «хороший парень».
Про него могли бы сказать последнее. Без приложения к главному. То есть ничего.
Он пошел в лес, поверив приятелю-однополчанину, что в лесу можно, не связывая себя надолго, заработать деньги. Хорошие деньги. Нужны ловкость и сила, говорил приятель.
Неплохой физкультурник, Борис считался ловким. У него есть сила, хоть отбавляй. Но если он, окучивая напиленный лес, лихо подхватывал бревно стяжком, ему кричали:
— Эй, друг! Под середку берешь — не переломи!
Это не силой его восхищались, не за ретивость хвалили, а насмехались. И бревно, играя на заломленном под середину стяжке, тоже насмехалось.
Умение, опыт — они не приходят сразу, а Борис Усачев не мог ждать. Потому что, накапливая опыт, учась, он должен быть учеником, мальчишкой!
Возможно, Борис примирился бы с этим. Мешал Виктор Шугин, подонок, прощенный вор, здесь имеющий право кричать Усачеву: «Не переломи смотри!» «Работать надо!»
Он — ему!
Фома Ионыч, обходя пасеки, застал Усачева сидящим на покрытой снегом валежине. Парень, упираясь локтями в колени, покусывая сведенные вместе кулаки, молчал.
Мастер посмотрел на выгнутую горбом спину, словно надломленную непосильной тяжестью. Он жалел парня, угадывая в какой-то мере его состояние: горяч, с маху не вышло, вот и опустил крылья…
— Чего это напарник у тебя? Приболел? — спросил он у Скрыгина, копавшегося в магнето «Дружбы».
— Нет вроде… — Тот поднял голову, глянул в сторону товарища и скорбно дернул углом рта: — Это он так чего-то…
— Чего — так?
Фома Ионыч протирал очки, поэтому близоруко щурился. Скрыгин расценил прищур как подозревающий в чем-то, вынуждающий на признание взгляд. Признаться Скрыгин мог только в одном:
— Не ладится у нас, мастер. Вот и психует Борис. Характер у него дурной в этом отношении…
Фома Ионыч надел очки, взгляд его стал обычным — приветливым, чуть-чуть лукавым. Но начатый разговор приходилось продолжать. И Скрыгин продолжил:
— Старт взял, а до финиша далековато. На первом круге сошел. Скис!
Глаза мастера в самом деле насторожились, посуровели. Так подергивается льдом вода. Он вытащил из кармана трубку, повертел в руках, спрятал обратно. Спросил неохотно, натужно:
— Ты что… разве тоже из этих… из блатных?
Парень растерялся настолько, что уронил какой-то винт. Железо брякнуло о железо, звук на морозе отдал звоном стекла.
— Да что вы, Фома Ионыч? Ни с какого боку, честное слово…
Тот сомнительно покачал головой:
— Слова у тебя такие все… Блатные вроде…
Улыбаясь во весь сверкающий рот, Скрыгин потянулся было к затылку — выскрести оттуда подходящую фразу, которая не ударила бы по самолюбию мастера. Вспомнив, что рука перепачкана в машинном масле, не донес. Сказал, отворачиваясь:
— Это, Фома Ионыч, спортивная терминология. Физкультурная. Ну, скажем, на состязаниях по бегу…
Самолюбие старого лесоруба не пострадало — он не думал о самолюбии. Глаза потеплели, оттаяли. Опускаясь на бревно рядом с Василием, извиняющимся тоном объяснил:
— У тех тоже тарабарщина, у блатных… Так, говоришь, скис солдат?
Скрыгин сожалеюще вздохнул: нельзя было не согласиться — и не хотел соглашаться. Не позволяла гордость. Она у них с Борисом одна. Именно солдатская.
— Обидно ему, Фома Ионыч. В армии благодарности получал, а тут…
Он махнул рукой, с упреком посмотрев на заснеженный лес. Скис! Даже говорить о таких вещах тошно!
Но мастер не спешил обрывать разговор:
— Это верно, если криво да косо пойдет дело — пропадает охота. Сердце не лежит. А назавтра, глядишь, другой смак.
— Нам бы, Фома Ионыч, раз-другой сделать норму, там бы пошло! Чтобы Борька поверил в свои возможности… Лес бы, что ли, получше попал! Не эта проклятая осина — две трети дня на сучки уходит. Рубишь, рубишь…
Задумчиво рисуя палочкой загогулины на глади не растоптанного еще снега, Фома Ионыч, казалось, не слушал Скрыгина. Да тот и говорил больше себе, мечтал вслух.
— Думаешь, пошло бы тогда? — отбрасывая палочку, спросил мастер.
Скрыгин не сразу понял, о чем спрашивают. Сообразив, кивнул:
— Конечно, пошло бы.
Фома Ионыч встал, отряхнул снег с надетого поверх ватника плаща.
— И пойдет. Такие ребята! Осина не век будет, да и на осине работать можно. Ты друга-то расшевели, слышишь? Обязательно расшевели!
— Попробую, Фома Ионыч!
— Ты не пробуй — расшевели, говорю. А там пробуйте оба работать толком. У меня глаз наметанный, я не ошибусь. День, два — и выйдет. Так и скажи другу.
— Уже не день и не два… — начал Скрыгин, но осекся. — Ладно. Еще попытаемся.
— Без этих! — трубкой погрозил мастер. — Без всяких таких! Нахрапом не возьмешь, учти!
— Я-то учитываю, — Скрыгин поморщился, — а вот Борька…
Собрав и опробовав пилу, он обтер руки снегом, стряхнул под ноги жирную обжигающую грязь. Его товарищ все еще сидел нахохлясь, сутуля спину. Спина говорила о равнодушии к происходящему вокруг, чуждости всему. «Переубедишь такого, куда там!» — подумал Скрыгин.
Напарник ему нравился. Такой же солдат, тоже полон бьющей ключом, нерастраченной энергии. Не договариваясь, оба решили, что будут работать на пару. Что до характеров — характеры познаются не сразу. Они проявляются по мере действия на них обстоятельств.
Василия Скрыгина обстоятельства устраивали.
В армии он приобрел специальность шофера. Думал — на всю жизнь. Но несчастный случай, наделивший стальными зубами и хромотой, правда еле заметной, разлучил с шоферскими правами.
До армии была только школа. Значит, учиться какому-то ремеслу приходилось с азов. А мать с нетерпением ожидала кормильца. Василий решил: пойду в леспромхоз, там видно будет. Может, пошлют учиться. Э, расти можно всюду — жизнь приучила верить в ее поддержку!
Работа в лесу не мыслилась ему чем-то преходящим, временным. Поэтому спокойно переносил неудачи начи-нанмя — на первых шагах люди всегда спотыкаются. Ниодно дело сразу не дается в руки!
Иначе смотрел на это Усачев.
На службу он уходил совхозным бригадиром, лихим гармонистом, а следовательно, первым парнем, избалованным вздохами девчат. Первым парнем он и вернется. Но уже не гармонистом-самоучкой, а профессиональный баянистом, с собственным, сверкающим черными зеркалами дек инструментом. Работать будет в клубе. Работу поставит так, чтобы поднять клуб до уровня настоящего очага культуры. Организует самодеятельность, которая заставит о себе говорить…
Все казалось простым, ясным, легко достижимым. Не хватало только баяна, хорошего костюма и пальто. Не то чтобы солдатское обмундирование не заслуживало уважения или принижало, нет! Просто артист должен походить на артиста, а не на солдата. По одежде встречают!
Леспромхоз должен был стать трамплином. От него надлежало всего-навсего оттолкнуться. Заработать пяток тысяч. Горбом заработать! Но лес пилить — не на баяне играть, школа и слух не нужны! Просто — задержка в пути на три-четыре месяца.
И вдруг — не так просто, оказывается!
— Рассчитался бы к чертовой матери, — встретил Борис подошедшего напарника, — неловко! Скажут: дезертируешь! А я не труда боюсь — время дорого, понимаешь?
Скрыгин опустился рядом, достал папиросы. От плохо отмытых пальцев на мундштуке оставались масляные пятна. Пришлось, выбросив папиросу, обтереть пальцы о ватник.
— Не понимаю, почему ты от этого с ума сходишь. Ну, заработаешь первые две недели меньше, чем рассчитывал. Потом поднажмешь!
Признаться, что дело не только в заработке, Усачев не мог. Язык не поворачивался почему-то. Да и как объяснить человеку такое, чего себе вразумительно объяснить не можешь?
— Характер, Васька! Противно, когда всякая сволочь тебя подкусывает. И ничего не скажешь — правы!
— А ты плюнь…
— Не могу. Кипит! — стиснутым кулаком он помотал возле сердца, безвольно уронил руку. — Прямо душа не лежит работать!
Скосив глаза, Скрыгин наблюдал за товарищем. Искал слов.
— Худо! — так и не найдя нужных, промолвил он наконец, сам не зная, к чему относится это «худо» — к тому, что у напарника душа не лежит к работе, или к собственному неумению переубедить его.
— Худо, — в тон согласился Усачев. — Не получается, и все тут! Понимаешь, я музыкант, а не лесоруб. Руки у меня по-другому устроены, что ли? А сегодня еще и пила дурит…
Василий заставил себя подавить улыбку: надо же сказануть такое! — но раздражения подавить не смог:
— Брось ты чепуху городить, Борька! Руки, руки… Мастер говорит: хватка у тебя правильная, работать можешь. Честное слово, так и сказал: через день-другой пойдет как по маслу. Втянуться надо.
— Обидно, когда всякая шпана…
— Черт с ними. Давай попробуем без паники, с оглядкой! Чтобы не крестить как попало, а потом кишки не рвать!
— Ладно. Эту неделю добьем, посмотрим, — нехотя согласился Усачев. — Все равно.
Он встал, расправил плечи. Действительно, чего ом запаниковал? Кубики не в общий котел идут, каждый получает за свои. А так, зря — пусть гавкают. Васька — другое дело, но Васька соглашается и дальше работать на пару. Сам уговаривает.
И все-таки чувство недовольства чем-то, какая-то паскудная ржавчина язвила душу. Можно заставить себя не думать о ней, но избавиться нельзя. Слишком глубоко въелась она, эта ржавчина. И пожалуй, разговоры про обиды, про нежелание терять дорогое время велись для отвода глаз. Чтобы не видеть ржавчины.
Иногда люди и сами себе отводят глаза…
Скрыгин вторично пробовал пилу, когда напарник его догнал.
— Порядок?
— Как часы!
Он гордился своим умением ладить с машинами, чувствовал себя хозяином и повелителем их. Но пилу передал без сожаления. Васька Скрыгин нутром угадывал желание товарища быть ведущим, первым. В лесу это значило — валить с корня. Что же, пусть валит. Только бы валил не как попало, не горячился. Кубометрами лес становится только раскряжеванный, очищенный от сучьев и приготовленный для вывозки. А Борис частенько забывает об этом в погоне за числом сваленных лесин.
— Старайся «в елочку» класть. И кряжевать, и окучивать будет легче.
Усачев мотнул головой, шагнул к ближней осине. Загудел включенный мотор, цепь полезла в податливое дерево…
— Стой! — замахал руками Скрыгин.
Пила смолкла.
— Опять без подруба, Борька?
— Так у нее же наклон вроде в ту сторону.
— А сучья?
Черт, сучья действительно потянули бы дерево при падении не туда. Смущенно улыбаясь, Борис обошел дерево, чтобы подрезать его, а потом зарубить.
Брызнули из-под топора щепки, кажущиеся желтыми на подсиненном тенями снегу.
— Теперь — дуй! — кивнул головой Василий.
— Поспешишь — людей насмешишь! — довольно сказал и сам Усачев, когда осина упала как ей следовало.
Скрыгин уже обрубал сучья.
Мельком взглянув в его сторону, Борис подошел к следующему дереву. Пожалуй, можно не подрубать — наклон у него вперед и вправо. Просто немного скосить рез… А, проще сделать подруб! На три минуты дела!
Оглядываясь через час на сваленный лес, он думал: дурак, давно бы так надо! Куда меньше дела с раскаткой, с окучиванием. Да и кряжевать ловко — половина лесин на весу, незачем подваживать.
Остановив пилу, сел покурить. По стволу ближней елки деловито бежала маленькая голубовато-серая со спины птичка. Бежала сверху вниз, отрывисто покрикивая: «цит-цит». Усачев решил, что птичка сошла с ума — кто же ходит вниз головой?
Выковырнув затоптанную в снег шишку, примерился, бросил. Конечно, не попал, но птица вспорхнула, показав рыжий бок, засвистела обиженно; «тюй-тюй-тюй».
В общежитии не следили за календарем. Только один Коньков иногда обрывал листок, не найдя под рукой газеты на «козью ножку». Но такое случалось редко, газеты поступали с опозданием, но без перебоев. Почтальон переправлял их с живущими в Чарыни рабочими.
По календарю ноябрь все еще не мог перевалить за половину, а Фома Ионыч уже готовил к сдаче наряды для второго расчета, за весь месяц.
Почти четыре недели прошло с тех пор, как окна правой половины впервые расстелили перед бараком желтые четырехугольники света, накрест перечеркнутые тенями рам. Теперь в обеих половинах светло и тепло. На правой вечерами заставляли слушателей вздыхать или весело притопывать аккорды баяна, щелкали костяшки домино. На левой прислушивались к музыке, стесняясь вздыхать. Тоже притопывали, только иначе, с дробной чечеточной россыпью. И по-прежнему резались в карты, чтобы после пропить выигранное и проигранное.
На правой половине старались не слышать традиционной ругани, сопутствующей игре. На левой матерились вполголоса, покамест азарт не заставлял забывать о соседях за стенкой.
Дальше этого содружество не простиралось.
Иван Тылзин пробовал заговаривать с ребятами о том да о сем, чтоб начать с чего-то. Разговора не получилось.
— Слушай, мужик! Мы что у тебя — угол отвернули? — прищурил один глаз Воронкин, жестом изображая, будто уносит чемодан. — Или в борщ наплевали? Чего ты из-под нас хочешь?
— Никуда не лезем, никого не трогаем, — подхватил Ганько. — Мы уже перевоспитанные, пойми!
Ивану Яковлевичу оставалось только пожать плечами да сказать, что он — просто так, хотел поболтать по-соседски. Словом перекинуться, без задней мысли.
— Мы неразговорчивые, браток! — отрезал Стукалкин. — А худо живем, говоришь, — он показал глазами на голые стены, буханку черствого хлеба на столе и приспособленные под котелки чумазые консервные банки, — так мы транзитные. Лишнее барахло нам мешает при пересадках. Носильщиков брать надо… Ясно?
Все было ясно — люди хотят жить по-своему.
Лучше других левая половина барака относилась к Усачеву. Первыми кивали ему при встречах: «Привет культбригаде!» Иной раз обращались с просьбами:
— Слушай, ты вечером «Лучинушку» оторви. Лады?
Или хвалили:
— Правильно вчера «Цыганочку» рубанул! Молодчик!
Только Шугин смотрел сквозь него, будто не существовало на свете Бориса Усачева.
— Ну, Борис, скоро соседи тебя водкой поить будут! — пошутил как-то Скрыгин.
Всегда и все слышащий Сухоручков отложил спецовку, на которую пристраивал заплату, неторопливо повернулся всем туловищем. Спросил, подмигнув:
— А ты как думал?
И, словно наставляя в чем-то важном, объяснил:
— Гармонист — это, брат, фигура. Раньше гармонисту всегда первый стакан самогонки. За уважение. Бывало, раздерутся в праздник, деревня на деревню, кто за кол, кто за нож, — а гармониста не моги потрогать! Гармонист — он… какое такое слово есть, Иван Яковлевич?
— Неприкосновенен? — догадался Скрыгин.
— Нет. То само собой. Специальное слово. Ну, вроде судебного исполнителя — чтобы, значит, дунуть на него нельзя… при исполнении обязанностей…
Скрыгин хлопнул напарника по плечу:
— Значит, ты, Борька, вроде судебного исполнителя. Гордись!
Тот отвернулся, заиграл «Златые горы».
Барак делился на две половины. На две группы делили себя люди в нем. Фома Ионыч жил в прирубе, особняком, но частенько захаживал по вечерам на правую половину. На левой бывал редко.
Настя, убиравшая обе половины утром, по вечерам не знала дороги ни в ту, ни в другую. Чего ей делать там, одной среди мужиков? Одиночество не угнетало девушку. Да и какое это одиночество, если всегда можно сбегать в Чарынь, в Сашково? Только некогда особенно бегать туда. А другой раз — просто неохота.
Она не скучала в одиночестве. С утра — работа, стряпня. Учебники. А там — и день весь, дни короткими стали. Книжку дочитать времени не хватает.
Живя под одной крышей, она почти не встречалась с соседями. Знала их по именам, по фамилиям. Не спутала бы Сухоручкова с Коньковым или со Стуколкиным. И все-таки они оставались «все на одно лицо». Кроме двоих.
Виктора-Шугина выделило когда-то ранение.
Баян выделил Бориса Усачева.
Шугин, обретя лицо, стал понятнее, ближе. За дни, которые пришлось коротать вместе, Настя узнала его характер, привыкла к нему.
Музыка, наделившая лицом Усачева, не приблизила и не раскрыла человека. Наоборот, окружила ореолом загадочности. Пытаясь угадать скрытое за ореолом, Настя поневоле придумывала себе Бориса Усачева, воображала его. Не то чтобы она думала о нем — думала о музыке, ожидая ее. Но музыку нельзя было отделить от Усачева.
Виктор Шугин, пьяница и картёжник с преступным прошлым, не пугал ее ни своей грубостью, ни истериками. Она безбоязненно оставалась вдвоем с ним в пустом бараке. А вежливого, сдержанного Усачева робела, робела даже обычного слова «здравствуйте» и спокойного взгляда вслед, который чувствовала затылком. Усачев почти не разговаривал с ней. Разговаривал баян. И этот разговор не вязался с холодным «здравствуйте», с равнодушным взглядом серых спокойных глаз.
У баяна не было слов. Была грусть, щемящее сердце ожидание чего-то, даль и полет. И-всем этим он щедро делился с Настей. Особенно хорошо музыка слушалась на улице. Там ее дополняла бездонная чернота неба с голубыми огоньками звезд, освобождающая от чувства обыденности.
Стоя на крыльце барака, Настя слушала знакомый уже рассказ баяна про белую-белую, заснеженную степь и бесконечную дорогу, похожую на дорогу в Чарынь, — следы полозьев да следы копыт меж ними. И конь идет шагом, наверное, совсем как старый Васька с потертым плечом. Снег скрипит под полозьями. Это она, Настя, едет в Чарынь или бог весть куда. Но почему ей так грустно, так до боли остро недостает чего-то?
В сенях хлопнула дверь, под тяжестью шагов скрипнула половица. Оттого, что человек курил, лицо его нельзя было разглядеть: красноватый огонек папиросы словно сгущал вокруг себя тьму.
— Ты чего мерзнешь?
Шугин!
Она плотнее запахнула полушубок, улыбнулась смущенно:
— Баян слушаю. Знаешь, на улице он как-то особенно звучит. Вот, прислушайся… Правда?
Красный огонек рассыпался мелкими искорками, исчез — это Шугин раздавил в пальцах папиросу.
Теперь Настя видела его лицо. Слабый голубоватый свет падал сверху, от звезд. Вместо глаз на лице лежали черные провалы, усиленные тенями.
— Баян как баян, — помолчав, сказал Шугин.
Ему хотелось добавить еще что-нибудь, принижающее музыканта, но подходящего слова не нашлось. Такого, чтобы прозвучало кстати.
— Неправда, хорошо играет! Плакать другой раз хочется…
— А он-то при чем? — нарочито удивился Виктор. — Это — кто музыку придумывал. А его дело — знай не ошибайся. Все равно что книгу читать. С чужого голоса…
Его собственный голос звучал недобро, Настя услышала это звучание. И обиделась — не за Усачева, а за музыку, как ей казалось.
— По-твоему, и артист с чужого голоса, да? Пьесы — те и вовсе в книгах напечатаны.
— Тоже мне артист! — фыркнул Шугин. — На Лужне, конечно, может за баяниста хилять. А в Москве или в Ленинграде — снег чистить…
Он понимал, что хватил через край, но остановиться не мог. Надо же было объяснить как-то необъяснимое чувство раздражения, закипающее даже при одном упоминании фамилии — Усачев.
— И чего ты такой злой, Виктор? — удивилась Настя.
Он передернул плечами, достал новую папиросу.
— При чем здесь злой или незлой? Просто — не люблю чернушников… ну, как их, самозванцев..
Опять попалось не то слово, а может быть, он и не знал нужного на языке, понятном всем людям? Эта догадка обозлила его еще больше.
— Знаешь… — возмущаясь, начала Настя и приостановилась, тоже подыскивая слова. — По-моему, ты ненавидишь Усачева знаешь за что? Что ты не такой, как он! Вот! Не смотри на меня так, не боюсь!
Шугин чувствовал, как мышцы напрягаются для удара, но не ударил. Только стиснул челюсти, принимая удар. Самый болезненный, в наболевшее место угадавший. Срываясь на истерику, захлебнулся горькими, рвущими сердце словами:
— Не такой, да? Вор, да? Что я у тебя украл? Что?.. Падлы вы все… Честняги!
Она испугалась этой истерики, испугалась не так понятых своих слов. Отступая, обороняясь руками от его бешеных глаз, надвинувшихся вплотную, от брызжущего слюной искривленного рта, заставила себя говорить строго и смело:
— Ты сумасшедший! Я об этом не думала даже, честное слово! Какой ты вор, если не воруешь? Смешно…
— Раньше воровал, ты знаешь. Все вы знаете: уголовник, всю дорогу по тюрьмам! — продолжал истязать себя Шугин.
— Ты дурак! — закричала Настя, и это отрезвило его. — Дурак, дурак! Мало ли что раньше было? Может, Усачев хуже что делал…
— Усачев честный. Чистенький. — Он умолк, уронил голову.
Настя, не так понявшая его слова, воспользовалась молчанием:
— Вот и завидуешь! А что тебе мешает таким быть?
— Каким?
— Как все парни. Как Усачев или Скрыгин. Ты только посмотри на себя, посмотри! Рубашки переодеть нету! Знаю — в бане постираете кое-как, а потом мокрое на себя. Не правда разве? Хуже дикарей прямо.
Теперь она не била насмерть — хлестала безболезненными, но постыдными бабьими пощечинами. Заслониться от них было нечем. Но он попробовал:
— Что же, как твой Усачев, подворотнички менять каждый день?
— Ты бы и менял, да у тебя их нету! Не люди вы — тьфу! Все мужики выпивают, да знают меру. А вы… — она пренебрежительно махнула рукой. — Ступай лучше опохмелись…
И тогда, раздавленный, чувствуя, как горят щеки, словно и впрямь надавали пощечин, покорно берясь за дверную скобу, он спросил:
— Мешаю? Баяниста своего ждешь?
— И верно, дурак! — спокойно ответила девушка. — Ведь сам знаешь, что глупости, а мелешь, Емеля!
Она не догадывалась, что за эти равнодушные слова он простил ей все сказанное прежде.
Дверь притворилась тихонько, мирно.
Настя снова осталась одна со звездами.
Ей почему-то было весело и вместе жутко. Словно не стояла на крыльце, а стремглав катилась с высокой ледяной горы.
— Дурак! — повторила она, улыбаясь звездам. — Жду! Чего мне его ждать?
В черной бездонности неба, за звездами, она увидела комнату общежития и Бориса Усачева с баяном на коленях. Гордо вскинутая голова — как тогда, после первой «Лучинушки», — торжествующая улыбка. Плечевой, ремень инструмента строг, как офицерская портупея.
— Нечего ждать! — еще раз вслух произнесла она, заведомо желая солгать себе, потому что в жизни все получается наоборот. Потому что девчонкой, ожидая из города деда с гостинцами, всегда говорила: «Не привезет!»
Для того, чтобы обязательно привез!
Накануне выдачи зарплаты. Фома Ионыч торжественно объявил Скрыгину и Усачеву:
— Ну вот. Девять кубометров на лесе третьей группы. Сто один процент.
Скрыгин, тряхнув чубом, подмигнул напарнику:
— Порядок, Боря! Вошли в график!
Тот попытался было сыграть в равнодушие: так, мол, и должно быть! — но не выдержал. Довольная усмешка растянула губы.
— Давно бы надо, Вася! Черт, что значит опыт: вроде и гоним не как сначала, а дело двигается! Сто одий?
— Сто один! — подтвердил Фома Ионыч, блеснув очками в его сторону.
— Ей-богу, могли бы больше! Вроде не так и жали сегодня? А, Вася?
— Я — нормально.
— Я тоже, но могли бы и покрепче…
Назавтра они напилили семь кубометров.
— Вот черт! — удивленно выругался Усачев, узнав результаты. — Я думал, в сравнении со вчерашним процентов на сто двадцать дали…
— Скор шибко! — усмехнулся Фома Ионыч. — Ты попытай у ребят: кто на сто двадцать выполнял сразу? Ведь месяца не работаешь… Да и день короткий сегодня, суббота.
Но и семь кубометров позволяли сознавать себя уже не ходящим в учениках. Тем более что это было началом. И в субботу. Ха, они с Васькой себя покажут!
А вечером выдавали зарплату.
Пожилой, с отечным лицом кассир, ставя синюю галочку, где следовало расписаться, завидовал:
— Если бы мне здоровье — пошел бы в лес. Ей-богу! Хоть деньги бы настоящие зарабатывал…
Воскресенье началось сборами.
В Сашкове надо было побывать многим из правой половины барака. Как водится, заглянуть в магазины. Перевести деньги семьям. Не грех и поллитровку распить в доброй компании — знакомые в селе имелись почти у всех, кроме Усачева и Скрыгина.
Из левой половины в Сашково обычно не ходили. Довольствовались магазином сельпо в Чарыни — ближе намного, а водка та же. Местный «сучок» — не «Московская особая». Да и не все ли равно, какая она, водка?
На этот раз, заставив Конькова удивленно покоситься, на вторых санях пристроился Шугин. В добротном полушубке Стуколкина, самоуверенный, скупой на слова, он жестом предложил потесниться своему попутчику — кассиру — и сел, подобрав под себя ноги.
— В Сашково? — спросил кассир.
Шугин молча кивнул.
— Я думал, до Чарыни только, — разочарованно протянул тот, вынужденный довольствоваться менее чем третьей частью саней — Шугин не любил ущемлять себя.
Первые сани, на которых в тесноте да не в обиде уместились четверо, уже отъехали. Зачмокал и Коньков, перебирая вожжами. Но мерин только переступал с ноги на ногу, не обращая внимания на чмоканье.
Шугин через плечо возчика протянул руку к вожжам. Крикнул, раскатывая слова на букве «р»:
— Но, чер-рт нехор-роший!
Испуганно двинув ушами, мерин рванул сани. Шугин отпустил вожжи.
— Что человек, то и скотина! — качая головой, философствовал Коньков. — Доброго слова не понимают никак… Обязательно ты на него крикнуть должен.
Тринадцать километров для сытых лошадей — полтора часа езды.
Сухоручков, кучеривший на первых санях, придержал коня у крайних домов села.
— Кого куда?
Пассажиры запереглядывались.
— Мне в библиотеку. И в сельпо тоже. Вы в какую сторону сейчас поедете? — спросила Настя.
Сухоручков подумал:
— Мне тоже в сельпо надо, посля — на Почту. Тылзин деньги просил послать, да и моя ждет. Только наперед к Антипычу заеду, коня поставлю…
— Дядя Коля, ты матке моей пошли заодно, а? Будь другом! — попросил Скрыгин.
— Давай, шут с тобой. Молодой, а ленивый, — неохотно согласился тот.
Василий отсчитал шесть пятидесятирублевых бумажек, нацарапал на пустой папиросной коробке адрес.
— Не лень, а почта не по дороге! — подмигнул он. — Отслужу чем-нибудь…
— По батьке-то тебя как? Бланк надо форменно заполнять.
— Васильич…
— И отца Васькой дразнили?
— Давайте договоримся, когда назад поедем, — предложил Усачев. — Мы с напарником в кино собрались. Ну и сельпо, конечно, не миновать.
— Ладно, — за всех решил Сухоручков. — Настя тоже кино не обойдет. После приходите все к Ивану Антипычу, она знает… Там я вас дождусь…
Настя шла между Василием и Борисом, направо и налево кивая знакомым. Девчата оборачивались, но подходить стеснялись: еще подумают незнакомые парни, будто ими интересуются! Много чести, пожалуй!
В магазине Усачев купил пластмассовую безопасную бритву, душистое мыло в нарядной упаковке и два тюбика зубной пасты. Перетрогал за рукава висящие на деревянных плечиках костюмы. К одному — стального цвета, за тысячу сто рублей — присматривался дольше других. Потом, щупая выложенную на прилавок штуку сукна, сказал Насте:
— Вещи покупать — надо в город ехать. В сельпо хорошего не завезут…
— Скажете тоже! — обиделась продавщица. — Чем этот серый костюм плох? Скажите уж, что не по деньгам… У нас бывает, чего и в городе не купить. Разбирают сразу — это дело другое. Что похуже — лежит, конечно.
Настя, обследовав занятую продовольствием половину прилавка, спросила какого-то особенного чая для Фомы Ионыча. Нужного сорта не оказалось.
— А у Клавы в Чарыни — есть! — тоном упрека сказала девушка продавщице.
Та пожала плечами:
— Был и у нас. Сравнила Сашково с Чарынью. Там покупать некому, десять человек — деревня..
Из продуктов набрали колбасы, консервов, редко бывающей в продаже гречи. Ребята купили еще папирос и пол-литра водки.
— С первой получки полагается, — усмехнулся Скрыгин.
Надолго задержались в библиотеке. Борис придирчиво копался в каталоге, потом спорил с молоденькой библиотекаршей Верой. Потряхивая рассыпающимися волосами, свитыми в тугие колечки только что привезенной из города шестимесячной, она защищала стихи Есенина, о которых пренебрежительно отзывался Усачев.
— Мне тоже нравятся, — встала на сторону библиотекарши Настя.
Усачев картинно развел руками.
— Двое на одного, значит? — И меняя тон: — Нет, девушки, нам такие стихи не нужны. Это пережиток.
— Пушкин тоже пережиток, — кипятилась Вера.
— Ну, Пушкин другое дело, — усмехнулся Борис. — А вы, значит, всем читателям рекомендуете Есенина?
— И рекомендую…
— Напрасно. Есенинская тоска меня, например, не устраивает. Не с чего нам тосковать, девушки… честное слово!
Насте почему-то вспомнились слова Шугина — «с чужого голоса», — но она поспешила прогнать воспоминание. Почему бы Борису не думать, как говорит? Это она не задумывалась, почему ей нравится Есенин. Почему любая книга нравится или не нравится. А Борис серьезный, вдумчивый. У него определенное мнение. А задается немного, так это не он один.
Спор прекратил Скрыгин, показав на свои часы. Кино через два часа, надо отнести покупки к неведомому Ивану Антипычу и перекусить. Следовало поторапливаться.
Но торопились они зря…
Возле клуба кучками собиралась молодежь. Переговаривались недовольными голосами — ругали киномеханика.
Исчезавшая куда-то Настя объяснила:
— Вот так посмотрели картину! Фотоэлемент какой-то испортился, Витька за новым в город уехал. Всегда у этого Осокина чудеса, не то, так другое… Верно, что сапожник!
Но обманутые зрители не спешили расходиться. В группах вспыхивал и гас смех. На неосвещенном крыльце клуба закружились, вальсируя, две девушки. Белые валенки их казались по-особенному нарядными в полутьме опускающегося вечера.
Слышались голоса:
— Оставил же он ключ, наверное?
— Черт с ними, с пластинками. Санька на гармошке маленько может…
— Пусть Митька сбегает, спросит.
— Так она и отдаст ключ, жди!
Скрыгин подтолкнул плечом товарища:
— Пойдем?
— Ой, подождемте еще! — ухватилась за его рукав Настя. — Если найдут ключ — танцы же будут! Подождем, раз уж приехали.
Она держалась за бушлат Скрыгина, но смотрела на Усачева, угадывая, что слово того будет решающим.
— Желание дамы — закон! — улыбнулся Борис.
Василий, смешно надув щеки и поджав губы, выставил вперед обутую в подшитый валенок ногу.
— Господи, да ведь теперь все так. Зима ведь. Вы посмотрите, — жестом показала на танцующих на крыльце девушек Настя.
— Галька идет!
— Галька сама идет!
Все, словно по команде, повернули головы навстречу женщине в накинутом поверх платья белом шерстяном платке. Видимо, она шла не издалека.
Снова загудели сердитые голоса:
— Витька уехал — значит, всему конец?
— Клуб не для того, чтобы замки навешивать!
— Не собственный дом, Галина Андреевна!
Собирая в горсть распахивающийся платок, женщина, тоже сердясь, оправдывалась:
— Вас допусти одних — скамейки целой не останется. Знаю. И пластинок все одно нету, от шкафчика ключ Виктор с собой увез… Ей-богу, увез!
Тем не менее дверь в клуб отворилась, молодежь хлынула на крыльцо.
Осветились окошки.
— Хлопцы, скамейки убирать! — позвал кто-то.
Когда Настя, и ее спутники вошли, на подмостках перед экраном уже топорщилась задранными к потолку ногами груда скамеек. Только вдоль стен оставили несколько, и парни словно загораживали спинами сидящих девушек.
На улице рявкнула металлическим голосом гармонь.
— Санька идет, держись!
— Кто не умеет танцевать вальс, можете расходиться!
— А если я фокстрот на три счета могу?
Парень в темно-синем костюме и кубанке с малиновым верхом, окруженный гурьбой провожатых, остановился в дверях. Словно белые, в два ряда, пуговицы косоворотки, на груди четко выделялись перламутровые лады гармони.
В зале оживились еще больше:
— Саня, держи форс! На тебя вся надежда!
— Саня, не продешеви! Один на базаре!
— Саня, не тушуйся!
Гармонист и не думал тушеваться. Улыбаясь без тени смущения, он заявил, сдвигая на затылок кубанку:
— Репертуар — как в джазе Утесова. Вальс «Дунайские волны» с любого конца или из середины. Для желающих могу «Катюшу». Кому мало — приходите через полгода.
Судя по бойкости, вступление было заученным, произносилось не раз. В зале зааплодировали, закричали:
— Давай!
— Жми!
— Просим!
Гармонист, нарочито высоко задрав голову, проследовал к возвышению, где сложили скамейки. Носовым платком обмахнул конец одной из них — скоморошничал.
Спросил:
— Откедова прикажете?
— С конца!
— С боку! — в тон ему закричали в зале.
Сбычившись, чтобы видеть клавиши, парень сразу посерьезнел. Но первые аккорды старого вальса оказались сносными при возможностях гармони.
Сталкиваясь, мягко шаркая валенками, закружились пары. На скамьях возле стен сидели теперь парни со сброшенными пальто девушек на коленях. Пересмеивались, кивая на танцующих товарищей, которых оказалось почему-то очень немного. В основном танцевали девушки, кавалеров не хватало.
Сразу стало жарче. Усачев повертел головой, высматривая, куда повесить бушлат.
— Давай мне, — сказал Василий.
Одернув гимнастерку, Борис повернулся к Насте:
— Разрешите?
Его начищенные сапоги скользили неслышно, умудряясь не цепляться за неровности пола. Эти сапоги, белый подворотничок и офицерский ремень обращали внимание. Взгляды, бросаемые на партнера, грели Настю приятным теплом и чуть-чуть смущали.
Гармонист, игравший с напряжением неопытности, внезапно оборвал музыку.
— Дозвольте передохнуть, упрел! — басом попросил он.
— Одну минуточку! — улыбнулся Насте Усачев и, лавируя между остановившимися парами, провожаемый удивленными взглядами, направился к возвышению.
— Привет музыканту! — неторопливым движением он поставил ногу в блестящем сапоге на нижнюю ступеньку эстрады. Кивком показал на гармонь: — Вроде у нее нижнее «ля» чего-то хрипит…
— Играете? — догадался гармонист.
— Маленько. Разрешите попробовать?
— Пож-жалуйста! — широким голосом сказал парень, освобождая плечо от ремня. — С нашим удовольствием…
За предупредительностью пряталась обида, по ее не заметили.
Примолкнув, зал ожидал.
— Первобытная техника, — покачал головой Усачей и, демонстрируя пренебрежение, повертел гармошку в руках. — Давно на такой не пиликал…
Видя, что парень не догадывается уступить место, он привалился спиной к груде скамеек, молниеносно пробежал пальцами по ладам и без перехода заиграл краковяк. В разных тональностях, щеголяя вариациями, извлекая из гармошки все, что она могла дать.
Казалось, стены ходуном заходили. Но люди, словно парализованные изумлением, медлили. Первым притопнул и вскинул вверх руку с безвольной еще рукой партнерши разбитной парень, уверявший, что может танцевать фокстрот на три счета. За ним, словно подстегнутые его почином, бросались в бурный круговорот танца остальные.
Гармонь залихватски весело выговаривала короткие, похожие на взлеты и падения качелей музыкальные фразы. Гнулись половицы. Их жалобное поскрипывание слышала только Настя, отброшенная к стене стремительным вихрем танца. Забытая всеми.
Мелькая, проносились мимо нее пары. Улыбались нетанцующие парни, следя за подругами, отбивая ногами ритм. Девушки гордо несли высоко вскинутые головы, не успевая поправлять разлетающиеся прически. С их лиц не сбегали радостные, но словно забытые улыбки: танцевали сосредоточенно, как делают важное дело.
Всем этим они обязаны Борису Усачеву. И ей, которая удержала Бориса, уговорила остаться. Насте было радостно от сознания этого и вместе… немножко обидно. Оттого, что Борис так внезапно пожертвовал ее обществом — правда, не ради какой-нибудь девушки. Ради всех. Но слишком легко пожертвовал все-таки…
Наконец гармонь рявкнула, ставя точку. Инерция вынесла движения танцоров за грань последнего такта, в пустоту неожиданной тишины.
Грохнули дружные, искренние рукоплескания, заставив глаза гармониста в кубанке заметаться, убегая от колющей славы счастливого соперника.
Послышались громкие, с придыханиями возгласы:
— Вот это д-ал!
— Дал так да-ал!
Последние девичьи пальто летели на скамейки. В нетопленном клубе становилось не в меру жарко.
Пристроив куда-то свой и усачевский бушлаты, к Насте подошел Скрыгин. Он не успел еще ничего сказать ей, хотя явно собирался, когда Усачев, уже занявший место гармониста, скромно отошедшего в сторону, заиграл медленный фокстрот.
Не ожидая приглашения, Настя подала руку Василию. Они поплыли в общем потоке, увлекаемые и задерживаемые им. Рыжий Скрыгин в подшитых валенках не возбуждал особого любопытства девушек, но на них посматривали. Настя знала: оттого, что она первая и единственная танцевала с Усачевым, привела его в клуб. Угадывала, что девчонкам не терпится подойти, расспросить: кто, почему, откуда?
И от простого сознания, что она знает, Насте было приятно и опять-таки немножко неловко, словно попала в сноп яркого света.
Фокстрот закончился.
Опять рукоплескали музыканту. Он раскланялся и, сказав: «Спасибо. Ничего гармошка», вернул инструмент владельцу.
По залу пронеслось что-то вроде ропота, вздоха разочарования.
Просительно зазвенели девичьи голоса:
— Ой, поиграйте еще! Что вам стоит? Падекатр! А?!
— Ну пожалуйста, полочку еще!
Борис смилостивился:
— Только последнюю! Нам, — движением головы он показал на Скрыгина и Настю, торовато приобщая обоих к причитающемуся ему вниманию, — домой пора собираться, Ждут нас… Где тут покурить можно? — он достал папиросу.
— Вам — здесь!
— Одному можно, правильно!
Заискрилась, заплескала широкими крыльями в тесной клетке гармошки полька «Бабочка». Когда не хватало клавиатуры, Борис морщился болезненно, но упрощал музыку искусно, незаметно для других.
Вот и полька умолкла. Протягивая папиросные коробки, Усачева окружили парни. Девушки вились вокруг Насти, но не подходили. Скрыгин отпугивал их — разве поговоришь при нем? Хоть бы ушел покурить, что ли, черт рыжий! Да и Настя хороша, не может сама подойти, а отзывать неудобно — сразу все догадаются зачем.
В дверях спутники пропустили Настю вперед, их широкие спины загородили девушку от завистливых взглядов подруг. А на улице, вокруг горевшего теперь фонаря над крыльцом, плавали серебряные снежинки. Взмывали неожиданно вверх, кружились, догоняли друг друга — словно танцевали под музыку, которая все еще продолжала, звучать для Насти. Она звучала в поскрипывании снега под сапогами Бориса, в наступившей с их уходом тишине позади и танце снежинок…
Виктор Шугин вернулся раньше других, хотя и шел пёхом. У него в Сашкове не было ни друзей, ни знакомых. Негде задерживаться в ожидании, пока соберутся в дорогу попутчики. Входя, отряхнул снег с полушубка, похлопав ладонями по бокам. Небрежно швырнул на койку два увесистых свертка.
Сожители его уже успели побывать в Чарыни и собирались повторить рейс, когда пришел Виктор.
— Разобьешь, олень! — крикнул Воронкин, испуганный обращением с пакетами.
— Чего разобью?
Тот вытаращил мутные глаза:
— Бутылки…
Усмехнувшись, Шугин выставил на стол из карманов полушубка две поллитровки водки.
— И все?
— И все…
— Так… — качнувшись, Воронкин подошел к койке, тупо уставился на пакеты. Ткнул пальцем в обертку одного, едва не потеряв равновесия. — Прибарахлился, значит?
— Значит, прибарахлился.
— Молодчик! — В тоне не слышалось одобрения. — И гаврилку, — Воронкин сделал жест, будто оттягивает галстук, пропуская между двух пальцев, — тоже купил?
— И гаврилку купил, — недобро сузив глаза, но не повышая голоса, ответил Шугин.
— Чего ты прискребываешься, Костя? — крикнул из своего угла Ганько. — По-твоему, босяк должен ходить всю дорогу в казне, которую начальник дает? Сам же свистел — костюм куплю, выйти не в чем. Ты на фрайеров посмотри. Хуже мы, что ли?
— А я твоих фрайеров…
— Ты! Внатуре заткни пасть! — не выдержал и Николай Стуколкин. — Голову надо иметь. В таких тряпках, как у нас, только у костра в лесу загорать. В городе с ходу документы спросят! Молодчик! — неожиданно закончил он, поворачиваясь к Шугину, но теперь это слово прозвучало иначе.
Воронкин, недостаточно пьяный, чтобы не понять своего одиночества, безвольно махнул рукой, точно бросал окурок.
— Что вам от меня надо, суки? Тряпки мне его, что ли, мешают? Да пусть он с ними, Витек Фокусник… — Он снова так же махнул рукой. — Выпить не мог принести… Разве это водка — две полбанки?
У Шугина глаза перестали щуриться, только ноздри подрагивали еще. Подавшийся вперед Ангуразов обмяк, успокоенно привалился к стене.
Пританцовывая, подошел Ганько, щелкнул пальцем по бутылке. Спросил Шугина:
— Раздавим?
— Какой разговор? — усмехнулся тот.
Костя Воронкин нащупал позади табуретку, потянул к столу.
— Закир! — окликнул он Ангуразова. — Где там у тебя сыренский да колбасенский? Волоки…
Только один Стуколкин равнодушно ответил на приглашающий взгляд Шугина:
— Не стану. С меня хватит сегодня…
Казалось, Виктор Шугин не переменился с этого дня. Так же брезгливо смотрел вокруг заученным взглядом, улыбался одной половиной рта. Разве что сменил застиранную рубашку на скромную гимнастерку из чертовой кожи, сразу, же усмотренную дотошным Коньковым.
— Сколько платил? — спросил он, кивая то ли на распахнутую телогрейку, то ли на видимую из-под нее обнову.
Виктор промолчал, будто не слыхал вопроса. Помедлив, Коньков обидчиво покачал головой и тронул мерина — он возил шугинский лес.
Перемену в Шугине учуял один Усачев. Не подметил, а именно учуял, угадал как-то. И насторожился.
То была не боязнь удара в спину или открытой схватки, но что-то от чувства поединка все-таки было. В чем будет проявляться этот поединок?
Шугин не показывался по вечерам из своей половины барака, днем работал. Через пасеку, иногда через несколько пасек от Усачева.
— Ловок в работе мужик! — сказал как-то про него Сухоручков.
И Усачев насторожился еще больше: не здесь ли начинается поединок? Вспомнились насмешливые слова Шугина инженеру, первые неудачи свои, со временем потерявшие остроту. А теперь? Теперь дела у него ладятся, но Шугин? Конечно, Шугин старается хоть кубиками возвыситься над ним. Нечем возвышаться больше, мелко плавает… Но, черт, здесь вообще нечем меряться больше, как он забыл об этом?
Заглянул в наряды, подсев к Фоме Ионычу. Каждый имеет право, в порядке вещей такое. Нашел шугинский. И гневно толкнул наряды прочь от себя по закапанной чернилами столешнице. Облекая мысль в непроизнесенные, но отчетливые слова, подумал: руками а дурак может работать!
Руками?..
Ну, а он, Борис Усачев, чем работает?
Снова потянул к себе подшивку нарядов, сравнил свой и шугинский. Группа одна, одна плотность. Количество кубиков разное, разница солидная. Очень солидная, черт ее побери…
— Прогрессивку высчитываешь? — остановился за его спиной Иван Тылзин.
— Так, заглянул… Поинтересоваться, как соседи работают, — почти не соврал Усачев.
Тылзин показал оттопыренный от кулака большой палец.
— Во! Жаль, от комплекса отказываются ребята. Ни в какую! А Витька Шугин у них последние дни в гору полез — не догонишь!
Сомнений не осталось — это был поединок. Это был удар, выпад, который можно парировать только таким же ударом.
Борис отошел, к окошку, напрягая память. За черным стеклом и своим сдвоенным отражением в нем умудрился увидеть пасеку. Старую осину с краю, оставленную на завтра. Даже пустое беличье гайно, разлохмаченное ветром, в развилке тяжелого сука.
Он постарался сообразить, с чего начинать утром, как должна упасть эта осина, чтобы стать не просто кубометрами, а ответным ударом. Упав, осина открывала другие осины, такие же суковатые, невыгодные для лесоруба. Как ты ими ударишь, Усачев? Ударь, попробуй!
Устало закрыл глаза, а когда открыл вновь — не стало ни пасеки, ни осины. Только оконное стекло и, словно заглядывающее из тьмы в барак, его собственное лицо, одна половина которого — от лампы — только угадывалась. Усачев вздохнул и подсел к Скрыгину, читавшему взятый у Фомы Ионыча учебник лесного дела.
— Вася! — он тронул товарища за рукав. — Понимаешь, неловко получается. Вместо того чтобы задавать тон — в хвосте мы с тобой, а? Успокоились, выходит, на ста двадцати процентах? Люди по сто семьдесят шпарят. Передовики! — не потаил он иронии.
Ее не услышал Тылзин.
— Верно, Борис! Надо бы Доску почета, что ли. Вроде и с пьянкой у них стало поспокойнее, а на работе совсем молодцы…
— Не все, Иван Яковлевич! — вмешался Сухоручков. — Шугинское звено — да, нажимает. А те двое, что на четвертой пасеке сейчас, больше у огонька. Мы, говорят, любители костра и солнца. Эти — Воронкин и как его… татарин…
— Ангуразов, — напомнил Скрыгин.
— Ну да. Только-только норму дают…
Тылзин не то вздохнул, не то просто с шумом выдохнул воздух.
— Не договориться ведь с Шугиным, чтобы и этих подтянул. Бесполезное дело.
— Ладно хоть сам тянется, — решил Сухоручков.
А Коньков вспомнил:
— Рубаху нонесь купил в Сашкове.
— И шапку кожаную, треух, — добавил Сухоручков. — Только он в лес ее не надевает.
— Были в сельпо такие в то воскресенье, точно, — явно завидуя, опять вмешался Коньков, — сто восемьдесят три рубля. Черный да коричневый верх…
— Не в цене дело. Прежде у них до копейки на водку шли деньги. Как в прорву…
— Может, еще и выйдет из ребят толк. Еще молодые… — задумчиво проговорил Тылзин, ни к кому не обращаясь, но все — каждый по-своему — задумались о судьбах соседей.
Скрыгин и Усачев вернулись к прерванному разговору. Василий, заложив пальцем книгу, свободной рукой достал папиросы, вытащил одну и попросил напарника:
— Дай спичку… Они, Борька, знаешь сколько пил иступили? Тезка мой — Васька Ганько — рассказывал, что в заключении только на повале и работали. Как ни говори, опыт.
— У них опыт, а у нас трудовой подъем быть должен…
— Чего ты меня агитируешь, чудак? Я бы по две нормы выполнять рад, да сам знаешь… пока что у нас не получалось.
— Может, придумаем что-нибудь? В смысле пересмотра технологии…
— Технология — она несложная, Боря. У всех она одинакова? почти. Тут в другом дело… в сноровке. Я позавчера за бензином ходил, бочка как раз против шугинской пасеки. Видел, как Ганько сучья рубит! Класс, что говорить! А Иван Яковлевич? Тоже.
— Значит, академию надо кончать?
— Академию не академию, а вот, — Скрыгин хлопнул ладонью по обложке учебника, — это не мешает.
— Надо заглянуть будет, — перебросил несколько страниц Усачев. — Но, в общем, давай с завтрашнего дня увеличивать темпы, Вася!
— Всегда — за! Я свое обеспечу. Пила одна, валка с корня все решает. Неразделанного леса еще не бросали, сам знаешь.
— Лишней работы у нае много, — вздыхая, сказал Усачев. — То завесим дерево, то между пней упадет — вываживай его оттуда…
— Это и называется: мало практики.
Борис даже не стал спорить.
С какой-то злонамеренной скоростью помчалось время. Казалось, день только-только начался, еще многое намечали сделать, а уже — обед! Полдень!
Перекусывали на ходу, наспех.
И опять начинали догонять ускользающие часы. Забытые ватники заносило снегом, работали в гимнастерках. Оба научились довольно точно на глаз определять кубатуру сваленного леса. Прикинув, что с корня уронено достаточно, Борис брался за топор — рубил толстые упрямые сучья. Скрыгин начинал жечь их. Проклятую осину, не желавшую гореть даже в печках, на костре и вовсе не брал огонь. Каждый сук приходилось перерубать на несколько частей, чтобы уложить плотнее. Добро, если хоть изредка попадались хвойные породы, тогда можно бросать осинник в готовый нагоревший жар. Но когда надо было поджигать кострища, сложенные из одних осиновых сучьев, даже не терпящий ругательств Скрыгин начинал материться.
Борис не выдерживал, ему думалось, что напарник недостаточно проворен.
— Васька! Иди поруби! — бросал он ему топор, а сам шел к костру.
У него получалось еще хуже. Тоже матерясь, размазывая по вспотевшему лицу сажу, звал Василия:
— Иди, не могу…
Он злился на себя и на товарища, удивлялся, что у других окаянные сучья горят. Горят ведь!
Они и у них сгорали в конце концов, но сколько времени уходило на это! По скольку раз огонь выедал тоненькие веточки и умирал, оставляя нетронутыми закопченные толстые сучья! Кострище становилось похожим на обгорелый скелет неведомого огромного зверя с зияющей между ребрами пустотой. Все начиналось сызнова.
Опять Скрыгин искал сушину, распускал ее на поленья. Разводил костерок, потом костер. Укладывал на него сырые осиновые сучья, боясь, что огонь снова откажется от них.
Пожалуй, это было наиболее трудным для них — жечь сучья!
Костры догорают или все еще не хотят разгораться, а бегучее время торопит с раскаткой накрещенных друг на друга бревен. Надо успеть окучить их — уложить в штабельки, чтобы сподручнее было наваливать на сани. А на пути к волоку встают пни, словно нарочно мешающие раскатке. Точно кто-то специально высовывает их из-под снега…
Оба приходили с работы разбитыми. Борис еще и злым вдобавок. Он реже брился, забывал стирать подворотнички. Только по-прежнему не забывал баяна.
Но теперь он почти не играл веселых песен. Баян гневался, тосковал, жаловался на что-то.
А баянист, сцепив челюсти, приникая к мехам внимательным ухом, слушал его жалобы.
Он не жаловался.
Не таков, чтобы жаловаться, нет!
В воскресенье случилось небывалое.
Накануне топили баню. С утра, как повелось издавна, занялись «бабьими» делами. Пришивали пуговицы, латали неоднократно прожженные за неделю спецовки, рукавицы. Кому не стирали белье в Чарыни, тот пользовался остатками теплой воды в бане и стирал сам.
Со всеми этими делами управились часам к одиннадцати. Началось приготовление обеда, что у мужчин отнимает уйму времени. В будние дни тут выручала Настя, никогда не отказывавшая в помощи: подогревала, варила или доваривала к возвращению с работы. В субботу и воскресенье ее стеснялись затруднять, скажет еще; надо совесть иметь! И действительно, надо!..
Но вот закурена сладкая послеобеденная папироса, прибрана нехитрая посуда.
Николай Николаевич Сухоручков опрокинул на стол ящичек с костяшками, повел по сторонам глазами: как отнесутся к этому всегдашние партнеры?
Развалившемуся на койке Тылзину не хотелось менять положение.
— Успеешь еще побывать в козлах, — сказал он. — Не торопись. Борис вроде за баян взяться хочет…
Это была просьба, и Усачев услышал ее. Усмехнувшись, — хитер, мол, Иван Яковлевич! — бережно вынул из футляра баян.
— Только не заупокойное чего! — попросил Коньков. — Воскресенье, такой день. Красным в численнике пишется. Христос воскрес, значит.
Сухоручков, знаток церковных праздников, закрутил головой:
— Ни дьявола ты не понимаешь, Никанор! Он же на муки воскрес… хотя, тьфу! Верно ведь, после мук… Все равно, Борис, не слушай Конькова. Давай что-нибудь задушевное, вроде «Лучинушки»…
Но Усачев, усмехаясь, трижды проиграл гамму, любуясь быстро бегающими своими пальцами. Только после того, изменив позу на менее строгую, начал вальс и сам стал тихонечко подпевать баяну:
Положив локти на стол, Сухоручков ткнулся в ладони подбородком.
Это неожиданно вплелся чистый, приятный тенорок Василия Скрыгина, хваставшего, что был взводным запевалой. Борис дождался перехода, кивком головы предупредил певца.
Коньков в такт мелодии покачивался всем корпусом, положив на колени кисти больших рук с желтыми от махорки пальцами.
— Эта в самый раз, — сказал он, когда и баян и певец замолчали. — Хотя тоскливая, но не так…
Договорить ему не пришлось — в дверь негромко, но настойчиво постучали. Усачев удивленно приподнял брови, Иван Яковлевич взглядом показал ему на стену — соседи, кто же еще! — и крикнул:
— Давайте, давайте, ребята, чего там!.. — и вдруг стремительно махнул ногами в белых шерстяных носках, чтобы быстрее подняться. Уселся, заелозил ладонями по одеялу, расправляя его.
В дверях, с вороватым любопытством оглядывая помещение, стояли три незнакомые девушки. Они переминались, давясь смехом, каждая норовила спрятаться за подруг. Наконец та, что оказалась впереди, набралась решимости заговорить:
— Здравствуйте… Мы к вам в гости. Не выгоните?
— Все равно не уйдем, — постращала из-за ее плеча другая и фыркнула в ладонь.
Скрыгин в великом смущении перебирал подол не заправленной в брюки рубашки. Тылзин, кося глазом, ловил ногой ускользающий полуботинок: Сухоручков пятерней приглаживал волосы. Только Усачев с Коньковым нисколько не потерялись.
Коньков продолжал сидеть, не изменив позы, разве что перестал раскачиваться. А Борис, положив баян на скамью, поднялся навстречу гостям:
— Здравия желаю, девушки! Проходите, проходите, чего же вы в дверях стали?
— Спасибо, пройдем! — отозвалась заговорившая первой. — Снегу бы не нанести. У вас и голичка нет катанки обмахнуть…
Продолжая держаться стайкой, сделали несколько шагов от порога, приостановились.
— У нас не холодно, — глядя на их припудренные снегом пальто, сказал Тылзин.
— Раздевайтесь, садитесь, — поддержал Усачев.
Скрыгин, успевший надеть поверх белой рубашки гимнастерку, двигал к столу скамейку.
— А Фома Ионыч разве не здесь живет? — поинтересовалась та, что грозилась не уходить, — черноглазая, с чуть припухлой верхней губой, что придавало лицу капризное выражение. — Мы думали, подружка тут, Настя.
— А мы думали, что вы к нам пришли! Обрадовались… — всплеснул руками Борис, изображая огорчение.
Заговорившая первой освобождалась от пушистого белого платка, концы которого были связаны сзади, на шее. Ее зарумянившееся от мороза или преодолеваемого смущения лицо казалось совершенно круглым. Сбросив платок, тряхнула светлыми волосами. Открывшийся лоб отнял у личика круглоту. Девушка поискала глазами, куда повесить пальто, и призналась:
— Мы к вам и пришли. Баян послушать. А Насте надо одно дело сказать.
— Настю мы сейчас вам добудем, — Сухоручков прошел к смежной прирубу стене. Постучал костяшками пальцев. — Настя! Настюха! Девки тебя спрашивают…
Та не заставила долго ждать. Девушки уселись рядком на скамейке, повели разговор о сашковских новостях.
Киномеханик и завклубом Виктор Осокин отремонтировал аппаратуру, уже показал две новые картины, страсть до чего интересные: «Дело Румянцева» и «Разные судьбы». Стешка Попова выходит замуж за совхозного агронома. Ну да, за этого, в очках. Председательшу вызывали в район, вернулась сердитая — видать, не похвалили… Сережка Струнников, что на целину уехал, письмо прислал. Не домой, а ребятам… Хвастается, известное дело…
Разговор был уступкой правилам вежливости. Ясно, что не ради этого разговора пробежали девчонки тринадцать километров.
Лучше всех понимал это Борис Усачев, встречавшийся время от времени с любопытствующим взглядом черных или серых глаз. Взгляды бросались исподтишка, полуопущенным ресницам надлежало подчеркивать тайность взглядов и украшать их.
Девушки, как на подбор хорошенькие, сознавали приятную неожиданность своего появления здесь. Внимание, которым окружили их мужчины, по праву принадлежало им. Но следовало показать, что и по праву принадлежащее внимание якобы не интересует нисколько, показать именно так, чтобы разгадали это самое «якобы»…
Наконец они соблаговолили вспомнить об окружающих. Самая бойкая, оказавшаяся знаменитой по всему району плясуньей Наташей Игнатовой, уже не исподтишка оглянула помещение.
— А у вас ничего тут. И обои славненькие, правда, Тося? — толкнула она локтем подружку, девушку с капризным лицом.
Та согласилась, тоже предварительно посмотрев вокруг, по разглядывала не обои, а не по-мужски умело заправленные койки, не покрытые ничем тумбочки, убогую посуду на плите:
— Славненькие, ага!
— Плохо, что керосин… — кивнула на лампу третья.
Настя, чувствуя себя в какой-то мере хозяйкой, решила обойтись без вступлений:
— Вы сыграли бы что-нибудь, Борис!
— Верно, сыграйте!
— Ох, я к баяну прямо совершенно неравнодушная! — вздохнув, подняла к потолку глаза Тося.
— А что бы вы хотели? — щедро спросил ее Борис, устанавливая на коленях инструмент.
— Что-нибудь классическое…
— Все, что вам угодно…
— Ой, тогда «Рябинушку»! Ладно?
Борис картинно склонил голову, принимая просьбу. Словно проверяя готовность инструмента, пробежал ловкими пальцами по ладам. Потом вздернул подбородок, отчего светлые, чуть волнистые волосы легли пышнее. Начав со вступительного проигрыша, дал волю баяну.
Девушки переглянулись и, подождав начала следующего куплета, довольно согласно и стройно подхватили сначала мелодию — не разжимая губ, а со второй строчки — слова песни. К ним присоединился Скрыгин, потом Сухоручков.
Высокие, чистые девичьи голоса внесли в помещение праздничность, нарядность. Захваченный этим чувством Тылзин торопливо скользнул за дверь, а через несколько минут вернулся со второй пятнадцатилинейной лампой, взятой у Фомы Ионыча. Потом поманил пальцем Конькова, и они, на цыпочках, стали освобождать середину комнаты. Лишние табуретки, бесстыдно задирая ноги и показывая некрашеные животы, нашли места на койках. Стол решили вынести в сени. В дверях он уперся, брякнул отвалившейся столешницей. Тылзин болезненно сморщился.
— Здравствуйте, — негромко и очень обыденно раздалось с порога.
Вразнобой ответили таким же «здравствуйте», ответили машинально, не думая — в этот день все, кроме гостей, виделись с этим человеком. Но в первое мгновение никто не узнал Виктора Шугина. Только Настя широко раскрыла глаза и хотела сказать что-то, но, смутясь, закусила губу.
На пороге, засунув руки в карманы, с папиросой во рту, стоял ладный, плечистый парень в светло-сером костюме. Расстегнутый ворот шелковой белой рубашки усиливал синеву татуировки на груди.
На него смотрели все, кроме Усачева. Хозяева — удивленно, растерянно, гости — оценивая, сравнивая с другими. Борис Усачев, понимая, что нечто ему принадлежащее перепадает на долю другого, отнимается, воруется этим другим, заставил себя смотреть в сторону. Пусть бы Скрыгин, пусть бы кто угодно! Только не этот! Он не хотел убеждаться в праве Шугина на долю интереса девушек. И понимал, что Шугин не пришел бы, не имея такого права.
Молчание нарушил Тылзин.
— Ну вот! — сказал он, радостно потирая руки. — Еще гость. Ты чего один?
Вопрос был никчемным, лишним. Иван Яковлевич знал, почему один, но как-то уж так спросилось. Оттого, наверное, что Шугин всегда мыслился вместе с остальными. Нераздельным.
— Девчат боятся, — громко ответил на вопрос Шугин. — С детства. Мамки еще напугали.
Словно не гостем, а хозяином был здесь, громко поскрипывая новыми полуботинками, он прошел через комнату, облюбовав место поближе к девушкам.
— А вы смелый? — рассчитывая смутить, спросила Наташа.
Выдержав ее взгляд и нарочно помедлив, он улыбнутся:
— Побаиваюсь, но не очень. Меня девушки не трогают, обходят… У меня трава есть такая… отворотная…
Он значительно взглянул на Настю, а Наташа через плечо сказала Тосе:
— Не попадал на сашковских. На наших трава не действует.
Борис, о чем-то тихо говоривший со Скрытным, заиграл вальс.
— Пойдемте? — приподнимаясь, спросил Виктор соседку.
Та опустила ресницы.
— Вы хоть бы познакомились сначала…
— Виноват. Виктор.
— Наташа, — она встала, положила руку ему на плечо.
— Не Игнатова? — вступая в музыку, спросил он.
— А вы откуда такую знаете?
— Настя рассказывала…
— Врала чего-нибудь!
— Говорила, что пляшете хорошо.
— Мало ли что говорят… Вы не слушайте…
Виктор иронически усмехнулся, а разговором воспользовался, чтобы поискать взглядом Настю. После достопамятной встречи на крыльце парень непрестанно думал о ней, только она интересовала и сейчас. Пусть смотрит, какой в самом деле Виктор Шугин! Поведение Наташи Игнатовой говорит кой о чем, наверное?
Настя кружилась с Тосей и, как нарочно, не смотрела в его сторону. Скрыгин танцевал с молчаливой девушкой, которую звали Аней. Недовольный беспокойным вечером Коньков перекладывал табуретки со своей койки на скрыгинскую. Тылзин и Сухоручков переговаривались вполголоса:
— Вот тебе и блатяк! Видал, брат?
— Вроде другой совсем человек… Ты скажи!
Вальс кончился.
Виктор и Наташа Игнатова опять заняли места рядом. Тося оказалась соседкой Усачева. Настя, Аня и Скрыгин присели на койку Ивана Яковлевича.
— Слоем? — спросил Сухоручков.
— Лучше потанцуем, — сказала Наташа.
Краем глаза Борис Усачев увидел, что, говоря это, самая хорошенькая девушка как бы просила союза не у него, баяниста, а у Шугина. И еще успел рассмотреть костюм — тот самый, про который продавщица в сельпо сказала насмешливо ему, Усачеву: «Не по деньгам!» Шугину он оказался по деньгам! Это окончательно испортило настроение. На умильное щебетанье Тоси: «Вы, наверное, и по нотам играть можете? Как артисты? До чего трудно, поди, эти разные закорючки понимать?» — ответил только снисходительной усмешкой.
В пику Наташе заиграл не танец, а «Шотландскую застольную», слов которой никто не знал, да и музыку сам он помнил плохо.
Слушали невнимательно. Переговаривались полушепотом, чтобы не обижать баяниста, — Наташа с Шугиным, играя карими глазами, а Настя и Аня убеждали в чем-то Ваську Скрыгина. Видимо, уговорили легко.
Едва дав закончить, на правах приятеля и напарника, он объявил:
— Девушки танцевать хотят, Боря! Давай полечку!
Борис мотнул головой.
— Подожди, закурю.
Польку танцевали теми же парами, что и вальс. Усаживаясь после танца на старое место, запыхавшаяся Тося посожалела:
— Жалко, что вы один только играете. Настя за кавалера не умеет, а я люблю, когда меня водят…
Взгляни Настя хоть один раз на Виктора, он с удовольствием освободил бы Тосю от ее кавалерства. Пусть танцует с кем хочет и как хочет. А Виктор стал бы танцевать с Настей. Но та словно не замечала его.
— Девчонки, чаю хотите? — спросила она гостей.
— С ума сошла, — отмахнулась Наташа Игнатова. — Мы за делом шли, не чай пить. Тебе хорошо, ты дома, а нам еще тринадцать километров переть. Вот станцуем еще один танец и побежим… Да, девки?
— Верно, девочки, уже поздно! — забеспокоилась Аня.
— Конечно, дорога не маленькая! — пошевелился у себя на койке Коньков, начавший дремать сидя.
Тылзин на него напустился:
— Своим аршином не мерь, Никанор! Молодежь, не мы, старики. Им все дороги короткие… Успеют домой, не бойся!
— Что вы, долго нельзя… Еще один вальс, да, девочки?
— Может, падекатр, Наташа?
— А может, спляшете?
Это предложил Шугин, и девушки подхватили предложение, затормошили подругу:
— Верно, Наташка! Русского!
— Гопака, Наташка, гопака!.. Эх! — даже тихая Аня лихо хлопала в ладоши.
— А «Цыганочку» можете? — спросил Виктор.
— Могу… Только ее не пляшут теперь… — Наташа, тряхнув рассыпающимися волосами, пояснила с профессиональной небрежностью: — Как-то сошла со сцены… Да ну вас! В катанках я, что ли, плясать буду?
Ей, видимо, самой хотелось сплясать, блеснуть мастерством. Вспомнив, что обувь не подходит для пляски, она сердито, словно это были живые существа, посмотрела на свои валенки.
Все обескураженно примолкли. Вдруг Настя обрадованно блеснула глазами.
— У тебя какой номер? — поинтересовалась она, глядя на валенки Наташи.
— Тридцать шестой.
Настя стремглав юркнула в двери и, прежде чем рассеялось угнетающее чувство неудачи, вернулась:
— Меряй. Они легонькие, не думай…
Принесенные ею сапожки в самом деле были аккуратными, легкими. Наташа стряхнула с ноги валенок. Придерживаясь за плечо Шугина, натянула сапог, постучала переобутой ногой об пол.
— В подъеме чуть тесновато… — И повернулась к Тосе: — Вспомнить, что ли, «Цыганочку»? Ага?..
Шугин перехватил мимолетный, из-под ресниц брошенный в его сторону взгляд и кивнул баянисту:
— «Цыганочку»!.. С выходом!..
Борис до боли прикусил губу.
Скажи это не Шугин, он улыбнулся бы только, рука сама нашла бы нужный аккорд. Но сказал именно Шугин. Ему. Усачеву. Сказал, как говорят мальчишкам: подай, сбегай! Даже не трудясь посмотреть, делают ли, бегут ли!
Борис Усачев молчал, вцепившись в баян, пальцы его побелели от натуги. С каким удовольствием запустил бы им в голову Виктора Шугина!
Ударить?
Презрительно послать к черту?
Убегали стремительные мгновения. Все ждали. Шугин. Улыбающаяся Наташа Игнатова. Остальные девушки. Скрыгин, Тылзин и Сухоручков. Ждали музыки, не подозревая, почему мгновения убегают. Для них шугинские слова были только обычным заказом баянисту. И только.
Борис Усачев с трудом привел в движение пальцы, потянул мехи. Плавно разведя руками, Наташа шагнула вперед, звонко притопнула.
Баян начал чеканить такты «выхода». Покачивая бедрами, поплыла по невидимому кругу танцовщица. Выплыла на середину, ударом подметки отрубила, отрезала что-то: все, хватит!
И замерла, ожидая, раскинув руки.
Подталкивая куда-то, убыстряя темп, снова заговорил баян:
Пристукивая каблуками, двинулась плясунья. Прошла круг. Отбила концовку, гордо вскинула голову. Ждет: ну? Ну же!
И тогда, словно это его ждали, каждым движением своим, каждым взмахом руки угадывая в лад музыке, навстречу вышел Виктор Шугин. Грохнул подметками, ладонями прошелся по груди, коленям, выстрелил о ладонь ладонью.
Наташа удивленно вскинула брови. Подчиняясь баяну, легко, плавно понеслась вокруг неожиданного партнера.
И началось!
Подступая друг к другу, расходясь, он словно угрожая, настаивая на чем-то, она ускользая и околдовывая, танцоры то начинали частить, то, неожиданно обрывая дробную россыпь, печатали твердые, отрывистые удары. Правая кисть баяниста временами казалась неподвижной — так быстро прыгали по ладам пальцы.
Ритмично, хлестко стреляли ладони образовавших круг зрителей в комнате и тех, что, не замеченные сначала, столпились в распахнутой настежь двери.
Последний аккорд…
Заключительное, только грохотом подметок рвущее тишину, колено пляски…
Победно улыбалась Наташа. Шугин закуривал папиросу. Борис Усачев сосредоточенно укладывал в футляр баян.
— Вот уж не думала, что лужнинские плясать могут! — с игривым удивлением покачала головой Наташа, поднимая руки к прическе — поправить растрепанные волосы. — В самодеятельности учились?
У Шугина потемнели глаза, нервно дернулся уголок губ.
— Да, — бросил он коротко и, невежливо повернув спину, сутулясь, пошел к своим, скромно толкущимся в сенях.
Наташа не заметила перемены в настроении партнера. Ее внимание отвлекли девушки, окружившие в дальнем углу комнаты Бориса Усачева. Забыв о Викторе, она метнулась к подругам.
Иван Яковлевич Тылзин вышел следом за Шугиным.
В сенях, сторонясь падавшего из раскрытой двери косого четырехугольника света, толпились соседи. Разгорались и меркли огоньки папирос.
— Вам что, через порог ноги не перенести? Вроде ведь невысокий?.. — укоризненно спросил он, прикуривая у Ганько, которого не сразу признал в полутьме. — Девкам танцевать не с кем, а вы тут без дела околачиваетесь… Молодежь!..
— У нас галстуки в чемоданах, доставать долго, — невесело усмехаясь, Ганько развел и опять запахнул полы ватника, — а костюмы отпарить некогда.
— Не в талию, — в тон ему, только с нескрываемым озлоблением, буркнул Костя Воронкин.
Тылзин соболезнующе вздохнул, постукиванием указательного пальца стряхнул с папиросы пепел.
— Да… это верно… в Чарыни костюмов не бывает, а в Сашково далековато…
— Вся и беда, что идти далеко! — откровенной издевкой прервал нехитрую дипломатию Ивана Яковлевича Стуколкин. — А еще боимся, что пиджаки будут жать в коленках.
По светлому пятну на полу заструились тени — из комнаты выходили девушки. Видя людей, но не различая лиц, говорили безотносительно:
— До свиданья!
— Спокойной ночи!
Только Наташа Игнатова громче других приказала:
— Значит, до воскресенья, Виктор! Слышите?
— Слышу, — буркнул Шугин.
Тылзин гневно посмотрел на парней, забыв, что никто не увидит его гнева. Крикнул вдогонку уходящим гостям:
— Девки, вы куда одни? Ребята проводят, подождите…
— Сами дойдем, не маленькие! — весело отозвалась Аня.
Наташа рассмеялась:
— Ладно уж! Нам — сюда за делом, обратно — домой. А парням впустую ноги ломать.
А за дверью, на улице, запела Тося, и остальные подхватили:
Частушка рассыпалась смехом, по-особенному звонким на морозе.
— Ну, девки! — восторженно сказал Тылзин и многозначительно повернулся к лесорубам: — В воскресенье опять придут, слыхали? Невесты сами набиваются, а вы? Эх!
Бросив папиросу, задавив ногой ее огонек, он пошел в комнату. Дверь закрылась, в сенях стало вовсе темно.
— Та, что плясала с Витьком, правильная деваха! — завистливо сказал Воронкин.
— Остальные — тоже ничтяк, не скажи. Есть что подержать в руках, — пошевелил Ганько растопыренными пальцами.
— Идем спать, Закир, — хмуро позвал своего молчаливого товарища Воронкин.
Подождав, пока закроется за ними дверь, Ганько равнодушным голосом спросил у Стуколкина:
— У тебя гроши есть, Никола?
Тот помолчал, а Ганько представил себе насмешливый взгляд, каким посмотрел бы на него Стуколкин при свете.
— Пара кусков есть. Было четыре, две тыщи Витьку отдал…
— Мне дашь тыщу? С двух получек отдам…
— О чем разговор? Бери… Ты же проигрывал.
День, выбранный Антоном Александровичем Латышевым для очередной поездки на Лужню, радовал бодрящим небольшим морозцем и не по-зимнему щедрым светом. Еще в кабинете директора леспромхоза, ожидая, пока запрягут коня, он пожалел, что не взял противосолнечных очков.
— Электрик пусть сразу же обратно, — сказал директор, бросая на рычаг телефонную трубку. — Нечего ему там зря болтаться. Подумаешь, двадцать метров провода навесить!
— Побольше, Михаил Захарович! — поправил Латышев. — На конном дворе и в бане тоже свет нужен.
— Эк там далеко до бани и кондвора!
— Все же…
— Ну, там увидишь. И, как договорились, на самообслуживание. Движок запустить — хитрость не велика.
— Справятся. Там шофер один есть, из демобилизованных.
В стекло глухо постучали одетой в рукавицу рукой.
— Я поехал! — сказал Латышев.
— Счастливо. Посмотри, как там эти головорезы… Может, разбежались уже?
— Поближе бы их куда-нибудь, Михаил Захарович! На глаза!
— Ближе — механизация, постоянные кадры. Двадцать раз говорили…
Антон Александрович молча вышел из кабинета. Разговор испортил ему настроение.
В санях было тесно: движок, генератор да он с электриком. Добро еще, что бензин раньше догадались забросить. Зато коня впрягли — не дай бог по городу ездить. Заслышав автомашину, сворачивай на панель и висни на поводе. Иначе разнесет.
Но из города выбрались благополучно.
Накатанная лесовозами дорога вначале текла ровно, потом стала нырять в разложины. На спусках приходилось сдерживать коня, а на подъемах — слезать, идти рядом с санями. Яркий солнечный свет заставлял щуриться, от этого уставали глаза. Уже несколько раз Латышев сворачивал с дороги, загоняя коня по брюхо в снег, и с трудом удерживал его за поводья — пропускал тяжелые ЗИЛы с прицепами, груженные бревнами.
— Черт, — сказал он электрику, — надо было до Сашкова машиной ехать или до Вижни хотя бы. А уже оттуда гужом.
— Поздно догадались! — усмехнулся электрик.
Латышев посмотрел на него искоса.
— Не в том дело. Машины либо в разгоне, либо на трассе — лес возят. Да и не уместились бы на лесовозе, а кузовную машину директор раньше послезавтра не обещал.
— Тогда зачем говорить: машиной надо?
Антон Александрович не ответил. Не признаешься же, что брюзжишь от скверного настроения. А хорошему быть откуда? Проявляем заботу об оступившихся — электричество им проводим. Чтобы светлее на правильную дорогу выходить! Прав старый Фома Ионыч — разговоров много, а на деле…
— Как там блатяки-то поживают, Антон Александрович? — как нарочно, напомнил электрик.
Латышева прорвало.
— Как, как!.. Знаешь, как на дальних участках живут холостяки?
— Закладывают? — Электрик щелкнул себя по кадыку.
— Живут как хотят!
— Так это везде, Антон Александрович. Возьмут на поруки, перевоспитывать, мол, будем. Модно. А он через месяц-другой за расчетом идет. Как не дашь? Дают! Ну и пошел себе. О нем и забыли…
— А на Лужне и забывать некому было, хоть и не рассчитывались пока! Да и теперь… черт, машина идет! Вороти, вороти вправо!
Ночевали в Сашкове, в конторе совхоза.
На Лужню приехали около девяти утра. Оставив электрика распрягать коня, Латышев пешком тронулся к лесосеке. Думал — подъедет на порожняке, но сани попадались только навстречу, груженые.
— Где мастер? — спросил он на ближней пасеке.
— Должно, уехал на берег.
— Не встречал, — усомнился Латышев, а потом вспомнил, что Фома Ионыч мог проскочить с самыми первыми возами, покамест он с электриком крутились на конном дворе.
Пошел по пасекам.
На третьей работал Тылзин. Возчиков его бригады инженер видел дорогой. Везли кубометров по пяти, благо ледянка в хорошем состоянии.
— Как дела, Иван Яковлевич?
— Привет, Антон Александрович. Дела — сколько свалишь, столько и стрелюешь. Как всегда!.. Да-а, дела, брат, на большой, — вспомнил он вдруг и полез, по пояс проваливаясь в снегу, к волоку. — Такие дела, Антон Александрович! Соседи-то у нас…
— Что? — испугался Латышев.
— Как что? Прямо не узнать ребят. Шугин такой костюм отхватил — закачаешься! Позавчера Ганько вечером заходит — тоже в костюме, джемпер на нем шерстяной. К Ваське Скрыгину — вроде лезвие для безопаски понадобилось. Надо основой похвастать, сам понимаешь! И вроде с пьянкой потише стало. Правда, и денежки повышли, наверное…
— Радуешь, Иван Яковлевич!
— А все знаешь кто? Борька Усачев! Тут — баян, тут — девки прибегать стали. Ну, и не хочется хуже-то других быть! У нас-то ребята — что Борис, что Васька — любят, чтобы и сапоги почистить, и гимнастерочку — под ремень…
Разыскивать Фому Ионыча Латышев отправился повеселевшим.
«Великое дело — пример, — думал он. — Жили люди, сами на себя смотрели — одинаковые, как бревна в штабеле (на глаза попался штабелек окученных для погрузки на сани бревен). Появились другне. Здоровые духом, думающие, видящие свою дорогу. Неравнодушные к чужим судьбам. Молодые не бывают равнодушными. И вот, пожалуйста — за ними потянулись, захотели стать похожими на них. Какая — пусть самая задушевная — беседа, какое подталкивание могут сравниться с устремлением самого человека? Опять прав Фома Ионыч: душу надо задеть! Задел Усачев душу, сумел понравиться — результаты налицо!
— Антон Александрович! Эй, Антон Александрович! — с подсанок раскатившегося на повороте порожняка неловко соскочил мастер. Выковырнув набившийся в голенище валенка снег, чертыхаясь, захромал навстречу.
— На пень угадал, скажи ты! — пожаловался он. — Не разглядел сослепу. Давненько ты не был!
— Свет вам привез наконец, — похвастал Латышев, стаскивая рукавицу. — Здравствуй, Фома Ионыч! Ну, как тут у тебя?
— Видишь: пилят, возят.
— И пилить и возить можно по-всякому.
— Рубль — он, Антон Александрович, заставит шевелиться, не бойсь!
— Плохо, если только рубль. Надо, чтобы еще и другая заинтересованность была…
— Вчера — сто сорок процентов по участку.
— Проценты — это не показатель, лучше моего знаешь. Ледяночку полить, снежок раскидать. Так они и набегают, процентики. Комплексным методом только Тылзин да Фирсанов работают? Две бригады?
— Две…
— А людей на участке?
— Да чего ты ко мне привяз? Мое дело — отведи пасеку да наряд заполни. Мне с комплексом мороки куда бы меньше…
— Вот и внедряй.
— Как ты внедришь, ежели не хотят?
— Слушай, Фома Ионыч! Не сидеть же все время мне или Аксентьеву у тебя на участке! Нельзя так! Ты все время с людьми, тебе же проще. Убеждать надо. Примеры перед глазами — Фирсанов и Тылзин.
— Люди людям рознь, Антон Александрович! У Ивана ребята один к одному подобрались, да и у Фирсанова — все деревенские, с мальчишек вместе. А пришлый народ как думает? „Я-де ломать буду, а ты полегоньку… шут тебя знает, какой твой характер?“ Вот и работают парами, чтобы одному другого с глаз не терять…
Рассуждения мастера снова заставили Латышева помрачнеть. В словах, которыми тот излагал взгляды рабочих, слышалась солидарность с ними. Черт, до чего крепко сидит старое даже в таких, как Фома Ионыч! Молодежи — Усачеву, Скрыгину — надо браться за организацию производства, вот кому…
— А я думаю, найдутся желающие работать комплексом. Если поискать…
— Поищи.
— Поищу. Тебе же неловко будет, если найду. Ладно, ты вот что скажи… Солдаты мои как действуют? Усачев и Скрыгин?
— Добрые ребята. Спервоначалу один в панику: лес пилить — не на гармошке играть. Пришлось мне схитрить маленько, чтобы, значит, не шибко робел парень…
— То есть? — поднял брови инженер.
Фома Ионыч ответил небрежным жестом — не стоит-де уточнять, ерунда, мелочь.
— Ну… в общем, пообвыкли теперь. Стало ладиться… Лес, правда, подходящий сейчас.
— Они на которой у тебя?
— На шестой.
— Давай-ка зайдем к ним.
По ледянке — опять навстречу — споро двигались возы. Возчики восседали на бревнах, лениво, по привычке покрикивая на коней.
— Так и катаются? — спросил Латышев.
Фома Ионыч усмехнулся:
— А что? Дорога наскрозь добрая. — Латышев покачал головой, но не возразил. Зато поинтересовался у одного из возчиков:
— Прямо из-под пилы берете?
— Бывает.
— Как сигнализируете о прибытии, чтобы деревом не накрыло?
— Известно как! Ну, кричим…
— А если вальщик за шумом мотора не слышит? Тогда что?
Возчик пожал плечами: чего ерунду спрашивает человек? Ведь и не кричат даже, это он так сказал, для порядку. Просто у возчика есть глаза, видит, куда едет.
Многозначительно посмотрев на мастера, Латышев зашагал дальше.
На шестой пасеке шел повал. Инженера и мастера заметил Скрыгин, замахал руками:
— Стойте!
Они подождали, пока упадет дерево. Сосна, у комля которой согнулся Усачев, внезапно дрогнула, с веток заскользил снег. Медленно накренилась, поворачивая крону, и, обламывая свои ветки и ветки соседок, с тупым шумом брякнулась в снег.
— Хорош лес! — сказал Фома Ионыч. — Эвон, и рубить нечего, считай. Чуть не весь хлыст нагишом без сучьев.
— Здравия желаю! — выпрямляясь, приветствовал их Усачев.
Инженер протянул руку. Усачев показал свою перепачканную в машинном масле ладонь, тот усмехнулся.
— Ничего, отмоется! Говорят, товарищ Усачев, вас надо поздравить с победой на культурно-воспитательном фронте?
Парень, недоумевая, молчал.
— Ладно, не скромничайте! Перед директором поставлю вопрос о премировании, хотя понимаю, что не о премии думал. Молодец. Ну… не сдавайте занятых, позиций, как говорится.
К ним подходил Скрыгин, — разговор следовало продолжить при нем. Латышев смотрел, как ловко прыгает с бревна на бревно лесоруб, и мучился сознанием мертвой казенности только что сказанных слов. Стандарт какой-то! Привыкли считать, будто для подобных высказываний должны быть определенные слова, фразы. Кажется, этими проще и сразу ясно, о чем. Короче. Да и не сразу найдешь живые… Победа на культурно-воспитательном фронте, как скажешь иначе?
— Здравствуйте, — подошел Скрыгин.
— Привет… Мы с мастером вот что хотели вам предложить… Застрельщиками культурного быта вы стали, — инженер про себя чертыхнулся, — надо выходить в застрельщики на производстве. Оба комсомольцы, агитировать вас ни к чему, я думаю? Так вот, еще одну бригаду малого комплекса хорошо бы организовать… Как смотрите на это, товарищи?
Скрыгин вопросительно посмотрел на своего напарника. Тот обтер ладони о ватник, полез за папиросами.
— Как, Борис?
Ответить не дал Фома Ионыч.
— По-моему, Антон Александрович, не торопиться бы ребятам, а? Комплекс — дело такое: сам встал и других поставил. А они — без году неделя в лесу. Недавно в норму стали укладываться…
— Давненько уже, мастер! — колюче сказал Усачев.
Фома Ионыч поперхнулся приготовленным словом — хотел что-то прибавить, но передумал. Пожал плечами. Заговорил Латышев, строго поглядывая на мастера.
— Я считаю, что недохватку опыта на первых порах восполнит энергия, вера в себя и людей… главное, в людей… — подчеркнул он. — Но в принципе мы договорились, Усачев? Так?
Тот усмехнулся в меру серьезности разговора:
— В армии приказы не обсуждаются…
— Э-э, нет! Я не приказываю — предлагаю, что вы!
— Пошутил, товарищ инженер! В общем, согласны, да, Васька?
— Ну что ж… Можно попробовать, если хочешь!
— Значит, решили! — обрадовался Латышев. — Ну, остальное будем уточнять потом. Пошли, Фома Ионыч? До свиданья, товарищи!
Лесорубы молча следили за начальством, покамест тех не вобрал в себя лес. Скрыгин вскинул на плечо топор, двинулся было к не очищенной от сучьев вершинке у края пасеки, но Борис удержал его вскользь уроненной фразой:
— Что в бригаде, что так — какая разница?
— Разница есть, Боря! Скажем, я работаю на трелевке. Ну и зашился! А кубики считаются только на нижнем складе, на берегу — комплекс! Пока туда не приедут — вроде и нету их. Понял? Вот и получится, что я тебя по карману ударю…
— Черт! — удивился Борис. — Я не задумывался как-то… Знаешь, когда чувствуешь себя вроде бы на чужом деле, не задумываешься…
— А соглашался зачем?
— Ну как ты откажешься? Слыхал ведь, что сказал инженер: комсомольцев, дескать, агитировать незачем, сами понимаете…
А инженер в это время старался подавить в себе раздражение, вызванное неуместным замечанием мастера. Выйдя на ледянку, он размел рукавицей снег на тяжелом клине для расчистки дороги, загнанном до времени в сугроб.
— Садись, Фома Ионыч! Не очень торопишься?
— Да нет…
— Понимаешь, плохо, что мы не верим в молодые кадры. Опыт, Фома Ионыч, всегда придет — было бы желание его приобретать… А желание — сам убедился — есть! Бывает, что не хватает уверенности в своих силах. Верно. Вот тут-то и следует помочь человеку поверить в себя, перевалить через рубеж. Подтолкнуть его добрым словом, вовремя сказанным. А ты — „не следует торопиться, без году неделя…“ Нельзя так! Ладно, надо будет подумать об укомплектовании бригады. Пожалуй, мне самому придется.
Фома Ионыч, не ко времени благодушно улыбаясь своим мыслям, раскуривал трубку.
„Стар, — подумал Латышев, — что ему до молодых? Конечно, о покое думать пора… Время, ничего не поделаешь…“
На обеих половинах барака ждали наступления вечера. Ждали все, но каждый старался, чтобы другие не заметили его ожидания. Как будто такой вечер и не в диковинку вовсе.
Никто вслух не вспоминал, что придут в гости девушки, — попробуй, скажи такое! Сразу попадешь под обстрел шуточек и перемигиваний! Вот если бы кто-нибудь из товарищей начал первым!
Тылзин, обычно не вылезавший из валенок, надел старенькие полуботинки. Повертев в руках ватные брюки, сказал с лицемерной скорбью:
— Вроде бы не должны рваться под брезентовыми штанами, а рвутся. Придется поковырять иголочкой…
И переоделся в суконные, предназначенные для походов в Сашково или Чарынь.
Считая, что к перемене белья после вчерашней субботней бани никто не может придраться, Сухоручков выбрал самую нарядную косоворотку — синюю с белыми пуговицами.
Даже Коньков, обычно брившийся почему-то по пятницам, долго ощупывал подбородок, вздыхал, хотя выскребать его лишний раз не решился.
Скрыгин и Усачев, как всегда в воскресенье, подшили чистые подворотнички.
На левой половине Костя Воронкин искоса поглядывал на принарядившихся Шугииа и Ганько. К удивлению сожителей, и Стуколкин извлек из-под матраца не новые, но добротные шевиотовые брюки, которых на нем не видели. Воронкин хмыкнул и сказал осуждающе:
— Молодчик! Притыривал, чтобы не проиграть?
— Я тебе еще не проигрывал, — отрезал тот. — И не играю на шмотки. Понял?
— Конечно, ты чистодел! Умеешь!.. — огрызнулся Воронкин фразой, которую можно толковать по-всякому.
— Костя, ты мои прохаря надень, если хочешь, — не вовремя сунулся с предложением своих сапог Ангуразов.
Воронкина передернуло, неожиданный удар попал в цель. Брызгаясь слюной, он заорал:
— Выспись ты со своими прохарями, сука! Костя Воронкин способен сам украсть или отнять. Я еще не чокнутый, — он повертел возле лба растопыренной ладонью, — из-за каких-то дешевок икру метать… Когда будет надо — найду тряпки, не бойтесь!
— Ну и чего ты шумок поднял? — рассудительно спросил Николай Стуколкин.
Воронкин посмотрел на него долгим, презирающим взглядом, успев с нарочитой неторопливостью закурить, прежде чем отвел глаза.
— Ур-ки!.. — выдавил он брезгливо, а твердо и жестко: — Барахольщики!
— Заткнись, — с ленивой угрозой попросил Шугин.
Воронкин скривил рот, хмыкнул:
— А, нужны вы мне все!.. — И, словно не было напряженного разговора, Ангуразову: — Мотанем, что ли, в Чарынь, Закир?.. До магазухи?
На половину соседей первым заявился Ганько.
— Азартные игры в общественных местах запрещаются! — строго сказал он, кивая на рассыпанные по столу костяшки. — Разрешаю только в стосс или в терс.
— Что за звери? — спросил Сухоручков.
— Не знаете? Валяйте в буру или в очко. Только не проигрывайте баяниста. Не играется.
— Тут, браток, от козла только уже третий раз под стол лезу, — пожаловался Иван Яковлевич. — А ты — очко! Садись вот вместо Конькова, мы с тобой Ваську да Николая мекать заставим!
— На тезку у меня рука не поднимется, дядя Ваня! Знаешь:
запел он, переиначивая, забытую песенку.
— Ладно, одного Николаича под стол погоним. Садись!
Ганько сел.
Перемешивая костяшки, накрыл ладонями два троечных стыка, один с дуплетом. Повозив по столу, погреб к себе, ухмыльнулся:
— Люблю играть с честными игроками! Чей заход? Твой, тезка?
Через полчаса торжествующий Тылзин загонял под стол Сухоручкова:
— Поскольку Ваське партнер прощает — лезь один! Лезь, лезь! Нечего раздумывать! Надо понимать, с кем играть садишься! С чемпионами Тылзиным и Ганько!
— Мало ли что твой партнер? Васька виноват в проигрыше, ему надо было на двойках забивать. Я же ему моргал, подлецу…
Ганько трагически всплеснул руками, запричитал:
— Ай-яй-яй, дядя Коля! Играть без мошенничества полагается, а вы — моргать! Ай-яй-яй!..
— Оба проигрывали, оба и полезем! — сказал Скрыгин, опускаясь на четвереньки. — А на двойках никакой игры…
— Лезь, не оправдывайся! — командовал Тылзин. — Так, один есть… Давай ты, Николай Николаевич! Теперь „мээ-э!“ кричите…
— Может, не надо нам, у тебя вон как хорошо выходит? — ершился под столом Сухоручков. — Ты бы авансом под следующую партию покричал. Все одно теперь выиграем…
Но они проиграли и следующую.
Сухоручков, ожидавший, что Ганько „проедет“, приготовил последнюю костяшку, занес ее над головой, торжествующе усмехаясь.
— Считайте рыбу! — сказал Ганько, хлопая своей костяшкой.
У Сухоручкова вытянулось лицо, он часто-часто заморгал.
— Врешь?.. А?..
Грохнул взрыв хохота.
Наверное, за стеной решили, что веселое оживление вызвано приходом гостей, не иначе. Дверь отворилась, вошёл Шугин. Окинув быстрым взглядом помещение, спросил:
— Что за шумок без пьянки?
Празднующий вторую победу Тылзин, воинственно подбоченясь, кивком показал на Сухоручкова:
— Не верит, что он козел. Разве не похож? — И Николаю Николаевичу: — Ну-ка! Дорога для вас знакомая, лезьте! Игроки!.. Виктор на мусор заявлять пришел…
— Не играющий… — скромно поджимая губы, будто его подбивают на что-то порочное, пошутил Шугин.
В это мгновение поднял голову от чемодана, где перебирал ноты, Усачев. Движением руки поправив упавшие на лоб волосы, окликнул своего напарника:
— Васька! Кончай там… Если думаешь в Сашково — пора собираться…
— Зачем?.. — Скрыгин смешно выпятил нижнюю губу, округлил глаза.
— Зачем, зачем… В клуб, конечно!
Все, кроме Конькова, насторожились, примолкли. Скрыгин, не скрывая недоумения, спросил:
— А ты… в клуб?
— Ну да! — Борис отложил пачку нот, захлопнул чемодан.
— Чего-то ты чудишь, парень! — сказал Тылзин.
— Верно, Борис! Неловко, девчата придут, а тебя нет, — двинулся к нему через комнату Скрыгин.
— Какие девчата придут?
— Ну, какие… Ясно! Наташка, Анька и, как ее, Тося…
— Да откуда ты взял?
Скрыгин растерялся. Почему-то вопросительно посмотрел на Шугина, потом — на Тылзина. Те молчали. Тогда Василий попытался ответить сам, неуверенно подбирая слова, путаясь в них. И без этого отличающийся румянцем, как и все рыжие, покраснел больше обычного. Шея над белой каймой подворотничка сделалась почти кирпичной.
— Я сам слышал — Наташка Шугину сказала… в дверях. Вот и Иван Яковлевич… там был…
— Чепуха! — оборвал его Усачев.
— То есть как — чепуха? — не выдержал и Тылзин.
Борис выпрямился, сунул руки в карманы. Небрежно, нехотя, как само собой разумеющееся, стал объяснять:
— Кто это у вас выдумал?.. Девушки специально приходили, чтобы позвать меня в клуб сегодня, — „меня“ выпало из его тона, выделилось. — А здесь? Чего им здесь делать?
Спокойный взгляд его серых глаз и небрежный тон разговора должны были раздавить Шугина, напомнить Шугину его место, показать глубину лежащей между ними пропасти. Он нарочно не смотрел на Шугина, но отчетливо представлял потемневшее лицо того и насильственную кривую усмешку. Так люди улыбаются, пряча гримасу горечи. Усачев видел эту усмешку щекой, плечом, даже спиной, которую щекотали мурашки торжества. Ведь он не солгал, сказав, что девушки приходили звать в клуб его, Усачева. Не Шугина. И он не обязан вовсе догадываться, что звали баяниста, разумея и остальных. Усачев опять представил себе вымученную улыбочку Шугина и сам усмехнулся — искренне, от всего сердца.
— Что же ты не сказал раньше? — нарушил молчание Скрыгин.
— А ты спрашивал?
— Эх!
Это вырвалось у Ивана Тылзина.
Скрыгин его понял.
— Слушай, Борис! Может, следующий раз туда? Видишь, ребята пришли… Без баяна — сам знаешь! А там обойдутся… Патефон, гармошка…
Усачев огорченно развел руками:
— Ну как ты не понимаешь, Вася? Неудобно же — пообещал, ждать будут. Ведь не пять человек. Ты сам видел, сколько народу собирается у них в клубе. Думаешь, охота мне за тринадцать километров тащиться с баяном? А ребята, может, тоже пойдут в клуб? — вопросительно взглянул он на Ганько.
Тот не услышал в словах приглашения тороватого хозяина, которое услыхал Шугин. Спросил Скрыгина:
— А ты как, тезка?..
— Раз такое дело… Можно сходить…
— А ты, Витек?
Шугни раздумывал.
— Далековато, — сказал он, колеблясь.
— Я пойду! — решил Ганько. — С девчонками потреплемся насчет картошки — дров поджарить. Да, тезка?
— Так вы собирайтесь, — поторопил Усачев, укладывая ноты в футляр баяна.
Все, словно обиженные друг на друга, разошлись по углам. Делали вид, будто занимаются делами, не до разговоров. Тылзин разложил на коленях ватные брюки, стал выискивать дырки. Сухоручков уселся писать письмо. Поставив локоть на тетрадный лист, глядя в потолок, соображал, что и кому написать. И зачем…
Ганько с Шугиным стояли на крыльце. Оба курили, оба сквозь дым наблюдали, как падают редкие снежинки. Ганько краем глаза следил и за Виктором: пойдет или не пойдет? Если не пойдет, можно попросить у Стуколкина полушубок. Если пойдет — Никола, конечно, даст полушубок ему. Сплюнув табачину, сказал раздумчиво:
— Черт, тринадцать километров! Верных три часа ходу…
— Далеко!.. — только ему или и себе тоже посочувствовал Шугии.
В сенях хлопнула дверь. Вышли Усачев с баяном через плечо и Скрыгин, застегивая бушлат. Скрыгин спросил:
— Пошли?
— Сейчас оденусь, тезка, — ответил Ганько, продолжая нерешительно поглядывать на Шугина. — Вы идите, догоним…
Впрочем, Усачев и не думал ждать. На ходу дернув плечом, передвинул футляр с баяном за спину. Поравнявшись с пристройкой Фомы Ионыча, поднял руку, постучал в стекло. Видимо ожидавшая этого стука, из пристройки выпорхнула уже одетая в пальто Настя. Мельком взглянув на крыльцо, крикнула:
— Ну, что же вы?
Кажется, ей что-то сказал Усачев. Девушка успокоенно кивнула, подняла воротник, оба свернули за угол.
Скрыгин приотстал, ожидая Ганько.
— Пойдешь? — прямо спросил тот Шугина.
Виктор резко повернулся к дверям, шагнул в сени.
Не оглядываясь, бросил:
— Нет.
— Иду, тезка!.. — крикнул тогда Ганько и, опережая Шугина, кинулся в барак. Через минуту или две он выскочил оттуда в стуколкинском полушубке. Шугин обернулся на стук двери, и Василия поразили его глаза, узкие, бешеные. Он невольно подался к стене, а оказавшись на улице, облегченно усмехнулся:
— Псих чертов!
И побежал догонять Скрыгина.
Шугин рассеянно потушил о косяк только что закуренную папиросу. Скрипнув зубами, словно давил ими неизвестно кому адресованное слово „падла“, толкнул дверь.
— Я думал — и ты в клуб подался, — встретил его Стуколкин. — Все разбежались кто куда. Идем к соседям, забьем со стариками козла, что ли?
— Ну их…
— Я схожу…
Шугин остался один.
Зачем-то он дважды щелкнул выключателем, зажег и потушил свет. Убеждаться, что дежурный конюх — электрик по совместительству — уже запустил движок, он не собирался. Просто не знал, куда девать руки. Куда девать себя, чем заполнить разверзнувшуюся в душе пустоту. Щелчком сбросил со стола забытый кем-то окурок. Потом подошел к постели и уткнулся в жесткую подушку.
Закрыв глаза, в черной пустоте он видел каким-то образом белую снежную дорогу, будто и он шел по Ией. И здесь, в бараке, тяготился присутствием Бориса Усачева, тоже идущего по дороге. Дорога была узкой для двоих оттого, что по ней — третьей! — шла Настя.
Он слышал, как вернулись Воронкин с Ангуразовым. Угадал по стуку, что ставят на стол бутылки с водкой.
— Один Витёк, — услышал он голос Воронкина. — Остальные в разгоне. Ищут приключений.
— Спит, — видимо, про него, Шугина, сказал Ангуразов.
— Восьмерит, — не поверил Костя. — Витёк, вставай. Иди, тяпнем по маленькой.
„Ступай лучше опохмелись“, — презрительно молвила идущая по белой дороге Настя и отодвинулась к Усачеву.
Виктор сел, потянулся за папиросами.
— А ты толковал: спит! — подмигивая Ангуразову, усмехнулся Воронкин. — Он не такой, чтобы спать, когда на столе водка. Возьми на тумбочке у Цыгана третий стакан, Закир…
— Я не буду, — сказал Шугин.
Все дороги представляются более длинными, нежели на самом деле, если не приходится часто ходить по ним. А перемеряешь раз, другой, третий — вроде куда ближе становится до какого-то памятного поворота или мостика через ручей, а оттуда — до конца рукой подать…
Так укоротилась дорога в Сашково. По крайней мере — для Ганько, Скрыгина и Усачева. Один раз даже в будни — после работы — успели сбегать туда ребята и назад воротиться. А в барак опять приходили потанцевать девушки. Аня, Тося и две чарынские, Люба с Верой. Не было только Наташи Игнатовой.
Танцуя в этот вечер с Виктором Шугиным, Тося, загадочно улыбаясь, уронила:
— А про вас кто-то спрашивал…
Шугин отшутился:
— Участковый, наверное?
Тося кокетливо скосила глаза:
— Не знаю…
Виктор не ходил в Сашково, чтобы Настя не подумала, будто он ради нее ходит. Очень ему нужно из-за нее куда-то ходить! Жаль, что Тосиных слов не слышала!
В Сашкове дважды после того памятного воскресенья успели побывать Усачев, Скрыгин и Ганько. На третий раз с ними увязались Воронкин и Ангуразов, оставившие перед этим почти всю полумесячную зарплату в сашковском сельпо.
— Приходится, — словно оправдываясь, объяснял Воронкин Василию Ганько. — Здешний начальник барахло туго дает. От казенных тряпок одни дырки скоро останутся…
В лесосеке перешли рубить новые пасеки, в левом, не таком заболоченном углу дачи. Лес более „кубометристый“, подлеска, зря отнимающего время и труд, поменьше. Потому и жеребьевка пасек, примерно равноценных по плотности насаждения, и породе, прошла весело, даже без матерков в адрес господа бога.
Относительно не повезло Фирсанову.
Когда уважаемый за строгий характер Иван Тылзин перетряхнул в шапке бумажные трубочки с номерами пасек, он одним из первых запустил туда руку. Но пасека ему досталась самая крайняя, да еще за нырком в ручей. Не работай фирсановская бригада комплексом, это не имело бы значения. Но Фирсанова интересовало и время, которое затратит на дорогу его возчик, как скоро обернутся.
— Себе небось у ближнего края оставил? За подкладку, наверное, засунул первый-то номер? — пошутил Фирсанов, комкая свою несчастливую бумажку.
— Вытащу первый — поменяю с тобой, ей-богу! Если своего коня дашь в придачу! — подмигнул Тылзин. — Согласен?
— Я соглашусь, да мерин не согласится. Не любит он козлов, Иван Яковлевич, а ты, рассказывают, каждый вечер козлом остаешься?
Тылзину досталась четвертая, первую пасеку вытащил Борис Усачев.
Обрадовался этому не столько он, сколько мастер, не забывший о решении Латышева организовать еще одну комплексную бригаду:
— Дело! Глядишь, хоть с вывозкой будет полегче…
Он все еще не верил в эту латышевскую затею. Но бригада, в которую инженер завербовал еще трех рабочих из числа квартирующих в Чарыни, с первых же дней стала вывозить положенные кубометры. Не больше, но и меньше редко.
— Что в лоб, что по лбу! — сказал Фома Ионыч Ивану Тылзину.
— Приноровятся друг к дружке — лучше пойдет! — встал тот на сторону Латышева.
Борис Усачев остался по-прежнему на валке с корня — ведущим в бригаде. Это заставило его предельно собраться, найти в себе и вложить в работу дополнительную энергию, которую рождает сознание ответственности. Борис Усачев отвечал за себя — бригадира, руководителя — и за себя — рабочего, обязанного не подвести остальных. Ему нравилось нести первую ответственность, а ради нее нельзя было не выдюжить, оплошать со второй.
Он как-то посуровел, стал скупее на слова и жесты. Считал себя командиром. Командир не должен прятаться за спины других, его место впереди. И Борис Усачев прилагал все силы, чтобы удержаться впереди.
Самый пожилой член новой бригады — коновозчик Петр Зарудный, не по годам подвижной, любящий быть на виду, но не заступающий дорогу другим, — говорил о своем бригадире:
— Орел парень!
Как-то Фома Ионыч вспомнил об этом, рассказывая Насте про дела в лесу. Девушка сделала нарочитую недоверчивую гримаску:
— Ну уж и орел?.. Поди-ко?..
— Стоящий парень! — кивнул дед. — Из всех самый стоящий, верно тебе говорю. Горяч разве маленько, это есть. Васька Скрыгин — тот постепеннее будет. И людей больше понимает, Васька-то… Но — смирен!
— А это плохо, деда?
— Смирного не всякий заметит, вот что…
Сам он замечал его и, замечая, улыбался доброй, уже по-стариковски теряющейся в морщинах улыбкой. Скрыгин его подкупал как раз смирностью, ровностью характера. Тем, что не лез вперед, не выпячивал грудь колесом, как Шугин или Воронкин. А ведь тем до него — семь верст, и все в гору!
Усачев ему совсем другим нравился. Не радовал, как Скрыгин, а именно нравился — со стороны, издали. Своей независимостью, стремлением быть впереди.
Может, потому еще, что Фома Ионыч считал Усачева-лесоруба в какой-то мере делом своих рук: не принижая гордости парня, пособил перебороть сомнение в своих силах, не позволил сорваться. Конечно, в свое время не минуешь рассказать это парню, но тому останется только поблагодарить да отквитать долг.
Не будя тепла в сердце, Усачев покорял старого мастера холодком уверенности, за которой стоят энергия и сила мужчины, не нуждающегося ни в ком, боящегося показаться не таким.
Не так понимала эту усачевскую отдаленность и обособленность Настя.
Если Фома Ионыч оценивал Усачева, сравнивая с Василием Скрыгиным, то Насте почему-то хотелось сравнить его с Шугиным. Виктор безусловно проигрывал рядом с Борисом. И вовсе не потому, что задрал нос и начал ухлестывать за Наташкой Игнатовой. На это Настя не обижается, с какой стати? Конечно, в тот вечер, когда девчонки пришли, в первый раз, ее задело шугинское зазнайство. Костюм приобрел, так сразу и „здравствуй“ говорить забыл! Ни на кого не глядя, к Наташке подсел! Подумаешь!..
Но главным было не это. В Шугине, которого Настя знала лучше Бориса, многое пугало и отталкивало ее. Он словно похвалялся грубостью, в нем не угадывалось тепла, задушевности, которыми так богата музыка Усачева…
Борис в Настиных глазах был прежде всего человеком с тонкой музыкальной душой — такой же певучей и многогранной, как мелодии баяна. И такой же чистой — разве могут сойка или ворона петь соловьиные песни? Борис бережет свою душу и свою музыку от матерщины Воронкина и копеечности Конькова, от насмешек Шугина и равнодушия ее деда. Здесь он один такой и поэтому одинок. И даже понять это может только она, Настя…
Она сомневалась: догадывается ли об этом Борис? Вдруг не догадывается?
Для нее дорога в Сашково стала особенно короткой. Борис не успевал за время пути в клуб и обратно сказать ничего такого, что позволило бы надеяться: знает! Будь она подлиннее, дорога, — может, и успел бы. Сказал бы, благодарно взяв за руку: „Я знаю, Настя…“
О чем знает?
Ах, да — о том, что она понимает причину его одиночества… Только и всего!
Дорога была слишком короткой. Вдобавок идти приходилось друг за другом, гуськом, набитой по обочине тропочкой. Думать о том, чтобы не набрать полные валенки снегу. Конечно, разговаривать на такой дороге очень неудобно. Надо кричать через плечо или в спину идущего впереди. А не обо всем хочется кричать во всеуслышание.
И все-таки Настя охотно вспоминала бело-голубую полосу, надвое режущую черноту леса! Лес вплотную подступает к бровкам дороги, в клин стискивая ее там, где она упирается иногда прямо в небо. Тогда широкая спина идущего впереди человека загораживает звезды. А Насте не жалко звезд, потому что это спина Бориса. Под его уверенными шагами поскрипывает снег, и, наверное, из-под ног не пытается ускользнуть узкая тропка. Поэтому Настя норовит идти как можно ближе к нему…
В клубе Борису и вовсе не до разговоров. Там перед ним расступались, давая пройти к эстраде, и на целый вечер брали в почетный плен. На него были устремлены все взгляды, все сердца бились в такт его музыке. Там он не принадлежал себе, жертвовал собой.
А Настя жертвовала его сильной и вместе такой осторожной рукой, которую запомнила с того первого и единственного вальса под гармошку трепливого Саньки. Теперь ей приходилось танцевать с подругами. Рыжий Вася Скрыгин присыхал возле Аньки Мухиной.
Но и с девчонками, путающимися в „кавалерских“ поворотах, Насте танцевалось легко, радостно. Оттого, что играл Борис.
Ей даже нравилось именно с девчонками танцевать, потому что языкатые сашковские девчонки всё меряли своим аршином:
— Подружка, ты зачем прошлый раз так рано увела своего миленка?
— Настька, скажи своему, пусть еще поиграет, успеете нацеловаться дорогой…
Это было неправдой, от первого до последнего слова неправдой. Но почему-то Насте хотелось, доставляло странное удовольствие слушать такие слова. Краснеть, уверять, что „глупости“, и знать, что не очень-то верят.
Девчонки завидовали ей. Особенно Тоська Кирпичникова. Та прямо говорила:
— Отобью у тебя баяниста, Настюха! Так и знай!
И норовила посмотреть на Бориса, как не умела смотреть Настя. Чуть опустив ресницы, мгновенно вскидывала глаза, а опускала медленно, дразня своей капризной улыбкой.
Не стесняясь, она при всех убеждала Усачева перебраться в Сашково:
— Очень вам интересно, наверное, сидеть на Лужне? Да? Переходили бы лучше в совхоз работать! По крайней мере не в лесу, где и поговорить-то не с кем… А уж мы как-нибудь пригрели бы одного-то баяниста. Да, девки?
Сердце у Насти замирало, сжималось в маленький, но ужасно тяжелый комочек. Ишь ты, „поговорить не с кем!..“ С Тоськой только и разговаривать, куда там — десять, лет проучилась, так в пятом и седьмом по два года сидела!
— Завлекают тебя девки, Борис! — смеялся дорогой Скрыгин.
Усачев презрительно улыбался — по крайней мере, Настя была уверена, что презрительно, — и отвечал, покрывая голосом скрип снега:
— Мне работать надо, не по девкам бегать. До весны я, считай, как в монастыре. Характер у меня твердый.
Он не рисовался, Борис Усачев. Перед ним стояла пока одна определенная цель: вылезти из солдатской формы — и баян. Свой, собственный. Ради этого он решил поступиться многим. Чем меньше будет соблазнов, тем скорее кончится этот „монастырь“ на Лужне. Характера у него хватит, черт побери! Без девок он вполне обойдется покамест — не такой дурак, чтобы заниматься свиданиями да провожаниями, а назавтра, не выспавшись, пилить лес. Потерпит месяц-другой, девки не уходили и не уйдут от него!
Пожалуй, он не стал бы и в Сашково ходить с ребятами, но это было бы срывом культработы. Недавний разговор с Тылзиным открыл Борису глаза.
Разговор начал Коньков:
— А что, Борис, как отвалят тебе премию рублей тыщу — сколько поставишь на радостях?
— Какая премия? За что?
— Спроси у Ивана, он слыхал, как инженер да Фома рядили…
Усачев вопросительно посмотрел на Тылзина:
— В чем дело, Иван Яковлевич?
— По-моему, не за что премию-то. Хотя начальству и видней, может… Действительно соседи, — движением головы он показал на степу, — вроде поутихли. Это — ничего не скажешь, это точно! Как девки появились, так они и пообразовались маленько. Девки, известное дело, на баян — как Никанор на чужие премии! А начальству любо, понятно, — направляются ребятишки, в клуб ходить стали, да и насчет лодки опять… полегче… Вот, значит, премию ты и заработал — баяном!
— А ты что, словно бы недоволен? — удивился Сухоручков.
— За ребят-то доволен. Да и за Бориса, ему лишняя деньга к месту. Я думаю, Николай Николаич, что удивительно у нас в леспромхозе получается. Всё норовят под культработу подвести. Стали в клуб ходить — культработа! Не стали ходить — надо тому же Борису холку мылить, потому нет культработы. А Борис ни там, ни там ни при чем…
Усачев с ним не согласился. Конечно, это была культ-работа. Что он понимает, Иван Тылзин?
Январь.
Новый год, новое счастье.
Голизну льда, оставленную ростепелью в конце декабря, укрыл снег. Под новым тонким ледком не желала промерзать на старом льду ростепельная вода. Наступишь — сначала просядет снег, потом с хрустом проламывается молодой лед. Аккуратный след сапога наливался темной водой, чтобы застынуть погодя мутным стеклом. Стеклянные следы на белом снегу метали солнечных зайчиков.
Угольно-черные тетерева, прилетая по утрам на березы, осыпали с веток легкое, незвонкое серебро. Они усаживались зобами к востоку, чтобы видеть, как рождается в бело-золотой колыбели под голубым пологом солнце. Дни стояли безветренные, ясные, не очень морозные.
Новый год, новое счастье…
Новое, первое счастье Насти!
Она не успела еще разобраться толком, какое оно, в чем заключается. Спрашивала об этом солнечных зайчиков, спускаясь по воду к реке, и тетеревов на березах. Спрашивала свое сердце.
Никто не мог ей ответить, объяснить.
Но ведь именно счастье, не правда ли? Пусть пришло не так, как она ждала. Но раз это счастье — не все ли равно, как оно пришло к ней?
Все, кроме Конькова и деда, Новый год встречали в Сашкове. Коньков остался дома, в одиночестве. Дед застрял в Чарыни у старика Напенкина.
В Сашкове четверо — Шугин, Ангуразов, Воронкин и Стуколкин — слезли с саней у магазина. Пошли за водкой, а потом — к трактористу Гошке Козыреву, которого в позапрошлом году судили за хулиганство. Гошка еще в декабре в клубе звал Воронкина.
Шугина приглашала вместе со всеми Тося, но он почему-то пошел с Воронкиным. К Кирпичниковым попали Настя с Борисом, Ганько и Вася Скрыгин. А вообще у них чуть ли не полдеревни молодежи собралось. Дом большой, на Первое мая у Тоськи складчину всегда устраивали.
Парни уже выпивали. Приходу Бориса обрадовались, точно только его и ждали. Гармонист Санька Хрунов сразу ему стакан — водки подал, а Борис не хотел пить. Сказал: „Первую в двенадцать часов полагается“. Но его все-таки уговорили полстакана выпить. Потом танцевали под баян, потом парни опять выпили — без Бориса. И опять танцевали, Санька играл „Дунайские волны“, а Тоська повесилась на Бориса, бесстыжая. Больше никому не дала с ним танцевать. После все пошли в клуб, парни некоторые уже пьянехонькими. Кажется, Бориса опять заставили выпить.
По дороге рядом с Борисом шел Санька Хрунов, его пошатывало, и Борис всё время берег футляр с баяном. В клубе играл общие танцы, а Наташка Игнатова опять попросила „Цыганочку“, они с Шугиным плясали. Наверное, был уже Новый год, когда пришел Николай Сухоручков и сказал, что пора ехать.
Бориса не хотели отпускать, по они все-таки ушли. Только они, остальные лужнинские потерялись где-то. Конн стояли в совхозной конюшне. Пока Сухоручков запрягал Серого, сидели у Ивана Антипыча. Там Борису поднесли бражки, еще говорили: „Нельзя не уважить хозяина!“
А потом?..
Дорогу на чистых местах перемело, ехали медленно. Настя замерзла. Закидала сеном ноги, спряталась от ветра за Бориса. Может быть, самую чуточку прижалась к нему, чтобы не так холодно… И вдруг Борис притиснул ей голову сгибом локтя и поцеловал в губы.
От него неприятно пахло вином.
Она растерялась, отстранила лицо. Но далеко отстраниться не могла, мешал его локоть. Тогда он поцеловал ее еще раз. И всю остальную дорогу, до самого кондвора, целовал…
А ей нельзя было вырваться, потому что мог обернуться Сухоручков, увидеть. Ей не хотелось вырываться. Она вся замерла как-то, было жарко и страшно. Она ни о чем не думала, мысли убегали куда-то.
На конном дворе Сухоручков остался распрягать Серого, а они с Борисом пошли к бараку. Он впереди, разметая катанками пушистый снег. У пристройки остановился. Единственное окошко ее не светилось — Фома Ионыч еще не вернулся из гостей. „До свидания“, — сказала Настя и, открывая дверь, запомнила прочерченный ею на снегу полукруг. Подумала: сколько навалило снегу!
Войдя в сени, потянула дверь на себя. Не удивилась ее сопротивлению — мешал снег.
Снег не мешал.
Следом за нею в темные сени прируба вошел Борис. Войдя, плотно притворил за собой дверь. В сенях стало совсем темно, но не страх перед темнотой заставил сжаться Настино сердце. Это был совсем другой страх, не связанный с разумом. Словно при взлете на качелях, когда они перестают на мгновение быть опорой невесомого, замирающего, самому себе предоставленного тела…
В составлении отчетности Фоме Ионычу всегда помогала внучка — сам он не шибко дружил с бухгалтерией. Всегда очень внимательная, в этот раз она то и дело переспрашивала деда, путалась в цифрах.
Мастер недовольно ворчал:
— Тебя чему десять лет учили? Ворон считать?
Сдвигая на лоб очки и поглядывая удивленно, поджимал губы. Набивая трубку, сыпал махорку на разложенные по столу бумаги.
Настя, дважды уже пересчитав сводную ведомость, растерянно пожала плечами — опять ошиблась.
— Чего там? — спросил Фома Ионыч.
— Сорок шесть кубометров по второй делянке недостает. Не ругайся, сейчас еще раз проверю…
Фома Ионыч, забыв о трубке, успокаивающе махнул рукой. На ведомость просыпались горячие табачины. Он захотел смести их ребром ладони — и только добавил новых. Тогда изо всех сил принялся сдувать, краем глаза следя за внучкой: не смеется ли над неловкостью деда?
Настя не смеялась.
Справившись, сердито толкнул трубку на край стола, сказав:
— Покажи в третьей, у пня.
— Так ведь и из третьей все вывезли, деда? — удивилась девушка.
— Мало ли что вывезли.
— Так ведь по нарядам…
— Пиши знай! Третью рубить до самой весны хватит. К концу лес пойдет — шапка валится. И дни будут подоле…
— Пятьдесят кубометров почти! — Настя испуганно смотрела на форменный бланк ведомости. — Как же ты замерял, деда?..
— Как надо, так и мерял. Еще не вовсе ослеп, не бойся. Вроде бы в долг дадены эти кубометры, понимаешь?
Настя явно не понимала. Но дед посмеивался, не думая объяснять. Следовательно, пугаться не стоило. На всякий случай она спросила:
— А если ревизия?
— Раньше весны не будет. Успею покрыть. Надо было приободрить мужиков по первости…
Покачивая головой, Настя вписала требуемую цифру. Потом взглянула на черные оспины пропалин от дедовой трубки — надо переписывать ведомости на чистый бланк. Ох уж эта ей трубка! До чего вредный старик!
Девушка сама усмехнулась противоречивости непроизнесенных слов, тому, что хотела сказать: милый, добрый дедушка! Как это странно и неожиданно, что в их жизнь входит еще один человек. Входит в жизнь, как вошел в эту комнату, — не спросясь… Вошел — и притворил за собой дверь… Как хозяин…
Забыв о документах, Настя встала и, обогнув стол, подошла к деду. Прижалась щекой к его небритой щеке, и седая колкая щетина показалась мягкой, ласкающей. С чувством человека, желающего спрятаться от чего-то в траве, потеряться в ней, девушка потерлась подбородком о щеку деда, словно раздвигала траву.
Не спряталась.
— Деда!.. — сказала она и замолчала, оробев. — Что, если я выйду замуж, деда?
У него ослабли, опустились плечи. Лида Настя не видела — их лица были в одной плоскости. Еще крепче прижалась к его щеке, чтобы не повернул голову, не взглянул бы на нее.
Фома Ионыч молчал.
Она опять — теперь уже ластясь, уверяя в нежности — пригладила подбородком щетинистую седину.
— Что же… — выдохнул дед. Рука его, придавленная в плече тяжестью Настиного тела, медленно потянулась к трубке. — Все выходят… Такое дело…
Трубка, которую он по-нескладному держал за мундштук, пахла горечью. Дед медлил набивать ее. Настя не отворачивалась от запаха, вдруг переставшего быть противным.
— Такое дело, Настюшка!..
Девушка услышала, как он громко-громко пожевал губами, и представила выражение лица — растерянное, с ищущими неизвестно чего глазами.
— Вроде бы спешить нечего, — продолжал Фома Ионыч, — годы твои только к тому подходят. Ну, да разве я указчик какой? Девке, что птице, крыльев не свяжешь. Где уж!
— Может, я никуда и не полечу, деда!
— Это уж не тебе решать!.. Куда иголка, туда и нитка. Лишь бы парень хороший попал… Самостоятельный…
— Хороший, деда!
Он сделал движение головой в ее сторону, заставив отшатнуться.
— Ай уже приглядела?
Настя невольно улыбнулась: чудак дед, разве собираются выходить замуж неизвестно за кого? Смущенно отвела взгляд.
— Во-он как!.. — значительно протянул Фома Ионыч. — Где же ты это? В Сашкове? Не Кольку ли Буланцева, больно он ласково со мной надысь поздоровался?..
— Нет… Я после тебе скажу… Потом…
— Чего так? — удивился было Фома Ионыч, но сам же ответил на вопрос: — Приглядеть приглядела, да за сватаньем дело? Ладно, пущай возле походит! Покрути голову, без этого нельзя…
Фому Ионыча не удивила внучкина скрытность. Зато удивила Настю. Утопив тяжелую от мыслей голову в горячей подушке, девушка пыталась объяснить себе самой, почему захотелось промолчать.
Почему она, стесняясь своего счастья, вот уже несколько дней прячет его от людских глаз? И Борис — тоже?
И поняла: она прячет оттого, что так поступает Борис. Делает вид, будто между ними ничего не произошло. Значит, следует делать так.
А зачем?
Наплывая одно на другое, смешиваясь, сливаясь чертами, из ниоткуда начали возникать лица людей. Наглое, ухмыляющееся — Воронкина. Почти девичье с нависающей на глаза челкой — Ганько. Дерзкое, дергающееся от бешенства — шугинское.
„Смуглянка — тоже в общее пользование? Как и самовар?“ — по-шугински изламывая губы, смеялись лица.
Вот зачем надо прятаться!
Борис не хочет, чтобы в нее швыряли мерзкими словами, перемигивались. Для них не существует ничего святого, ничего чистого. Нельзя, чтобы они знали, чтобы догадывались о ее счастье!
Вспомнилось, как Шугин спрашивал на крыльце: „Мешаю? Баяниста своего ждешь?“
И вдруг она поняла непонятое тогда. Словно кто-то убрал от глаз ладонь, мешавшую смотреть. Увидела боль и отчаяние, где раньше видела только злость да зависть. В чертах мертвенно бледного при звездном свете лица. В пальцах, не обжигающихся об огонь папиросы. В словах, принятых тогда за попытку обидой ответить на обиду.
Чтобы не вскрикнуть, Настя придавила зубами край одеяла: между ней и Борисом стоит Шугин! Уголовник, бандит, которому ничего не стоит ударить ножом, убить! Вот от кого надо прятать счастье!
Все, все словно осветилось вдруг и в этом, другом, свете стало объяснимым, даже не требующим объяснений. Столько времени ходила по краю пропасти, не видя ее! Не боясь, не подозревая правды! Одна-одинешенька оставалась с Шугиным в бараке, в Сашково ездила по безлюдной дороге!.. Слепой, что ли, была раньше? Хорошо, что Борис умный, все видит и понимает. За неё боится, её бережёт!
Тревога растворилась в темных волнах набегающего сна. Вдруг стало удивительно радостно и спокойно, как будто широкая спина Бориса заслонила от всех тревог, от всех сомнений. Как на короткой белой дороге в черном лесу, когда Борис шел впереди, принимая на себя удары швыряющейся снегом метели.
Виктор Шугин плевать хотел на все комплексные бригады леспромхоза. В особенности на усачевскую. Но во-первых, этот фрайер с баяном обошел его, Шугина, тем, что теперь нельзя учесть личную выработку Усачева. Разве Виктор не понимает, что такое работа комплексным методом? Как говорится, не первый год замужем — понимает! Если в бригаде трелевщикам нечего возить, они встанут на валку. А потом, когда лес на складе, поди разберись — сколько напилил Усачев, сколько — еще кто-то. Общий котел. Комплекс. Во-вторых, Усачев теперь может давить понт: доверили бригаду, начальником поставили! Молодчик, умеет жить! Может!.. А в-третьих. Виктор слышал, как Тылзин говорил Сухоручкову: „С Латышева, брат, организацию производства спрашивают… А Борька что же?.. Опыт опытом, а единственный подходящий парень…“ Значит, его, Шугина, подходящим не считают? Ладно!
Потушив о подоконник папиросу, он покосился на Стуколкина. Тот ковырял шилом валенок, лениво переругивался с Воронкиным из-за ничего, чтобы убить время.
— Слушай, Никола! — Виктор дождался, пока Стуколкин к нему повернется. — Ты заполнял наряд. Не посмотрел, как там культбригада рогами упирается? Сколько они вывезли сегодня?
— Усачев-то? Черт их знает…
— Должен ты им, что ли? — спросил Костя Воронкин, поднимаясь из-за стола. — Или своих кубиков мало?
Шугин закурил новую папиросу.
— Хотел украсть у них сотню осиновых баланов, а тебе толкнуть. По червонцу бревнышко. Возьмешь? — он деланно рассмеялся.
— Цыгану продай. Он всю дорогу пугает, что воровать завязывает. Будет лесом барышничать. Ты ему по червонцу, а он — по два.
— Тебе для гроба даром подкину, если подохнешь. Деловой сосны, первый сорт. На радостях! — пообещал Стуколкин.
Виктор потянулся, изображая полное душевное спокойствие. Неторопливо выпустив кольцо сизого дыма, сказал:
— А ведь нам, братцы, не светит вся эта заваруха с бригадами. Надо соглашаться на комплекс.
— На что он тебе сдался? — равнодушно поинтересовался неразговорчивый Ангуразов.
— Тошно тебе без него, да? — подхватил Воронкин.
Виктор решил ответить Воронкину:
— Как без него, так и с ним. Одинаково. Просто неохота, чтобы в нос тыкали фрайерами. Надоело. Всю дорогу тебе на кого-то показывают. Каждая псина думает, что ты способен только по тюрьмам сидеть.
— Из каждой такой псины я способен двух сделать. Или четырех! — поиграл бицепсами Воронкин.
— И заплыть по новой… — сказал Стуколин.
— Точно, — беззлобно усмехнулся Ганько. — По семьдесят четвертой. Ты же натуральный хулиган.
Это была обычная трепотня, обижаться не стоило. Воронкин засунул в проймы застиранной майки большие пальцы и, перебирая остальными, как при игре на пианино, выпятив грудь, заявил с подчеркнутой шутовством гордостью:
— Извините. Майданник, а по-фрайерскому — специалист по освобождению пассажиров от лишнего багажа.
— Был! — Николай Стуколкин швырнул валенок под койку. — Был, Костя! Сейчас ты — натуральный работяга. Лапки в трудовых мозолях.
— Еще буду, Никола! — пообещал тот.
— Трудиться не нравится?
Зажмурясь, сморщившись, словно раскусил что-то очень горькое или кислое, Воронкин отрицательно закрутил головой.
Стуколкин даже не посмотрел в его сторону:
— Валяй. Два раза украдешь, на третьем сгоришь…
— Чего ты меня пугаешь? — закипая, срываясь на обычную в таких случаях показную истерику, шагнул к нему Воронкин. — Хочешь, чтобы я всю дорогу ишачил, как теперь? Да?
Пожав плечами, Стуколкин спросил не его, а Шугина:
— Разве пилить такие же баланы под конвоем в оцеплении не называется ишачить? Наверное, теперь это называется „воровать“?
Шугин не ответил: Воронкин не дал ответить. Заговорил, брызгая слюной, нервничая всерьез:
— Слушай, Витёк, что ему надо, падлюке? Если бы я боялся риска, я не был бы босяком. Был бы фрайером.
— Прижали, гады! — неожиданно изрек Ангуразов. — Не те стали времена. Не кормят даром начальнички…
— Можно еще прокантоваться, Закир!
— Можно, конечно! — бездумно, из солидарности только, согласился тот.
Упираясь пяткой в край табуретки, Стуколкин подтянул к подбородку колено, пухлое в ватной штанине. Как на подушку, положил на него лохматую голову.
— Мне наплевать, — сказал он, успев в паузе глазами пробежать по всем лицам, — что вы думаете делать. Как хотите. Я всю дорогу воровал. Всю дорогу жулик. Кто-нибудь скажет „нет“?
Все выжидающе молчали.
— Я всегда приду к ворам, и мне не начистят рыло. Я всегда поделюсь с вором последним куском хлеба. Но сам я воровать кончил. Кончил внатуре…
— Твое дело, — поднял и опустил плечи Воронкин.
— Каждый имеет на это право, — как всегда, согласился с ним Ангуразов.
— Может быть, — после паузы продолжил Стуколкин, — кого-нибудь из вас босяки спросят за Цыгана. Почему Цыган завязал? Я могу объяснить… — он опять сделал паузу, а потом, рубя фразы: — Я не стал честным. Просто научился считать, что за каждый месяц на воле тянул два года. Ишачил меньше, чем ишачили там фрайера. Но ишачил…
Он закурил, пальцы его вздрагивали, дважды сломал спичку.
— На воле теперь не разгуляться, братцы! Не то время. Украл — и сиди в хате, втихаря пей водку. Вылез на улицу — берегись выкинуть лишний червонец. Иначе сразу попадешь. Прописал паспорт — участковый спросит: где работаешь? Не прописал — дворник стукнет участковому. Лучше без несчастья заработать грошей на ту же пьянку и не оглядываться… Конечно, украсть можно больше. И легче… — Он усмехнулся, сделал пару затяжек. — Идешь на дело, думаешь: пройдет! Знал бы, что наверняка сгоришь, — не пошел бы! Так, Костя?
— Допустим, что так…
— Хватит. Не хочу сам себе лепить горбатого. Раз пройдет, а на другой или на третий прихватят… Я — вор. Вор! Поняли? С огольцов воровал, чтобы не ишачить. Но за месяц жизни на воле два года пилить лес или котлованы рыть мне не по климату. Это и на свободе можно. Здесь я хоть сам хозяин себе. Захочу — соберу шмотки и айда! Кто меня остановит? Короче говоря, Цыган больше не ворует! Не желает быть фрайером!
— Ишачить никому не хочется… — сказал Воронкин. — Дураков нет.
— Есть, — усмехнулся Стуколкин, пытаясь поймать бегающий взгляд парня. — Ты. Хочешь не ишачить и всю дорогу ишачишь. Как последний рогач.
— Иди ты… — по привычке хотел было выругаться Воронкин, но умолк. Ничто не подмывало ругаться. Лениво, с показной беспечностью, прошел к койке. С маху плюхнулся на нее, задрав ноги на спинку. — Развел баланду, как гражданин воспитатель… — пробурчал он.
Остальные молчали.
Потом заговорил Шугин. О том, что его интересовало. Он обращался к Стуколкину и Ганько, вместе с которыми работал. Но темное чувство единой судьбы, порожденное рассуждениями Стуколкина, объединяло сейчас всех пятерых.
Шугин спросил, как бы примиряясь с необходимостью:
— Так что, братцы? Переходим на комплекс? Да?
Рядом с тревожной, давящей грудь чернотой тупика и бродящим в этой черноте призраком выхода из него вопрос Шугина был таким ерундовым, таким легко разрешаемым. А, не все ли равно? Стоит ли говорить об этом?
— Можно, — буркнул Ганько, торопясь к своим невеселым мыслям.
Но Николай Стуколкин уже перешагнул через сомнения и поиски. Он мог разрешить себе интересоваться мелочами:
— Мало людей — трое.
— Добавят, — сказал Шугин.
Стуколкин поморщился:
— Добавят каких-нибудь чертей — не обрадуешься. Будут придуриваться. За фрайеров спину, ломать — тоже на черта мне такие роги!
— А Костя с Закиром? — движением головы показал Ганько.
Воронкин ответил не сразу, но ответил. За себя и за Ангуразова:
— Ладно, давайте в куче. Без фрайеров.
Нельзя было оттолкнуться от людей, хоть в какой-то степени близких, остаться в одиночестве. А в его несогласии услышали бы именно это. Особенно сейчас, после исповеди Николая Стуколкина. Зачем портить отношения? Один черт, как работать…
Шугин предупредил:
— Вкалывать придется на совесть, Костя!
— Знаем, — все так же глядя в потолок, кивнул Воронкин. — Что же я, по-твоему, с босяками буду работать — и темнить? Что я за псина тогда?
— Да я так, к слову! — успокоил его Виктор.
— Три месяца до весны осталось, кореш! — добавил свое утешение Ангуразов. — Быстро пролетят. Там — все по шпалам с котелком…
— Цыган останется, — мигнул ему Воронкин, показывая на Стуколкина.
— Уеду! — опровергнул тот.
— К теплу поближе, где гроши растут на пальмах?
Николай не ответил. Глядя мимо него, заботливо напомнил Шугину:
— Коня надо подходящего просить. С таким, как вороной мерин, пропадешь…
Так организовалась еще одна бригада малого комплекса. Четвертая на участке.
Виктор отправился к мастеру — договариваться. Тот оказался на конном дворе. „Кстати“, — подумал Шугин, вспомнив наказ Стуколкина, и подался промятым в свежем снегу следом.
Мастер и Иван Яковлевич осматривали тылзинскую кобылу Ягодку, напоровшуюся ногой на сук. Третий день лошадь была „на бюллетене“.
— Решили работать комплексом, — с ходу доложил Виктор. — В общем, организуем бригаду…
Фома Ионыч особой радости по этому поводу не выразил. Смущало, что бригада будет состоять только из „блатяков“. Опять одни, сами по себе. И главное, приходится им доверить коня. Конь — тварь бессловесная, не придет жаловаться. А доброго отношения к беззащитной скотине от головорезов ожидать нечего.
Но Шугин отказался от коновозчика, которого хотел сосватать в бригаду мастер. Сказал твердо: будем работать впятером.
— Штука! — задумался Фома Ионыч. — Боюсь я вам коня выделять. Замордуете вы его.
Шугин начинал злиться; но тут — вовремя — вмешался Иван Тылзин:
— Маленькие они, что ли, Фома Ионыч? Людям на коне работать, зачем же они его уродовать станут?
Тот недовольно метнул в его сторону двух солнечных зайчиков со стекол своих очков. Покрутив головой, словно выискивал место, куда увести Тылзина для объяснений с глазу на глаз, обескураженно махнул рукой:
— Ты пойми, Иван Яковлевич. Конь не машина, коню отношение надо. А они? Разве они по-человечески могут — такие?
Руки Виктора Шугина сами собой метнулись кверху, судорога свела пальцы. Усилием воли заставив, как ему показалось, окаменеть сердце, он сдержался. Процедил через стиснутые зубы:
— Был бы ты помоложе, подлюга… Рук марать неохота. Уйди, гад! Сгинь!..
Между ними встал Тылзин.
Зачастил испуганно:
— Витька! Витька! Брось! Брось! — И видя, что Шугин опустил руки: — Вот так, вот и молодец!..
Иван Яковлевич совершенно растерялся: что говорить дальше, как говорить? Мастер оскорбил парня, ударил в больное место — Тылзин угадывал это. Но мастер есть мастер, да еще старик. А. Шугин на него с кулаками, с матом. Как можно?
— Разве кулаками правду доказывают? — выигрывая время, подступил он к Шугину. — Ты что?
Тот скрежетнул зубами.
— Ну вот! Психуешь? — обрадовался предлогу Тылзин. — А другие, думаешь, не имеют нервов? В горячке, братец, и не такое скажешь. Он, — Иван Яковлевич через плечо показал на мастера, — еще похлеще мне сейчас выдавал. За Ягодку. И фашист, и шкуродер. По-всякому, а я постарше тебя! Ну и не остыл, а тут ты — тоже насчет коня. Должен же понимать, что старик ведь. Спроста брякнул…
— Прошлого мне забыть не можете, — сказал Шугин. — Я знаю! Тогда освобождали зачем?
Тылзин всплеснул руками.
— Да разве кто в уме такое держал? Спроси, он тебе сам скажет.
Иван Яковлевич рискнул отступить, оставив парня и мастера лицом к лицу.
Фома Ионыч понял нехитрую дипломатию Тылзина. Осознал он и всю непозволительность промаха: действительно, брякнуть такое!.. Мастер, коммунист! Человек, обязанный перевоспитывать!
Надо было во что бы то ни стало выкручиваться!
— Знать я твоего прошлого не хочу, — напористо, с нотками обиды в голосе, начал он. — Я к тому, что молодые вы все. Вам что конь, что трактор: тяни знай! Знаю я вас!.. Разве ты Ивану ровня, а и он — звон!.. А с вас вовсе какой спрос?..
Шугин и верил и не верил. Сердцем чувствовал: не то подразумевал мастер! Но с другой стороны, ему везде мерещатся такие попреки прошлым. Как зайцу — собаки. Может, на самом деле Фома Ионыч не думал об этом. А они, мол, кто? Сопляки!.. Могло и так быть…
— Если неправильно понял — извиняюсь! Только… я к вам с делом, а вы… Что мы — звери, коня вашего мучить?..
У Фомы Ионыча упал с души камень.
— Видишь, тут как — одно к одному. Голова кругом. Понятно, что дам коня. Но опять же ты с кулаками ко мне полезешь. Кони — они за возчиками закреплены. Не могу я у человека коня отобрать. Вот из подменных выбирай любого…
— Витязя вполне можешь брать, — посоветовал Иван Яковлевич. — Тягучий. Не гляди, что девятый год. И зубы еще добрые…
Конечно, если выбирать из двух — надо брать Витязя. Это Шугин и сам понимал. Лучше Витязь, чем чужой человек в бригаде. Да и как его возьмешь, нового? Кем-то из своих надо тогда поступаться…
— Черт с ним, возьмем Витязя, — решил он. — Возить Стуколкин будет.
Тылзин уже повеселел, мог шутить:
— Во-во! Вы его вроде Цыганом дразните, так это ему по специальности — коногонить. Какой же цыган без лошади?
Когда Шугин ушел, Иван Яковлевич сказал гневно и осуждающе:
— Эк тебя за язык-то дергает!
Фома Ионыч засопел, зашарил по карманам — как будто срочно понадобились спички. Нашел. Вычиркнув, подержал огонек над курящейся и без того трубкой. Пряча глаза, объяснил невразумительно:
— Понимаешь — затмение нашло…
Тылзин устало опустился на пышную охапку сена, по пояс в нем утонув. Достав папиросы, тоже закурил. Вздохнул:
— А говорим — воспитывать!
— Я, брат, не говорю. Не лезу. Это ты зря.
— Так ведь надо воспитывать-то. Воспитывать, а не так вот, словно по голове кувалдой. Шугин — он гляди как выправился…
— Сколь волка ни корми, все в лес смотреть будет!
— А кто их кормит?. Сами едят, сами на хлеб зарабатывают. Нашими пирогами не больно прельстишь. Поди как твоя Лужня сладка! Леса да небеса!
— А я про что?
— Не-ет, ты про другое!.. Ты мне — что воспитывать ни к чему, что пропащий они народ? Так?
— И про то, что разговоры одни…
— Вот, вот! Я же тебе о другом. Насчет разговоров ты, может, и прав. Может, конечно, в другом месте и не только разговоры, а у нас — это точно. Нам тут самих себя не воспитать, чего уж дальше замахиваться. И все же ты посмотри: Витька-то Шугин извинения у тебя запросил? Шугин! Ты это как понимаешь?
Фома Ионыч поежился — вроде извиняться перед ним не за что было, по-тылзинскому-то так выходит. Промолчал.
Но Иван Яковлевич не хотел униматься:
— Это значит, — пообтерся человек. Тот — и не тот! Слыхал, есть такой воспитатель — жизнь? Вот кто воспитывает! Без разговоров!
— Кабы они, Иван Яковлевич, жить-то начинали только. Жизнь — она сызмала воспитывает. С этаких вот, — показал он полметра от пола.
— Нет, это ты погоди! Я вот как считаю: зачем досрочно ребят выпустили? Как бы поблажку сделали? Да затем, чтобы вот такой Витька Шугин между настоящих людей потерся. Вроде внеочередного отпуска по путевке: пойми, мол, что тебе за государственный счет возможность предоставляется. Ступай оглядись, как люди без легких денег трудной-то жизнью лучше тебя живут. А не хочешь оглядываться — на себя пеняй. И должны бы понять, на какие им уступки пошли!.. Какая ни есть голова у всех имеется…
— На которых, может, и подействует, — подумав, согласился Фома Ионыч. — Только многих зря выпустили, по-моему. К примеру, таких, как наши…
— А как ты незряшных выберешь?
Фома Ионыч развел руками:
— Да, никак не выберешь, это верно. Атомный век, а такой машины не изобрели, чтобы души у людей просвечивать, что ли…
Не темнить!
Работать — значит работать, а не держаться за стяжок, надеясь на других и притворно пыжась. Не тянуть время, а шевелиться.
Курить — значит курить. Всем. Во время перекура можно подсушить у костра верхонки, переобуться, соврать что-нибудь. Перекур — это перекур.
Поднялись? За работу? Тогда — костра на пасеке нету, мороз до следующего перекура отменяется. Не темнить!
В первый же день совместной работы пришлось напомнить об этом правиле Ангуразову. Парень решил заклеить сломанную папиросу, сидя у огонька.
Работавший поодаль Ганько свистнул в два пальца, привлекая внимание.
— За меня тоже перекуришь, Закир? — насмешливо крикнул он.
Ангуразов бросил в его сторону неприязненный взгляд, но папиросу спрятал, так и не заклеив. Пожаловался Воронкину:
— Только прикурить подошел, понимаешь? За огнем. Может, разрешение у Хохла спрашивать?..
Но даже у Воронкина он не встретил сочувствия. Костя показал кивком из ощетинившиеся сучьями хлысты и с выдохом, похожим на кашель, ударил топором.
— Х-ха! У них спрашивай, кореш!
Костя Воронкин еще согласился бы, что курить будет он, а Закир — работать. Но наоборот — не пляшет!..
Стуколкин, расчищавший подъезд к уже окученному лесу, усмехнулся — вот так да!.. — и прикрыл усмешку рукавицей.
Виктор Шугин не слышал слов Воронкина. Не прислушивался и даже не присматривался, как работают остальные. Следовало бы присмотреться, — бригадир все-таки! — только Виктор позабыл об этом.
Не то чтобы он „жал“ основательнее, чем всегда, и времени не было присматриваться. За день „Дружбой“ можно спустить с корня сотни полторы, а то и все две, деревьев. Кубометров семьдесят. Такой бригаде и с половиной не управиться: в кубометры пересчитываются не хлысты, а бревна.
Нет, Виктор не спешил. Наоборот, работал с какой-то особенной неторопливостью. Это была неторопливость пластичности, уверенности в своем торжестве над временем.
Двигаться неторопливо и пластично заставляло Виктора ощущение праздничности. Откуда оно взялось, новый бригадир не пытался объяснить себе. Наверное, с этим ощущением он пришел утром на лесосеку. Но осознал его, только взяв пилу и глянув вдоль пасеки.
Заправив пилу горючим, как всегда, приступил к валке. Пила казалась необычно легкой, древесина — удивительно податливой. Цепь не врезалась в нее, а втекала струйкой воды и поблескивала, как струйка. С сожалением выключил мотор, когда понадобилось толкнуть дерево. Но и это получилось так ловко, что Виктор даже улыбнулся, следя, как оно падает.
Когда позади лежало с десяток хлыстов — он не считал, сколько свалил, — Виктор оглянулся, закуривая первую папиросу. Он был доволен собой, но как-то по-необыкновенному. Словно смотрел со стороны на дело чьих-то других рук.
Обрубавший сучья Ганько на миг приостановился и, погрозив топором, крикнул:
— Бригадир!.. Шевелись давай!..
Крикнул из озорства, шутя. Так и приняв его слова, Шугин хотел было тоже ответить шуткой, но Ганько уже стоял спиной к нему. Взлетел топор, отскочивший от него солнечный луч полоснул Шугина по глазам, заставив моргнуть. Ганько передвинулся на шаг к вершине хлыста, снова взмахнул топором. Виктор прищурился, но топор больше не вспыхнул, а впереди Ганько дрогнул и плавно повалился сук, похожий на огромную трехпалую руку. Словно осина откинула ее жестом удивления.
Собранность и быстрота движений Ганько вызывали зависть. Шугин выплюнул папиросу и взял пилу. Опять-таки не рывком, без спешки. Даже промелькнула мысль, что так следует вступать в танец.
И тогда Виктор понял причину своего необычного настроения, источник поющей в нем и вокруг него неслышной музыки: не танец — скорее, песня! А он — запевала, выдумал и ведет ее. Не песню, конечно, а работу — какая, к черту, песня? Но это действительно он, Витька Шугин, захотел и добился, чтобы все шло в ритме. Сам, своей охотой, никто не принуждал к этому!
Бросив через плечо беглый взгляд назад, Виктор снова ослеп от блеска ганьковского топора. Левее Стуколкин с Воронкиным накатывали на сани бревно. Мерин воротил голову от дыма, заслонившего сучкожога Ангуразова. Шугин находился, как бы в вершине треугольника. Вспомнился почему-то клин на снежной дороге: он, Виктор, острие клина.
Виктор перевел взгляд на заступившие дорогу деревья и развернул плечи с таким чувством, будто расталкивает ими лес — как клин! Он радовался возможности схватиться с лесом, высвободить избыток сил. Присмотрев ель покубатуристее и запустив пилу, сказал:
— Эх, милая!
Он как бы упрекал дерево: „Кому ты задумала противостоять?“, сожалея, что победа будет слишком легкой.
Плавным движением послав тело вперед, припал на полусогнутую ногу, одновременно вонзая пилу. Мотор изменил тембр звука, брызнули на снег опилки. Поджимая по мере надобности пилу, Виктор испытывал какое-то необъяснимое торжествующее чувство слитности с послушным ему механизмом и окружающим миром, могущественным и уступчивым одновременно.
За первые же две недели работы в бригаде Воронкину и Ангуразову начислили каждому почти на полторы сотни рублей больше, чем обычно.
— Пять раз по полбанки, не считая закуса! — подмигнул другу Костя, пересчитывая деньги. — За здоровье гражданина комплекса!
Но комплекс тут был ни при чем. Просто в бригаде следовало не отставать от товарищей.
Пропивать лишние деньги Ангуразов вдруг отказался:
— Хватит, — сказал он. — Переберешь — придется завтра полдня у костра загорать. Пока башка не пройдет…
Про себя Воронкин теперь уже недобрым словом вспомнил комплекс — верно, не посидишь у костра! Но душу решил отвести:
— Слабцы вы все! С получки — и всего два литра на пятерых? За что боролись, за что кровь проливали? Рекордисту Косте Воронкину всего полбанки?.. Воронкину, который…
Его излияния прервал Василий Ганько, пришедший с правой половины. Встав на пороге, он восторженно зажмурил глаза, поджал губы и сказал нараспев:
— Бра-атцы! Какой хромовый пальтуган Борька Усачев в сашковском сельпо оторва-ал!.. Тот еще пальтуган! Весь — на молниях!.. Китайский! Три штуки в сельпо привезли…
— Может, вытряхнем? — подмигнув, предложил Костя.
Но Ганько, видимо, было не до шуток. Посерьезнев, бегая глазами по лицам товарищей, он спросил:
— Хлопцы, кто выручит грошами? Косую наберу, надо еще столько. Две тысячи сто надо… Ну и — завмагу подсунуть, чтобы магазин открыла. Закрыт уже магазин, а до завтра ждать — утром враз расхватают.
Насмешливый, дерзкий голос Василия звучал неузнаваемо — вкрадчивый, почти умоляющий. Все знали, что у Ганько завелась в Сашкове „знакомая“, по которой он сохнет. Конечно, охота молодому показать себя, щегольнуть. Ясное дело!
— Бумаг триста дам, — сказал Шугин.
— Ну, и мы триста подкинем. Да, кореш? — повернулся к Ангуразову Воронкин. — Если босяк босяка не выручит…
— Сколько тебе еще? — просто спросил Николай Стуколкин, доставая свернутую трубкой пачку бумажек.
— Тебе я и так должен еще, — совестливо опуская глаза, вспомнил Ганько.
— Отдашь, куда денешься…
Ночью сияющий Ганько заявился в желтом кожаном пальто, расшитом блескучим никелем застежек. Все спали уже, но Василию не терпелось похвастать, покрасоваться. Включив свет, он громко и неловко разыграл удивление:
— Уже спите?.. Черт, а я свет зажег…
На койках зашевелились, спросонья недовольно заворчал Шугин:
— Кто там? Чего? Выспаться не дадут…
Но уже поднялся, протирая глаза, Воронкин. Уже Закир Ангуразов, щупая кожу, прищелкивая языком, уверял:
— Вот на столько обрежешь — вполне сапоги выгадаешь. Хром правильный. Подметки да стельки добавить только…
— Лимит тебе в нем, Васька! — похвалил Стуколкин, закуривая внеурочную папиросу. — Вещь, одним словом…
Костя Воронкин выдернул из-под матраца затрепанные карты, последнее время почти забытые. Зажав в левой руке, правой, как взводят курок, оттянул колоду и, по карте выпуская из-под пальца, дал длинную очередь негромких выстрелов.
— Катаем? — зубоскальничая, спросил он Ганько.
— У тебя грошей не хватит! — счастливо заулыбался тот.
Воронкин прищурился — теперь он словно прицеливался.
— Грошей не хватит — найдем тряпки. Иди! — Улыбка его вдруг изменилась, стала фальшивой, мертвой.
Но Ганько, все еще принимая его предложение за розыгрыш, отмахнулся.
— Трусишь?
По-прежнему радостно и смущенно улыбаясь, Ганько оправлял койку, собираясь улечься.
— Кишки подтянуло к пяткам? — не унимался Костя. — Ты его под одеяло возьми, свой мантуль. И держи всю дорогу…
— Ты что? Внатуре? — удивился Ганько.
— Нет, с понтом! — с откровенной злобой огрызнулся Воронкин. — Конечно, внатуре!..
Василий растерянно озирался, словно искал поддержки. Встретился с пустыми, холодными глазами Закира Ангуразова. Шугин спал. Стуколкин, тоже укладывавшийся уже, не спуская ног на пол, приподнялся на локте. Лицо его было или равнодушным, или непроницаемым. Он разминал в пальцах новую папиросу.
Некому было поддержать…
— А еще босяками называются, — язвил Воронкин. — Бабы. Тряпичники. За тряпку переспать готовы проститутки…
— Покажи гроши, — бледнея сказал Ганько.
— Пож-жалуйста! — Воронкин широким жестом выкинул на подушку несколько сторублевок, повел глазами на Ангуразова. — Кореш, добавляй!..
Ганько глядел в пол, но краем глаза он видел, как Воронкин с залихватской уверенностью пересчитывал деньги. Если бы их не хватило!..
— Тыща четыреста. За шестьсот идут его прохаря, — зажатой в руке колодой показал на согласно кивающего Закира. — В стосс?
— В коротенькую, — не поднимая глаз, хмуро бросил Василий. — В трех партиях.
— Какой может быть разговор? — Воронкин начал тасовать колоду.
Василий не сразу нашел свои карты — завалились за кровать. Достав, швырнул Воронкину. Тот с улыбочкой пересчитал их.
— Порядок. Разыграем сдачу?
— Тасуй…
Воронкин стасовал, дал подрезать. На руках Василия — девятка червей. Карта жгла пальцы. Он смотрел на нее, как на врага, закипая бессильной яростью.
— Бейся.
Воронкин перевернул колоду, открыв бубновую даму, и начал метать. Девятка червей пошла налево.
— Бита, — сказал Воронкин и скорбно поджал губы.
Во второй партии у Василия убился трефовый валет.
Третью выиграл — его туз бубен оказался в сониках. И затем две партии подряд: бита! бита!..
Воронкин аккуратно подровнял брошенную колоду, протянул Ганько.
— Спрячь. Пригодятся.
Машинально зажав карты в кулак, Василий снял со спинки кровати обновку, перебросил на койку новому хозяину.
— В расчете, — кивнул тот.
Тяжело переставляя негибкие ноги, Ганько подошел к своему месту. Разжав кулак, долго смотрел на помятую колоду. И вдруг, зубами помогая пальцам, стал рвать карты, брезгливо отплевываясь.
— Кончики! — почти весело сказал он сам себе. — Неиграющий!
И, подняв глаза от рассыпанных у ног обрывков, встретился с внимательным, спокойным взглядом Николая Стуколкина.
— А я — играющий! — неожиданно усмехнулся тот, сбрасывая одеяло. — Подожди, Костя, не ложись! Хочу закатать тебе пару косых.
Ганько перевел взгляд на Воронкина. Увидел, как руки его беспокойно зашевелились, без нужды разглаживая наволочку. Как заострились черты напряженного лица.
— Поздно, Никола! — насильственно зевнув, сказал Воронкин. — Завтра!..
Но Стуколкин уже усаживался на его койку.
— Ничтяк, выспишься. Тебе везет, быстро меня вытряхнешь. В коротенькую, в трех партиях…
Воронкин поколебался, но отказываться было нельзя. Можно было только хитрить, увертываться.
— Под мантуль? — спросил он, кивая на выигранное пальто.
— Ага.
— Не играется, Никола. Гроши на гроши.
Стуколкин не противоречил:
— Хозяин — барин. Тогда — третить будем. Разыгрывай сдачу.
Оба сидели на постели, по-казахски поджав под себя ноги. В руках у каждого своя колода. Между ними — подушка в цветастой ситцевой наволочке. Когда Ганько швырял на нее карты, он не различал испестривших ситец узоров. А теперь вспомнил, какие они. Белые звездочки по красному полю плавали перед глазами, как будто он все еще сидел напротив Воронкина.
Напротив Воронкина сидел Никола Цыган, старый босяк, страшный своим спокойствием картежник. Теперь он протягивал руку к хромовому пальто, а Василий Ганько думал про себя: гады, увидели настоящую шмотку, готовы перегрызть глотки из-за нее! Гады! Гады! Гады!
И все-таки мучительно хотел, чтобы выиграл именно Стуколкин. Чтобы пальто не досталось Воронкину. Потому что, если пальто останется у Воронкина, он, Ганько, изрежет или изрубит на клочки блестящую коричневую кожу и, если сунется Воронкин, изрубит Воронкина. И сядет по мокрому делу, за убийство. Черт с ним, коли все так получается… Но играть больше не будет… Никогда не возьмет карт в руки. Завязано! Кончики!
Воронкину повезло — он метал. Даже уткнувшись в подушку, Ганько видел его ловкие пальцы, невольно воскрешая их в свой памяти. Короткие, тупые — и тем не менее проворные, неуловимо быстрые. Такие же, как у всех играющих урок, — но воронкинские, ненавистные. Пальцы убийцы, убившего радость Василия Ганько.
— Убилась.
Это сказал Цыган про свою карту. Сказал очень негромо. А Василия — в противоположном углу комнаты — это спокойно уроненное слово хлестнуло по барабанным перепонкам.
— Червонец по кушу, куш червонец, — ровно объявил Стуколкнн, и Ганько решил, что у него девятка, а он подравнивает до сотни.
Воронкин метал.
— Бита!
Как, опять проиграл Цыган? Игрок называется! Василий надорвал новую пачку папирос. Прикурив, жадно захватал дым. Пока что игрались деньги, очередь до пальто — не дошла. Но так она может и не дойти. Шебутной обыграет Цыгана за наличные, а играть в долг откажется. И все.
Представив себе Воронкина в кожаном пальто, Василий с трудом подавил желание бежать за топором, чтобы тотчас расправиться со своей покупкой. Подавив, решил: никуда не побежит, ничего не сделает. Проиграл. Честно проиграл, как вор вору. Значит — надо смириться с потерей, забыть. Подумаешь, хромовый пальтуган! Тряпка! Есть из-за чего психовать!..
Он, Ганько, плюет на пальто. На Воронкина и на Стуколкина тоже плюет. Не хочет их знать, гадов. Босяки!.. Плюет он на всех босяков, на преступный мир. Так проживет, без них. Десять пальтуганов еще купит на свои кровные гроши, и никакой Костя Шебутной не вынудит его играть. Он — неиграющий теперь, Ганько. И не босяк, пусть босяки не касаются до него…
Стало легко и не так обидно. Словно он заплатил своим пальто за что-то еще более дорогое и нужное ему. Ну да! Он заплатил им за возможность со спокойной совестью перебраться в Чарынь, отколоться от кодлы. Чтобы жить, как хочется ему последнее время, после знакомства с Дусей.
— В расчете? — где-то далеко-далеко спросил Стуколкин.
Ганько даже не сразу понял, что Цыган сквитал проигрыш, игра идет своим чередом и, наверное, все-таки дойдет черед до пальто, потому что Никола Стуколкин — великий чистодел по игре в карты. Но у Василия почти пропал интерес к этой игре. Теперь он думал о Дусе и о том, как скажет ей: „Все, Дусенька! На, прошлом стоит крест. Железный. Ваше условие выполнено: у Василия Ганько теперь есть только один друг-приятель. Его зовут Дусей Мурановой. Вы знаете такую?“ Дуся, конечно, скажет, что этого мало. Что он должен доказать ей свою любовь и самостоятельность…
— Да ты что, сад, сука? — заставил встрепенуться истеричный выкрик Воронкина. — Всю дорогу в цвет гадать будешь?
И спокойный, ровный голос Стуколкина:
— Очко червонец, куш сто. Мечи.
Сейчас он держит карту рубашкой кверху, а Воронкин медлит открывать лобовую. Как и следовало ожидать, Цыган выигрывает. Он всегда выигрывает, но всегда играет по маленькой. А тут — очко по червонцу, куш сто! Если десятка — двести рублей на карте!
Ганько приподнялся, стараясь увидеть карту.
Но Стуколкин сидел спиною к нему. Только его спину можно было увидеть.
— Падлючий потрох! — неожиданно взвизгнул Воронкин и сжатыми кулаками, в одном из которых держал колоду, трижды ударил себя по вискам.
„Снова Никола выиграл“, — угадал Ганько, успокоенно опуская голову на подушку. Пусть Стуколкин выиграет пальто — он все-таки, ничего малый. Даже Дуся, видевшая его в Новый год в клубе, сказала, что „похоже, самый порядочный!“ Пусть носит как память о Василии Ганько, который когда-то назывался Васьком Хохлом и был справедливым босяком, не барахольщиком… Наоборот, всегда презирал тряпки…
Сон оказался сильнее обид, раздумий, истеричной матерщины Воронкина, даже улыбки Дуси Мурановой. Впрочем, кажется, именно сон-то и притворился для начала белозубой Дусиной улыбкой, чтобы потом стать мгновением беспамятства, по истечении которого надо открывать, глаза и вспоминать о начале нового дня.
Первое, что увидел Ганько, открыв глаза, — это поблескивающую в электрическом свете желтую кожу проигранного пальто. Оно опять почему-то висело на спинке его собственной кровати. Василий приподнялся на локте и посмотрел на койку Стуколкина. Тот подтянул валенок, затолкал в голенище ногу, притопнул. И, подняв голову, встретился глазами с Ганько.
Сказал равнодушно, без улыбки или скрытого в словах тайного смысла:
— Мне твой пальтуган в плечах узковат. У тебя пятьдесят второй, наверное, а мне по ширине пятьдесят шестой надо.
В противоположном углу, выбирая из сушившихся на плите валенок свои, злее обычного ругался Костя Воронкин. К Ганько и Стуколкину он все время норовил повернуться спиной. По спине, из растянутого выреза майки, обвив крестообразную рукоятку ножа, тянулась змеиная голова с тонким раздвоенным языком. Но еще больше, она походила на нераскрывшийся бутон синего цветка с двумя усиками.
Ганько невольно улыбнулся нелепости этого сходства. Костя Шебутной — и вдруг цветок. Смешно?
Лес потерял свою сказочную красоту и нарядность. Потемнел, вроде поредел даже — это февральские метели отрясли с веток пышное убранство его, посыпали снег обломанными веточками да хвоинками. Кустарники распрямились, выпростав себя из белых тяжелых шуб, и теперь дрогли на все еще по-зимнему сердитом морозе — голые, жалкие своей худобой, костлявостью.
Зато дни стали светлее, дольше. Казалось, что само время сделалось более емким. Стрелки по циферблату ползали нисколько не медлительнее, но часы и минуты словно попросторнели, раздались, наливаясь светом.
В начале первого весеннего месяца — марта — еще трудно различать приметы весны. Их еще так легко спутать с добротой зимы, хорошим расположением духа деда-мороза. Даже Настя, обычно раньше других умевшая угадать в зимнем погожем дне робкую улыбку весны, в этом году почему-то не заметила ее.
Первыми о весне вспомнили кот Пушок и Костя Воронкин.
Пушок ходил по влажному снегу, брезгливо подергивая лапами, трубой подняв хвост, и орал благим матом.
Костя Воронкин, с ухмылкой озабоченности разглядывая свои доживающие век валенки, изрек:
— В апреле самая распутица начнется. Грязи будет по брюхо. А там реки разольются, и в мае не выберешься. Как вы насчет этого думаете, братцы?
— Рано еще вроде бы, — сказал Стуколкин. — Холодно еще…
Он поежился, представив себе этот холод, от которого нельзя будет отгородиться теплыми стенами барака.
— Не замерзнешь! На каждой станции — кипяток бесплатно! — усмехнулся Воронкин. — И в каждом буфете продают водку, были бы гроши. А гроши найти всегда можно. Скажи, Закир?
— Гроши будут, — поддакнул тот. — Об чем разговор!..
Шугин и Ганько промолчали.
Виктор Шугин, сопя от напряжения, пришивал к пиджаку пуговицу. Нитка путалась, иголка колола пальцы, а портной злился. Он мог и не слышать вопроса Кости Воронкина.
Ганько слышал!
Наступления поры, когда можно трогаться в дальнюю дорогу, он ждал еще более нетерпеливо, нежели Воронкин. Ждал, чтобы освободиться, развернуть крылья. Но лететь никуда, не собирался.
В этом бараке, возле этих людей, Василия Ганько удерживало только то, что нельзя было сказать: „Идите к черту!“ Как он может сказать такое, пусть даже молча уйти, отделиться от них без всякого повода? Любые слова, любые объяснения будут истолкованы как попытка спрятать за словами трусость, бегство, предательство. Его не поймут, его не смогут понять, если он объяснит — почему. Да и не сумеет он объяснить достойно босяка и мужчины, потому что завязывает не так, как Никола Стуколкин. Завязывает, чтобы стать как все, чтобы Дуся не стыдилась его, чтобы не бояться потерять Дусю. Разве им скажешь это? А соврать, сказать то же, что и Цыган, неловко, будет повторение чужих слов, ему не поверят.
Один раз он было набрался решимости. Ушел бы, не пряча глаз, с высоко поднятой головой. Но тогда все спутал Стуколкин — отыграл у Шебутного пальто. Рискуя своими деньгами, отыграл для товарища, для Василия Ганько. Босяк для босяка! У кого бы хватило после этого совести уйти, сказав своим уходом: вы не товарищи мне? Не было у него права уйти. Ведь даже Воронкин не сделал ничего не положенного босяку: выиграл, не отнял. Он, Ганько, сам виноват. Завелся, клюнул на подначку…
Нет, пусть уйдут они. А он останется. Скажет: есть дело, должен задержаться. Мало ли что у него за дело? Дело — значит дело, никто не спросит его какое. Не положено спрашивать!
Подготавливая этот будущий разговор, он сказал, будто с интересом разглядывая снег под окном:
— До мая здесь ворью жить худо. Дворники снег не убирают… Хочешь не хочешь, а след оставишь.
— Олень! — презрительно оглядел его с ног до головы Воронкин, будто измерял рост. — Технически надо работать. Чтобы без следов.
— Где можно, а где и нельзя! — настаивал на своем Ганько. — Я вчера нарочно по Сашкову прошел. Смотрел. Еще на баяниста с Настей нарвался. Напугал их, а она к Борьке так присосалась, что он ее еле оторвал!
Лязгнув зубами от внезапного толчка в грудь, парень растерянно смотрел на Шугина, сгребшего в горсти рубашку на его груди.
— Свистишь? — заглядывая в глаза, спросил Шугин.
— Ты что? Чокнулся?
— Меня заводишь? — Шугин тряхнул его, еще ближе притянул к себе. У него подрагивал угол рта. — Меня другим заводи. Девку не трожь зря, гад! Пришибу!
Стуколкин, Воронкин, Ангуразов, готовые разнять их, ждали: что дальше?
— Да ты что? Внатуре говорю. Сам видел…
Пальцы Виктора разжались, безвольно упали руки.
— Лады! — только и сказал он, поворачиваясь к своей койке.
Воронкин прикрыл один глаз ладонью, спросил:
— Я не косой?
Стуколкин пожал плечами — не знаю, мол, вроде действительно черт знает что получилось.
— Витек, в чем дело? — спросил он Шугина.
Тот ответил, глядя в сторону:
— Так…
И, уходя от вопросов и пытливых взглядов, на ходу прижигая папиросу, захлопнул за собой двери.
— Значит, Настя ему бороду пришила? — улыбаясь, поинтересовался у Василия Воронкин.
— Да нет… Он же с Наташкой Игнатовой вроде… Хотя… В Сашково редко когда ходит…
— Факт, что борода! — решил Воронкин. — Ну и отметелит Витёк баяниста! Удавит, гад буду!..
Стуколкин, не глядя, зацепив с гвоздя чей-то ватник, шагнул к двери.
— Куда? — спросил Ганько.
— Туда! — неопределенно ответил Стуколкин, но Василий понял: к соседям, в случае нужды помочь Шугину. Накинув ватник, Стуколкин объяснил сам:
— Он же псих, Витёк. А на черта ему несчастье иметь? Да еще из-за девки!
— Пошли, — кивнул Ганько. — Вдвоем сумеем придержать, если кинется на Бориса. Пера-то у него нет вроде?
Им не пришлось ни удерживать Шугина, ни отнимать у него нож. Виктор стоял на крыльце, грудью навалясь на перила. Курил, жадно глотая дым. Щеки его при каждой затяжке проваливались, обтягивая острые скулы.
— Не заводись! Плюнь! — встал рядом с ним Стуколкин.
— Было бы из-за чего, — подошел с другой стороны Ганько. Он считал, что только из-за одной Дуси Мурановой стоило рисковать. Но Дуся и не позволит себе с кем-нибудь целоваться, кроме Василия Ганько. Это уж будьте уверены!
— А я и не думаю заводиться! — вдруг усмехнулся Шугин, хотя глаза его совсем не смеялись. Глаза были пустыми, невидящими, словно погас всегда плавающий в зрачках огонек.
— Правильно! — сказал Стуколкин. — Что ты, хулиган, что ли?
— Руки пачкать! — брезгливо поморщился Ганько.
Шугин, видимо тяготясь их опекой, в поисках неведомо чего забегал по сторонам мертвым взглядом.
В сени, кутаясь в накинутый поверх нижней рубахи полушубок, вышел Никанор Коньков. Щурясь спросонья, долго приглядывался к стоящим на крыльце, потом спросил:
— Не потёпле стало? Пора бы уже?.. А?..
Неприязненно покосившись в его сторону, дернув углом рта, Шугин вдруг объявил:
— Схожу до Чарыни. Могу захватить пару бутылок, Никола!..
— Не захватишь, — вмешался, покачав головой, Коньков. — Забыл, который сегодня день? Понедельник! Закрыто у Клавки.
— Откроет, — сказал Шугин.
— Нет, я тебе говорю! — Коньков подкрепил слова жестом, забыв о накинутом полушубке. Не придерживаемый рукой, полушубок соскользнул с плеч. Покамест Коньков поднимал его, Шугин спустился с крыльца. Конькову пришлось кричать вдогонку ему:
— В Сашково Клавка ушла. К своим. Слышь?
Шугин, не обращая внимания, зашагал по обледенелой тропе, скрылся за углом барака.
— Зря сходит, — сокрушался Коньков.
— Пусть! — успокоил его Стуколкин. — Промнется. Ветром обдует человека.
Тот посмотрел недоверчиво, боязливо:
— Чего-то ты мне… того… Зубы заговариваешь.
— Ага, — серьезно сказал Стуколкин. — Я же цыган. Могу гадать и зубы заговаривать. И коней воровать. Идем, Васька…
— У меня, брат, нечего воровать, — крикнул им вслед Никанор. — За воровство, брат, теперь по головке не гладят… Знаешь?
— Знаю, — оборачиваясь, усмехнулся Стуколкин. — Не буду твоего коня красть. Ладно.
— А у меня его и нету, коня-то! — радостно сообщил Коньков.
— Правильно, — уже с порога ответил Стуколкин. — Зачем твоей бабе еще одну скотину держать?
Коньков, недоумевая, посмотрел на закрывшуюся дверь: чего врет парень? Вовсе скотины они не держат, Коньковы…
А на правой половине барака Тылзин рассказывал Скрыгину, что такое настоящая работа в лесу. На механизированных участках, где рубят целые кварталы, не пяток стометровых пасек за всю зиму.
— Тут что? — спрашивал Иван Яковлевич и сам же отвечал: — Трактору тут, прямо сказать, невыгодно. Ему кубатура нужна, трелевка хлыстами. И расстояние, чтобы не шибко далеко от разделочной площадки. Он ведь тихоход, разделанный лес дальше автомашина повезет. А у нас три километра до склада, три назад. Опять же сплав. Сплаву надо бревно дать, а трактор тебе хлыст двадцатиметровый притянет. С берега до берега твоей Лужие хватит. На раскряжевку надо бригаду ставить, на штабелевку. Вот ты и прикидывай: что выгодней? Выходит, наивыгоднейшее здесь дело — бригада малого комплекса, только что заместо трактора конь. Вот если бы массив подходящий, тогда да! Тогда без механизации делать нечего. Масштабы, Вася, масштабы! Как дорубим здесь дачу — на четвертый участок должны угадать. Там посмотришь!
— А чего там смотреть? Такие же сосны да елки? — отложил затрепанную „Роман-газету“ Усачев. — На технику, Иван Яковлевич, мы в армии насмотрелись, не удивишь. Тебе, Васька, вылезать надо из леса. Сюда, как на зимовку, от беды можно завербоваться. Вот как мы с тобой нынче. А присыхать в лесу интересу нет, по-моему…
— А где, по-твоему, интерес есть? — прищурился Тылзин. — Можешь ответить?
— Могу, — самонадеянно сказал Усачев и споткнулся, обдумывая, как отвечать, Тылзин, он такой: ответов по уставу не признает, дотошный мужик. Но по уставу отвечать всегда проще, особенно когда вопрос каверзный. — Во-первых, у каждого свой интерес быть должен, Иван Яковлевич. От призвания. А главный интерес — работать там, где ты можешь дать больше пользы для государства. Для общества. Скажем, если у кого талант… Ну, например… к технике, так нечего ему лезть в другое дело.
— Ну-ну!.. — поощряюще и в то же время лукаво усмехнулся Тылзин. Поняв, что Борис выговорился, спросил: — Это ты про Ваську, что ли?
— Ну и… про Ваську тоже…
— Понятно. В газете про пользу для общества читал? Это хорошо. Плохо, что прочитал, слова запомнил, а не вник. Болтаешь себе как патефон — по пластинке. И я тебя не об Ваське спрашивал, об тебе.
— Так я же вам ответил…
— Туману ты напустил. Для общества! По-твоему, как у тебя талант к баяну, тебе надо на баяне играть, чтобы для общества польза была? Да?
Усачев пожал плечами, иронически улыбнулся.
— Конечно, если понимать в узком смысле…
— А ты мне в широком объясни. Коли уж я такой бестолковый…
— Не стоит, Иван Яковлевич! — все с той же гримасой иронии и сожаления отмахнулся от тяжелодумности собеседника Борис.
Тылзин вздохнул и медленно провел по лицу ладонью сверху вниз. Ладонь словно бы стерла обычное выражение лукавого добродушия.
— Не можешь, — сказал он. — Я сам тебе объясню, а ты разве что „нет“ скажешь. Другого не сумеешь. А „нет“ скажешь, это я точно знаю…
На койке зашевелился дремавший Сухоручков. Не поворачивая головы, пошутил:
— Опять Иван правды ищет? Ты с ним не вяжись, Борис, — заговорит насмерть.
Принимая его слова за поддержку, Усачев съязвил:
— Он, Николай Николаевич, за баян напустился на меня. Против музыки возражает.
— Нет, я тебе твой интерес объяснить хочу. Ты вот Ваську сбиваешь этим интересом, а он у тебя вроде коньковского. Деньгу заработать побольше.
— А вас это совсем не интересует, конечно? — елейно играя голосом, прервал его Усачев.
— Всех интересует, зря ты меня перебил. Я говорю: деньгу зашибить побольше, а работенку найти полегче. Только Никанору образование не позволяет по своему интересу жить. Разве что на коне работать, не топором махать. А ты заместо коня — музыку, баян… Ты не обижайся, я тебе правду говорю!
— Нечего мне на вас обижаться, — и в голосе Бориса послышалась обида. — За длинным-то рублем я сюда, в леспромхоз, приехал. С баяном длинных рублей зарабатывать не собираюсь…
— Значит, без корысти твой интерес? Чтобы только для общества?
— В основном — да!
— Так чего же ты отсюда бежишь? А? Тут от тебя обществу двойная польза: лес рубишь и музыка твоя вот как нужна; артисты сюда не больно-то ездят…
— Трудно с вами говорить, Иван Яковлевич! Нет у вас понимания обстановки…
— Брось, — устало промолвил Тылзин. — Брось, Борька! Я ведь не к тому, чтобы упрекнуть, — если лучше да легче ищешь. Все мы так, кто как умеет. Таким, чтобы нарочно труднее искали, на Лужне нечего делать. Они, брат, на станции Северный полюс или в стратосфере. Я к тому, что ты себе лучше ищи, только не объясняй, будто для общества стараешься. Будто без твоей музыки Иван Тылзин с Николаем Сухоручковым, как малые ребята, заревут в голос…
Поджав губы, Борис отвернулся к окну, забарабанил в стекло пальцами. Сказал, как бросают двугривенный нищему, добавляя к подачке строгое „стыдись!“:
— Я с вами не спорю, Иван Яковлевич. Только ведь вы не общество. Единицы…
И, демонстрируя нежелание продолжать неприятный разговор, уткнулся лицом в стекло. За стеклом, подернутый голубизной спустившихся сумерек, лежал снег. По-зимнему свежий, не изъязвленный проталинами. На голубоватом снегу, круто изогнув спину и подняв торчком хвост, стоял кот Пушок. Временами он выгибался еще круче, почти складывался, подгребая передними лапами снег, и хрипло кричал: мр-рра-ау!..
И замирал, напрасно ожидая ответа.
Инженер Латышев допивал шестой стакан чая. Чай Настя заваривала по-своему, по-особенному, обязательно добавляя в заварку даже зимой пахучую веточку черной смородины. Оттянув тугой ворот свитера, Антон Александрович вытер носовым платком потную шею. Надув щеки, блаженно с шумом выдохнул воздух.
— Пффф!.. А ты все хорошеешь. Ей-богу, вроде изменилась как-то. Не пойму как, но — к лучшему…
— Ну вас! — залилась краской девушка. Переводя разговор, спросила: — Вы чего так поздно приехали — к концу дня? Не успеете и в лес сходить…
— Не разорваться, Настя! И так дома по неделям не бываю. Шесть участков. Ваш да киселевский вовсе на отшибе, у черта на куличках. К вам даже телефона нет. Чуть что — ехать надо. А кому ехать? Латышеву, у него-де всех меньше дела…
— Вы прямо из города сегодня?
— Да нет, позавчера из города. На четвертом задержался: собрание, а потом пасеки нарезали.
— А у нас что?
— У вас — тоже собрание. Приказ директора есть — премировать кое-кого…
— А кого?
— Много будешь знать, скоро состаришься…
— Ну и не говорите, не надо. Подумаешь! Сама знаю, что Фирсанова. У них больше всех выработка. Я ведь деду-то помогаю проверять наряды…
— Вот и не угадала… Да, новость: в Чарыни сельпо обокрали. Слышала?
— Когда?
— Видимо, вчера или сегодня ночью.
— А кто?
— Это, милая, еще установить надо. Не так сразу, наверное…
— Неужели наши, Антон Александрович? — бледнея, спросила девушка. Она испуганна, смотрела на дверь, будто та вот сейчас откроется и войдут соседи. Неузнаваемые, в страшном новом облике — воры!
— Не думаю, — покачал головой инженер. — Говорят, Клавдия вчера с полудня в Сашково ушла, вашим откуда знать было? Кто-нибудь из своих. Из чарынских.
— Некому вроде в Чарыни… А много украли?
— Не могу сказать, не я воровал. Ревизия покажет, Товар ей только-только позавчера подвезли свежий… — Латышев взглянул на часы, почесал мизинцем переносицу. — Скоро четыре. Вот и пропал день…
Ожидавшая продолжения разговора о краже, Настя разочарованно отвернулась и вдруг вспомнила:
— Четыре? Ойечки, у меня же еще и плита холодная! И дров дома нету!
Встал и Латышев. Не попадая в рукава полушубка, затоптался возле дверей.
— Пойду… Чарынских надо перехватить, чтобы не удрали домой. Придется на дороге сторожить… Черт побери!
К чему относилось последнее — к сторожению на дороге или строптивому полушубку, Настя не поняла.
Покамест Латышев, Фома Ионыч и Тылзин организовывали „стопроцентную явку“, пришедшие первыми уже успели накурить так, что электрическая лампочка плавала в табачном дыму, как луна в тучах.
— Откройте двери, ребята! — скомандовал Сухоручков. — Не продохнешь!
— Теплей спать будет, — пошутил кто-то.
— Если двери открыть?
— Нет, если надымить побольше! Глядишь, на дровах сэкономят!
Всех собрать не удалось, но и без того народу набилось столько, что Латышеву и мастеру пришлось протискиваться к столу.
— Лучше бы на конном дворе собрать, там просторней. В конюховской! — ворчал Фома Ионыч.
Инженер бросил ему через плечо насмешливый взгляд: додуматься надо, собрания на конюшне проводить! Чудак!
— Надолго я вас не задержу, товарищи! — объявил он, распахивая полушубок. — Вопросов у нас на повестке два. Первый — новая инструкция по организации лесовосстановления. Вопрос важный, так как лес — наше всенародное богатство и наш с вами хлеб, товарищи. Это вам надо будет учесть, когда мастер и Иван Яковлевич познакомят с этим делом подробно. Но сейчас мы за недостатком времени на этом останавливаться не станем. Нескладно получается: после рабочего дня многим еще три километра шагать. Так что мы тут с Тылзиным и Фомой Ионычем кое-что уточним, а они доведут до сведения. Нет возражений?
— Нет!
— Правильно, давайте короче — отдыхать надо!
— С семи утра на ногах!
— Переходим ко второму вопросу, — успокаивая, поднял Латышев руку. — Прежде чем зачитать приказ директора леспромхоза, я хочу напомнить вам следующее. Я коротко, товарищи… В этом году нам неожиданно выделили дачу на Лужне. В стороне от автомобильных дорог. Билет выписали, когда надо было уже приступать к рубке, чтобы успеть к сплаву. Поэтому, в смысле бытовых условий, ваш участок оказался в тяжелом положении. Тем более что при сравнительно небольшом объеме работ мы, естественно, не могли затрачивать и больших средств на строительство временных, по сути дела, сооружений. Ну и попросту не могли пристроить к этому бараку город или поселок — с клубом там, кино и всем прочим. Но тем не менее сами рабочие в лице ваших товарищей сумели организовать для себя культурный быт и культурный отдых. Сумели! Больше того. Первое время, нечего греха таить, у нас тут некоторые лесорубы злоупотребляли спиртными напитками. Отсюда скандалы, нехватка денег на предметы первой необходимости и так далее. Было такое. Но и эти товарищи, равняясь на лучших, осознали, я бы сказал, неприличие своего поведения. Как меня заверили — с этим кончено. Мало этого. Мы имеем сегодня на участке две новые комплексные бригады. Одна из них — бригада товарища Шугина, систематически перевыполняющая нормы. Разве это не показатель, товарищи? А инициатором этого, безусловно, следует считать товарища Усачева. Он же вложил немало труда и в борьбу за культурный быт. Все мы его знаем как баяниста, как застрельщика… Что там такое, товарищи? — обрывая фразу, гневно спросил он.
Лесорубы перешептывались, косясь на полутьму сеней в проеме распахнутой настежь двери. Антон Александрович разглядел там отливающий белизной погон и красные милицейские петлицы.
Сразу пропала охота продолжать.
— Я заканчиваю, товарищи! — поднимая голос, пообещал он. — Приказом директора леспромхоза товарищ Усачев премируется баяном, переходящим с этого дня в его собственность, — он отыскал в толпе Усачева, улыбнулся ему. — Товарищу Шугину, подхватившему почин Усачева в деле поднятия производительности труда на лесоразработках, объявляется благодарность… Все, товарищи! Можете быть свободны!
Загремели табуретками, зашаркали ногами, закашляли. Но, вопреки ожиданию инженера, никто не устремился к двери. Любопытство, вызванное появлением милиции, оказалось более притягательным, нежели приказ директора, отдых и ужин.
В комнату, поскрипывая сапогами, неторопливо вошел майор Субботин. Направляясь к Латышеву, ответил на кивки знакомых и незнакомых. И вдруг, видимо разгадав настроение не сводящих с него глаз людей, весело и чуть смущенно заулыбался:
— Больно уж вы на меня подозрительно смотрите, товарищи. Думаете — раз милиция, значит, кого-то забирать? Вот ведь что милицейская форма делает! Антон Александрович! Здорово! — майор обменялся с Латышевым рукопожатием. — Мы сюда просто так заглянули. В Чарыни были. В магазине там у вас кто-то похозяйничал, пока завмаг в Сашкове на именинах гуляла…
— Когда?
— Кто?
— Как?
Со всех сторон полетели обычные вопросы. Чарынские лесорубы, уходящие на работу задолго до открытия магазина, еще не слышали о краже. Плотной толпой окружив майора, начали выспрашивать подробности.
Субботин только руками разводил:
— Кто воровал — адреса не оставил. Когда воровал — сказать могу с точностью до одних суток. Что украли — выявится после ревизии. Завмаг заявила сначала, что в кассе было тысяча шестьсот рублей. Теперь утверждает, будто под бумагой на прилавке еще две тысячи были спрятаны, их тоже нету. Ну, а что касается подозрений — это вам лучше знать. Мне подсказать должны, не я вам..
И сразу наступило молчание, насыщенное желанием говорить, через силу удерживаемым. Удерживало присутствие тех, кого всем хотелось заподозрить в преступлении.
Майор понял это.
— Мы предполагаем, что кражу совершили или сашковские, видя, что продавщица пришла в поселок, и зная, сколько она там пробудет, либо кто-то из жителей Чарыни. Скажем, я или Латышев никак не могли знать, когда завмага не будет дома…
Ему не очень поверили: крутит, гнет свою линию. На черта бы он сюда зря поехал? Но майор заставил поверить в безобидность своего приезда на Лужню:
— Ты, как всегда, на перекладных, Латышев? — спросил он инженера.
— Как всегда.
— А когда назад думаешь?
— Сегодня, Сергей Степанович, сегодня!
— Так мы, может, махнем вместе? На вашем коне до Сашкова, а там наш „козел“. Места в машине на всех хватит. И на санях вчетвером поместимся. Вас двое и нас двое. Остальные наши пешком подались в Сашково.
Это уже походило на правду: три километра от Чарыни до Лужни — не десять до Сашкова. За лошадкой милиция пожаловала на участок, вот что!
И сразу все лишние заторопились в дорогу, обещавшую быть такой короткой за разговорами о происшедшем, за судами и пересудами. В общежитии остались только хозяева, да Латышев, да начальник милиции с начальником отделения уголовного розыска.
— Я думал, — сказал Латышев, — за нашими ребятами. Прямо ты мне своим приездом торжество испортил, Сергей Степанович! Премии, благодарности — и вдруг милиция!
— Говорю, хоть форму не надевай! У меня, брат, теща первое время все за сердце хваталась. Откроет дверь — и чуть не обморок. Так я, как с дежурства иду, ведро с водой захватывал. Специально жена под лестницей ставила. А я с ним до колонки, благо недалеко, и только тогда домой. Ну вот — не верит!.. Так кому премии выдавал?
— Премию — вот, товарищу Усачеву. Нашему активисту, — широким жестом показал Латышев на Бориса. — А благодарность — бригадиру Шугину… Шугину, понимаете?..
— На минуточку… — неожиданно тронул майора за рукав шинели Никанор Коньков и потянул в дальний — от смежной со второй половиной стены — угол. Приглушив голос, пугливо посматривая на дверь, сказал:
— Могли знать некоторые, что ушла Клавка, — онпереступил с ноги на ногу. — К примеру — Витька Шугин. Он мог.
— А почему вы так думаете? У него друзья есть в Чарыни?
Коньков замялся. Спрятал руки в карманы ватных брюк, вытащил сразу же, словно не находя для них места.
— Кто его знает?.. Мальчонка Катёхи Семиткиной прибегал вчерась из Чарыни, бельишко у меня унес постирать. Клавка уже ушедши была тогда.
— А вы откуда об этом знаете?
— Так я… от Мишки же Катёхиного… — почему-то смутился Коньков.
— Допустим, — кивнул майор. — А Шугин?
— Мальчонка, товарищ начальник, сбрехнуть мог. Ему рта не закроешь…
— А зачем закрывать? — удивился Субботин, стараясь встретить ускользающий взгляд Конькова. — Так вы предполагаете, что мальчик прибежал специально, сказать Шугину, что продавщица ушла в Сашково?
Коньков совсем растерялся. Теперь он не прятал взгляда, а испуганно, во все глаза, смотрел на майора.
— Зачем специально, по глупости если только. Шугин, товарищ начальник, быдто собирался в Чарынь.
— Он вам говорил об этом?
— Я, товарищ начальник, до них не касаюсь. Хоть кого спросите!
— Но почему вы утверждаете, что Шугин собирался в Чарынь?
Коньков тяжело вздохнул, снова заметался по сторонам его взгляд. Надо было отвечать, черт его сунул начать этот разговор! Связался с милицией на свою голову.
— Быдто он пошел в ту сторону… Вы бы, товарищ начальник, обыск сделали. Деньги он не должен еще спустить — три тыщи шестьсот! Только вы не говорите, что Коньков…
— Обыск, товарищ Коньков, так просто не производится, по вашему или моему желанию. Для этого нужна санкция прокурора. Но с вами мы, возможно, еще побеседуем. Если понадобится. Ну, а ссылаться на нас при разговоре с Шугиным мне, собственно, не из-за чего. Можете не волноваться.
— Я не волнуюсь. Ребята они такие… Жулье, товарищ начальник!
— Ничего не случится! — манор ободряюще кивнул и повернулся к ожидавшему конца беседы Латышеву. — Так, значит, благодарность? Видал, Шевчук, как мужики действуют? И на сорокаградусную, поди, меньше жать стали? Так или не так? — его вопрошающий взгляд переходил с одного лица на другое.
— Так, — сказал Сухоручков.
— Держатся, — кивнул Тылзин. — Разве что с получки. Так это такое дело…
— Выпить — это не пить? — уточняя, закончил за него майор.
— Один бог без греха, — улыбнулся и начальник отделения уголовного розыска. Круглому, простоватому лицу его улыбка придавала что-то озорное, совсем мальчишеское.
— Надо бы навестить ребят, — майор развел руками, скорбно покачал головой. — Форма! Напугаешь только!
— Не испугаете, — серьезно, словно разубеждая, сказал Скрыгин. — Не боязливый народ!
— Думаешь? — щурясь, чтобы спрятать прыгающие в глазах смешинки, в тон спросил майор. — Ладно. Пойду. Вы тут без меня начальника отделения угрозыска не обижайте, ребята… — Он сбросил на скамью шинель, сверху положил шапку. Тряхнул головой, заставляя поглаже лечь редеющие, но все еще непокорные волосы. Многозначительно подмигивая, одернул китель.
— Как?
Подождав, пока закроется за ним дверь, Фома Ионыч вопросительно посмотрел на Латышева и Шевчука.
— Мужикам-то нечего мешать. Пойдемте ко мне. Пусть мужики ужинают да отдыхают…
— Так надо будет и Ивану Яковлевичу к нам зайти.
— Я через полчаса загляну, Антон Александрович! — пообещал Тылзин. — Идите.
— А я, — сказал начальник отделения уголовного розыска, — если не выгонят, здесь посижу. Там вот чья-то книжка лежит… Можно посмотреть?
— Пожалуйста, — разрешил Усачев, направляясь к умывальнику. — Устраивайтесь прямо на койке… Опять кто-то взял мое мыло, товарищи?.. Что это, в самом деле?..
Стук в никогда не запирающиеся двери заставил насторожиться всех, кроме Шугина.
Ганько фыркнул: стучат, словно к семейным! Воронкин с Ангуразовым молча переглянулись. Николай Стуколкин крикнул:
— Если не грабить — заходи!
Дверь отворилась, вошел начальник милиции.
— Здорово, ребята! К вам в гости можно?
— Со своей водкой, — усмехнулся Стуколкин, бравируя фамильярностью.
— К нам можно, — сказал Ганько, — а к вам лучше не надо…
— Правильно, — одобрил майор и стал осматриваться. — Зашел посмотреть, как живете. Все-таки знакомые. Не зайдешь — обидятся. Верно?
— Мы не обидчивые, — ответил за всех Стуколкин. Четыре пары настороженных, далеко не ласковых глаз не отрываясь следили за Субботиным. И в каждом взгляде вопрос: нюхаешь, начальник?
Сев на табуретку возле стола, майор достал портсигар. Неторопливо закурив, сказал:
— В гости не в гости, а пришел вроде бы извиняться. Когда прописывал, думал — через месяц паспорта отбирать буду. Ошибся. В общем, молодцы ребята. Рад за вас… пока что…
— Мужики вы хорошие, но магазинчик-то все-таки сделали? Да, начальник? — подзадоривая, рассмеялся Стуколкин. — Скажи по совести, ведь на нас думаешь?
— Думать легче всего. Доказать надо! — не поворачивая головы, колко произнес Воронкин.
— Опять правильно, — согласился майор. — Но я, между прочим, на вас не думаю. Кража-то пустяковая — три шестьсот, если продавщица по ошибке двух не прибавила. Да и надеяться на большее только дурак мог, оборот-то весь три тысячи в месяц. Неопытный кто-нибудь…
Ткнувшийся лицом в подушку Шугин вдруг заворочался, сел. Тупо, без удивления посмотрел на необычного гостя. Протянув руку к тумбочке, вслепую нашарил папиросы, сгреб с горсть. Но не донес, рассыпал.
— Закуривай, — протянул ему портсигар Субботин.
Тяжестью своей непослушной руки пригнув руку майора с портсигаром, Шугин кое-как вытащил папиросу.
— А мне говорили, что у вас не пьют, — сказал майор, зажигая спичку. — Если с получки только…
— Разве н-нельзя? — спросил Шугин.
— Мо-ожно, — печально протянул майор и потарахтел коробком: остались ли там спички? — Выпить стопку-две в компании, для настроения, — почему нельзя?
— Вот и я, — Шугин не мотнул головой, а уронил ее и с трудом поднял, — для настроения… Имею право? А, начальник?
— Имеешь.
— На свои пью! Учти!
— Благодарность обмываешь? Надо было товарищей пригласить, а то один. Я бы на их месте обиделся, — словно проверяя, обиделись они или нет, манор окинул всех внимательным взглядом. Спросил: — Весной на сплаве оставаться не думаете?
— Там видно будет, — осторожно сказал Ганько.
Воронкин ответил смешком:
— Сапоги протекают, начальник. А сплав — дело мокрое…
Виктор Шугин качнулся вперед, локтями оперся о колени. Подбрасывая на ладони что-то невидимое, заговорил, словно миролюбиво убеждая непонятливого собеседника:
— Сплав — он когда? В апреле… В апреле, начальник, знаешь что начинается? Распутица! Тогда припухать здесь, да? Нет, начальник! До распутицы мотать надо отсюда…
— А может, передумаешь? Останешься? — спросил майор. — От добра добра не ищут. Тебя тут уважают теперь, благодарность вот вынесли. Заработки в лесу подходящие. Нынче не повезло вам, что на Лужню попали, так здесь работа кончается. Переберешься на другой участок, поближе к городу…
— Брось, начальник! — Шугин выпрямился, освободив служившие опорой руки. Опять потянулся к майорскому портсигару. Видимо трезвея, более ловко управился с закуриванием. — Мы — птицы перелетные. Любители костра и солнца.
— Слышал, — устало вздохнул майор. — Мол, грачи полетят — и нам пора? Старая песня!.. Знаешь, говорят: на месте и камень мхом обрастает? Пора остепеняться, о семье думать…
Очевидно, до Виктора не сразу дошел смысл сказанного. Тонкие губы еще кривила пьяная, самодовольная усмешка. Рука с зажатой в пальцах папиросой поднялась, чтобы подтвердить небрежной отмашкой какие-то уже приготовленные слова о неспособности майора понимать весенние настроения босяков. Но рука не сделала плавного, сожалеющего взмаха. Пальцы вдруг сжались в кулак, изломав забытую папиросу. Улыбка стала злобной гримасой.
— Семья?.. Бабы?.. — спросил Шугин. — Я не такой дешевый, начальник, чтобы меня баба купила. Проститутки они все, твари…
— Подумай, может, не все? — брови майора гневно поползли к переносице, углы рта опустились. — Ведь и тебя, дурака, баба родила…
Но Шугин выдержал его осуждающий взгляд, не отвел своих, вдруг просветлевших от пьяной мутности глаз. Сказал, явно думая о чем-то своем, тайном:
— Матерей не трогай, начальник…
— Эх, ты… грач! — вздохнув, покачал головой майор и, протянув руку, достал из-под койки пустую водочную бутылку, потом вторую, третью. Поставил в ряд на столе. — Ишь сколько набрал. Когда же ты водку раздобыть успел?
— Вчера еще, — равнодушно уронил Шугин.
— Может, позавчера? Или третьего дня? Вспомни!
— Верно, вчера. Смеешься, думаешь — сегодня полтора литра шарахнул? Нет, начальник…
Майор взял одну из бутылок двумя пальцами, за горлышко. Повертев, поставил на стол, так, чтобы Виктор видел этикетку.
— „Московская особая“, — сказал он. — Редко такую привозят…
Шугин усмехнулся:
— Один черт, что „сучок“, что эта. Пить можно.
— Не один черт. Эту только позавчера привезли.
Никто из четверых не вмешивался в разговор.
И сейчас никто не сказал ни одного слова. Никто не двинулся с места. Только немигающие глаза устремились в одну точку. На Шугина. Четыре пары глаз беззвучно кричали ему в крик: остановись, подумай!
Но Шугин не слышал.
— Спирту бы лучше привезли, — он поднял одну из рассыпанных папирос. — На Севере завались спирту.
— А ведь ты трезвый почти, — раздумчиво произнес майор, пристально глядя на парня. — Вот что удивительно… Так где же ты эту водку взял? А?
Шугин вопросительно посмотрел на него, хмыкнул — чего-де пристал, чудак? — повел глазами на Воронкина, на Ганько и услышал вопль их взглядов.
— Купил…
— Где?
— Ну, в магазине…
— В каком?
— Ну… — Шугин подумал, что-то про себя взвесил. — В сельпо, у Клавки…
— Когда?
Взгляд Виктора заметался по лицам тех, чьи глаза продолжали кричать, вопить. Но у этого вопля не было смысла.
— А, черт, разве я помню?
— Ты же говорил — вчера?
— Может, и сказал… По пьянке чего не скажешь… А в чем, собственно, дело, начальник?
Постукивая костлявым пальцем по краю стола, майор ответил вопросом на вопрос:
— Ты разве не слыхал, что в Чарыни обокрали магазин?
Шугин задержал в груди воздух, поэтому ответил с придыханием, трудно:
— Первый раз слышу, начальник!.. При чем здесь я?
Накануне в магазин привезли товар. В том числе три ящика „Московской особой“ водки. Ни одной бутылки продано не было…
Глаза Шугина сделались на секунду мертвыми, невидящими. Только на секунду. Потом зажглись пламенем бессильной злобы, как у затравленного волка.
— Нахалку шьешь, гад? — он вдруг вскочил, хватаясь за воротник рубахи. Брызнув во все стороны, заскакали по полу пуговицы, словно убегая от синего орла на обнаженной груди. — На, пей! Пей кровь, сука! Сажай! Дави-и!.. — голос стал истеричным визгом, воем.
— Театр не устраивай, — сказал майор. — Брось! Я тебя за язык не тянул. Может, кто-нибудь дал тебе эту водку?
И как не бывало истерики. Точно перед начальником милиции всегда стоял каменно спокойный, закусивший губу парень. Стоял, сжав кулаки, глядя в пол, под ноги себе. Не визжал, брызгаясь слюной, а думал или вспоминал что-то. Молча, ни с кем не делясь думами.
— Сажай, начальник! — вместе с выдохом, словно облегчая грудь, негромко произнес Шугин. — Что здесь, что там — одинаково. Там спокойнее еще…
— Подумай! — предложил майор. — Не торопись. Всяко бывает! Скажем, шел человек, обратил внимание — снег примят. Копнул, а там водка. Почему не взять, верно?
— Не играй на нервах, начальник! Я же не дурной, понимаю: ровно бы ты мне поверил, что нашел.
— Значит, украл?
— Украл.
— Один воровал?
— Хочешь, чтобы я по делу кого-нибудь с собой взял? Не выйдет. Один я — понял? Один! А если бы и не один — все равно отшил бы напарника.
— В это я верю… Ладно, если твоя работа — где деньги?
— Марьяне своей отдал. А Марьяна сгорела, и дыму нет. Ясно?
— Нет. Но выясним. — Достав из кармана самый обыкновенный дверной ключ, майор подошел к стене — будто собирался отомкнуть одному ему только ведомую дверь. Постучал ключом — короткой очередью, как дятел в лесину. — Ну, что ж… Собирайся, Шугин!.. Прощайся с честными товарищами…
Открылась дверь, пропустив начальника отделения уголовного розыска.
— Слушаю, товарищ майор! — сказал он.
— Бутылки эти, — движением головы Субботин показал на водочную посуду, — упаковать надо. Как следует.
— Ясно, — Шевчук подумал мгновение, усмехнулся: — В сено запихну, чтобы не побить…
— Как же, спрячешь ты их в сено! Старый номер! — равнодушно сказал Шугин. — Мало ли кто их лапал, кроме меня? Ребята с тумбочки под кровать убирали…
Майор недобро прищурился:
— А, тертый калач? — спросил он Шевчука. — Ладно! В сено мы их действительно прятать не будем. Упакуем так, чтобы не стереть отпечатков. Кто убирал их с тумбочки?
— Я был пьяный, не видел…
— Хм! По-моему, кто убирал — сам скажет. В его интересах…
— А если я? Тогда что? — спросил Воронкин.
— Ничего. Ты — значит, ты. Забыл, как твоя фамилия?..
— Допустим, Воронкин.
— Больше никто не трогал бутылок?
Ответом было молчание.
Шугин, ни на кого не глядя, собирался. Отбрасывая ненужное, складывал в вещевой мешок белье. Сдернув с гвоздя костюм, злобно искривил рот и, подумав мгновение, комом затискал поверх белья, словно не имеющую цены тряпку:
— Пригодится проиграть в пересылке… Я готов, начальник.
Майор молчал.
Вернулся с двумя кусками фанеры и молотком выходивший начальник отделения уголовного розыска. Поскреб в затылке, сказал:
— По инструкции не получится, товарищ майор. Тары нет подходящей. Разрешите, я по-своему?
Наблюдая за Шугиным, майор, не глядя, согласно качнул головой. Шевчук составил бутылки на одну из фанерок. В другую забил три гвоздя так, что гвозди торчали, как зубья грабель. Угадывая гвоздями в горлышки, накрыл фанерой бутылки и натуго связал обе фанеры бечевкой.
— Порядок, Сергей Степанович!
— Прощаться с друзьями не хочешь, Шугин? — спросил тот, не спуская глаз с парня.
— Пока, мужики! — глядя в пол, буркнул Виктор и торопливо пошел к двери.
— Обыск делать станем? — негромко спросил Шевчук.
— Ни к чему, Виталий Николаевич. Будем надеяться, что прокурор не вернет дело на доследование, если и не сделаем. Без обыска нашли все, что нужно. Идемте.
В дверях он обернулся. Еще раз посмотрел на всех четверых, на каждом подолгу задерживая взгляд. Сказал, ни к кому определенно не адресуясь, всем:
— Вот так… Это по-вашему называется „все в законе“? По-нашему это называется подлостью…
Дверь захлопнулась.
Никто не посмотрел вслед ушедшим. Не смотрели и друг на друга. Каждый заглядывал себе в душу. Каждый считал нужным молчать об увиденном там.
— Кто может запретить человеку надевать на себя аркан? — наконец произнес Воронкин. — Внатуре мог сказать, что нашел…
И опять наступила тишина.
Потом Николай Стуколкин, отшвырнув давно погасший окурок, надел ватник. Молча пошел к дверям. Его не спросили — куда. Вслед за ним вышел Ганько.
Из полутьмы сеней они видели, как шли к конному двору уезжающие. Высокий, в черной шинели с развевающимися на ветру полами, похожий на нескладную птицу начальник милиции. Он слегка сутулился, задвинув руки в карманы. Что-то ему доказывая, старался не отстать от него Латышев. Шевчук нёс завернутый в газету пакет с бутылками — бережно, как дорогую покупку из универмага. И позади всех, словно его и не конвоировали вовсе, словно милиция забыла о нем, шел бывший Виктор Шугин, теперь опять Витёк Фокусник.
Не только Ганько и Стуколкин смотрели на отъезд. У крыльца стояли Василий Скрыгин, Тылзин и Сухоручков, а поодаль, возле прируба, Настя.
— Жаль парня, — вздохнул Иван Яковлевич. — Не выдержал. Сорвался-таки…
— Значит, и жалеть нечего, — назидательно сказал Сухоручков.
Скрыгин не согласился с ним:
— Все равно жалко. II из-за чего? Сварила же голова, а?
— Спать надо, хлопцы! — скомандовал Тылзин, и все трое, не замечая стоящих в темноте, тоже сливаясь с тьмою, прошли через сени. Одной плоской и черной тенью заколыхались в ярко-желтом прямоугольнике открывшейся двери. Войдя, затворили за собой тьму.
Придерживая незастегнутые полы ватника, Николай Стуколкин мягко спрыгнул с крыльца и направился к Насте. Та, повернув голову на скрип подмерзающего снега, смотрела удивленно, пугливо.
Подойдя, Стуколкин какое-то мгновение пристально разглядывал девушку, словно видел впервые. Сказал, отворачиваясь:
— Такого пария загубила, гадючка!
Настя схватила ртом воздух, чтобы крикнуть, но не крикнула. Распахнув дверь, ринулась ко второй — в комнату, чем-то загремев в коридоре. Тогда Стуколкин неторопливо повернулся, посмотрел на правую половину барака, где погас свет, на освещенные, кажущиеся без занавесок бесстыдно нагими окна левой. Неведомо кому и о ком сказал:
— Падаль.
Теперь счастье можно было не прятать. Вернее, можно позволить ему стать счастьем, нетаимой от людских глаз близостью, порою щемящей сердце. Цветок станет цветком, раскрыв свою дивную красоту. Надо только сказать ему: расцветай, не бойся!
Наверное, Настя не умела сказать этого, заставить счастье расцветать. Заветные, неведомые ей слова скажет Борис. Скажет — и Настино сердце расцветет вместе с цветком счастья. Конечно, теперь он их скажет!
Вчера увезли Шугина. Правда, остались другие, но они не главные. Они — тень Шугина. Тень страшного человека, вора, которого она жалела когда-то. Даже продолжает жалеть его загубленную жизнь. Теперь, когда Шугин не мешает счастью стать счастьем…
Ведь он даже нравился ей, теперь она разбирается в таких вещах. Но зачем Стуколкин сказал, будто, она, Настя, его погубила? Разве она заставляла обворовывать магазин? Пить? Ей так хотелось, чтобы Виктор именно бросил пить, а о худшем даже не думалось. Ведь он перестал было пьянствовать. И вдруг…
Мысли текли сами собой, Настя испугалась их самостоятельности. Лучше она спрячется от них за широкими плечами Бориса. Как пряталась девчонкой на теплую печку от холодных, представлявшихся похожими на мышей, неясных страхов, одна оставаясь дома. Заветное слово Бориса прогонит все страхи, все сомнения!
Накинув платок, девушка вышла на улицу.
Лесорубы уже вернулись с работы. Но мало кому хотелось сидеть в бараке. Настойчиво напоминала о своем рождении весна, звала уловить первое свое дыхание, обрадоваться: ей-богу, живет! Дышит!
Николай Николаевич Сухоручков, сидя на перилах крыльца, с показным неудовольствием крутил головой, уклоняясь от капели. Прежде чем упасть, капли собирались на концах сосулек, свисающих с навеса над крыльцом, долго грозили падением. Сухоручков громко, беззлобно чертыхался, ежился, когда капля попадала за воротник, но не уходил. Сам себя убеждал, будто отсюда лучше видна газета, развернутая примостившимся на верхней ступеньке Тылзиным. Всегда можно сказать: „Стой, стой, Иван Яковлевич! Чего это там за „На берегах Вахша“? Ну-ка давай вслух“. Или: „Что там слева-то, фельетон? Прочитай, кого кроют“…
Скрыгин с Усачевым курили на обтаявшем штабельке бревен, не убранных осенью строителями. Лениво перебрасывались словами, обсуждая вчерашнее.
— Народ такой — тележного скрипа боятся! — фыркал Усачев. — Человек взламывает замок, перерывает все в магазине. Не в темноте же он там орудует? И никто не видит, не слышит, как он открывает дверь, никого не беспокоит свет в закрытом магазине? Ведь ставни-то неплотные, во — щели… — он чуть не на метр развел руки. — По-моему, просто не хотели видеть. Не наше, мол, государственное. Безобразие все-таки!..
Обычно сговорчивый, Скрыгин не захотел согласиться:
— Что ты, Борис, кто ночью увидит? Тем более тамбур глухой. Затворился в нем и хоть полночи возись с замком. Мимо пройдешь, а ничего не увидишь… Да и стоит магазин с краю, вроде в стороне…
— Тамбур тоже на замке…
— А, какой там замок на тамбуре? Пальцем открыть можно.
— Говорят, он его ломиком сорвал. Вместе с накладкой…
Борис внезапно умолк, глядя на приближающуюся к штабельку Настю. Походка ее была неторопливой, степенной. Правая рука придерживала на груди платок, а левой девушка несла комок по-весеннему липкого снега. Подойдя, неумело, над головой, замахнулась. Снежок угадал в бревно, рассыпался, остался от него только белый бугорок, прилепившийся к мертвой, лишенной золотистой кожи сосне.
— Вася, ты бы погулять пошел! — безбоязненно предложила Скрыгину девушка. — Нам с Борисом поговорить надо…
— Пожалуйста! — готовно поднялся тот. — Пойду газету у Тылзина отниму…
Она, улыбаясь, посмотрела ему вслед, а повернувшись, встретилась с удивленным, выжидающим взглядом Бориса.
— Ты чего? — спросил он.
И тогда Настя вдруг растерялась. Как — чего? Разве он не понимает, не угадывает ее мыслей, разве мысли не одни и те же у них? Не об одном?
— Так… — она продолжала улыбаться, только улыбка стала неуверенной, робкой. Но хотелось, чтобы Борис сам, без подсказки, понял, зачем она тут.
Но Борис не понял, совсем-совсем не понял.
— Выйду, когда стемнеет. В стекло стукну.
Настя отрицательно покачала головой.
— Нет… Я хотела сказать тебе… — она смутилась. Не было нужных слов. Были только тяжелые, угловатые, как кирпичи, о том — но и не о том. Приходилось обходиться ими. — Когда мы распишемся? Ведь нельзя же так… Правда?
Он улыбнулся, Настя не поверила его улыбке.
— Почему же нельзя? Чудачка ты у меня. Еще скажешь, что к попу надо…
Теперь она не понимала его. Стояла, тиская пальцами мягкую шерсть платка, ждала. Чувствовала: тяжестью наливается сердце, к глазам подступают слезы. Как он может шутить так? Как смеет?
— Я уже деду сказала, что выхожу замуж… Он всё спрашивает: когда свадьба?..
Улыбка сбежала с лица Бориса.
— У нас, кажется, разговору о свадьбе не было…
Что он? С ума сошел, или… или?.. Да разве возможно такое?
— А как же… тогда? — не понимая что и зачем говорит, спросила Настя. — Как же я?
Он опять улыбнулся! Он мог улыбаться!
— Нашла о чем беспокоиться! Вот тоже! Ты в каком веке живешь? Это раньше надо было простыни после свадьбы показывать… Замуж выйти успеешь, у нас с тобой жизнь впереди… Чего торопиться?
Настя глядела полными слез и ужаса глазами. Если бы не слезы — глаза были бы тусклыми, без живого блеска. В них умерла жизнь.
Напуганный этим взглядом, Борис вздумал утешить ее:
— Теперь же никто не смотрит: девушка, не девушка. Это же пережиток! Дикость! Никто не обязан любить один раз только…
Настя молча повернулась и пошла к дому. Платок, соскользнув с плеча, волочился по талому снегу — так волочит перебитое крыло птица.
— Что с ней? — спросил вернувшийся Скрыгин.
Борис досадливо поморщился:
— Понимаешь — решила, что я должен на ней жениться. У меня и в мыслях ничего не было. Рановато.
— То есть как — жениться?.. — поднял рыжие брови Скрыгин. — У вас… было что разве?
— Чего было? Ничего особенного. Так… Взгляды у нее какие-то ветхозаветные. Двадцатый век, а она считает, что если перестала быть девкой — значит, все. Как будто после она не такая же… Смешно, да?
Скрыгин ничего не сказал. Он вдруг размахнулся и ударил Бориса кулаком в лицо. Так, что у того лязгнули челюсти.
Фома Ионыч „подводил баланс“.
Чертова эта работа отнимала у него уйму времени, если не помогала Настя. Сегодня, как нарочно, Насти не было. Знала ведь, что деду надо помочь, а ушла. Даже не сказалась куда. Явилась со двора, постояла посередь комнаты, ухватила пальтишко и туда же. Совсем стала девка от рук отбиваться, как замуж выскакивать надумала. Сиди дед, путайся в цифрах, а она гулять будет!.. Приспичило!..
Застелив весь стол бланками ведомостей и нарядов, Фома Ионыч то и дело вставал, чтобы, путешествуя вокруг стола, отыскать нужную бумагу. Такой способ казался ему наиболее удобным, — разве что несколько медленным. Он уже покончил с документацией нижнего склада, когда в комнату вошла Настя.
Фома Ионыч сердито покосился в ее сторону и с еще большим усердием — показным! — начал ворошить наряды. Ждал: вот сейчас гулена заохает, каясь, что прогуляла. Тут-то он ее и пропесочит…
Но Настя молчала.
Не оборачиваясь, по шорохам за спиной Фома Ионыч догадывался:, снимает пальто, на кровать бросила — лень ведь на место повесить! Спросил сердито:
— Нагулялась?
Внучка не Ответила.
— Дед последние глаза проглядел, клеточки-то эвон какие мелкие. А ей горя мало!..
Словно воды в рот набрав, Настя подошла к столу, придвинула табуретку. Освободила на столе место, сложив раскиданные наряды в стопку. И, глядя на них, забыла, что собиралась делать.
Фома Ионыч, исподлобья посматривавший за ней, удивленно выпрямился, поднял на лоб очки:
— Ты это чего? Вроде как не в себе?..
— Голова болит, — опомнилась Настя. — Складскую ты свел уже, деда?
— Свел я складскую, свел! — обеспокоенно зачастил Фома Ионыч. — Ты, ежели голова болит, брось. Не горит. Чаю испей с малиной да ложись. Время теперь обманчивое — тепло вроде, а как раз и прохватит. Давеча-то в платьишке в одном побегла. А все неслух!..
Настя опустилась на табуретку, потащила к себе через стол бланк складской ведомости.
— Ничего, деда. Пройдет!.. — И повторила еще раз: — Пройдет!
Она долго, словно не узнавая, всматривалась в разграфленный лист. Но вот, тряхнула опущенной головой, встретилась с удивленным взглядом деда и как будто проснулась. Потянувшись за счетами, вспомнила:
— А как же с той древесиной?
Мастер почесал карандашом переносицу, задумался.
— С той-то?.. Лес теперь пошел ловкий, надо будет сказать ребятам. Расквитаются! Дни нынче долгие, можно час-другой лишку прихватывать. Деи десять дам сроку. Как только вывозку потом проводить, шут ее знает? Отдельно бы как-то, комплекс теперь у них, вот ведь штука!.. — Он прищурился, к вискам побежали смешливые морщины. Это мысли, наткнувшись на что-то по пути, вильнув, побежали в сторону. — Вот кого тебе, Настюха, обротать надо было!.. Ладно, когда свадьбу-то справлять станем, невеста?.. Да ты чего, девонька? Насть, слышь, ты что?..
Расплываясь фиолетовыми пятнами по столбикам цифр, на ведомость падали крупные, гулкие слезы. Одна за другой, скатываясь по закаменевшим щекам. Медленно, очень медленно Настя покачала головой:
— Не будет… свадьбы…
Растерявшийся Фома Ионыч суетливо пережевывал губами и проглатывал несказанными какие-то слова. Наконец решился — обогнув стол, робко встал за плечом внучки. Заговорил, сбиваясь:
— Ну вот!.. Нашла по чем убиваться!.. Эка беда!.. Слышь меня, еще не такого сокола облюбуешь. Не сорок тебе годов, слышь?.. Будет с тебя женихов, не бойсь… Девка, не вдова какая с ребятишками!
Судорожно глотнув воздух, Настя закрылась ладонями. Вздрогнули, затрепетали, ходуном заходили под ситцевым платьем плечи. Рассыпаясь по столу, заволновались пряди русых волос, словно под ними рвалась большая, накрытая сетью птица. Боязливо глядя на вздрагивающий затылок девушки, Фома Ионыч беспомощно топтался на месте.
Вдруг Настя, все еще всхлипывая, оторвала голову от стола. Теперь волосы упали на лицо мокрыми, перепутанными космами. Девушка даже не пыталась убрать их.
— Деда… — тихо начала она, всхлипнула и почти закричала. — Деда!.. Наверное, у меня… будет… ребенок…
— К-как?.. — наивно удивился Фома Ионыч.
Не ответив, Настя опять упала годовой на столешницу, зарыдав еще громче.
Фома Ионыч с трудом уразумел сказанное. Похлопал себя по карманам, разыскивая трубку. Нашел и, позабыв, зачем искал, сунул обратно.
— Выходит, обманул?.. — неизвестно для чего спросил он. — Вот, значит, как… Так, значит, и получилось… Да…
За словами ничего не стояло, кроме растерянности. Он снова принялся искать трубку. Найдя, попытался раскурить ее — пустую. Рассыпал спички. Буркнул:
— Чего ж, коли так… Проживем… Будет тебе, не плачь! Всяко бывает в жизни… Всяко… — и, позволяя прорваться обиде и горечи, закричал, стуча кулаком по столу: — Паскуда он, вот кто! Паскуда! Не человек!
Потом вспомнил, что не знает, кому адресовать ненависть:
— Колька Буданцев?..
— Борис… — глухо ответила Настя и, поясняя ему или поправляя себя, отрекаясь, добавила: — Усачев…
Резиновым сапогам по инструкции не полагается сушиться на плите. Но иначе сапоги не успевают просыхать за ночь. Разные это вещи — писать инструкции и следовать им, даже когда дело касается только сапог.
Василий Ганько взял свои, стоявшие на краю плиты. Потянул с веревки портянки.
— Кинь и мои, Васек! — попросил Воронкин, нежившийся в постели.
Ганько, словно не слыша, пошел к своей койке обуваться. Воронкину пришлось выкрикивать ругательстза ему в спину:
— Сука, гад! Трудно заодно протянуть руку? Где у тебя совесть, падлюка?..
— Совесть?..
Ганько гневно выпрямился, ненадетый сапог соскользнул с ноги. Забыв о нем, Василий закурил папиросу, несколько раз жадно затянулся.
— Я не пойду на работу, Никола! — неожиданно объявил он Стуколкину, с молчаливого согласия всех признанному после ареста Шугина бригадиром.
— Тепло зачуял, паскудник? — обрадовался Воронкин новому поводу придраться. — Кричал: бригаду ему, комплекс! А теперь под нары? Попривыкли на чужом хребте ехать…
Вытирая лицо рваным вафельным полотенцем, Стуколкин отошел от умывальника. Повесил полотенце на веревку рядом с портянками Воронкина. Пригладив пятерней мокрые волосы, сказал:
— Ладно.
— Да ты что? — снова вскипел Воронкин, набрасываясь теперь на Стуколкина. — Я за него ломать должен, по-твоему? Он — босяк, а я — черт? Если бы не в бригаде…
— Переживаешь за производство? — насмешливо спросил Стуколкин.
— И переживаю!
— Брось, кому заправляешь! — Стуколкин значительно посмотрел в его сторону. — Я же не оперативник. Понял?
Воронкин встретил его взгляд, мгновение длился поединок взглядов. Пртом зрачки Воронкина вильнули в сторону. Он с ухмылкой повернулся к Ангуразову:
— Значит, будем ишачить за других, Закир? Нам положено…
Дождавшись, пока в последний раз хлопнет дверь на улицу и последний из спешащих в лесосеку рабочих мелькнет мимо окна, Ганько сбросил брезентовые брюки, ногами затолкал их под койку. После тяжелого, заскорузлого брезента мягкая шерстяная ткань костюма казалась невесомой, ласкала своим прикосновением. Распихав по карманам деньги, папиросы, спички, надел пальто — и вспомнил ухмыляющееся лицо Шебутного.
— Твое счастье, что я не пес! Не стукач! — громко сказал он неубранной постели Воронкина…
Обледенелая, норовящая выскользнуть из-под ног дорога сегодня не имела конца. Три километра до Чарыни вытянулись вдвое. До Сашкова Ганько, как ни торопился, добрался только к половине двенадцатого. Совхозные машины в город уже ушли — распутица была не за горами, для шоферов настало горячее время.
— Баянист ваш уехал! С вечера надо было и тебе прибежать, милок, да заночевать в Сашкове, — сказали ему в гараже, но потом обнадежили: — Может, но дороге поймаешь машину. По зимнику еще вовсю ездят.
Его подобрал первый же грузовик.
— В город? — спросил шофер, пользуясь остановкой, чтобы попинать ногой баллоны: держат ли воздух?
— В город, — кивнул Ганько, берясь за борт.
— Лезь в кабину, заколеешь в кузове. По такой дороге быстро не поедем, хотя и с цепями. Порожняк на такой дороге — гиблое дело… Тянуться будем…
Шофер скромничал. В кузове громыхали пустые железные бочки, норовя выпрыгнуть. И обмотанные цепями скаты умудрялись пробуксовывать. Машину швыряло из стороны в сторону, особенно сильно занося на поворотах. Но красная стрелка спидометра редко отбегала влево от цифры „30“.
Километрах в двадцати за Сашковом дорога, словно маленькая речка в широкую полноводную реку, выплеснулась на шоссейку. Навстречу стали попадаться машины, чаще других лесовозы. Порожняк. С ними разъезжались, почти не сбавляя скорости. Зато маленький, крытый парусиной ГАЗ-69 заставил шофера врубить первую.
— Милиция, — объяснил он.
Ганько схватился за голову, проклиная свое счастье:
— Черт, мне же к начальнику милиции вот так надо, — провел он ладонью по горлу.
— А что? — во взгляде шофера появилась настороженность.
— Да насчет прописки…
— Автоинспектор поехал, уж я знаю, — успокоил шофер. — Начальник всегда впереди сидит. А этот — в угол забьется, вроде-пустая машина. Сегодня полетят талоны, будь уверен!..
Когда машина подрулила к городской чайной, Василий вынул деньги, спросил:
— Сколько?
— Червонец-то дашь, наверное? — вопросом ответил шофер. — В кабине ехал, как барин…
Протянув две пятерки, Ганько взглянул на часы: без четверти три!
— Далеко милиция?
— Вон, за угол повернешь, дойдешь до площади. Там спросишь. Недалеко…
По городу Ганько шел с некоторой робостью: отвык от множества незнакомых людей, прямизны улиц, отовсюду следящих за тобой окон.
В старом каменном доме, где разместилась милиция, второй этаж умудрялся прятаться за первым, за сильно выступающим карнизом над окнами, отодвигаясь от него, словно боялся упасть вниз, на посыпанную песком обледенелую панель.
Кабинет начальника — наверху. Туда вела скрипучая деревянная лестница. У каждой ступени был свой, особенный скрип, свой голос. Они словно переговаривались, рассуждая, зачем это человек идет в милицию. Добровольно, без милиционера сзади.
Самому Василию это казалось странным, невероятным. Он старался так ставить ногу, чтобы ступеньки не могли переговариваться. Толкнув обшитую черной клеенкой дверь, остановился у высокого деревянного барьера.
— К начальнику можно? — спросил он у сидевшей возле пишущей машинки девушки совсем не милицейского вида.
— Пройдите, — показала та круглым подбородком на дверь слева.
Вздохнув, Ганько постучал.
— Да, да, — глухо донеслось из кабинета.
Майор Субботин смотрел равнодушно, выжидающе. Видимо, он не был занят, Ганько не оторвал начальника от работы. На письменном столе лежал раскрытый кулечек с розовыми конфетами — подушечками. Чернильный прибор и телефон, сколотые булавкой рукописные бумажки.
— Здравствуйте, гражданин начальник! — сказал Ганько.
У майора домиками выгнулись брови.
— Здорово, гражданин товарищ. В чем дело?
Ганько опустил голову, собираясь с мыслями. Было неудобно своего молчания, он злился на себя, что не продумал предстоящего разговора, а злость эта мешала думать сейчас.
— Я с Лужни, — сказал он и смутился: ну и что, если с Лужни? Лужня велика, километров на семьдесят тянется, да и вообще…
— Садись, — чуть заметно улыбнувшись глазами, пригласил майор. — Как там у вас дела? Больше в магазин не лазали?
Ганько сразу стало легче — узнал, помнит. Выигрывая время, достал папиросы. Хотел спросить разрешения закурить, но, увидев совершенно чистую пепельницу, решил спрятать пачку.
— Кури, кури! — понял его сомнения майор. — Можно. Это я вместо папирос, видишь? — он показал на кулек с конфетами.
Но Ганько решительно затискал в карман папиросы.
— Зря вы Шугина замели, — сказал он. — Ни за что. Не он работал.
— Гм! — глаза майора вдруг посерьезнели, в них светилось изумление. — Знаешь, дай-ка мне папиросу…
Не отрывая от Ганько недоверчивого, как казалось тому, взгляда, он закурил. Вернул спички и только тогда спросил:
— Ну?
— Ну, в общем, не он это… Точно вам говорю…
— Интересно, — без улыбки сказал майор. — Здорово. Значит, не он?
— Не он…
Пауза. Долгая-долгая. Внимательный взгляд серых, запавших глазницы глаз.
— Чтобы сказать „не он“, надо знать кто. Ты, что ли?
— Зачем я? Ровно бы я к вам пришел тогда!
— А я бы пришел, — сказал майор, — если бы вместо меня взяли непричастного к делу моего товарища. Хоть совесть у меня и не воровская, а милицейская… Ведь у вас, кажется, не полагается товарищей, предавать? Ладно!.. Кто же воровал тогда?
— Предателем не был, начальник! Люди. Ваше дело искать — кто…
— Так!.. Не хочешь, значит, предателем быть? Легавым, кажется?.. Ну, ну… А гулять на свободе, зная, что товарищ за тебя расплачивается, — как, не считаешь предательством?
— Об этом пусть думает кто воровал…
— Твоя хата с краю?.. Знаешь, давай смотреть не с милицейской точки зрения, а с воровской. По воровскому закону посадить товарища в тюрьму — значит ссучиться, потерять права, так? Ну, скажем, если донесешь, да? Но ведь посадить за преступление, которого человек не совершил, еще хуже! Вот и выходит, что ты покрываешь уже не вора, а… ну, как это называется?.. Просто ссученный вор или еще как?.. Положено или не положено покрывать таких?
— Законы меня теперь не касаются, начальник. — Ганько начал волноваться, перешел на жаргон. — Я уже не босяк. Но сдавать никого не стану. Как к человеку к тебе пришел… Короче, Шугин во всю эту мазуту попал по психу. Каторгу на себя открыл. Мое дело было сказать, а дальше — как знаешь!..
— А что с ним такое, с Шугиным? Может, объяснишь?
— Это могу… — Ганько закурил, одну за другой проглотил несколько затяжек. — Девочка там у нас одна, Настя. Знаете? Осенью она еще ногу ему лечила. Ну, Шугин, одним словом, в нее влип. Кричал, чтобы никто к ней не пырялся. А она втихаря с Усачевым схлестнулась. Витек узнал об этом и… — он махнул рукой, сыпанул пеплом погаснувшей папиросы.
— С Усачевым? — удивился майор. — Это с баянистом, что ли?
— Угу, Васька Скрыгин рыло ему начистил вчера… Как напарнику…
— За что же?
— Вроде за то, что Насте ребенка сделал, а сам когти рвать… ну… — Василий смутился, поймав себя на жаргоне, которого не замечал раньше. — Не хочет жениться, понимаете? Уезжает…
Майор долго молчал, глядя мимо Ганько, рассеянно барабаня пальцами по столу.
— Ясно, — сказал он наконец. — Понимаю…
Василий закуривал новую папиросу, ожидая продолжения, но майор опять смолк.
— Так что же, гражданин начальник, — погодя спросил Ганько, — придется Шугину ни за что срок тянуть, да?
— Нет, не придется. Ты же сказал, что наше дело искать? Мы и нашли.
Парень недоверчиво усмехнулся, Майор заметил усмешку.
— Воронкин и Ангуразов, — сказал он.
„Витёк заложил“, — мрачнея, решил Ганько. Сразу пропало желание беспокоиться о судьбе Шугина — не так просто бывает переоценить то, что покупалось дорогой ценой потерянных лет жизни, запоминалось, как азбука. — Мне можно идти, начальник?..
— Что же, если торопишься… Наверное, думаешь, что Шугин выдал? В наши способности искать не веришь?
— Почему не верю? — попытался увильнуть Ганько. — Вполне возможно…
Он встал, по манор не позволил ему уйти.
— Сядь. Подожди минутку.
Пожав плечами, Василий сел. На самый краешек скользкого, обитого клеенкой дивана.
— Значит, не веришь? Не полагается, конечно… — начал было майор, но его прервал стук в дверь. — Подождите! Занят!.. Не полагается, говорю, рассказывать о профессиональных секретах, по я расскажу. Так и быть… — он усмехнулся. — Все равно следственные материалы на суде зачитывать будут… Так вот, парень… Что такое отпечатки пальцев — тебе известно, конечно. Воры не оставили их в самом магазине. Они оставили их на стекле, когда выставляли окно в тамбуре. Не то чтобы прохлопали, нет! Пока они работали внутри, на тамбуре висел нетронутый замок. Вылезли они тоже через окно. Стекло аккуратно вставили на место, так что никаких следов не осталось. Кроме отпечатков. Но они и о них подумали. Чтобы никому не пришло в голову искать на окне, сорвали замок с дверей тамбура. Вошли, мол, через дверь и ушли через нее, все просто и ясно. И — конечно, мы не обратили бы внимания на окно. Только, вылезая, они развалили приготовленные на утро дрова в тамбуре. И одно полено упало так, что дверь нельзя стало открыть. Случай, конечно. А нам пришлось задуматься. Замок сорвали, а дверью не пользовались. Почему, зачем?… Пришлось обратить внимание на окно. Отпечатки на стекле оказались тождественными некоторым отпечаткам на бутылках. Что одни отпечатки принадлежат Воронкину, мы знали с его же слов. Помнишь разговор? А с кем он работал в паре, не трудно и догадаться. Оставалось только проверить дактилоскопию… Знаешь, зачем я тебе это рассказываю?
Ганько снова пожал плечами.
— Чтобы понял, кто из нас больше заботился о Шугине. Ты — или мы, милиция. Слышал, как говорят: человек ты или милиционер? Так вот, милиционер докапывался, виноват парень или не виноват, хотя и объявил себя виноватым. А „человек“, зная, что Шугин не виноват, умыл руки, лишь бы не называть настоящих виновников. Что молчишь? А вы ничего не спрашиваете… Я спрашивал. Ты не ответил… Иди!..До свиданья, — облегченно буркнул Ганько и, не оглядываясь, пошел из кабинета.
Проводив его взглядом, майор машинально похлопал себя по карманам, отыскивая папиросы. Вспомнив, что их нет, что папиросу, сладковатый вкус которой манил закурить следующую, он взял у этого парня, вздохнул.
Опять постучали, дверь приоткрылась.
— Минуточку, — кивнул майор женской голове, закутанной в платок. Когда голова скрылась, прошелся по кабинету и снял телефонную трубку. — Леспромхоз мне, директора, — попросил он телефонистку. — Михаил Захарович? Субботин беспокоит. Слушай, я насчет заявления этого типа… Ну, что рассчитался с Лужнинского участка… Ну да… Вот именно, что не хулиган… Видимо, славный парень… Не буду привлекать… Да потому, что сам с удовольствием набил бы ему морду, твоему баянисту. А вот так… Нет, перезвони лучше, у меня посетителе… Попозже…
Он повесил трубку. Крикнул:
— Кто там ко мне? Входите.
До Сашкова Ганько добрался только в восьмом часу. Выпрыгнув из кузова чуть притормозившей машины, посмотрел вслед ей и увидел, что шофер включил фары. Кажется, начинало сморкаться?
— Черт! — вслух произнес Ганько. Это означало, что время позднее, до дома тринадцать километров пешей дороги, в город можно было не ездить, и вообще все как-то чертовски нескладно получается.
Закурив, пошагал к развилке, которой начиналась дорога на Чарынь. Кое-где торопились зажечь огни, хотя на улице было еще достаточно светло. Свернув с главной улицы, мельком взглянул на прижавшийся к палисаднику чьего-то дома ГАЗ-69. Подумал: увез бы до Чарыни, чем стоять без дела. Вспомнив, что в Чарынь не пробиться и вездеходу-„козлу“, презрительно швырнул в его сторону окурок.
Скользкая дорога спустилась к реке. Поверх темного льда натаявшую за день воду подергивал тонкий, как пергамент, ледок. На подъеме противоположного берега Василий дважды поскользнулся и, сойдя с дороги, хватаясь за ветки кустов, полез щетинящимся прошлогодней травой бесснежным косогором. Подняв голову над верхним его обрезом, заметил идущих по дороге людей. Но только сделав несколько шагов навстречу, узнал Ангуразова и Воронкина.
Решил: почуяли беду, удирают!
Он удивился своей злости, а затем увидел за их спинами еще двоих. Милиционера и штатского.
Злость сразу пропала. Вместо нее сердце сжала тоска, словно это его самого конвоировали. Василий молча отступил за обочину.
Поравнявшись с ним, Воронкин деланно усмехнулся. Ангуразов посмотрел равнодушно, отвел взгляд. Так полагалось: нельзя показывать, что знаком с человеком, навлекать на него подозрение…
Четверо скрылись под берегом. И тогда Ганько понял, что его тоже вели под конвоем. Васька Хохла, карманника. А Василий Ганько, лесоруб, смотрел вслед, навсегда с ним прощаясь. А прощаться всегда невесело!
В левой половине барака освободились три койки. Но не просторнее стало от того, а пустыннее.
— Я думал сначала, ты насчет этого дела подался, — глазами показал Стуколкин в угол, где спали Воронкин и Ангуразов. — Витька выручать…
— Точно — туда и ездил, — сказал Ганько и приготовился услышать позорное слово „легавый“. Но Стуколкин только усмехнулся;
— Свисти больше! Они по утрянке уже сюда выехали, до Сашкова восемьдесят три, да тут тринадцать!
— На полдороге навстречу попались. Шофер кричит: автоинспектор едет… А я внатуре у начальника милиции был, Никола…
Стуколкин не спросил зачем. Не обозвал легавым. Поинтересовался только:
— Ну, и что Витёк?
— Не знаю…
— Выходит, сдал-таки он Шебутного?
— Похоже, что сами они раскопали. Толковал мне начальник: окно в тамбур выстеклили и… расписались… — Василий показал растопыренную пятерню.
— Не такой дурак Шебутной, — усомнился Стуколкин.
— Они после замок на тамбуре сбили, чтобы от окна отвести. Да, понимаешь, дверь поленом заклинило. Ну, оперативники и догадались, в чем дело…
— Черт с ними, — сказал Стуколкин. — Закир зря с Шебутным связался. Нашел кореша!.. Когда Костя сказал Витьку, что есть водка, я сразу понял про магазин…
Оба примолкли, время от времени поглядывая исподтишка друг на друга. Каждый понимал, что развалился карточный домик, картам незачем больше притворяться колодой. Каждый порывался сказать: у меня своя дорога, прощай! И ни один не хотел первым сказать об этом. Как-то неловко признаваться на теплом еще пепелище, что желал пожара.
— Куда думаешь теперь? — спросил наконец Стуколкин.
— Никуда. Здесь останусь, Никола. В Сашково потом переберусь.
— Тоже дело. А на сплав?
— Посмотрю. Может, в совхозе найду работу… Я ведь на электромонтера немного учился…
— Не потянет? — значительно поднял брови Стуколкин, чуть-чуть усмехаясь.
— Жена не пустит, Никола! Все!.. — заулыбался Ганько. Не так, как Стуколкин, а радостно, откровенно, во весь рот — по-мальчишески.
Стуколкину от его радости стало грустно:
— Моя, наверное, забыла уже… Второй срок схватил — писать перестала. Ничтяк! Найду место, чтобы приткнуться.
Больше говорить было не о чем. И тот и другой думали о своем, сокровенном. Оба знали, что не придется встретиться больше, но скорбеть об этом не собирались.
— Подаваться-то когда будешь? — после паузы спросил Ганько. — Может, подравняешь полмесяца здесь?
Стуколкин взглянул на пустые койки, на тряпье и рваные валенки под ними.
— Ну его к чертям, Васек, Хватит. Дорубит кто-нибудь мой лес, немного остается рубить.
— Твое дело. Я тогда к Ваське Скрыгину в бригаду пойду…
— Вроде ничего фрайер, — одобрил Стуколкин и опять покосился на пустые койки. — Айда, сходим к ним, что ли? Надо с мужиками разойтись как положено…
Ганько молча поднялся. На ходу закуривая, пошел к двери.
На правой половине уже укладывались спать, но только один Коньков пробурчал что-то о несвоевременности прихода соседей. Скрытии, приветствуя, закивал головой и замычал, показывая вынутую изо рта зубную щетку. Сухоручков, раздумав снимать рубашку, пересел с кровати к столу.
— Осиротели, ребята? — соболезнующе спросил он.
— У нас усачевская койка освободилась, еще одну можно поставить. Вон там, где чижиковская стояла, — предложил Тылзин, показывая снятым ботинком место. — В колхозе веселей будет!
— Я-то завтра отчаливать думаю, — сказал Стуколкин.
— И ты в отлет? — поинтересовался Иван Яковлевич у Ганько.
Тот отрицательно замотал головой.
— К тезке в бригаду, если возьмет…
— Чего ж не взять? Возьмет! — решил за Скрытна Сухоручков, а Тылзин поддержал:
— Рад будет, недокомплект у него в бригаде.
Скрыгин, выполоскав рот, стряхнул воду со щетки. Подошел, улыбаясь. Сухоручков пожал плечами:
— И чего ты деньги на пасту тратишь, Васька? Твои зубы вполне наждаком чистить можно. Шкуркой. Дешево и сердито.
— Разговор наш слышал? — спросил Скрыгина Тылзин.
— А то нет?.. Вот кого, Иван Яковлевич, бригадиром-то к нам надо! Тезку! Он у нас всех по опытности переплюнет. Сам понимаешь!
— Брось ты, пол месяца каких-то, а то и меньше, работать осталось. Не все равно, кто бригадирствовать будет? — накинулся на Скрыгина Сухоручков. — Ты лучше расскажи парню о деле. Насчет того, что надумали. Вчетвером сподручнее, чем втроем…
Скрыгин, нерешительно посмотрев на Ганько, видимо, колебался принять какое-то решение:
— Втроем управились бы…
— Не двужильный я, чтобы дарма спину ломать! — выкрикнул молчавший до того Коньков и заворочался, заскрипев койкой.
— Помолчал бы ты, Никанор, — не глядя в его сторону, поморщился Тылзин. — Не хочешь — не надо…
— О чем спор, дядя Ваня? — насторожился Ганько.
Иван Яковлевич устало махнул рукой.
— Нет никакого спора. Мастер наш просчитался на полсотни кубометров. Глаза у него, знаешь, какие? А замер — дело кляузное, два сантиметра на шестиметровом бревне припустил — сотка. Вот и набежало.
— На сплаве спишут, — усмехнулся Стуколкин. — Не такое списывают. Это что? Пустяк!..
— Нам пустяк, а Ионыч мужик с характером. Акт о недосдаче составил. Говорит: пусть снимают.
— Кто его за это снимать станет?
— В начет могут поставить, — сказал Тылзин. — Не в том дело. Со внучкой неприятность такая… Вроде как не в себе стал старик…
— На нее осердился, а себя стукнуть хочет, — пояснил Сухоручков.
А Скрыгин сказал:
— Хочет, чтобы уволили.
— Короче, мы тут договорились напилить полсотни кубов. Чтобы без хвостов, чистым старик уволился, если увольняться хочет, — закончил Тылзин и вопросительно посмотрел на Ганько.
Тот понимающе кивнул:
— Я — всегда пожалуйста, дядя Ваня! О чем разговор.
— Вот об этом самом. Коньков отказался. А вчетвером пятьдесят кубиков поставить — ха! — усмехнулся Скрыгин.
— Впятером, — неожиданно поправил его Стуколкин, — может, и мне из этих кубометров по запарке перепал десяток. Старый черт другой раз без очков лес принимал… — Он подумал, посмотрел на Ганько. — Подравняю полмесяца. Пусть знают, какая у босяков совесть. Так что, товарищ, перетащим сюда свое барахло?..
— Вот тебе и жулики! — значительно, словно опровергая какие-то слова его, сказал Сухоручков Тылзину, а покосился через плечо на Конькова. Тот лежал лицом к стене, на давно не стриженном затылке топорщились косичками свалявшиеся волосы.
— Ничего ребята! — Иван Яковлевич задумчиво смотрел на дверь, за которой скрылись Ганько со Стуколкиным. — С Фомой же я и поспорил как-то. Давненько уже. Говорит: горбатого могила исправит. А я так думаю, могила никого не исправит, она могила и есть. Жизнь — та может! Если, Николай Николаич, жизнь не исправит — никто не исправит. Никакой тебе Антон Александрович Латышев, как он руками ни маши!..
— Шахматы зато привез, — прыснул Скрыгин.
Но Тылзин осуждающе блеснул глазами:
— Латышев — он тоже доброго хочет, ты не смейся. Все хотим доброго. Только подступаться не знаем как. Ходим да охаем: ах да ох! Думаешь, Латышев не понимает? Понимает… Ему по должности полагается… разные слова говорить.
Сухоручков, потыкав кулаками не желающую пышнеть подушку, поднял голову:
— А я тебя, Иван Яковлевич, чего-то не понимаю, Ей-богу! Нагородил семь верст до небес, и все лесом. Сам, поди, заблудился?
— Не заблудил, не бойся! Я говорю, жизнь у нас, какая теперь? В коммунизм входим! Вот и обязаны мы с тобой так жить, чтобы всякая сволочь вроде как голой себя чувствовала. К людям подойти стыдилась.
— А кому не стыдно? Вот как Воронкину?.. Слыхал, как он милиционерам?..
— Вот и выпустили их для проверки. Чтобы ясно, которых куда.
— Черт с ним, с Воронкиным. Согласен. Но скажи ты мне, мил человек, кого им стыдиться? Меня да тебя? Верно, не воруем. Так и Борька Усачев не ворует. И Никанор — упаси боже, крошки чужой не возьмет. Так или не так, Никанор?
Коньков заворочался под одеялом, но промолчал.
— По-моему, Иван Яковлевич, вор лучше честного подлеца. Как хочешь! — подытожил Сухоручков.
— Так я к тому и веду. Должны мы так жить, чтобы всякому жулью дыхнуть возле нас нечем было… Сами они перевелись чтобы, от честной жизни!..
— Долго прождешь, Иван Яковлевич!..
— А это, брат, уже не от них, а от нас зависит! Жизнь, она и сейчас, сам видишь, воспитателем работает. Только не в полную силу еще, это так. Вот и получаются Воронкин да Ангуразов…
— Двое. Счет три к двум, — поднял руку Скрыгин. — В нашу пользу. Да, Иван Яковлевич?
Брякнув дверцей печки, майор Субботин вытряхнул окурки из пепельницы, поправил на чернильнице крышку. Он нарочно тянул время, но парень молчал. Смотрел в пол, на комочек оброненного с папиросы пепла и крохотные седые пылинки вокруг него. Прикидывался равнодушным, уставшим от ненужного разговора.
— Так зачем это тебе все-таки было надо? — спросил майор, когда надоело ждать.
— Что, начальник?
— Брать на себя вину. Ценой собственной свободы хотел друзей выручить?
— Мотал я таких друзей с колуном навстречу! — презрительно сказал Шугин.
— Просто на свободе не понравилось?
— Да, не понравилось, — охотно согласился Шугин: отвяжись, мол, только, пожалуйста!
— А почему? Не скажешь?
— По всему…
Майор посмотрел насмешливо, но за насмешливостью прятался поиск каких-то очень нужных, доходчивых слов, которые не хотели находиться. После беседы с Ганько не сложно было понять, что руководило Шугиным. Куда сложнее рассеять озлобленность парня, и без того тяготящегося разговором, презирающего милицейскую форму и самого майора.
— Знаешь, как я милиционером стал? — внезапно спросил он. Глаза стали строгими, усталыми.
Шугин пожал плечами, продолжая рассматривать оброненный с папиросы пепел. „Чего ты ко мне привязался?“ — говорила его поза.
— Сын у меня, Мишка… — сказал майор и на мгновенье запнулся, — вроде тебя… Я с немцами дрался, а он… легких денег искал… в чужих карманах. Я с простреленным легким домой пришел, а сын в тюрьме. Вот и подумал тогда: кто виноват в этом? В том, что нужно молчать, если спрашивают про сына, стесняться? Решил, что сам — воспитал плохо. Что люди не остановили вовремя, не спустили шкуру. Жену, тещу, всех виноватая, кроме него. Его — жалко было…
— Нечего нас жалеть, — буркнул, не поднимая головы, Шугин. — Сами мы… виноваты…
Кажется, он хотел сказать это, презирая жалость майора: такие, мол, как я, не нуждаются в жалости! И сорвался. Майор понял, что ему жалко себя. Горько, что должен искать таких же в друзья и приятели, только с такими же — где-то на узких задворках жизни — не таиться, не прятаться.
— А я вот… жалел, — вздохнул майор. — Сначала — как щенка, попавшего под машину. Что недосмотрели. А потом, — он мельком взглянул на Шугина: слушает ли? — потом за другое жалел. За то, что приходится ему около жизни жить. От жизни, от настоящей, — крохи одни подбирать. Заваль. С честным человеком не подружиться. Честную девушку если полюбил…
— Дешевки они! Все дешевки! — гневно блеснув глазами, прошипел Шугин.
Майор понял, что задел парня за живое.
— Брось. Не дешевле, чем мы с тобой. Я говорю; полюбил девушку, может, даже она его полюбила… И так бывает, не думай! Ну, а потом оказывается, что общего-то ничего и нет. Другие интересы, другие взгляды на вещи. Чужие. Разные. Подвернется кто-нибудь на пути, покажется ближе — и конец…
— Значит, если загремел под откос, значит — все? Не рыпайся, да?..
— Почему?
— Сами же вы… говорите…
— Я говорю, что так бывает, пока человек под этим самым откосом ходит. Если вылез — значит, другим стал. Правда, иногда легче бывает вылезти, чем убедить людей, что ты вылез. Плохо таким верят. Доказывать надо.
— Вам докажешь!..
— А кто виноват?
Шугин промолчал, только углом рта дернул.
— В Мишкиной судьбе я себя считал виноватым. Вот и пошел работать в милицию. Думал: сына не сумел удержать вовремя, может — чужих сыновей смогу. А как тебя удержишь, если ты сам за решетку просишься? Сказал бы ты мне — как? А?
Шугин сказал другое:
— Короче, конченый я человек…
— Если сам хочешь таким быть…
— А если… не хочу?
— Тогда не конченый. Тогда, брат, — майор ободряюще улыбнулся, — наоборот. Начинающийся.
По-прежнему не поднимая глаз, Шугин достал папиросы. Майор сделал движение рукой по направлению к раскрытой пачке, но заставил себя еще раз передвинуть пепельницу. Ближе к Шугину, будто затем только и протянул руку. Он смотрел с завистью, как парень закуривает.
— Я, начальник, вроде бы вылез из-под откоса, — сказал, закурив, Шугин. — А тут…
Он вздохнул, но попытался выдать вздох за глубокую папиросную затяжку.
— Что — тут?
— Жизнь, начальник, падлючья…
— Не врешь? Ты подумай. Может, ты многого шибко от нее требуешь? Чтобы она тебе ковром стелилась? Чего захотел — то и пожалуйста? Так, Шугин, наверное, ни у кого не получается… За все надо бороться, а так — протянуть руку и взять — ты пробовал. Знаешь, к чему приводит… Да ведь и не все возьмешь, верно?
— Не все, — задумчиво согласился парень.
— Да и не интересно так, — продолжал майор, — чтобы все само в руки давалось. Скучно. Хорошо, когда можно собой гордиться: добился, победил. Пробовал так?
Не отвечая, парень думал о чем-то. И майор посоветовал:
— Ты попробуй…
— Поздно, начальник! Уеду я отсюда, вот что.
— Говорят: лучше поздно, чем никогда. А уехать — это не вопрос. Жалеть бы потом не стал…
— Нечего мне жалеть.
— Тебе виднее, конечно. Я думал, привык здесь, к тебе привыкли. Чего вам не сидится на месте, не понимаю! Ты хочешь уехать, Усачев уехал… — нарочито небрежно сказал майор.
Виктор вскинул голову, впился взглядом в его лицо:
— Куда уехал?
— Вот уж не спрашивал. Знаю, что брал расчет.
Голова Шугина снова склонилась, глаза потухли. Выдавил насильственную улыбку:
— Жену, значит, повез?
— Откуда у него жена? Один.
— Откуда!.. С Лужни.
— Путаешь ты чего-то. Там у вас и девушек-то — одна Настя.
— Она и есть, — опять заставил себя улыбнуться Шугин.
— Чепуху городишь, — уверенно опровергнул майор. — Настя никуда не думала уезжать! А ты что, дружил с нею?
— Нет, — качнул головой Шугин. — Просто — ногу я разрубил, она вылечила.
Майор встал, обогнул стол. Глядя в окно, по мокрому подоконнику которого прыгали воробьи, словно бы и не Шугину вовсе, сказал:
— Хорошая девушка… Бесхитростная, доверчивая. Такую обмануть, обидеть — ничего не стоит какому-нибудь мерзавцу… Говоришь, ногу лечила тебе? Я бы на твоем месте хоть попрощался с нею, спасибо сказал…
Шугин отмолчался. Отворотясь, грыз ногти. Слова начальника милиции совпадали с его мыслями. Или мысли рождались из слов? Как бы то ни было, Усачев уехал. Значит, если Ганько не соврал тогда, Настя отшила Усачева. Сказала: катись к черту. Но, скорее всего, Ганько соврал или ошибся. Ему, Шугину, это безразлично. Настя его не интересует. Но на Лужню, может, действительно стоит съездить? Показаться, пусть не думают, будто замешан в этой копеечной краже. Ну и… попрощаться с мужиками все-таки… Можно и Насте сказать спасибо, повозилась тогда с его раной. Что верно, то верно. Так он ей и скажет.
Покосившись на рассматривающего воробьев майора, Виктор неуверенно спросил:
— Мне как, можно уйти?
— Конечно.
— Так я пойду…
Он поднялся, повертел в руках шапку. Словно майору, а не ему это было нужно, пообещал:
— Съезжу туда. На Лужню.
— Съезди, — оборачиваясь, сказал майор. — Посмотри. Чуть не полгода там прожил. Возможно, когда-нибудь добрым словом помянешь.
— Не за что ее добрым словом. То же, что в заключении. Лес да барак. Только что конвоя нету.
— Так-таки и то же самое? — удивился майор. — Никакой разницы? А это не оттого, что ты не научился еще смотреть по-другому? Мол, если не тюрьма — значит, дым коромыслом, на каждом углу закусочная? Неужели ничего хорошего не видел на Лужне?
Шугин хотел сказать „нет“, но вспомнил увиденный Настиными глазами мир. Видение, подернутое туманом сказочности, оставило странное чувство. Словно был около, но не нашел входа. Не дошел до него.
— А что там увидишь, на Лужне? — спросил Виктор, надеясь втайне: вдруг майор объяснит, где вход?
Майор не объяснил.
— Смотря что хочешь увидеть, — сказал он. — Может, ты не хотел видеть хорошее. Только плохое… Считаем, будто хорошее — это так и должно быть. А если что не по нас, возмущаемся. Точно все только и обязаны угождать нам… Для этого и живут…
— До свиданья, — берясь за дверную ручку, вздохнул Шугин. Уже открыв дверь, приостановился. Что-то мешало ему так вот, по-равнодушному, уйти. Хотелось сказать что-то важное — и нечего было сказать.
— Сын-то у вас… где теперь? — запинаясь, спросил он с порога.
Майор не ответил. Смотрел в окно. Он опирался рукой на подоконник, слишком низкий для его роста. Со стороны длинная, скособоченная фигура в черном — оттого что заслоняла свет — кителе казалась надломленным, обгорелым деревом. Шугин тихонько — чтобы не стукнуть — затворил дверь.
Прорубь, укрытая дощатой крышкой, словно ее все еще хоронили от морозов, передвинулась к середине реки. На пути к ней чернела широкая заберега. Ледяное одеяло вдруг стало узким — река выросла, перестала умещаться под ним. А может быть, как изнежившийся в тепле человек, медлила сбросить его и выглядывала, приподняв край: неужели наступило время проснуться?
— Наступило, наступило! — кивал нарядный, весь в пушистых белых цветах, бредняк, безбоязненно входя в холодную воду.
— Уж-же! Уж-же! — нетерпеливо подтверждал тетерев, подпрыгивая на льду, веером распуская хвост. И косился из-под набрякшей кумачовой брови на заберегу: заспалась Лужня, могла бы пошире разлиться, чтобы он, тетерев, чувствовал себя на льду в еще большей безопасности.
А в самой реке, в прозрачной еще не по-весеннему воде, тыкались в берега разбухшие от икры щуки. Ждали, когда Лужня выйдет на луговины, зальет их. Щуки собирались играть свадьбы. Возле медлительных, толстых, как купчихи, невест увивались поджарые женихи. Расфранченный тетерев пел серенады скромным тетеркам, качающимся на зыбких вершинах прибрежных берез. Колеблемые током воды ветки бредняка переплетались, пушистые меховые соцветия дарили друг друга ласковыми прикосновениями.
Только Настя чувствовала себя одинокой, чужой весне. Пусть не ласковое прикосновение — просто дружески опереться бы на кого-то. Знать, что рядом есть близкий, могущий ободрить человек.
Не было такого человека, разве что дед. Но дед может пожалеть, посочувствовать. А ей не жалость и не сочувствие нужны. Ими не возвратишь веру в счастье, в человеческое сердце, в светлую, как родник, любовь и нестареющую весну. Кто может помочь ей в этом?
Одиночество заставило вспомнить имена тех, с кем сталкивала прежняя, добрая жизнь.
Жизнь была короткой, Настя не многих успела встретить, а в памяти осталось еще меньше.
Любимая учительница, Вера Никаноровна? Она далеко, уехала из Сашкова…
Подруги, чарынские и сашковские девчонки? Нет, поахают только! А такие, как Тоська Кирпичникова, еще дурой назовут…
Вася Скрыгин? Хороший парень, душевный, но у Васи своя жизнь, свое счастье и своя весна.
Витька Шугин?..
Поставив пустые ведра, Настя с упреком посмотрела на свое отражение в воде. Подлая, человека зря арестовали тогда, а она обрадовалась! Выдумала, что мешал ей. Будто невесть какой отъявленный. А он…
Опять вспомнилось, как Шугин, не чувствуя боли, сминает пальцами горящую папиросу. Как, виновато опустив голову, слушает обидные слова — только потому слушает, что их говорит она, Настя! Как спрашивает, горько-прегорько усмехаясь: „Баяниста своего ждешь?“
Вздохнув, девушка наполнила ведра и, смерив взглядом предстоящий подъем по косогору, тихонечко ахнула: наверху, на переломе тропинки, стоял Виктор Шугин.
Она бессильно опустила ведра. Одно из них наклонилось, плеснуло водой ей на ногу. Чтобы Шугин не увидел вспыхнувшего лица, Настя склонилась, поправляя ведро. Шугин появился слишком уж неожиданно, застал слишком врасплох. Именно тогда, когда упрекала себя воспоминанием о нем. Если бы он ушел, пока она медлит, склоняясь над ведром!.. Сейчас скажет какое-нибудь ругательное слово и будет прав: она виновата перед ним…
— Подожди, — крикнул сверху Шугин. — Я сейчас… Тормозя каблуками, он сбежал по крутой тропинке, подхватил ведра. Тем, что наполовину вылилось, вновь зачерпнул воды и, опередив девушку, стараясь на ребро ставить подметки, полез наверх. А Настя поняла, что он не мог знать о ее подлых мыслях, когда его арестовали. Что не угадал теперь растерянности и смущения, приняв их за девичью неспособность управиться с тяжелой ношей.
У Насти немного отлегло от сердца.
Он ждал ее на конце подъема. Поставив ведра, закуривал папиросу. Бросив спичку, сказал:
— Ну… здорово! Как жизнь на Лужне?
— Отпустили? — не поднимая глаз, спросила его Настя.
— Конечно! Зря держать не будут…
Она смотрела на его облепленные глиной сапоги, на щегольские серые брюки, в них заправленные, тоже забрызганные дорожной грязью.
— Дороги-то… нету, поди?
— Куда денется?.. Было бы куда идти!
— Я думала, не пускают уже реки. Лужня — вон видишь? — уже… — Настя показала на чистую воду забереги и осмелилась перевести взгляд на него. И снова отвела, будто следовало лучше рассмотреть заберегу.
— Подумаешь! — сказал Шугин, пользуясь тем, что девушка отвернулась, и рассматривая ее. — Две жерди подлинней бросил — и порядок. Пока лед стоит.
— Боязно, — поежилась Настя.
— Ну уж и боязно!
И Насте захотелось поверить, что ему не было боязно. От этого ей самой черная полоса воды показалась менее широкой и холодной. А одиночество — не таким пустым, не таким страшным.
— На сплав? — с нотками надежды в голосе спросила она.
Шугин почему-то не решился сказать „нет“. Но считал, что говорит это другими словами:
— Мокрая работенка, да?..
— Мало кто остается из старых… Чарынских шестеро… Лужнинских, которые у нас жили, — Вася Скрыгин да из ваших — Ганько…
— Ганько надо бы морду набить, — беззлобно сообщил Шугин и стал озирать окрестности, точно впервые попал сюда.
— За что? — удивилась Настя. — Он тихий такой. Со Скрыгиным теперь дружит…
Ковырнув носком сапога талую землю, Шугин сказал:
— За язык…
И, теперь уже не на земле, а в небе поискав что-то глазами, объяснил:
— Наплел тогда на тебя, что ты с Усачевым… — И, боясь оскорбить даже пересказом чужой клеветы, если это клевета, добавил: — Надрался, видать, до того, что чудиться стало! Обознался, гад, а пасть разинул!
Он все еще смотрел в сторону, испытывая неловкость. А когда осмелился взглянуть на девушку — не смог встретить ее взгляда.
Настя молчала, молчание становилось тягостным.
— Это правда, — еле слышно произнесла наконец девушка. И повторила громче: — Правда.
Где-то в глубине души Шугин ждал этого. Страшился, не хотел верить, что может услышать, но ждал. И все-таки растерялся, услышав.
— Ну что ж… — он сказал это вместо тех горьких и обидных слов, которыми можно было выговорить свою боль, горечь и обиду. Ценою Настиной обеды и боли облегчить сердце. Но он испугался, наверное, что сердце станет пустым и мертвым тогда. Само сердце испугалось.
— Что же, тебе виднее. Я — босяк, а он… Конечно… Я понимаю…
— Не понимаешь! — вздохнула Настя.
Он не согласился:
— Понимаю!.. — И, помолчав, окончательно обрывая крылья мечте, даже не представляя, что она может ответить не утвердительно, спросил: — Значит, к нему уедешь теперь? Или как?
— Никак, — сказала Настя, бесстрашно взглянув прямо в глаза ему.
Этого Шугин действительно не мог понять сразу. Долго соображал, что означает коротенькое слово. Никак — значит, не так и не так. Ни она к Усачеву и ни Усачев обратно сюда. Следовательно — врозь? Так, как он и предполагал, выходит? Послала баяниста к черту? Отшила?
— Настя, — начал он и остановился, задохнулся от нехватки слов. — Настя, я, конечно, уголовник, вор. Но с этим покончено, Настя…
Девушка устало, трудно наклонилась, подняла ведра.
— Не надо, Виктор… Ни к чему…
— Потому что вор, да?
— Не потому. — Настя опять поставила ведра, спокойно и рассудительно заговорив о том, что еще недавно не осмелилась бы поверять даже себе самой: — Ты ведь мне нравился, Виктор. Я сама это потом поняла, поздно… Когда уже… другой стал нравиться. Так получилось.
— Он же уехал…
Настя отозвалась, как отзывается эхо:
— Уехал… Хорошо, что уехал… Да ведь так не выходит, Виктор, чтобы от одного к другому… Я не бессовестная какая. Сам ты что подумал бы? И еще, — она вздохнула, спрятала зардевшееся-таки лицо, — ребенок у меня будет, наверное… Видишь, как…
Ни словом, ни жестом не выразил Шугин удивления или возмущения. Только сильнее, до боли в скулах, одному ему ведомой, сжал челюсти. На душе стало вдруг пусто, холодно. И почему-то неловко перед девушкой.
— Ясно, — сказал он, хотя мысли застлал какой-то туман, муть. — В общем, прощай. Пойду…
— Куда? — удивилась Настя.
Он заставил себя изобразить хотя бы некое подобие улыбки.
— Не одна Лужня на свете…
— Ты же на сплав… — начала было девушка и осеклась, поняв, для чего в действительности он приходил. — Прощай, Виктор.
Шугин мотнул головой, повернулся и размашисто, словно убегая, зашагал к конному двору, к дороге.
— Виктор!.. — испуганно крикнула вслед Настя в осеклась, сбилась, а потом заставила себя оправдать испуг: — Реки-то, Виктор!.. Не утони!..
— Доберусь, — не оглядываясь, бросил Шугин и, только пройдя несколько шагов, спохватился, что сказал это под нос себе, Настя не могла услышать. Решила, наверное, что не захотел ответить. Обернуться, помахать на прощанье кепкой?
Он не стал оборачиваться.
Ушел Витька Шугин. Скрылся из глаз, потерялся за придорожным ольшаником, голым, но достаточно густым, чтобы человек мог потеряться в нем. По крику сорок, поднявшихся вдруг над кустами, Настя угадывала, где он проходит сейчас. Тот Витька Шугин, чей приезд в Лужню столкнул Настю с чужой жизнью, стыдной и страшной. Тогда она испугалась. Не понимала, как могут существовать две разные жизни — тех пятерых и ее. Как можно жить не так, как она?
Теперь столкнулась с мерзостью в своей жизни. Перешагнула через страх, может без слез обернуться назад, на прошлое. Поняла, что нет двух разных жизней. Просто есть еще люди, поганящие жизнь. Одни — отравляют водочным перегаром, оплевывая, мешая с грязью. Другие — давят начищенными до зеркального блеска сапогами.
Настя вспомнила, что пошла по воду. Словно проснувшись, огляделась. Вокруг нее все осталось прежним, ничего не изменилось. Как и прошлой весной, где-то за излучиной чуфыкал тетерев. Так же мохнатился бредняк. Солнечный луч, изломавшись о незаметную капельку влаги на ветке березы, рассыпался огнецветными брызгами. Разве что стены барака чуть потемнели — прошел год. И еще прошло Настино бездумное время, вырасти пора из девчонок! И только.
Она попыталась улыбнуться, примиряясь с этим. Но улыбки не вышло, а в уголках рта обозначились две еле заметные складочки. Первые, но не последние.
Сороки за конным двором успокоились, перестали кричать.
Распутица начинается в апреле.
Сначала садятся, прижимаются к земле снега. Разноголосые ручейки начинают точить их, а плечистые косогоры словно бы стряхивают с себя одним махом и смотрят победно на еще заснеженные низины. Но и по догам и низинам устремляются уже не ручейки, не ручьи, а потоки. Не певучие, а ворчащие гневно. Им не терпится, они все дальше отталкивают белые берега друг от дружки, увлекая за собой слеги и мостики, уроненные с берега на берег деревья.
Проселки становятся болотами. Пудовые комья глины липнут к сапогам и конским копытам. Но и эти каторжные дороги ведут только к берегам рек и возомнивших себя реками ручьев.
Через два ручья — сразу за Чарынью и километрах в семи от деревни — Виктор Шугин перешел. Оба пугали его стремительностью ледяной воды, хлипкостью переброшенных через нее жердочек. Но Виктор выдрал из ближней изгороди кол, чтобы опираться, и они смирились.
За вторым ручьем потянулся сравнительно сухой участок дороги. Шугин заторопился, стараясь как можно скорее миновать его: по худой дороге можно было идти, ни о чем не думая. Она так выматывала, что для раздумий не оставалось сил. А Шугин не хотел ни о чем задумываться.
На девятом километре дорогу пересекла Лужня. Утром Виктор легко перебрался через нее. Река не суетилась подобно ручьям, не грозилась, не плевалась пеной. Без спешки, без суеты копила силу, вбирая в себя сотни ручейков и ручьев.
Шугин спустился к воде и закурил. Помахав спичкой, чтобы сбить пламя, посмотрел на противоположный берег. Каких-то, полсотни метров отделяло берег от берега. Две забереги, сажени по две шириной. Темный, как бы пропитавшийся водой, но безусловно крепкий еще лед меж ними. За пять или шесть часов льду ничего не сталось, а утром по нему можно было на тракторе ездить.
Забереги, правда, стали чуть-чуть пошире. По крайней мере у того берега, на котором курил Шугин. Концы двух жердей, им же проложенных со льда на берег, теперь купались в воде. Можно протянуть руку и достать их. Подтащить чуть ближе, благо берег пологий, а на льду жерди лежат с запасом. Не страшно и так оставить: подумаешь, сделать пару шагов по затопленным сланям! Сапоги резиновые, воды поверх жердей по колено не будет…
Бросив в воду окурок, Шугин поискал взглядом пень или сухую кочку, но увидел только расколотую ступицу от колеса. Ладно, можно и на ней посидеть. Торопиться ему некуда, почему бы не передохнуть? Путь долгий еще… Черт его знает, какой он длины, этот путь? Где кончится? Чем? Куда он вообще идет, Виктор Шугин? Непонятно!..
Он иронически усмехнулся и полез за новой папиросой. Разминая ее, покосился на колеблемые током воды концы жердей: мост неизвестно куда. Тот еще мост! Как он переходил по нему?
Мысли Шугина улетели к следующей переправе, что под самым Сашковом. Пожалуй, на Вижне забереги пошире! Конечно, шире! И наверное, унесло бревно, выручившее утром. Думать нечего, унесло!
— Распутица, — объяснил он сам себе и выпятил нижнюю губу, словно дразнился.
Дым папиросы отдал жженой бумагой. Шугин отшвырнул окурок, потом попытался плевком потушить его. Поднялся, засунул руки в карманы и, лениво волоча ноги, вернулся к воде. Долго смотрел на колышимые ею жерди. Выковырнув носком сапога округлый камешек, перекатил его, потом движением ноги швырнул в воду. Уже не объясняя, а как бы оправдывая что-то, повторил:
— Распутица…
И, рывком повернувшись, пошел обратно — прочь от реки, навстречу двум мутным тоненьким ручейкам, бегущим по размытым, с рыхлыми краями, колеям. И, странно, чем дальше он уходил, тем тверже, размашистее шагал, хотя выше по косогору размытая дорога не становилась лучше.
Когда расходится туман
Мир был беспредельно просторным, взгляд упирался не в четкие, хорошо различимые предметы, а в голубоватую дымку далей. За далями — опять дали, океан зеленых, синеющих к горизонту гребней — сопки. Наверное, они зыбились и текли, как волны реки, но разве что одна вечность могла замечать их зыблемость.
Генка не замечал, хотя ему вряд ли приходило в голову, что вечность и ом, Генка Дьяконов, не одно и то же. Его не поражала просторность мира — не видел иного, кругозор никогда не ограничивали каменные громады домов, красные огни светофоров не закрывали дорог. Только из книг, кинофильмов да рассказов бывалых людей Генка знал о городах, тесных и суетливых, как ульи.
В мире, окружавшем, его, никто не суетился, не спешил. Сама жизнь ратовала за неторопливость: загодя, зимой, следовало готовиться к весне, с весны — к зиме. В мае, пока не появилась мошка, рубили и сплавляли дрова, чтобы к октябрю просохли, стали звонкими. В феврале вязали сети, налаживали самоловы и катали сковородками дробь, хотя река вскрывалась иногда только к концу мая, так что табуны гусей пролетали, не дождавшись ледохода, не встречаемые выстрелами с чокуров — торосов на лобовых камнях шиверы.
Бакенщики — прежде их было пятеро — зиму и лето жили с семьями в трех казенных домах. Одни уходили, рассчитывались. На их места приезжали новые. Только Матвей Федорович Дьяконов и Петр Шкурихин как поселились над шиверой семь лет назад, так и присохли здесь. Год за годом грозились уехать, плюнуть на низкооплачиваемую работу и на самого Мыльникова, начальника службы, но Генка-то знал, что все это были только слова, попытки набить себе цену. Ни Матвея Федоровича, ни Петра дымом не выкуришь отсюда, конечно! Где еще будет у них возможность жить так вольготно и так безбедно? Покосов и земли под огороды сколько хочешь, река полна рыбы, мясо и пушнина по тайге ходят, иной раз чуть не возле избушек. И никаких тебе указчиков, сами себе указчики да хозяева.
Матвей Федорович, отец Генки, был после войны колченог, но все еще могуч, ловок. Даже сохатых по настам гонять пробовал, подвязывая лыжу к деревяшке, а в лодке и вовсе забывал про свою колченогость.
Шкурихин за семь лет переменил двух жен, но, хоть и говорится, будто бы ночная кукушка дневную всегда перекукует, ни одной не позволил сбить себя, уговорить на переезд в район или в леспромхозовский поселок, на другой берег. Посмеивался, что ширина реки всего три километра: если в кино охота либо поточить лясы, одно удовольствие переплыть ее или по льду перебежать, хоть жир баба сгонит маленько. Он и сам частенько наведывался в леспромхозовский клуб, а еще чаще — в леспромхозовский ОРС, за водкой. Пьяный, играл на гармошке, привалясь к ней ухом, да, по собственному выражению, "гонял бабу", уча сговорчивости.
С прошлой весны чаще других в леспромхозовском поселке бывал Генка: посмотреть новый кинофильм или потанцевать с девчонками, переменить книги. Какой-то час ходу на моторке, бензин казенный. Раньше Матвей Федорович иной раз не позволял брать лодку, но, с тех пор как Генка тоже стал бакенить, уже не перечил. Немногим больше сына зарабатывал он теперь, бригадир Матвей Дьяконов, а работал меньше. Сын при случае мог и напомнить об этом.
Когда река вставала, начальник службы обстановки Мыльников освобождал Генку от работ по углублению фарватера. До весны, пока тот, закончив учебу, не возвращался из интерната. Без него открывали на реке навигацию, выставляли бакены, белили створы. Генка приезжал на готовенькое, по чистой воде, уже начинающей убывать. Последним приступал к работе и первым заканчивал ее осенью, торопясь к началу занятий.
Если кто-нибудь из бакенщиков — конечно, не Матвей Федорович и не Петр Шкурихин — выражал недовольство, Мыльников отшучивался:
— Он летом за все с лихвой отработает, вон у него плечи-то какие!
Действительно, плечи у Генки были широки на диво. Пожалуй, только Шкурихину уступал в силе — тот один ворочался с якорями для бакенов, по шести пудов сохатиного мяса зараз вывозил на парте через хребты.
— На твоем месте, Генка, у меня бы от девок отбою не было, — говорил он, без зависти оглядывая тонкую в поясе фигуру и льняной чуб, падающий на мальчишеский чистый лоб. — Табунами бы ходили за мной. — И то ли в шутку, то ли всерьез стращал: — Смотри, Клавку мою отобьешь — в шивере утоплю. С самым большим якорем.
Генка не шибко интересовался девчонками, да и было их, таких, которыми стоило интересоваться, одна или две на весь леспромхозовский поселок. За жену Шкурихин мог и вовсе не беспокоиться. С ума сошел Генка Дьяконов, что ли? На кой черт ему замужние бабы сдались?
В этом году Генке пришлось здорово опоздать на работу: выпускные экзамены кончились только в половине июня. На пост заявился в форменной фуражке с "крабом", купленной у какого-то старшины катера за несколько килограммов присланной отцом сохатины, и в тельняшке. Привез аттестат зрелости, содержанием которого никто не поинтересовался, не похвалил — как и не ругали когда-то, что по два года сидел в шестом и девятом классах. Нарядную фуражку он повесил над койкой, на подоконнике стопочкой уложил книги: "Пособие для работников судоходной обстановки", "Морской волк" Джека Лондона и несколько зачитанных повестей про легкомысленных шпионов и удивительно мудрых контрразведчиков. Листая одну из них, Петр Шкурихин выронил фотографию девушки в низко надвинутом берете и нескромно прочел на обороте: "На память Гене от Люси".
— Ничего деваха, — сказал он поощрительно.
Генка небрежно махнул рукой и забыл о фотографии. Некогда было вспоминать, да и не о чем.
Распахнув окно, щурясь от нестерпимого блеска отражаемого водой солнца, он жадно, долго смотрел вокруг. Ничто не изменилось за зиму, как не изменялось и за все прежние зимы. Противоположный берег, казавшийся невесомым и нематериальным, плыл по расплавленному металлу реки. За ним синели хребты сопок, очерченные спокойными, нечеткими линиями. Над сопками бело-розовые, очень высокие облака, похожие на оброненные сказочными лебедями перья, упорно не желали падать на землю. Они падали в воду. Упав, не тонули, не порождали круговой ряби, как это делали даже легчайшие бабочки, а вода не могла унести их, как уносила бабочек.
Берег, на котором находился пост, справа заканчивался темно-зеленым, заросшим тальником мысом, а слева упирался в серые диабазовые скалы, лезущие одна на другую и в небо. Там, где они обрывались в воду, заступая удобный галечный бечевник, начиналась шивера.
Отсюда, из окна, или с берега под окном вечно седые буруны казались нестрашными и не очень шумными. Но Генка знал, что такой шивера представляется только смотрящим на нее по току воды.
В самой шивере вода бесилась и клокотала, брызгаясь пеной, показалось, играла камнями, словно кипящий ключом кипяток — попавшими в котел песчинками. На самом деле камни всегда оставались неподвижными.
Если уплыть ниже шиверы и оглянуться, она в зависимости от погоды смеялась или скалилась злобно, показывая черные зубы камней из-под седых усов пены. В тумане, укрывавшем ее по утрам, шивера ревела глухо и угрожающе, как обиженный зверь. Немногие старшины отваживались тогда проводить караваны через шиверу. Ниже или выше шиверы отстаивались на якорях, ожидая, пока туман разойдется.
К левому, скалистому, берегу жался узкий фарватер, обставленный вехами и бакенами. Вехи непрерывно ныряли, показывая только верхушки — белую и красную, увенчанную метелкой. Стремительная вода забавлялась ими. Но о плотики бакенов, еще называемые "щуками" или "наплавами", воде приходилось резаться на две струн, как бы обходить их. У реки недоставало силы сорвать бакены с многопудовых якорей, разбить о камни. Сорвать бакен могла только "матка" — достигающая иногда полукилометра в длину сплотка тысячи кубометров леса. Неуклюжая, медлительная, никому не уступающая дороги, в пороге или в шивере "матка" становится особенно непокорной. Редкий лоцман-плотогон похвалится, что не потерял за навигацию ни одного пучка леса, проводя "матку" через шиверы. Тем, что не сорвал по пути ни одного бакена, не может похвастаться ни один. Как правило, после прохода "матки" бакенщики проверяют обстановку фарватера. Как правило, им приходится ставить новые бакены или водворять на места сдвинутые.
— Часто нынче "матки" гоняют, Петр?
Шкурихин вылил в стакан остатки мутной, густой браги, выставленной матерью по случаю приезда Генки, и, заблаговременно морщась, сказал:
— Гоняют…
Выпив, опять поморщился, потом потянулся к шаньгам с черемухой, горкой уложенным прямо на столе. Долго выбирал такую, чтобы побольше начинки.
— Павел Ильич их через шиверу провожает, "мат-ки"-то. Как и в прошлом годе. Живой еще, скажи ты, черт старый! — с пьяным восторгом, ни к кому не обращаясь, пробурчал Матвей Федорович и неожиданно заорал: — Марья! Давай браги еще нацеди, в туесе гуща одна. Не видишь?
Локтем он столкнул порожнюю бутылку из-под спирта. Глядя, как медленно откатывается она по цветастому половику, со вздохом облизнул обметанные белым губы.
— Может, еще за одной смотаться, а, дядя Матвей? — спросил его Петр. — Сплавать, что ли? Мы бы враз с Генкой. И на переметы бы заскочили, за свежей стерлядкой.
— Вывернетесь еще, упаси бог, пьяные-то! — запричитала Генкина мать, а Матвей Федорович сказал:
— Будя. Марья бражки подаст.
Неловкими пальцами пытаясь набить трубку, просыпая на стол махорку, стал невразумительно жаловаться сыну:
— Теперя не шибко выпьешь. Я, да ты, да Петро. Трое остались, и то потому, как на шивере опасное место. Теперя, брат, бакенщики на самоходке плавают. Бригада! От Каменки бригада, ниже сюда опять же бригада. Курсируют. Понял теперя?
Генка, повеселевший от спирта, отмахнулся беспечно:
— Понял, батя. Пускай курсируют. Наше какое дело?
— Не скажи, есть дело. Прежде надо нам переметы посмотреть или сохатиные ямы — мы с тобой и пошли. Потому еще окромя трое. Могут сами бакен поставить? Вполне могут. А двое уже не могут, ежели на шивере. Привязал Мыльников, сволочь. Без веревки к берегу привязал!
— Я в Костюхину избу перебрался, — сказал Петр. — Костюха-то из бакенщиков в гидрологию ушел, пост у них теперь в устье Ухоронги, приборы всякие. Один есть, "самописец" называется, уровень воды и температуру, что ли, отмечает. Только ленту бумажную менять надо. А в Тошкиной избе мы и печь разобрали — коптильню делали с твоим батей. В общем, полный погром у нас. Половину постов совсем Мыльников разогнал.
— Хоть фонари зажигать не надо, сами загораются! — решил утешить его Генка. — Помнишь, как раньше? Вечером — зажги, утром — гаси. Попрыгали бы втроем!
— И без зажи́ги фонарей попрыгаешь. Подожди, "матки" скоро одна за другой пойдут. Самая сплотка сейчас.
— Плевать, Петро! Справимся!
— Справимся, — согласился тот. — Давай тяпнем еще по стакашку, раз Григорьевна долила туес?
— Ну ее, эту бражку! — сказал Генка. — С нее голова болит после. Пойду посмотрю лодки. Моторку-то одну Мыльников нам оставил?
— Нет, две. На случай, если у которой мотор вдруг забарахлит.
— Тогда жить можно! — обрадовался Генка.
Петр, почти не захмелевший, ловко бросил в рот папиросу, придавил засверкавшим стальным зубом. Нашаривая в кармане спички, сказал:
— Жить всегда можно… — Стиснутая зубами папироса вынуждала чуть-чуть шепелявить. Прикурив, он вынул ее изо рта и закончил: — Если жить можешь. Ладно, мне надо дольник разбирать. Комом покидал вчера в лодку, леспромхозовских ребят в тумане за рыбнадзор принял.
Генка, любуясь, проводил взглядом широкую спину, почти заслонившую дверной проем. Ему нравилось слушать спокойную речь Петра, бывать с ним рядом, выполнять его приказания. Даже в звериной пластичности походки, в манере чуть закидывать голову старался подражать ему. Семь лет назад этот цыганистый, горбоносый парень навсегда покорил Генку Дьяконова.
Он впервые пришел в их дом — в этот самый дом, тогда еще не обжитой, совсем новый. В те времена Петр Шкурихин, их новый сосед и новый товарищ отца по работе, был еще холостым. Он попросил Генкину мать принять "на хлеба" его и двух лохматых собак да бельишко кое-какое простирывать пару раз в месяц.
— Договоримся?
— Договориться бы можно, — ответила мать, — да только сам не захочешь. Ведь на новом месте, милой! Ни огорода путнего — одну картошку посадить успели, ни скотины, чтобы на мясо прирезать. Только что одно молоко…
Петр весело заулыбался.
— Нашла о чем горевать! Мяса, мать, собаки в тайге сколько хоть найдут, рыба и вовсе под боком. Убить или поймать — наше дело, твое — наварить, да нажарить, да насолить. Ну и на стол подать.
— Добытчик-то у меня эвон какой, видал? Об одной ноге. Немного напромышляет.
— Без него, мать, управимся. Вот с парнем твоим… — Острым, только что выбритым до синевы подбородком Петр показал на Генку. — Разве не добытчик?
Генка вспыхнул, думая, что гость смеется, а мать махнула рукой.
— Годов через десять, может, и в дом принесет, а пока — все из дому. Малой он еще, Петенька! Тринадцатый пошел…
Петр, словно дивясь услышанному, с ног до головы оглядел Генку. Тот закусил губу, ожидая новой насмешки, но гость сказал без улыбки:
— Обижаешь сына, Григорьевна. Подожди маленько, обзнакомимся мы с ним — свое докажем.
И Петр Шкурихин, как равный с равным, заговорил с Генкой, что надо будет нм заездок с осени поставить на Ухоронге, километрах в десяти от устья, а завтра-послезавтра подновить старую поскотину в болоте, пару петель повесить — сохатые там, что твои коровы, все крутом истоптали.
С памятного того вечера Генка хоть в огонь, хоть в воду пошел бы за Петром Шкурихиным, а потом понял, что и впрямь можно куда хочешь идти за ним. Везде проведет, отовсюду выведет!
Недели не прошло после знакомства, а они уже приплавили с грязей, что на притоке Ухоронги — Векшином ключе, бочку сохатины. Матерый бычище залетел в петлю. Честно говоря, Генкиных только и забот было, что вырубил да принес десяток жердей, когда налаживали городьбу. Но Петр, неохотно рассказывая о подробностях, говорил: "Мы со связником".
Рыбачили с поплавнем, добывали пастями глухарей. Что ни год, перегораживали заездками речку Ухоронгу, и, приезжая домой на каникулы, Генка с гордостью слушал Петровы отчеты:
— Ну, связчик, хариусов центнера четыре удалось взять, с центнер тайменя да ленка. Кабы шуга не поторопилась забить корыто, еще столь же бы взяли!
Благодаря Шкурихину Генка и впрямь стал добытчиком. Правда, когда Петр женился, зажил своим домом, в большинстве случаев стал обходиться без него. Но если приглашал в напарники, добытое делил честно, на две равные доли, никогда не спираясь на молодость и неопытность товарища. Наоборот, останавливал, когда тот накладывал не по силе ношу, показывая свое удальство, или хотел поступиться в пользу Петра лучшей частью добычи.
И мясо и рыбу добывали воровски, таясь от чужих глаз, но это, пожалуй, привлекало больше всего. Кто-то писал грозные законы, караулил на таежных тропах, старался неожиданно вынырнуть из тумана на быстроходной моторке или нагрянуть с обыском. А они с Петром смеялись над ними. Они были сильнее и проворнее, Генка Дьяконов и Петр Шкурихин. Плевали на все рыбнадзоры и охотинспекции!
Правда, в первые годы беспокоили их не часто: ловить красную рыбу вопреки запретам считалось привилегией бакенщиков. Мол, и не уследишь за ними, и то учесть надо, как людям кормиться, — заработок больно уж невелик, рыба на реке держит.
Когда стали поджимать, Петр изменил тактику. Научился ладить с инспекторами, с милицией — черт, он со всеми мог ладить! Как правило, работники рыбнадзора заезжали к нему ночевать. Тогда Шкурихин заводил моторку и уплывал в леспромхоз за спиртом. А утром, после отъезда гостей, кликал иной, раз Генку:
— Помоги перемет разобрать. Рыбнадзоровские у кого-то наверху отобрали, совсем новый.
Знал, что уж Генка-то умеет держать язык за зубами.
В тумане, белом и плотном, как вата, незвонко провыла сирена. Увидеть что-либо немыслимо, но Петр Шкурихин, вывешивавший показатели глубины, спрыгнул чуть не с половины мачты и сказал уверенно:
— Пассажирский кричит, "Ласточка". Ей туман не туман — один черт. Нюхом, что ли, капитан фарватер угадывает?
Генка подвинулся, давая ему место на короткой скамеечке. Петр сел, вытащил мятую пачку "Байкала" и принялся чинить порванную папироску. Утро уступало дорогу дню, туман уже начинал рассеиваться, редеть. Из-под широкого листа подорожника, усыпанного мелкими бисеринками влаги, неохотно вылез толстобрюхий кузнечик, зябко потер над спиной лапки и, решившись, ускочил за куст жимолости. Там он попробовал застрекотать, но сразу умолк.
— Попытать за хариусом сходить на Ухоронгу? — Генка вопросительно покосился на Петра. — Как думаешь? Если на обманку худо еще берет, можно на кузнецов попробовать.
Петр помолчал, раскуривая папиросу. Только убедившись в качественности ремонта и сплюнув попавший-таки на язык табак, вспомнил, о чем спрашивали.
— Только и остается теперь — по речкам за хариусом. Стерлядка, брат, жжется нынче! — Он перехватил недоумевающий взгляд Генки и пояснил: — Рыбнадзор новый объявился, Кондратьев по фамилии. Водку не пьет — говорят, язва у него, что ли. Ну и вообще… с паршивым характером.
— Сволочь?
— Не поймешь. Сам вроде не против самоловов — говорит, не их, а поплавки запрещать надо. Да это и верно, конечно, в поплавень стерлядка чуть не двухвершковая набивается, а на самолов такую редко поймаешь. Что поплавнями весь молодняк переводят, это так и есть. Но ведь он, гад, Кондратьев, и самоловы почем зря шерстит. Я, мол, не против, но закон предписывает. Закон!
Петр выплюнул это слово, вместе с папиросой, завонявшей горелой бумагой, раздавил обутой в новый бродень ногой.
— Обманем! — самоуверенно усмехнулся Генка. — Черта лысого в тумане поймает!
Туман над шиверой, куда он показал кивком головы, отчего великоватая форменная фуражка передвинулась к затылку, сызнова начал уплотняться. Потом из шума воды в шивере выделился шум работающего двигателя. Тоже белый и призрачный, теплоход перед самым бакеном вылез из белой призрачной мглы и снова смешался с туманом. Только красный шар бакена, прыгая на поднятой волне, словно бы кланялся ему вслед — провожал добрыми пожеланиями.
— Молодчик! — похвалил капитана Шкурихин.
— Многие в туман плавают, Петро. Не он один.
— Сравнил тоже! Катера плавают — это другое дело. Ну, груз, ну, команда. А тут, в случае чего, за живых людей отвечаешь. Так пойдешь на Ухоронгу? — вдруг вспомнил Шкурихин.
— Может, пару переметов замечем, пока туман?
— Рыба плохо что-то попадать стала, товарищ. У меня три дольника стоят пониже трав, сегодня вытащить думаю. Чтобы не гноить зря.
— Пойду по хариусов, — решил Генка.
Опять завыла сирена, на этот раз где-то выше по течению. Под слоем тумана, уже приподнявшегося от воды, показался приземистый корпус катера, — казалось, будто на мачтах и на рубке он тащит за собой облако. Видно было, как с кормы к носу, опираясь на полосатую наметку, прошел босоногий человек очень маленького роста в сером клеенчатом плаще. Катер развернулся, явно направляясь, к берегу, мотор сбавил обороты.
— Черт кого-то несет, — пробурчал Петр и неторопливо зашагал вниз, к воде.
— Батя! Катер пристает зачем-то! — крикнул Генка в открытое окно дома и, не слушая, о чем спрашивает Матвей Федорович, побежал за Петром.
Подрабатывая на малом, катер, обогнув травы, подошел к самому берегу, ткнулся штевнем в песок. Неказистый с виду, мышиного цвета, он несправедливо именовался "Альбатросом". Вся кормовая часть была завалена конструкциями из толстой проволоки, завернутыми в брезент тюками, рюкзаками и ящиками.
— Прибыли, товарищи! — крикнул кому-то невидимому человек в плаще и, подобрав полы, невежливо повернув Генке с Петром обтянутый лыжными штанами зад, лёг животом на борт. Свесив ноги, пытаясь достать ими до воды, смешно заперебирал пальцами.
— Прыгай валяй! — хохотнул Петр.
Человечек послушался, оттолкнулся локтями и тяжело спрыгнул в мелкую воду, тонким голосом ужаснувшись:
— Ой!
Выходя на пологий берег, он после каждого шага брезгливо встряхивал ногой, рассыпая брызги, и снова осторожно ступал в воду. Выбравшись на сухое, вытер каждую ногу о штанину другой, с трудом удерживая в равновесии тучное тело, протер носовым платком роговые очки и только после этого сказал:
— Здравствуйте!
Ответил ему только Генка.
— Экспедиция, что ли? — спросил Петр, забывая ответить на приветствие.
— Геологи? — от нечего делать поинтересовался, в свою очередь, Генка, уверенный, что, безусловно, геологи.
— С вашего разрешения — паразитологи. Вера Николаевна! Сергей Сергеевич! Эля! Пора выгружаться наконец! — вдруг заорал он, поворачиваясь к катеру.
От дома, постукивая деревяшкой по закаменевшей глине крутой тропинки, спустился Матвей Федорович. Привычным жестом выколачивая о деревяшку свою трубку, спросил брюзгливо:
— Чего надоть?
Человечек не обратил внимания на его тон. Он дождался, пока из кубрика появились еще трое, одетые в одинаковые коричневые брюки и куртки, скомандовал им:
— Начинайте выгружаться, друзья! Сколько можно задерживать катер? — И только тогда, приподняв соломенную шляпу, обратился к Матвею Федоровичу: — Хотим у вас обосноваться на месяц или на полтора. В пустом доме. По разрешению товарища… э… э… Мыльникова. Будем заниматься вопросами борьбы с кровососущими насекомыми, с вашего позволения…
— Хм… — сказал Матвей Федорович.
— Вы нам покажете, какой из домов можно занять?
— Вон тот, средний, в котором стекло выбито, — ответил вместо отца Генка. — Ну, да со стеклом придумаем что-нибудь. Хуже вот, что печка разломана.
— Ничего, мы морозоустойчивые! — закричали с катера звонким девичьим голосом. — Правда ведь, Михаил Венедиктович? Вообще — долой печки!
Петр, как показалось Генке, кинул неодобрительный взгляд в его сторону и, отпихнув с дороги обломок весла, пружинисто зашагал вверх по тропке. Матвей Федорович, вытянув перед собой негнущуюся деревяшку, уселся на некрашеный запасной бакен.
Кто-то невидимый за огромным ворохом белого полотна подошел к носу катера.
— Михаил Венедиктович, принимайте колокола!
Генка вытаращил глаза, а босоногий всплеснул руками, потом замахал ими, словно отталкивая предлагаемый ему сверток.
— Эля, не безобразничайте! Пусть Сергей Сергеевич, я не могу босиком лезть в воду, тут такое дно… — Он смешно запританцовывал, не сходя с плоского камня, на котором стоял.
— Я возьму, — успокоил его Генка и, забредя в воду, крикнул: — Давайте!
Белый ворох заколебался, начал клониться вниз, как огромный цветок на тонком коричневом стебельке.
— Держите?
— Держу, — подставил раскинутые руки Генка. Тогда ворох упал в них, распустился еще больше, лишая возможности видеть что-либо.
— Вот спасибо-то вам! — поблагодарили сверху.
Осторожно ощупывая ногами дорогу, Генка вышел на берег и приостановился, не зная, что делать дальше.
— Пожалуйста, не кладите на песок. На траву, пожалуйста, вон туда! — поучал тонкий голос Михаила Венедиктовича, и Генка про себя чертыхнулся: разве он видит, где песок, а где трава? Соображать надо, что не видит. Сделав наугад несколько шагов, опустил руки. К счастью, проклятые тряпки угадали именно на траву.
Трое в коричневом перетаскивали имущество на нос катера. Потом один из них, довольно легко спрыгнув в воду, помог перебраться на берег черноволосой девушке, и та объявила все еще стоявшему на камне босоногому:
— Михаил Венедиктович, ваших ботинок мы не нашли.
— Но ведь они были, Эля! — с возмущением ответил тот и снова затанцевал на камне. — Я же не могу без ботинок!
Генка не слушал его жалоб. Он украдкой рассматривал девушку, которая укладывала на берегу вещи, передаваемые с катера, а поднявшийся низовой ветерок мешал ей, упорно бросая в глаза прядь черных волос.
— С ящиками мне не справиться, — сказала оставшаяся на катере женщина. За ее спиной вырос рыжий парень в тельняшке — моторист; они вдвоем поставили на борт укрытый брезентом ящик. Высокий мужчина, принимавший вещи с палубы, растерянно посмотрел наверх, потом на Элю. Та медленно отвела снова упавшую на глаза прядь, словно бы ненароком посмотрела на Генку. И когда Генка, решительно отодвинув высокого, принял ящик на плечо и понёс к вещам на берегу, улыбнулась благодарно и чуть-чуть смущенно.
— Весу-то! — презрительно поднимая брови, на ходу бросил ей Генка и дернул плечом, отчего ящик заговорил тонкими стеклянными голосками.
— Осторожнее, не уроните! — испугалась Эля. — Там лаборатория!
Тогда Генка приостановился. Не опуская дьявольски тяжелого ящика, с нарочитым удивлением посмотрел на девушку: ха, неужели она думает, что Генка Дьяконов такой же хлипкий, как ее спутники? Да разве это возможно, чтобы он уронил какой-то несчастный ящик?
Колени подгибались и, казалось, начинали плавиться, но Генка заставил себя помедлить. Дав девушке осознать его силу, полюбоваться, спросил с покровительственной усмешкой:
— Можно поставить пока здесь? В дом после перетаскаем, выгрузить все надо сначала.
Через неделю Генке казалось, будто немногочисленный отряд Михаила Венедиктовича сто лет уже располагается здесь, а занятый экспедицией дом никогда и не пустовал. За неделю новые люди успели примелькаться, прижиться. Даже Петр Шкурихин, не любивший лишних глаз и ушей, сказал однажды Матвею Федоровичу:
— Ничего вроде попался народишко, не вредный.
— Вроде бы ничего, — согласился тот, прикидывая, сколько уже заработал на продаже молока новым соседям.
Михаил Венедиктович одарил все население поста защитными сетками и объяснил, что они пропитаны составами, отпугивающими насекомых. Названия у составов были — только язык ломать: гексамит, кюзол, диметилфталат, диэтилтилоамит. Матвей Федорович с сомнением посмотрел на доставшуюся ему, с ячеей, в которой не застрял бы и воробей, но сетку взял. Марья Григорьевна вдобавок выпросила еще целую бутылочку какого-то снадобья, чтобы мазать вымя корове, до крови объедаемое мошкой и паутами.
Единственное, чего потребовали паразитологи от бакенщиков, — это не заплывать на огороженные колышками участки в зарослях водяных трав. Каждый день, вне зависимости от погоды, сам Михаил Венедиктович и его ассистентка Вера Николаевна стоически забредали по грудь в воду — собирать в стеклянные баночки скользкие клочья водорослей. Баночки уносились в дом, более светлая комната которого называлась теперь лабораторией. Длинный и угловатый, похожий на сухую лиственницу Сергей Сергеевич, научный сотрудник института, командовал там микроскопами и священнодействовал над переплетенными в клеенку тетрадями.
Внизу, у воды почти, студентка-практикантка Эля Стесинская и Генка, с момента выгрузки незаметно для себя помогавший экспедиции в устройстве быта, установили те самые колокола, упоминание о которых при выгрузке вороха белого полотна заставило недоумевать бакенщиков. Обтянутые этим полотном трубчатые каркасы издали больше всего походили на каких-то безголовых великанов в белых до земли саванах.
— Колокола Манчевского, есть такой паразитолог в Ленинграде, — объяснила Эля, — нужны для определения количества насекомых, ну и… активности…
Девушка почему-то запнулась, и Генка решил, что для определения активности приходится забираться под белые колпаки голышом, позволяя комарам и мошке беспрепятственно кусать себя. Вечером он шутки ради высказал свои предположения Петру, и тот, замаслившимися глазами посмотрев на ближний из колоколов, словно умел видеть сквозь полотно, спросил:
— Забраться бы, туда, когда эта Эля мошку кормит, как думаешь?
— Зачем? — не подумав, удивился Генка.
Петр посмотрел на него искоса, не тая насмешки.
— Комаров с нее погонять, пожалеть девку — вот зачем. Ну и дурак ты, Генка!
Положим, Генка знал, что он не дурак, — просто ему как-то не пришло в голову то, о чем думал Петр. Но, не желая казаться дураком, Петру сказал неопределенно, ничего не видя за своими словами:
Вообще-то, конечно…
— Девчонка что надо! — подхватил Петр. — Такую бы в руках подержать… Ты, когда они с Верой Николаевной пойдут купаться, в кустах на скале посиди — сам увидишь.
— А ты видел, что ли? — почему-то раздражаясь, спросил Генка и не узнал своего голоса.
— Я, брат, без этого понимаю. С первого взгляда, особенно если платье узкое, в обтяжку…
Не отдавая отчета, что заставляет поступать так, Генка вдруг встал, сначала произнося слова, а потом вкладывая в них смысл.
— Черт, я же приемник включил и забыл настроиться. Батареи расходуются неизвестно зачем…
Уходя от Петра в начинающую густеть вечернюю мглу, он уже понимал, почему уходит, зачем выдумал причину для ухода. Просто не хочет, чтобы предметом подобного мужского разговора была Эля. Не такая она какая-то, чтобы говорить о ней как о всех других девках. Вот про леспромхозовскую Аньку Савелову или про Наташку — пожалуйста. Даже интересно поговорить.
Генка не спрашивал себя, чем Эля отличается от этих девчонок. Но отличалась она несомненно: немыслимо было бы ущипнуть ее за бок или сказать что-нибудь дурашливое, нравившееся тем, хотя и взвизгивали, притворяясь смущенными. С Элей даже говорить было не о чем; во всяком случае, у Генки не получалось с ней разговоров. А если получались, то неживые, скучные, ни о чем. Кроме того, Эля вечно подсмеивалась над ним. И все-таки его почему-то тянуло к Эле.
Хлопнув для отвода глаз дверью и постояв на крыльце, Генка обогнул дом и глянул на окна лаборатории. Они светились. На черной земле под ними лежали перекошенные, скрепленные крестообразными тенями рам четырехугольники менее яркого света — словно уроненные фанерные ставни. Невольно он умерил шаги, ступая по ним, как будто впрямь мог изломать что-то или споткнуться. В темных сенях зацепился штанами за якорек на спиннинге Сергея Сергеевича, а поставленная на тормоз катушка затрещала именно тогда, когда Генка вошел в комнату.
— Чтоб тебя! — смутился он и принялся высвобождать крючок.
— Сергей Сергеич, наконец-то у вас улов! — весело захлопала в ладоши Эля, а Вера Николаевна всполошилась.
— Господи, вечно вы ставите свою вертушку в самых дверях!
Сергей Сергеевич, казавшийся еще выше в темном тренировочном костюме, повернулся от полочки с книгами и, кланяясь Эле, сказал:
— С уловом, по-моему, следует поздравить вас. Вам этого не кажется?
— Обоим по очку, — объявила строгим голосом Вера Николаевна. — Счет — восемь к шести, в пользу Эли. Знаете, Геннадий, они соревнуются в острословии, и Сергей Сергеич рискует перейти в группу "Б".
Генка наконец отцепился от проклятого спиннинга.
— А мы все рискуем остаться без штанов, если Сергей Сергеич не будет убирать свой спиннинг подальше, — сказал Михаил Венедиктович. Он сидел на своей койке, склонясь над шахматной доской: решал, по обыкновению, задачи. — Вы не станете предъявлять счет моему коллеге за порванные брюки, Геннадий?
— Не стану, — серьезно уверил Генка. — С вашим спиннингом, Сергей Сергеич, надо в Ухоронге ловить и вместо блесны мыша сделать.
— Как вы сказали? — переспросила Вера Николаевна.
Генка заметил, что по ярким губам Эли пробежала улыбка, но заупрямился.
— Мыша. Из бурундучьей шкуры. Искусственного.
— Вероятно, мышь? Простите, Гена, но я всегда ратовала за чистоту русского языка, и слышать такое от юноши, закончившего одиннадцатый класс, пусть даже в сельской местности…
— Мышь — это которая в подполе, — важничая, сказал Генка. — А тайменей на мыша ловят. Понимаете, это вроде того, что все говорят компас, а на флоте — компас.
— Вы с честью вышли из положения, Геннадий! — объявил Сергей Сергеевич. — И вы отомстили за всех: Вера Николаевна нас поедом ест за малейшую ошибку. Посему я с особым удовольствием отправился бы с вами и с мышом на Ухоронгу. Если только на вашего мыша не запрещается ловить рыбу, как на пресловутые самоловы.
— На речках заездки городить запрещается. Ну и глушить, конечно. Только все эти запрещения — чепуха.
— Как то есть? — удивился Михаил Венедиктович, поворачиваясь, чтобы видеть лицо Генки.
Парень пренебрежительно махнул рукой.
— Конечно, чепуха. Вроде бабы-яги для маленьких.
— Хотите сказать, что в действительности никаких запретов не существует?
— Нет, запреты-то существуют. Так ведь это для тех, кто боится. Для дураков. Ловкого мужика черта с два поймают, от любого надзора уйти можно.
— И вы уходили?
— Сколько раз!
— Создается впечатление, Геннадий, что вы считаете себя чем-то вроде героя, а? Подвигом, видимо, кажется — оставить в дураках инспектора, как вы говорите — уйти?
Угадывая в тоне ученого осуждающие нотки, Генка не спешил с ответом. Пододвинув скрипучий стул, с независимым видом уселся и терпеливо подождал, пока против него на пустом ящике примостился Сергей Сергеевич.
— Герой не герой, — сказал он наконец, — но и не трус. Не думайте, что так уж легко уходить от них. Специально же занимаются, учат их этому — ловить нашего брата. Мотор у рыбнадзора знаете какой? Не то что у нас. Оружие. Оптика. Ну и всякое такое.
— Герой, конечно! — явно иронизируя, кивком показал на Генку Сергей Сергеевич, словно без того не догадались бы, кому адресуется ирония. — Эх, Геннадий, Геннадий!..
Будь слова его гневными, оскорбительными, Генка знал бы, как ответить на них. Ничего, что Сергей Сергеевич — ученый, а он — бакенщик: пусть не судит о том, чего не понимает, как не понимает Генка его хитрой науки. Но Сергей Сергеевич не гневался, не оскорблял. Судя по тону последних слов, он искренне жалел Генку.
Не зная, что и как отвечать, он встал бы и ушел, но гордость не позволяла этого. Не мог допустить, чтобы Эля считала его посрамленным, уносящим неоплаченную обиду.
— Поживете на реке месяц-другой — поймете! — стараясь не казаться обиженным и не найдясь сказать что-либо другое, заверил Генка.
Сергей Сергеевич развел руками и сокрушенно вздохнул, а Михаил Венедиктович, рассыпая шахматы, встал и, заложив руки за спину, подошел к Генке.
— Не в нас дело, Геннадий! — сказал он. — Конечно, мы многого не умеем понять. Но вы не хотите понять главное, для вас главное, как я думаю. Рыбнадзор представляется вам этаким неразворотливым дядькой или дядьками, которые со всеми своими моторами, оптикой и оружием не могут справиться с вами одним. Так? Так, я знаю! И вы считаете себя удальцом парнем — один против четырех или пяти инспекторов. Но ведь это вам только кажется, Геннадий! Все совершенно наоборот. Скажите, сколько… ну, таких, как вы, в районе?
Генка пожал плечами.
— Это кто переметы ставит, что ли? Порядком, наверное. Не думайте, что один я.
— Вот именно — не один! Именно — порядком! И получается на каждого инспектора по десятку браконьеров, если не больше. А ну-ка, попробуйте вы, молодец-удалец, справиться с десятерыми! Уверен, что отказались бы. А они не отказываются. Вы бы не ушли от десятерых, а они вынуждены гоняться за десятерыми. Да и насчет оружия… Слышали, наверное, что в низовьях недавно опять инспектора рыбнадзора застрелили? Опять-таки не инспектор, а инспектора. И он ратовал не за свое благо, в вашем понимании этого. Вот и скажите теперь, положа руку на сердце, кто же удалец-молодец? А?
Генка молчал. Даже не потому, что Михаил Венедиктович положил его на лопатки, — он не был уверен, что положил. Надо было еще разобраться в этом. Он молчал, потому что маленький и толстенький ученый, над которым, при всем уважении, вечно подтрунивали, не мужчина в глазах Генки, судил о вещах именно по-мужски и за словами его стояли подлинно мужская суровость и прямота. Генка был ошарашен.
— Попало, Геночка? — лукаво спросила его Эля. — Знай наших!
Тот попытался ответить беспечной улыбкой, но улыбки не получилось. Продолжать разговор он не желал, так же как давешний разговор с Петром. Но давеча хотелось встать и уйти, что он и сделал. Сейчас не хотелось уходить.
К счастью, в разговор вступила Вера Николаевна:
— Наши сверхдобропорядочные мужчины, Геннадий, всегда возмущаются браконьерскими методами ловли рыбы и всегда покупают рыбу у браконьеров. И знаете, почему-то не произносят испепеляющих монологов.
— Считай поэтому, — подхватила Эля, — что неспроста удостоился великой чести. Юпитеры не гневаются на простых смертных.
За что и на кого должен гневаться Юпитер и при чем тут астрономия, Генка не знал, но понял, что девушка старалась сгладить какие-то углы, как-то поддержать его.
— Не шутите не к месту, Эля! — строго покосился Сергей Сергеевич. — Конечно, никто не гневается на Геннадия. Поймите, почему с ним следует говорить о вещах, не доступных всем этим торгашам рыбой. Ему же все это джеклондонщиной еще представляется!
"Морской волк" лежал у Генки на окне, но логической связи между книгой и разговором он не увидел. Решил после спросить у Эли, при чем тут Джек Лондон.
— Ладно, — сказал он, прикидываясь понимающим. — В общем, дали мне прикурить. Пойду спать. Спокойной ночи.
— Подумайте о нашем разговоре, Геннадий! — напутствовал его Михаил Венедиктович.
— Подумаю, — пообещал Генка, выходя.
Конечно, он и не собирался думать на эту тему. Он действительно собирался спать, но почему-то задержался на крыльце, уже взявшись за дверную ручку. Внизу, за черной пустотой не отражавшего свет наволока, на блескучей речной глади, мертвая в небе луна зыбилась, волновалась, жила. Огненные змейки пытались убежать от нее и снова к ней возвращались, сливаясь с нею. Казалось, весь мир состоял только из податливой тьмы, вороненого металла воды и жидкого, растекающегося по упругой воде огня.
Потом глаза свыклись с тьмой, и он разглядел еще более черные кусты над водой и ощетинившиеся камыши за ними. И почему-то представил себе рыбнадзоровскую моторку, беззвучно проносимую течением вдоль камышей, слушающего тишину инспектора в ней. Один, далеко от дома, он плывет мимо черноты, из любой точки которой может смотреть ствол ружья. Тот, кто нарушает закон, кто прячется от него, наверняка выстрелит скорее инспектора, потому что бессилен перед законом. И все-таки инспектор плывет!
С реки в самом деле донеслись звуки, похожие на плеск весел. Потом Генка увидел, как режется вода о невидимую лодку, и красный огонек папиросы, мерцающий в темноте. Лодка двигалась вдоль кустов, потом завернула к берегу. Загромыхала цепь. Когда человек, присутствие которого на берегу угадывалось только по звукам, поднялся на косогор, Генка по силуэту узнал Петра.
— Куда плавал? — спросил он.
— Дольники проверял, да запоздал маленько — понимаешь, с подачей чего-то, а у меня ключа для жиклера нет… Да, ты переметы готовь давай. Пошла рыба. Начнет светать — я к тебе в окно брякну. Ага?
Он не в меру долго ожидал ответа. Генка, отворотясь, смотрел на черную, начавшую заволакиваться туманом реку. Наконец сказал каким-то равнодушным тоном:
— Ну, брякни…
Никаких угрызений совести Генка не чувствовал, выметывая утром запретные снасти. В конце концов, у каждого свой взгляд на вещи. Москвичам хорошо судить со своей колокольни, вот попробовали бы безвыездно жить в тайге! Со скуки пропадешь, если даже с голоду не подохнешь, без рыбалки да без охоты. Чего они хотят, Михаил Венедиктович с Сергеем Сергеевичем? Чтобы Генка, как и они, стерлядку покупал по полтора рубля за килограмм? Дураков нет — жить у воды и не вымокнуть!
Но вчерашний разговор сидел в печенках, Генка пожаловался Петру:
— Мошкодавы мне лекцию вечером читали. Насчет рыбнадзора.
Он только что, в необъяснимом раздражении каком-то, выдумал это слово, но Петр его понял.
— Пронюхали? Хотят заявить, да?
— Да нет. Так, байки рассказывали.
— Пугали?
— А, насчет совести все…
Никто не произнес вчера слова "совесть", Генка произнес его сейчас только. Но не выдумал, как "мошкодавов". Так откуда же оно взялось, это слово?
— Делать им нечего, — сказал Петр. — Не заявят, конечно. А заявят — черт с ними, без них знает Кондратьев, не вчера родился.
— Кондратьеву нас еще поймать надо!
— У меня рыба в доме…
— В тайгу унеси.
— Я думаю, и так не должны найти. Не в подполье — просто две половицы поднял и закопал бочку. Под самым окном. Кажись, подплываем к месту? Готовь снасть! — скомандовал Петр.
Почти ложась на спину, мощными гребками он удерживал лодку, борясь с течением. Генка начал ставить разобранный на доске перемет. Течение рвало поводки из рук, вытягивало, как струны. Уходя в глубину, пробки из желтых становились мутно-зелеными, похожими на собственные отражения, и одна за другой терялись из глаз. Второй перемет заметали ближе к травам. Дольники поставили в самую "борозду".
Даже ближний берег почти не просматривался за туманом, нельзя было ориентироваться ни по береговым предметам, ни ставить наплавы, и Петр выругался:
— Черт, досыта нашаришься "кошкой", пока достанешь!
— Переметы найдем, — сказал Генка, — не первый раз. А вот с дольниками хуже: не то от четвертого бакена искать, не то от третьего. Надо бы подплыть, посмотреть — который?
— Мотором греметь зря неохота, а на веслах — ну его к черту!..
Мотор запустили, только на добрый километр уплыв от места постановки снастей: сбить с толку инспектора, если караулит поблизости.
— Раньше ругали туман, — вспомнил Петр, — а теперь наоборот. Первый друг стал, скажи!
К посту причаливали безбоязненно, в лодке не было ничего порочащего. Но Эля, занимавшаяся на берегу отскребыванием копоти от кастрюль, спросила:
— Опять браконьерствовали?
Спросила скорее шутя, чем серьезно. Генка так и понял ее. Но Петр сурово свел к переносице брови, процедив зло и презрительно:
— Иди ты знаешь куда? Или и к бакенам не плавать теперь? Треплете невесть что, а потом…
Не объясняя, что будет потом, он прямиком, минуя тропу, полез на косогор. Эля обиженно поджала губы, провожая взглядом его ловкую, ладную фигуру, потом повернулась к Генке.
— Чего он бросается, как сумасшедший?
Испытывая неловкость за Петра и за себя, что не одернул его, Генка сказал:
— Не обращай внимания!
— Еще ругается, скотина такая! — не хотела успокоиться девушка. — Вообще приятели у тебя, надо сказать!..
Генка не захотел отречься — какой он, мол, приятель? — язык не повернулся. Пожалуй, он обоих считал правыми: Петьку и Элю. Но разве решишь, кто прав больше?
— Ты пойми, не положено у нас говорить об этом. Скажешь спроста, а кто-нибудь услышит, ну и пошло… — Он оправдывал Петра, объясняя его грубость, извинялся за нее. Но получалось это безотчетно как-то, и поэтому сбился: — Конечно, и так все знают, что рыбачим…
— А если все знают, зачем лезть в бутылку?
Генка и сам не мог понять этого. Действительно, знают и рыбнадзор, и милиция, и Мыльников — все. Такая работа — бакенщики. Но тут он вспомнил слова отца: "Закон! Нужно ему с печки зад поднимать, как же, ежели на тебя не покажут пальцем!" И по-своему объяснил их Эле:
— Знать — знают, но, если пойдет разговор, нельзя же ему внимания не обращать! Ну, рыбнадзору! Тогда ему холку намылят!
— Все вы тут одинаковые герои, как я посмотрю, — явно подражая кому-то, заявила Эля. — Хваленые рыбнадзоры вспоминают о браконьерах, когда их носом тыкают. Браконьеры бабьего языка хуже огня боятся.
Она демонстративно отвернулась, с ожесточением завозила по голубой эмалированной кастрюле наполненной мокрым песком ладонью. Генка решил, что девушка в самом деле забыла о его присутствии, и, помявшись, собрался уйти, когда Эля, не оборачиваясь, кинула:
— Нет чтобы хоть воду помог принести даме…
Только тогда Генка увидел стоявшее в стороне пустое ведро. С излишним усердием забрел, не жалея бродней, выше колена в воду и, наполнив ведро, оглянулся: видит ли Эля? Увы, Эля все еще занималась кастрюлей. Оставалось тяжело вздохнуть и нести ведро по назначению. Взобравшись на косогор, он оглянулся еще раз и по-прежнему увидел только спину девушки. Оставив ведро на крыльце, уже направился к своему дому, когда от реки раздалось:
— Генка!
— Ну что? — спросил он.
— Купаться пойдешь? Мне теперь полдня сажу от рук отмывать придется.
У него вдруг перехватило дыхание. Казалось, будто что-то жаркое и упругое заступило дорогу, стиснуло, пробежало огнем по жилам. Он почему-то испуганно посмотрел вокруг себя: не слышал ли кто слов Эли? Нет, кажется, никто не слышал. Ему вспомнился не совет Петра — подсмотреть за купающейся Элей, а что-то смутное и душное, услышанное после его слов в себе.
И вот теперь сама Эля зовет его! Одна Эля, ведь Вера Николаевна и все остальные в тайге! Чувствуя, что кровь в жилах становится густой и жаркой, он крикнул вниз хриплым голосом:
— Пойду!
Он видел, как девушка, неторопливо переполоскав вымытую посуду, сложила кастрюли одна в другую и, небрежно помахивая зажатой в правой руке сковородкой, стала подниматься к дому. Но все это он видел как-то необычно, словно вокруг Эли и стопки посуды, которую несла Эля, скрадывая четкость линий, текли и дрожали какие-то прозрачные струйки.
Из дому Эля вышла с мохнатым полотенцем, на плече и розовой целлулоидной мыльницей.
— Пошли?
Генка шел за нею, глядя на ее спину и загорелую шею, которую красиво оттеняло похожее на белый мех полотенце. А Эля беспечно сдаивала с нависающих над тропочкой черемуховых веток ржавые, крапинками покрытые листья и, подержав возле рта, выбрасывала.
— Прелесть! — видимо, о них, о терпком черемуховом запахе, сказала она.
Генка не смог ей ответить.
Когда они пришли наконец к месту, давно облюбованному для купанья, потому что берег здесь был песчаный, без единого камушка, круто уходящий в глубину, Эля, бросив полотенце и мыльницу на траву, обернулась и удивленно спросила Генку:
— Ты чего?
— Ничего, — сказал он и облизнул высохшие вдруг губы.
Эля чуточку согнулась, поймала подол платья и единым махом стянула его через голову, оставшись в черном купальном костюме, отделанном по краям маленькими оборочками.
— Чего не раздеваешься? Трусишь?
— Нет. — Генка ватными руками стащил тельняшку и, опустившись на траву, потянул с ноги бродень. На Элю он не смотрел, смотрел на ее тень на песке.
— Ну и увалень! Дождешься тебя! — Тень на песке метнулась в сторону, и он едва успел увидеть, как девушка, раскинув руки, летит в воду, навстречу своему отражению. Генке вдруг стало легко и просторно, он смог поднять голову.
— Зря… пфф… трусишь! — отфыркиваясь, крикнула Эля, вынырнув выше по течению. — Вовсе и не холодная. Во водичка! — Она подняла руку с оттопыренным большим пальцем, с головой ушла от этого в сверкающий зеленоватый сумрак, смешно потекла вместе с водой, моментально размывшей строгие контуры тела.
Прежде чем девушка поднялась на поверхность, прыгнул и Генка, крикнув угрожающе:
— Утоплю!
— Не хулигань! Не надо! — строго ответила Эля. Повернувшись на бок, овер-орамом поплыла против течения. Генка слышал, как бурлит вода, делимая на две струи низко опущенной головой девушки. Пожалуй, ее было бы не догнать теперь, и он, радуясь холоду воды и собственной силе, рубя воду саженками, поплыл от берега наперерез течению и чуть под углом к нему.
Когда вернулся, Эля, только-только вылезшая на берег, обхватив ладонями тяжелые волосы, прыгала на одной ноге — выливала попавшую в ухо воду.
— Хорошо! — медленно разводя руками, чтобы только противостоять течению, выдохнул Генка.
Ладони Эли скользнули по волосам, отжимая влагу. Потом она, испытующе посмотрев на Генку, приказала:
— А ну-ка, нырни! Как можно глубже и дальше! Вон туда! — и показала рукой прочь от берега.
Тот послушно набрал в легкие воздуху, ушел под воду и поплыл брассом. Когда вынырнул и оглянулся, восстанавливая дыхание, Эля одергивала платье, топчась на мокром купальном костюме.
— Про мыло-то я забыла! — крикнула она. — Тебе надо?
Почему-то стыдно было смотреть ей в глаза, когда они сидели потом на горячем песке и Эля докторальным тоном уверяла, что такого стиля — "саженками" — не существует: ну, плавают, конечно, но это не стиль, а так, недоразумение. Генка в это время думал о Петре, впервые с обидой и неприязнью. Словно это Петр, а не сам он подумал невесть что, когда Эля позвала купаться. Впрочем, Петр тоже не виноват. Откуда ему знать, какая Эля совершенно особенная девушка, как она совершенно по-особому может цедить сквозь пальцы сухой теплый песок и, поднимая одну бровь, говорить:
— Понимаешь, стиль — это совокупность, красоты и экономичности движений с минимальной затратой энергии при максимальной эффективности. Здорово я определила?
Расхохотавшись, она швырнула Генке на бродни горсть песку и вдруг посерьезнела:
— А сколько сейчас времени? Ведь я дежурю по лагерю!
Генка глянул на солнце, на тени под скалами, а потом, дурачась, потянул кверху рукав тельняшки, будто смотрел на часы.
— Без пяти двенадцать.
— Благодарю вас, — напыщенно произнесла Эля и, вздохнув, пожаловалась на судьбу: — Скоро надо будет идти готовить. Ты бы хоть консервы помог открыть. Сергей Сергеевич говорит, что я безрукая.
— Чего он вчера про джеклондонщину говорил? — вспомнил Генка.
Эля опять подняла одну бровь — ту, что была ближе к соседу.
— В твои годы я была умней, Генка! Сергей Сергеевич…
— Давно это было? — перебил Генка, улыбаясь.
— Ну… дело не в возрасте. Если я и не старше тебя, то все равно умнее, женщины всегда раньше умнеют. А Сергей Сергеевич небезосновательно считает тебя олухом, мой милый, но олухом несколько своеобразным. Я понимаю, что это может не нравиться…
— Ничего, валяй! — сказал Генка, ему нравился "мой милый".
— Но это вполне соответствует действительности. Начитавшись всяких "Морских волков", которых вы даже мне предлагали, сэр, вы возжаждали быть мужчиной с большой буквы и противостоять всем и всему на свете, как вот этот утес. — Показав кивком головы на скалу у начала шиверы, Эля неожиданно переменила тон: — Геночка, ей-богу, нельзя противостоять здравому и полезному. Смешно и дико. Таких людей раньше называли варварами.
— Ну и что?
— Ну и — не будь варваром. Ладно?
— Ладно, — улыбнулся Генка.
Эля посмотрела без улыбки.
— Знаешь, я не шучу! Ведь ты славный парень, даже Михаил Венедиктович говорит это, и тем не менее…
— Привязался он к этим самоловам, как паут к сохатому, — отмахнулся Генка. — Браконьерство! Рыбнадзор и тот говорит, что глупо запрещать самоловы, если поплавнями — это сети такие, в три стени, — ловить можно. Видела бы ты, какую стерлядь в рыбзаводе сдают — кошке на один зуб! Вот тебе и законы по охране природы! Браконьерство! — морща нос, подразнился Генка. — Здоровое и полезное!
Эля пожала плечиками.
— Не знаю. Об этом тебе следует поговорить с нашими сверхдобропорядочными и всеведущими мужчинами, как называет их Вера Николаевна. Еще тебе следует открыть две банки тушенки, а мне — сварить суп. Так что давай пойдем. Ну-ка, вставай и протяни мне руку, таежный медведь! Чалдон! Бродяга с Сахалина! Ну?
Но встала она первой, пренебрежительно махнув рукой в его сторону и скривив губы:
— Эх ты, кав-валер!..
неожиданно запела она звонко и чисто, а оборвав песню, грустно покачала головой. — Соскучилась я по музыке, Генка! По роялю! Но, увы, про таких, как ты и твой Шкурихин, Редиард Киплинг сказал, что "рояль не завернешь с собою в путь". Он предлагал банджо, но я предпочла бы аккордеон.
— Придем, я тебе поймаю в эфире музыку.
— Не то… Я сама хочу, пальцы хотят, — ребячьим, жалобным голоском проплакала девушка.
Дома подвыпивший Матвей Федорович последними словами изругал сына, что шалается невесть где, когда добрые люди гребут сено.
— Грабли на тебе обломать! — пригрозил он.
Генка искренне заулыбался, представив себе, как батя попробует ломать на его спине грабли и что получится из этого, но сгребать сено отправился без ропота. Мать, задолго до него пришедшая на покос, успела уже собрать половину кошенины в валки.
— Не ко времю женихаться надумал! — упрекнула даже она, отмахиваясь от слепней.
— В тайгу я ходил, удилище искать, — соврал Генка. — В листвяжник, что за Петькиным покосом.
— Поди-кось, не видела я, куда ты ходил! И с кем! Думаешь, шибко ты ей нужон, москвичке-то? Зазря походишь вокруг да около: ее, поди, сразу видать. Кабыть еще свои девки у нас перевелись…
Чтобы не слушать воркотню матери, он ушел на дальний конец елани: скучно было слушать, да и о чем говорить с ней? С ней, или с отцом, или с Петькой? Не о чем! Он был уверен, что сегодня впервые говорил с Элей об очень многом и о чем-то очень интересном, хотя о чем именно, не помнил. Говорить Эля может здорово, не хуже Михаила Венедиктовича — как по книге читает. А вот он, Генка Дьяконов, только про моторы да про речные суда, и то нескладно. Потому что живет, верно что, как медведь, и думает только, как бы от Петьки не отстать, не добыть меньше. Как будто в этом вся жизнь. Конечно, права мать: очень он нужен Эле такой! Куда там!
Это он лицемерил. Сам себе.
Петр, лежа грудью на корме, перебираясь руками по тугой "хребтине", проверял перемет. Генка думал о том, что, конечно, можно и не заниматься самоловами, и так прожить можно. Но ведь он не один, отцу с матерью обидно же будет, что у Шкурихиных красная рыба на столе, а Дьяконовы сорогу должны есть. Или старику на одной ноге надо ворочаться с трехпудовыми якорями переметов? Да и Петро по всей реке раззвонит, что Генка какого-то Кондратьева испугался.
— Может, разрешат переметами рыбачить, как думаешь? — спросил он Петра.
— Рыбзаводским и по договорам могут вполне разрешить. Пора поумнеть начальству, не переводить поплавнями молодь! — кивнул тот. — Нам-то один черт не разрешат. Нас все одно шерстить будут.
Генка зло сплюнул в воду, помрачнел. Такое разрешение не было выходом из положения. Не хочет он мельчить, изворачиваться, как все договорники: сдавать окуней да сорогу, а добрую рыбу для себя прятать. Не в его характере это. В его характере… Тьфу, что он ломает голову? Ведь еще вчера нашел выход и все решил!
— Пусть как хотят, — оказал он. — Я последнее лето рыбачу: осенью в техникум подаюсь.
— Ты же этой осенью не собирался? Говорил, что погуляешь, пока не заберут в армию?
Генка пренебрежительно махнул рукой: никакого, мол, интереса нет гулять! Не объяснять же Петру, почему вдруг заторопился, отчего почувствовал вокруг себя пустоту и… тесноту.
Улов оказался порядочным. Восемнадцать стерлядей как на подбор, килограмма по три, и чалбуш килограммов в десять. Попрятав рыбу под слани, завели мотор и на малом, чтобы не налететь в тумане на топляк, поплыли к дому. Уже, проскочив опытные участки паразитологов, огибали травы, когда сидевший на носу Петр поднялся в рост и бросил приглушенно, жестом поясняя слово:
— Заворачивай!
Только тогда задумавшийся Генка разглядел катер, а вернее — что-то похожее на катер, там, куда они причаливали всегда. Толкнув румпель влево, он сделал правый поворот и добавил газ. Лодка понеслась прочь от берега.
— Не наша самоходка? — спросил он.
— Нет вроде. Шут его знает кто, разве углядишь в таком молоке? — опять жестом показал Петр на туман. — Заплывем повыше, в тальниках рыбу спрячем, тогда посмотрим.
Когда очищенная от "вещественных доказательств" моторка уткнулась в берег, на палубу катера, загромыхав по железу кирзовыми сапогами, вылез заспанный парень в солдатской гимнастерке без пояса и погонов.
— Рыба есть, ребята?
— Не занимаемся, — ответил Петр.
— Нам бы килограммчика два. В поселке спирту купили, а насчет рыбы к бакенщикам направили. Старика безногого спрашивали — говорит, ребята приплывут, тогда. У нас спасательный пояс есть, из цельной пробки, не из крошева!
— Чей катер-то? — спросил Петр, рассматривая новое, пахнущее краской судно.
— А шут его знает! Наше дело — пригнать, куда велено, там хозяин найдется.
— Вербованные?
— Ага, по оргнабору, — парень присел на корточки, чтобы дальше дотянуться рукой, и сказал закуривавшему Петру: — Давай и я задымлю.
— В леспромхоз либо в райпо, — вкладывая в протянутую руку папиросу, решил Петр. — У нас тут по всей реке других хозяйств нету.
Парень подмигнул.
— Подвезло нам, браток. Речников у вас не хватает, так на подмогу кинули. Всяких квалификаций. Один старшина катера из речников был, да по дороге в больницу положили с аппендицитом. Теперь за старшину у нас шоферюга один. Так что, верно, нет рыбы?
— Рыбу найдем. Сплавать за ней надо. Вы долго еще простойте?
— А пока эту сволочь не разнесет, туман. В нем же ни черта не видно, куда плыть. Едва к вам от леспромхоза добрались. Шиверу-то вчера днем проскочили.
— Значит, это я вас вчера видел, — сказал Петр, отпихиваясь веслом от берега. — Заводи, Генка! Найдем мужикам стерлядку, если такое дело!
Минут двадцать прошло, пока привезли рыбу. Петр выкинул двух стерлядей на палубу катера, где толпились, ежась на утреннем холоде, уже четверо парней.
— Пробки у нас своей — завались! По стопке нальете нам со связником — и расчет весь. Заваривайте уху, картошки принесть можно.
Генка больше из любопытства — посмотреть новый водометный катер, чем соблазнясь выговоренной стопкой, поднялся на палубу. В рубке подержался за спицы штурвала, покашлял в переговорную трубу и только потом заглянул в кубрик. Петр уже сидел там, возле узкого стола, на котором отливала голубизной поллитровка со спиртом. Пока спирт разводили, пока доваривали уху, Генка, улизнув в машинное отделение, молча наблюдал за мотористом, менявшим смазку в подшипниках.
— Эй, мужики! Степка! — позвали сверху.
В кубрике уже успели накурить — под стать туману.
— За знакомство! — поднимая стакан, предложил коренастый, нерусского вида парень, когда все собрались вокруг стола.
Щедро разбавленный водой спирт даже не обжег гортани, и Генка молодецки обтер губы рукавом, отказываясь от закуски. Отказался и от второй стопки: не так много выпивки у ребят, чтобы обижать их. Видимо, об этом же подумал и Петр, но уже после второй чарки, когда заговорили чуть громче.
— У меня баба брагу вчера подмолаживала, — вспомнил он. — Как, мужики, насчет бражки?
— Нам хоть солярка, лишь бы а градусами, — тряхнул чубом моторист.
— Генка! — окликнул Петр. — Ты бы велел Клавке в жбан нацедить браги!
Генке не хотелось таскаться с этим проклятым жбаном мимо лаборатории, но не пошлешь же Петра к черту?
Брага оказалась забористой. Клавка, жена Петра, научилась ставить брагу у Генкиной матери, а та свое дело знала! Скоро за столом заговорили и вовсе громко, кто-то попробовал даже запеть, и Петр сказал вскользь:
— Неохота за гармошкой идти… Да и домой пора, дела есть.
— Играешь? — спросил его парень, первым заговоривший давеча насчет рыбы.
— Могу…
Как и все, захмелевший немного, парень вдруг ткнул Генку в грудь распущенной безвольно ладонью и сказал:
— А ну, встань!
Генка, недоумевая, поднялся. Тогда парень откинул крышку рундука, служившую одновременно скамейкой, и поставил на угол стола укутанный байковым одеялом аккордеон.
— А на этом? Можешь?
Выпутывая инструмент из одеяла, он смотрел на Петра, явно хвастаясь, упиваясь мерцанием перламутра и блеском никеля. Генка тоже полюбовался аккордеоном, а переведя взгляд на связчика, увидел, что тот как-то по-необычному щурит глаза, словно блеск инструмента слепил его.
— Можешь или не можешь? — настаивал хозяин аккордеона.
— Строй не тот, парень! — сказал наконец Петр. — А ты можешь? Рвани!
Парень пошатнулся и стал пеленать инструмент в одеяло, выскальзывавшее из непослушных пальцев. Не поднимая головы, рассказал:
— Я на нем совсем не могу. Он мне… после братухи остался. Братуха весной в Красноярске помер.
И тогда Петр совсем трезвым, жестким голосом предложил:
— Продай!
— Не… — покачал головой парень. — Братухина память. Сам играть выучусь.
Какое-то мгновение Петр продолжал смотреть на него все еще прищуренными глазами, а потом усмехнулся только одним ртом и, отворачиваясь, сказал беспечно:
— Хозяин — барин!.. Так что, хлопцы, маловато все же? Может, сгонять в леспромхоз еще за половинкой?
Старшина катера, тот, что пил "за знакомство", через мутное дно стакана глянул на иллюминатор. Тяжело поставив стакан, уронив голову, вздохнул, Остальные, как один, стали закуривать, а моторист по-приятельски объяснил Генке так громко, что услышали все, конечно:
— Амба, братишка! Теперь на сухом пайке поплывем. Это мы калым пропивали за трех пассажиров и за аккумулятор. Лишний аккумулятор был, понимаешь?
— Ладно уж, — поднимаясь, сказал Петр. — Принесу вам еще бражки. Напоследки. — И, забрав пустой жбан, легко одолел трап. На мгновение плечи его заслонили уже не затянутое туманом небо над люком, потом громыхнула палуба.
— Человек, братцы? Точно? — Старшина торжествующе оглядел команду и подбородком, высоко закидывая голову, показал на люк — кто человек.
Уходить до возвращения Петра было неловко: Генка считал себя чем-то вроде залога под обещанную ребятам брагу. А Петр, как нарочно, довольно долго заставил прождать его.
Зато, кроме жбана с брагой, притащил две соленые стерлядки, наспех завернутые в газету, и Генка понял причину его задержки: поднимал пол, лазал в тайник. "Молодец, не жадный, как батя", — подумал Генка.
Он знал — от литра Клавкиной браги запьянеть проще простого — и поэтому решил смыться, пока не поздно. Но его остановил Петр.
— Куда? Связчик ты мне или нет?
Парни пили брагу, жадно рвали зубами соленую, чуточку припахивающую стерлядь.
— Эх, закуска! Братишки-и!.. — восторженно орал Генкин друг — моторист, потрясая зажатым в горсти обглоданным хвостом рыбы.
Петр пренебрежительно отодвинул свой стакан с брагой.
— К этой закуске — выпить бы дельное что!
Старшина — его, оказывается, звали Тимохой — обнял Петра за шею, забубнил:
— Друг! Понимаю! Рад бы! Аккумулятор, — он оттолкнул раскрытой ладонью воздух, — побоку! Степкины часы — побоку. Спасательный круг — тоже побоку! Бакенщики купили, пробка им для самоловов нужна, да? Друг! Нечего больше… побоку…
Петр отстранился, парень плюхнулся рядом с ним, забарабанил кулаком в грудь:
— Друг! Не веришь? Мне не веришь?
Поставив локоть на стол, Петр взял за горлышко пустую бутылку, крутанул.
— За один аккордеон, — сказал он небрежно, — месяц пить можно.
Старшина поморгал, что-то соображая, и вдруг заорал:
— Васька! Ткачев! Ты человек или нет? Аккордеон, — он опять толкнул воздух, но воздух на этот раз оказался необычно упругим, отбросил его назад, — побоку?
Васька отрицательно помотал головой, упорно валившейся на грудь.
— Братухин, — сказал он. — Помер братуха. В Красноярске.
— Ты чел-ловек? Или нет?..
— Братухин, Тимоха!
Но старшина махнул рукой и, цепляясь за Петра, встал:
— Сколько дадут, а?
Он обводил вопрошающим взглядом своих ребят, но ответил ему Петр:
— Червонцев пять дам. И рыбы.
— Ты? — старшина забыл или прослушал разговор Петра с хозяином инструмента.
— Я.
— Васька! Хо-рошему человеку, а, Васька? Жалеешь, гад? Да?
— Не жалею, — помотал головой Васька. — Братухин…
Старшина повернулся к Петру, снова обнял его.
— Друг, выпить найдем? Найдем?
— Найдем, — сказал Петр. — Генка в леспромхоз сгоняет.
У Генки тоже порядочно гудело в голове, и он удивлялся, что Васька жалеет продать аккордеон, на котором не умеет играть. Вот он, Генка, не умеет играть, так на черта ему аккордеон? Ну, на черта? Вот если бы Эле аккордеон, это да!
— Сгоняю, давай! — кивнул он Петру, и ему стало вдруг весело оттого, что Петр купит аккордеон, а Эля будет на нем играть.
— Смотри не вывернись! — предупредил Петр, до смешного трезвый, помогая столкнуть лодку. — И деньги смотри не потеряй! На две поллитровки. Ну, жми!
Генка не вывернулся и не потерял деньги. Спирт он привез, но, окликнув ребят, чтобы подать им бутылки, удивился царившей на катере тишине. Подумав, забарабанил по железной обшивке веслом — снова безрезультатно. "Спят", — решил Генка и, не рискуя с бутылками взбираться на палубу без трапа, направился к Петру: наверное, тот не остался спать в кубрике, когда дом рядом. Но, еще не преодолев подъема на косогор, он понял, что ошибся — ребята на катере не спали, а гуляли у Шкурихиных: наверху вдруг запела, залилась гармошка:
Товарищ, не в силах я вахту стоять…
Проходя мимо домика, занятого экспедицией, Генка вспомнил, что "мошкодавы" собирались уйти на целый день в пойму Ухоронги — кого-то чем-то опрыскивать. И обиделся: он тут старается об аккордеоне для Эли, а Эля кого-то опрыскивает неизвестно где. Пакость какую-то, кровососущих!
У Шкурихиных гуляли по-заправдашнему. Клавка даже свои тарелки с незабудками выставила. Даже нажарила яичницы с салом, хотя и плакала, что всех кур ястребы потаскали. Ох, и здорова она зря плакаться, Клавка! У нее, видать, даже спирт был дома, — откуда иначе пустая бутылка на столе?
Старшина Тимоха первый увидал вошедшего Генку, качнулся, наваливаясь грудью на стол, и заорал:
— Друг! Есть выпить? Привез?
Обиженный на Элю, Генка и на него посмотрел сбычась. Но до его обид никому не было дела, Да и сам он забыл о них, выпив стопку, — он ведь и пил, чтобы забыть обиду! Закусывая малосольным хариусом, пряно пахнущим черемшой, которую Клавка всегда добавляла в рассол, он слышал, как Петр спрашивал у Тимохи:
— Так договорились?
— Друг! Договорились! — кричал тот и бил кулаками по столу.
Клавка опять разливала спирт, подсев к Ваське, хозяину аккордеона. Впрочем, неизвестно уже было, кто хозяин. Петр, повернувшись к нему, спрашивал:
— Значит, при свидетелях? Четыре червонца, пуд рыбы. Магарыч — на столе, считаем, что пополам.
— Рыбка-то, Васенька, по полтора рубля килограмм, дешевле никто не отда-аст, — пела его жена, прижимаясь в Ваське, норовившему обхватить ее ниже поясницы. Клавка виляла спиной, а Васька, облизывая слюнявые губы, говорил ей:
— Забирай. Братухин. Хорошему человеку — не жаль.
И опять пытался обнять. Потом с другой стороны к ней полез Тимоха, а Петр сказал, не шевеля губами:
— Ступай у Григорьевны посиди.
Генка не видел, кто и когда принес аккордеон. Не видел и не понимал, когда и зачем зажгли лампу, разобрали пол у окна. Там зиял теперь бездонный черный провал, такой же, как за распахнутым настежь окном. Но, увидев тьму за окном и аккордеон на кровати, Генка вспомнил об Эле. Наверное, она вернулась уже и ждет, чтобы он позвал ее поиграть на аккордеоне, чтобы все здесь поняли, какая она, Эля!
Аккордеон лежал на кровати, и Генка почему-то лежал на кровати, только не на подушках, как аккордеон, а поперек, привалясь к стене. Не уставая удивляться всему этому, он встал и пошел к "мошкодавам", за Элей. Пьяным он не был, нет, просто был необычайно легким каким-то. Эта удивительная легкость мешала ногам твердо ступать по земле, чувствовать землю. Но Генка всегда был упорным, он дошел до крыльца домика "мошкодавов" по волнующейся, как вода, тропинке и, раздумав преодолевать крыльцо, позвал в затянутое сеткой окно:
— Эля! Петро-то… аккордеон купил.
В это время у Шкурихиных рявкнула гармонь, как рявкает неожиданно огретая палкой свинья, застигнутая в огороде. Потом гармошкины голоса стали выговаривать какой-то плясовой мотив, и невидимая Эля спросила:
— Ты думаешь, это остроумно?
— Да нет, — сказал Генка. — Верно, аккордеон купили. У ребят с катера. Весь перламутровый. А играть не может никто. Здорово?
— По-моему, смешно! Зачем было покупать?
— Точно, — обрадовался ее мудрости Генка. — Пойдем поиграешь…
Из окна донеслись обрывки общего разговора: "Ну и что из того?" — "Наоборот, неудобно отказываться, раз приглашают…" — "Перестаньте, это же ребячество…" Наконец Эля крикнула Генке:
— Сейчас выйду, подожди минутку.
Оттолкнувшись от стены дома, он вернулся к крыльцу и опустился на нижнюю ступеньку — ладно, подождет! Даже не одну минуту подождать может, некуда ему торопиться. Но Эля не заставила ждать. В сенях хлопнула дверь. Шагов Эли он не услышал, но догадался, что она уже стоит сзади.
— Весь перламутровый, — напомнил он, поднимаясь.
Эля стояла рядом, тьма прятала ее от Генкиных глаз, но не могла спрятать: он угадывал насмешливые губы, широко расставленные глаза и впадинку на подбородке, хотя видел только черную прядь волос над светлым пятном лица.
— Генка! От тебя же несет водкой! — удивилась девушка. — Ты пьян?
— Нет, — сказал Генка. — Выпил маленько. Гуляют у Петра, понимаешь?
— Да уж понимаю… Послушай, может быть, там не обидятся, если я не пойду?
— Обидятся, — уверил Генка: ясное же дело, что он обидится. Ведь для нее старался!
— Ох! — вздохнула Эля и пошла вперед, к дому Петра.
Там пела гармонь, кто-то невпопад хлопал в ладоши, и невпопад грохали подметки сапог. Открыв дверь, девушка остановилась на пороге. Генка, толкнув ее грудью, ухватился за косяк. Какое-то мгновение Эля не двигалась, а потом стала прижиматься к Генке спиной, выталкивая его назад, в сени.
Пока Генка ходил за Элей, куда-то пропало стекло с лампы. Теперь над ней колебался, то вспыхивая чуть ярче, то угасая почти, ложась и вытягиваясь, коптящий язык огня. В неверном, зыбком свете его по стенам и потолку метались огромные, уродливые тени людей, грузно топтавшихся возле стола. Люди тоже казались порождениями зыбкого, мечущегося в поисках выхода полумрака или полусвета. Дергаясь и взмахивая руками, они двигались по тесному кругу, чудом не проваливаясь в черную яму — туда, куда Петр прятал рыбу. Сотрясая дом, грохали в пол сапоги, а на столе, вспыхивая узкими бликами отражений, подпрыгивали и звенели пустые бутылки.
— Раз-здайсь! — Одна из фигур, широко размахнув руки, откинула в стороны остальных. — Х-ходу!..
Взвизгнув, зачастила, заторопилась гармонь. Сначала не поспевавший за ней одинокий плясун вдруг точно сложился вдвое и словно покатился по полу следом за норовящими опередить его ногами вприсядку.
— И-ех! Сем-мен-новна!.
Потом неожиданно наступила тишина — именно тишина, хотя гармошка еще продолжала частить. Придерживаясь за стол, плясун встал на ноги, заслонив широкой спиной чадящую лампу, плоский и безликий. Изломавшись на стыке потолка со стеной, качнулась и замерла его тень, словно кто-то еще более плоский и безликий, призрачный навис над ним. Но вот тень колыхнулась — это человек, оторвавшись от стола, двинулся к двери.
— Цып-почка! — с придыханием сказал он, и Генка по голосу узнал Тимоху.
Эля рванулась назад, проскользнула под рукой у Генки, а Тимоха, дохнув водочным перегаром, толкнул грудью, накрыл липкой пятерней лицо — и Генка полетел в тьму. Еще не понимая, что произошло, что происходит и может произойти, он смотрел на проем двери. В светлом четырехугольнике один за другим возникали и пропадали черные силуэты. Последний — пятый — задержался в дверях, окликнув:
— Генка? Где ты?
Генка встал, и тогда Петр, подрагивая огнем приклеившейся к губе папиросы, сказал:
— Упились, гады! Прижмут девку, потом отвечать придется. Милиция сюда налетит…
И Генка все понял.
Сразу протрезвев, ринулся мимо Петра к выходу, в утыканную звездами тьму.
— Куда? — крикнул вслед Петр. — Их четверо, дура!
Тогда Генка не услышал этого: ничего не слышал и ничего не видел. Даже тропинки, по которой бежал.
Бежал, видя только цель — невидимый во тьме домик экспедиции, домик Эли.
В дверях он ударился о заслон из потных спин, рванул к себе чьи-то плечи, освобождая дорогу, и очутился перед Михаилом Венедиктовичем.
У Михаила Венедиктовича было необыкновенное, чужое лицо, а на чужом лице — чужие, огненные глаза. Ноздри тонкого носа вздрагивали.
— Вон отсюда! Скоты! — негромко и страшно говорил он Генке, медленно надвигаясь на него с неумолимостью камня в шивере на потерявшую ход лодку. — Вон, или…
Генка попятился и увидел рядом с собой Тимоху, Сами собой поднялись руки, пальцы рванули затрещавшую ткань. Потом — близко-близко — из белых глаз захотели выпрыгнуть черные пятна зрачков. С наслаждением и легкостью, точно стряхнув гадкое насекомое, Генка отшвырнул Тимоху в черный проем двери, уже никем не заслоняемый. И прыгнул бы следом, чтобы раздавить, уничтожить, но его остановил голос Михаила Венедиктовича:
— Геннадий, бросьте!
А когда Генка заставил себя послушаться, ученый, всплеснув руками, забегал по комнате, запричитал по-бабьи:
— Господи, какие все мерзавцы, какой ужас!..
Вера Николаевна посмотрела строго и недовольно.
— Но почему все мерзавцы? Михаил Венедиктович, не следует судить обо всех по действиям одного. В семье не без урода. А товарищи этого… ну, пьяного, который ворвался в комнату, может быть, хотели его увести?
— Все хороши, — гневно отмахнулся Михаил Венедиктович. — Напились, как скоты.
— Не настолько, чтобы потерять голову, как тот, кого вышвырнул за двери Геннадий, — не согласился Сергей Сергеевич. — Возможно, что у остальных были действительно благие намерения.
Генка не знал и не хотел знать, какие намерения были у остальных. Плевать ему на остальных! Он ненавидел Тимоху, еще сильнее ненавидел Петра, подпоившего ребят, — главного виновника всего.
Но самой лютой ненавистью он ненавидел себя.
Равнодушные, чуть щурящиеся глаза Эли смотрели теперь сквозь Генку, как будто он стал прозрачным. Эля не замечала его, не слышала, если Генка пытался заговорить. Молчала, презрительно складывая красивые губы, если о Генке говорили другие.
— Послушайте, Эля… — вступился было за него Михаил Венедиктович, подметив очередную Элину демонстрацию, но Вера Николаевна, заговорщически улыбаясь, отрицательно помотала головой, уронив шпильку: не надо, мол, не вмешивайтесь! Ученый удивился, но вместо приготовленной укоризненной фразы только кашлянул:
— Кхе… Кхм…
Эля, вздернув подбородок, прошла мимо Генки. После той проклятой истории с аккордеоном она все время вот так вскидывала голову. А Генка, чувствуя себя вяловатым, опускал свою.
Пытаясь хоть чем-нибудь задобрить девушку, объявил Михаилу Венедиктовичу в ее присутствии:
— Последнее лето, к чертям, рыбачу. Насолю старикам бочку — и конец! Честное слово!
Михаил Венедиктович снял очки, словно в очках не узнавал собеседника. Дурашливо изогнув брови и тараща глаза, спросил:.
— Вот как? Очень интересно! Очень, я бы сказал, благородное решение… Вытащу, мол, в последний раз чужой кошелек и перестану воровать? Потрясающе честные намерения, не правда ли?
Генка смешался и опять — теперь испуганно уже — посмотрел на Элю: слышала или нет? Кажется, не слышала: перетирает свои пробирки, даже не повернулась. Но тем не менее кое-какие меры принять требовалось.
— Михаил Венедиктович, это же все сплошная липа — что самоловы вредят рыбе. Это же дурак какой-то закон выдумал — самоловами не рыбачить. В поплавни одна мелочь набивается, по двадцати сантиметров. Ей еще расти да расти!..
— Да? — на мгновение задумался Михаил Венедиктович. — Считают, что с самоловов очень много рыбы уходит раненной и, естественно, гибнет потом зря. Заражает водоемы к тому же.
Генка даже привскочил на стуле, хлопнув себя по коленям: как может человек говорить такое?
— Михаил Венедиктович, вы бы хоть раз на переметы съездили! Срывается? Это же такая рыба, Михаил Венедиктович, трехпудовый осетер…
— Осетр, Гена! — поправила Вера Николаевна.
— Ну, осетр. Понимаете, он же поймается на одну уду, за плавник, и стоит спокойненько. Пока к лодке не подведешь… Как теленок! А стерлядь и вовсе…
— Может быть, не могу спорить! — сказал Михаил Венедиктович. — Тут вам карты в руки. Но ведь закон есть закон, Геннадий! Законы совершенствуются, как и люди, их издающие. Смею уверить, что, если дело обстоит именно так, как вы говорите, со временем разрешат эти самые самоловы…
Генка фыркнул:
— Со временем! А пока? Рыба — она же основное у нас, Михаил Венедиктович! Знаете, какая у бакенщика зарплата?
— А вы знаете, — спросила Вера Николаевна, — какая заработная плата у врачей? Или у педагогов? Такая же, как и у вас примерно…
— Не у всех врачей, Вера Николаевна! — вставил Сергей Сергеевич.
Та, соглашаясь, наклонила голову.
— Я имела в виду врачей, которые лечат нас с вами. Рядовых сельских и городских врачей, на чьих плечах лежит здравоохранение. Не корифеев, делающих в году по две виртуозные операции. Так вот, Гена! Поверьте, что врачи и педагоги работают во много раз больше, чем вы. Гораздо больше!
— Сравнили тоже! — чуть ли не возмутился Генка. — У них же, ну, это самое… призвание, да? Интерес! А у нас только что на реке красота.
— И ни врачи, ни учителя не имеют никакого подспорья, особенно в городах. Ни огородов, ни коров, — продолжала Вера Николаевна, будто не заметив, что Генка невежливо перебил ее.
— Кстати, — сказал Сергей Сергеевич, захлопывая книгу. — В ваших условиях всегда можно обеспечить себя рыбой, не прибегая к запрещенным способам лова. Если не осетриной, то уж таймениной наверняка…
Генка посмотрел на него снисходительно и даже вздохнул, переживая за невежество собеседника.
— Так ведь и заездки тоже нельзя, Сергей Сергеевич! Только бережняки! А в бережняки немного поймаешь.
— Приобретите спиннинг, — посоветовал Сергей Сергеевич. — И всегда будете с рыбой.
— Куда там! — Генку подмывало спросить, сколько рыбы поймал спиннингом Сергей Сергеевич, но не захотел обижать. Удовольствовался иронической ухмылкой. Впрочем, точно так же улыбнулась Вера Николаевна, а у Эли как-то странно дернулись плечи.
Сергей Сергеевич изобразил на лице безразличие и, соскабливая ногтем мизинца какое-то пятнышко с рукава, предложил:
— Если хотите, я могу доказать это!
Генка с трудом погасил улыбку и промолчал. Михаил Венедиктович многозначительно произнес "гм", а Вера Николаевна принялась высматривать что-то на потолке.
— Я понимаю, есть все основания сомневаться в моей… э-э… в моем умении. Но тем доказательнее, очевидно, будет моя правота? Если Михаил Венедиктович не станет возражать, завтра я прошелся бы с вами по берегу Ухоронги, Геннадий. Даже без хваленого мыта… — Сергей Сергеевич вопрошающе посмотрел на Михаила Венедиктовича, перевел взгляд на Генку, потом снова на своего коллегу.
— Гм… — еще раз сказал тот и, поколебавшись, разрешил: — Особых возражений у меня нет… Цикл мы закончили, так что….
— Вот и прекрасно! — обрадовался Сергей Сергеевич. — Вы согласны, Гена?
— Я что? — пожал Генка плечами. — Я — пожалуйста. Кроме спиннинга, удочки взять можем. Червей захватим на всякий случай, но хариус на обманку должен хватать — только дай.
— Значит, договорились. Утром я постучу вам в окно…
Эля — одним глазом — взглянула на него через плечо и, отшвырнув тряпку, уткнув пальцы в столешницу, поиграла мизинцами… Потом посмотрела через другое плечо, из-под упавшей на глаз черной пряди.
— Сергей Сергеевич, а мне… можно? Честное слово, я постараюсь не мешать… И буду распутывать вам "парики"…
— Видите ли, — сказал Сергей Сергеевич, — я сам спрашивал о разрешении у Михаила Венедиктовича…
— Он позволит!
Черный глаз, прячущийся за черной прядью, блеснул умоляюще и вместе воровато в сторону Михаила Венедиктовича.
— Михаил Венедиктович, Элины обязанности я могла бы взять на себя завтра, — поддержала Вера Николаевна.
— Против такой коалиции я бессилен, — с некоторой игривостью развел руками ученый. — Что же, придется отпустить вас, Эля…
Генка бросил на девушку радостный взгляд, но та, перехватив его, сделала равнодушные глаза. В них заблестел лед, не огонь.
Наверно, поэтому он приказал Валету, встретившему на крыльце вилянием согнутого баранкой хвоста, убираться к чертям собачьим. Валет же решил, что хозяин недоволен его скаредностью. Раскопав похоронку, притащил белый сохатиный мосол и, положив к ногам Генки, опять завилял хвостом. Но Генка перешагнул через мосол, даже не поглядев. Он спустился к лодкам и неизвестно за что огрел реку подвернувшимся под ногу камнем.
На реке раболепно кланялись вслед пролетающему ветру тростники. Чайки, задрав хвосты, качались на дробной волне. "Низовка" явно собиралась разгуляться, потому что облака тянулись с востока на запад, как оставленные реактивными самолетами дымные дорожки. На тупоносом катере-толкаче, почему-то предпочитавшем не толкать, а тянуть за собой "матку", выбирали буксирный трос. Потом катер отработал задним, развернулся и, зайдя сбоку, стал оттеснять плоты бережнее, нацеливая голову "матки" в узкие ворота фарватера шиверы. Пока он теснил голову, хвост "матки" стало заносить течением. Снова отработав задним, катер заспешил к хвосту. "Красный бакен наверняка зацепит", — подумал Генка, про себя выругав старшину сволочью. Но катер закрепил буксир на хвосте и, выбрав ходом слабину, заставил плоты выровнять строй. Стало ясно, что бакен не будет задет. Генку это скорее огорчило, чем обрадовало: такое у него было настроение.
С тщетной надеждой на неразворотливость старшины он провожал "матку" глазами, пока хвост не миновал третью пару бакенов в шивере. Дальше, конечно, и дурак проведет ее как по ниточке! Легче легкого провести ее дальше! И легче легкого Михаилу Венедиктовичу сказать, что Генка в последний раз хочет украсть кошелек, хотя Генка никогда ничего не крал и красть не собирается. А насчет рыбы — так это смешно: какая разница, сейчас или осенью он кончит рыбачить? Столько лет рыбачил, а тут два месяца, подумаешь! Надо же бате с матерью добыть рыбы, как этого Михаил Венедиктович не понимает? Петр, например, понимает прекрасно, а Петр вроде бы никакой не ученый, просто рассудительный мужик, хотя и себе на уме. И даже, прямо говоря, порядочный гад…
Генка не мог простить Петру случившееся в тот памятный вечер — главным образом потому, что Эля не прощала Генке. А в чем виноват Генка? Ни в чем! Петр, чтобы купить аккордеон, до безобразия подпоил ребят с катера. Значит, виноват Петр. Генка же не думал, что так получится! Петр заварил кашу, а сам в кусты: "Куда ты, их четверо!" Теперь ему можно говорить, будто кричал это, чтобы Генка не лез один, а подождал, пока он гармонь положит. Говорить все можно, язык без костей…
— Генка! — крикнула с косогора мать, кутая ноги подолом платья, которое хотел сорвать ветер. — Отец спрашивает, "маткой" бакена-те не зацепило? Сплавать к ним, поди, надо?
— Знаю, — отмахнулся Генка. — Сплаваю.
Как будто он действительно не знает, что проверять после прохода "матки" обстановку фарватера на шивере — святая обязанность бакенщиков. Для, этого и пост существует. Но тыкать ему в нос этой обязанностью вовсе незачем; может и Шкурихин сплавать.
Спихнув лодку, Генка давнул ногой на стартер, но мотор не соизволил даже чихнуть. Только после третьей попытки пришло в голову заглянуть в отстойник: конечно, на полпальца грязи! А лодку за это время успело снести в травы, заведешь мотор — как раз полкопны водорослей на винт намотается. Не везет, так уж во всем не везет! Генка взял шест и стал выталкиваться на чистую воду.
На этот раз обстановка не была нарушена. Развернувшись, он погнал лодку против течения, поставив рукоятку газа на "самый полный". Моторка зашлепала брюхом по крутым валам, потеряв больше половины скорости. Валы набрасывались отовсюду, сталкиваясь, обдавая холодными брызгами, норовя запрыгнуть через борт, сбить с курса.
— Сволочь! — обругал Генка шиверу, окатившую его особенно щедрой порцией брызг.
Она злобно ощерилась черными клыками камней и толкнула в борт полузатопленным сосновым обрубком так, что лодку подкинуло.
— Гадина! — сказал Генка.
Вот уже четвертый день — начиная все с того же вечера, конечно, — и вода, и земля, и небо всячески вредничали.
Небо, хотя и прикидывалось высоким и невесомым, угнетало своей тяжестью. Река — вот, пожалуйста! — подсовывала топляки, чтобы сломать винт. А на берегу под ногами путались камни, хлестали по глазам тальниковые ветки. Сама земля, раскиснув после дождя, но́ровила ускользнуть в сторону, лишить опоры.
Люди тоже были против него, даже отец с матерью. Мать, когда он, вытащив лодку, занялся сборами к завтрашнему походу, сказала, язвительно поджимая и без того тонкие губы:
— Вовсе ты, парень, от дому стал отбиваться. Медом, поди, лавки-то у московских намазаны! Ведь день-деньской оттуль не выходишь, вроде и делов никаких нету…
— А какие дела? — спросил Генка. — Сено если метать, так вымочило его вчера, сама же не велела копнить.
Матвей Федорович, стуча деревяшкой, прошел через комнату к бочонку с водой, зачерпнул ковш и, не видя, что проливает через край, пробурчал:
— Добрые люди плашник готовят уже, белка ноне должна прийти, шишки на еле́ эвон сколь.
— Успею, батя.
Матвей Федорович сделал несколько глотков, в горле у него громко забулькало. Выплеснув остатки воды назад, в бочонок, сгибом локтя утер рот. Мокрые усы слиплись косичками.
— Не знаешь, что, покуль не привянет да не потемнеет новая ловушка, без толку будешь переводить гриб?
— Да и гриб-то где? По пням на корню сушится, — все так же язвительно бросила мать.
— Плохо нынче опята растут, лето такое, — оправдывался Генка.
— Руки такие — не доходят!
— Дойдут, до осени далеко. Завтра за хариусом пойду в Ухоронгу, погляжу на просеке. Там всегда первый опенок растет.
— Сетушку возьмите, коли по хайрюзов надумали, — посоветовал Матвей Федорович. — Повыше Гараниного ключа плесо доброе, да и за третьим заломом попытайте…
— Петька знает, поди, — сказала мать.
Генка аккуратно вколол крючки лохматых обманок — сделанных из петушиных перьев искусственных мушек — в подкладку фуражи и небрежно, как бы мимоходом, сообщил:
— Сетка ни к чему, батя. Да и неловко с ней одному.
— Пошто одному? — удивился Матвей Федорович.
— А я… не договаривался с Петром. Один пойду.
— Вдвоем ступайте. Присмотрите, где заездок ладить. На старом-то месте берег шибко подмыло, Петр выше городить хотел нонче.
— Ну и пусть городит где хочет, — сказал Генка.
— Ай не поделили чего? — насторожилась мать.
— Противно, ребят на катере обманул по пьянке. Обрадовался!
— Чужих обманул, не своих! Петька — он завсегда был честным. — Матвей Федорович, строго блеснув занавешенными лохмами бровей глазами, показал сведенную в кулак пятерню, словно держал между большим и указательным пальцами пойманное под рубахой насекомое. — На столь вот связника никогда не обидел! Золотой мужик! У них, брат, вся родова такая!
Генка только вздохнул: что скажешь на это бате? С ним толковать — все равно что с норовистым конем. Если упрется, жердь об него обламывай, не то что язык, — не сдвинешь!
Чтобы не продолжать разговора, пошел за стайку — накопать в навозе червей. На стайке, подоткнутые под дранку крыши, сохли еловые плахи — заготовки для лыж. Вместе с Петром они выискивали добрую, без крени и сучков, ель. Но обтесывал выколотые плахи Петр. Сказал: "Ладно, один управлюсь!" Черт, он никогда не старался выехать на чужом хребте, Петька Шкурихин! Что верно, то верно.
Роса густо лежала на сумасшедших — в человеческий рост — травах, тяжелыми каплями набухая по концам листьев, пригибая их своей тяжестью. Бабочки со склеенными влагой крыльями, переползая с листа на лист, оставляли за собой темно-зеленые глянцевитые дорожки и подолгу отдыхали, устало шевеля усиками. Долгоносые коричневые бекасы, внезапно взлетая из-под ног, обдавали брызгами с крыльев и тут же, на глазах, падали в травы. Наверное, они очень спешили снова нахохлиться, сжаться в комочек под лопушиной, как поднятый на рассвете шальным телефонным звонком человек под не успевшим остынуть одеялом.
Генка шел впереди, с пренебрежением отчаяния окатывая себя с ног до головы влагой, проливающейся с трав и кустов. Он даже нарочно встряхивал особенно росные ветки, чтобы идущие позади не попадали под леденящий душ. Он жертвовал собой ради них, но тем не менее ругательски ругал в душе Сергея Сергеевича за слишком ранний подъем. Нельзя разве было выйти позже, когда роса обсохнет? Ведь, как ни обивает ее Генка, холода и мокроты хватает и на Элину долю.
Они шли по старой охотничьей тропе, которая выводила на Ухоронгу километрах в пятнадцати от ее устья. Там, где своенравная горная речка, устав прыгать с камня на камень, начинает чередовать перекаты с более или менее спокойными плесами. Ниже перекатов, в черно-зеленой глубине уловов, у перехода пенной быстрины в слив, всегда стоят в холодке таймени. Ленки стайками гуляют по плесам, от переката до переката. А в самых перекатах, за камнями, о которые сечется на две струи вода, невидимые, покамест не повиснут на тугой лесе, хариусы караулят пролетающих над рекой мошек. Над плесами стоит музыкальная, чуть позванивающая тишина, журчание шивер отдает громким звоном стекла, а перекаты рычат глухо и угрожающе. Они не позванивают, не звенят, а гремят и брякают…
Генка шел, восстанавливая в памяти повороты реки, заломы и перекаты. Его мысли были уже там, на Ухоронге, где можно будет поражать Элю великолепием тайги и реки, отдавать ей все это, видеть ее. Пока ее не увидишь за Сергеем Сергеевичем, если оглянешься. Пока тропа лезет в хребет, река даже не начинала шуметь впереди, а тайга кажется матовой, одноцветной, будничной.
Но вот небо, что только проглядывало вверху сквозь кроны, засветилось впереди, за стволами сосен — перевал, перелом тропы. Несколько шагов еще — и вдруг, словно волшебник взмахнул жезлом или сказочный принц коснулся губ спящей красавицы, бор вспыхнул, засверкал, затрепетал, ожил. От сосновых стволов по золотой земле, присыпанной искрами хвои, побежали синие тени. Между ними, как притаившиеся пуховые птенцы, умеющие на глазах превращаться в пятно света, в лист или в ничто, завздрагивали и задышали солнечные блики. Краски приобрели яркость и блеск, росяные капли засверкали, как осколки радуг, а даль стала глубокой и теплой. Это солнце, прежде невидимое за хребтом, вместе с людьми вошло в бор, чтобы встретить их у дверей неба.
Небо было совсем рядом. Оно начиналось от черты горизонта, лежавшей всего в десятке шагов — на гребне сопки, где переламывалась тропа.
Сергей Сергеевич, прикрывая глаза ладонью, догнал приостановившегося Генку и сказал:
— Понимаете, полные сапоги воды!
— Росы, — уточнил Генка и, вытянув шею, захотел увидеть из-за его плеча Элю.
Сергей Сергеевич неожиданно согнулся, опускаясь на землю, Эля оказалась почти лицом к лицу с Генкой. Промокшая ткань противоэнцефалитного костюма облепила ее фигурку, как лайковая перчатка. Непокорная прядь волос, всегда падающая на лоб, казалась приклеенной еще не просохшим клеем. Глаза девушки на миг встретились с Генкиными глазами.
— Выжми костюм, холодно ведь! — сказал он. — Может, костер развести, посушиться?
Кажется, она хотела ответить, губы ее дрогнули, но не раскрылись. Равнодушно отвела взгляд, носком сапога перекатила растопыренную сосновую шишку.
Переобувавшийся Сергей Сергеевич поднял голову.
— Костюм теперь высохнет на солнышке. А вот портянки отжать советую. Чтобы не стереть ног.
— Верно ведь! — охотно откликнулась ему девушка и, сев на застеленную рыжей хвоей землю, начала стаскивать с ноги резиновый сапог. Это оказалось нелегким делом.
— Давай я помогу, — предложил Генка и протянул руку, но девушка поджала под себя ногу, сказав в сторону Сергея Сергеевича:
— А-а, знаете, неохота возиться…
— Смотрите! — предупредил тот. — Что касается меня, я готов.
Перевалив через гребень, они не увидели реки, но услышали ее. Эля, приняв шум воды за шум леса, спросила Сергея Сергеевича:
— Вы не знаете, тайга к погоде или к непогоде шумит?
— Это не тайга. Ухоронга это, — сказал Генка.
Эля только презрительно повела бровью.
Река открылась, когда склон сопки стал круче. Длинное, сверкающее, как лезвие ножа, плесо подрезало сложенный из красного плитняка берег, на который вывела тропа. Прямо перед глазами половину Ухоронги скрадывала горбатая крутизна спуска. Зато справа, где сопка как бы вгибалась, образовав прилуку, река и оба ее берега просматривались далеко и подробно.
За рекой, за неширокой поймой, начиналась молодая лиственная тайга. С этой стороны некому было заслонять солнечный свет. Мир, в котором не было ни одного не освещенного, не напоенного светом уголка, сверху, с хребта, казался удивительно свежим, праздничным и чуть-чуть ненастоящим. Лохматые травы представлялись ровным, подстриженным под гребенку изумрудным ковром. Песчаные отмели — нарочно, для пущен красоты — вызолоченными. Пряничным домиком выглядывала из-за тальника избушка.
— Наше с Петром хозяйство, — похвастался Генка, жестом показав на избушку. Но отсюда, сверху, жест распространялся слишком уж на многое, на весь кругозор. Именно так и понял Сергей Сергеевич.
— Хозяева, значит? А добрые хозяева-то?
Генка самодовольно усмехнулся — куда, мол, добрее! — и, помня о скользких подметках бродней, стал осторожно спускаться дальше.
Внизу тот же самый мир был непричесанным, дремучим, буйным — подлинный, а не игрушечный мир детских сказок. Красные камни выползли на тропу, заступив дорогу к воде. Неопрятно расщеперившая сучья, оставленная половодьем лесина, утопив комель, угрожающе шевелила обломанной вершиной. Тропа вильнула в сторону, стала лепиться по узенькому карнизу, выскальзывать из-под ног. Но и этого ей показалось мало: вдруг повернув, она бросилась в воду. Справа и слева встали скалы.
— Бродком придется, — сказал Генка.
Река не была здесь глубокой, но гряда подводных камней, которой следовало придерживаться, ожесточала и без того стремительное течение.
— Не свалит? — спросил Сергей Сергеевич Генку.
— Ништо! Ноги расставляйте пошире.
Сергей Сергеевич развернул высокие голенища своих рыбацких сапог и медленно пошел вперед. Дав ему сделать несколько шагов, Эля осторожно, по-гимнастически напружинив ногу в подъеме — так боязливый купальщик пробует, тепла ли вода, — ступила на ближний камень.
— Ладно, — сказал над ее ухом Генка. — Нечего!
И, не давая опомниться, легко сгреб в охапку. Эля рванулась, пытаясь высвободиться, но берег уже остался позади, вокруг с грохотом и звоном неслась река. И Генка почувствовал, как напрягшиеся мускулы девушки стали ослабевать, распускаться. Гибкость возвращалась к одеревеневшему телу, оно становилось легче и как-то удобнее. Один раз он оступился, и Эля, вздрогнув, на какой-то миг сама приникла к нему. Только на какой-то миг!
— Правильно сделали, — одобрил Сергей Сергеевич, когда мокрый по пояс Генка выбрался на берег.
— Я прекрасно перешла бы сама, — пожимая плечами, заявила Эля.
— Чертовски быстрая и холодная вода, знаете! Брр! — Сергей Сергеевич, выкручивая портянки, топтался возле прислоненных к камню, подметками вверх, сапог. — И я думал, что гораздо мельче. Хорошо, что хоть спички и сигареты были в кармане гимнастерки.
— Вода большая, после дождей, — словно оправдываясь, сказал Генка. — В малую воду вполне в ваших сапогах перебрести можно.
— Не беда, Геннадий. Что же, будем пробовать? — глазами показал он на реку.
— Рыбачить-то? Нет, ниже спустимся, к заломам. Там самая рыба. И по нижней тропе обратно пойдем, через Сохатиную Рассоху.
— Слушаю и повинуюсь, — сказал Сергей Сергеевич, начиная обуваться. — А уху где варить будем?
— Из чего? — делая вид, будто очень внимательно рассматривает старое гнездо на талине, спросила Эля.
— Подождите… — начал было Сергей Сергеевич, а Генка сказал:
— На уху хариусов и здесь натаскать плевое дело. Это всегда можно.
Эля соизволила посмотреть в его сторону — насмешливо, кусая губы, но все-таки!..
Сергей Сергеевич надел свой рюкзак.
— Я думаю, с трапезой повременим, а?
Пойма, казавшаяся с хребта светлым, веселым лугом, встала вокруг них, как встает лес. Только травы, похожие на сказочные деревья, и небо над головой, если задрать голову. Куда идти, как выпутываться? Даже шум воды, на который можно было бы ориентироваться, почти не проникал за зеленые стены. Но Генка чем-то руководствовался, потому что спустя полчаса они снова вышли к реке.
Теперь на обоих берегах сопки подступали довольно близко. Река круто поворачивала направо и, казалось, даже становилась боком на вираже.
— Опять брод, — сказал Генка. — Иначе Кривое плесо обходить надо, километров семь берегом.
— Значит, будем переходить вброд, — легко смирился Сергей Сергеевич. — Но когда же начнутся обещанные вами заломы?
— А вот за Кривым плесом. Напрямую два километра всего.
— Да-а, — подойдя к воде и балансируя на полузатопленной валежине, протянул Сергей Сергеевич. — И много еще вот таких бродов впереди, Гена?
— Хватит. Можно, конечно, и берегом, через чапыгу драться. Сами не захотите!
Поправив за спиной ружье, Генка шагнул к Эле и вопросительно взглянул на нее. Девушка чуть-чуть отвернула голову, и только.
— Тут помельче, но побыстрее, — несмело сказал Генка.
На этот раз Эля не пыталась ни вырваться, ни одеревенеть. Как будто не заметила даже, что ее оторвали от земли. Зато Генка заметил, что она как-то более ловко помещается в руках.
— Держите на большой камень! — крикнул он Сергею Сергеевичу, входя в воду. Сделав несколько шагов и обернувшись, чтобы посмотреть, следует ли указаниям Сергей Сергеевич, он на секунду потерял устойчивость. И, как и на первом броде, Эля прижалась, придвинулась к нему каждой клеточкой тела, хотя и не изменила положения. Но когда он, справившись, снова пошел вперед, уже не отстранилась больше. Генка поднял глаза к ее лицу — девушка смотрела мимо его глаз, в небо.
— Спасибо, — сказала она мертвым голосом, когда оказалась на берегу, но взглянула не на Генку, а почему-то на Сергея Сергеевича. Взгляд этот показался Генке каким-то странным, испуганным. Да и самому Генке вдруг стало как-то не по себе, он дернул плечами, поправляя за спиной фанерную хариусницу.
— Пошли, близко теперь…
Наконец впереди опять зашумела река. Выйдя на просторную галечную косу, Генка показал глубокое у́лово под противоположным берегом, покрытое хлопьями пены, и сказал:
— Во, пробуйте. Я себе удилище вырежу.
Когда он вернулся, на ходу обстругивая прогонистую сухую сосенку, как будто нарочно созданную, чтобы стать удилищем, Сергей Сергеевич привязывал блесну. Эля, усевшись у самой воды, рассеянно играла отшлифованными до блеска камешками.
— Понимаете, не рассчитал, — пожаловался Сергей Сергеевич. — Перелет получился. Где-то вон на том кедре оставил "байкал". Оторвал. Первый блин, как говорят, комом!
Генку немножко удивило, что Эля не смеялась, не вышучивала неудачника.
— Бывает, — сказал он, соскабливая сухую кору с вершинки удилища.
Сергей Сергеевич взмахнул спиннингом, новая блесна шлепнулась в воду чуть выше слива. Потом Сергей Сергеевич начал подматывать лесу, негромко помянул черта, дважды тряхнул спиннингом и сказал:
— Опять зацепил! М-м!..
И тогда ниже и правее того места, где натянутая леса уходила в воду, из пены поднялся на мгновение малиновый рыбий хвост и сразу же сыпанула пулеметной очередью катушка.
— Таймень! — крикнул Генка. Эля резво вскочила на ноги, а Сергей Сергеевич, перегнувшись назад и вбок, треща тормозом, стал крутить катушку. Нижняя губа у него выпятилась.
— Уй-дет, черт!.. Эх!..
Пулеметная трель катушки. Новый всплеск рыбы. Еще один.
— Уй-дет же!..
Теперь леса резала воду ниже слива, за порогом улова. Согнувшись еще больше, уперев в живот рукоять спиннинга, Сергей Сергеевич с видимым трудом подматывал леску. В его вытаращенных глазах стоял ужас.
— Не… могу… — судорожно двигая кадыком, прохрипел он. — Уйдет!
— Мотайте, мотайте! — крикнул Генка, срывая с плеча двустволку. — К мелкому подводите, к мели!..
— Уй-дет! — затряс головой Сергей Сергеевич.
Таймень показал спину и снова исчез в глубине улова, сгибая удилище.
— Подводите же! Что вы?
Кажется, катушка стала вращаться быстрее, в глазах Сергея Сергеевича ужас сменился выражением напряженности. Эля, переплетя пальцы и прижав руки к груди, как певица на эстраде, самозабвенно смотрела в черноту улова.
— Уйдет, говорю вам, уйдет! — уже без истерики, пытаясь обмануть судьбу, повторял Сергей Сергеевич.
Теперь таймень показал не спину, а белое брюхо и почти не потребовал лесы. Еще несколько оборотов катушки, еще… По светлому галечному дну, похожая на давно затонувшую колодину, почти без сопротивления, к берегу подвигалась хорошо различимая рыба.
— Уйдет! — на всякий случай еще раз вспомнил свое заклятье Сергей Сергеевич и, не переставая действовать катушкой, начал пятиться от воды. Когда обессилевший таймень оказался на мелком месте, Генка выпалил в голову ему жаканом. Огромная рыба согнулась в дугу, выпрямилась и, подталкиваемая течением, стала переворачиваться кверху брюхом. Быстрая вода вымывала из-под нее маленькие камешки и гнала перед собой. Легкие красноватые струйки обгоняли камешки, а затем пропадали.
— Ну, какова рыбка? — спросил Сергей Сергеевич, вытирая выступивший от волнения пот, когда тайменя вытащили на берег.
— Килограммов четырнадцать будет, — не поскупился Генка.
— Ну, бросьте! Тяжелые у вас килограммы!
— Может, и побольше маленько…
— Маленько! Во всяком случае, согласны теперь, что можно обходиться без самоловов?
— Можно, — согласился Генка. — Только таскать ее отсюда, рыбу…
— Э, не так страшно! — Сергей Сергеевич пренебрежительно махнул рукой, а потом торжествующе повернулся к Эле: — Кстати, может быть, мы все-таки уху сварим?
— Здесь, к сожалению, нет лавров, Сергей Сергеевич!
— Тут, наверное, растет черемша, Эля!
— Да я не о лавровом листе беспокоюсь — о венке победителю…
— То-о-то же! — Сергей Сергеевич гордо вскинул на плечо спиннинг. — С первого заброса, можно сказать… Так вы разжигайте костер, Геннадий, а я еще покидаю.
Он зашагал вдоль берега, зажав спиннинг под мышкой, на ходу закуривая сигарету. Эля с какой-то необычной улыбкой вдруг повернулась к Генке:
— Ну?
Тот заулыбался откровенно, радостно.
— Мир?
Несколько мгновений на Элиных губах еще бродила странная, не родная ждущему чего-то взгляду улыбка. Потом девушка тряхнула головой и, громко, но как-то искусственно рассмеявшись, спросила:
— Кому приказали разводить костер?
— Мне, — сказал Генка.
— Во всяком случае, согласны теперь, — копируя Сергея Сергеевича, начала Эля, а закончила совсем не в топ: — Что… что… не следует делать глупостей?.. И… в чем мы будем варить уху?
— Котелок в рюкзаке у Сергея Сергеевича. Ладно, воде закипеть недолго. Идем хариусов надергаем пока, чтобы не трогать тайменя.
Примерно через час все сидели вокруг чумазого котелка, и Сергей Сергеевич, проливая из ложки уху, говорил Генке:
— Всего-навсего полчаса каких-то, если не меньше, и пожалуйста: таймень, четыре ленка, ваши хариусы. И все это почти не сходя с места и не считая того тайменя или ленка, который у меня сорвался… Да тут же черт знает сколько наловить можно! За полчаса — добрых полтора пуда рыбы, а? И ведь совершенно законно! А сколько спортивного удовлетворения в такой ловле!
— Это вам еще не крупный попал, — сказал Генка. — В Ухоронге на два пуда таймень не редкость.
Сергей Сергеевич посмотрел на него загоревшимися глазами, воткнув ложку черенком в песок.
— Черт знает что! На два пуда! Да ведь у вас тут все равно что молочные реки и кисельные берега. И вообще скатерти-самобранки! — Он показал на котелок с ухой и сложенных на лопушине вареных хариусов. — Понимаете вы это или нет? Впрочем, вы же считаете себя хозяином. Что ж, правильно считаете! Но вы понимаете, Гена, каким должен быть хозяин этой земли, чтобы она не оскудевала? Эх!.. А ведь у нас так бывает: прошел человек, а за ним — кедры, спиленные ради десятка шишек, пожарища, потому что лень потушить костер; обезрыбевшие реки, потому что у человека была взрывчатка и не было совести. А ведь хозяин! Его это все, ему принадлежит, а вот…
Генке представились накрещенные друг на друга рыжие кедры и река почему-то с неподвижной, как в болоте, водой, подернутой плесенью.
— Мы, — оробев, сказал он, — кедров не пилим, что вы! Если под колотушку — это чурбан такой, пуда в полтора, на длинной жердине — не идет шишка, так лазаем. Когти специальные есть, чтобы по кедрам лазать. И взрывчаткой тоже никогда, честное слово!
— Ну что ж! Хорошо, если вы все-таки добрые хозяева. Давай бог, как в старину говорили… — Сергей Сергеевич посмотрел на часы и вспомнил: — Батюшки, нам ведь поторапливаться не мешает!
— Рыбу вам в рюкзак класть или как? — спросил Генка. — Если хотите, могу унести.
— Нет, зачем вы? Ловите своих хариусов. А я хочу показать, что за великолепная машина спиннинг!
Перед обомшелым, поросшим смородинником заломом, под который ныряла Ухоронга, Сергей Сергеевич отпустил по крайней мере пудового тайменя — леса захлестнулась на утонувшей коряге. Двух — одного за другим, обоих килограмма по три — вытащил из неглубокого у́ловца, переходившего в заросшее лопушняком плесо. Ниже плеса река снова начинала петлять и, не умея раздвинуть каменные берега, пыталась зарыться в землю, выгрызая глубокие черные провалы — омуты. В одном месте, заставляя свернуть почти под прямым углом, Ухоронге заступил дорогу отвесный склон сопки — поставленные на ребро слоистые траппы напоминали книги в библиотеке титанов. Надписей на кореш-как не было, но мох и плесень свидетельствовали об их древности. А в просторном у́лове похожая на смолу вода медленно кружила куски коры и белые шапки пены. Сергей Сергеевич, освободившись от рюкзака и закурив сигарету, отдыхал. Генка увел Элю к сливу из у́лова — ловить хариусов.
Девушка решила сменить гнев на милость. Она завладела удочкой м, стоя на большом камне, не глядя на прыгающую по воде обманку, кричала Генке:
— Господи, я же свалюсь отсюда! Дай руку, медведь недогадливый!
Генка, блаженно улыбаясь, забрел в воду и, утвердясь одной ногой на камне, подставил Эле плечо.
— Вот так, — удовлетворенно сказала девушка, с силой опираясь одной рукой и забрасывая удочку. — А что, если я все-таки свалюсь?
— Поймаю, — сказал Генка.
В это время что-то дернуло лесу, Эля вскрикнула "ах!" и, отпустив Генкино плечо, обеими руками схватилась за удилище.
— Только через голову не бросай, — равнодушно посоветовал Генка. — Сорвется, если крупный.
Он отцепил рыбину, когда девушка подтянула ее к камню, швырнул на берег. Хариус мелко-мелко задрожал, распустив разноцветный спинной плавник, и замер. Эля, закинув удочку, снова нашла плечо Генки.
— Поймаешь?
— Поймаю.
Она махнула удочкой и, подгибая ноги, стала медленно валиться вперед, на Генку. Тот чуть отодвинулся и, ловко подставив руки, улыбнулся во весь рот.
— Поймал!
— Нет, — сказала Эля, помедлив. Ее широко открытые глаза были близко-близко.
— Почему?
— Потому что… медведь. Пусти.
Конец удилища полоскался в воде, лесу вытянуло течением. Генка поставил Элю на камень, поднял удилище.
— Смотри, — сказал он, плавным взмахом посылая над быстриной обманку. Она еще не коснулась воды, когда невидимый за кустами Сергей Сергеевич вдруг закричал испуганно:
— Гена! Гена! С-сюда!
— Таймень! — одним словом все объяснил Генка и, комлем вперед швырнув на берег удилище, крикнул: — Бежим!
Сергей Сергеевич, сильно отклонясь назад, словно собрался демонстрировать "мостик", с видимым усилием удерживал в руках спиннинг. Согнутое в дугу удилище медленно кланялось из стороны в сторону, как колеблемая течением камышина. Катушка, которую Сергей Сергеевич прижимал ладонью, изредка потрескивала. А в улове по-прежнему кружилась кора и пена, из непроглядной глубины поднимались к поверхности серебряные пузырьки, словно омут был гигантским котлом, в котором кто-то надумал кипятить черную воду.
Ни сам Сергей Сергеевич, ни Генка, ни тем более Эля не знали, что следует предпринять. Где-то в смоляной глубине улова ходила удерживаемая лесой рыба. У нее не хватало силы оборвать миллиметровую жилку, прочность которой благодаря гибкому удилищу и катушке фактически была неограниченна. По крайней мере пока на шпульке имелся запас лесы, нечего было бояться. И все-таки Сергей Сергеевич боялся. Зная, что ему не смогут помочь, что сам не позволит помогать, он позвал на помощь.
— Залег! — сказал Генка.
— Ходит, — сказал Сергей Сергеевич. — Не мешайте.
Стоявшая на тормозе и удерживаемая рукой катушка отдавала лесу. Понемногу, по сантиметру, но отдавала.
— Подматывайте, — сказал Генка.
— Не могу. Силы… не хватает.
— Давайте я!
Сергей Сергеевич отрицательно помотал головой. Катушка затрещала более дробно, натянутая как струна жилка покатилась вправо. И вдруг — тр-р-р-р! — словно под ухом рванули кусок ткани. Окровавленными пальцами — ручками катушки сорвало кожу на суставах — Сергей Сергеевич начал возвращать сдернутую лесу. Он или забывал дышать, или ему не хватало дыхания.
Тр-р-р-рр…
— Соб-бака!..
Снова трудные, медленные обороты катушки. Неожиданно спиннинг распрямился, леса провисла, и Сергей Сергеевич выдохнул растерянное:
— А-ах!
Генка, закусив губу, рубанул кулаком воздух, но катушка опять затрещала, Сергей Сергеевич прихлопнул ее ладонью и задышал часто-часто. Спиннинг выгнулся, в другую сторону, леса, рассекая воду, ушла к перекату.
— С-сидит, — счастливо улыбаясь, с присвистом объявил Сергей Сергеевич. — Не сошел!
В конце верхнего слива, расталкивая воду, дважды тяжело перевернулось что-то большое, черно-розовое. И вдруг катушка начала трещать не часто, но ровно:
Сергей Сергеевич подтаскивал рыбу к берегу. Сначала, видимо, он сам не поверил в это: на лице отразилось откровенное изумление. Его сменила настороженность, ожидание подвоха. Но катушка продолжала повиноваться пальцам, и он сказал:
— Ружье, Геннадий. Пожалуйста.
Здесь не было светлой гальки на дне, берег круто уходил в глубину. Поэтому таймень совершенно неожиданно вынырнул из тьмы и замер почти у самой поверхности, слабо шевеля плавниками. Казалось, он сам захотел посмотреть, что это за люди на берегу. Генка выстрелил, целясь сверху в его плоский лоб, и что-то бултыхнулось, бешено затрещала катушка спиннинга, смолкла. Генка и Сергей Сергеевич растерянно уставились друг на друга.
— Эх! — отворачиваясь, сказал Сергей Сергеевич.
Генка смотрел, как выгнутую полукругом лесу утаскивает течением, и молчал. Ему было жалко тайменя и обидно, что Сергей Сергеевич считает виновным его, Генку. Думает, что Генка промазал. Но ведь Генка не мог промазать — стрелял в упор!
Катушка почему-то снова стала потрескивать. Сергей Сергеевич, небрежно подняв спиннинг, начал выбирать провиснувшую лесу, и вдруг брови у него поползли кверху.
— Зацепил, что ли? — Он пожал плечами. — Не понимаю.
Леса круче и круче уходила в воду. Там, где она как бы переламывалась, складывалась углом, скрестились три настороженных взгляда. И вот, когда падение лесы стало почти отвесным, Генка радостно крикнул:
— Так это же… таймень!
— Конечно, таймень! — будто он и не сомневался в этом, снисходительно подтвердил Сергей Сергеевич, как через стекло разглядывая огромную рыбину, повернувшуюся вверх брюхом, медленно колышимую течением.
— Двадцать килограммов верных, — сказал Генка, когда ее вытащили на берег. — Повезло вам.
— Цыплят по осени считают, Геннадии! Тут их, таких вот чертей, еще пара, если не больше. Собственными глазами двух видал, к сливу они подходили. Сейчас попробуем соблазнить одного из них, подождите! — Выпутывая захлестнувшуюся за леску блесну, Сергей Сергеевич шагнул к берегу.
— Сергей Сергеевич, может, не стоит?
— Почему?
— Так ведь дорога не близкая…
Сергей Сергеевич взглянул на него как-то искоса, потом подошел к тайменю, потыкал носком сапога. Таймень даже не ворохнулся.
— Да-а… — растерянно протянул Сергей Сергеевич. — Как же быть, а? Я как-то забыл, знаете, что до дому… э-э… сколько примерно километров?
— От залома двенадцать считаем. Отсюда поменьше.
— Да-а… Вы понимаете, нам же не унести будет. У вас хариусов много?
— С пуд, пожалуй. Почти полная хариусница.
— Черт? Прямо хоть выбрасывай часть рыбы! Главное, я не смогу пожертвовать еще одним днем, чтобы прийти за ней завтра!
— Батя говорит: бросать грех! — усмехнулся Генка.
— В том-то и дело! Увлекся, как мальчишка, потерял чувство меры, стыдно сказать кому-нибудь… — Он опять покосился на Генку. — Отвратительное положение…
Генка понимал, что Сергею Сергеевичу, ратовавшему недавно за добрых хозяев тайги, действительно стыдно. Забыл, сколько километров до дому! Генке, что ли, за него помнить?
— Часть рыбы могу нести я. И спиннинг, — предложила девушка.
— А! — Раздраженно махнув рукой, Сергей Сергеевич уселся рядом с тайменем на гальку и стал закуривать.
— Если разрубить, в рюкзак влезет! — сказал Генка.
— В рюкзаке и без того килограммов двадцать, — пожалуй, уже в сторону преуменьшения посчитал Сергей Сергеевич.
Генка посмотрел на Элю и, расправляя плечи, решил:
— Ништо! Утащу, если вы мою харнусняцу возьмете. Тропа здесь низом поведет, по ключам.
— Ты с ума сошел? — спросила Эля, а Сергей Сергеевич, выбрасывая сигаретку, вздохнул:
— К сожалению, человеческие возможности ограниченны. Сорок килограммов можно перенести на расстояние километра, но десять километров по тайге…
— Утащу!
Конечно, будь вместо рюкзака поняжка, Генка чувствовал бы себя увереннее. Узкие и жесткие ременные лямки врезались в плечи, тонкий брезент рюкзака промок, промочил рубаху, липкий сок присоленной рыбы разъедал спину. Но, взяв этот проклятый рюкзак, Генка уже не мог бросить его, потому что рядом или чуть поотстав, когда тропа суживалась, шла Эля. Потому что она говорила: "Сумасшедший, отдохни!", "Сергей Сергеевич, скажите ему!"
Наконец Генка позволил уговорить себя и, сбросив рюкзак, с трудом распрямил спину.
— Давайте я вас сменю, — предложил Сергей Сергеевич. Освободясь от хариусницы, он сидел, привалясь к пню, громко дыша ртом.
Генка подмигнул Эле и сказал:
— Давайте.
— Я покурю только…
Кивнув, Генка лёг на спину, раскинув руки. В просветах между кронами сосен пробегали розовые ватные облака, но казалось, будто клонятся, готовясь упасть, сосны. Клонятся, клонятся и, не трудясь покачнуться в обратном направлений, снова стоят прямо.
— Гадостью какой-то пахнет где-то рядом, — сказала Эля.
— Гнилью, здесь грязи недалеко, болото, — объяснил Генка и потянул носом воздух. — Нет, вроде пропастиной несет. Наверное, медведь сохатого на грязях устерег. Надо посмотреть, пожалуй.
— Я с тобой, ладно?
— Пойдем, здесь недалеко. — Генка поднялся, вскинул на плечо ружье. — А то не ходи. Ноги-то наломала уже…
— Иди знай! — поправляя сетку, приказала девушка. — Разговаривать еще будет!
Пройдя шагов десять, она спросила:
— А если там медведь?
— Ну да! Будет он нас ждать, куда там!
— Все равно я с тобой не боюсь. Знаешь, какой ты?
— Какой?
— Ты… не знаю!
— Ну вот! — разочарованно протянул Генка.
Они вышли к светлой, затянутой лиловатым мхом мочажине, которую разрезал пополам ручей. Сильнее, чем падалью, пахло серой, но Генка опять повел носом и показал в дальний угол.
— Там вроде. Вон и кукша вылетела.
Мох зыбился под ногами, и Эля уцепилась за спутника. Тот усмехнулся:
— Не робей. По нашим местам трясин нету… Черт, верно ведь, лось!
Между двух сосенок на краю мочажины Эля увидела не лося, как ожидала, а клочья свалявшейся серо-коричневой шерсти, несколько некрупных костей с присохшими к ним размочаленными сухожилиями. То, что походило на лося — голенастые, все еще одетые серой шкурой ноги, соединенные голым позвоночником, и голова зверя, — лежало поодаль. Серая, ссохшаяся шкура на ногах, гладкая, как бы прилизанная, так разнилась от раскиданной кругом шерсти, длинной и грубой, что Эля решила: наверное, длинная шерсть принадлежит медведю, а не лосю.
— Г-гад! — сквозь зубы процедил Генка.
— Что он, линял, да? — спросила Эля.
— Кто?
— Ну, медведь.
— А-а, медведь ни при чем.
— А шерсть? Вот эта, коричневая?
— Сохатый это, — сказал Генка. — Такой зверина пропал зря! Пойдем. Теперь тут… долго нечего делать. Испорчены теперь грязи.
— Слушай, ты переведи на русский язык!
— Ну, понимаешь: не будут сюда звери ходить, пока пропастиной пахнет.
— А зачем им ходить сюда?
— Так ведь грязи же! Вроде как солонцы.
— Насчет солонцов что-то читала. Пойдем.
— Эх! — Качая головой, Генка в последний раз посмотрел на остатки лося.
— Жалко, — равнодушно согласилась Эля и потянула его за рукав. — Пойдем.
Сергея Сергеевича они застали все в той же позе. Вздохнув, он поднялся, подергал рюкзак за лямку, вздохнул еще раз и попросил Генку:
— Вы мне помогите его надеть, пожалуйста…
— Ладно вам, — нелюбезно сказал Генка, махнув рукой. — Хоть хариусницу донесите до места.
Сергей Сергеевич виновато опустил голову.
Заполошный старшина, которому Петр успел-таки объяснить кое-что насчет родителей и квалификации, опоздал оттянуть в "борозду" хвост "матки". Перед шиверой последние плоты вовсе развернуло лагом, и оба красных бакена отправились считать камни. Главное, на обоих только что переменили батареи, а батареи Мыльников давал туго, точно из своего кармана.
— Сука! — сказал Петр про старшину. — Лишь бы проскочить шиверу, а что людям горбатиться потом — наплевать!
Он пришел за Генкой и за Матвеем Федоровичем — устанавливать бакены на месте сбитых "маткой". Вчера Генка заходил к нему поговорить, но Петр пиликал на гармошке, прижимаясь к ней ухом. Это значило, что Петр пьян, и Генка решил, что нужного разговора все равно не получится. Он посмотрел, как Клавка вытирает чистой тряпкой — куда чище, чем рушник возле умывальника — аккордеон. Клавка, приходя к Дьяконовым, уши прожужжала, что вытирает пыль с аккордеона, словно только этим и занималась. Аккордеон стоял на специальной полочке в углу, застеленной вышитой крестиками скатеркой, а над ним висел образ какого-то святого. В святых, конечно, никто не верил, но медный оклад образа, если его потереть золой, блестел не хуже аккордеона. Теперь Клавка не считала нужным тереть святого золой.
Сегодня Петр был совершенно трезв.
— Может, старые бакены поймаем? — спросил его Матвей Федорович.
— Один вроде в прилук понесло. А один вместе с наплавом, в шивере. Черта его добудешь оттуда, из камней!
— Сколь уже бакенов потеряли! — сокрушенно вздохнул Матвей Федорович, подвязывая деревяшку.
— Больше не будем терять, — уверил Петр. — Поставим на входе самоотводящийся. Про который инженер говорил.
— Точно, — обрадованно подхватил Генка. — В "Пособии путевому мастеру" есть про самоотводящиеся. На двух якорях, да? Если сорвет с основного якоря, бакен ко второму на длинном сторожке учален. Сплывет по течению, и все.
Петр кивнул.
— Такой самый. Только якоря и одного хватит. Просто на двух сторожках надо ставить. На коротком и на длинном запасном, метров в полсотни. И чтобы от рабочего бакен отцеплялся, если навалит плот. Тогда запросто его назад притянуть можно.
Подмостив жерди, чтобы легче было сбрасывать тяжелые якоря и наплавы, загрузили лодку. Один якорь и один наплав с прикрепленным к нему бакеном — сверху, на помост. Второй комплект — пока на днище, чтобы лодка не потеряла остойчивости.
— А свет? — спросил Генка.
— Третьим заходом поставим. Давай заводи!
— В шивере не разворачивайся смотри! — предупредил Петр. — Груз высоко лежит, в два счета вывернет.
— Я сам рулить буду. — Матвей Федорович, руками помогая деревянной ноге, перешагнул через наплав, пробрался на корму. Мотор заработал на холостом, Петр шестом отпихнул лодку.
— С богом! — кивнул Матвей Федорович, и Генка включил сцепление.
Спустившись ниже шиверы, развернулись против течения. И сразу шивера кинула на тяжело груженную лодку не только пляшущие дикую пляску валы, но и всю стремительность катящейся навстречу реки.
Матвей Федорович безбоязненно усмехнулся, сплюнув за борт.
— Ништо!
Крикнув сыну, чтобы сбавил маленько обороты, надежно встремив свою деревяшку в щель сланей, не выпуская руля, он поднялся в рост — высматривал ему только ведомое место, где ставить бакен.
Лодка отвернула речнее и, прыгая с вала на вал, взмахивая при каждом прыжке блескучими крыльями брызг, почти потеряла ход.
— Кидай!
Генка с Петром, отвалясь на один борт, приподняли за концы жерди, и опутанная тросом глыба гранита, соскользнув с них, плюхнулась в воду, потянув сбитый из бревен наплав с бакеном. Лодку отшибло в сторону водной, и Матвей Федорович, сверившись с какими-то приметами на берегу и в шивере, сказал:
— Однако правильно угадали. Прибавь газу, Генка!
Позади, удерживаемый каменным якорем, зарывал острый нос в белые гребни наплав. Округлый, набранный из перекрещивающихся досок бакен на нем казался после купанья только что выкрашенным.
— Все! — гордо сказал Петр. — За этот можно не беспокоиться до конца навигации. Если сорвет — пять минут хлопот, и снова на месте.
— Раньше недодумали, — вздохнул Матвей Федорович. — Этому бакену завсегда почти попадает. Не сосчитаешь, сколь уже якорей на дне.
При установке второго бакена якорным тросом захлестнуло одну из жердей, только каким-то чудом не задевшую Петра — конец жерди просвистел мимо уха.
— Сила! — усмехнулся он, поворачивая голову, словно хотел посмотреть, кто это, стоя за его спиной, кидается жердями.
Третьим рейсом надо было установить на бакене освещение. С этой работой могли справиться двое. Матвей Федорович, выдав Генке батареи и фонари, пошел домой.
— Сначала проскочим вниз, до Большого прилука, может, найдем бакен, — предложил Петр. — Попытаем?
Петр предлагал дело. Он даже вроде бы спрашивал: "Попытаем?" Но Генка понимал, что вовсе он не спрашивает его мнения. "Видишь, я даже советуюсь с тобой!" — вот что значила эта фраза.
Не отвечая, Генка согласно мотнул головой. Ему не хотелось разговаривать с Петром о ерунде, не поговорив прежде о главном. Главное же заключалось в том, что Петр не имеет права вот так, сверху вниз, говорить с ним. Генка должен разговаривать с Петром сверху вниз, имеет право на это!
— Ну ты и гад, — сказал он, когда моторка, в третий раз проскочив шиверу, вышла на плесо. — Зря сгноил сохатого.
— Где?
— В Рассохе, на грязях.
— Черт, неужели петлю не снял? В каком месте?
— За ключом, в дальнем конце, если идти от Ухоронги.
— Точно, была там петля. Совсем я про нее забыл. Вот ведь, а?
Генка вздохнул: разговора опять как-то не получалось. Шкурихин забыл петлю, Сергей Сергеевич забыл, что не унести рыбу. Но Петр никого не попрекал за недоброе хозяйствование, а Сергей Сергеевич попрекал, агитировал. А сам? Чем же Сергей Сергеевич лучше Петра Шкурихина?
— Теперь, считай, до весны грязи испорчены. Вот что жалко! — сказал Петр.
— Сохатого жалко, — поправил Генка. — Такого быка перевел без пользы.
— Э-э! — Петр презрительно махнул рукой и сплюнул за борт. — Нашел о чем плакать! На наш век сохатых в тайге хватит. Завались сохатых в тайге. О грязях плакать надо, под боком были…
И тогда Генка понял, почему Сергей Сергеевич лучше Шкурихина. Петр болел только о своем хозяйстве, о себе. Ему Наплевать было на тайгу и реку, если они не под боком, не для него. Плевать ему было на Элю, когда за ней кинулись пьяные ребята с катера, — он боялся только, что потом наедет милиция. И на Генку Дьяконова он плевал бы, не будь Генка всегда под рукой, стоило свистнуть… как мальчишке!..
— Учти, Петро, — сказал он. — Пакостить я тебе не дам. Как хочешь!
— Да ты что? — Шкурихин повертел возле лба растопыренной ладонью. — Нарочно я, что ли? Грязи мне не нужны? Вот дурак! Наоборот, мясо кончилось, зверя имать надо, а теперь ближе Гнилой пади его не возьмешь.
— Ты своего взял.
— Моих еще знаешь сколь бегает?
— Не надо, было этого гноить, — заупрямился Генка, испытывая раздражение от обычного снисходительного тона Петра. — Хватит!
— Ты, что ли, не дашь?
— Я.
— Голым задом сакму к петле загородишь? — беззлобно усмехнулся Петр.
— Нет. В охотинспекцию заявлю.
Шкурихин присвистнул, насторожил взгляд.
— Ну, чего треплешь?
— Не треплю.
— Та-ак! Молодчик! Московские научили? Сучонка эта твоя, поди, посулила что?..
Генка рывком поднялся и, шагая через мотор, вскинул для удара руку. Потерявшая управление лодка накренилась, черпая воду, круто поворачивая направо. Генку мотануло в сторону, он ухватился за борт, чтобы не вывалиться, и поспешно поймал румпель.
— Дур-рак! — процедил Петр сквозь зубы. — Соображать надо, где находишься. По морде от меня схлопотать и на берегу всегда можешь, понял? В прилук правь, бакен искать поехали. За делом!
Стиснув зубы, Генка промолчал.
Дома он, наверное, тоже промолчал бы, не стал бы рассказывать о происшедшем. Но отец, спросив, удалось ли найти бакен, сказал:
— Ладно хоть, что нашли. Ме́не будет лишней работы. Слышь-ко, Петька про мясо поминал, зверя добыть. Ступай-ко и ты с ним, пока вода в Ухоронге большая. На плоте приплавите, вдвоем управиться легче легкого по большой воде.
— Сгноил Петька зверя. На ближних грязях. Я наткнулся, когда с Ухоронги шел.
Мать всплеснула руками, хлопнула ими по тощим бедрам:
— Ой, горе!.. Да как же это он так? А-а? Нетто такую жарынь мясо терпит?
— Он петлю одну не опустил, еще с прошлого раза. Ну и… расплевался я с ним, батя!
— Помиритесь, невелико дело! — успокоила Мария Григорьевна.
Матвей Федорович, по-своему понимая причину ссоры, встал на сторону сына:
— Чем же он, коровья лепешка, думал — петель не опустить? Такие грязи испортил — что день, сохатого можно было имать! Гляделки поковырять мало за это!
Генка невесело усмехнулся: по-батиному, хоть сто сохатых переведи зря, только грязей не порти, чтобы он сто первого мог поймать. А кто кедры в позапрошлом году рубил, да еще жаловался: "Худо безногому, не залезть, топором машешь-машешь из-за полсотни шишек"? Черт с ним, с законом, не в нем дело. Зачем доброе губить зря? Небось и батя и Петька дома у себя ржавый гвоздь приберут к месту, а сдохни корова — сами удавятся.
Он дохлебал щи и, положив ложку, оглядел комнату, вдруг показавшуюся тесной и темной. Ему нечем было заняться в ней, как не о чем было разговаривать с матерью и отцом. Вот у соседей, наверное, светло и весело, идут всякие интересные разговоры. Сергей Сергеевич спорит с Верой Николаевной, а Эля… Чем может заниматься Эля? Интересно бы посмотреть…
— Пойду посмотрю, как вода. Вроде опять прибывает, а у нас метр двадцать вывешено.
У него вошло в обычай придумывать невесть что, когда собирался к "мошкодавам". Мать считала, что нечего ему ходить к ним. Незачем. Люди наезжие, сегодня здесь, завтра нет, какие дружбы да разговоры могут быть с ними? Чужие люди! И, угадывая это, Генка старался не давать матери лишний раз повода для воркотни.
— Сходи, сходи, ждут не дождутся, поди, тебя! Завел дружков! Может, хоть дно от обруча выходишь!.. — разгадала Мария Григорьевна нехитрую ложь сына.
На крыльце он остановился: дверь к соседям была закрыта, еще не вернулись из тайги, где опять проводили какие-то опыты. И Генка, пожевывая сорванную по пути травинку, спустился к реке.
Полосатая рейка возле берега, нулевое деление которой соответствовало метровой глубине фарватера в наиболее мелком месте шиверы, утонула до цифры "20". Комбинацию сигналов на мачте — прямоугольник и большой шар — менять не следовало. Генка оседлал нос до половины вытащенной из воды лодки и стал смотреть на реку. Вода, сталкивая и перемешивая свои струи, словно преодолевая только ей ведомые препятствия, никогда не повторяя рисунок бегучих струй, быстрая и в то же время неторопливая вода текла, как текут мысли. Генке нравилось думать о чем-либо, глядя на воду.
Мысли сталкивались, дробясь на две или несколько, отворачивали в стороны — совсем как вода! И, как вода сквозь пальцы, ускользали, терялись, таяли.
От рейки глубомера — вода не прибывает, уровень установился — мысль перекинулась к рыбе: надо бы заметать самоловы, должна попадать стерлядь. Это было так же закономерно, как после выстрела посмотреть, попала ли в цель нуля. Как бы продолжением этих вытекающих одна из другой мыслей явилась мысль о Петре. Наверное, уже заметал снасти, не проворонил! На этом мысль остановилась, закрутилась воронкой, как вода над камнем.
Глупо, конечно, получилось у него с Петром. Петру, ясное дело, и самому жаль испорченных грязей, да и лося жаль. Это он так, из форса, сказал, что не жалко лося. Разве Генка не знает его характера: столько мяса, можно сказать, из рук выпустить, стравить впустую! Просто обидно стало, что прохлопал, вот он и прикинулся: подумаешь, мол, лось! Так, конечно. Хотя, если бы лось не был мясом, которое могло попасть и не попало к Петру, тогда… Пожалуй, тогда он действительно не жалел бы. Но зато досталось бы от него, например, Генке, случись с Генкой такое дело! Черт, почему люди ругают других за то, что прощают себе? И Петр, и тот же Сергей Сергеевич?
Генка вспомнил о зажатой в зубах травинке, глотнув едкой горечи ее сока. Выплюнув травинку, тыльной стороной ладони отер губы, поморщился: горечь чувствовалась на губах и, как это ни странно, на душе. Вообще все странно и все нелепо. Зачем, например, он угрожал Петру, что заявит в охотинспекцию, если Петр поставит петли на сохатиных тропах? Никогда не заявит, он же не доносчик, не подлец. А вот сказал! Хотел подействовать на Петра страхом, как будто можно его напугать. Черта его напугаешь, Петьку Шкурихина! Не такой мужик, чтобы пугаться! Но и никакой не храбрец, конечно: "Куда ты, их четверо!" Не трус и не храбрец, обыкновенный мужик. Такой, как все, может, похуже других даже. Но доносить на него Генка не ста-нет, какой ни будь сволочью бывший друг Петька Шкурихин.
За спиной у Генки звякнул о камни металл. Обернувшись, он увидел Элю, опускавшую на землю пустое ведро.
— Пришли? — обрадованно спросил он. — Долго сегодня что-то.
— Наоборот, недолго. Михаил Венедиктович закладывал новый опыт, а мы собирали клещей. Не очень-то легко их находить, знаешь!
— Надо было собак взять. Собаки сколько хочешь на себя насобирают.
— Господи! — совсем как Вера Николаевна, вздохнула Эля. — Бедные псы! Правда, дикие животные еще несчастнее, им ведь все время приходится быть в тайге. Прямо не знаю, что бы сделала со всей этой пакостью: с мошкой, с комарами, с клещами!
— Ты же делаешь!
— А… — махнула рукой Эля. — Пока только собираемся, ищем пути. Ну… не делать же противоэнцефалитные прививки лосям и медведям!
Оттого, что Эля стояла рядом, стало веселее. Он попытался представить, как Михаил Венедиктович будет делать укол медведю, и заулыбался.
— Попробуйте!
— А как в тайге хорошо, Ге-енка! — сказала Эля. — Хоть и клещи и мошка, все равно! Знаешь… я как-то внезапно поняла, как хорошо. Тогда, на Ухоронге… нет, не тогда, потом. Тогда я ничего не понимала. Помнишь, сказала, что мне жалко того лося? Мне его потом, дома уже, стало жалко… И… жалко, что пришли домой… Тебе не было жалко?
— Было, — признался Генка.
— А почему?
Генка смущенно промолчал. Конечно, мог бы сказать почему, но ведь Эля и сама знает. Он видел по ее взгляду, что знает.
— Генка, — сказала Эля, — мне кажется…
Не договорив, она протянула руку к лежащему рядом бакену и провела по нему пальцем, словно хотела попробовать, высохла на нем краска или нет.
— Что… кажется? — спросил Генка, почему-то не узнав своего голоса.
Эля еще раз провела по бакену пальцем, но именно в это мгновение сверху, с косогора, ее окликнул Михаил Венедиктович:
— Эля, мы ждем! Вы ушли по воду или за водой?
Девушка, как-то испуганно и вместе облегченно встрепенувшись, подхватила ведро.
— Давай я! — предложил Генка, тоже протягивая руку к ведру.
Но Эля, бросив наверх быстрый взгляд, сказала:
— Я сама! Не надо!
И, зачерпнув воды, расплескивая ее, торопливо пошла по тропинке, не оглянувшись на Генку.
Матвей Федорович дважды уже попрекал сына бездельем: люди ловят стерлядку, а не лежат в холодке на брюхе. На третий раз выматерился и спросил, где самоловы.
— На вышке, — сказал Генка.
Глянув на слуховое окно чердака, тряхнув лестницу, Матвей Федорович сердито засопел.
— Надо тебе, так я достану, — предложил Генка.
— Тебе, значит, не надо?
— Неохота заниматься, батя!
Генка не лежал на брюхе, но к рыбалке охладел, перестал интересоваться. Не потому, что признал зазорным делом, а больше из нежелания поступать как Шкурихин. Может быть, чтобы оправдать неприязнь к Петру, усиливавшуюся тем больше, чем равнодушнее относился тот к разрыву их дружбы. Теперь Генке хотелось не походить на Петра и не подражать ему так же, как прежде хотел этого. Так уж пошло.
После ссоры в лодке, молчаливо согласившись освободить от лишней работы Матвея Федоровича, они дежурили через сутки. Проплыть на моторке по участку, проверить, на месте ли обстановочные знаки, в порядке ли освещение, — с этим в одиночку пустяк справиться. Нетрудно и подключить третью, полуразряженную батарею из запасов старья, если напряжение упало ниже нормы. Вот бакен, конечно, одному поставить трудненько. Но, к счастью, "маток" последние дни почему-то не сплавляли, некому было сшибать бакены.
Промеры фарватера производили еще по старинке, наметкой. Об эхолоте и гидростатической наметке слышали только, что имеются в бригаде, на самоходке. Но и вручную промерять фарватер — дело не ахти сложное: плыви себе вниз с выключенным мотором, только вертикально держи наметку. Впрочем, промерами глубины, как и ширины судового хода, занимались не часто. В каждодневную информацию сведения о ширине и глубине, если уровень воды колебался не очень сильно, включали по памяти. Матвей Федорович мог наизусть назвать точные показатели даже с похмелья. Авральных работ, требующих соединенных усилий всех рабочих поста, покамест не предстояло.
— Работа как у пожарных, — посмеивался довольный Генка.
Его радовало, что можно не встречаться с Петром, не разговаривать. Не о чем, да и незачем. Петр сам по себе, он — тоже. Генка твердо, бесповоротно осудил Петра, и хоть теперь приходилось бы вспоминать, разбираться — за что? — чувство неприязни стало постоянным, привычным.
Пожалуй, он и не старался объяснять свои чувства, не вспоминал, не доискивался, из чего рождались. Неприязнь к Петру, удивленное уважение и симпатия к Михаилу Венедиктовичу, просто симпатия, к Вере Николаевне и Сергею Сергеевичу. Может быть, они складывались в какой-то мере из отношений этих людей друг к другу, их суждений друг о друге, услышанных ненароком.
Что касается Эли, то Генка сказал бы, что никаких чувств не испытывает. Какие могут быть симпатии или антипатии, если это Эля? Смешно рассуждать, какая она, она — Эля, и все! Генка воспринимал Элю как воду, небо и тайгу, без которых немыслим мир. А разве придет в голову задумываться, какие они: река, воздух, кедры на берегу? Такие, какими должны быть, конечно!
Генке все время не хватало Эли, как не хватает в осенний день света, а зимой — тепла. И в то же время она как бы присутствовала всюду, всегда. Проверяла вместе с ним обстановочные знаки, сколачивала новые бакены, смотрела, как тонут в черной реке отражения голубых звезд. Так Генке казалось.
В действительности он уже два дня не видел Элю. Можно было бы зайти вечером в лабораторию, но после встречи на берегу, прерванной Михаилом Венедиктовичем, Генка почему-то стеснялся идти туда. Словно боялся выдать какую-то Элину тайну, поставить в неудобное положение. Почему? Ведь никаких тайн не существовало. Ничего, кроме последней встречи у лодки, когда Эля водила пальцем по бакену и… молчала…
Туман лежал еще очень толстым слоем, и даже с крыльца дома, стоявшего на десятиметровом косогоре, нельзя было глянуть поверх тумана. Генка привстал на цыпочки, как не доросший до края стола мальчишка, старающийся увидеть, что стоит на столе, — не вышло!
— Все одно, что бражная гуща, — сказал за его спиной Матвей Федорович и зевнул. — Ох-хо-хо!.. Однако я думаю, туман вниз пасть должен. Нога вроде ничего, не свербит — значит, наверху погода.
— Закат был добрый вчера, — кивнул Генка. — Да и хватит дождя, ну его! Надоел.
Внизу, в тумане, глухо затарахтел мотор. Матвей Федорович стукотнул по полу деревяшкой, переступая с места на место, и сказал ворчливо, косясь на сына:
— Петька большую лодку берет. На переметы поехал. Гребанет в сем году рыбы Петька, гребане-ет!
Генка поежился то ли от колючих, неспроста брошенных отцовских слов, то ли от утренней сырости. Потом прислушался: сверху, от мыса, донесло длинный свисток — известие о подходе судна к шивере.
— И пошто зря свищет? — пожал, плечами Матвей Федорович. — Рази под шиверой кто услышит? В таком тумане все одно что в воде свистеть.
— Услышат кому надо, — сказал Генка и, избегая продолжения разговора, который отец снова обязательно повернет на рыбу, пошел к лодкам: на берегу, где сложены запасные вехи и бакены, можно выдумать какое-нибудь заделье, на худой конец воду из лодки вычерпать.
Именно за этим делом застала его Эля, пришедшая вымыть бидон из-под молока. Генка не сразу услышал, что пришел кто-то, а потом не сразу узнал девушку.
— Я думал, Клавка, — сказал он виноватым тоном. — Что, ваши сегодня дома?
— Мужчины ушли, а нам с Верой Николаевной поручены наблюдения у реки и хозяйственные работы. Но я собираюсь сбежать по грибы на час или на два. Пока туман. Поднимусь по сопке над туманом, ведь не до неба же он, правда?
— Конечно. И упасть должен.
— А если я все-таки потеряюсь в тумане? Тебе будет все равно, да? Или пойдешь на розыски?
— Пойду, — глупо улыбаясь, сказал Генка.
— Ну? Тогда, может быть, тебе лучше сразу пойти со мной? Чтобы я не потерялась?
— Понимаешь, мой день сегодня. Дежурство. И туман…
— Ну и что? Мы же ненадолго…
— Да я так, — Генка вдруг испугался, что Эля передумает, уйдет одна. — Это чепуха, пойдем.
— Я только домой забегу за корзинкой и нож возьму. Да, бидон еще надо вымыть! — Зачерпнув вместе с водой песка, Эля стала болтать бидоном. Попавшие с песком мелкие камушки заскрежетали о металл.
— Черт, кажется, "матка"! — сказал Генка, напрасно вглядываясь в туман. — Похоже, что "матка". Катер словно бы на одном месте фырчит, верно?
— Что-то слышу. Ну, пошли?
— Пошли… — Генка неохотно отвел взгляд от реки. — Лень якорь бросить, по такому туману прутся.
В тумане глухо прозвучали два продолжительных свистка — "занимаю фарватер".
— Вошли в шиверу, — сказал Генка.
— Пойдем, — потянула его за рукав Эля. — Ты меня подождешь у ручья, слышишь? Я мигом!
За ручьем, где тропка начинала подниматься по склону сопки, Генка остановился и, как показалось сначала, услышал глухое постукивание мотора. Потом понял, что не слышит, а ощущает стук — это сильнее обычного билось сердце.
— Генка, ты где? — негромко позвала из тумана Эля.
Он шагнул на голос и увидел девушку, словно отгороженную матовым стеклом.
— Ну… вот… — неизвестно о чем, сказала она, не переходя ручья. — Пойдем, чего ты?
— Пойдем… — Генка ждал, чтобы она перешла через ручей.
— Ну, иди!
Оглядываясь, начал подниматься по склону. Эля шла следом, приостанавливаясь, если приостанавливался Генка.
Тропинка, довольно пологая сперва, стала набирать крутизну.
— Давай руку! — предложил он.
Девушка усмехнулась и отрицательно покачала головой.
Пожав плечами, он сделал еще несколько шагов. Повернувшись, чтобы увидеть Элю, увидел бело-розовое снежное поле, залитое слепящим солнечным спетом. Заслонив глаза ладонью, крикнул вниз:
— Смотри, как здорово!
Стоя над расстеленным у ног туманом, щурясь от обилия света, они смотрели на дали противоположного берега, еще по-утреннему холодные, не начинавшие лиловеть, на поднимающиеся из белого призрачного моря сосны и слегка дымящиеся скалы. Это был особенный, только им открывшийся мир, потому что прежний, обыденный, населенный людьми, остался где-то внизу, перестал существовать.
— Что ты хотела сказать тогда, у лодки? — спросил Генка.
Девушка молчала.
— Вечером, когда Михаил Венедиктович… Помнишь?
— Не помню, — ответила Эля чуть слышно.
— Врешь, — настаивал Генка. — Помнишь!
Она медленно подняла глаза и, улыбаясь, покачала головой.
— А если я знаю? — взяв за руки, Генка попытался привлечь ее к себе, но в грудь уперлась корзина.
— Отпусти руки! — приказала Эля.
— Не отпущу! — Он повернул ее так, чтобы корзина не мешала, и, увидев близко-близко от своих глаз ее широко раскрытые, немигающие глаза, а губы возле своих губ, не припал к ним, а сначала как-то неловко ткнулся, стараясь вспомнить, как это делается в кино, как следует делать это.
Эля чуть-чуть отклонила голову, и Генка понял, что теперь все получается именно как в кино. Но потом она отклонилась еще больше, так что вместо губ оказалось ее ухо, и уже не приказала, а попросила жалобным шепотом:
— Отпусти…
Генка разжал руки. Девушка качнулась, потеряв опору, на шаг попятилась. Тряхнув головой, чтобы поправить рассыпавшиеся волосы, спросила:
— Знаешь, что я хотела тогда сказать? Что ты мог бы не отпускать меня еще там, на Ухоронге. А ты отпустил! — Она улыбнулась и, дразнясь, показала кончик розового языка. — До чего же ты, в самом деле, медведь, Генка! Просто удивительно, что я, кажется… тебя люблю.
Ускользая от его рук, она отступила за куст можжевельника и, опять показав язык, добавила:
— Наверное, это только кажется! По-ка-за-лось! Лучше пойдем домой, Геночка! А?
Генка переступил с ноги на ногу и, не найдясь, что следует ответить, спросил, потому что увидел ее проклятую корзинку:
— А грибы?
— Следующий раз. Потом. Ладно? — Эля явно потешалась над ним, и Генка показал кулак.
— Дал бы я тебе раза! — пригрозил он, в самом деле чуточку обижаясь.
Эля расхохоталась.
— Ого! Не слишком ли рано показываешь характер?
— Не слишком! — сказал Генка.
Где-то далеко слева, под ватным одеялом тумана, дважды провыла сирена — снизу в шиверу входило судно, заявляя, что занимает узкий фарватер.
— Ладно, пойдем, — вздохнул Генка, вспоминая о своих обязанностях. — Если уж так…
Он все-таки попытался схитрить — поймать девушку, пропуская ее вперед. Но Эля, разгадав маневр, пригрозила пальцем:
— Хорошенького понемножку! Ну-ка, отойди с дороги. Давай, давай! Нечего!..
Она спускалась, придерживаясь за ветки кустов, то и дело оборачиваясь, чтобы лукаво взглянуть на Генку или крикнуть:
— Геночка, ты не заблудился?
Перепрыгнув ручей, остановилась и, прижав на мгновение палец к губам, — тише! — объявила:
— Иди домой берегом! Я тебя знать не знаю, понятно?
— Эля! — начал он было, но не договорил: в тумане, близко совсем, покрывая грохот шиверы, по-волчьи меняя тон, завыла сирена. Смолкла почти сразу же, заголосила чуть дальше. Потом часто-часто зазвонил колокол и, покрывая его глуховатый, без переливов звон, снова сирена.
— Авария! — сказал Генка. — Точно, авария! Плавают, черти, когда нет видимости! Ну вот! Пожалуйста!
Вой сирены, перемежающийся слабеющим звоном колокола, становился все глуше, замирал, гас…
— Генка! — вдруг испугалась Эля. — Может, там люди гибнут? Побежим! — Схватив за руку, девушка потащила его за собой вниз по ручью — к реке.
— Куда? — дернув ее назад, спросил Генка. — Там же скалы, потом шивера. Надо на пост, за лодкой… Да и не увидишь ничего в тумане.
— Все равно бежим! — Словно ожидая сопротивления, Эля потянула его за собой, теперь уже по тропе. — Скорее!
Туман был по-прежнему густ и плотен, тропинка просматривалась впереди на какой-то пяток шагов. На одном из поворотов Эля поскользнулась, корзинка отлетела к кусту смородины.
— Стой! — сказал Генка, настораживаясь, а через минуту успокоенно махнул рукой. — Ладно, не спеши, Петр с батей уже в шивере — слышишь, мотор стучит? Наш, Л-6, я же его знаю по звуку.
Она испуганно прижалась к Генкиному плечу, вглядываясь в туман, прикусив губу, словно боялась закричать.
— Могут погибнуть, да?
— Вряд ли! Катер же, не лодка какая-нибудь, раз сирена и колокол. Могут, конечно, на камнях посидеть, пока не снимут. Это если за фарватер унесет, речнее.
— Пойдем, — выдохнула Эля, поднимая свою корзинку. — Хоть бы туман скорей разошелся, правда?
— Разойдется…
— А что же могло случиться, Гена?
— Всякое. Видимости нет, резанули мимо бакена — и все! Об угластый камень дно прошибить ничего не стоит. А скорей всего на топляк налетели, потому что — слышала? — вниз подались, к плесу. Здесь же шивера, к берегу не приткнешься!
— Думаешь, не утонули?
— Ты же гудки и колокол слышала? Под водой разве позвонишь или посвистишь?
Эля покачала головой.
— Все равно страшно: туман такой, камни, быстрина.
— Сами виноваты. Надо было ход сбавить и лучше смотреть. Бакен от бакена даже в таком тумане разглядеть можно. В шивере они часто стоят… — Он вдруг приостановился, как-то странно взглянул на девушку, стукнул кулаком о кулак. — Вот ежели "матка" тогда проходила, когда мы с тобой еще дома были…
— Так что?
— Ничего, так, — думая о чем-то своем, ответил Генка, заметно прибавив шагу.
На берегу беспокойно переминался с ноги на ногу Матвей Федорович. Истыканный его деревянной ногой влажный песок походил на кусок войлока, из которого вырубали пыжи черт знает какого калибра. Зимняя шапка, впопыхах напяленная вместо фуражки, сторожко поднимала одно ухо — казалось, что Матвей Федорович чутко прислушивается. Но он не прислушивался и даже не услыхал торопливых шагов сына. Увидев его, удивленно заморгал красными веками, заорал:
— Где тебя, собачий ты хвост, таскало? "Матка" даве прошла, я думал, ты следом уплыл, с Петькой вместях. Слыхал, колокол да свистки в шивере были?
— Слыхал, — кивнул Генка. — После моторка тарахтела. Мне подумалось, что это ты с Петькой.
— Сорога ты — тухлый глаз! Подумалось! Петька утресь еще подался на переметы. А в шивере, видать, катер какой-то в тумане за фарватер выскочил. Больше нечего ему кричать, на "матку" налететь не мог сослепу, "матку" когда уж спустили!
Генка машинально шоркал ногой, приглаживая изрытый отцовской деревяшкой песок. Пальцы его не в лад медлительным движениям ноги быстро-быстро шевелилась, словно перебирая невидимую ткань.
— Батя, я ведь обстановку не проверял… После прохода "матки"…
— Знамо дело, не проверял, ежели на реке не был, — фыркнул Матвей Федорович и вдруг, отвалив челюсть, тревожно уставился на сына: — Думаешь?..
— Могло быть, — глухим, словно издалека, голосом ответил Генка.
Туман садился, редел. Ближний бакен уже просматривался в нем, несмотря на то что это был белый бакен, под цвет тумана. Ветер, начав пошевеливать тростинки, вытягивал запутавшиеся в них белые неопрятные лохмотья в ленты.
— Веху, эвон, — Матвей Федорович показал взглядом на окрашенные суриком жерди, — изломать об тебя! Толкай лодку!
Генка качнул выволоченную до половины на берег моторку. Уперся плечом в высоко задранный нос. Зашипев днищем по мокрому песку, лодка неохотно скользнула на воду. Матвей Федорович перекинул через борт сначала здоровую ногу, потом деревяшку и скомандовал:
— Еще пхай!
Теперь нос лодки уперся Генке в живот. Навалившись, он вытолкнул её на глубину и запрыгнул сам. Матвей Федорович орудовал шестом.
— Заводи!
С третьей попытки двигатель заработал. Матвей Федорович, грузно шлепнувшись на кормовую банку, развернул лодку носом к шивере. Туман тем временем из белого стал золотым, серая вода начала голубеть, по ней забегали искры бликов.
Где-то сзади, выше по течению, прозвучала сирена. Немного погодя, закачав на высокой волне, их обогнал пассажирский теплоход "Ласточка" и на полной скорости вошел в шиверу. Закусив губу, Генка провожал его взглядом, но улеглась поднятая теплоходом волна, моторка запрыгала на первых валах шиверы, а сигнал бедствия, услышать который страшился Генка, всё не звучал. Правда, опытный капитан "Ласточки" и с закрытыми глазами, наверное, мог бы водить судно.
Над шиверой, где воздух, как и вода, всегда тек быстрее, туман вовсе был редок. За первой парой бакенов и входными вехами довольно ясно различались два пирамидальных ходовых бакена и свальный, прямоугольный.
— Пока порядок! — повеселел Генка, оборачиваясь к отцу.
Тот кивнул, увалился вправо, чтобы пройти впритирку к красному бакену.
Две пары вешек за поворотом фарватера и оба бакена в наиболее узком месте судового хода, на прижиме к камням, тоже стояли, как им было положено. Ниже по течению фарватер переставал вилять, обычно "матки" срывали именно верхние бакены, и у бакенщиков отлегло от сердца.
Тем не менее Матвей Федорович решил, видимо, проверить обстановку по всей шивере. Они спустились с полкилометра еще, убеждаясь, что ограждающие фарватер сигналы в полном порядке, когда Генка, встав в рост, окликнул отца:
— Батя, гляди!
Он показывал речнее фарватера, в белую кипень шиверы. Там, метрах в трехстах ниже лодки, сквозь редкую кисею тумана виднелось что-то большое, тёмное.
— Паузок! — уверенно сказал Матвей Федорович. — Каким лядом его туда занесло?
— И катера нигде не видать… — удивился сын. — Нам к ним не подойти, а батя?
Матвей Федорович, не выпуская румпеля, тоже встал на ноги. Из-под ладони осмотрел шиверу, берег.
— Ежели вторую гряду обогнуть, можно подскочить снизу… — И, покачав головой, засомневался: — Снизу к ним камни не пустят, однако их же к камням прижало течением. От морока!.. Ладно, попытаем выше гряды пройти… Что будет…
Не садясь, хищно подав вперед тело, он вглядывался в хаотическую пляску пенных валов, о которой у Генки только в глазах рябило. Они спустились по течению намного ниже места аварии, прежде чем отвернуть с фарватера. И теперь, виляя между подводными камнями и грядами камней, угадываемыми Матвеем Федоровичем бог весть по каким приметам, подбирались к паузку. На судне уже увидели лодку, и три человека, стоя на нелепо приподнятом борту судна, кричали что-то, размахивая руками.
Еле-еле двигавшейся при полностью открытой заслонке дросселя моторке удалось все-таки, отвоевывая метр за метром у стремительного течения, обогнуть паузок и оказаться выше его. Матвей Федорович, облегченно вздохнув, подвел лодку к судну, и Генка уцепился багром за кнехт.
— Бакенщики?
— Ну и черти!
— Вот это да-а!..
Трое мужчин, придерживаясь за рубку, перебирались по скользкой накренившейся палубе. Сидевший на камнях паузок, задрав правый борт, купал левый в воде. Шивера облизывала красную надстройку слюнявыми языками пены.
— Что случилось? — спросил Матвей Федорович.
— А черт его знает! Ничего же не видать было. Похоже, буксир оборвался. Нас и понесло.
— Ну, а катер?
— Не знаем. Слышали только, как звонил и свистел.
— Чудно! — покачал головой Матвей Федорович. — Буксир-то выбрали ай нет?
— Выбрали!
— Видать, что порван?
— Да нет вроде…
— Вовсе чудно! Ну, катеру к вам все одно не подступиться теперь. Загорать будете. Паузок, слава богу, надежно сидит. Теперь никак не утонет, этого и не думайте. Тут мелко. Воды-то много в трюме?
— Полно. Мы же как решето теперь.
— А чего везете-то?
— Всякое. Товары для сельпа в основном грузили. Мануфактура. Валенки. Бензину полно, можем вам налить…
— Бензину у нас казенного хватит. Жратва-то у вас есть?
— Пока есть.
— Ну, в случае чего, еще подъедем. Комиссию теперь ждите, следствие устраивать будут.
— Нам что? Пускай у старшины катера голова болит!
— Точно, — вставил свое слово Генка. — Пусть отстаивается на якоре, когда туман, если не может плавать. Не можешь — не берись! Отваливать станем, батя?
Теперь самым сложным было отвалить от паузка, к которому лодку прижимало течением. Вооружившись шестами, матросы кое-как развернули моторку, и Матвей Федорович переключил двигатель на тягу. Концы шестов попадали в воду, с начавшего отдаляться паузка замахали фуражками. Туман рассеялся, ориентироваться стало намного легче, но Генка с завистью поглядывал на отца, дивясь его умению ладить с шиверой.
Когда выбрались на фарватер, Матвей Федорович, сгорбившись и зажав румпель под мышкой, закурил трубку. Затянулся, ткнул трубкой в сторону плеса. Повернув голову, Генка увидел моторку, как и у них, с красной полосой на борту. Крикнул отцу:
— Петро!
Тот кивнул.
— Вниз плавал — катер смотреть. Или переметы у него внизу?
Матвей Федорович опять кивнул и сбавил обороты. Обгоняя их лодку, Петр пытался рассказать что-то, но за шумом воды и двух работающих моторов слов не удалось разобрать. Матвей Федорович снова добавил газу, к берегу обе лодки пришли почти одновременно. Вытаскивая свою, Генка слышал, как Петр объяснял встревоженным Вере Николаевне и Эле, вышедшим встречать бакенщиков:
— Ништо. В тумане выскочили за фарватер, маленько просадили дно да винт поломали. Пришлось бросить паузок, а катер течением в нижний конец плеса унесло.
— Из людей никто не пострадал?
— Чего им сделается!
— Благодарю вас, — сказала Петру Вера Николаевна. — Мы очень беспокоились.
— Куды же он пер, старшина-то? — спросил Матвей Федорович, вылезая из лодки. — Глазами смотреть надо!
— Он говорит: на фарватере налетел на камни, слева-де оставлял красный бакен, — усмехнулся Петр. — Конечно, ему интересней на бакенщиков свалить!
— Обстановка в порядке, не свалишь на бакенщиков, — сказал Матвей Федорович. — Все честь честью. Поперед нас пассажирский спускался, завсегда подтвердить сможет.
— Я видел, — опять усмехнулся Петр. Подождав, пока Эля с Верой Николаевной выберутся на косогор, он поднял слан, и стал поспешно собирать и мешок пойманных стерлядей. Их было много. Чтобы не видеть его насмешливой улыбки, не слышать ворчания отца, который не упустит случая упрекнуть Петровой удачей, Генка пошел домой.
Радиостанции А-7, связывающие обстановочные посты, сделали свое дело: сообщение бригадира Дьяконова об аварии каравана, включенное в сводку, было передано по цепочке. Цепочка начиналась самым верхним по течению реки постом, а кончалась начальником службы обстановки, независимо от того, находился он в кабинете или на борту катера "Гидротехник". К местам происшествии Мыльников выезжал незамедлительно, и, конечно, все сто пятьдесят сил дизеля, установленного на катере, уже давно старались вовсю. Появления "Гидротехника" ждали с минуты на минуту.
Еще вчера на пост примчался на вообразившей себя глиссером самоходке прораб обстановочного участка, но, выслушав рапорт Матвея Федоровича, наглядевшись вдосталь на паузок в бинокль и устав скорбно качать головой, отбыл. Бакенщики, а следовательно, и их непосредственное начальство, не были повинны в аварии. Ожидать же Мыльникова, чтобы только доложить об этом, прораб поопасился: Мыльников мог и отругать, обвинив в зряшном расходе времени.
С Генкой у Мыльникова за семь лет знакомства сложились особые отношения. Начальник реки, как его называли бакенщики, считал парня своим подопечным, выделял из числа остальных рабочих. Генка вырос на глазах у Мыльникова. Мыльников не хотел и дальше терять его из поля зрения. План поступления в речной техникум был согласован с Мыльниковым, подсказан им. И теперь, начав задумываться о своей отторгнутости от бьющей ключом жизни где-то там, откуда пришли и куда уйдут Эля и ее спутники, Генка с нетерпением ожидал Мыльникова.
Вопреки ожиданию, "Гидротехник" не подвалил к берегу, а проскочил полным ходом вверх по течению. На порожденной катером волне, стукаясь бортами, закачались лодки. Схлынув, волна оставила на берегу обломок весла и скатанную трубкой берестину — поплавок от сети. Матвей Федорович, вышедший по долгу старшего встретить начальство, расплющил берестяную трубку деревяшкой и спросил Генку:
— Чего это они, а? Сдурели?
Генка пожал плечами.
"Гидротехник" вернулся часа через три, когда Матвей Федорович передавал сводку, и пристал к берегу чуть ниже поста — там, где начиналась приглубость. Рыжий механик Кондрат Савельев с матросом Колькой спустили трап, но на берег по трапу никто не сошел.
— Здорово, ребята! — сказал Генка. — Виталий Александрович с вами?
— Здорово, Гена! С нами. У рации сидит, сводки слушает.
— Мы думали, вы наверх подались, к нам заходить не будете. В леспромхоз гоняли?
— Нет, на Ухоронгу, к гидрологам. Охотинспектора подбрасывали, лось там где-то в петлю попал.
— Сгнил уже, — небрежно махнул рукой Колька. — Это леспромхозовские наткнулись, а ихний инженер шум поднял. Зря человека погнали, разве узнаешь кто?
— Часом, не ты? — подмигнул Кондрат.
Генка в ответ отрицательно покрутил головой, соглашаясь с матросом:
— Как узнаешь? Тайга…
— Закон — тайга, прокурор — медведь! — засмеялся Кондрат и опять подмигнул. — Стерлядкой-то угостишь? Солененькой?
По тропинке спускался Матвей Федорович, и Генка, не ответив Кондрату, крикнул:
— Начальник принимает сводки, батя!
Неожиданно одна из дверей надстройки, примыкающей к рубке, отворилась, пропуская невысокого мужчину в темно-синем кителе и белой, форменной, как у Генки, фуражке, натуго растянутой каркасом.
— Здравствуйте, Дьяконовы! — сказал он и, выслушав ответное приветствие, показав взглядом, что обращается к Матвею Федоровичу, добавил: — Рассказывайте, что тут у вас!
— Нечего рассказывать, Виталий Александрович! Вроде в порядке все…
— Значит, виноват старшина катера?
— Туман, Виталий Александрович, виноват! Ну и старшина, конечно, погодить мог. Не переться.
— Старшина утверждает, что обстановочные знаки видел ясно, красный бакен на повороте судового хода оставил слева метрах в пяти…
— Язык без костей, товарищ начальник! Однако могли и на топляк наскочить… А супротив топляков как быть? Хоть что ни час плавай с тралом, их же несет и несет сверху. Сколько бревен леспромхоз топит!
— Столкновение с бревном исключено. Характер повреждений винта и днища говорит о столкновении с более основательным чем-то. Видимо, с камнями.
— Все может быть, — согласился Матвей Федорович. — Туман. Вполне мог на свальный бакен полезть, потому знает, что фарватер узкий, а увидал красное, и забрал влево, к камням.
— Старшина опытный.
— А я разве перечу? Туман. Опять же если на нас грешить, потому как "матка" поперед спускалась, так "Ласточку" спросить можно. Мы только к шивере подходили, чтобы углядеть, кто там есть, когда "Ласточка" нас обогнала…
— Ладно, Дьяконов. Идите отдыхайте, — оборвал Мыльников и, провожая бесстрастным взглядом удаляющуюся фигуру, закурил папиросу. Бросив спичку, спросил совсем другим, потеплевшим голосом: — Как живешь, Геннадий? С новым народом повеселей стало? Экспедиция-то еще здесь?
— Здесь… — уронил Генка, впервые спохватываясь, что расставание с Элей, мыслившееся очень далеким, может случиться завтра, и пугаясь, словно Эля уезжает уже сегодня, сейчас.
— Народ интересный, — задумчиво сказал Мыльников. — Тот берег, к которому и тебе подбиваться пора, — люди, которые не так просто живут, лишь бы день до вечера, очередь отвести. Светлый народ!
Генка подумал, что паразитологи — кроме Эли, конечно, — не так уж и светлые, только что необычные, даже чудаковатые маленько. Но это именно тот берег, куда ему совершенно необходимо прибиться. Потому что Эля там свой человек, а он, Генка Дьяконов, вроде чужого, иноязычного, Верно, что человек с другого берега, могущий разве переплыть реку, зайти в гости. И Генка решил выложить Мыльникову свои сомнения:
— Виталий Александрович, я вот о чем думаю… Ну, скажем, речной я закончу, и что? Люди вот ездят везде, послушаешь их другой раз — театры там, лекции разные, всякие открытия, разговоры… А мне опять обстановочный участок, от шиверы до шиверы? Только что один отпуск?
Мыльников, чуть прищурив глаза, долго-долго затягивался табачным дымом, потом так же долго выдыхал дым. Отшвырнув папиросу, с привычной легкостью сбежал по крутому трапу и предложил Генке, как равный равному:
— Давай побродим по берегу? Поговорим…
Он шел немного впереди, Генка не видел, как раздумчиво покусывает Мыльников выбритую до синевы губу и щурит глаза, словно высматривает что-то могущее ответить на трудный вопрос Генки.
— В твои годы это не проблема, Дьяконов! — сказал он наконец. — Лет через пяток лекции, и театры, и разговоры — все это, пожалуй, будет у тебя под боком. От шиверы до шиверы. А вот чтобы ездить везде, так это… Туристы везде ездят, туристскую поездку можно подгадать к отпуску. Те же, кого ты имеешь в виду, ездят не везде, а куда нужно. В своем роде тоже от шиверы до шиверы. И кстати, для них и через сто лет не будет почти на каждой пристани города с театром. Такая у них работа, у топографов, у геологов, у этих вот у ваших гостей — лазать по медвежьим углам. Но дело не в том… Понимаешь, люди выбирают профессию, а не место работы.
— Понимаю, — вздохнув, согласился Генка: на главное, стыдливо запрятанное в шелуху слов о театрах и лекциях, Мыльников не ответил. Но Генка вдруг подумал, что Виталий Александрович, тоже болтающийся и летом и зимой от шиверы до шиверы, конечно, не чувствовал бы себя человеком с другого берега, приходя в лабораторию. Разговаривал бы на одном языке с Михаилом Венедиктовичем и Верой Николаевной. Значит, дело не в месте жительства. Дело в тех ступенях, на которые надо подняться Генке и уже поднимается студентка Эля.
— Профессию я выбрал, вы же знаете! — сказал он и опять вздохнул, вспомнив, что сдал документы в Красноярский речной техникум, а Эля — москвичка. — Только, Виталий Александрович… Может, в Москву мне податься?
— Зачем?
— Ну… там ведь тоже речной есть. И… посмотреть, что за Москва. Я ведь… живого паровоза не видел еще, не только что… Охота же посмотреть Москву! А?
Мыльников помолчал, стараясь, наверное, поставить себя на Генкино место, умом сорокалетнего человека постигнуть желания двадцатилетнего парня. Наконец сказал:
— Вероятно, охота! — И по-мылышковски скупо улыбнулся. — Ну что ж! Можно будет попытаться помочь тебе, ты ведь производственник, со стажем! Попробуем!
Мыльников был знаменит тем, что не давал, пустых обещаний. Но слова благодарности застряли в Генкином горле, как столкнувшиеся в дверях люди, мешающие друг другу. Видимо помяв это, Мыльников неожиданно перевел разговор.
— Начнется заполнение водохранилища — будем выправлять и углублять на шивере фарватер. Каждую навигацию одна-две аварии, черт знает что! Вверху — на порогах — и то меньше. Сколько теперь денег ухлопают на спасательные работы — груз с паузком, наверное, того не стоят! Ну, я на катер…
— Уже уходите? — с сожалением спросил Генка.
— Нет, будем ждать охотинспектора. Высадили его на гидрологическом посту, а выйти сюда должен. Тропа есть, что ли?
— Есть тропа. Только она, не на пост, а к Ухоронге…
— Вот-вот. На Ухоронге, километрах в двенадцати от устья, лося кто-то в петлю поймал. Надеюсь, не ты?
— Не я.
Генка покосился на дом Шкурихина и усмехнулся, вспомнив, что Петр, охотно встречающий и свое и чужое начальство, всегда избегал Мыльникова. Не крутился у него на глазах, не лез с рассуждениями о преимуществах сухих батарей над аккумуляторами, не зазывал на уху.
Проводив начальника до трапа, Генка забегал по сторонам глазами — поделиться бы с кем-нибудь радостью, покамест та не начала остывать, не улеглась. И ноги сами собой понесли его по правому разветвлению поднимающейся на косогор тропки, к домику, занятому биологами. Не к своему дому.
Встретила Вера Николаевна — все остальные с утра в тайге, а на нее возложили речной участок и хозяйственные заботы: прямо-таки забавная манера быть внимательными к женщине, как будто ей семьдесят лет и она передвигается с палочкой!
— Кстати, кто это там приехал, Геннадий?
— Наш начальник. Обещает послать меня учиться в Москву, Вера Николаевна!
— Правда? Так это же чудесно, Геннадий! Все наши будут в восторге. Конечно, вам совершенно необходимо переменить обстановку! Если бы вы знали, как я за вас рада!..
Генке казалось, что Вера Николаевна затанцует, захлопает в ладоши, и он обиделся за никчемные, не выражающие его собственных чувств слова. Помявшись в дверях и спросив ради приличия, нужна ли какая-нибудь помощь, он ушел, очень недовольный собой. Зря разоткровенничался: Вера Николаевна расскажет все Эле, теперь не удастся удивить, огорошить девушку радостной новостью…
— Меня Мыльников в Москву посылает учиться, — сообщил он дома, уже без расчетов на восторги и рукоплескания.
Мать посмотрела испуганными глазами:
— Нешто в Красноярск нельзя? В этакую-то даль, ос-споди!.. Ты бы начальника попросил ладом, что ли?
— Ладом и просил, — усмехнулся Генка материнской простоте, тому, что считала сына обиженным.
Матвей Федорович недовольно покачал головой.
— Вовсе оторвешься от дому. Ноне и то за постояльца живешь, вроде не отцу с матерью зимовать тут, а чужому кому. У людей рыбы уже полно, дров, насчет мяса смекают.
— Дрова, батя, и у нас есть. В леспромхозе "Дружбу" попрошу на день — живо на швырок порежу.
— Дрова жрать не станешь…
Генка вздохнул. Не веря в свои слова, пообещал очень неопределенно:
— Сделаем что-нибудь, обожди…
И подумал, что, не будь здесь Петра, порыбачил бы напоследок, не для себя тем более. Но теперь, осудив Петра, он не имел права рыбачить самоловами. Да и не хотелось ими рыбачить, как не хочется пачкать руки. Конечно, грязь не пристанет, отмоется, а все же…
— Начальство уедет — возьму у Сергея Сергеевича спиннинг, пойду на Ухоронгу за тайменем. Бочку или две утащу в заломы. От заломов приплавлю потом, когда воды прибавится.
— Ай красной рыбы в большой-то реке не стало?
— Ну ее! — решительно сказал Генка и на мгновение примолк, выдумывая оправдание. — Поймает рыбнадзор, характеристику такую дадут, что и в техникум не попадешь, не примут. Не стану из-за бочки рыбы ломать жизнь, как хочешь!.. Проживете!
На этот раз отец не стал возражать, посчитав Генкины объяснения уважительными. Занялся трубкой, вдруг начавшей тоненько посвистывать в зубах. Зато Мария Григорьевна, сдвинув на край стола посуду, вытирая передником клеенку, пожаловалась:
— Век жили — не боялись! До чего людей довели — рыбы изловить не моги! Ос-споди!..
— Давай неси уху знай! — прикрикнул Матвей Федорович.
Вчера отец с матерью, демонстрируя обиду на нерадивого сына, сделали три тони. Возле дома, за травами. Поймали ведра два окуней да щук, но порвали в двух местах новый поплавень.
— Задевы, леший их знает, откуда появились. Не было вроде…
— Были, — сказал Генка. — Ты, батя, давно не плавал. У вторых трав речней забирать надо.
Отец посмотрел недобро, завесив глаза бровями, — мол, яйца курицу учить вздумали? — отхлебнул ухи и, швырнув ложку на стол, спросил:
— Соли, поди, в доме не стало?
И Генка решил, что, как только уйдет "Гидротехник", батя погонит в леспромхоз за спиртом. Можно было не сомневаться в этом.
Но пока что "Гидротехник" стоял у берега, и Генка, пообедав, отправился поболтать с командой. Прежний капитан катера недавно перешел на рейсовый теплоход, и капитаном стал штурман Мишка Власов, сохранив за собой и штурманские обязанности. Он был лет на пяток старше Генки, но звание обязывало вести себя степенно и беспорочно. Поэтому капитан, сидя на "щуке" запасного бакена, с чистой совестью распекал механика Кондрата Савельева, которому подходило к сорока. Кондрат отвечал вполголоса, опасливо поглядывая на катер. Поодаль, на остывающих уже камнях, лежал Петр Шкурихин, покуривая толстую "беломорину", которой его угостили, и от безделья сосредоточенно наблюдал за кольцами голубого дыма.
— Старый черт, если я расскажу твоей бабе? — спрашивал капитан Кондрата. — Ну, Кольке простительно, он же холостой. А ты? С кем ты связался? У тебя же дети, у рыжего черта!
— Ладно, Михаил! Хватит тебе, в самом деле, — уговаривал его механик, явно боявшийся не капитана, а Мыльникова: вдруг услышит?
— Опять Кондрат заложил лишку? — щелкнул себя по горлу Генка.
— Сволочь он, — сказал капитан. — Понимаешь, взяли на борт двух шалав, вот таких, ей-богу, — уничтожая Кондрата, он показал метр от земли. — До Стрелки. Расплакались, что с пассажирским не уехать, нет денег. Ну, они с Колькой в кубрике их и приголубили. Тьфу!
— А откуда девки? — заинтересованно спросил Петр.
— Да знаешь, из городов пакость навезли всякую — тунеядцев. Добрые разве позволят!
— Ладно, — примирительно махнул рукой Кондрат. — Брось! Сам понимаю, что пакость. По-глупому вышло.
— Пора ум наживать, — строго сказал капитан. — Не пачкаться.
— В леспромхоз четверых прислали, — вспомнил Генка. — Ребят. Тоже тунеядцы. Целый день магнитофон заводят. Деньги из дому получают, один — Гарри его зовут — сказал: "За моими предками пропасть невозможно!" Не ребята, а сопли в узких штанах. Потешные! Их там "глистами" дразнят.
— Им бы на сплотку — рамы набивать! — подмигнул Петр и захохотал, точно предложил что-то очень веселое.
— Сказал тоже! Там людей надо, чтобы не подкачали! Не девок в портках!
На палубе катера появилась худощавая женщина — повариха. Прошлепав босыми ногами на бак, спросила:
— Ужинать-то сегодня станете?
Шум запрыгавших по тропинке камушков заставил всех оглянуться.
С косогора, скользя на разъезженных подошвах бродней, спускался незнакомый Генке высокий парень, придерживая перекинутую за спину малокалиберку. С половины тропы его разнесло, оставшуюся часть спуска ом вынужден был пробежать бегом и, чтобы остановиться, ухватился за рукав Кондрата.
— Черт! — выругался он, улыбаясь. — Подошвы до того накатались — ни с горы, ни в гору! Ругаете, наверное, меня, что долго?
Он спрашивал капитана, и Генка понял: охотинспектор.
О том же говорил и разлохмаченный конец металлического троса, высовывающийся из его рюкзака, придавленного к спине малокалиберной. Конечно, это была петля.
— Наше дело телячье, — сказал Кондрат, — хоть год стоять будем, если…
— Точно, что зря сходил? — перебил капитан.
Инспектор снял винтовку и, направив ствол в сторону реки, вытащил обойму, а потом выщелкнул патрон из казенника. Патрон упал на песок возле ноги Петра, тот поднял его и протянул владельцу.
— Не зря, — сказал инспектор, тщательно обтерев патрон о ватник и вставляя в обойму. — Нашел лося.
— Не лося — пропастину, поди? — усмехнулся Петр. — Ее чего не найти. На ней не написано, кто петлю ставил.
Петр продолжал улыбаться, но сузившиеся, настороженные глаза его смотрели мимо инспектора — на Генку.
— На пропастине не написано, — согласился инспектор. — На петле вроде как бы написано — отожженный трехпрядный трос…
— Брось, парень! — сказал Петр. — Такого троса у каждого бакенщика — завались. И на самоходках.
Сторожки для бакенов, якорницы для вех думаешь из чего делаются?
— Трос тросу рознь, милый! — в тон Петру усмехнулся инспектор. — Этот вон, — он дернул плечом, пошевелив рюкзак, отчего колкий конец петли пружинисто закачался, — признали хозяева. Это из леспромхоза трос.
— А-а, — разинутым ртом, показывая стальные зубы, сказал Петр и опять насмешливо заулыбался. — Тогда, конечно…
— Да ты не смейся! Дело в том, что весь трос этой марки — на барабане какой-то лебедки. В прошлом году трос оборвался, единственный раз. И этот обрывок отдали бакенщику Худоногову, который теперь работает на гидрологическом посту.
Генка ожидал продолжения, не сразу поняв, что инспектор замкнул цепь доказательств. Петр Шкурихин понял это куда раньше.
— Слушай, — сказал он инспектору, — он же не, сторожил этот трос, Костя Худоногов. Его кто попало брал. Бакены им к якорям вязали. — Петр покосился на Генку и, уже только пытаясь усмехнуться, добавил: — Наверное, и у нас… у меня валяется где-нибудь…
— Может, и валяется, — кивнул инспектор. — Трос еще не улика, конечно. На чердаке у Худоногова — у вас говорят: "на вышке", да? — я нашел еще две петли из этого троса. Завязанные точно так же, как эта. — Он опять дернул плечами, и снова размочаленный конец троса весело повилял за его спиной.
— Все одно доказать надо, — буркнул Петр, ломая спичку. Прикурив от следующей, посмотрел исподлобья, как будто это его уличал инспектор. — Петли все вяжут одинаково…
— Суд разберется, товарищ! — словно одобряя Петра, инспектор вскинул голову, тряхнул светлыми волосами, выбившимися из-под козырька.
— Ну и что… будет за это? — хмуро спросил его Генка.
— Пятьсот рублей штрафа в лучшем случае.
Генка в упор посмотрел на Петра. Тот отвел глаза, буркнув:
— Это еще посмотрят. Не торопись, — и пошел прочь.
Инспектор вытащил папиросы. Угостив Кондрата и капитана, удивленно спросив Генку: "Не куришь?", — сказал:
— Тут такое дело, ребята… Надо бы еще раз в устье Ухоронги попасть, на водомерный пост. Акт составить…
— Это уж как начальник, — развел руками капитан. — С ним надо говорить.
— Наше дело — идти куда скажут! — присоединился Кондрат. — Скажут на Ухоронгу — пойдем на Ухоронгу. Нам что?..
— Не будь начальника на борту, без всякого разговора подбросили бы, — уверил капитан.
Инспектор перекинул на плечо винтовку.
— Ясно. Начальник на катере? Можно туда — поговорить с ним?
— Валяй, — мотнул головой капитан, и все трое двинулись к катеру. Возле трапа инспектор сделал несколько поспешных затяжек, захлебываясь дымом. И, только отшвырнув окурок, поставил ногу на нижнюю поперечину.
Генка остался один.
Посмотрев вслед Петру, уже поднявшемуся на косогор, он сплюнул зло и брезгливо. Мысли о поступке Шкурихина еще не стали четкими. Было чувство. Такое, словно босой ногой ступил на коровью лепешку. Но душу нельзя обтереть о траву, как перепачканную ногу.
Конечно, за Костей Худоноговым тоже числились грехи. Как и за Генкой, как за большинством бакенщиков, чьи посты не на глазах у поселков. Кажется, пару старых петель в Сохатиной разложине Худоногов действительно заменил своими, именно из того троса, который выпросил в леспромхозе. Но, добыв сохатого, опустил все петли. После их поднимал Петр. И не опустил одну, оставил настороженной, забыл о ней. Теперь за оплошность Петра будет отвечать Костя Худоногов, фактически непричастный. А Петр, зная об этом, помалкивает, хотя называл Худоногова другом и связчиком, как и Генку, пил с ним водку.
— Ну, гад! — сказал Генка, еще раз сплевывая в ту сторону, куда ушел Петр.
Костя Худоногов заплатит пять сотен, а Петька Шкурихин станет материть инспектора за несправедливость, говорить, что на земле нет правды, но никому и никогда не скажет, что виноват он. И Генка никому не скажет, не может сказать, потому что нельзя выдавать человека, подло выдавать. Хотя этот человек поступает еще подлее. Но это не дает права Генке Дьяконову тоже стать подлецом, доносчиком!
Вверху на косогоре показался Матвей Федорович. Подымив трубкой, позвал:
— Генка!
— Чего?
— Сюды иди, коли отец кличет!
Про себя чертыхнувшись, Генка пошел наверх. Остановился, увидев перед собой отцовы ноги — обутую в стоптанный катанок и деревянную, тоже стоптанную на один бок.
— Ну что?
— Не слыхал, уйдут сегодня ай нет? — Матвей Федорович трубкой показал на "Гидротехник", но Генка только представил этот его жест.
— Не слыхал, — сказал он, чтобы отвязаться, но почему-то пожалел отца, видя, как деревянная нога ткнулась несколько раз в землю, словно проверяя ее незыблемость. — В общем, уйдут, наверное. Инспектор на Костю Худоногова акт составлять хочет. За сохатого, что Петька сгноил. — Он вскинул голову и увидел отца, как видел до этого деревья, снизу вверх.
— Костя на Петра доказал? — не понял отец.
— Нет. Петлю леспромхозовские признали, Костя у них трос брал.
— Ну так что?
— Ну и влепят теперь Косте.
— Влепят, поди, — подумав, равнодушно согласился Матвей Федорович. — Ни за что, а влепят! Петька — этот нипочем не сознается, кремень на такие дела!
Теперь в тоне отца Генка услыхал почти восхищение и, желая закончить разговор, спросил:
— Ну, все?
— Погодь!.. Мне вроде неловко бросать пост при начальстве, а они седин либо уплывут, либо нет. Сплавай до магазина, мать деньги даст…
У Генки не было никакого желания гонять в леспромхоз за спиртом, и он беззастенчиво соврал:
— Не выйдет. Виталий Александрович сказал, чтобы не отлучаться. Книжку какую-то хотел показать, про скалоуборочные работы на фарватере.
— А, будь ты неладна! — Валенок Матвея Федоровича повернулся к Генке обшитым кожей задником, потом, скрипнув, подалась вперед деревяшка — отец пошел к дому. Поднявшись выше по тропинке, Генка дождался, пока он скроется за углом. Судя по мужским голосам, услышанным краем уха во время разговора с отцом, теперь все паразитологи были в сборе. Поколебавшись, Генка решил заглянуть к ним еще раз.
В темных сенях, где находился умывальник, его приветствовал Сергей Сергеевич, мыча что-то и потрясая зубной щеткой. Свободной рукой он распахнул дверь и, вытолкнув Генку на середину комнаты, хлопая его по плечу, замычал с удвоенной силой. Давясь смехом, молитвенно складывая руки, дорогу ему заступила Вера Николаевна.
— Умывайтесь идите! Слышите? Михаил Венедиктович, скажите ему…
Михаил Венедиктович повернул к дверям свой профиль, с густо намыленной щекой, но, увидев Генку, положил бритву и встал. Вторая его щека, розовая и гладкая, смешно улыбалась половинкой рта.
— Геннадий, мне сообщили замечательную новость! Я вас поздравляю!
— Будем с вами щук в Московском море ловить! На мыша! — крикнул выдворенный-таки в сени Сергей Сергеевич.
— Нет, это всерьез здорово! — Михаил Венедиктович ловко поймал в ладонь клок мыльной пены, сорвавшейся с небритой щеки. — Новое окружение, иные взгляды на вещи! Кстати, ведь вы не курите? Пока не устроитесь с общежитием, сможете остановиться у меня. Милости просим! Долг, как говорят, платежом красен!
Сказав спасибо, Генка ждал Элиных слов. И Эля, озорно поглядывая одним глазом из-за вечно мешающего смотреть локона, сказала:
— Только его и не хватало в Москве! Очень он там нужен кому-то!..
— Эля! — возмущенно, стеклянным голосом воскликнула Вера Николаевна. — Как вам не стыдно!
Но Эля смотрела только на Генку, она не слышала окрика Веры Николаевны. И Генка его не слышал. Вера Николаевна посмотрела сначала на одного, потом на другого, и выражение лица ее стало меняться.
Сначала в горящих гневом глазах погас недобрый огонь, отразилась растерянность, веселыми искорками засветилось лукавство. Еле заметные морщинки побежали от уголков глаз. Сурово поджатые губы обмякли, начали было улыбаться, но вдруг почему-то притворились — только притворились — строгими.
— Эля… — сказала Вера Николаевна. — Эля, наверное, Михаилу Венедиктовичу понадобится для умывания вода. И всем нам для чая. Может быть, вы сходите с Геной? С обоими ведрами?
— Конечно, сходим! — откровенно обрадовался Генка, а Эля бросила на Веру Николаевну быстрый испытующий взгляд и, что-то поняв, не скрывая, что поняла, чуть потупилась.
— Господи, оказывается, в сорок лет можно быть совершенной дурой! — с улыбкой сказала Вера Николаевна удивленному Михаилу Венедиктовичу, когда Генка с Элей, погромыхивая ведрами, вышли. — Почему вы на меня так смотрите?
— Не понимаю, что вы хотели сказать!
— Я хотела сказать, что, если Сергей Сергеевич вылил из умывальника всю воду, вы не скоро умоетесь.
Михаил Венедиктович недоумевающе поморгал, потом спросил очень серьезно:
— Вы думаете? — Опять поморгал — возможно, в глаза попало каким-то образом мыло. И так же серьезно добавил: — А знаете, это вполне вероятно… Да, да!
А Генка с Элей, стоя на берегу, провожали взглядами отплывающий катер. Пятясь, он вылез за белый бакен и, в пену сбивая под кормой воду, развернулся носом против течения.
— На Ухоронгу все же пошли, — покачав головой, сказал Генка и, забывая обо всем, попытался взять девушку за руку. Конечно, этого ему не позволили. Эля, бросив через плечо испуганный взгляд наверх, на дома, спросила капризным тоном:
— Больше ты ничего не выдумал? Может быть, еще поцеловаться захочешь?
— Захочу, — сказал Генка.
— Тогда надо совсем под окна идти. Вдруг здесь все-таки не увидят?
— Наплевать, — махнул рукой Генка. — Ты… в Москве… Ну, может, мне не ехать туда?
— Дело твое! — Эля дернула плечиком и отвернулась, обиженно надув губы.
— Нет, верно… Ты со мной в Москве… будешь дружить?..
— Если ты хоть немножко поумнеешь…
— Эля!
— Какой ты у меня дурак, господи! Нашел время и место для таких разговоров! И так уж Вера Николаевна догадалась, по-моему, а ты…
— Что я?
— Не можешь подождать до вечера?
— Вечером ты опять не выйдешь.
— Так ведь неудобно же!.. Знаешь, ты пригласи нас с Верой Николаевной в кино, как тот раз. Или на лодке кататься. Вот увидишь, она откажется!
— Не откажется!
— Откажется, я тебе говорю! Она ведь нарочно сейчас… про воду! Ну, до чего же ты непонятливый, горе мое!
— Сама ты горе! — вздохнул Генка. — Ладно, я скажу, что кино.
— Смотри только сам, чтобы жена твоего любимого друга Шкурихина не вздумала ехать!
— Сегодня не вздумает! — сказал Генка. — Сегодня и кино-то не показывают…
— Показывают кинофильмы, а не кино. Ясно?
— Ясно. А Шкурихин вовсе не друг мне. Гад он.
— Дошло наконец?
— Еще какой гад! Сохатого — помнишь? — сгноил в петле, теперь на Костю Худоногова дело заводят. Судить будут, наверное.
— Так твоему Шкурихину и надо!
— Не Шкурихина, Худоногова судить будут!
— А того за что?
— Да я же тебе говорю: за сохатого, что Петро сгноил. Ну, на Ухоронге. Он же в Петькину петлю попал и сгнил, тот сохатый.
— Здравствуйте пожалуйста! Значит, именно Шкурихина будут судить!
— Нет, в чем и дело! Петька напакостил, а отвечать Косте придется. Так получилось.
— Не понимаю! — сказала Эля. — Объясни толком!
— Понимаешь, трос на самом деле Костя отжигал, И петлю он делал. А про то, что насторожил ее Петро, никто не знает.
— Как это никто? — удивилась Эля.
— Ну, никто.
— Так ведь ты знаешь!
— Я же не стану доносить, сама понимаешь. На подлости не способен!
— Подожди… Значит, за преступление Шкурихина будут судить невиновного человека? Да? И ты… ты спокойно говоришь об этом? Значит, это подлость, по-твоему, сказать правду? Генка, если только ты… — Не договорив, девушка неожиданно рванула его за рукав и потащила за собой на косогор, забыв о ведрах. — Ну-ка, идем! Идем к нашим!
Она не выпускала рукава его телогрейки, словно боясь, что Генка вырвется и убежит. А ему было неловко грубо выдернуть рукав из ее пальчиков и совестно идти за ней, как бычку на веревочке. И было смешно, что все-таки идет, упираясь полегоньку, — именно как бычок на веревочке.
— Идем, идем! — угрожающе приговаривала Эля, энергичнее дергая при этом рукав. — Ид-дем!
Так — упирающимся бычком — и привела его в лабораторию.
— Вот! — гневно взглядывая через плечо, объявила она. — Полюбуйтесь! Невинного человека будут судить за убийство лося, а он собирается скрыть настоящего виновника. Он, — Эля, тряхнув рассыпающимися волосами, бросила на Генку совершенно испепеляющий взгляд, — он, видите ли, считает подлостью и доносом сказать, что человека обвиняют напрасно!
— Да нет, — осмелился потянуть свой рукав из Элиных пальцев Генка. — Не про то, что напрасно. Про то, кто петлю оставил. Вроде как бы предательство тогда получится…
— Так… — сказал Михаил Венедиктович. Он перевернулся на стуле, обнял скрещенными руками спинку, упираясь в нее подбородком. — Любопытно. Насколько я понимаю, Эля, наш молодой друг знает истинного виновника преступления, за которое должен отвечать невиновный, и почему-то не хочет восстановить истину?
— Ну да!
— Очень любопытно! Вы, наверное, рассчитываете, Гена, что виновный сознается сам, увидев, к какой несправедливости ведет его… э-э… — откинув руку, Михаил Венедиктович пошевелил растопыренными пальцами, словно откуда-то приманивал нужное ему слово, — запирательство?
— Черта с два он сознается!
— Следовательно, за его проступок накажут другого? Так или не так?
— Вообще так, конечно! — неохотно согласился Генка.
— Тогда, знаете, я вас отказываюсь понимать! — Ученый вскочил, отодвигая стул, ножки стула с грохотом запрыгали по выпирающим половицам. — Да вы, в конце концов, кто? Вы человек, я вас спрашиваю? Или… или черт знает что? Есть у вас стыд и совесть?
— Есть, не беспокойтесь! — начиная злиться, сказал Генка, с трудом подавляя желание ответить более резко: будут на него кричать, да еще при Эле, как на мальчишку! Кричать и он может, похлестче даже!
Михаил Венедиктович отошел к окну, забарабанил пальцами в начинающее темнеть стекло. Вера Николаевна делала вид, что не интересуется происходящим. Эля, прислонясь к столу и загораживая собой лампу, как будто нарочно прятала от света лицо, исподтишка посматривая на Генку.
— Пора становиться мужчиной, Геннадий! — заговорил из своего угла Сергей Сергеевич, закуривая сигаретку. — С такими вещами не играют в индейцев. Донос, предательство! Надо различать, когда эти вещи становятся своими противоположностями.
Михаил Венедиктович, неожиданно оборвав свою барабанную дробь громким аккордом, медленными шагами приблизился к Генке, положил ему на плечо руку. Для того чтобы смотреть прямо в Генкины глаза, ему пришлось откинуть назад голову.
— Не обижайтесь! Но есть вещи, о которых невозможно говорить спокойно. Одна из таких вещей — равнодушие к несправедливости. Именно подлое равнодушие к подлости. Подумайте об этом, Геннадий. Ладно?
— Ладно, — дернув углом рта, все еще продолжая ершиться, сказал Генка, вспоминая, что Михаил Венедиктович в который раз уже заканчивает разговоры одними и теми же словами: предлагает подумать. Точно Генка без этого не думает ни о чем.
Вера Николаевна, облегченно вздохнув, прошла через комнату к столу — прибавить огня в лампе. В комнате сразу стало светлее, но лицо Эли потемнело еще больше. Теперь заслоняющая лампу фигурка девушки походила на силуэт, обведенный по контуру светящейся золотой краской.
— Генка, — сказала Эля, — в наказание ты должен принести нам воду. Заодно проветришь свою умную голову…
— Эля! — многозначительно произнесла Вера Николаевна, но девушка рассмеялась весело и беспечно.
— Вера Николаевна, он же знает, что маленьких обижать нельзя. Даже если они царапаются, надо терпеть. Ты вытерпишь, Генка, правда?
Он улыбнулся, как ни старался не делать этого.
— Вытерплю.
Генка принес воду, наплескав ее по дороге за голенища. Ставя в сенях ведра, не решаясь войти в комнату, выругал про себя Элю: выдумала же заводить этот дурацкий разговор! Теперь как-то неловко предлагать поездку в леспромхозовский клуб, в кино. И нет никакой возможности, никакого предлога, чтобы вызвать Элю. Совершенно нечего придумать. А просто так Эле нельзя выйти, совестно: сразу все догадаются, потому что некуда и незачем выходить вечером. Голову только ломать да глаза об ветки выкалывать — вечером выходить, в темень.
— Это ты, Генка? — спросила за дверью Эля.
— Я, воду принес…
Дверь отворилась. Девушка, придерживаясь за косяк, выглянула в сени.
— Геночка, будь хорошим! Мы поужинаем сейчас, а потом ты меня на лодочке покатаешь? Совсем недолго, чуть-чуть? Сколько сможешь?
Генка просто-напросто растерялся от такой беззастенчивости. Опешил, Почувствовал, как приливает к лицу кровь от стыда за Элю.
— Покатаешь?
Вот дура! Она откровенно ластилась, да еще бесстыдно подчеркивала это голосом.
— П-покатаю, — с трудом произнес он.
— Видишь, какое ты золото! Тогда я через часок приду к лодке, можно?
— М-можно, — сказал Генка и, страдая за Элю, о настойчивости которой невесть что могут подумать, спасая ее от продолжения позорного разговора, поскорее выскочил на улицу. Фу, черт! Попробуй понять этих девчонок: то не подойти к ней близко, а то… Конечно, зазорного ничего нет, но непривычно как-то, неловко! И потом, если бы хоть он уговаривал, парию это простительно. Так нет же, она! Словно не знает, что без всяких уговоров… Ну, Эля!
Генка не увидел ее спускающейся по тропе, хотя с нетерпением вглядывался во тьму. Но тьма сказала Элиным голосом "ой!", с глухим шумом прокатился камень, звонко стукнулся о другой камень внизу. Потом раз или два скрипнула под легкими шагами галька.
— Ждешь?
Она зашелестела возле него брезентом плаща, а он, сердясь на нее, потому что мучился, все еще переживая ненужное, глупое давешнее унижение ее, ответил хмуро, колюче:
— Жду. Ты что, не могла мне сказать тихонько про лодку?
Тьма взмахнула крыльями Элиного плаща, крылья толкнули воздух, и Генка почувствовал Элины руки, сомкнувшиеся на его шее, и Элины губы — на своих губах. Тепло губ и прохладу зубов, на миг увиденных перед тем и показавшихся при слабом свете звезд голубыми.
— Ты дурень, — почти не отстраняясь, прошептала Эля. — Ну совсем, совсем дурень! И за что только я тебя люблю? Понимаешь, это же наши поручили мне поговорить с тобой, убедить. С глазу на глаз. Потому что товарищеские советы доходчивее наставлений старших. Ну вот… я и выполняла их поручение. Тсс!
Ее губы не позволили ему ничего сказать. Потом Эля неожиданно проскользнула под руками, оставив вместо себя плащ.
— Ты знаешь, что Вера Николаевна предложила заняться твоим воспитанием. По-моему, она догадывается. Ну и… решила помочь. Но мужчины ничегошеньки не заметили! Наверное, вы все одинаковые дурни?
— Ага! — охотно согласился Генка и попытался поймать Элю, но поймал тьму. Девушка тихонечко рассмеялась в этой же тьме, но чуть дальше.
— Не хами! Прямо не знаю, как буду тебя перевоспитывать.
— Я тебя сам перевоспитаю, — пытаясь поддержать мужское достоинство, сказал Генка.
— Горе ты мое! — нарочито вздохнула Эля. — Лучше отдай плащ. Холодно что-то…
Он отдал плащ, и Эля, запахиваясь в казавшийся совершенно черным брезент, опять вздохнула, на этот раз очень естественно.
— На Ухоронге ты был догадливее…
Генка не сразу сообразил, к чему это сказано, а когда сообразил и шагнул к девушке, она тенью скользнула в сторону, снова тихонечко рассмеялась:
— Есть такая заповедь: не зевай!
Теперь вздохнул он, беспомощно переступив с ноги на ногу. В этот момент из-за черных скал, сливающихся с чернотой неба, выдвинулся рог еще очень молодой луны. Сразу стало светлее.
— Ну вот, не хватает только соловья и беседки с розами, — сказала. Эля и, подхватив рукой плащ, влезла в моторку, до половины вытащенную на берег.
— Зачем тебе беседка? — удивился Генка.
Эля ответила полюбившейся поговоркой:
— Горе ты мое! Иди уж сюда, что ли…
Опершись рукой о борт, он запрыгнул в лодку, а так как лодка основательно качнулась, ухватился за девушку. Оба, потеряв равновесие, опустились на среднюю банку, и Генка притянул Элю к себе.
— Горе мое, я не хочу беседки. Я хочу, чтобы ты переносил меня через Ухоронгу…
Она откинула голову. На этот раз Генка оказался догадливым. Он видел возле своего глаза полузакрытый глаз Эли с плавающим в нем голубым лунным светом и чувствовал, как согреваются ее губы, остывшие на вечернем холоде. Потом Эля, глубоко-глубоко вздохнув, оттолкнула Генку и, тряхнув головой, так что тяжелые, влажные от поднимающегося тумана волосы задели его щеку, сказала:
— Хватит. Мы с тобой сошли с ума. Может кто-нибудь выйти на берег и увидеть.
— Ну и пусть!
— Знаешь, я думала: чтобы полюбить человека, надо… ну… всякое такое… Разговоры, и взгляды на жизнь, и чтобы какое-то родство душ. А получилось вот так… Ты. И я. И еще знаешь кто?
Генка помотал головой.
— Еще Ухоронга. Помнишь?
Помню, — сказал Генка, хотя ничего особенного вспомнить не мог. Ну Ухоронга, ну таймени, ну Эля дурачилась — падала с камня ему на руки, обманку еще оборвали из-за этого. Да, еще на пропащего зверя в Рассохе наткнулись. Ну и все вроде.
— Смотри, как красиво — три живых огонька. Белый, красный и зеленый. А выше — звездочка. Тоже как огонек, да?
— Катер идет сверху. Один, без состава, — сказал Генка. — Может, наш "Гидротехник". Они инспектора на устье Ухоронги повезли, акт на Худоногова писать… За того сохатого…
Он вспомнил сохатого, потому что только-только думал о нем, об Ухоронге и потерянной обманке. Эля вспомнила о другом:
— Генка, я понимаю, что у вас тут особые обычаи. Мораль пещерных людей. Но ведь нельзя Допускать, в самом деле, чтобы из-за, подлеца и труса Шкурихина страдал другой. Представь, я что-нибудь натворю, а тебя за это в тюрьму посадят.
— Черт с ним! Отсижу, — сказал Генка.
— Нет, ты не валяй дурака! Ведь если бы на месте Шкурихина был ты, ты же не поступил бы так? Ведь это просто позорно — прятаться за чужой спиной! Позорно и подло! Человека, способного на такое, я раздавила бы, как слизняка! Как мразь! И ты… ты понимаешь, что твое молчание будет именно предательством?
— Ты наговоришь… — неуверенно пробормотал Генка.
— Значит, серьезно не понимаешь? Ведь не можешь же ты бояться этого Шкурихина?
— Никого я не боюсь, — сказал Генка.
— Это я испугалась, что ты боишься, — помолчав, уронила Эля, в самом деле испуганно взглянув на Генку.
Он следил за огнями приближающегося катера и думал. О том, что дело не в страхе. Черт знает, в чем дело! Но как это вдруг пойти и сказать: "Сохатого сгноил не Худоногов, а Шкурихин"? Просто язык не повернется. Легче было бы сказать: "Не Худоногов, а я, Геннадий Дьяконов". Про себя — это не донос, а вот про другого… Даже про подлеца Петьку…
— Генка! — Эля тронула его за плечо. — Ты обязан объяснить инспектору. Я не хочу, чтобы ты поступал подло, понимаешь? Не хочу!..
Огни катера придвигались, но отражения их в черной воде не зыбились, не дрожали: катер был все еще далеко и, кажется, собирался пройти мимо.
— Может, что и не "Гидротехник". Да и "Гидротехнику" незачем приставать.
— Ты можешь перехватить его на моторке. Ведь инспектор там?
Генка пожал плечами, ничего не решая, увиливая от решения. Теперь уже по шуму двигателя можно было определить, что катер однотипен с "Гидротехником". Отражения ожили, заиграли. Но треугольник огней над отражением не начинал плющиться — судно держало курс к берегу.
— "Гидротехник". Вроде собираются пристать…
Генка покосился на примолкшую Элю, хотел спросить, ради чего она переживает из-за неизвестного ей Кости Худоногова, тоже довольно порядочного гада, но вовремя вспомнил слова Михаила Венедиктовича о равнодушии и несправедливости. Конечно, Эля не может равнодушно относиться к несправедливости. И все остальные "мошкодавы" тоже. И Генка Дьяконов не может, не имеет права! Но инспектору он не скажет, что виноват Петр Шкурихин, Он скажет в присутствии Петра: "Пусть виноватый не прячется за чужую спину и сознается сам. Иначе скажу я, Геннадий Дьяконов, потому что должна быть справедливость".
Катер, раздвигая штевнем воду, подвалил к берегу. Плюхнулся в воду якорь, затарахтела по клюзу день.
— Эй, на "Гидротехнике"! — крикнул Генка. — Вы чего?
— Получили радиограмму — встретиться здесь с речнадзором, — ответил, судя по хриплому голосу, механик.
— Завтра, — сказал Генка Эле, — завтра все сделаем.
Эля покачала головой.
— Нет. Сегодня. Чтобы мне не было за тебя стыдно целую ночь.
Пожалуй, больше всего не хотелось оставлять Элю, Девушка угадала это.
— Иди. Я подожду.
Тогда Генка сложил рупором ладони:
— Кондрат! Инспектор у вас на борту или высадили?
— У нас.
Генка поймал Элину руку и, уже делая первый шаг к катеру, не выпускал ее, глядя не на катер, а через плечо, назад. Потом тонкие пальчики девушки выскользнули из его пальцев.
— Подожду, — почему-то шепотом повторила девушка. Ее рука продолжала искать его руку. — Слышишь?
Волглый от тумана вымпел на кормовом флагштоке катера обвисал бессильными складками. Но Генка прекрасно знал: развернет его ветер, и на красном поле в верхнем углу белого треугольника окажутся четыре буквы — "СССР", а правее — два красных перекрещенных якоря. Вымпел судоходной инспекции. Речной надзор.
Катер пришел либо ночью, либо очень рано утром, Генка не видел когда. Проспал.
Теперь оба судна — "Гидротехник" и катер инспекции — стояли рядом. Кранец из половины автомобильной покрышки не позволял им обдирать друг о друга краску с бортов. "Гидротехник" был выше и длиннее, больше походил на военное судно, и Генка с чувством превосходства посмотрел на его соседа. Из рубки речнадзоровского катера вышел Мыльников и, ухватившись за ограждающий палубу "Гидротехника" леер, перелез с палубы на палубу.
— Дьяконов, ты? — окликнул он Генку, не сразу узнавая в тумане. — Скажешь отцу, чтобы зашел ко мне.
— Есть! — по-флотски ответил Генка и, отпихнув с дороги обиженно взвизгнувшую шкурихинскую Ветку, подвернувшуюся под ноги, отправился выполнять приказание.
Когда Матвей Федорович приковылял к катеру, Мыльников, с сомнением посмотрев на круто опущенный трап, спросил:
— Не влезешь?
— Навряд. — Бакенщик пошевелил протезом, словно собираясь просверлить песок.
— А к ним? — кивком Мыльников показал на второй катер, трап которого лежал довольно полого.
— К ним вздымусь.
— Ну, давай туда. Акт подписать надо.
— Помочь? — спросил Генка отца.
— Ништо. На низкий-то борт не так скатно.
По обшитой железом палубе деревяшка прогрохотала так оглушительно, что кто-то из команды даже выглянул через люк форпика — узнать, в чем дело. Мыльников снова перебрался через леер, и оба — он и Матвей Федорович — скрылись в рубке чужого катера. Генка от нечего делать подозвал Ветку, продолжавшую крутиться на берегу, и, повалив на бок, стал чесать изъеденное мошкой брюхо, искупая нечаянный давешний пинок. Мокрая шерсть на брюхе у Ветки свалялась, от нее густо несло псиной, а вороватый глаз смотрел благодарно и доверчиво.
— Будет, — сказал Генка, убрав руку, но собака, махнув всеми четырьмя лапами, перевалилась на другой бок и, разметая песок, завиляла хвостом.
В рубке катера о чем-то громко разговаривали, но слов разобрать не удавалось, да Генка и не прислушивался. Он думал, удобно пли неудобно зайти к "мошкодавам", чтобы увидеть Элю. В том, что он придет к Эле, ничего неудобного теперь не было. Отныне он имел право на это. Только вот не слишком ли еще рано? Утро только начинается.
Поколебавшись, решил, что пойдет: "мошкодавы" уже поднялись, наверное. Удержало любопытство: какие новости принесет отец с катера? Следует дождаться его, а потом идти к "мошкодавам". Увидит Элю на десять минут позже, ну и что из того? Эля никуда не денется теперь. Никуда и никогда не денется Эля, нет такой силы, чтобы могла разъединить их! После вчерашнего!
— Ну, чего там? — спросил он, когда Матвеи Федорович, благополучно преодолев трап, стал набивать трубку.
— Как следовает быть. Воткнут старшине за милую душу.
— И правильно сделают, — одобрил Генка. — Следующий раз смотреть станет как положено. В два глаза!
— Я же и говорю, — косясь на Мыльникова, снова полезшего на свой катер, громко забасил Матвей Федорович. — Мог бы на якоре отстояться, ежели в себе не уверенный. А на бакенщиков легче всего валить, быдто снесло бакен. Ему снесло, а "Ласточке" не снесло? Несмотря что осадка куда поболе. Вишь, что надзор выдумал: мол, коли катер потерял ход против свального бакена, паузок ниже быдто бы унесло. А выше свального быдто нельзя ошибиться, потому красный бакен один только.
— Верхний красный мог и совсем не увидеть старшина, — сказал Генка. — Просто прошел тот, что в самом колене, и забрал левее.
— Наше счастье, что "Ласточка" акурат в самый момент подскочила…
— Дьяконов! — позвал с катера Мыльников.
Сын и отец повернули головы.
— Между входным и вторым верхними бакенами сегодня же установите еще один красный. И веху. Фотоавтомат лишний у вас есть, батареи возьмите на самоходке.
— А ежели она не придет седни?
— Когда придет, тогда и возьмете. Пока установите бакен без света.
— Может, пока батареи из работанных подберем, Виталий Александрович? Я посмотрю, — сказал Генка и с деловым видом заспешил наверх, к дому. Он не собирался именно теперь подбирать батареи, только воспользовался предлогом для ухода. Обогнув дом, направился к паразитологам. К Эле.
На крыльце лаборатории Сергей Сергеевич делал зарядку. Синий тренировочный костюм подчеркивал его костлявую худобу. Генка, усмехаясь, подумал, что ученый похож на сухую надломленную лесину, раскачиваемую ветром. Недоставало только, чтобы он и скрипел при этом, как скрипит сломанное дерево.
— Доброе утро! — сказал Генка. — Эля встала уже?
Вместо Сергея Сергеевича ответила Вера Николаевна, вышедшая выплеснуть воду из умывального таза:
— Доброе утро, Гена! Сегодня Элю пушкой не добудишься. Впрочем, попытайтесь. Возможно, вам это и удастся. — Голосом, движением глаз и улыбкой она подчеркнула, что у Генки имеются какие-то особые возможности разбудить заспавшуюся девушку. А Генка принял это как должное и естественно, без тени смущения.
— Сама встанет.
Он был уверен, что Эля проснется, услыхав его голос, во сне узнав о его приходе, как, наверное, узнает птица о времени отлета и таянии снегов там, куда собирается улетать. Как узнал бы он сам о приходе Эли.
Сергей Сергеевич, перестав переламываться в пояснице, спросил его совершенно некстати:
— Гена, вы не объясните мне, почему в Ухоронге хариус предпочитает именно красную искусственную мушку? Я почти не встречал здесь насекомых такого цвета…
Генка пожал плечами: совершенно не хотелось думать — почему. Не занимало это сейчас. Вот почему Сергей Сергеевич и Вера Николаевна не спросят, сообщил ли он инспектору, кто погубил лося? А если Эля успела уже рассказать, что сообщил, почему равнодушны к этому сегодня, тогда как вчера чуть не с кулаками на него лезли?
— Сергей Сергеевич, я ведь сказал инспектору… Про Шкурихина. Честное слово!
Ученый, занимавшийся теперь приседанием, застыл на корточках с раскинутыми в стороны руками.
— Так я же ни минуты не сомневался, Гена, что вы это сделаете!
Генке показалось, что Сергей Сергеевич оправдывается, как будто его обвиняли в чем-то. Вот чудак!
— Конечно, никто не сомневался, — подхватила и Вера Николаевна. — Проста не поняли сначала, что вы оригинальничали.
— Я не оригинальничал.
— Ну… говорили несерьезно. Во всяком случае, позже мы все решили, что вы поступите как должно. Как поступил бы любой.
Генка отвернулся и дернул углом рта: товарищи "мошкодавы" считают его разговор с инспектором самым обычным? Вроде разговора Сергея Сергеевича про хариусов и насекомых? Любой!.. Значит, так поступили бы отец или тот же Костя Худоногов? Черта с два!.. Но почему он не подумает, как поступил бы Мыльников? Или Михаил, капитан "Гидротехника"?
Он поступил нормально. По-человечески. Потому что и бате, и Косте Худоногову, и Петьке до всех остальных дела нет. Станет разве Шкурихин заботиться о ком-нибудь постороннем, как Мыльников? Или, как капитан Мишка, ругать Кондрата за тех девок? Нет, конечно. Скажет: моя хата с краю! И верно, его хата с краю. И у бати с Костей — тоже с краю. Забрались подальше от людей, как волки. А он, Генка Дьяконов, собирается с людьми жить. И поступать должен, как все люди, как вот эти москвичи, и Мыльников, и вообще как любой. По-справедливому, а не по-волчьи.
— Знаете, — сказал он в полутьму сеней, где Вера Николаевна стояла около горячего керогаза, — я верно не оригинальничал. Я не допер…
— Гена! Что за выражение?
— В общем, не разобрался. Конечно, любой должен сказать, если такое дело. Если хочет, чтобы справедливость была.
— И еще страшно быть равнодушным человеком! Страшно и постыдно! — сказал Сергей Сергеевич и пошел мимо Генки в дом. А Генка подумал, что ученый нашел более правильное слово для определения собственных Генкиных мыслей. Потом он услышал Элин голос за дверью, и все до единой мысли выскочили из головы. Дверь распахнулась.
— Генка? — обрадованно удивилась девушка и смешалась, увидев Веру Николаевну. Самую капельку смешалась, потому что следом, моргая жмурящимися после сна глазами, сказала просто, без наигрыша: — Мы с тобой сумасшедшие. Я, например, совсем не выспалась.
— Лягте пораньше сегодня, — посоветовала Вера Николаевна.
Эля взглянула на нее сияющими глазами, движением головы показав на Генку:
— Так он и даст! Но до чего же хорошо на реке ночью! Вера Николаевна, милая! Словно в сказочном царстве!
— Конечно, — согласилась та и почему-то вздохнула. — Умывайтесь. Эля, уже время завтракать.
— Сейчас! — Девушка улыбнулась Генке и вдруг закричала с притворным гневом: — Ну-ка, убирайся отсюда, не мешай!
— Ладно, — сказал он, — уберусь. Вечером приду, ага?
— Очень ты нужен здесь!
— Нужен! — дерзко заявил Генка.
— Ты уверен? Тогда приходи через час, так и быть. Кажется, сегодня мы дома. Правда, Вера Николаевна?
— По-видимому! Михаил Венедиктович решил отказаться от таежных участков. По ним накоплен достаточный материал.
Долгим оказался этот час. Генка успел позавтракать. Отобрать три батареи для нового бакена, перепробовав добрый десяток. Пособить отцу в установке фонаря и автомата-выключателя на бакене, погрузить бакен и "щуку" — плотик бакена — в лодку.
— Петьку-то где черт носит? — сердито спросил у сына Матвей Федорович.
— Кондрат его на катер позвал.
— Пошто? Не знаешь?
Генка пожал плечами: не хотелось заводить с отцом неприятный разговор.
— Придет Петька — сплаваете, поставите бакен, — пытаясь подражать Мыльникову, приказал Матвей Федорович. — Между первым и вторым. На половине, Половину смогете угадать? Хитрости нету — посередке поставить.
Отец направился домой. Генка дождался, покамест он свернет за угол, к крыльцу, чтобы тоже уйти — к Эле. Бакен не обязательно сию же минуту ставить, день долог!
Он уже поднимался на косогор, когда над второй тропкой — от домика, занятого москвичами, — показалась Эля. Генка не стал спускаться вниз до того места, где сходились обе тропинки, а начал махать прямиком, норовя ставить подошвы сапог ребром, чтобы не скользили по крутому склону.
— Ты не занят? — спросила Эля.
Ом покачал головой: нет.
— Тогда знаешь что? Давай пойдем!
— Куда?
— Ой, да разве не все равно? Вот, прямо по берегу. К тому мысу, — она покосилась на катера, мимо которых следовало пройти, и, тряхнув волосами, перевела взгляд на Генку.
— Что еще за катер? Тоже ваш?
— Речной надзор. Расследовали, отчего получилась авария.
— Нашли причину? — без интереса спросила Эля.
— Причина ясная — рулевой плохо смотрел. Старшине катера крепенько дадут прикурить, пожалуй. Ну, а нам добавочный бакен поставить Мыльников приказал.
Эля, полуобернувшись, бросила еще один взгляд на катер — прощальный.
Сразу же за ключом, как только густо разросшийся на его берегах тальник скрыл их от любопытных глаз, если таковые и следили за ними, Эля, замедлив шаги, прижалась к Генкиному плечу. Уверенная, что он не даст оступиться, запрокинула голову, глядя в небо, и чуть-чуть отвернулась, уклоняясь от его губ.
— Потом, ладно? Слушай лучше, как поет река.
Генка покорно притворился слушающим, а Эля, помолчав, бросила на него быстрый взгляд и рассмеялась.
— Знаешь, я столько хотела сказать тебе, — ужас! Ну, всякого, про нас обоих. А теперь не знаю, о чем говорить!.. Понимаешь?
— Понимаю, — сказал Генка, в самом деле понимая состояние девушки. Он тоже собирался очень многое сказать и не находил нужных слов. А если бы нашел, их все равно не хватило бы: куцыми и фальшивыми становятся иногда самые расчудесные слова.
Прижимаясь друг к другу, чувствуя тепло друг друга и радуясь этому теплу, оба не видели дороги под ногами, не замечали камней и колдобин на ней. Они шли, теплом своих тел, и заботой бережных рук, и молчанием, говорящим о бесконечно многом — как музыка, рассказывая друг другу все то, что намеревались рассказать. Пожалуй, слова даже мешали бы!
Шли почти возле самой воды, не устающей перекатывать на новые места отмытые добела песчинки. На отмели, переходящей в довольно крутой скат берега, щетинился дикий лук, все еще не желающий отцветать. Его шарообразные сиреневые цветы, неяркие и некрасивые, казались наколотыми на острые лезвия стеблей. Бабочки-поденки, тоже некрасивые, тоже неяркие, изредка опускались на них и тотчас взлетали, часто, испуганно махая крыльями. Склон берега был вовсе голый, растрескавшийся, изрытый черными норами ласточкиных гнезд. А на реке, среди неопрятных, похожих на плесень или накипь, скользких трав, по заблудившимся бревнам расхаживали вороны, охотящиеся за дохлой рыбой. И тем не менее Эля сказала, блестя глазами:
— Посмотри, до чего же здесь хорошо! Правда?
— Здесь плохо. Дальше, где скалы начинаются, там — да!
— Не ври, везде хорошо! Ой, Генка! Какая там рыба плеснула! Ты видел?
Генка видел только одну Элю.
— Вон там, за травой… Наверное, таймень, да?
— Чего ему здесь делать, у берега? Щука.
— Тогда огромная! — восторженно согласилась Эля.
Там, куда показала девушка, метрах в трех от берега, снова колыхнулась вода. И еще раз.
— Видел теперь?
— Видел. Ну-ка пойдем.
Они не пошли, а побежали, взявшись за руки. У воды Генка остановился первым и, удержав Элю, рывком притянул к себе. Показал на следы резиновых сапог на песке.
— Петька Шкурихин. Осетра поймал.
— Где? — удивилась Эля, отыскивая глазами лодку и рыбака.
— Так это же осетр бултыхался. Петька его на кукан посадил. Чтобы живой был.
— Давай отпустим?
— Ну его, — отмахнулся Генка. — Айда к скалам!
Оба сразу же забыли о пойманном осетре, о Шкурихине. Главным и единственно интересным в мире были они сами. Смешно, странно было бы думать или говорить о чем-то другом, далеком и незначительном. Думали и говорили о себе, вспоминая Ухоронгу, начало любви, смеясь над тогдашней своей робостью, мешавшей сказать друг другу то, что так легко, просто и радостно выговаривалось теперь. Признавались в смешных взаимных обидах, совсем недавно казавшихся горькими. И чуть не забыли, что пора возвращаться, что у обоих есть дела, обязанности. Очень не хотелось возвращаться, но Эля набралась решимости.
— Хорошенькое дело — ушла на полчасика! Ничего себе полчасика! И все ты виноват! До чего же ты вредный, Генка! Тебе не стыдно?
Нет, он не собирался стыдиться. На душе было удивительно безмятежно, чисто и солнечно, словно весной в молодом березняке, где одетые клейкой листвой деревца не застят света, а травы, еще не начинавшие лохматиться, кажутся умытыми и причесанными по-праздничному.
Скалы остались у них за спиной, когда впереди, на голой отмели бечевника, показался идущий навстречу человек. Генка поморщился.
— Петька — видать, за осетром.
— Подождем, пока он уйдет? — спросила Эля, понимая, что Генке неприятна встреча.
— Зачем?
Конечно, встреча была неприятной. Конечно, лучше бы не встречаться с Петькой теперь. Но уклоняться от встречи он не желает. И знает, что следует сказать в ответ на Петькины обвинения!
Но Петька не стал обвинять. Насмешливо ухмыльнувшись, скользнул цыганскими глазами по фигуре Эли, подмигнул Генке. Как-то особенно подмигнул, словно это относилось не к тому, что застал Генку вдвоем с девушкой. И усмешка, пожалуй, была особенной, но невеселой.
— Такие дела, связчик. — Шкурихин помотал головой, швырнул на песок принесенный топор и достал папиросы. — Уезжаю от вас. Амба. Сейчас в леспромхоз поплыву, корову у меня там торговали. В общем, базарю все лишнее. Выгнал меня Мыльников: дознались, суки, что сохатый в мою петлю попал. Плевать! Подамся на Ману.
Генка догадался, что инспектор не рассказал Петру, как узналась правда. Покосился на брошенный Петром топор — принес, чтобы осетра зарубить, живого не повезешь продавать! — и, щуря глаза, подбираясь в случае чего ответить на удар ударом, сказал:
— Про петлю — это я. Из-за справедливости.
И опять Шкурихин повел себя вовсе не так, как ожидалось. Не ударил, даже не выматерился.
— Черт с вами со всеми. Надоело уже здесь.
Генка растерялся от неожиданности. Готовился если не к драке, так к ругани и оскорблениям, и вдруг…
— А в общем ты молодец, конечно! — сказал Петр. — Я тебя, подлюгу, из тюрьмы за уши вытянул, а ты… Ладно! Я, брат, не пропаду нигде. Шкурихин с людьми жить может…
— Что зверей бил тоже, так я не отпираюсь. Даже не думаю отпираться. За это в тюрьму не посадят, можешь хоть сейчас инспектору рассказать.
— А катер с паузком? — щурясь, спросил Петр.
— Что катер с паузком?
— Ничего, — ухмыльнулся Петр и, раскатав голенища сапог, поднял топор, шагнул в воду. Не оборачива-ясь, через плечо бросил. — За это, брат, по головке не погладят. Это тебе не сохатый. Не пять сотен штрафа.
— Ты меня не заводи, — обозлился Генка. — Знаешь ведь, что я ни при чем.
Тогда Шкурихин повернулся, громко пробурлив в воде сапогом.
— А кто должен был за "маткою" обстановку проверять? И закрывать фарватер, покуль бакена нет на месте?
— Следом за "маткой" я в шиверу не плавал, это верно. А фарватер закрывать ни к чему было. Бакены правильно стояли, ни одного "матка" не утащила. Мы с батей к паузку плавали, и "Ласточка" вниз пробежала.
— Когда? После того как Петр Шкурихин верхний бакен назад притянул. Вот вы когда плавали…
— Врешь! — сжимая кулаки и чувствуя, что сердце тоже сжимается, крикнул Генка.
Шкурихин сплюнул в его сторону изжеванным окурком, презрительно повернул спину. Нашарив топорищем кукан, потащил к берегу показавшую спину громадную рыбину. Намотавшаяся на кукан трава соскользнула к узкому рылу осетра, вытянулась длинными, разлохмаченными усами. Когда могучая рыба, до половины вытащенная на плоский берег, была убита, Генка спросил с робкой надеждой:
— Врешь ведь?
— Иди… знаешь куда?
— Врешь! Как собака брешешь! — с вызовом отчаяния закричал Генка, пытаясь вывести Петра из себя: пусть проговорится в горячке, что врет, мстит за свое увольнение, за пятьсот рублей штрафа. Пускай взъерепенится, шарахнет матом и выдумает что-нибудь другое, оскорбит.
Шкурихин даже не обернулся.
— Ладно, пусть брешет! Пойдем, Эля! — позвал Генка девушку, растерянно смотревшую на Петра.
С полкилометра они прошли, не обмолвившись ни одним словом. Потом Генка оглянулся и выругался:
— Гад!
— Врет, конечно! — сказала Эля, но Генка ей не поверил. Потому что ее глаза спрашивали: врет или не врет? Потому что ее руки, беспокойно перебиравшие распахнутый ворот блузки, спрашивали о том же. Спрашивали у него, у Генки.
— Врет, — незнакомым, глухим голосом ответил он на вопрос ее рук и глаз. И стал вспоминать, что и как происходило в то утро.
Уходящая в туман "матка". Слепящая глаза снежная равнина, похоронившая под собой голубой и зеленый мир воды и тайги. Элины губы. И тревожные свистки терпящего бедствие судна внизу, где глухо ворчит невидимая в тумане шивера. Они с Элей бегут к посту. Потом останавливаются. "Слышишь, — говорит он, — отец с Петькой уже в шивере. Нашу моторку я узнаю по звуку…"
— Чепуха все это, Эля! Петька, точно, был в шивере, на переметы плавал. Ну и знает, ясное дело, что я не проверял обстановку после того, как "матка" прошла. Теперь пользуется случаем. Стал бы он утащенный бакен на место ставить, куда там!
— Конечно, — сказала Эля. — Разве бы он стал?
— Наоборот бы — это он мог. Чтобы подвести меня под монастырь. Верно?
— Конечно, — согласилась Эля.
— Думал дурачка найти, попугать.
— Конечно, попугать думал, — сказала Эля. — Ведь комиссия же установила, кто виноват.
— Установила…
Генка вздохнул и, поймав зубами нижнюю губу, сжал челюсти. Что она установила, комиссия? Ничего она не установила! Насчет того, что катер винт обломал выше свального бакена, так это как раз никем не установлено. Просто предположение. А потом почему катер не мог действительно соскочить с фарватера в самом начале шиверы? Вовсе не заметил верхнего бакена и взял влево. Бакен от бакена все же далековато, не зря Мыльников еще один ставить велит…
Он увидел себя в рубке катера, у штурвала. Прошли колено, остался за кормой бакен на повороте, и свальный бакен за ним… Черт! Он, Генка, стал бы уваливаться направо, к белому бакену, даже не видя его. Чтобы свальным течением не отшибло в шиверу расчаленный на длинном буксире паузок. Но ведь если бы катер налетел на камни за белым бакеном, паузок действительно вынесло бы на плесо.
— Вообще-то, — сказал он Эле, — старшина мог и хвативши стать к штурвалу. Выпить они все любят. Вроде тех завербованных, помнишь?
— Конечно!
Генка покосился на девушку — затвердила одно и то же: "конечно" да "конечно". Не понимает ничего, а говорит. На выходе из шиверы никакой самый пьяный рулевой не станет забирать влево, в самые буруны, если даже красного бакена нет на месте. Например, если верхний бакен уволокло "маткой"…
Он испуганно посмотрел на Элю — вдруг она угадала следующую его мысль? Вдруг ей подумалось то же самое: что верхний бакен — самоотводящийся и "матка" не смогла его уволочь за собой? Могла только сорвать с главного сторожка, а свальным течением бакен откинуло бы на длину страхового троса в шиверу? На тридцать метров левее фарватера. И если бы рулевой держал на бакен, то…
— "Ласточка" же прошла после аварии, и — ничего… — начал было он и опять с тревогой взглянул на девушку. Но та не сказала своего "конечно". И Генка понял: не сказала, потому что Петр Шкурихин утверждал, будто именно верхний красный бакен, именно самоотводящийся, который чаще всего задевают "матки", и именно перед проходом "Ласточки" он затащил на место! Эля не забыла этого. И он, Генка, тоже не забыл, но хотел забыть…
Сзади заскрипела под тяжелыми шагами галька. Петр Шкурихин, согнувшись почти под прямым углом, тащил на спине обернутого мешковиной осетра. Тонкий длинноперый хвост, рыбы бил его по ногам.
— Петро, ты… — нерешительно окликнул Генка, прибавляя шаг, чтобы не отстать от Шкурихина. — Ты прости, слышишь? Я же не знал, что ты… выручил меня… А, Петро?
— Плевал я — тебя выручать, — презрительно бросил Петр. — Не люблю лишних разговоров с начальством. Понял? И ты лучше заткнись.
— Простишь?
— Иди ты…
И Генка послушно стал отставать, словно не Петр, а он тащил на спине тяжесть.
Молчание Эли он принял как осуждение. Даже когда девушка, поравнявшись, взяла его за руку и, жалобно, боязливо взглянув, опустила глаза.
— Понимаешь, — сказал он, — как получилось? Человек меня выручил, а я… Понимаешь?
Эля молчала.
Значит, не понимает? Но тогда не умеет или не хочет понять? Не хочет, наверное, потому что — Петр! Браконьер! Подлец, пытавшийся вместо себя подвести под штраф Костю Худоногова! Но ведь это он, он же выручил теперь Генку Дьяконова, который с ним расплевался!.. Да, выручил! Пусть даже не ради выручки, а чтобы не было "лишних разговоров с начальством". Чтобы заодно с Генкой не намылили холку всем рабочим поста, и Петру тоже. Пусть так. Но ведь выручил-то Петр все-таки Генку!
— Понимаешь, Эля, если бы Мыльников узнал, что я тогда не проверил обстановку как положено… В общем… он бы… показал мне Москву!
Девушка махнула длинными ресницами, и Генка увидел, что в глазах ее стоят слезы: испугалась, что Петр передумает, доложит Мыльникову.
— Эля, — сказал он, — ты не думай, Петро никому не скажет. Он такой, хотя и подлец…
И опять она пугливо взглянула из-под ресниц, мокрых от слез. И опять промолчала.
"Не надеется на Петьку, — подумал Генка. — Считает, что раз уж он подлец, то… Не понимает, какой у Петьки характер. Ну как ей объяснить это — что тогда он пошел на подлость, выгораживая себя? Теперь же ему не надо себя выгораживать, его ни в чем не обвиняют и обвинять не могут. Обвинить могут только Генку…"
А обвинили?.. Обвинили… другого!
— Эля… — Он осекся, облизнув зашершавевшие губы. — Ты думаешь?..
Он знал, что она не ответит. Что нечего спрашивать ее. Что думает она именно это.
Эля не ответила.
Конечно, она все время думала об этом. Когда Петр обвинил Генку Дьяконова в аварии катера. И когда Генка Дьяконов просил у Петра прощения за то, что сказал правду инспектору. И когда объяснял, что Петр Шкурихин выручил его, Генку Дьяконова. Но ведь сам Генка Дьяконов только сейчас понял главное. Он же просто выпустил из виду, забыл!
— Эля, послушай!
Эля плакала. Слезы скатывались по ее щекам, оставляя на матовой загорелой коже блестящие дорожки.
— Эля!
Молчит.
Конечно, она не верит, что можно забыть такое. Генка Дьяконов, называвший Петра Шкурихина подлецом и гадом за то, что хотел свалить свою вину на другого, на невиновного, — и вдруг сам поступает так же?
Ну что ж! Эля вправе не верить. Вправе, хотя он действительно не сразу вспомнил о старшине, которому, как сказал отец, "воткнут за милую душу". Сейчас Эля презирает его, как труса и подлеца. Как самого последнего негодяя. Его, Генку Дьяконова?.. Да, его!
Но Генка Дьяконов не трус и не подлец. Не был и не будет трусом и подлецом. Никогда! И не станет прятаться за чужую спину. Он пойдет к Мыльникову и скажет: "Виталий Александрович, старшина катера в аварии не виноват. Виноват я".
И все!
Именно так и сделает, хотя Мыльников уволит его и отдаст под суд. Хотя рухнет, вдребезги разобьется его мечта о техникуме и о Москве. И, значит…
Он посмотрел на Элю, продолжавшую горько, беззвучно плакать оттого, что ошиблась в нем, посчитав смелым и справедливым парнем. Не ошиблась! Будь что будет, но Генка Дьяконов не хочет и не позволит, чтобы Эле стыдно было за него перед Михаилом Венедиктовичем и Сергеем Сергеевичем. Чтобы Эля сказала, как тот раз: "Человека, способного на такое, я раздавила бы, как слизняка!"
— Эля, ты не думай, что, я боюсь. Что хочу спасти шкуру чужим несчастьем. Я сейчас пойду и расскажу Мыльникову. Все как есть!.
От "Гидротехника", снова оставшегося в одиночестве, их отделяла какая-то сотня шагов. Сто шагов, может быть больше или чуть меньше, по влажному, плотно слежавшемуся песку, на котором сохранились еще их следы. Разлапые, бесформенные отпечатки подошв бродней и узенькие, аккуратные — Элиных босоножек.
— Слышишь, Эля? Пойду и скажу!
Она ткнулась заплаканным лицом в жесткий брезент его куртки. Положила ему на плечи свои ладони, но они не удержались, заскользили вниз.
— Генка, — еле слышно сказала она и впервые всхлипнула. — Может… Может быть, не надо… говорить ему?.. А, Генка?
Сначала он не понял. Растерялся. Потом осторожно оторвал от брезента куртки ее руки, сказав снисходительно и печально:
— Ты — дура.
И, подержав тоненькие запястья в своих шершавых ладонях, бережно, неохотно опустил книзу. Словно боялся, что они упадут и разобьются, если он просто разожмет пальцы.
Это случилось в тайге
Ватные облака лежали чуть не на крыше единственной на аэродроме постройки — карточного домика диспетчерской. Видимость наверху была нулевая. И может быть, он от начала до конца выдумал эту историю, командир нашего вертолета. Чтобы мы не очень томились в ожидании, пока нам дадут погоду. Но ведь могло случиться и именно так… Или почти так, — разве имеет значение протокольная достоверность?
Иван Терентьевич Заручьев долго и старательно вытирал на крыльце ноги — жена управляющего прииском ревниво следила за чистотой в доме. Войдя, остановился на пороге, спросил нарочито громко:
— Начальство видеть можно? Проситель с подношением пришел, не с пустыми руками…
Он шагнул за перегородку и, смешавшись, неловко переступил с ноги на ногу: у окна, с форменной фуражкой на коленях, сидел милиционер, судя по погонам — лейтенант. Каблуки его до блеска начищенных сапог были сдвинуты, носки разведены как при стойке "смирно". Очень молодой и очень официальный — наверное, по вине молодости.
— Гм… — Заручьев замялся, тиская пакет. — Насчет самолета, Сергей Сергеич… Надо бы и мне улететь, да и Анастасия Яковлевна просит…
Если бы не этот незнакомый лейтенант, Иван Терентьевич выложил бы на стол медвежатину, потребовав — чтобы подразнить жену управляющего — водки, а потом уже заговорил бы серьезно. Но лейтенант спутал карты, и Заручьев стал объяснять, хотя объяснений не требовалось:
— Такое дело, Сергей Сергеич, у меня же путевка приискомовская с первого числа, Анастасии Яковлевне сына увидеть не терпится, а сообщение сейчас — сам знаешь…
— Знаю, — кивнул управляющий. — И про Анастасию Яковлевну больше тебя знаю, весь поселок гудит. Но самолет-то, понимаешь, такой… Дали из резерва — металл надо отправлять, ну и там кинофильмы отослать. Выплакал. А летчики матерятся — барахлит у них что-то, да и погода — сам видишь. Вчера пробовали улететь, так с полдороги вернулись — аэродром не принял. В общем, за пассажиров взгреть их могут, летчиков. Вот товарищ еле добился разрешения: ему арестованного в край доставить надо, затем и прибыл, — глазами показал управляющий на лейтенанта.
Лейтенант еще больше выпрямился на стуле, поправил на коленях фуражку…
— Н-да… — Заручьев нахмурился. — А надо было бы уважить, особенно старуху. По трассе машины раньше чем через месяц-полтора вряд ли пойдут. Да и самолетом до заморозков не улететь, дожди начались, на аэродроме — уже кисель.
— В чем и дело, — соболезнующе развел руками управляющий. — Но вряд ли пилоты возьмут на себя ответственность.
Заручьев взглядом показал на свой пакет:
— Пилотов ты на медвежатину позови сегодня — и уговоришь. Должны понять, что путевка пропадает и у старухи такой случай.
Управляющий хмыкнул и стал объяснять лейтенанту:
— Иван Терентьевич медведя убил… — Он помолчал, не найдя сразу многословной, но веской фразы, и закончил коротко и нелепо: — Сапогом…
Лейтенант улыбнулся — дескать, шутка его не насмешила. Управляющий это понял:
— Я не шучу, действительно сапогом. Ну-ка, расскажи сам, Иван Терентьевич! Давай-давай, расскажи!
— А чего рассказывать? — Заручьев так посмотрел на управляющего, будто тот мог подсказать, напомнить. — Ну, шел по тайге, смотрю — медведь в косогоре берлогу роет. До половины в яму забрался, снаружи только зад вихляется. Ну, я его — что, думаю, делать? — сапогом пнул по заду и по-шахтерски засвистел в два пальца. Он из ямы вылетел, да вниз по косогору котом, да в ельник. Метров сто пятьдесят по кустам отскочил — и сдох…
— От стыда и от обиды, — подхватил управляющий. — Представляете, хозяин тайги, а его — ногой в зад!
— Смерть последовала от разрыва сердца, — сказал лейтенант, поверив наконец, что с ним не шутят. — Инфаркт на почве внезапного испуга.
Заручьев кивнул — то ли ему, то ли воспоминанию:
— Да, уж напугаться-то напугался. Пока улепетывал — все кусты обгадил…
— И вы это как же, без оружия-то решились? Один? — спросил лейтенант.
— Один, — подтвердил Заручьев. — А ружье было. Правда, дробью заряжено, на рябчиков. И нож, горло-то я ему успел еще живому перехватить, чтобы кровь вышла.
— Я бы, наверное, с автоматом и то… — Лейтенант раздумчиво помотал головой. — Один… И вообще — тайга…
— Дело привычки, — сказал Заручьев и напомнил управляющему: — Ну так как же с самолетом-то, Сергей Сергеич? Поддержишь? Уговоришь летчиков?
Управляющий почесал затылок — дескать, задал ты мне задачу.
— Попробуем уговорить, если к медвежатине по случаю воскресенья добавишь чего-нибудь. И если летчики сегодня драндулет свой наладят, — он повернулся к лейтенанту: — Так что и вы к утру готовьтесь, с вами вопрос ясен — служба.
Лейтенант встал:
— Есть приготовиться к утру. — Надев фуражку, он кинул руку к козырьку, потом спросил Заручьева: — Значит, попутчики с вами?
— Выходит, попутчики, — подтвердил Иван Терентьевич.
Всю ночь хлестал дождь…
Аэродрома на прииске Счастливый Ключ никогда не было, и двухцветная, белая с зеленым, "Аннушка" мокла на шоссе, выполняющем обязанности взлетной дорожки и посадочной площадки. Оно, добросовестно отглаженное грейдером на протяжении полутора километров, дальше становилось изрытой гусеницами тракторов трассой. Автомашины — даже вездеходы ГАЗ-53 — рисковали пользоваться ею только в очень сухую погоду да зимой.
Бело-зеленая "Аннушка" вторые сутки стояла на обочине. Летчики в кожаных куртках, насквозь промокших и оттого казавшихся новыми, копались в двигателе, последними словами ругая бюро прогнозов и техников, готовивших самолет в рейс. Наконец старший из них — первый пилот, командир, — полез в кабину.
— От винта, — скомандовал он оттуда.
Сначала тонко, как муха на оконном стекле, запел стартер, потом заработал двигатель, винт стал прозрачным, исчез.
— Ну, кажется, порядок, — усталым голосом сказал старший, показываясь в проеме двери.
— Теперь — только бы окно не закрывалось, — второй пилот, брезгливо морщась, посмотрел на небо. — Если еще сутки просидим — придется побираться, бортзапас почти что прикончили.
— Звали же вчера на медвежатину, чего не пошел? А медвежатина была… — первый блаженно зажмурился и зачмокал.
Второй сердито пнул йогой колесо самолета. Буркнул:
— К нему — как привязанный…
Сняв фуражку, он пригладил ладонью светлые волосы, а взглянув на ладонь, усмехнулся; она была черной от машинного масла.
Командир самолета постоял, прислушиваясь к ровному шуму двигателя. Спрыгнув на землю, сказал:
— Минут двадцать погоняй на малых.
Второй пилот молча кивнул и стал обтирать руки ветошью.
— Так я в контору, — сказал командир. — Чтобы не тянуть. — Высоко поднимая ноги в длинноносых полуботинках, он пересек трассу и, стараясь ступать мимо луж, направился к прииску.
Через полчаса, когда двигатель умолк, на трассе показались люди.
"Пассажиры", — догадался второй пилот и вспомнил, что на борту нет санитарных пакетов, а болтать — черт бы побрал погоду! — наверняка будет прилично.
Он вынул папиросу. Но единственная спичка, стрельнув раскрошившейся головкой, не зажглась. Пилот подумал, что разживется огнем у пассажиров, и про себя чертыхнулся, когда те подошли к самолету — пожилая женщина с лайкой на поводке в окружении разномастных мальчишек и девчонок.
— Вам — что? — сурово спросил он.
Ребята теснее сгрудились вокруг женщины — то ли заступая ее от строгого дядьки, то ли отступив под ее защиту.
— А мы — Настасью Яковлевну провожать, — бойко ответила девчонка в цветастом платке и, смутившись, спряталась за подружек.
— Вы летите с нами? — спросил пилот женщину.
— Здравствуйте, — сказала та. — Да, решила лететь. — И добавила после паузы: — Извините, я ничего не вижу… Слепая…
Пилоту стало неловко за свою неприветливость, показавшуюся теперь грубостью. Пытаясь исправить ее, он предложил:
— Так… может быть, вы подниметесь в самолет? Там все-таки сидеть можно…
— Не беспокойтесь, я побуду с ребятами. — Она опустила руку на вихрастую голову одного из мальчишек, провела ладонью по щеке. — Ваня Куликов? Ты должен мне пообещать, что не будешь обижать сестренку.
Даешь слово?
— А она сама лезет, Настасья Яковлевна. Маленькая, а вредная. Все цветные карандаши у меня перетаскала…
Пилот повернул голову на шум шагов — к самолету, чуть кособочась в сторону чемодана с блестящими никелированными оковками, подходил плотный человек в синем долгополом плаще и старомодной шляпе. Обвисшие поля шляпы закрывали чуть не все лицо, поэтому нельзя было понять — молод он или стар. За ним, с двумя сетками, полными кульков и пакетов, шла маленькая женщина в телогрейке и мужских сапогах. Увидев пассажирку с собакой, мужчина сказал очень громко, словно та была не слепой, а глухой:
— Анастасии Яковлевне почтение.
— Здрасте всем, — сказала его спутница тихо.
Вразнобой последовали ответы, а мужчина спросил пилота:
— Места уже занимать можно, или как?
Пилот скользнул равнодушным взглядом по коренастой фигуре, задержал его на шляпе и ответил вопросом:
— У вас спички есть? Дайте прикурить, пожалуйста.
Пассажир вынул спички, потарахтел коробкой, протянул пилоту.
— Отправление когда, не скажете?
— Не скажу, — пилот помолчал, раскуривая папиросу. — Зависит от командира. Мы не в графике.
— Понятно. — Пассажир поставил наконец чемодан и сам на него уселся. — Как жизнь, Анастасия Яковлевна?
— Спасибо… Сын у меня отыскался, вот к нему и еду теперь. А вы… извините, я не узнаю — кто?
— Заручьев Иван Терентьевич, дражный машинист со второй. На курорт вот посылают… — Он сказал последнюю фразу небрежно, словно ему надоели поездки по курортам, едет, чтобы уважить пославших.
— Погодите — Заручьев?..
— Старший мой учился у вас, Мишка, он теперь рыбнадзором на Яне…
— Миша Заручьев! Как же, помню-помню.
— А младший — Сашка — уже во втором классе. Такой парень! — похвастался Иван Терентьевич. — В интернате сейчас…
— Младшего не знаю, — сказала учительница. — Я ведь уже два года не работаю… — И, помолчав, спросила: — Значит, сыновьями довольны?
— Из младшего не знаю что получится, еще мал, — задумчиво произнес Иван Терентьевич. — А за Мишку вам в ноги поклониться следует — не пьет, техникум кончил, теперь на заочный в университет пошел… — Иван Терентьевич в самом деле снял шляпу и поклонился слепой учительнице. И пилот увидел, что лицо у него строгое, изрезанное морщинами, а лоб переходит в лысину, хотя волосы на висках чуть только тронула проседь.
Анастасия Яковлевна не могла видеть его лица, как и его поклона. Она сказала:
— Мне кланяться не за что, характеры детей закладываются в семье… — И вздохнула: — Не знаю, что за характер у моего. Даже представить не могу, какой он, — двадцать три года не видела…
— Теперь скоро увидите… — бодро начал было пилот и осекся, прикусив губу.
Женщина улыбнулась:
— Вы правы — увижу! Увижу, хоть и слепая!
И опять пилот, заглаживая свою неловкость, захотел сказать или сделать что-нибудь доброе этой женщине.
— Плохо, что самолет — грузовой, — сказал он. — Вы первый раз летите по этой трассе?
— Вообще первый раз лечу. А вы?
— Я? — пилот даже растерялся: таким нелепым показался ему вопрос.
К самолету приближались еще трое.
Первым, засунув руки в карманы, опустив голову, шел высокий парень с перекинутым за плечо вещевым мешком. За ним, твердо печатая шаг, — это его сапоги постукивали коваными каблуками, — следовал лейтенант милиции, придерживая на боку кожаную полевую сумку. И, поотстав, шествие замыкал первый пилот, небрежно прижимая локтем пакет в зеленом брезенте.
Ребята зашушукались, поглядывая на идущего впереди. Иван Терентьевич обернулся к спутнице:
— Видала? Отгулял.
Парень с вещмешком и лейтенант остановились в десяти шагах от самолета. Первый пилот приблизился, обвел глазами пассажиров, спросил:
— Все? — Еще раз осмотрелся, остановил взгляд на женщине с сетками, стоявшей за спиной Ивана Терентьевича, и сказал, обращаясь к напарнику: — Должно быть четверо — вот с ними. — Он кивнул на парня и милиционера.
— Она провожает, — поднялся с чемодана Иван Терентьевич, — она не полетит.
— Пассажиров прошу занять места. Володя, — первый снова повернулся ко второму пилоту, — помоги подняться и устрой поудобнее, — он подбородком показал на Анастасию Яковлевну.
Та, угадав, что говорят про нее, сделала шаг вперед.
— Простите, но нас — двое.
— Речь шла только о вас, — немного резко сказал первый пилот.
— Но я же не могу без Зорки, она меня водит, — в голосе слепой учительницы слышалась растерянность.
Пилот невольно улыбнулся:
— Я думал, кто-нибудь из ребят… Собаку — пожалуйста! Только привяжите.
— Она не кусается! — заверила Анастасия Яковлевна.
— Привяжите, чтобы не бегала по самолету.
Он направился к лейтенанту и его подопечному, раскатывая в пальцах папиросу. Похлопал себя по карманам. Иван Терентьевич — хотя на этот раз его не просияли об этом — предупредительно чиркнул спичкой и, спрятав ее в сложенных ладонях от ветра, шагнул навстречу:
— Прошу.
Пилот прикурил.
— Наши труды повезли? — спросил Иван Терентьевич, взглядом ощупывая пакет под мышкой у летчика. — Тара знакомая…
Первый пилот промолчал.
— Ну что ж, Антонина, прощай! — Иван Терентьевич забрал у своей спутницы сетки и неловко, словно стыдясь, чмокнул ее в щеку. — К Сашке в интернат наведайся — как он там. Ну, и вообще… Чтобы все в полном порядке…
— За меня не переживай, — сказала женщина. — Ни за Саньку. Да и не на год уезжаешь — на тридцать дён.
— Ну, ступай… — Иван Терентьевич забросил в кабину сначала сетки, потом чемодан и, не оглянувшись даже, влез сам, ухватившись за протянутую вторым пилотом руку. Пристроив кладь в сетке над головой, уселся на жесткую узенькую скамейку рядом с Анастасией Яковлевной и потрепал за ушами Зорку, положившую узкомордую голову на колени хозяйки.
Первый пилот прошел на свое место. Потом влез парень с вещевым мешком — ему второй пилот руки не протягивал — и остался стоять в проходе. Последним, громыхая сапогами, поднялся лейтенант милиции, показал подконвойному место в середине самолета:
— Садись.
Сам уселся напротив — руки на коленях, локоть касается кобуры.
Второй пилот выглянул в дверной проем, крикнул ребятишкам:
— А ну, провожающие, разбегайся! Быстро!
Самолет шел на высоте четырех сотен метров. От вибрации дребезжали, казалось, даже стекла иллюминаторов, монотонный шум двигателя ватой закладывал уши. Но разговаривать все-таки было можно — если сидеть рядом, то даже не очень повышая голос.
Но разговаривать никому не хотелось — кроме Ивана Терентьевича. Тот попытался рассказывать Анастасии Яковлевне, про свою старательскую молодость. Потом — о сыновьях: как будут и должны они жить. Но Анастасия Яковлевна отвечала невпопад, и Иван Терентьевич обиженно замолк.
Анастасия Яковлевна думала о восьмилетием мальчике, потерявшемся во время бомбежки, — и о технике-строителе с ничего не говорящей чужой фамилией, к которому ехала сейчас… нет, не ехала — летела на крыльях.
Чей-то сын, которого Анастасия Яковлевна никогда ничему не учила и никогда не видела и не увидит потом, Васька Ольхин, он же Селезнев, он же Косоручко, по кличке Васька-баламут, сидел напротив слепой учительницы, чуть наискосок, и не думал, а собирался с мыслями. Вернее, пытался собрать разбегавшиеся воспоминания: освобождение, неестественное чувство свободы, от которой отвык, Счастливый Ключ. Перевернутыми маятниками раскачиваются вершины сосен, подрезанных "Дружбой". Общежитие лесорубов-холостяков, раскиданные по столу карты, спирт в бутылках с зелеными этикетками и… Воспоминания расплывались, оставалось ощущение зажатой в руке финки. Так как других воспоминаний не было, Васька начинал вспоминать по второму, по третьему, двадцатому кругу: освобождение, прииск, лесосека, барак…
Лейтенант Гарькушин ничего не вспоминал и ни о чем не думал: он находился при исполнении служебных обязанностей.
— Как самочувствие? Санпакеты не требуются? — крикнул, свешиваясь со своего кресла, второй пилот.
Все, кроме не поднявшего глаз Васьки Ольхина, отрицающе покрутили головами.
— Вот и хорошо — их все равно нету!
Лейтенант Гарькушин, когда ему надоедало смотреть на подконвойного, смотрел на иллюминатор. За стеклом иллюминатора по серому небу неслись клочковатые облака, тоже серые.
Васька Ольхин смотрел, потупясь, в пол кабины. Иван Терентьевич — тот сначала пытался бороться с дремотой, но потом уступил ей и закрыл глаза. Анастасия Яковлевна глаз не закрывала, но перед ее взором всегда стояла черная стена, тьма. Поэтому один только лейтенант мог заметить, что облака вдруг перестали рваться. Они сдвинулись, соединились в одно и белой непроглядной мутью навалились на стекла иллюминаторов.
Самолет шел в сплошном тумане.
Час, два находился он в полете? Сколько осталось лететь еще?
Иван Терентьевич встал, дотянулся до одной из своих сеток, развернул пакет с пирожками. И как раз в эту минуту из кабины летчиков выглянул второй пилот.
— Будем… садиться, — крикнул он и, перекатив кадык, словно проглатывал что-то липкое, забившее горло, добавил, показав рукой на скамью слева: — Тут вот — веревка. Всем привязаться. Всем! И привязать женщину!
Иван Терентьевич, недовольный, отложил пирожки.
— Веревки! — сказал он ядовито. — Тоже мне, самодеятельность! Должны быть специальные ремни, пристегнул пряжку — и все!
Самолет словно бы присел, пассажиры на миг потеряли чувство весомости. Тогда Иван Терентьевич, в силу летного опыта, считая себя обязанным проявить инициативу, заглянул под скамейку. Там, за железными ящиками с кинопленкой, лежали перепутанные куски веревки. Выбрав два подходящих — себе и Анастасии Яковлевне — он спросил лейтенанта:
— Вам тоже?
Лейтенант загреб рукой воздух — кидай, дескать. Иван Терентьевич кинул весь моток, и тот, змеиным клубком упав посередине прохода, как живой, пополз в стороны от вибрации.
— Давай привяжись, — сказал лейтенант Ольхину, вытянув веревку для себя.
Парень поднял на него равнодушный взгляд, буркнул сквозь зубы:
— А-а, мне один черт…
— Приказываю привязаться! — рявкнул лейтенант. — Ну!
Ольхин, дернув плечом, начал неторопливо припутывать себя веревкой к стойке скамьи. Уверившись, что он закончит дело, лейтенант привязался сам. Иван Терентьевич помогал привязываться Анастасии Яковлевне, продолжая что-то ворчать об отсталости местной авиации:
— Вот на ТУ-104, например…
Он не договорил. Вибрация самолета стала натужливой дрожью, и стоявшего на корточках Заручьева швырнуло вперед, он ушиб локоть.
— Привыкли, черти, ящики да мешки возить — летчики, называется! — пожаловался он Анастасии Яковлевне и, словно вымещая на веревке обиду, злобными рывками протаскивая ее свободный конец, поспешно привязал себя. — Что они там, с ума посходили? Надо же помнить, что в самолете люди!
О том, что в самолете люди, пилоты помнили.
Помнили все время.
Нельзя было не помнить — машина грузовая, двигатель дорабатывал ресурс, даже забарахлил перед второй посадкой в Счастливом Ключе. Да и погода такая, что с базового аэродрома не выпустили бы. Но своей рацией без ретрансляторов на расстоянии в сотни километров с аэродромом не свяжешься, рации других самолетов помочь не могли: другим самолетам нечего было делать в стороне от их трасс. Кое-как удалось дозвониться до диспетчерской службы по телефону с прииска и получить "добро" на взлет по собственному усмотрению. Диспетчер предупредил, что на пути не миновать встречи с туманом. Командир знал трассу назубок, мог летать на ней с закрытыми глазами, но как, спрашивается, брать в таких условиях на борт людей?
И не взял бы, да управляющий прииском вчера уломал. Дескать, людям позарез надо выбраться из Счастливого Ключа, а дороги нет, да и самолетов других до снега ждать бесполезно, единственная возможность у этих людей улететь с ними.
— Но я же не могу, не имею права, — попытался он объяснить. — Понимаешь, не могу! Это же нарушение!
Тогда управляющий стал вспоминать, сколько приходится делать нарушений, чтобы делать дело, — мол, законы и наставления пишутся не для из ряда вон выходящих случаев. И стал рассказывать байки. Разные, вроде бы даже не относящиеся к авиации. Как, на фронте еще, послал к черту комиссара с его приказом, угадал под трибунал, но получил орден. Как без разрешения хранил пистолет — и смог предупредить убийство, спасти жизнь двум хорошим людям.
— Понимаешь, — убеждал управляющий, — нарушение — это иногда тоже способ быть человеком…
Фраза эта вспомнилась командиру, когда до аэродрома осталось каких-то полчаса лету, а впереди и справа показался предсказанный диспетчером туман, как, и все осенние туманы переходящий наверху в облачность.
Попытаться обойти? Но это могло затянуть рейс на лишний час полетного времени, а пассажиры иногда начинают волноваться и при десятиминутной задержке. Попробовать пройти над туманом? Командир неприязненно посмотрел на компас, на высотомер. Он любил летать, как добрых друзей высматривая привычные наземные ориентиры, представляя, как задирают головы знакомые рыбаки и изыскатели.
Прикинув, как двигается туман, он все-таки попробовал изменить маршрут, отдаляя встречу, но туман снова оказался впереди. Он лежал почти на вершинах деревьев, нырять под него нечего было и думать. Тогда командир, хотя и не очень-то веря в возможность связи на таком расстоянии, поднял самолет еще на пятьсот метров и попытался вызвать диспетчера. В наушниках разноголосо запищала морзянка, влез чей-то разговор фоном, снова перекрытый диском морзянки, — и вдруг неожиданно отозвался аэродром.
Командир коротко доложил обстановку и переключился на прием.
— Борт 34–85, посадка невозможна из-за тумана, следуйте площадке Медвежий Наволок. Случае отсутствия видимости там возвращайтесь к месту вылета, — звякающим голосом приказал диспетчер.
Командир мысленно выругался.
— Если вернемся на Счастливый Ключ, — сказал он второму пилоту, — бензина не останется, придется загорать. Надо искать Медвежий Наволок, я там когда-то садился с геологами.
Они легли на новый курс и пошли вдоль фронта тумана. Командир передал второму пилоту управление и попытался найти на карте Медвежий Наволок, но тот находился за пределами их обычной трассы, в стороне от нее, и нужного листа в планшете не оказалось. Он мог руководствоваться только памятью, просто искать посадочную площадку.
— Будем держаться над самой рекой, чтобы не проморгать притока, — сказал командир второму пилоту. — Потом по притоку километров сто двадцать — и площадка.
Теперь они летели на высоте двухсот пятидесяти метров над тусклой металлической лентой реки, изъеденной по краям ржавчиной камышей, под самой кромкой облачности. Вот, точно нос гигантского черного дредноута, воду внизу распорол поросший пихтачом или ельником мыс — берег притока, в устье почти не уступающего по ширине самой реке. Второй пилот взглядом спросил командира, тот ли это приток, который им нужен. Командир качнул головой. Пилот стал разворачивать самолет на новый курс — вверх по притоку.
— Черт! — выругался командир.
Второй пилот вопросительно поднял брови — он подумал, что плохо выполнил разворот.
— Придется нырять в туман, — объяснил командир, — его жмет к земле.
— А над ним?
Командир взял управление на себя и сказал:
— Над ним нельзя, проскочим площадку.
Рваные клочья тумана понеслись им навстречу, неслышно стегая по стеклам кабины — словно на них накидывали и сдергивали марлю.
А потом марля легла на стекла, как приклеенная, и командир закусил губу: единственный ориентир — река — перестал просматриваться.
Теперь уже командир вопросительно посмотрел на второго пилота:
— Будем возвращаться на Счастливый Ключ?
— Может, попытаемся пробить, не на сто же километров такая манная каша?
Командир подумал:
— Хватит, летим к Счастливому.
Сказать, что самолет снова изменил курс, могли только приборы — и они говорили об этом прыгнувшими через всю шкалу стрелками, беспокойно качающейся цифрой против курсовой ризки компаса.
— Держи так, — сказал командир, передавая управление, и впервые с момента вылета закурил. У него было такое ощущение, точно в полете они находятся много часов, хотя минутная стрелка завершала только второй круг.
Некоторое время они летели вслепую, по приборам, потом — в какой-то волшебный миг — как при внезапном включении проектора цветного кино — вместо белого экрана перед глазами возник неяркий, но все-таки красочный, зримый мир.
Полчаса примерно видимость была вполне удовлетворительной, но в какой-то полусотне километров от цели впереди опять показался туман, сначала клочковатый, похожий на прижавшиеся к земле облака, еще более плотные. Ручка от себя — и начинается плавное скольжение вниз, под туман. Ниже, еще ниже…
— Предел, — сказал командир, не отрывающий от высотомера взгляда, и выровнял самолет, — до земли лёг, собака. Как искать площадку?
Второй пилот промолчал.
Машина шла, наверное, над самыми вершинами невидимых в тумане деревьев, может быть почти задевая вершины. Маневр был опасным, но что оставалось делать — бензин подходил к концу, стрелка показателя горючего неотвратимо приближалась к нулевой отметке. Во что бы то ни стало следовало разглядеть в тумане тот отрезок шоссе у Счастливого Ключа, где — в единственном месте на сотни километров кругом — можно без риска посадить самолет.
Они не сумели его разглядеть.
— Промахнулись, — незнакомым голосом сообщил командир второму пилоту и на какое-то мгновение зажмурился. Теперь, хотя горючее было на исходе, оставалось лечь на обратный курс, выходить из тумана и искать место для посадки в тайге, другого выхода не было.
Минут через двадцать первый пилот сказал:
— Кажется, туман позади. Над рекой, у точки Олений мыс, есть безлесные участки. Если туда дотянем… Предупреди пассажиров — будем садиться. Пусть привяжутся.
Это тогда второй пилот повернулся в кресле и, свесившись из кабины, выкрикнул приказание командира — привязаться веревками.
Самолет, заваливаясь на правую плоскость, выполнил разворот и, снижаясь, полетел над ощетинившейся острыми вершинами елок черной тайгой — искал место, где оказалась бы хоть чуточку гостеприимной земля. Искал — и не находил. Десять минут, еще десять…
И опять откуда-то выполз и потёк по распадкам — теперь уже внизу, под самолетом, — заструился, закутывая тайгу, туман.
И когда туману удалось это и самолет заскользил над зыблющейся белой равниной, двигатель выработал последние капли горючего.
Командир самолета — словно перед прыжком в воду — до отказа заполнил грудь воздухом — и забыл его выдохнуть.
В белом плотном тумане замелькали темные лохмотья чего-то. Земля? Какая она тут — земля? Что-то мягко ударило снизу по фюзеляжу раз, другой… Кусты? И кажется, впереди прогал? Командир толкнул ручку от себя, проваливая самолет ниже.
Последним было не действие — для действия не оставалось времени, — даже не мысль, а образ.
Образ мгновенно — как немой взрыв — вырастающего из ничего дерева, косматой черной сосны, падающей на кабину.
Теперь он лежал под такой же сосной на влажной, присыпанной ржавыми хвоинками земле, вверх лицом, — командир самолета. Иван Терентьевич, встав на колени, кривясь от боли в плече правой руки, левой достал носовой платок. Он кривился от боли, а лейтенант решил, что ему неприятно стирать своим чистым платком кровь, коричневым тонким шнурком запекшуюся на щеке летчика…
И еще подумал, что, собственно, незачем ее вытирать…
— Помочь ему это не поможет, — сказал он, — а трогать зря ни к чему. Экспертиза там, заключение врача, следствие. Ему теперь все равно, пусть полежит так.
Иван Терентьевич все-таки стер кровь и, сунув платок обратно в карман, встал. Молча, не поднимая головы, даже не взглянув на лейтенанта. И тогда в тишине, нарушаемой постукиванием дятла, прозвучал насмешливый голос Васьки Ольхина:
— Экспертиза? Следствие? Медведь, что ли, их наводить будет?
Лейтенант растерянно оглянулся.
Туман начинал уже отрываться от земли — словно чистая вода отстаивалась на дне взбаламученного водоема, а муть, вопреки известным со школьной скамьи законам, поднималась кверху. И у лейтенанта появилось такое чувство, будто он находится не на земле, а в каком-то странном, неестественном мире. Он был — этот мир — как пробуждение ото сна и вместе с тем как продолжение его, когда еще можно ходить по дну моря и видеть себя со стороны. Не верилось, что все это в действительности существует, все можно потрогать руками, ощутить по-настоящему — туман, сосны, себя самого, живых людей рядом с собой, эту вот гнилую валежину, самолет…
Самолет — вернее то, что недавно им называлось, — лежал, зарывшись в обломки сосны, задрав хвост и нелепо оттопырив единственное крыло. Уродливо изогнутые, узловатые сучья валялись вокруг, словно оборванные, искореженные судорогой щупальца. Представлялось: самолет, схваченный ими, долго вырывался, обламывая и их, и собственные крылья…
Но самолет не вырывался, агонии не было. Был удар, и ничего больше.
Первым пришел в себя Заручьев Иван Терентьевич.
Сначала его поразила тишина. Потом — то, что пол пассажирской кабины стал не полом, а как бы стеной, почти вертикальной плоскостью. И на ней, привязанный к скамейке, над головой Ивана Терентьевича, висел Ольхин. И все у него висело: тряпочные руки и ноги, волосы, отогнутая пола ватника…
Иван Терентьевич попробовал встать, но боль, нестерпимая боль в плече, и в пояснице, и в животе, придавила к месту. Почувствовал, как выступает испарина, кружится голова, и ему захотелось переменить место, лечь поудобнее.
Оказалось, что он полулежит, втиснутый между скамьей и железными ящиками с кинопленкой, которые находились — он же сам видел — под противоположной скамейкой. Там были еще веревки…
Вспомнив о веревках, Иван Терентьевич вспомнил все. И все понял. Пересиливая боль, оттолкнул загромыхавший ящик, освободился от привязи. И, цепляясь за стенку, недавно считавшуюся полом, встал. Заставил себя встать. И внимательно оглядеться.
Рядом, неестественно перекинувшись через край скамейки, так, что ноги, обутые в старомодные тупоносые полусапожки с меховой выпушкой, оказались на иллюминаторе, лежала Анастасия Яковлевна. Талия ее, перехваченная в поясе туго натянутой веревкой, казалась девически тонкой. И девическими же — высоко запрокинутый подбородок и горло, медленно-медленно двигающееся вверх-вниз под белой, без морщин, кожей. Зорка, примостившись в узком пространстве между скамейкой и вздыбленным полом, облизывала невидимое Ивану Терентьевичу лицо хозяйки.
— Пшла прочь! Ну! — крикнул Иван Терентьевич собаке и удивился звучанью собственного голоса и нелепости первых своих слов.
На собаку окрик не подействовал.
Тогда Заручьев, успев рассмотреть, что милицейский лейтенант, удерживаемый привязью, безжизненно распластался на стене кабины ближе к хвосту, попробовал освободить Анастасию Яковлевну от веревок. Зорка оскалила клыки.
— Молчи, дура! — прикрикнул Иван Терентьевич и поймал себя на нелепости — ведь собака молчала, только скалилась.
Зорка, продолжая скалиться, прижала уши.
— Но, ты! — Заручьев рассердился. — Я же развязать…
Косясь на собаку — вдруг прыгнет? — он дотянулся до узла. Узел не поддавался. Тогда он вспомнил о своем ноже и почему-то о том, как покупал его в райпо и как завмаг Василий Филиппович говорил: "Стоящая вещь, главное, ты гляди, штопор есть", — а он, Иван Терентьевич, посмеялся — дескать, штопор ему незачем, поэтому за штопор он платить не будет, заплатит на двадцать копеек дешевле.
Вспоминая это, Иван Терентьевич достал нож, зубами его открыл и, просунув лезвие под веревку, потянул на себя и вверх. Веревка упала, но Анастасия Яковлевна даже не шелохнулась. И Заручьев опять покосился на Зорку: следовало придать ее хозяйке более удобную позу — позволит ли это глупая собака? Стон лейтенанта заставил его повернуть голову.
"Живой", — решил Заручьев, не радуясь этому и не удивляясь. В голове у него не было никаких мыслей, он как бы пришел в новый для него мир и принимал этот мир таким, каков он есть. Осторожно перешагнув через Анастасию Яковлевну, он двинулся к лейтенанту.
Лейтенант больше не стонал, только пальцы левой руки его, вывернутые вверх ладонью, сжимались и разжимались. Иван Терентьевич снова достал нож и перерезал веревку. Не удерживаемое ею, тело лейтенанта перекатилось вниз, под ноги к Ивану Терентьевичу. Казавшаяся вывернутой рука приняла нормальное положение, но безвольно стукнулась о металл обшивки. Иван Терентьевич растерялся: неужели умер? И не придумал ничего лучше, как потрясти лейтенанта за плечо:
— Эй, друг! Ты что?
— М-м-м… — приоткрыл стиснутые губы лейтенант, и губы окрасились кровью.
— Крепко, видать, тебя… — вслух подумал Иван Терентьевич. — Что ж делать-то, а?
Он спрашивал не лейтенанта — себя. Потом посмотрел на Ваську Ольхина, до которого мог теперь запросто дотянуться рукой. Можно разрезать веревку. Но тогда парень брякнется вниз, на железные ящики с пленкой. Голова парня была залита кровью, она склеила волосы и редкими, тяжелыми каплями падала с самой длинной, слипшейся пряди — как красная краска с кисти. Что, если и этот — не жилец?
— М-м-м… — снова простонал лейтенант.
И Заручьев позабыл об Ольхине: лейтенант был ближе и надежнее — все-таки подавал признаки жизни.
— Слушай! — Иван Терентьевич снова потряс Гарькушина за плечо. — Очнись! Очнись, друг!
И лейтенант очнулся.
Облизнул окровавленные губы, проглотил собравшуюся во рту кровь и открыл глаза.
— Где Ольхин?
— Тут! — обрадовался Иван Терентьевич. — Тут, никуда не делся. Ты встань, если можешь, помоги: собака к учительнице не подпускает…
Лейтенант сел, положил локоть на ребро скамейки, огляделся. И, видимо мгновенно оценив обстановку, не спросил, а объяснил сам:
— Туман. Угадали мимо посадочной полосы. — И добавил: — Учительницу — в первую очередь.
— Что? — не понял Заручьев.
— В больницу, — ответил лейтенант и прислушался: вот-вот завоет сирена "скорой помощи". Его состояние передалось Ивану Терентьевичу. Он только сейчас уразумел, что не ждал никакой помощи, выпустил из виду, что она должна явиться. И мысленно, с облегчением, усмехнулся — надо же, совсем забыл, что должны появиться люди, помощь.
Лейтенант встал, машинально хотел поправить фуражку и, спохватившись, что на голове ее нет, поискал глазами. Увидел Анастасию Яковлевну.
— Учительницу надо положить удобнее. И этого, — он кивком показал на Ольхина, — снять как-то. А там разберется медицина. Как летчики, не знаешь? — Он перешел на "ты", видимо считая, что испытание опасностью дает право на это.
— Н-не знаю, — сказал Иван Терентьевич и впервые посмотрел в сторону пилотской кабины, стыдясь, что не вспомнил до сих пор о пилотах, что у него было такое чувство, будто они должны помнить прежде всего о нем и если не вспомнили, значит…
Лейтенант провел языком по губам, сплюнул кровь и сказал:
— Ладно, давай действовать.
Он заскользил к пилотской кабине. Оказавшись рядом с Анастасией Яковлевной, даже не взглянув на собаку, бережно взял учительницу за плечи, попытался приподнять. Но ящик, служивший ему опорой для ноги, отодвинулся.
— Помоги, — попросил лейтенант Заручьева.
Иван Терентьевич стал перелезать через скамью, чтобы можно было, спускаясь, придерживаться за нее здоровой рукой.
— Понимаешь, рука у меня… видать, жестянкой с кино трахнуло.
Спускался он медленно, оберегая руку.
— Черт, чего они тянут? — сам себя спросил лейтенант, прислушиваясь в ожидании Ивана Терентьевича к странной тишине снаружи. — Неужели так далеко промахнули?
Он поискал отверстие, через которое можно было выглянуть. Но в иллюминаторы правого борта можно было увидеть лишь землю, ржавеющий брусничник с кровавыми капельками ягод, а левые иллюминаторы смотрели в небо.
— Во всяком случае, не аэродром, это точно, — решил лейтенант. — На аэродромах брусника не растет, так что, может, к нам и подъезда нету, пока доберутся…
Вдвоем — хотя Иван Терентьевич почти не помогал — они уложили Анастасию Яковлевну вдоль скамьи, на бывшей стене кабины. Зорка, забившаяся между скамьей и иолом, перебралась к хозяйке. Лейтенант бросил взгляд на Ольхина, но шагнул к пилотской кабине, из которой лезли голые, без хвои, толстые сосновые сучья.
— Эй, летчики! Мужики! Алло!
Лейтенант попробовал протиснуться в пилотскую через нагромождение сучьев, не смог и полез в хвост, к Ольхину, сказав Ивану Терентьевичу:
— А ты пока учительницей займись.
Пока лейтенант возился со своим подопечным, Заручьев разыскал свою сетку — там была поллитровка спирта. К счастью, бутылка уцелела. Иван Терентьевич зубами сорвал пробку и наклонился над Анастасией Яковлевной. Учительница лежала, не закрывая неподвижных невидящих глаз, челюсти ее были судорожно стиснуты, разомкнуть их Иван Терентьевич не сумел. Он мысленно выругался и полез в карман за ножом. Просунув лезвие между верхними и нижними зубами, повернул нож — ага, пригодилась выучка старательских времен!
Анастасия Яковлевна поперхнулась спиртом, не проглотив его, рывком запрокинула еще больше голову и попыталась сесть.
— Я, кажется… Что со мной?
— Со всеми, — сказал Заручьев, — не только с вами. При посадке самолета произошла авария. Как вы себя чувствуете?
Женщина сделала движение губами — обыденное, домашнее, будто пробовала суп, — неразведенный спирт обжег рот. Ответила виноватым тоном:
— Спасибо, доктор, кажется, нормально. Только вот ваше лекарство…
— Я не доктор, — сказал Иван Терентьевич. — Я Заручьев, отец Миши Заручьева — помните? — и ваш попутчик. А доктора еще нет.
— Извините, не узнала по голосу. — Она села, ощупывая пустоту вокруг себя длинными вздрагивающими пальцами. Подползла на согнутых лапах Зорка, подставила голову, и пальцы, утонув в теплой шерсти, успокоились, замерли.
— Это вы извините за лекарство. Другого не было, пришлось вам спирта хлебнуть.
— Слушай, Заручьев! — окликнул лейтенант. — Остался у тебя спирт?
— Есть.
— Дай.
И опять спирт сделал свое дело. Ольхин открыл глаза, с полминуты взгляд оставался неосмысленным, диким. Потом веки сомкнулись, рука потянулась к голове и, коснувшись ее, отдернулась. Когда глаза снова открылись — взгляд стал всегдашним, колючим. Задержался на бутылке спирта в руке лейтенанта. И, как Анастасия Яковлевна перед тем, Ольхин пошлепал губами, потом прищурился — и нашел силы усмехнуться:
— Спасибо, начальник! Я думал, что долго не придется пробовать такого. — Он осмотрелся еще раз. — Так… Значит, приземлились? Дела…
— Встать можешь?
— Наверное, смогу… — Ольхин встал и несколько секунд стоял молча, как будто проверял свои возможности держаться на ногах. — Могу вроде. Только вот голова… — Он вторично протянул к ней руку, но, тронув концами пальцев, сразу убрал и, морщась, долго смотрел на запачкавшую пальцы кровь.
— Перевязать бы, да нечем… — сказал лейтенант.
— Найдем, пожалуй. — Иван Терентьевич отыскал взглядом свой чемодан, дотянулся до него, открыл. Протянул Ольхину нижнюю рубашку, потом нож.
Ольхин посмотрел на него вопросительно:
— Может, перевяжешь? Мне же не видать — как.
— Одной рукой не сумею, — сказал Иван Терентьевич.
— Дай сюда, — потребовал лейтенант и умело, уверенно наложил повязку.
— Спасибо, — поблагодарил Ольхин. — Теперь — закурить, — он полез в карман за сигаретами.
— Теперь надо смотреть, что с летчиками, — сказал лейтенант. — Раскуривать будем потом.
Ольхин, не возражая, спрятал сигареты. Шагнул к пилотской.
— Отсюда не пробраться, — сказал лейтенант. — Надо пробовать снаружи.
Для этого прежде всего следовало выбраться из самолета. Дверь сначала не поддавалась, заклинило замок. Ольхин ударил по нему ящиком с кинопленкой и потянул дверь на себя, вверх, как крышку люка. Дверь открылась. Под ней, на рыжей от опавшей хвои земле, валялся лосиный рог.
Лейтенант скользнул вниз, повис на руках, прыгнул.
— Ого-го-го-гооо! — закричал он, рупором сложив ладони.
И, не услышав ничего, кроме приглушенного туманом, как бы катящегося под гору эха, не разжимая, медленно опустил руки. Вокруг стояла тайга — сосны и кедры. Хмурые, призрачные, обвешанные клочьями тумана.
Тишина словно бы придавила всех — надолго. Перебрасываясь только самыми необходимыми словами, лейтенант и Ольхин, при посильной помощи Ивана Терентьевича, вынесли из самолета Анастасию Яковлевну. Потом, стараясь не только не разговаривать — не глядеть друг на друга, проникли в сплющенную, зарывшуюся в землю пилотскую кабину через проемы лобовых окон, стекла которых были рассыпаны в черничнике. Второго пилота, с искромсанным осколками стекол лицом и до уха разорванной щекой, — его не привел в сознание даже спирт — устроили на спешно наломанных ветках возле самолета. Командира корабля отнесли под сосну и положили, на жесткую, обвязанную узлами корней землю…
И вот тогда-то Иван Терентьевич, не принимавший участия в этом, как бы внося свою лепту, и вытер засохшую на щеке командира кровь. А Ольхин усомнился в том, что понадобятся следствие и заключение эксперта.
Лейтенант бросил в его сторону пренебрежительный взгляд: он терпеть не мог паникеров. Лейтенант заставил себя увидеть не только сосны и лохматые кедры вокруг, не только разбитый самолет, лицо мертвого пилота и усмешку Ольхина. Он заставил себя увидеть завтрашний день и сказать строго, по-начальнически:
— Экспертизу и следствие будут проводить кому положено. Мы летели определенным курсом в определенный пункт назначения. Значит, если самолет не прибыл, его будут искать, что несложно. Вам понятно? И не разводите панику!
Иван Терентьевич посмотрел в небо, лежащее ниже вершин сосен. Как бы в сторону, про себя, заметил:
— Сегодня искать не станут — туман. Костер бы запалить надо, замерзнем…
— Костер надо так или иначе, — согласился лейтенант. — Заготовить как можно больше дров и хвои, что ли. Для дыма: если будет дым, скорее обнаружат.
— Топор бы… — помечтал Заручьев.
— Лучок еще лучше, — опять не к месту усмехнулся Ольхин. — Или "Дружба", есть такая бензиновая пила.
— Придется обойтись голыми руками, — сказал лейтенант. — Пошли собирать сушняк.
Ольхин не двинулся с места.
— Шаг влево, шаг вправо считается побегом?
Лейтенант приостановился. Он действительно выпустил из виду, что Ольхин находится под конвоем. И сказал с нотками раздражения в голосе, словно учитель, поправленный учеником:
— Бежать здесь некуда, черт его знает, где мы. Но старайся все-таки быть на глазах. Пошли.
Часа два, наверное, выламывали с корнями сухостойные, в молодости погибшие деревца, собирали сучья, нетрухлявый, способный гореть валежник. Стаскивали к самолету, где Иван Терентьевич уже развел костерок.
Потом, когда дрова были заготовлены, всем захотелось подсесть к огню, подумать, разобраться в случившемся, примениться к нему. Но Иван Терентьевич, скосив глаза в сторону второго пилота, спросил у лейтенанта:
— Ручья не встретилось часом? Наверное, понадобится вода. В самолете, по-моему, должно быть ведро.
— Я достану, — поднялся от костра Ольхин.
Приставив к открытой двери две сухие лесинки, он вскарабкался в самолет. Погромыхал там железом — и ведро, звякнув на лету дужкой, мягко упало в куст жимолости.
— Больше ничего не надо? — голос Ольхина, резонируя в дюралевой коробке кабины, прозвучал как из неотрегулированного репродуктора.
— У меня там сетки с продуктами, — крикнул Иван Терентьевич, подняв ведро.
Снова загромыхала обшивка, потом сначала одна сетка, а затем другая последовали за ведром. Повиснув на руках, Ольхин спрыгнул на землю.
— Там, в хвостовом отделении, брезент есть, вроде чехол с мотора, полушубок и два дождевика, — он смотрел на лейтенанта, хотя говорил, казалось, без адреса.
— Надо было захватить, женщину и раненого устроить, — сказал лейтенант.
— Обо мне не беспокойтесь, — вмешалась Анастасия Яковлевна. — Мне ничего не нужно, у меня шуба, позаботьтесь о летчике. К сожалению, я не могу вам помочь…
— Так что, лезть в самолет или, пока совсем не стемнело, идем по воду? — спросил Ольхин. — Ручей в той стороне, — он махнул рукой, — в распадинке, метров триста отсюда.
— Надо бы по воду… — неопределенно, как бы советуя только, сказал Иван Терентьевич.
Лейтенант посмотрел на ведро — и на Ольхина: отправить к ручью парня или идти самому, а его оставить здесь? Он, лейтенант Гарькушин, сопровождает арестованного и не имеет права выпускать его из поля зрення, но два человека на одно ведро… Смешно! А любой из вариантов — пошлет ли Ольхина, пойдет ли сам — будет нарушением инструкции. Правда, обстоятельства совершенно необычные, не предусмотренные ни одной инструкцией. И все-таки — как быть?
— Ладно, я схожу к ручью, — решил он. — А ты достань брезент и все остальное.
Когда лейтенант вернулся, Ольхин с Заручьевым сидели возле костра, Анастасия Яковлевна — чуть поодаль, на колесе от самолета. В широко открытых неподвижных глазах женщины играли, двигались блестка огня, начавшего светить, потому что сумерки заметно сгустились, и глаза ее словно бы ожили, потеплели. Летчик, накрытый полушубком, лежал совершенно неподвижно, и лейтенант вопросительно посмотрел, на Заручьева.
Тот угадал его мысль:
— Живой, дышит.
Лейтенант поставил ведро и тоже присел к огню, подложив, чтобы не сидеть на голой земле, несколько сучков и накрыв их сосновыми ветками, которые тут же обломил с молодого деревца. Четыре человека сидели у костра, и добрый красноватый свет его освещал их лица. Лейтенант подумал, что если бы он невзначай вышел к их огню, то решил бы, что люди спокойно сидят, коротая время, — как на вокзале. И так вот будут сидеть и дремать до утра, до поезда…
Поезд придет утром. Или днем. Может запоздать — прибудет не по расписанию. Но прибудет, можно не волноваться, можно было бы даже спать, повернув спину к огню, — люди так легко свыкаются с необычным! — если бы… Если бы у огня сидели не четверо, а шесть человек!
Некоторые, впрочем, свыкаются с необычным легче, легкого.
— Я думаю, не мешает перекусить, — сказал Иван Терентьевич. — Мне жена запасов на неделю напихала, так что не стесняйтесь, подсаживайтесь, — пригласил он.
— Не откажусь, — лейтенант обошел костер, присел на корточки рядом с Заручьевым.
— Анастасия Яковлевна, пирожок с мясом? — спросил тот учительницу.
— Спасибо, не хочется. Ничего не хочу. А вы, пожалуйста, возьмите в самолете мой баул, там продукты, И прошу вас, распоряжайтесь.
— Обойдемся, своих невпроворот, — сказал Иван Терентьевич. Достав эмалированную кружку, повернулся к лейтенанту. — По стопочке? А?
— Я? Нет.
— А я, знаете, выпью — может, на душе легче станет. — Он зачерпнул в кружку воды, долил спиртом. Посмотрел на Ольхина, на лейтенанта — и снова показал тому глазами на Ольхина: — Как?
Лейтенант помотал головой.
— Ну что ж… Тогда я в одиночестве… — Заручьев выпил и, зачерпнув еще раз воды, глотнул и только тогда выдохнул задержанный в груди воздух. — Угощайтесь, не брезгуйте! — он сделал приглашающий жест лейтенанту, а Ольхина подтолкнул локтем. И, словно бы ни к кому не обращаясь, размышляя вслух, сказал: — В таком положении, как наше, не до субординации…
Ели молча, Заручьеву даже спирт не развязал языка, хотя его подмывало объяснить лейтенанту, что следовало бы держаться проще. И лейтенант догадывался, что Ивану Терентьевичу именно это хочется сказать, но считал, что и так допускает послабления. Не желая говорить на эту тему, поторопился поблагодарить за угощение.
— Не за что, — ответил Иван Терентьевич.
Лейтенант встал и, подойдя к самолету, прислушался к дыханию летчика: дышит надсадно, тяжело, но ведь лейтенант Гарькушин ничем не может ему помочь. У летчика, пожалуй, сломаны ребра и разбита грудная клетка — дай бог, чтобы он ошибся, лейтенант Гарькушин. Он же не врач, его учили оказывать только первую помощь…
Он вернулся к костру — и, против воли, усмехнулся: в самом деле, как в зале ожидания! Заручьев, повернувшись спиной к огню, улегся на сосновых ветках, натянул воротник плаща на уши — и храпел! Подперев щеку рукой, сидела Анастасия Яковлевна — может быть, спала, можно же спать сидя. Только Ольхин приподнял голову, когда лейтенант наступил на сучок, и опять ее уронил. Ну что ж, им легче — быстрее пролетит время до завтра. Может быть, и ему постараться задремать, отключиться — чтобы ожидание не было таким долгим? Но лейтенант Гарькушин не просто ждет поезд. Он находится при исполнении служебных обязанностей, сопровождает арестованного рецидивиста. "Шаг вправо, шаг влево считается попыткой к побегу, конвой применяет оружие без предупреждения…"
Оружие!
Лейтенант не произнес вслух этого слова, он не разговаривал сам с собой, ни с кем не разговаривал, размышлял молча. Тем не менее у него было такое чувство, будто это слово — оружие! — произнесено, произнесено громко и тревожно. Он пощупал кобуру, удостоверился в ее тяжести — и понял, почему забеспокоился. Искоса, но внимательно посмотрел на Ольхина. Тот сидел, привалясь спиной к стволу дерева, спрятав лицо в коленях. Он, кажется, тоже спал, Ольхин, ведь ему не о чем беспокоиться. Но он мог и не спать, а прикидываться, будто спит. Выжидать, чтобы заснул его конвоир, и попытаться завладеть оружием. Он, лейтенант Гарькушин, наверное, так бы и попытался сделать на месте этого Ольхина, намереваясь бежать. Но лейтенант Гарькушин на месте лейтенанта Гарькушина не предоставит ему такой возможности. Он выспится в вертолете, завтра, до вертолета он не сомкнет глаз — и вопрос исчерпан. Хотя ему очень хочется спать…
Лейтенант бросил в огонь пару сучьев и отошел. Костра он боялся: пригреешься и задремлешь. Если бы какое-нибудь занятие, дело… Ладно, он постарается думать о чем-нибудь, это тоже занятие.
Он сел на границе света и тьмы, тепло сюда не добиралось, и стал думать о завтрашнем дне: где-то слышится шмелиное гудение мотора, но первый раз вертолет проходит стороной. Он, лейтенант Гарькушин, валит на костер ветки, хвою, в небо поднимается дым, и, ориентируясь на него, вертолет изменяет курс. Висит над вершинами сосен, потом опускается. Винт еще крутится, концы его лопастей еще неразличимы, а на землю уже выпрыгивают люди в белых халатах, бегут к костру, халаты кажутся розовыми… почему розовыми, ведь огонь днем не светится? Раненого летчика укладывают на носилки, поднимаются в кабину учительница, Заручьев, Ольхин, а он, лейтенант Гарькушин, закрывает глаза, спит…
Усилием воли и вместе с тем физическим усилием — тряхнув головой — лейтенант прогнал последнюю мысль, так как в самом деле стал засыпать. Кинул взгляд на Ольхина — нет, парень даже не переменил положения. Наверное, спит. Что, если проверить? Сделать вид, будто заснул, и следить, как поведет себя арестованный. И лейтенант, так же как Ольхин, положил голову на колени, полузакрыл глаза. Вернее — хотел полузакрыть, но веки сами собой смежились, и лейтенант почувствовал, что не может их разомкнуть, не может… Его понесло куда-то все стремительней и стремительней, и не за что ухватиться, все ровно и гладко…
Он не сразу постиг, что помогло ему открыть все-таки глаза. Ощупывая кобуру, он вскочил на ноги. Так же горел костер, так же лежал на боку Заручьев и полусидел под деревом Ольхин. Ничего, совершенно ничего не изменилось — видимо, он на секунду всего-навсего закрыл глаза. Но что-то произошло! Ага, вот! По ту сторону костра, захлебываясь, лаяла в кромешной тьме Зорка.
И сразу — как не бывало сна. Ни в одном глазу. Лейтенант выдернул из кобуры пистолет, толкнул на "огонь" предохранитель и стал вглядываться в темноту.
— Кто там?
Зорка продолжала лаять.
— Эй, кто там?
Лай собаки. Тишина. Снова собачий лай.
Поднял голову Ольхин, послушал. Поворачиваясь к стволу дерева боком и, как Заручьев, прячась в воротник, ругнул собаку:
— Пустолайка!
— Наверное, зверек какой-нибудь пробежал, — сказала Анастасия Яковлевна. — Зорка, перестань! Хватит! Нельзя!
Собака послушно примолкла, словно только и ждала разрешения на это. Появившись в кольце света, вильнула хвостом, потом тявкнула еще дважды и вернулась к хозяйке. Лейтенант спрятал пистолет и стал поправлять костер, заталкивая в огонь недогоревшие на краях кострища концы сучьев.
— Вы спите, спите спокойно, я подежурю, — сказал он Анастасии Яковлевне. Спать ему в самом деле расхотелось, он был благодарен Зорке за ложную тревогу, за встряску.
— Не спится, — вздохнула женщина.
Лейтенант все еще продолжал напрягать слух — это происходило против его воли, подсознательно. Думалось: вот треснет сучок под чьей-то ногой, вот… вдруг…
— Смешно, — он повернулся к Анастасии Яковлевне, — смешно и даже стыдно, честное слово. Как маленький, боюсь темноты. Ну, не боюсь, конечно, а как-то… спиной чувствую. Куда угодно, только не в тайгу ночью. С людьми еще ладно, а если один? Как слепой… — он прикусил язык.
— Слепым все равно, — сказала Анастасия Яковлевна. — Ночь или день… Тьма или свет…
— Извините, я не подумал, — сказал лейтенант.
Иван Терентьевич проснулся оттого, что повернулся неловко и разбередил боль в плече.
— Слушай, — сказал ему лейтенант, когда Заручьев, вздрагивая спросонья, подвинулся ближе к огню и протянул за теплом здоровую руку, — слушай, Иван Терентьевич! Ты посмотри тут на всякий пожарный, в случае чего толкнешь или крикнешь, а я подремлю. Ну, са́м понимаешь…
Он показал глазами на Ольхина, перепрятал из кобуры за пазуху пистолет и повалился на бок, подложив локоть вместо подушки. А Иван Терентьевич, посидев, поднялся, встал спиной к огню и стал осматриваться.
Утро только-только начиналось. Но место катастрофы, казавшееся вчера пятачком, обставленным забором из сосновых, лишенных вершин, стволов, даже при скудном свете еще не взошедшего солнца смотрелось совсем по-другому. Оно стало не местом в тайге, а тайгой — без конца без края, потому что линия горизонта не обозначилась еще, все линии были нечеткими, даль ничто не ограничивало. И склон сопки, на котором разбился самолет, казался отражением склона соседней сопки, и все остальные — отражениями друг друга.
Иван Терентьевич поправил полушубок, которым был накрыт летчик, подумав, что, если приходится поправлять его, значит, раненый двигался, может двигаться. Мысль эта заставила посмотреть на второго летчика — на того, что лежал под сосной. На мертвое тело.
— Такая судьба, — беззвучно шевеля губами, сказал Иван Терентьевич и возвратился к костру.
Ему не было страшно: в старательские годы не в такие передряги попадал. Чего не бывало: за двести километров от жилья оставался без продуктов и даже без спичек, когда в пороге перевернуло салик. Ничего, выплыл, вышел из тайги, тайга для него не новость. Однажды случилось вывихнуть ногу и так же вот, чуть не полмесяца, проваляться у костра, да еще самому за дровами ползать. Выжил, не упал духом, хотя ни на какую помощь рассчитывать не приходилось, никто не стал бы его искать. Но тогда ему никуда не надо было спешить, время ждало, не горели денежки за путевку… ну, путевку, положим, ввиду особых обстоятельств продлят. А тогда чего он, собственно говоря, нервничает? Жив остался, рука — отремонтируется, радоваться надо, что легко отделался. Сидеть и ждать, пока прилетит вертолет. Не прилететь он не может, самолету не позволят потеряться, к тому же с пассажирами и с золотом, он совсем позабыл о золоте! Уже, наверное, не только авиация, КГБ бьет тревогу, а те — всю тайгу перевернут, через грохот просеют! Иван Терентьевич совершенно успокоился, его даже на еду потянуло.
Он обошел костер, взял сетку с продуктами. В это время проснулся Ольхин, щурясь от дыма, посмотрел на Ивана Терентьевича. Тот заговорщически подмигнул, приложив палец к губам, и, одним глазом посматривая на лейтенанта, налил парню спирта. Ольхин благодарно ухмыльнулся, опорожнил кружку, знаком попросил воды — запить. Иван Терентьевич подал воду. Отобрав кружку, нарочито громко спросил:
— Эй, малый! Не спишь? Есть будешь?
— Если дадите. Я, вообще-то, на казенных харчах…
— Смотри не зажирей, — усмехнулся Иван Терентьевич, протягивая шаньгу с черемухой. Еще раз подмигнув парню, повернулся к учительнице: — Анастасия Яковлевна, вы спите?
— Нет, не могла уснуть. Уже утро, наверное?
— Вроде бы. Вы, может, чаю попьете?.. Ну, не чаю, а так, горяченького. Воды можно скипятить и заварить брусничником.
— Если вы будете настолько любезны.
— Какой может быть разговор, сейчас!
— Вы сидите, я сделаю, — вмешался Ольхин.
Пока Васька, найдя подходящую палку, пристраивал ее над костром и вешал ведро, Иван Терентьевич тоже хлебнул спирта, спрятал остатки — от соблазна, закурил новую сигарету. Около костра ему стало жарковато, он передвинулся ближе к Анастасии Яковлевне, миролюбиво сказал "Ну! Ну!" недовольно заворчавшей Зорке. Осторожно тронул учительницу за руку:
— Вы, Анастасия Яковлевна, не переживайте. Что с летчиками так получилось — мы ни при чем. Судьба, нашей вины тут нет. А касательно нас — вертолет с часу на час прилететь должен. Сами знаете, самое дорогое — люди, а самолет еще и металл, золотой запас то есть, транспортировал. Так что сейчас до самой Москвы переполох идет насчет нашей пропажи…
Он сделал паузу, затягиваясь сигаретой, и в это мгновение раздалось тихое, жалобное:
— Пи-ить…
Тревожно вскинула голову Анастасия Яковлевна, незрячие ее глаза смотрели в сторону самолета. Выпрямился у костра, не обращая внимания на лезущий в глаза дым, Ольхин. Иван Терентьевич, забыв о больной руке, хотел опереться на нее, вскакивая на ноги. Кинулся к кружке, к ведру…
— Черт! Горячая!
Он беспомощно посмотрел на Ольхина, перевел взгляд на летчика, на кружку в своей руке… И Ольхин молча выхватил у него кружку, перешагнул через лейтенанта, прыжками пронесся вниз по склону. Прежде чем Иван Терентьевич осознал это, он уже скрылся, потерялся в подлеске.
Лейтенант спал, полуоткрыв рот. Из угла рта серебряной нитью стекала тонкая — как у детей — слюнка.
— Пииить…
Заручьев поспешил к летчику. Тот по-прежнему лежал на спине, но полушубок теперь вовсе сполз, и казалось, рядом с раненым лежит еще человек. Глаза летчика были широко открыты, взгляд осмыслен.
— Пить…
— Сейчас, — заволновался Иван Терентьевич. — Вода будет. Есть, но горячая. Сейчас принесут…
— Очень хочется пить, — шепеляво сказал летчик, закрывая глаза.
Лейтенант спал. Анастасия Яковлевна, привстав, напряженно вслушивалась в происходящее. А Иван Терентьевич ждал, и секунды казались ему минутами. Нет, он ждал не Ольхина — воду, холодную воду, черт ее побери! Неужели парень удрал?
Ольхин вернулся. Иван Терентьевич принял это как должное, еще обругал:
— Тянешься, как старая баба…
— Вода же, — объяснил Ольхин, — неохота расплескать…
Летчик пил маленькими, медленными глотками. Опорожнив кружку, поблагодарил:
— Спасибо. — Помолчал. — Все… живы?
Теперь помолчал Иван Терентьевич. Потом сказал:
— Пассажиры — все.
Летчик снова закрыл глаза. Иван Терентьевич укутал его полушубком и отошел.
— Как он? — вполголоса спросила Анастасия Яковлевна.
Заручьев пожал плечами, забыв, что учительница не видит. Поправился:
— Пришел в себя, разговаривает, а как дальше… Я же не врач, сами понимаете.
Он прямо под ногами у себя нарвал брусничника, бросил в ведро с кипятком. Минуту-другую повременив, зачерпнул кружку и, слив немного, чтобы не плескать, подал учительнице.
— Осторожно, горячий. Может, шанежку скушаете?
— Спасибо, не хочу. Вот Зорке, пожалуйста, дайте что-нибудь…
Заручьев бросил собаке полпирожка, та только понюхала брезгливо.
— Не жрет! — удивился Иван Терентьевич. — Пирожок с мясом! Ну, матушка…
— Проголодается — съест, — сказала Анастасия Яковлевна. — Как вы думаете, скоро за нами прилетят?
— А кто знает? На розыски, наверное, уже вылетели. Но ведь как может быть: обнаружат нас, а взять нельзя. Значит, будут связываться по радио, вертолет затребуют. Одним словом, до вечера, чего доброго, придется посидеть у костра, так что набирайтесь терпения.
— Меня беспокоит состояние летчика. А тот, второй… Наверное, его ждут дома. Дети, жена…
— Не повезло, — сказал Иван Терентьевич.
Проснулся Гарькушин и сунул руку за пазуху. Спросил:
— Не слышно?
Иван Терентьевич понял:
— Пока нет. Другие места, видать, прочесывают, до наших не добрались. Чайку выпьешь?
— Потом, — отказался лейтенант, поднимаясь. — Наго заготовить дрова и мох. Чтобы, если появится вертолет, дать сигнал дымом. Пойдем, нас тут двое здоровых, больше некому, — повернулся он к Ольхину.
— Стараться все-таки быть на глазах? — напомнил тот вчерашние слова лейтенанта.
— Порядок есть порядок, — сказал Гарькушин.
Иван Терентьевич проводил их взглядом, потом наполнил кружку и поставил в сторону — остывать. Это все, что мог он сделать для раненого летчика.
Вернулись лейтенант с Ольхиным, приволокли дрова, Ольхин сел перекуривать. За компанию достал сигарету и Иван Терентьевич.
— Вообще-то сигареты экономить надо, — наставительно сказал он Ольхину. — Может, впереди целый день, а у меня полпачки осталось. У тебя как?
— Пачек двадцать. — Ольхин невесело усмехнулся. — Мужики наши подкинули: еду-то не к теще в гости!
— Тогда ничего.
— Что не к теще в гости?
— Да нет, что сигарет хватает. А там, — Иван Терентьевич махнул рукой куда-то в сторону, — там я тебе передачу принесу. Начальник твой, я думаю, позволит. А, лейтенант?
— Почему же нет? — пожал тот плечами.
— Правильно, — одобрил Иван Терентьевич, — потому что, говорят, от сумы да от тюрьмы не зарекайся…
— Раньше говорили, — сказал лейтенант.
— Пословицы — они вечные. Народная мудрость! — не согласился Иван Терентьевич.
— Пошли за мхом, — сказал лейтенант Ольхину.
Когда они скрылись в лесу, Иван Терентьевич, забыв, что кружка занята, достал бутылку… Чертыхнулся — не из горлышка же пить, спирт все-таки! Да и разводить нечем, — остуженного чая только всего что в кружке. Он может в любую минуту понадобиться пилоту.
— Бедному жениться — ночь коротка, — сказал себе Иван Терентьевич и от нечего делать принялся сортировать в сетках продукты. Рассортировав, подвесил сетки на сосне, подальше от костра. Взглянул на часы.
— Однако уже десять! А самолета не слыхать…
— Наверное, это не так просто, — сказала Анастасия Яковлевна. — Может быть, нет свободных самолетов…
— Раз такое чепе — найдут, — уверил Иван Терентьевич. — Десять рейсов отменят, а найдут. Знаете наверное, разбили трассу на участки, облетывают их, а до нашего еще не дошла очередь. Все делается планомерно. Правда, погода опять дурить начинает, снова облака слоем пошли…
— Что ж, будем ждать, — вздохнула учительница. — Все равно больше ничего не остается.
Пришли Ольхин и лейтенант, вывалили возле костра из форменного лейтенантского плаща мох.
— Еще пойдем? — задал вопрос Ольхин.
— Пока хватит, я думаю.
— Живот не подвело? — спросил лейтенанта Заручьев. — Съешь кусок хлеба с салом, чай подостыл, наверное, но можем подогреть. Раз я, по нетрудоспособности, должен при кухне состоять, требуйте бытового обслуживания. — Ивана Терентьевича все еще чуть-чуть веселил выпитый на рассвете спирт.
— Спасибо, — сказал Гарькушин и замялся: Ольхину хлеба с салом не предлагалось, а он, конечно, тоже был голоден.
Но Иван Терентьевич угадал причину смущения лейтенанта.
— Давай-давай, не интеллигентничай. Сними вон зеленую сетку и шуруй, может, Анастасия Яковлевна соблазнится за компанию, ей давно следует. А мы с ним, — он глазами показал на Ольхина, — утром подзаправились маленько. Не знаю, как у него, у меня пока брюхо дюжит.
— У меня тоже, — сказал Ольхин.
— А я, пожалуй, попытаюсь поесть, — решила учительница. — Если вас не очень затруднит, товарищи, в самолете баул. С продуктами и вязаньем…
— Я достану, — вызвался Ольхин и пошел к самолету.
— Может быть, попробовать покормить раненого? — предложила учительница.
— Не стоит будить, — отсоветовал Иван Терентьевич. — Сон то же лекарство.
Она согласилась:
— Пожалуй, вы правы.
Ольхин принес объемистый красно-полосатый баул и, хотя об этом не просили, дамскую сумку, похожую на портфель. Лейтенант, распотрошив заручьевскую сетку, найдя сало и хлеб, орудовал поданным Иваном Терентьевичем ножом.
— У вас, случаем, стаканчика или другой емкости не найдется? — обратился к Анастасии Яковлевне Заручьев. — Моя кружка под холодную воду занята, энзе для летчика.
— Есть, пожалуйста, — учительница вынула из разрисованной незабудками чашки пакетик с солью, протянула чашку.
— Дело! — обрадовался Иван Терентьевич. — Промерз что-то, а в бутылке ни то ни сё остается. Надо опростать, а посуду заместо кружки под холодную воду использовать. Рационализация! — Он допил спирт, занюхал корочкой, подмигнул лейтенанту: — Бог даст, хотя бога нет, пивка выпьем сегодня, к нам на прииска пиво не попадает, соскучился.
— Зависит от того, как скоро нас выручат, — сказал лейтенант. — Магазины в десять закрываются.
— При аэровокзале есть ресторан, — напомнил Ольхин.
— Ну, парень! — с хмельной восторженностью хлопнул Ольхина по плечу Заручьев. — Все знает, а! — И вдруг переменил тон, помрачнел: — Эх, малый! Жаль, не угадал ты ко мне на драгу, я бы из тебя человека сделал. Ходил бы ты сейчас без личной охраны.
— А-а, все мура, не жизнь, а жестянка, — сказал Ольхин.
— Зачем вы лжете самому себе? — неожиданно спросила Анастасия Яковлевна.
Ольхин растерялся.
— Я? Почему?..
— Да, почему? Вернее — для чего?
— Я не лгу…
— Лжете. Что все, как вы говорите, мура. Это ложь, залихватчина. Вот… я вас не вижу и не видела, какой вы, а знаю, уверена: и дрова собирали, и воду летчику принесли… ну, от чистого сердца, что ли. Вам, простите меня, даже нравится — правда, это не совсем то слово, — что с нами такое случилось. Нравится быть нужным, полезным людям, сознаете вы это или не сознаете. А это значит — не все мура.
Ольхин молчал. Пожалуй, он нашелся бы что ответить, если бы захотел ответить правдиво. Растолковал бы, что до лампочки это ему — быть нужным людям. Просто у людей есть жратва, даже спирт, а у него — шиш. Вот он и вынужден заходить с червей. Но разве скажешь такое.
— Н-ндаа… — раздумчиво сказал вместо него Заручьев и вздохнул. Он собирался прибавить еще что-то, но вдруг предостерегающе поднял руку, а через мгновение уверенно сообщил:
— Самолет. Точно! У меня слух охотничий!
— Совершенно верно, гудит, — подтвердила учительница. — Но где-то далеко-далеко…
Лейтенант вскочил, скомандовал Ольхину:
— Давай быстренько больше дров и, когда разгорятся, мох! Шевелись! — Не ожидая, когда Ольхин поднимется, он сам принялся швырять сучья в костер.
— Гудит?
— Гудит! Но еще не видно, за тучами где-то.
Слишком медленно разгорается костер, слишком долго не начинает дымить мох! Но вот наконец все в порядке — столб дыма, чуть отогнутый ветром в сторону, поднялся в низкое небо. Трое, напрягая слух, торопили время: минуты, доли минут казались часами. Когда же он покажется наконец, самолет?
Трое перебрасывались отрывистыми фразами:
— Вроде приближается?
— Как будто — да!
— По-моему, в той стороне…
— Интересно, самолет или вертолет?
Четвертый — Ольхин — с равнодушным лицом докуривал сигарету. Когда обожгла пальцы — бросил в костер и лениво потянулся. Он никуда не торопился.
Трое продолжали разговор:
— Черт, кажется, звук удаляется…
— Пох-хоже… Не увидели сквозь тучи…
— Да… пролетел мимо. Может быть, вернется? — учительница поворачивала голову от одного к другому, словно могла видеть и хотела прочитать на лицах мужчин подтверждение своим словам: да, конечно, сейчас вернется.
— Не вернется. Пролетел турбовинтовой, рейсом на Воркуту. А мы… Нас вряд ли догадаются искать… здесь.
Это заговорил пятый — раненый пилот.
Лейтенант с Заручьевым переглянулись.
— Бредит, — сказал лейтенант.
— Похоже, — согласился Иван Терентьевич.
Летчик, лежавший с закрытыми глазами, попытался привстать — и не смог. Сказал с гримасой боли на изуродованном лице:
— Нет. Объясняю. Уходили от тумана, летели над рекой. Потом кончилось горючее. В общем, могут считать, что сели на воду, ну и… надо что-то делать самим.
Он открыл глаза — убедиться, что его слышали, — и снова закрыл.
— Та-ак… — насупившись протянул Иван Терентьевич, закуривая сигарету. Он не растерялся, нет — но сообщение пилота требовало срочного пересмотра отношения к происходящему: — История, надо сказать. Что будем делать?
Лейтенант не ответил: он пытался осмыслить, что конкретно менялось теперь в их положении. Следовало составить и уяснить условия задачи, прежде чем попытаться ее решить. Но Иван Терентьевич не хотел ждать.
— Делать что-то необходимо, — продолжал он. — Что — надо думать, думать всем вместе.
— Прежде всего, — сказал лейтенант, — установим, в какой степени усложнилась ситуация. Спокойно, без паники. Я понимаю так: мы думали, что самолет или вертолет должен прилететь сегодня, в крайнем случае завтра. Выяснилось, что нас ищут не там, где мы находимся. Но ведь если не обнаружат самолета в районе реки — будут искать дальше, в других местах, так? Значит, вопрос упирается в число дней, которые потребуются, чтобы нас найти, и в количество продуктов…
Иван Терентьевич нетерпеливо махнул рукой:
— А, не в том дело. Вопрос упирается в воду.
— Не ясно, — признался лейтенант.
— Яснее ясного. Мы летели над рекой — и пропали. А самолет сухопутный. Соображаешь?
— Вы хотите сказать, что могут подумать, будто мы утонули, и прекратить поиски? — стараясь говорить спокойно, спросила Анастасия Яковлевна.
— Не прекратить, а… Ну, пока будут обшаривать реку, водолазов вызывать, время на это потребуется. Да еще учесть надо, что ледостав на носу. Могут отложить поиски до весны. Могут, конечно, одновременно и в тайге искать, но надеяться на это… — Он сделал безнадежный жест и замолчал.
— Что вы предлагаете? — спросил лейтенант, почему-то переходя на "вы".
— Что я могу предложить? Если бы хоть знать, где находимся… Постой, у них, — он качнул головой в сторону самолета, — должна же быть карта, да и пилот в курсе, наверное… — Иван Терентьевич шагнул к раненому, присел на корточки. — Друг, ты слышишь? Растолкуй, где мы приземлились. Точно.
— Не знаю, — сказал, почти не разжимая губ, пилот. — Летели в сплошном тумане.
Иван Терентьевич обескураженно взглянул на лейтенанта и снова нагнулся к летчику:
— А карта хоть есть? Карта?
Пилот чуть-чуть повернул голову, посмотрел на него усталыми глазами.
— Она ничего не даст. Не привязаться.
— Ясно, — сказал лейтенант, трогая Ивана Терентьевича за плечо — чтобы тот больше не беспокоил раненого. — На карте надо найти место, где мы находимся, точку стояния. А как мы ее определим?
Заручьев подумал — и мотнул головой:
— Верно, никак. А надо, иначе карта ни к чему… — Он отошел к костру, носком ботинка стал заталкивать в пламя недогарки. — И все-таки карту надо. Прикинуть хотя бы, куда нас занесло, пусть приблизительно. — Заручьев вопросительно посмотрел на лейтенанта, и тот, вспомнив о больной руке драгера и о том, как непросто забраться в искалеченную пилотскую рубку, снял плащ.
— Попробую поискать, — сказал он.
— Вот так, друг, — сказал Иван Терентьевич Ольхину, когда лейтенант протиснулся уже знакомым путем в рубку. — Считай, что получил увольнительную на неопределенное время, дыши воздухом, наслаждайся природой. Вот только жрать что будем? Тоже воздух? По-настоящему, надо брать ноги в руки и двигать отсюда к жилым местам. Но руки и ноги у нас связаны, — он посмотрел сначала на летчика, потом на Анастасию Яковлевну и, скорбно выпятив нижнюю губу, хотел развести руками, но только сморщился болезненно: правая напомнила о себе. — Сатана ее побери, болит! Нечего сказать, повезло! Да-а…
— Выходит, что хана? — спросил Ольхин.
— Принесет твой начальник карту — соображать будем. Черт, мне бы здоровую правую хваталку да топор — так все бы ништо…
Извиваясь по-змеиному, из-под самолета выполз лейтенант. Отряхнув китель, поднял с земли планшет, подошел.
— Вот. Все, что есть.
— Посмотрим. — Заручьев, завладев планшетом, стал вытаскивать из него карты.
— И еще… — сказал лейтенант, выкладывая из кармана похожий на велосипедную фару авиационный компас. — Большой вдребезги, а этот, хотя на самом таном месте был пристроен, на ветровом — или как его? — стекле, уцелел.
Иван Терентьевич подержал компас в руках, сказал:
— Штука… Только как по нему ориентироваться? Ни севера, ни юга, — он покрутился на месте, заставляя вращаться градуированную шкалу. — Не понимаю. Нам бы обыкновенный, не летческий.
— Погоди, разберемся, — сказал лейтенант. — Дай сперва карты поглядеть.
Вдвоем они принялись раскладывать, подбирая по номерам, листы.
— Нам что надо? — громко рассуждал вслух Заручьев. — Во-первых, крайние точки: Счастливый Ключ и куда летели. После прикинем, где могли отвернуть, — по времени. И будем от того места смотреть на запад. Черт, сплошная кишка получается, как же так? — он говорил о карте.
Ольхин — руки в карманах, с сигаретой в зубах, — встал у него за спиной. Выдохнув дым, сказал:
— Получается трасса, в воздухе дороги прямые.
— Точно, — согласился Иван Терентьевич. — Трасса. А к лешему нам трасса нужна, мы же к западу… А к западу ничего нет.
— Тайга есть — и к западу, и к востоку, — сказал Ольхин. И совершенно неожиданно — это было почти страшно, казалось, человек свихнулся! — запел:
— Ты что? — начал было Иван Терентьевич и, не закончив, встал, — забытая всеми, сжавшись в комок, всхлипывала Анастасия Яковлевна.
Лейтенант отвернулся — что сделаешь, чем утешишь?
Иван Терентьевич буркнул вполголоса:
— Еще не хватало…
И только Ольхин неуклюже попытался успокоить:
— Не переживайте, мамаша, бывает хуже!
А Иван Терентьевич пальцем поманил лейтенанта ближе и, чтобы не услышала учительница, сказал негромко:
— А ведь он прав, собака…
— Что бывает хуже?
— Да нет, насчет тайги, и что ни дорог, ни поселков. Ты вспомни, — Заручьев взял палочку, провел на серой от пепла земле линию, другую, стал раздумчиво пояснять. — Так, скажем, мы — ну, Счастливый. Ключ. Теперь смотри: тут — река, сюда притоки пойдут. А на запад — совсем пустая тайга потянется, верно — ни дорог, ни поселков, поселки на севере по рекам больше. А мы где-то в этом районе.
— Выходит — ждать?
— Чего?
— Ну… раз за помощью идти некуда, больше ничего не остается, только ждать…
— Че-го?
— Что все-таки найдут…
— Может, когда-нибудь и найдут, только — когда? И что? Вот он, — Иван Терентьевич показал палочкой на сосну, под которой лежал командир самолета, — он ждать может, потому что ему все равно — дождется или нет. А мы, если не дождемся…
— Но ведь другого решения нет, — сказал лейтенант. — И даже если бы куда-то можно было идти, летчик не в состоянии, да и женщина… И одних не оставишь…
Заручьев отшвырнул палочку и, глядя в глаза лейтенанту, заявил не допускающим возражений тоном:
— Значит, надо идти кому-то одному.
— Куда?
— На юг — и по рекам. Другого пути нет.
— А куда придешь?
— Куда ноги приведут. Лишь бы к людям. Но у тех, кто останется, хоть две надежды будет вместо одной.
Лейтенант подумал.
— Ну что ж… Надо решить, кому лучше идти.
— Наверное, мне, — сказал Заручьев. — Пусть у меня одна рука и барахлит, но хоть в тайге не впервой, есть опыт.
Но Гарькушин покачал головой:
— Нет, надо обмозговать ряд вопросов… Со всех сторон. В общем, на ночь глядя идти не имеет смысла, верно? Ну, а к рассвету я решу, как быть.
— Ты? Не много ли на себя берешь, друг?
— Не много, — сказал лейтенант. — Ты решаешь за себя. А я должен еще и за него, — движением головы он показал на Ольхина.
Заручьев пренебрежительно махнул рукой:
— Брось, теперь не до "шаг влево, шаг вправо", с тебя за него не спросят.
— Нет, — сказал Гарькушин. — Закон есть закон, порядок есть порядок.
Заручьев усмехнулся:
— Твой закон здесь кончается. Здесь закон — тайга… Смотри, тебе виднее, только, бывает, некоторые за деревьями леса не видят.
— Постараемся увидеть, — сказал лейтенант.
Ольхин равнодушно прикуривал от уголька — с таким видом, будто его разговор не касается.
Подбросили топлива в костер. Помолчали — каждый думал о своем, по-своему, хотя и об одном и том же. Внезапно Заручьев встал.
— Ладно, кому ни идти, остальным здесь оставаться. Наверное, не на день и не на два, так снегом как бы у костра не замело. Есть предложение самолет поставить как следует, на брюхо, и перебазироваться в кабину. Все-таки крыша и четыре стены, да и печку придумать можно.
Лейтенант и Ольхин — будто впервые заметили — долго рассматривали самолет. Заручьев ждал.
— Кран надо, — то ли всерьез, то ли пошутить решил Ольхин.
— Кран не кран, а без пилы или топора, на худой конец, ничего не сделаешь. Сосну, в которую хвост уперся, перочинным ножом не срежешь. Да и вторая, сбоку, не многим тоньше.
— А может, все-таки обе сосны свалим? — спросил Иван Терентьевич. — Попробуем во всяком случае? Давайте-ка под ту и другую огня и дров.
— Верно ведь, черт возьми! — удивился лейтенант. — А мне и в голову не пришло.
— Опыт, друг! — сказал Иван Терентьевич. — Почему я и думаю, что за помощью идти следует мне. Тайга — она любит сноровку, без сноровки по ней недалеко уйдешь.
Лейтенант ничего не сказал — поднялся, выдернул из костра два горящих сучка, комельки которых еще не занялись, захватил сучками пылающую головню и понос к самолету.
— Подожди, начальник! — крикнул ему Ольхин. Он тоже прошел к самолету, оторвал висевший на двух заклепках лист обшивки, вернулся к костру. Нагреб на железо угольев и, как на подносе, отнес под ту же сосну, что и лейтенант. — Так-то, пожалуй, вернее, а? — спросил он.
Потом, когда комли обеих сосен — удерживающей на весу хвост самолета и той, которая заставила самолет лечь почти на бок, — облизывали язычки огня, Ольхин, протянув Ивану Терентьевичу пачку сигарет, поинтересовался:
— Похоже — приходилось иметь дело с тайгой?
— Приходилось всяко, — Заручьев взял сигарету, долго разминал ее, задумчиво глядя в пламя костра. — Не знаю, придется ли еще…
— Я думаю, должен все-таки прилететь самолет, найти нас! Ведь у техники такие возможности, ведь двадцатый век, не могут допустить, чтобы потерялись люди и машина, это невероятно! — почти выкрикнула Анастасия Яковлевна.
Иван Терентьевич поджег сухую веточку, прикурил от нее, затянулся. Сказал:
— Так оно все и есть. Просто никогда не мешает перестраховаться, понимаете?
— Но вы только что говорили… Я знаю, не хотите меня пугать, да? Скрываете…
— В мыслях не было, — сказал Иван Терентьевич. — А что говорили — чего под настроение не скажешь? И еще у нас, таежников, примета такая — говорить плохо, чтобы хорошо получилось. Так что не обращайте внимания.
Но Анастасия Яковлевна его не слушала.
— Я понимаю, что связываю вам руки… Поверьте мне, если бы я одна — я сама попросила бы меня оставить и идти всем. Но летчик — я ведь ничем не смогла бы ему помочь, даже принести воды или дров для костра…
Иван Терентьевич постарался переменить разговор.
— Вот что, мужики! Пока все вместе — давайте дров и дров: три огня кормить надо. Потом пилота придется перенести куда-нибудь, а то черт знает, как сосны падать задумают… Нет, это после, пока что еще даже кора не обгорела, — замахал он рукой, увидев, что Ольхин с лейтенантом направились к самолету.
Когда они, повернув, скрылись в лесу, Иван Терентьевич подошел к дереву, на котором висели его сетки, переложил какие-то свертки из одной в другую, что-то распихал по карманам. Захватив одну из сеток, деловым шагом приблизился к учительнице.
— Анастасия Яковлевна, я не знаю, сколько у вас продуктов, но сколько бы их ни было — советую экономить. Даже не советую, а требую — в ваших же интересах. Продукты у меня да у вас, а ртов пять. Собаку с довольствия придется исключить, нужда мышковать научит, не сдохнет. И неплохо бы отложить неприкосновенный запас, на самый крайний случай. Не возражаете?
— Нет, что вы, я понимаю…
— Тогда действуйте.
— Я не вижу… Может быть, вы сами?
— А вы просто переложите в баул что покалорийнее. Сало, масло.
— Хорошо, — сказала Анастасия Яковлевна.
Он подошел к пилоту, мимоходом поправил костры под деревьями, чтобы пламя охватывало их кольцом. Спросил:
— Друг, ты в состоянии разговаривать? Такое дело…
Пилот не позволил ему закончить:
— Я слышал. Надо идти… На восток, вернее всего… К реке. Притоков по этому берегу нет, просто идти к востоку…
Он умолк, а Иван Терентьевич стоял над ним и раздумывал.
— Вот что, — сказал он, трогая пилота за плечо. — Может, еще выдюжишь, всякое бывает. Надо тебе пожрать — не объешь, все равно надолго не растянуть, нечего.
Пилот чуть заметно покачал головой.
— Не надо. Я не смогу, видишь? — Он рукой показал на искалеченный, кровоточащий рот, помолчал. — Возьмите в хвосте шоколад и галет немного. Остатки бортзапаса. А мне сигарету бы.
— Можно, — сказал Заручьев. Но, шаря по карманам, не сразу вспомнил, что сигареты кончились, выбросил пачку. — Обожди только маленько, минут пяток.
Когда появились лейтенант и Ольхин, вместо одной сигареты всучивший Ивану Терентьевичу только-только начатую пачку "Махорочных", он сказал им про летчика:
— Железный мужик. Правильный.
Дрова таскали до потемок. Иван Терентьевич тоже помогал — управлялся кое-как одной рукой, собирая сучья. Да и болеть поврежденная рука вроде бы стала меньше. Потемки всех свели у костра, только пилоту устроили постель из хвои в некотором отдалении: он сказал, что в тепле ему будет хуже. От костра он отвернулся, и Заручьев, подавая ему — уже без просьбы — еще сигарету, заметил, что пилот из-под полуопущенных век смотрит туда, где, прикрытый ветками, лежит его напарник.
— Вот что, — заявил Иван Терентьевич, подойдя к костру и останавливаясь напротив лейтенанта. — Я уважаю закон и всякие там кодексы, но мертвых полагается хоронить. Завтра на две здоровых руки будет меньше, поэтому давайте копать могилу, хоть и темно.
Лейтенант, не вспоминая о следствии и экспертизе, готовно встал. Поднялся и Ольхин.
— А чем копать? — спросил он.
— Руками, сучьями, ведром, железным листом, на котором тащил уголья, — сказал Иван Терентьевич. — Покать, что идет к ручью, вся песчаная, грунт для такого дела удобный. Айда!
Туда, где Иван Терентьевич выбрал место для могилы, свет костра не доходил. Пришлось развести еще один костерок. В его скудном, зыблющемся свете и в его дыму три человека в пять рук молча принялись за работу. Место оказалось относительно свободным от корней деревьев. Толстых, с которыми нельзя было бы совладать без топора, не попадалось. Работали споро, стараясь не глядеть друг на друга, словно делая что-то зазорное, такое, чтобы поскорее закончить — и разойтись сразу же в темноте. Лейтенант первый разогнул спину, отбросил обломок пропеллера, которым пользовался вместо лопаты, сказал:
— По-моему, хватит…
— Хватит, — согласился Иван Терентьевич и, вытерев со лба пот, оставил на нем ржавую полосу.
Потом, когда на месте ямы уже был холм, когда Ольхин воткнул в этот холм обломок винта, служивший лопатой, драгер стянул с головы шляпу и, постояв так, сказал только одно слово:
— Пока!
У костра он, оглядев всех, заявил таким тоном, словно ожидал возражений и заранее хотел их пресечь:
— Кроме наших с Анастасией Яковлевной продуктов, обнаружилась плитка шоколада и три пачки галет. Аварийный запас пилотов. Конечно, этого надолго не хватит, но все же… Так вот, или делить на всех — и делайте со своей долей, что хотите, или выдавать каждый раз по самой малости, чтобы на дольше хватило. Решайте.
— Решайте вы, — сказал лейтенант. — У нас нет права голоса.
— Точно, — подтвердил Ольхин.
— Я думаю, надо выдавать помаленьку, — решил Иван Терентьевич и, сходив в темноту за сеткой с продуктами, приступил к дележке.
Долю пилота — кусок хлеба и два ломтика сала, тоненьких, как бумага, — Иван Терентьевич понес сам.
— Надо поесть, друг. Надо, понимаешь?
— Я же сказал: не могу. Не открыть рта… Вот воды дай. Немного.
— Ладно, — у костра Иван Терентьевич налил в кружку теплой воды и растворил в ней хлеб. Подумав, предназначенное летчику сало взял себе, а свой хлеб тоже раскрошил в кружку. Бросил туда маленькую щепотку соли — что захватилось двумя пальцами. Размешивая, сказал:
— Соль пуще всего беречь надо!
Вернулся к пилоту, подал кружку:
— Пей!
Пилот сделал глоток, другой — и, отстранив кружку, вопросительно посмотрел на Заручьева.
— Давай пей, — прикрикнул тот.
Но пилот качнул головой и закрыл глаза.
— Н-нда, — промычал Иван Терентьевич и, помедлив минуту, отошел. У костра протянул кружку Ольхину: — Держи, ты больше всех шевелился. А теперь — все! — постарайтесь спать. Чуть рассветет — надо будет идти. Кому-то, — добавил он, подметив протестующий жест лейтенанта. И первый, по-вчерашнему, свернулся на своей подстилке.
— Спи, — сказал лейтенант Ольхину.
— А что еще делать? — вопросом ответил тот. — Только спать. — И продолжал сидеть, ковыряя палочкой угли в костре.
— Ложись давай, — повторил лейтенант тоном приказа, но, спохватившись, что приказать такое нельзя, нелепо, заговорил многословно и сбивчиво. — Пословицу знаешь: недоспать хуже, чем недоесть? На харчи рассчитывать не приходится, значит, добирай сном, а то ног не потянешь. Ситуация! — лейтенант скорбно вздохнул.
— Да-а, попал ты в непонятное, начальник! — Ольхин ухмыльнулся и, лениво, медленно поворачиваясь, улегся. Спиной к огню и лейтенанту.
Лейтенант почувствовал, что начинает раздражаться — Ольхин ему мешал. В училище приучили решать отвлеченные задачи, решать теоретически: как следует поступить, если произошло то-то и так-то, там-то и тогда-то. Наверное, если бы нынешнюю ситуацию предложили лейтенанту в виде условий такой задачи, он нашел бы правильное решение. Но присутствие Ольхина путало карты: уже нельзя было решать отвлеченно, он существовал, находился рядом и даже позволял себе соболезновать: "Да-а, попал ты в непонятное, начальник". А что, собственно говоря, переменилось в их взаимоотношениях? В расстановке сил, так сказать? Кажется, ничего…
"Врешь, — мысленно крикнул лейтенант, — переменилось, иначе бы ты об этом не думал!" И задал себе вопрос: как оценивает изменившуюся ситуацию Ольхин, как следует оценивать ее, исходя из предположения, что Ольхин воспользуется этой переменой для своей выгоды, для себя?
Итак, спокойно, лейтенант, не торопись! Что интересует Ольхина? Естественно, постараться не попасть на скамью подсудимых и, следовательно, за решетку. Но это его интересовало и до аварии. Только осуществлению таких его интересов мешали лейтенант милиции Гарькушин с пистолетом системы Макарова и невозможность выпрыгнуть из самолета, а на аэродроме, он знал, встретит "раковая шейка". Так. Теперь — что изменилось? Лейтенант есть, пистолет Макарова есть, но кто-то должен идти за помощью. Что это даст Ольхину?
— Задача! — буркнул он вслух.
Кто пойдет за помощью? Ни пилот, ни слепая учительница идти не могут, исключено! Остаются трое: он, Ольхин, Заручьев. Совершенно ясно, что такое путешествие по тайге не шутка — без топора, без оружия. Однако он опять забыл о пистолете! И значит, вариантов оказывается не три, меньше. Существует оружие — пистолет, — и он, лейтенант Гарькушин, обязан позаботиться, чтобы оружие не попало в чужие руки, тем более преступные. А это значит, что нельзя лейтенанту Гарькушину ни идти за помощью с Ольхиным, ни оставаться с Ольхиным здесь, послав Заручьева. Послать одного Ольхина он не имеет права. Значит, других вариантов нет — только идти лейтенанту Гарькушину. Одному, Как ни крути, единственный вариант.
Ладно, решил лейтенант, выбора у тебя нет. Так — значит так, все. Но остается еще вопрос: золото. Угораздило же управляющего прииском вспомнить, что самолет повезет золото, когда рядом находился он, Гарькушин! Не знал бы — и черт с ним, с золотом, а теперь думай о нем, вроде как комиссар "Золотого поезда"! Покосившись на спящих, он встал, принялся подбрасывать в костер дрова. Случайно взглянул на Ольхина — и только показалось ему или в самом деле тот поспешно зажмурился? Неужели все-таки ждет, чтобы он заснул, надеется овладеть оружием? Ну нет! — лейтенант взгромоздил на костер толстый, но трухлявый березовый комель и, пятясь, переступил четкую границу света и абсолютной тьмы, застолбленную стволами сосен. За ними, он знал, от костра ничего не видно.
Но и сам он, очутившись в темноте после хоть и неяркого, но все-таки света, в первый момент не увидел впереди ничего, кроме тьмы. Потом различил не то тени, не то деревья. И не поверил глазам, подумав, что все еще контраст света с тьмой продолжает выкидывать свои шутки: земля казалась белой. "Снег?" — оторопел лейтенант.
Это был не снег, иней. Когда глаза попривыкли к мраку, он рассмотрел плоские черные кроны сосен в черном провале неба, слева — потерявший четкие контуры самолет и гнилую валежину впереди. Лейтенант подошел к валежине, спрятал под нее, вместе с кобурой, пистолет и вернулся к костру.
Следовало решить, что делать с золотом. Может быть, ничего не надо? Прибудут спасатели — золото передадут по назначению, возможно, на вертолете будет специальный человек, он обеспечит дальнейшую транспортировку, если… Если золото окажется на месте. А если нет? Если оно прежде попадет в руки Ольхину? Золото есть золото. Вот если его спрятать в тайге, в таком месте, куда незачем кому бы то ни было соваться, а выбравшись из тайги, сообщить, куда спрятал?..
Он так уверен, что выберется из тайги? Да?
А вдруг не выберется — и золото, государственное достояние, будет потеряно навсегда, тогда как оставленное в самолете, даже если в нем никого уже не будет, — в самолете его рано или поздно найдут. Потому хотя бы, что нельзя рано или поздно не найти самолет. Так что — лучше просто не заикаться на эту тему. Тем более что Ольхину вряд ли придет в голову шарить в пилотской кабине, нечего ему там искать.
"Будем считать, что такого вопроса не существовало", — решил лейтенант, по-заручьевски поворачиваясь спиной к огню и поднимая воротник. Успевшие подсохнуть от тепла костра сосновые ветки сделались жесткими, колючими, но лейтенант этого не заметил.
Ему никогда ничего не снилось, он смеялся над теми, кто, протирая по утрам глаза, начинал вспоминать всякую чертовщину, будто бы виденную во сне. В то утро мог посмеяться Заручьев — над ним. Лейтенант, когда Иван Терентьевич тронул его за плечо, сказав: "Вставай, друг, пора!" — неожиданно перехватил руку Заручьева болевым приемом и прохрипел:
— От-дай.
— Что? — растерялся Иван Терентьевич.
— Пистолет.
— Отпусти руку и проснись, — сказал Иван Терентьевич.
Не выпуская руки, лейтенант круглыми глазами посмотрел на Заручьева, на свернувшегося за костром Ольхина, произнес облегченно:
— Фу, черт…
— Бывает, — сказал Заручьев и предложил: — Ну, давай потолкуем, время не ждет.
— Сейчас. — Лейтенант встал, поморгал все еще видящими другое глазами и пошел прочь от костра. Возвращение его вызвало у Ивана Терентьевича улыбку: лейтенант застегивал пряжку ремня.
— Приспичило? С чего бы это?..
— Да нет… Приснится, понимаешь, такое… — Лейтенант застегнул ремень, поправил на нем тяжелую кобуру. — Ну, будем толковать. Идти, в общем, следует мне.
— Не одумался? — спросил Иван Терентьевич. — Представляешь, что такое тайга?
— Слыхал, — сказал лейтенант. — Но говорят, пустыня еще хуже. Жара и жажда.
— Думаешь, холод и голод лучше?
— Думать некогда, надо идти. Пойду я. Ты здесь нужнее — к примеру, с тем же самолетом, под жилье его приспособить, кто придумал? В общем, люди на тебя остаются. И еще… Понимаешь, оружие у меня… — понизил голос лейтенант.
— С твоим оружием в тайге — бурундуков пугать, — не так понял Заручьев. — Централка была бы…
— Я не об этом… Не годится мне с ним, — лейтенант мотнул головой в сторону Ольхина, — при наличии пистолета чуть не под одним одеялом спать. Инструкция насчет этого есть.
— Про инструкции тебе забывать надо, здесь они недействительные, — изрек Иван Терентьевич и, глядя прямо в глаза лейтенанту, признался: — Неохота мне тебя пускать. И сам пропадешь, и для людей без толку. Тайга — это тайга, да и время сейчас такое…
— У меня хоть сапоги, тебе в ботинках и вовсе соваться нечего, — сказал лейтенант.
Заручьев, выпятив нижнюю губу, посмотрел на сапоги лейтенанта, кивнул:
— Да-аа… Мне они с портянками не налезут… Ну что ж, двигай, если такое дело. В общем, путь у тебя один — на восток. У компаса этого — я вчера смотрел — отметина есть: север. Когда она против царапины на стекле станет, если он стеклом к тебе, значит, надо вбок забирать под девяносто градусов…
— Грамотный я, да и ориентировке на местности маленько учили. Пойму, — перебил его лейтенант. — Карты я, пожалуй, возьму тоже, тяжесть невелика.
— В походе, парень, спичка — и та весит, — сказал Иван Терентьевич. — Ну, давай будем тебе провиант выделять. Сколько его достанется — можешь предполагать сам, так что мимо ягоды, пока она еще есть, или мимо гриба не проходи. На кедры поглядывай — может, на котором кедровка шишку оставила, хотя и навряд. Петли на птицу ставить учить не стану, тебе ходом надо идти, не будет времени петлями заниматься. Да, еще: пуще глаз береги спички, а патроны у своей пушки смолой обработай, чтобы воды не боялись.
— Иван Терентьевич! — окликнула внезапно учительница.
— Ага, здесь. Мы думали, вы спите.
— Я хотела напомнить, что отложенное — ну, неприкосновенный запас — у меня в сумке.
— Неприкосновенный — значит, неприкосновенный, — сказал лейтенант.
А Заручьев буркнул:
— Мы учтем. — И, вполголоса, пожаловался лейтенанту: — Сказал специально: остальное на крайний случай. Чтобы не рассчитывали, не знали. Так нет… Не могла сообразить, что твою долю можно увеличить пока за счет наших расходных. Тем более и энзе-то там…
Доля лейтенанта легко уместилась в боковом кармане милицейского плаща. Но из того, что осталось, — это лейтенант видел собственными глазами! — четыре таких доли было бы не выкроить. И лейтенант, мучась от сознания, что его продуктов в общем котле не было, и в то же время чувствуя, что не может и не хочет отказаться от них, даже от лишнего, оторванного от доли других, глядя в землю, сказал:
— Спасибо. В общем… приложу все силы, чтобы это было не зря.
Иван Терентьевич усмехнулся:
— Ясное дело, приложишь, в тайге помирать вряд ли захочется. А вот зря или не зря — не знаю.
Около самолета осталось четыре человека.
И собака.
Она первая подняла голову, когда над вершинами сосен в направлении разложины, где брали воду, пролетел глухарь. Собака только проводила его взглядом и снова свернулась под боком у хозяйки. Зато Иван Терентьевич с задранной головой сделал несколько шагов, прослеживая полет птицы. Когда та скрылась из глаз, разбудил Ольхина:
— Эй, парень, проснись! Слышь, парень!
Ольхин, ежась, пряча руки в коленях, поднялся. Подвинулся почти к самому огню.
— Ты вот что… тебя, кажись, Василием звать?
— Ага.
— Ты вот что, Вася… Давай с тобой на костры дровишек подкинем, а то сосны наши чего-то мало за ночь пообгорели, падать не думают, и подадимся В тайгу. Посмотрим, нельзя ли поблизости где глухаря или тетерева поймать. Мы часика на полтора уйдем, Анастасия Яковлевна! — крикнул он учительнице. — Не возражаете?
— Я — нет, но как с летчиком?
— А где начальник? — спросил, озираясь, Ольхин.
— Летчик полтора часа нас подождет, мы в интересах коллектива уходим, — нарочито громко ответил Заручьев Анастасии Яковлевне, потом повернулся к Ольхину. — Где начальник? Считай, парень, что тебя отдали на поруки Заручьеву Ивану Терентьевичу, — знаешь такого? А дальше поглядим что будет.
— Нет, верно?
— Начальник твой помощь пошел вызывать. Пошел! Дойдет наверняка. — Иван Терентьевич провел раскрытой ладонью сверху вниз по лицу, отвалил челюсть, изображая доходягу. — А вот придет ли куда…
— Шутите, — не поверил Ольхин. — Он же за меня расписывался.
— Серьезно тебе говорю — ушел за помощью. Одним словом, нет его, некому тебя караулить.
— А если я убегу?
Иван Терентьевич пожал плечами:
— Беги. Мне что, жалко? Я к тебе не приставлен. В какую сторону хоть побежишь-то?
Ольхин, обводя взглядом волнистый, задернутый дымкой горизонт, прищурил один глаз.
— То-то! — сказал Иван Терентьевич, шагая впереди Ольхина по косогору. — Тайга! По мне, если я не хаживал по ней, примениться к ней не умею — золото давай, и то в такое время не сунусь.
— Да, а что золото? Как с ним? — внезапно спросил Ольхин.
Заручьев ответил не сразу — и вопросом:
— Какое золото?
— Ну, что вы говорили старухе… Которое на самолете у нас.
— А-а-а, это золото… Я думал — какое? Его твой начальник забрал с собой. Сказал, что инструкция там, и вообще. Ну, мое дело маленькое, ему положено охранять — пусть охраняет.
— Достанется ему — потаскать, если его порядочно. Ну да ничего, он мужик здоровый, — сказал Ольхин.
Иван Терентьевич вроде бы обрадовался чему-то:
— Да уж потаскать потаскает! Говорил я ему: оставь, куда денется, так нет… Ну, думаю, валяй, если так! Дело хозяйское! — Он остановился. — Давай, Василий, закурим, что ли…
Закурили. Заручьев напомнил:
— Спички экономить надо.
— Есть спички, запас! — похвастал Ольхин. — Не месяц же мы здесь будем загорать.
— А это, парень, один бог знает — сколько. Хотя бога и нету.
— Так… разве мы месяц протянем?
Иван Терентьевич шел, внимательно посматривая вокруг, словно искал чего-то. Его заинтересовал уроненный ветром кедр, песчаная почва на месте выворотня. Походил вокруг, присматриваясь и бормоча что-то себе под нос, обескураженно развел руками:
— Не похоже, чтобы сюда глухари наведывались, еще не обнаружили; ветровал-то недавний. Пошли дальше, Василий. — Он помолчал, сосредоточенно мусоля погасший окурок. И вдруг, как бы про себя, вспомнил: — Говоришь, месяца не протянем?.. Месяц, пожалуй, и нельзя тянуть — затянешь на себе петлю. Тут, парень, так рассчитать надо, чтобы какие-то силенки в запасе еще остались. Чтобы, скажем, если за неделю-полторы нас не выручат, можно было взять ноги в руки и пытать судьбу выбираться своим ходом. Положение у нас — вроде картежной игры втемную, в карты-то играть, поди, понимаешь? Недобрал — проиграл, может самолет прилететь, а тебя нет на месте, ушел. И перебрал — проиграл: самолета нет, а у тебя уже ноги не ходят — идти. Ладно, пока время есть ждать — подождем, должен вроде прилететь… Правда, для тебя это небольшая сладость, если и прилетит, — неожиданно закончил он.
Ольхин шел, загребая заиндевелую листву тупыми носками резиновых сапог.
— Иван Терентьевич!
— Чего?
— Со мной один черт не хорошо, пусть. И все же у вас и у меня на крайний случай этот шанс остается — последний, так? А летчику и старухе наверняка хана, да?
Заручьев круто повернулся, они почти столкнулись грудь с грудью.
— Нечего наперед загадывать — что да как. Понял? Всех нас вроде как драга черпаком зацепила, а куда кинет — в отвал или на грохота, — от нас не зависит. Куда кинет, туда и попадем.
— Но ведь мы хоть поскрестись можем, попытаться вылезти.
— Так, — кивнул Иван Терентьевич. — Допустим, что можем. Но если не в ту сторону полезем — а кто знает, в какую лезть? — нам некого винить будет, себя только, А если и их не туда за собой потянем? — Иван Терентьевич поднял указательный палец и погрозил им. — Ты бы хромую конягу через гари да мари, где она остальные ноги доломает, повел бы? Нет? А тут не скотина, живые люди! Ну… и рано об этом разговаривать, давай практику делать, пошли дальше. Теорией будем после заниматься.
— Черт с ней, с теорией, — согласился Ольхин, следуя за Иваном Терентьевичем. — Я за практику, ближе к жизни. Только вот… идти идем, а как возвращаться? Иней вроде таять начинает, по своему следу не выйдет…
— Найдем дорогу, — уверил Заручьев. — Запоминай; прошли распадинку, по другой направо свернули. Однако давай-ка тот вон косогор обследуем, песчаный. Геологи называют — обнажение.
Осыпая еще не смерзшийся песок, они поднялись до половины косогора — здесь склон переламывался нешироким уступом. Иван Терентьевич побродил по этому уступу, ковырнул в нескольких местах носком ботинка песок и спросил спутника;
— Видишь?
— Что песок? Вижу.
— А что с камушками?
— Тоже вижу.
— А перья?
— Какие? Эти? — Ольхин поднял одно, а потом другое отливающее металлом перышко, оба неопрятно разлохмаченные у оснований. — А что с ними делать?
Иван Терентьевич взглянул на него с откровенной жалостью:
— Слушай сюда. Глухарю — ему камни обязательно глотать надо, особенно перед зимой. Они у него в брюхе, на манер жерновов, хвою перетирают, у глухаря сейчас корм один — хвоя. И место это, по перьям видать, глухарям хорошо знакомое, еще бы такое найти — считай, ползаботы с плеч. Ремень поясной у тебя есть?
— Есть.
— Скинь, придется испортить, если подходящий по крепости. У меня, как на грех, негодный, с бляшками да нашлепками. А твой пойдет, твой годится, — одобрил Иван Терентьевич, рассматривая снятый Ольхиным ремень. — Теперь ты, Вася, покуда брусники нарви, только чтобы вместе с ветками, а я пойду пружину вырежу и палочек, которыми настораживать. Одну петлю сейчас поставим, а для других материал надо искать. Поглядим, может, брезент распустим на нитки или что другое. Ну, действуй! — стараясь, чтобы не скользить, ступать на пятки, он стал спускаться по склону. Проводив его взглядом, Ольхин полез наверх, в бор.
Вернулся он первым. Увидев внизу пробирающегося между кустами Ивана Терентьевича, свистнул.
— Ого! — отозвался Заручьев. — Иду!
Он принес длинный, похожий на удилище, березовый прут и несколько пряменьких, с обрезанными сучьями, палок толщиной в палец. У двух заострил концы.
— Ремень пополам — в длину — ровно разрезать сможешь?
— Невелика хитрость.
— Тогда действуй. — Заручьев отдал парню нож, а сам принялся колдовать со своими палочками: каждую, согнув в дугу, концами воткнул в песок. "Удилище" тоже всадил комлем в песок, пригнул за вершину:
— Пружина что надо.
Ольхин, пристроившись на стволе упавшей сосенки, резал ремень. Кончив, протянул Заручьеву.
Тот связал концы и, попробовав получившийся двухметровый жгут на разрыв, сказал:
— Годится!
Один конец он привязал к вершине пружины, на другом сделал скользящую петлю, вытянув ее по песку от дуги к дуге. Согнув пружину, чуть выше узла защемил ремень вставленной меж дугами распоркой.
— Смекаешь? Наступит птица на распорку — ее насторожкой кличут, — пружина распрямится и петлю затянет.
— А зачем ей наступать на насторожку — птице? — недоверчиво усмехнулся Ольхин.
— А вот гляди… — Иван Терентьевич воткнул по сторонам растянутой петли еще две палки, уже стоймя, расщепил верхние концы и вставил в расщепы по букетику брусничника с ярко-красными ягодами. — Походит птица вокруг ягод, а дотянуться не сможет. С насторожки будет пробовать — все же повыше, ну и… Понял?
— Понял, — сказал Ольхин.
— Тогда пошли к самолету, — решил Заручьев. — Ты наперед ступай, посмотрю, как найдешь дорогу.
— Попробую, — сказал Ольхин. — До распадинки, после налево повернуть. Так?
Иван Терентьевич промолчал, и парень, сбежав по косогору, ходко зашагал в обратном направлении: торопился к теплу костра, где, наверное, выдадут что-нибудь кинуть на зуб. Больше он ни о чем не думал, привыкнув в заключении ограничивать мир интересами и волнениями сегодняшнего дня, территорией, обтянутой колючей проволокой. Здесь пока что было не хуже: не надо выполнять норму по крайней мере. И можно чувствовать себя бесконвойным, — он, не сбавляя шага, повернулся к спутнику:
— Пропуска на бесконвойное хождение мне лейтенант не оставил, ай-яй-яй… Какой-нибудь медведь придерется — тогда что?
— Я смотрю, ты без своего лейтенанта, что лошадь в шахте без коногона, вроде потерянного, — рассмеялся Заручьев.
Ольхин состроил скорбное лицо:
— Разочарование переживаю. Говорят, у нас в государстве самое дорогое — люди, а меня начальник на какое-то золото променял, на произвол судьбы кинул. Обидно!
— Ладно, шагай давай, — прикрикнул Иван Терентьевич.
Выйдя к пересечению распадков, Ольхин на секунду приостановился: следов на присыпанной хвоей почве не было — но, подумав, повернул налево. Прошли еще метров триста — до знакомого спуска к ручью. Оглянувшись, он спросил с торжеством в голосе, как уверенный в похвале мальчишка:
— Ну что?
— Чистый всемирный следопыт, — сказал Иван Терентьевич. — Теперь, поскольку у тебя две руки, а у меня одна, топлива для костров захватишь, а я прямиком на стан подамся.
Ольхин отправился искать сушняк, а Иван Терентьевич заторопился к самолету.
— Ну вот, одну петлю поставили, почин есть, — громко объявил он, подойдя к костру. Потом, присев на корточки рядом с Анастасией Яковлевной, выбросил обжегший губы окурок и заговорил раздумчиво, с паузами: — Понимаете, такое дело… Малый этот — уголовный элемент, вор, а тут, на Счастливом, еще человека порезал. В общем, при случае маху не даст — если что плохо лежит. А у нас в самолете находится золото, шлих. Я, конечно, сказал, будто лейтенант забрал это хозяйство с собой, а все-таки сердце не на месте — вдруг наткнется? Такому человеку — явный соблазн, ему терять нечего. И тем более он два раза про это золото поминал сегодня, пока мы петли ставить ходили…
— Спрячьте куда-нибудь, — посоветовала Анастасия Яковлевна.
— Спрятать не штука, — согласился Заручьев, — только куда? Далеко унести — сам, чего доброго, потеряешь, снег с часу на час выпасть может. Близко — тот же Ольхин за нуждой или по дрова сунется — и обнаружит. Может такое быть?
— Может, конечно…
— Вот я и придумал — чтобы его вам на сохранение взять. Будет у вас в ридикюле — он поместительный, ридикюль, — и полная гарантия. Поскольку Ольхину в голову не придет, да и всегда у вас под руками…
— Что ж… — сказала Анастасия Яковлевна. — Возможно, так действительно будет лучше.
Иван Терентьевич оглянулся — не показался ли Ольхин? — и, пригнувшись, быстро-быстро пошел к самолету, занавешенному дымом костров. Вернулся, так же воровато осматриваясь по сторонам, и, вынув из-за пазухи тяжелый, в зеленом брезенте, пакет, опустил его в сумку Анастасии Яковлевны. Еще раз скользнув взглядом вокруг и убедившись, что Ольхин ничего не мог видеть, сказал с облегчением:
— Ну вот, теперь — порядочек!
Лейтенант шел по тайге с таким чувством, словно за любой из сосен, за каждым выворотнем его мог подстерегать кто-то, кого нельзя вспугнуть раньше времени и кто не должен неожиданно испугать тебя. Такое чувство он испытывал, участвуя в операциях уголовного розыска, входя в незнакомый дом или выслеживая преступника в ночном городе. Но сейчас было утро, свет — и он никого не выслеживал. И никто не подстерегал его, не мог подстерегать. Но была тревога, состояние смутного беспокойства, напряженное ожидание чего-то внезапного, заставляющее все время быть настороже. Наверное, это было чувство тайги, одиночества в тайге, — и лейтенант с удивлением подумал о том, что на операциях чувствовал себя спокойнее, увереннее.
— Просто — привычнее, — решил он вслух и, бодрясь, заставил себя усмехнуться; привычки не было и в городе. Сразу после армии было училище, и вот, командировка сюда. Первая самостоятельная операция.
Остановившись, он вынул из кармана компас и, подождав, пока замрет беспокойно бегающая шкала, засек очередной ориентир — он засекал их через каждые сотню — полторы, а то и через полсотни шагов. Он очень боялся сбиться с нужного ему направления, потерять азимут. Это значило бы потерять дорогу к надежде, потерять надежду — свою и тех, у самолета. Что это прежде всего значило самому потеряться в тайге, он старался не вспоминать. И все-таки иногда вспоминал. За ним не прилетит вертолет, о нем уже не думают, склонившись над картой, летчики, для него не готовят питательных экстрактов врачи. Он, лейтенант милиции Гарькушин, по своей воле, сам отказался от всего этого. Нет, он не жертвовал собой для других. Он поступил так, как следовало поступить, как требовали обстоятельства, служба. Наверное, если бы инструкции предусматривали подобные положения — его действия совпали бы с инструкцией. И раз он выполняет, сообразуясь с положением, свои обязанности, а не просто поступает так или иначе — бессмысленно, ни к чему раздумывать, хуже это для него или лучше. Надо не лирикой заниматься, а делом. Как он рассуждал, когда брали ростовских гастролеров, ограбивших сберкассу?.. Он стал в подробностях, шаг за шагом, восстанавливать в памяти свое участие в этой операции, чтобы не думать о происходящем сейчас. Это удалось, он как-то позабыл о тайге и вдруг внезапно остановился, словно с маху наскочил на невидимое препятствие или увидел под ногами пропасть. И почувствовал, что вместе с сердцем сжимается в маленький, жаркий комок, покорно ожидающий удара, выстрела, грохота захлопнувшейся за спиной двери-западни. Чего-то неминуемого, свершающегося в это мгновение, уже свершившегося… Это был страх, даже больше — ужас: забывшись, он просто шел, шел не по азимуту!
Он стоял — и ему хотелось закрыть глаза, чтобы неизбежный удар обрушился слепо, в темноте…
Но ведь удар уже обрушился, дверь захлопнулась, чего ждать еще? Надо подумать, в какую сторону он мог отклониться, насколько. Если он шел прямо на восток, то… ну, а если он отклонился? Ну и что? У него же нет точки, в которую он должен выйти, есть только направление. Чего он волнуется? Нужно идти на восток — и он пойдет на восток, даже если прошел какое-то расстояние на юг, или на север, или даже на запад. Ну, потерял полчаса времени — в худшем случае. И все! Лейтенант дал "устояться" шкале компаса, наметил впереди провал в зубчатой стене еловой тайги, вершину поросшей березником сопки — сзади и сам себе скомандовал:
— Давай, лейтенант, следуй в указанном направлении. Задача ясна, выполняй!
Он на ходу привыкал к тайге, к одиночеству, к своей затерянности в не имеющих зримого края просторах.
Тайга не пыталась ему понравиться, не прикидывалась гостеприимной и щедрой. Она заставляла его обходить нагромождения поваленных ветром деревьев, перелезать через валежины, как нарочно размещая их на его пути. Цеплялась, норовя разорвать, колючими сухими сучьями за одежду.
Ни птичьих голосов, ни приветного взмаха зеленой веткой. Тайга была неприютной, темной и ржавой — она засыпала и, нудно шурша под ногами опавшим листом в осинниках, выражала недовольство появлением человека. И, мстя за то, что тревожат ее дрему, высылала рябчиков и глухарей склевывать на его пути последние, черные от переспелости брусничины.
Птицы вылетали иногда почти из-под ног, всегда очень шумно и совершенно неожиданно. Стремительные пестренькие рябчики и словно спросонья натыкающиеся на деревья тяжелые черные глухари. Понемногу он приучил себя не вздрагивать и не хвататься за кобуру — и считал, что уже становится бывалым таежником.
В час дня он развел костерок и попытался жарить "шашлыки" из коричневых, как мясо, боровиков, которых — наверное оттого, что их уже хватило морозом, — тайга не жалела. Получилось довольно вкусно даже, но следовало экономить соль, и "шашлыки" только обманывали голод, не утоляя его. Пришлось съесть шаньгу — и потуже затянуть ремень. Он надеялся, что до вечера ему попадется хотя бы не обобранный лесными птицами брусничник или кедрач, пусть даже один-единственный кедр с шишками. Он закончил свой скудный обед и встал, чувствуя, как голодная слюна заполняет рот при мысли об этом кедре или ягоднике.
Ни ягодника, ни обвешенного шишками кедра до вечера не встретилось. Да и вечер наступил как-то неожиданно, застал врасплох. Уже в сумерках лейтенант облюбовал место для ночлега — возле упавших одна на другую елок, высушенных ветром и солнцем до того, что казались обглоданными рыбьими скелетами, К ним он, уже натыкаясь в потемках на кочки и ветки, подтащил несколько мелких мертвых елочек и, вытряхнув труху из обломка, когда-то бывшего березой, развел огонь — большой и трескучий костер. Сначала — пока не обгорели тонкие ветки — пламя вскинулось чуть не к вершинам деревьев. Потом сникло, заползло в щель между лежащими один на другом стволами и стало дразниться, показывая оттуда красные языки и постреливая углями. Помня наставления Ивана Терентьевича, лейтенант развернул верхнее так, чтобы деревья легли крестом — и огонь послушно сосредоточился в самом перекрестье, — а принесенные елочки уложил вершинками на костер, раздвинув, как ножки циркуля, комли. Теперь, по мере того как пламя будет обгрызать горящие концы, надо двигать их вперед — и все дело, — лейтенант опустился на кочку возле костра и только тогда почувствовал, как устал. До того, что даже не очень хотелось есть!..
Усилием воли он заставил себя все-таки подняться и — ощупью, в темноте — наломать еловых лап для подстилки. Он был уверен, что заснет сразу же, как только упадет на эту подстилку. Лёг, закрыл глаза — и в красной темноте закрытых глаз возник костер. Но не этот, впервые в жизни самостоятельно разведенный лейтенантом Гарькушиным, а другой — под толстой, с обнажившимися корнями сосной, прислонясь к которой должен сидеть препровождаемый в управление Ольхин. Он увидел этот костер очень четко, со всеми подробностями: приготовленными на ночь сучьями, закопченным ведром над огнем, с колесом от самолета, служащим скамейкой. Как обычно, на колесе, сгорбившись и гладя собаку, сидела слепая учительница. Иван Терентьевич, повернувшись к костру спиной, мирно, по-домашнему всхрапывал. Багровый отсвет живого огня ползал по неподвижному, как у мертвеца, профилю пилота, светлячком вспыхивал в зрачке устремленного в черное небо глаза. И корень сосны, под которой должен сидеть Ольхин, был похож на удава, выползшего к огню, — только Ольхин под сосной не сидел! Но лейтенанта поразило не отсутствие Ольхина — к этому он как-то внутренне подготовился, — а безмятежное равнодушие остальных к его побегу: арестованный скрылся, а они… Лейтенант с трудом отделался от чувства, будто видит это воочию. Сел, подвинул в пламя самую тонкую елочку — вершинка ее уже обгорела. И стал думать, не опрометчиво ли он поступил, предоставив Ольхина самому себе, единственно ли правильным было принятое им решение? Он опять начал перебирать другие возможные варианты и возможные последствия их, перетасовывая, как карты в колоде: Ольхин — золото — пистолет, золото — пистолет — Ольхин, пистолет… Да хватит, довольно, все равно теперь ничего не изменить! Что он, забыл об этом? Не забыл, но… до чего же все-таки легко жить на свете, выполняя приказания! Был бы сейчас спокоен, не терзался — как немного надо было для этого. Только чтобы майор сказал:
— Так вот, будете сопровождать арестованного, Гарькушин. В случае аварии самолета ответственность за его доставку с вас снимается, отправитесь за помощью остальным. Приказание ясно? Выполняйте.
Или просто:
— В случае аварии поступите, как подскажет обстановка.
Наверное, он так и сказал бы, майор, — если бы мог предугадать, что произойдет авария.
Но ведь он не сказал…
Сосны, мешавшие людям обосноваться в самолете, рухнули ночью. Сначала та, что подпирала фюзеляж сбоку. Она даже не упала на землю: две соседки подхватили ее, уже падающую, и она осталась стоять, спрятав свою крону в их кронах.
Падение второй разбудило всех, кроме Ольхина. Могучая крона ее немного недостала до костра, но упругий толчок воздуха от удара о землю швырнул в черное небо золотой сноп искр, а людей у костра засыпал горячим пеплом. Перепуганная грохотом Зорка долго лаяла потом, ероша загривок, на косматого черного зверя, из ниоткуда прыгнувшего к огню костра.
Утром Иван Терентьевич, озирая результаты своих стараний, пробурчал одобрительно:
— Ну-ну… — И провел ладонью — словно погладил — по золотой, тонкой на середине ствола, как бумага, коре упавшей сосны. О той, что зависла, сказал покачивая головой:
— Неудачно. В общем-то, зацепилась основательно, особенно беспокоиться нечего, но ходить под ней лучше не стоит. Тем более если ветерок… Ладно, будем смотреть, что вышло из нашей затеи в смысле переселения в самолет. Идем, Василий, прикинем!
Подойдя к самолету, он огорченно присвистнул: тот больше не кренился на бок, но хвост был задран все еще слишком высоко.
— Не получилось, — сказал Ольхин. — Тяжесть двигателя перевешивает.
— Получится, — сказал Иван Терентьевич. — Иначе какие мы с тобой мужики? Тьфу!
— А что делать?
— Соображать маленько. Сначала мозгой шевелить, а после руками.
— Тяжелым бы чем если загрузить, — сказал Ольхин неуверенно.
— Чем?
— В том и дело, что нечем… Разве самим залезть, да банки с кино перетащить?
— И трехсот килограммов не наберешь.
— Камней бы… так их нет.
— Эх, топор, топор… — мечтательно повздыхал Иван Терентьевич, а с Ольхиным заговорил резко, собранно: — Способов два. Первый — опять-таки лесину свалить. Так, чтобы на хвост упала и придавила. Но без топора ее точно не уронить, пожалуй. Значит, отпадает, остается только одно: копать.
— Что? — не понял Ольхин. — Землянку?
Иван Терентьевич насмешливо хмыкнул и стал объяснять, как объясняют непонятливым ученикам — подробно и обстоятельно:
— Центр тяжести — он у него теперь в носу. Так? — Ответа он не стал ожидать. — А там, где он с землей соприкасаться кончает, где уже кверху брюхо пошло, там получается вроде как бы́ ось. Вроде подложки под вагу, а хвост вроде ее длинного конца, на который книзу жать надо. Так если в точке касательства подкопать, — а грунт здесь легкий, песок, — получится как? А так, что подложку ты как бы вперед продвинешь, хвост у тебя как бы тяже́ле станет…
— Иван Терентьевич, у вас не голова, а дом советов! — перебил его Ольхин. — Я вас понял. Бригада Ольхина выходит на земляные работы в полном составе, отказчиков нет, мостырщиков нет и не будет, туфтовых процентов тоже. Разрешите бригаде получать инструмент?
— Валяй, — устало отмахнулся Иван Терентьевич. — Изобретай, какой хочешь, инструмент — и действуй. Только сначала подпорки под самый хвост поставь, их потом выбить ничего не стоит.
— Обойдемся, — сказал Ольхин. — Пока подходящие палки найдешь, пока подгонишь…
Иван Терентьевич погрозил пальцем:
— Не "обойдемся", а техника безопасности! Без нее в два счета придавят, пикнуть не успеешь, а вытащить тебя из-под него, — Заручьев постучал костяшками пальцев по обшивке фюзеляжа, — при наших технических возможностях — невозможно.
Ольхин, сдвинув на затылок кепку, как бы прикиды́вал на глазок вес самолета. Скорчил гримасу:
— Да-а, плечиком не отодвинешь… В общем, пока начинаю изобретать инструмент, а после наймусь подпорками. Лады?
Иван Терентьевич кивнул поощрительно и отправился к костру, уже на ходу, через плечо крикнув:
— Чай закипит — я тебе свистну.
— Нам не до хорошего, — отозвался Ольхин, — черного бы да черствого побольше. Или собачинки заварить…
Он, щурясь, покосился на Ивана Терентьевича, тот нахмурился:
— Но, ты! Смотри у меня!
У костра, услыхав шаги, подняла голову учительница. Подождав, когда подойдут ближе, спросила робко:
— Ну как?
Заручьев невольно поискал около нее собаку — той не было, шастала по тайге. Глянул на пилота, скорее всего притворяющегося спящим. И на тайгу, поднимавшуюся вокруг, обложившую этих неспособных сопротивляться людей со всех сторон, как волки — беспомощного на скользком льду — лося.
— К вечеру сдадим в эксплуатацию новый жилмассив, сейчас идет ликвидация мелких технических недоделок. Так что готовьтесь к новоселью! сказал он бодрым голосом.
Она благодарно встрепенулась, что-то похожее на улыбку изменило на мгновение строгую линию рта. И, протянув руку, словно хотела задержать его, уходящего, за полу плаща, сказала просительно:
— Иван Терентьевич! Вы бы… повлияли на летчика! Я пыталась его уговорить съесть что-нибудь, пока вы были у самолета, объясняла, что так же нельзя, а он даже разговаривать не стал…
— Разговаривать он не может, — объяснил Иван Терентьевич. — У него почти до уха разорвана щека. И наверное, выбиты зубы…
— Но он сказал: нет! — вздохнула учительница.
— Гмм… — Заручьев раздумывал: идти к пилоту и по-бабьи уговаривать его… изменить по-настоящему мужское, мужественное решение? Изменить, твердости, которая даже у него, Ивана Заручьева, вызывает зависть?
— Поймите, — горячо заговорила Анастасия Яковлевна, — эта его бесчеловечная человечность! Ему кажется, что он поступает так ради нас, уверен в этом, но ведь так поступают звери…
"Почему?" — чуть было не спросил, чувствуя раздражение и обиду за летчика, Иван Терентьевич, но учительница, словно угадав этот не прозвучавший вслух вопрос, продолжала:
— Да, звери! Больные и увечные заползают куда-нибудь, уйдя из стаи, и умирают. Но, Иван Терентьевич, объясните ему, что мы люди, отчего он не хочет вспомнить об этом? Что нам с вами кусок не идет в горло, когда рядом человек мучается от голода, чтобы не мучились мы…
— Гмм… — еще раз пробурчал Иван Терентьевич, колеблясь. Его поражала твердость духа летчика, но ему кусок шел в горло, и сам он, пожалуй, тоже заполз бы в какую-нибудь щель, с глаз долой, если бы решил, что бесполезно пытаться выкарабкаться. И не считал бы, что это бесчеловечно, что он — зверь, он бы гордился собой: у тайги свои законы! Конечно, не дамские… но как сказать ей об этом?
— Видите ли… — начал он.
Анастасия Яковлевна перебила:
— Вы думаете, что он и вас не послушает — если вы потребуете у него по-мужски?
Это было нелепо — по-мужски требовать стать бабой. Но Иван Терентьевич пообещал:
— Попробую…
К костру подошел Ольхин — прикурить от уголька, но, прикурив, уселся на корточки и, растопырив пальцы, протянул руки над огнем.
— Изобрел совковую лопату, — сказал он, как бы оправдывая свое появление здесь. — Из листа обшивки плюс лесоматериалы. Техника на грани фантастики. Остается изобрести кирку или фомич, по-научному лом.
Иван Терентьевич усмехнулся: этот не терял если не твердости, то хотя бы легкости духа. В конце концов тоже годилось.
— Премию за рационализацию получишь в конце месяца. Пока что придется обойтись чаем.
— Чай не водка, много не выпьешь, — сказал Ольхин. — Но если дадут чего-нибудь к чаю, чтобы пожевать…
— А как же летчик? — напомнила Анастасия Яковлевна.
Иван Терентьевич молча встал и, обойдя костер, прикоснулся пальцами к накрывавшему пилота полушубку.
— Есть разговор, — сказал он.
Пилот медленно повернул голову — чуть-чуть, открыл глаза. Иван Терентьевич, собираясь с мыслями, — черт, что он ему скажет? — разминал в пальцах внеочередную сигарету.
Но заговорил первым, как всегда стараясь не разжимать губ, пилот:
— Ерунда. Смотрите на вещи прямо.
— Это так, — согласился Иван Терентьевич, — но у нас есть совесть…
— У меня тоже, — сказал пилот.
Иван Терентьевич устало вздохнул и, глянув на свою сигарету, спросил:
— Закурить дать?
Летчик, видимо, боролся с собой. На этот раз слабость переборола, он глазами показал: дать. Иван Терентьевич прикурил от спички и хотел вложить сигарету в рот летчику, но тот протянул руку. Жадно, блаженно затянулся. И, понимая, что сигарета — повод для продолжения разговора, своего рода подкуп, выжидательно посмотрел на Ивана Терентьевича. Но Заручьев заговорил о другом:
— Сегодня, наверное, переберемся в самолет…
Пилот вынул изо рта сигарету и сказал:
— Я — нет. Не надо со мной возиться.
И тогда Иван Терентьевич возмутился:
— Да ты что, забываешь действительно, что мы все-таки люди? Боишься, что за нуждой выйти не поможем, — так часто тебе не от чего, не бойся! В общем, что касается самолета — извини! Костер специально для тебя поддерживать сутками не будем, не дури. В конце концов помирать все одно, в самолете или снаружи.
— Вот именно, — сказал летчик. — Вы просто выключите меня, забудьте. Как… того, под сосной.
Иван Терентьевич не вздохнул — он с шумом, даже глаза прикрыв почему-то, выдохнул воздух. Словно одолел трудный, крутой подъем. Но летчик ждал его решения.
И Иван Терентьевич решил.
— Вот что, давай без дураков, — заговорил он, наклонясь к уху летчика. — Насчет литания — дело твое, насильно кормить не будем, да и нечем. И ты к месту привязан, так что выбора у тебя никакого — ждать, и дело с концом. Так вот… Ежели через день-два, самое большее, помощи не случится, мне самому либо рукой на все по твоему примеру махать, либо брать ноги в руки. Ну и… мешать я тебе, в смысле прекращения расчетов, не стану, ни к чему было бы мешать. Но день-два ты постарайся подюжить.
— Подюжу, — пообещал летчик. — Уже пробовал вставать. Шевелюсь.
— Уговорили? — встретила Ивана Терентьевича учительница.
Заручьев, не отвечая, снял с дерева сетку с расходными продуктами, сел к костру, вытряхнул на брезент ее содержимое и только тогда сказал:
— Вроде бы…
Молча выделил всем троим по куску хлеба, по тоненькому ломтику сала и по куску сахара.
— Н-нда… — вздохнул Ольхин.
Иван Терентьевич бросил в его сторону быстрый, взгляд.
— Привыкай. Скоро и эти граммы кончатся, если глухаря не поймаем.
— Или не прилетит самолет. Знаете, они могут сбросить нам продукты, если невозможно сделать посадку, — сказала Анастасия Яковлевна.
Заручьев промолчал, а Ольхин, прищурив один глаз, с ухмылкой посмотрел в небо.
— До чего люблю глухарятину, — сказал он Ивану Терентьевичу, — хотя и не пробовал никогда. Согласен день и ночь вкалывать на прямом производстве, подкатываясь под самолеты, если будут кормить глухарями. Может, вы, пока я буду перевыполнять нормы, проверите вашу хитрую ловушку?
— Проверю, — сказал Иван Терентьевич.
— Лады! — Ольхин хлопнул себя ладонями и потер их. — Беру на себя дополнительные обязательства — десять кубометров грунта первой категории трудности!
— Не балабонь зря, тошно, — сказал Иван Терентьевич. — И установи подпорки!
— Ладно. Отправлюсь ишачить! — объявил Ольхин. — В ожидании глухарятины.
— И не каркай под руку. — Иван Терентьевич встал, грустно посмотрел на свои полуботинки и, покачав головой, пошел в сторону ручья — вниз по косогору.
Его проводил долгим взглядом усталых, глубоко запавших глаз пилот. Эх, если бы и он мог так же вот легко подняться, пойти куда-то, куда глаза глядят!.. Он натаскал бы один столько дров, что можно было бы круглосуточно жечь три, пять костров! Он бы…
Ни он, ни командир ничего не могли сделать. Вернее — сделали все, что могли. Вот сейчас, если бы не изуродовало, он смог бы кое-что… Хотя — что? Разве действительно натаскать дров и сходить по воду, так это умеют и без него.
Когда вернулся Иван Терентьевич, к костру, бросив работу, поспешно подошел Ольхин. Глаза его, скользнув мимо людей, забегали по сторонам — он искал принесенного Иваном Терентьевичем глухаря. Поняв, что надежды на сытный обед не оправдались, выпятил нижнюю губу и скорбно покачал головой:
— Фокус не удался, хотя факир и был трезвым?
Бодрости в его тоне было на этот раз немного.
— Фокус удался, но толку от этого мало, — сказал Иван Терентьевич, зябко поведя плечами, и подбросил в костер несколько сучьев. — Глухарь попал, но его сожрал соболь. Не знаю, целиком или нет, может, и не одолел всего, так ведь черт знает, куда он его уволок. Поблизости я искал — нету…
— Гад! — выругал соболя Ольхин.
— Еще какой гад, — присоединился Иван Терентьевич. — Не только глухаря — петлю утащил. Отгрыз — и унес вместе с глухарем.
— В общем, жрать землекопам не дадут, — вывел заключение Ольхин.
— Надо набрать грибов, все-таки еда, — посоветовала Анастасия Яковлевна.
— Мысля! — обрадовался Ольхин.
Иван Терентьевич молчал — думал.
— Грибы — грибами, они, конечно, не помешают, но далеко на них, как говорится, не уедешь, — решил он. — Одни витамины и ничего существенного — вот что такое грибы. Надо мяса. И значит, надо искать подходящий материал для петель.
— Аоо! — картаво окликнул летчик и подозвал жестом.
Мужчины подошли.
— Трос от рулевого управления не пойдет?
— Поглядеть требуется, — сказал Иван Терентьевич.
— Он под обшивкой фюзеляжа, надо вскрыть. И проводка, провода под приборной доской. И медная проволока, моток. Там, где инструмент.
— Какой инструмент? — Ольхин подумал о топоре, о лопате.
— Слесарный. Ножовка, пассатижи, ручник.
— Зубило есть? — перебил Заручьев.
— Кажется, есть.
— А ножовкой, хоть и для железа она, можно и сучки пилить. Чего ж ты раньше-то молчал, друг? — упрекнул пилота Ольхин.
— Ладно тебе, — отмахнулся от Ольхина Иван Терентьевич. — Дай поговорить с человеком о деле. Ты вот что скажи… не знаю, как тебя звать…
— Владимир.
— Ты, Владимир, скажи, свет мы никак не наладим? Ну, чтобы два провода к аккумулятору и лампочку? Со светом, сам понимаешь, веселей и сверху видать ночью.
— Если аккумуляторы не разбиты…
— Ты только скажи, как до них добраться, мы там посмотрим, сообразим. Но это не к спеху, сейчас надо проволоку добывать и ставить петли. А тебе, — Иван Терентьевич повернулся к Ольхину, — кончать свое дело.
Ольхин демонстративно тяжело вздохнул, развел руками и молча постучал кулаком о кулак, прижимая их к животу.
— А что делать? — вопросом ответил на эту немую просьбу Иван Терентьевич. — Завтра еще сильнее захочется, имей в виду, а жратва кончается. Терпи до вечера, вечером съедим еще по крошке чего-нибудь настоящего и будем обманывать брюхо грибами. Грибов я по пути наберу, как петли пойду ставить.
Ольхин постоял, глядя в землю, — и неохотно, нога за ногу, направился к самолету.
— Это хорошо, что инструмент какой-никакой есть в самолете, — говорил между тем Иван Терентьевич пилоту. — Я надумал, как банку с кино использовать, — печку сделать. А в остальных воду держать.
— Как это великолепно — уметь и мочь! — задумчиво, ни к кому не обращаясь, вдруг заговорила Анастасия Яковлевна. — А я ничем не в силах помочь ни вам, ни себе. Даже советом. Могу только стараться не путаться под ногами, не мешать…
Еще она могла до физической боли в сердце жалеть их — и жалела, хотя вряд ли это нм было нужно.
Люди вырастили и воспитали ей сына, она не знала тех людей, и ее благодарность, не имея точного адреса, распространялась на всех людей на земле. Почему так случилось, что именно теперь, когда людям — всего-навсего троим, не всему человечеству! — было трудно, она только обременяла их, связывая по рукам и ногам?
Анастасия Яковлевна ненавидела себя, потому что любила их. Они были рядом — и как бы в другом измерении. Она слышала голоса, мысленно рисовала себе лица, фигуры — такие разные. Иваном Терентьевичем и пилотом она восхищалась, к Ольхину испытывала жалость. И чувство собственной вины почему-то…
Впрочем, Анастасия Яковлевна знала почему.
Все время думая о своем сыне, она не могла не думать об Ольхине.
— У вас есть мать? — спросила она парня, по звуку шагов угадав, что именно он подошел к костру. Она не могла видеть, но смогла представить, как иронически-горько скривил он рот, отвечая:
— Была, наверное. Не от сырости же я завелся.
Так же, пожалуй, мог ответить на подобный вопрос её сын, по крайней мере полтора месяца назад. Он и Ольхин должны быть примерно одного возраста. Но ее Валерке люди не позволили вырасти вором, подонком, а этот им стал. Как вышло, что люди просмотрели? Как могли просмотреть?
Люди — это была и она тоже.
Вначале к жалости примешивалось что-то вроде брезгливости — так жалеют запаршивевших собак или уродов. Но вдруг она подумала, что это мог бы быть и ее сын, ее Валерка, если бы на его дороге не встретились люди, каких, видимо, не встретил этот парень. И у другой женщины, другой матери было бы тогда право жалеть ее сына, брезгливо поджимая губы. Было бы?
— Нет!
Забывшись, она произнесла это вслух — и услышала вопрос Ивана Терентьевича:
— Что — нет, Анастасия Яковлевна?
— Простите, это я сама с собой…
— С умным человеком и поговорить приятно? — позволил себе пошутить Заручьев.
Она покачала головой.
— Если бы так… Как раз наоборот — я думала, что мне пора быть умнее. Почему мы почти всегда хотим судить окружающих, но очень редко себя?
— Не понимаю, о чем вы.
— О наших обязанностях перед нашими детьми.
— Н-нда… — представляясь размышляющим, значительно протянул Заручьев. — Это же ваша профессия. Мой Мишка вас до сих пор спасибом поминает. — И хвастливо закончил: — Конечно, не все такие.
— Да, не все такие, — грустно согласилась Анастасия Яковлевна. — Не всем есть кого… поминать спасибом. Ольхину наверняка некого.
Иван Терентьевич неодобрительно хмыкнул и впервые обратился к старой учительнице без обычной уважительности, даже свысока:
— Эх, Анастасия Яковлевна! Не знаете вы преступного мира, вот что. Да он, стервец, тем гордится, что вор. Поверьте!
— Может быть, оттого, что больше нечем гордиться?
Иван Терентьевич хмыкнул вторично:
— Ну — нечем, так все одно не этим же…
— Человеку, Иван Терентьевич, необходимо иметь хоть какую-то гордость, хотя бы… ну, даже умением оглушительно свистеть в два пальца погордиться. Вы понимаете, до чего же этот парень обворован сам, если хвалится своим позором?
— А, философия это одна, — сказал Иван Терентьевич пренебрежительно и, чтобы не продолжать бессмысленного разговора, отошел: смешно рассуждать о чем-то беспредметном, когда надо действовать.
Учительница, сцепив пальцы, слушала, как растворяются в тишине шаги. Она уже успела свыкнуться с тем, что зрячие подчас видят хуже слепых.
Его разбудил холод.
Костер потух, вокруг кострища, покрытого ватным слоем серого пепла, обгоревшие концы елок даже не дымились. Елки не хотели гореть поодиночке. Из двух толстых древесных стволов, развернутых им с вечера крест-накрест, получилось четыре. Лейтенант сложил их концами вместе, и через минуту-две горячий язычок теперь почти невидимого пламени затанцевал на обугленной древесине.
Начался второй день один на один с тайгой.
Согревшись, лейтенант достал пакет с продуктами. Подержал, взвешивая, на ладони — и спрятал в карман: он еще мог терпеть, мог заставить себя терпеть. Перемотав портянки, встал, осмотрелся. Он хотел увидеть грибы — здесь же, возле костра. И конечно, не увидел.
Некоторое время он раздумывал: идти насобирать грибов и возвратиться к костру жарить их или, не теряя времени, трогаться в путь, на ходу собирать грибы и где-то сделать привал? От костра, от уже готового костра с нерастраченным запасом дров так не хотелось уходить!.. И лейтенант решил набрать грибов и вернуться.
Он испытывал странное чувство, будто мир, окружающий его, не совсем реален. Он никогда не видел таких трав — подернутых сединой, мертвых, нагоняющих тоску. И таких деревьев — как будто вырезанных из жести и раскрашенных неправдоподобными, тусклыми красками. И никогда не подозревал, что деревья, камни, низкие облака мыслимы без живых людей. Мир всегда заслоняли люди, он существовал как дополнение к ним, а теперь вдруг все переменилось. И лейтенанту на какой-то миг показалось, что он даже не просто одинок в этом мире, а что больше вообще никого нет. Только он — и костер, единственное, что осталось ему от того привычного мира.
Стараясь не делать лишних движений, чтобы не обеспокоить, не разбудить этот чужой, незнакомый мир, лейтенант набрал мороженых моховиков. Он по-бабьи складывал их в полу плаща и, воротясь к костру, просто выпустил из ладони конец полы. Грибы с деревянным стуком попадали на землю. Он попытался нанизать их на сухие еловые ветки, но заострить ветки было нечем, и грибы только крошились. Пришлось положить их ближе к огню и ждать, пока оттают.
Потом он, очень экономно присыпая солью, все-таки насадил грибы на прутья и терпеливо жарил над угольями. Ему думалось, что насобирал более чем достаточно, охапку, а они съежились на огне в крохотные скользкие лоскуточки. Обжигаясь, он глотал их, не ощущая вкуса и не чувствуя насыщения. Конечно, можно было повторить все сначала, но ведь надо было идти. Поднявшись, лейтенант постоял у костра, распахнув плащ, про запас впитывая тепло, надеясь хоть немного унести с собой, и, сверясь с компасом, пошел…
Он не замечал дороги, не смог бы вспомнить, через березняк или сосновый бор шел только что. Он старался не смотреть по сторонам, как начинающий канатоходец старается не смотреть вниз, видя только веревку, по которой ступает. Лейтенант старался видеть только азимут — он убедил себя, что эта воображаемая линия зрима. И, достигнув очередного ориентира, испытывал облегчение канатоходца, могущего на что-то опереться, передохнуть.
Вдруг всего в нескольких шагах в стороне по сосновому стволу, взволнованно застрекотав, пробежала белка. И затаилась, прикинувшись клубочком серого мха. Лейтенант поискал глазами камень или палку — ведь перед ним было мясо, настоящая еда, при одной мысли об этом теплая слюна подступила к горлу. Ни камня, ни подходящей палки близко не оказалось. Тогда он, не спуская глаз со зверька, вынул пистолет, снял его с предохранителя, щелкнул курком. И минуту или две стоял раздумывая: стрелять или не стрелять? Всего шестнадцать патронов, скорее всего промажет: слишком маленькая мишень… Останется пятнадцать…
Нет, лучше он потерпит, дождется, пока в поле зрения появится кто-нибудь покрупнее. Заяц, например, или глухарь, или — кто еще водится в тайге? Во всяком случае не белка, ею только раздразнишь себя, — он спрятал пистолет и, стараясь видеть только сухую сосну впереди — ориентир, решительно зашагал дальше.
Компас заставил его углубиться в древний, густой пихтач. Деревья, похожие на обелиски, загораживали небо — и свет. Они толпились так тесно, что приходилось двигаться, не сводя глаз с компаса, чуть ли не расталкивая плечами шершавые, с натеками смолы, стволы пихт, только пихт. Казалось, пихтачу не будет конца, а значит, не будет света, кругозора и такого необходимого для движения вперед пройденного расстояния.
Но вот впереди посветлело — сначала наверху, в вершинах, и только тогда лейтенант заметил, что начался уклон. Потом пихты стали расступаться, среди них замелькали сосенки и лиственницы. Уклон вдруг сделался круче, и лейтенант оказался не в тайге, а над тайгой, сбегавшей в низину.
Он стал выбирать внизу ориентир, выбрал, сделал шаг по направлению к нему — и невольно отшатнулся назад, пригнулся, втянув голову в плечи, хватаясь за кобуру: почти над самой толовой с дерева сорвалась огромная темная птица и, оглушительно хлопая крыльями, полетела в пихтач. Глухарь!
Почему он не посмотрел на дерево, почему он вообще не смотрит на них? Болван, растяпа, проморгал добрых пять килограммов мяса! Он вдруг проникся сознанием своего бессилия перед тайгой, перед этим лучше бы не слетавшим глухарем, И почувствовал себя совершенно разбитым физически. Тогда он посмотрел на часы. Оказалось, что день кончается.
Лейтенант оглянулся по сторонам, подыскивая удобное для ночлега место, невольно скользнул взглядом по вершинам деревьев и поразился их неподвижности: в ушах давно уже стоял шум, который он считал шумом ветра в тайге. Выходит, ветра не было? Что же тогда шумит? — удивился он и вдруг сообразил: река! Конечно же, в низине прячется за деревьями река, как он сразу не догадался об этом? Если так, следует спуститься к реке и ночевать у воды, как полагается в походе…
Он вышел к ней минут через двадцать, еле продравшись через опутанные диким хмелем и смородинником заросли тальника. Берег был невысок, крут, окаймлен галечником. Галечник полого уходил в воду, прозрачную и чуть зеленоватую. Лейтенант швырнул палку, течение подхватило ее и, развернув, повлекло к противоположному берегу и наискосок, вниз. Он прикинул на глазок ширину реки — метров сорок, пожалуй, даже все пятьдесят. Ниже, за поворотом, судя по немолчному шуму воды, находился порог или водопад. Но лейтенанта сейчас больше интересовал берег, он повернулся к реке спиной и разочарованно хмыкнул. Ночевать здесь нечего и думать: заросли кустарников подступали к самой воде, дрова пришлось бы тащить черт те откуда. Он прикинул по компасу — ага, река течет на юго-запад, ему следует идти вверх по течению. Но берегом идти было невозможно — из-за тальниковых джунглей, — и лейтенанту пришлось снова пробираться в пихтач. Он лез, локтем прикрывая глаза от норовящих вцепиться в них веток, грудью разрывая их упругие переплетения. И вдруг остановился, не встречая сопротивления кустов, и понял, что стоит на тропе. Тропа! Но ведь тропы обязательно куда-то должны вести!
Он не верил своим глазам, своему счастью!
Десять, пятнадцать шагов в сторону — тропа! Столько же обратно и еще двадцать — несомненно, тропа! Только… в какую сторону следует по ней идти, чтобы выбраться к жилью или дороге хотя бы? Он сверился с компасом, уточнил направление. Ему нужно на восток, значит, он и пойдет вверх по реке, все ясно… А все ли? Река здесь несудоходна, поселок должен быть ниже по реке. Там, куда можно добираться по воде: ведь в Сибири всегда старались селиться по берегам рек, по голубым дорогам. А тропа… От деревни, в которой он вырос, тропы шли просто в лес, их протоптал скот, — лейтенант закрыл глаза и попытался вспомнить, как они выглядят, проложенные коровами тропинки. Все они разветвлялись, удаляясь от деревни. Однако! Лейтенант подумал мгновение и скоро, забывая про усталость, зашагал вверх по течению реки. Сотня шагов, еще сотня — и тропинка разделилась на две, правая продолжала вилять в кустах по берегу, а левая отвернула прочь от реки в тайгу, по заболоченному берегу маленького ручейка. Лейтенант сделал несколько шагов по этому ответвлению — и увидел на тропе, под ногами у себя, четкий отпечаток копыта.
Вот теперь, кажется, действительно все стало ясным!
Итак, он мысленно разговаривал сам с собой, тропы сбегаются в направлении к западу, значит, поселок наверняка расположен вниз по реке. Если идти по тропе, ведущей к поселку, он должен двигаться в сторону, почти противоположную той, в которую шел до сих пор.
Но ведь и нужна-то ему не какая-то определенная сторона, а именно поселок, люди, возможность связи через них с теми, кто окажет помощь оставшимся у самолета. Так чего он раздумывает? Лейтенант круто повернулся и почти побежал вниз по течению.
Теперь можно было не сверяться с компасом — вела тропа. Не везде одинаково торная, иногда упирающаяся в валежину или непролазную чащу, но все-таки тропа, дорога к совершенно определенной цели, об этом лейтенанту уже несколько раз напоминали отпечатки копыт — следы, оставленные стадом. Начинало смеркаться, пора было думать о ночлеге, но лейтенант шел и шел, то удаляясь от реки, то вновь выходя к ней, потеряв счет времени. Его подгоняло нетерпение — еще сегодня, вот-вот, увидеть впереди огоньки поселка.
Тропа заставила свернуть в молодой сосняк, сунула под ноги обнаженный корень и неожиданно вывела на заросшее тальником болото. И потерялась. Лейтенант остановился, осматриваясь, и увидел справа в кустах, совсем близко, темные силуэты животных. Лошади! Он присмотрелся. Ну да, лошадь и жеребенок рядом! И значит, где-нибудь близко — люди!
— Ого-го-го! — закричал он, и эхо подхватило его крик. — Э-эй, кто-нибудь есть?
Он оглянулся на лошадей — видимо, испуганные его криком, они убегали в сосняк. "Странно, что нестреноженные", — подумал он и еще раз крикнул:
— Эгей-гей! Лю-ю-диии!
Ему не ответило даже эхо. Спят — или никого кет близко? Должны быть, иначе почему лошади в такое время в тайге, зачем? Он вдруг вспомнил, как они необычно — на прямых ногах — убегали и что пасутся неспутанные, и понял:
— Лоси!
Сначала он даже усмехнулся — принять лосей за лошадей, надо же! А вообще-то не удивительно так ошибиться: проложенная скотом тропа, поселок поблизости… Поселок? Тропа? Но если следы на тропе — тоже лосиные? И… и… он же слышал или читал об этом… что лоси и олени, вообще звери, прокладывают в тайге тропы… Еще браконьеры ставят на них петли…
Значит, ни тропы настоящей, ни поселка — нету?
И опять, как там, на выходе из пихтачей к реке, когда он прохлопал глухаря, на лейтенанта, раздавив, уничтожив, навалилось каменной тяжестью бессилие. Вдруг не стало ни воли, ни желаний, ни мыслей. Только сознание своей беспомощности. Потом мучительно захотелось пить, он услышал, что где-то слева шумит река, и, спотыкаясь, поплелся к ней по болоту.
Выбравшись к берегу, упал на гальку и долго, через стиснутые зубы, пока они не заныли от холода, цедил воду. Кое-как встав, попытался разобраться в окружавшем его хаосе тьмы и полутьмы. Не сразу понял, что серо-черная гора впереди — залом, нагромождение мертвых деревьев, принесенных в половодье рекой. Подойдя вплотную, пощупал: сухие! Ощупью же нашел мусор, когда-то натолканный течением между бревнами, — обломки веток, куски коры, обглоданные и отшлифованные водой корни деревьев. Теперь надо было искать берестину. И на этот раз лейтенанту повезло — нашел почти сразу.
Она загорелась, рассыпая меленькие-меленькие голубоватые искорки. Спрятав спички, лейтенант принялся подкармливать жадный огонек, бросая ему тонкие сухие ветки. Огонек сделался огнем и уже сам, без помощи лейтенанта, перекинулся на мертвые лесины. Вокруг него стало светло и тепло.
Тогда лейтенант прямо на гальку положил несколько палок, а поверх — кору, содранную с комля уже охваченного пламенем обломка сосны, и не лёг, а рухнул на это ложе.
Через мгновение он уже спал, положив под голову локоть. И конечно, не мог видеть, как пламя, перебираясь с лесины на лесину, проваливаясь между ними вместе с углями вниз, охватило почти весь залом. Тьма отступила далеко за бровку берега, а вблизи забилась между камней, тенями вытянулась на гальке, прячась за одинокими древесными стволами, раскиданными рекой по руслу. Голые ветки тальника у залома, черные на фоне огня, казались решеткой, слишком хрупкой, для того чтобы удержать красно-рыжего зверя, но огонь и не пытался вырваться из-за нее. Он норовил подняться кверху, в черное небо, гаснул там, дробясь на искры, и легким пеплом падал на гальку. Серый, он отсвечивал в полете розовым и оранжевым, пепелинки порхали и плавали в токе теплого воздуха. И хотя огонь начинал спадать, жаться к земле, пепелинок становилось все больше и больше, и кружились они уже не только над горящим заломом. Скоро россыпи галечника в русле, берега и даже черные сосняки на берегах начали светлеть, а потом вовсе побелели. И только вода в реке да обгорелые бревна залома, под которым еще жил огонь, оставались черными.
А в самолете было по-домашнему уютно.
С вечера, правда, дымила печка, но Иван Терентьевич пробил в крышке, которая теперь стала называться дверцей печки, несколько отверстий — и в трубе появилась тяга. Еще из этих отверстий выбивался свет. Слабый, колеблющийся, но и его хватало, чтобы видеть контуры и угадывать подробности. Кроме того, отверстия могли служить в темноте ориентиром для человека, вздумавшего закурить.
Иван Терентьевич, разминая туго набитую сигарету, смотрел на огненные глазки отверстий и представлял, как встанет сейчас и, бесшумно ступая по настеленным на полу пихтовым веткам, подойдет к печке. Прикурит от уголька, подбросит дров, а печка по-домашнему пахнёт теплом. Здорово все-таки получилось — если не заглядывать вперед, конечно, — приспособить самолет под жилье! Можно лежать в тепле на ворохе пахучей хвои, смотреть на огонь и сознавать, что это — дело твоих рук. И не думать о том, что будет завтра, — ведь когда смотришь на огонь, не хочется ни о чем думать…
Сбросив служивший одеялом плащ, Иван Терентьевич поднялся и, с удовольствием сознавая, что ступает босыми ногами, прошел к печке. Присев на корточки, отворил дверцу, но подходящего уголька — чтобы, перекидывая с ладони на ладонь, положить на край печки и прикурить — не оказалось. Были не угли, а жар, пылающая зола. Тогда Иван Терентьевич нащупал в куче приготовленных на ночь дров сухую лохматую ветку и сунул в печку — зажечь. Ветка вспыхнула белым, ярким огнем, и в самолете сразу стало светло.
Свет выхватил прикрытую Седой прядью щеку Анастасии Яковлевны, расположившейся ближе других к печке, и затылок летчика. Оба спали. До Ольхина, устроившегося, как и сам Иван Терентьевич, в передней части кабины, свет не дошел. Но Иван Терентьевич и так знал, что Ольхин-то наверняка спит.
Ветка сгорала, огонь съедал ее и умирал сам. Иван Терентьевич прикурил от огарка, кинул его в печку и стал подбрасывать дрова. Терпеливо ожидая, когда они займутся, он сидел в темноте, наслаждаясь сигаретой, праздничный от сознания исполненного долга: он сделал для этих людей все возможное.
Завтра он поставит несколько надежных петель на глухарей. Таких, что никакому соболю не по зубам. Но глухари — это все-таки только на первый случай. Если трос не расплетать, он удержит лося. Значит, надо найти лосиную тропу — они поблизости наверняка есть, должны быть — и насторожить несколько петель на сохатых. Еще лучше — не полениться и соорудить изгородь, а петли поставить в проходах, так будет вернее. Плохо, конечно, что мало соли, но дело к морозам… К морозам! Ивану Терентьевичу вдруг стало холодно, он распахнул дверцу печки, в которой уже начинало гудеть пламя, и мысленно обругал себя дураком.
Разве не дурак — его беспокоит, что нечем солить мясо, когда мясо еще бегает по тайге! Разве не дурак — собирается замораживать это мясо, как будто думает зимовать здесь. Да, можно поймать глухаря, лося, но — до снега, пока есть возможность передвигаться, а что это даст? Отсрочку? Ведь он-то, Иван Заручьев, должен понимать, что ни глухарь, ни лось, ни печка в этой кабине не спасут, если не спасут люди. И он понимает — к сожалению, потому что иначе мог бы не думать об этом, а спать, как спят эти трое, — Иван Терентьевич, жалея себя, вздохнул и, помешав в печке, кинул огню еще несколько палок.
— Что, не спится?
Иван Терентьевич посмотрел на пилота. Спрашивал, несомненно, он, выдавала шепелявость, но пилот лежал в том же положении, виден был только затылок.
— Нет, спится. Встал по таежной привычке — дров подкинуть, — сказал почти шепотом Иван Терентьевич. — Сейчас лягу и — до утра, утро вечера мудренее.
— Брось, ты же понимаешь… Надо, чтобы сообразили искать в стороне от трассы. И чтобы погода позволила. Чтобы видимость.
Пилот был настоящим мужиком, Иван Терентьевич забыл, что можно говорить с ним откровенно. Но откровенно не хотелось говорить даже с собой.
— Так ведь еще лейтенант пошел…
— Куда?
Иван Терентьевич не ответил.
— На фронте, наверное, бывало хуже, — сказал пилот.
— Не знаю, не воевал, — признался Иван Терентьевич и, чуть погодя, объяснил: — С золота старались не брать, говорили — тоже передовая.
— Я тоже не воевал, еще пацаном был, — сказал пилот и надолго замолчал.
Иван Терентьевич, достав из пачки новую сигарету, колебался — предлагать или не предлагать закурить собеседнику? Может быть, уже уснул?
— Спишь? — спросил он почти шепотом.
— Думаю, — сказал пилот. — Что тогда умели умирать, железно. А тут…
— Но ведь это была война! Понимаете: война! — неожиданно вступила в разговор Анастасия Яковлевна, и Иван Терентьевич с трудом удержал ругательство: говорили такое — и она слышала! Идиотство!
— Я… Мы думали, что вы спите, — оправдываясь перед собой, сказал он.
— Очень хорошо, что вы так думали, — сказала Анастасия Яковлевна. — Я видела войну, которой не видели вы. Видела, как люди умели умирать. Тогда это было нужно — теперь нужно уметь не умирать. Вероятно, могут быть случаи, когда стоит пожертвовать жизнью, как вы говорите — суметь! Ну, например… если ценой жизни одного человека можно спасти несколько, многих. Даже просто спасая другого человека, одного. Или такое, что действительно стоит человеческой жизни, — вечное, великое. Но умирать, не принеся своей смертью пользы или счастья живым… надо именно не уметь. Правда, не умереть иногда труднее…
Она замолчала.
— Эх, закурить, бы… — вздохнул пилот.
Иван Терентьевич молча прикурил сигарету, молча поднялся, чтобы передать ее, и снова присел к печке. Глядя на огонь, не поворачивая головы, спросил:
— Уметь не умирать? Н-нда…
Докурив, он подбросил еще дров, закрыл дверцу и вернулся на свою постель. Он думал о том, что умереть иногда легче, чем остаться в живых, уцелеть.
В печке громко выстрелил уголек. Очень кстати, потому что напомнил Ивану Терентьевичу треск крепи в шахте. Жадно, взахлеб — как пьют, сгорая от жажды, воду, он стал вспоминать дальше: запах гнилой древесины, шорох капель, непроглядную тьму и вдруг впереди — свет! Он скосил глаза и действительно увидел свет. Но не в щелях между досками, как в воспоминании, а в четырех отверстиях поддувала. Не полоски, а четыре огненных точки. Это был свет, к которому не следовало стремиться. От него следовало уходить, бежать.
И тьма была не такой. Не черная и плотная, а мутная, мерцающая, живая. Неужели уже утро, рассвет? Иван Терентьевич посмотрел на иллюминаторы и разглядел круглые провалы в плоской разжиженной тьме. Встал. Прошел к двери, открыл ее — и тихонечко присвистнул: вот оно что, снег!
Он осторожно, чтобы не хлопнула пружина, прикрыл дверь и лёг.
Снег…
Ему вдруг представился обледенелый, до иллюминаторов занесенный снегом самолет. Ослепительно белый, ни одним следком не запятнанный снежный покров вокруг самолета. Снежная шапка на торчащей из иллюминатора трубе. А внутри, на серебряной от стужи хвое — люди, на лицах которых не тает иней. Анастасия Яковлевна… Ну что ж, эта хоть прожила почти полностью жизнь, волосы ее иней побелил уже давно. Пилот… Славный парень, но ему не повезло еще раньше, в момент аварии, может быть, лучше даже не жить — калекой. Ольхин… Все равно плохо бы кончил, а годом раньше или позже — не имеет значения. Человек, только бравший у людей и у жизни, ничего не давая взамен, нахлебник.
И — тоже белый от инея — он, Иван Заручьев…
"Что делать, от смерти не уйдешь", — чуть было не сказал вслух Иван Терентьевич и вдруг вспомнил, что умеет не умирать, доказывал это, способен доказать и теперь, Так зачем ему тоже лежать здесь четвертому? Зачем, а? Иван Терентьевич вопросительно посмотрел на пилота, затем на постель Анастасии Яковлевны, словно ожидая, что учительница ответит: зачем"
Но ведь она уже ответила ему, час или два назад: незачем! Ведь ты не спасешь своей смертью остальных, даже одного…
Кажется, он заснул — на полчаса. Его разбудил Ольхин.
— Иван Терентьевич, а Иван Терентьевич! Может, пойдем петли заделаем? Жрать охота как из пушки!
В иллюминаторы в самом деле начал заглядывать рассвет. Иван Терентьевич чертыхнулся, но сел — он не умел нежиться.
— Пойдем… Трос ты куда дел?
— Отчистил до блеска и свернул, как… приказано.
— Снегу ночью нападало, теперь ушкана сподручнее ловить. Когда снег оглубеет и ушкан троп наделает. Но можно еще и глухаря попытать добыть… И ты маленько подучишься, хоть что-то уметь будешь. Берн ноги в руки, только дрова в печку сперва подбрось, пусть люди в тепле поспят.
Дверь захлопнулась с металлическим лязгом, как не захлопываются двери жилых домов, где остается теплая постель и кипящий чайник позванивает крышкой. И все равно уходить от самолета не хотелось — в мертвую, чистым саваном покрытую тайгу.
— Чего ты как кот по мокрому выступаешь, — полуусмехнулся через плечо Иван Терентьевич. — Ходи, не бойся, обувка у тебя в самый раз. Я вон в штиблетах — и то ништо!
Когда они уже спускались в разложину, Заручьев дождался спутника и, заправляя на место выбившуюся из носка брючину, сказал со снисходительным добродушием:
— Так-то, парень! Бояться или раздумывать надо, пока на берегу стоишь. А ежели уж прыгнул или упал — тут плыви знай, забудь, что вода мокрая. И мечтай, как выплывешь, а не как обсохнешь…
— А я и не мечтаю, — почти огрызнулся Ольхин. — Если кишки свело, не размечтаешься. Мне бы черного да черствого грамм тыщи две-три…
— Погляди, может, где на елке повесили? Или на сосне…
— Вагон смеху, — буркнул Ольхин.
— Я плакать не умею, — сказал Иван Терентьевич. — Не приучен. Если лисица в капкан угадает, думаешь, она приманку есть станет, оголодав? Она лапу себе отгрызет, чтобы выскочить.
— Грызи не грызи — не выскочишь, — вздохнул Ольхин.
— Ежели сидеть да сопли по рылу размазывать, — согласился Иван Терентьевич. — Я вот нынче ночью случай один вспоминал… Я тогда не на золоте старался, а на другом металле, сурьма называется. Металл военного значения, тут война в самом разгаре, а рудник план завалил. Начальство кликнуло клич старателям: перебрать старые отвалы. Вроде на шабашку позвало. Сурьма стоила, считай, сколько и золото, но за ней не надо было идти в тайгу, возле дома старайся, в поселке. На отвалы вышли даже бабы с ребятишками…
Иван Терентьевич прокопался в отвалах два дня, сдал семь граммов металла. Это был заработок, но если можно попытаться заработать больше? Но Ольхину он про заработок не помянул.
— Плакаты тогда рисовали: "Каждый грамм металла — удар по врагу". Ну и решил я попытать ударить покрепче. Заброшенная шахтенка имелась на руднике, горный надзор разрабатывать ее запретил из-за возможности обрушения. Приказ есть приказ, пришлось там в двух гезенках просто сумасшедший металл бросить. Вспомнил я это дело, а знаю, что попасть в шахту через штольню на Лысой горе вроде можно… Ладно, давай закурим, — неожиданно оборвал он повествование.
Закурили. Иван Терентьевич, попыхивая сигаретой, видел то, чего не мог видеть Ольхин. Штольня — как нора в горе, заросший малинником лаз. Он полз, переставляя впереди карбидную лампу, волоча за собой моток веревки и мешок с продуктами и инструментами, зная только одно — что устья нужных ему гезенков находятся на втором горизонте слева. Полз, обдирая колени, передвигался на четвереньках, иногда вставал в рост. Добрался до вентиляционного ствола. Привязав на конец веревки мешок, попробовал, достаточно ли длинна веревка. Убедившись, что достаточно, обвязал свободным концом показавшуюся самой надежной стойку крепи и стал спускаться на второй горизонт. Карбидку он погасил, чтобы не обжечься. Наверное, он спустился метров на десять, когда веревка в его руках вдруг обмякла. Это все, что Иван Терентьевич запомнил от того мгновения. Уже потом он уразумел, что, болтаясь на веревке, расшатал гнилую расклинку стойки, та вывалилась — и крепь рухнула.
— В общем, парень, стал я спускаться с первого горизонта на второй и метров с восьми, коли не больше, вниз — камнем…
Очнулся он в непроглядной тьме, в тишине, нарушаемой только шорохом капель, избитый обвалившейся сверху породой. И, не зажигая карбидку, только проверив — цела ли, попытался осмыслить происшедшее. Что путь назад отрезан, ему было ясно. Оставалась некоторая вероятность пути вперед — вниз, на третий горизонт, где будто бы имелась сбойка с новой шахтой. Путь через лабиринт подземных выработок, может быть слепых, запертых обрушениями…
— Кое-как очухался. Соображаю: наверх не выбраться. Клетку в стволе строить из рудстойки — это сколько времени уйдет, по одной палке поднимать. Не хватит ни света, ни харчей, ни сил…
Следовало идти вниз. Но он находился на втором горизонте, куда не сможет попасть еще раз и где расположены невыработанные гезенки, ради которых он пошел на эту авантюру.
— Так вот, к чему я тебе это рассказывать стал? — Иван Терентьевич сделал значительную паузу: — К тому, что, опустись у меня руки тогда, то все, амба. А я лежу, породой заваленный, и думаю, что если смерти не противиться — она и дома на койке верхом сядет. И вовсе смешно, понимаю, погибать зря, не для того лез. Днем-двумя раньше или позже выберусь я отсюда либо пойму, что не смогу выбраться, — какая разница? Но коли придется выбраться, обидно будет, сам себе говорю, что вытерпел такое — и без пользы…
Иван Терентьевич одобрительно усмехнулся — себе, тогдашнему. Он отыскал гезенки и, не зная счета времени, измеряя его только усталостью, долбился в твердой породе, выковыривая вкрапления белесого металла. Не жадничая, рассчитывая силы, как выполняют обыденную работу. Наковыряв граммов сто пятьдесят, уложил в мешок скарб, оставшиеся продукты и двинулся на поиски вертикальных выработок, путей к третьему горизонту.
Нашел.
Спустился на третий.
Добравшись до ходового штрека, руководствуясь скорее инстинктом, чем рассудком, пошел направо. Полз под осевшей крепью, перелезал через обрушения, завалы. Сжег весь карбид, остался без света. Рукояткой обушка нащупывая дорогу, рискуя свернуть на боковую выработку, свалиться в вертикальную, в абсолютной темноте, вне времени и пространства, он двигался, чтобы ощущать движение, действовать! Он не хотел умирать раньше смерти и не хотел смирно ждать ее прихода. Может быть, он шел ей навстречу, но шел!
Он не расплакался, не спятил с ума, даже не обрадовался, пожалуй, а просто почувствовал удовлетворение завершенности, конца, когда тьма впереди распалась на несколько узких вертикальных полосок, вычерченных тусклым золотом. И когда подошел вплотную к отделявшему старую шахту от новой дощатому щиту, через щели которого сочился свет, и поднял обушок, руки у него дрожали.
— Вот так, парень! Выбрался ведь, хотя дорога, по которой выбирался, самой смерти страшней была…
— Значит, вы вроде бы мне говорите, что выбираться надо. А как?
— Это уж сам соображай, Чтобы после не винить никого. — Иван Терентьевич сделал несколько шагов, приостановился. — Да и не говорил я тебе, чего надо или не надо. А говорил себе… рассказывал. Ладно, пришли мы, давай петли ладить.
Лейтенант даже попробовал снег на ощупь — да, самый настоящий, холодный, слипающийся в комок. Он брезгливо стряхнул снег с ладони, вытер ладонь о полу плаща.
— Та-а-ак…
Это был запрещенный прием, предательский: зима, мыслившаяся еще далекой-далекой, в черных, полученных у старшины аккуратных валенках, за разрисованным морозом стеклом теплого кабинета в отделе, — вдруг подкралась и ударила из-за угла, сшибла с ног. Лейтенант не ожидал удара, не думал о нем — и растерялся.
Кругом расстилалась снежная пустыня, белое безмолвие, а он находился на крохотном островке, отрезанном от всего мира. И ему надо было встать, добровольно оставить свой островок, окунуться в леденящую белую бесконечность.
Лейтенант встал.
Одной ногой он стоял на земле, нагретой костром и поэтому голой, другую поставил на снег. Так, робея сразу броситься в воду, пловцы пробуют, очень ли она холодна. У лейтенанта не хватило решительности, он убрал ногу со снега и увидел вырезанный в нем след своего сапога. Он показался лейтенанту провалом в бездну, которую прикрыл снег.
Лейтенант попятился к черному пожарищу залома, сел на обгорелое бревно и развернул на коленях уже не пакет, а пакетик с едой. И только тогда понял причину сосущей боли в желудке. А еды осталось так мало: полпирожка, шаньга с черемухой, два ломтика сала и яйцо. Он съел яйцо и шаньгу, собрал по одной крошки с газеты, спрятал в карман остатки. И еще мучительнее, нестерпимее захотелось есть.
До режущих болевых спазм, до разноцветных точек в глазах. Он заслонился от них ладонью и стиснул зубы, чтобы не завыть: какой он дурак! Куда он идет, зачем? Надо было на месте добыть лося — и все! На месте, вблизи самолета! Он мог это, у него оружие, только у него! И все были бы сыты, и он тоже, и это самое главное: быть сытым! Потому что помощь нужна живым, а он не думал об этом. Как исправлять ошибку?
Лейтенант затравленно оглянулся, увидел смоляной натек на комлистом бревне и вспомнил о совете Заручьева. Вытащив из обоймы патроны, смазал смолой капсюля. Дослав патрон в ствол, спрятал пистолет и тщательно застегнул кобуру. Все четко и хладнокровно, и все автоматически, бездумно.
— Ну? Давай, двигай! — Ему просто захотелось свалить с плеч пригнувшую к земле тишину.
Пошел, оставляя позади четкую цепочку следов. Если повернуть вспять, она привела бы к еще не догоревшему залому, возле которого можно сидеть и греться… Интересно, как далеко он от него ушел? Как далеко ушел он вообще, сколько еще надо пройти?
Может быть, не поздно повернуть назад? Убить у самолета лося, наесться, накормить досыта остальных — и тогда уже идти? Нет, лучше двигаться вперед. Он убьет лося и вернется к самолету с мясом, а часть оставит, подвесит к дереву. Чтобы не заботиться о еде, когда будет проходить этим путем вторично.
Мысли были легкими и расплывчатыми, как дым. Не мысли — мечты, сны наяву. Опять и опять они возвращались к лосям, к еде. Признаки лосей преследовали лейтенанта. Не оставляя следов, но треща кустами, ходили по сторонам. Минутами выстаивали, подбивая на выстрел, — и оборачивались вывернутым корневищем сосны или сухой, рыжеющей елочкой. Они замучили, извели лейтенанта. Он передвинул кобуру к пряжке ремня, на живот, каждую секунду был готов выстрелить, уж теперь-то он не проморгал бы, не растерялся. Привел бы к мясу Ольхина с Заручьевым. Дорогу к самолету он сумеет найти, надо от того места, где вышел к реке, идти на запад, по тому же самому азимуту, только в обратном направлении.
Теперь он шел вверх по реке, на восток и юго-восток. По той самой тропе, которая вчера привела на болото с лосями, по тропе-обманщице, заставившей прошагать добрый десяток ненужных километров. Он не всегда видел реку, тропа иногда уходила в сторону, но река все время угадывалась где-то справа. Оттого, что слева громоздились сопки, заслоняя небо, а справа открывался простор, свет. Оттого, что с правой стороны к тропе подступали пихты и березы, а слева начинались сухие высокоствольные боры, сосняк.
Тропа терялась.
Снова, без поисков, оказывалась под ногами.
Иногда в пихтачах и березниках перепархивали рябчики. Лейтенант научился различать, что это именно рябчики, по характерному шуму крыльев, даже не видя. Кое-где тропа пересекалась их следами, похожими на вышивку крестиком. Возможно, удалось бы застрелить одного-двух, если бы он решил вплотную заняться этим. Но лейтенант не обращал на рябчиков внимания, ему нужен был лось, в которого так легко попасть, в котором так много мяса… Целая гора мяса…
Ему нужен был именно лось, потому что только лось нужен был тем, у самолета. Рябчики и глухари их не выручат.
И опять он всматривался до боли в глазах в пихтачи, придерживая шаг, выходя на открытые места. Вот сейчас, вот за этим островком пихт… Прорезь — мушка — лопатка зверя. Наверное, он сделает прыжок или два, зверь, прежде чем упасть. Упадет, ломая своей тяжестью кусты. Кажется, следует сразу перерезать горло, спустить кровь, но нет ножа! Ладно, можно не спускать кровь, сойдет и так, лишь бы мясо. Он разожжет костер, отрежет кусок сочного мяса… Чем он его отрежет? Чем, как он будет сдирать шкуру, добираться до мяса? Зубами? Ногтями?
Лейтенант остановился и выругался самыми последними словами, как будто стоял над уже убитым лосем, перед горой мяса — и не мог к ней подступиться. Острым камнем? Черта с два камень возьмет такую шкуру, да и где его найдешь, острый камень? Целиком завалить на большой костер и ждать, пока обгорит шкура? Не выйдет, такую махину на костер не взвалишь. Хотя… хотя можно костер развести около лося, под одной задней ногой например…
Он забылся до того, что стал оглядываться в поисках сушняка для костра. Опомнился, пробурчал:
— Ну и ну…
Но о лосях думать перестал — думал просто о еде. О какой-нибудь, какая попадется. В конце концов, у него шестнадцать патронов, можно рискнуть одним, попытаться убить рябчика, они попадаются чаще всего. Безусловно, рябчик — не лось, можно промазать, а что делать? Надо убить рябчика — для себя — и потом терпеть, ждать встречи с лосем — для всех.
Тропа неожиданно вывела его к реке, оказавшейся почему-то не справа, а слева. Лейтенант сделал несколько неуверенных шагов и совершенно растерялся: он шел вниз по течению! Достал компас. Нет, с направления не сбился, все приблизительно верно: северо-восток. Выхолит, он вышел к другой реке? Или это та же самая делает впереди немыслимую петлю, и тогда ему придется переправиться где-то на другой берег, чтобы следо-вать по азимуту, а это очень не просто… Впрочем, если это другая река, переправляться все равно придется. Ладно, пока эта река течет в устраивающем его направлении, он пойдет по реке, а там будет видно.
Тропа некоторое время вела его вдоль берега, потом спустилась к самой воде и потерялась, а реку стиснули с обеих сторон голые обрывистые, берега. В большую воду, наверное, он не смог бы идти здесь, по речному каньону: узкая полоска галечника, лепившаяся к подножью обрыва, была бы тогда речным дном. Но сейчас — это была дорога, и довольно сносная.
Расщелив берег, в реку скатывался ручей. В месте встречи его с рекой образовался омут, в нем, не касаясь берегов, кругами плавала сбитая в плотные хлопья пена. Полоска галечника нырнула в омут, и лейтенант остановился, не зная, как поступить. Возвращаться, и, поднявшись, идти верхом? Или попытаться вскарабкаться по расщелине и по ней спуститься на другую сторону омута, где опять начинался галечник? Так, пожалуй, он и поступит.
Цепляясь за глинистый скос расщелины, он с трудом поднялся по ней метра на три, перешагнул через ручей и съехал вниз по противоположному скосу, увлекая за собой камни, на самый край галечника, чуть-чуть не в воду.
Река поворачивала направо, ее заслонил мыс. Строго придерживаясь азимута, следовало бы перебраться на другой берег, а там уйти от реки. Но об этом нечего было и думать, берега разделяло метров семьдесят стремительной ледяной воды. Оставалось идти вперед, рассчитывая, что река повернет, что встретится залом, вроде приютившего ночью, или сравнительно неглубокий перекат, брод. Почему она не прямая, эта река? Не как улица, она ведь так похожа на улицу, обставленную с двух сторон слепыми, без окон, зданиями. И как было бы здорово — прямые тропы и дороги, просеки в тайге. Чтобы встать на перекрестке и видеть на все четыре стороны: что там?
Лейтенанту очень хотелось видеть, знать, куда повернет улица реки за углом, за мысом. Оттуда все громче, все грознее доносился шум встретившей препятствие воды. Левый берег стал значительно ниже, закучерявился во бровке кустарниками. Зато правый, сложенный из похожих по цвету и в тусклый металл сланцев, поднялся, казалось, еще выше и почти вплотную подступил к воде. Но вот и поворот наконец…
Придерживаясь за выступающие пластинки сланца, чтобы вместе с ускользающей из-под ног галькой не скатиться в воду, лейтенант обогнул скалу — и понял, что река его обманула.
За скалой она еще круче поворачивала направо. То есть туда, откуда он пришел. Значит, это была та самая река, решившая выкинуть с ним злую шутку. Значит, ее надлежало во что бы то ни стало перейти.
— Пожалуй, перейдешь! — горестно усмехнулся лейтенант.
Шагах в четырех начинался порог, или шивера, — лейтенант не разбирался в тонкостях. Река прыгала по сланцевым ребристым ступеням, вспучивалась у левого берега горбом. Лейтенант посмотрел назад, вверх по течению, и увидел подплывающий к порогу обломок древесного ствола, комлистый, с тяжелым размочаленным узлом корней на конце. Вода тащила его все быстрее и быстрее. Мимо лейтенанта он не проплыл, а пронесся, промелькнул. На какое-то мгновение потерялся из вида и вынырнул уже в пороге, встал дыбом, словно пытался выпрыгнуть, плашмя рухнул на камень и вновь исчез в пенном водовороте.
Потом он, неспешно разворачиваемый течением, скользнул по гладкой воде мимо отлогой галечниковой косы на левом берегу. Там начинался плес, река отдыхала, перебесившись, широкая и, наверное, мелководная. Там можно попытаться перебрести ее, но туда не было дороги.
Скала впереди обрывалась прямо в воду, в порог. Галечная дорожка сужалась и сходила на нет. Правда, по скале, метрах в двух над водой, лепился выступ, нечто вроде неровного карниза. Что, если, прижимаясь к скале и цепляясь за трещины, попробовать пройти над порогом по этому карнизу? Всего три-четыре метра каких-то, дальше скала разламывается на уступы… Нет, лучше вернуться, искать брод выше по течению, — решил лейтенант, вспомнив, как измывался порог над попавшим в его власть деревом. Он повернулся — взглянуть на дорогу, по которой пришел сюда и сейчас отправится обратно. И увидал на противоположном берегу четырех оленей.
Это было — как чудо. Как в сказке или в кино. Олени словно бы возникли из ничего, потому что он только что вот так же оглядывался и не видел их. Они и вели себя по-сказочному: их не испугал человек на берегу, прижавшийся к скале. Испугался человек, что он шевельнется — и олени исчезнут, растают.
Олени стояли, в одну сторону повернув головы. Рога их, казалось, запутались в голых кустах тальника и не принадлежали оленям, а Тоже росли на бровке берега. Олень, стоявший ближе других к воде, первым вошел в реку и, широко расставив передние ноги, коснулся губами воды. От губ по воде побежала вниз по течению зыблющаяся полоска.
Примеру первого последовали остальные, а он, уступая место, повернулся чуть боком. Всего шестьдесят или семьдесят метров, а мишень в тире вспомнилась лейтенанту как что-то громадное по сравнению с фигурами-животных. Но ведь он не мог промахнуться, не имел права! Лейтенант достал пистолет, толкнул вперед предохранитель. У него было такое чувство, будто четыре пары немигающих человеческих глаз смотрят ему в спину, ждут… Согнутой в локте рукой: боялся спугнуть зверей широким движением — он поднял пистолет на уровень зрачка. Прицелился, помня, что затвор откатится назад, а он держит пистолет слишком близко, к глазу. Чуть разогнул локоть.
Ближний из оленей поднял голову — и снова прикоснулся губами к воде.
Лейтенант задержал дыхание.
Прорезь — такая широкая, оттого что рука не вытянута! — мушка — лопатка наклонившегося к воде оленя — плавно нажатый спусковой крючок… Раз, другой…
Выстрелов он почему-то не услышал. Не видел — да и не смотрел, — куда девались остальные олени. Тот, в которого он стрелял, вскинул голову, почти положив рога на спину, сделал несколько шагов вперед и медленно повалился на бок, а течение потащило его к порогу!
Уносило два патрона, еду, надежду тех четверых!
Взгляд лейтенанта заметался по скалам, по камням и бурунам в пороге — и снова вернулся к скале, загородившей те несколько метров пути, за которыми начинался плес, где оленя подобьет к берегу… Его уже влекло в порог, он потерялся в пене! Что, если его невозможно будет догнать?.. Лейтенант в несколько прыжков оставил за собой галечник, в конце, у скалы, выскользнувший из-под ног, и полез к карнизу. Мешал зажатый в руке пистолет, он ощупью затолкал его в кобуру. Распластавшись по скале, вжимаясь в камень, поставил ногу на первый выступ, осторожно переступил влево… Держит, есть опора! Он нащупал впереди выбоину, попробовал — тоже держит! — и, оглохший от шума порога, стал передвигаться влево. Медленно, осторожно задерживая дыхание, чтобы наполненная воздухом грудь не оттолкнула от камня… Выбоина, гофрированный выступ, нога скользит по нему… Нет, держится… Теперь снова уцепиться рукой, так… удалось… А-а! — пластинки сланца под пальцами левой руки рассыпались, но правая рука и ноги удержали тело. Лейтенант облегченно передохнул, нащупал опору для левой ноги, начал переносить на нее тяжесть тела, и… нога, обламывая непрочный сланец, сорвалась в пустоту, в бездну. Хотя до карниза, окажись галечная дорожка под скалой длиннее на два шага, можно было бы дотянуться рукой…
А оленя вынесло на плес и, покружив у слива, прибило к берегу. К правому, по которому шел лейтенант.
Анастасия Яковлевна слушала странный, не укладывающийся в сознании разговор, считая, что он ей снится:
— А ты будешь жить с волками или с людьми, тебе все равно, — глухо звучал мужской голос. — Все равно, с кем и где. И как. Точно? Ну, чего ты не отвечаешь? Иди сюда, дурочка. Вот так…
Анастасия Яковлевна резко сдвинула к переносице брови, контролируя физическое ощущение этого, и, убедившись, что прогнала сон, села. Голос больше не звучал, но теперь она была уверена, что слышала его наяву. И знает, кому он принадлежит. Неужели… пилот сошел с ума? А остальные спят, им невдомек?
— Иван Терентьевич! Заручьев! — позвала она.
Темнота помолчала, а потом ответила — опять шепелявым голосом пилота:
— По-моему, их нет… Никого…
— Мне послышался разговор… — сказала Анастасия Яковлевна боязливо.
— Это я с Зоркой вашей… Кажется, мы подружились.
— Господи! — вырвалось у Анастасии Яковлевны. — Я невесть что подумала! Скажите, уже утро?
— Если не день, — сказал летчик, а после паузы спросил почему-то виноватым тоном: — Анастасия Яковлевна, как бы вы посмотрели… ну, что ли, на решение Ивана Терентьевича и парня оставить нас вдвоем?
Она долго молчала, но не переменила позы, не дрогнула ни одним мускулом лица. Потом, сложив и разняв несколько раз пальцы, сказала задумчиво:
— Ну что ж… Не знаю, лучше ли это для них, а для нас с вами… только ждать и надеяться. Вот и будем ждать, пока нас хватит на это. Еще сохранилось немного продуктов.
— А вода? И дрова… хотя дров сколько-то они оставили. Но это на день-два, а там? Черт, если бы я мог… Но, видите, мне даже не встать на ноги!
Анастасия Яковлевна не могла видеть. Она могла слушать, в недоумении вслушиваться в наполненное шорохами и болезненными стонами молчание. Потом молчание стало тишиной, и она спросила с тревогой:
— Что с вами?
— Н-ничего… Знаете, встал…
— Нужно было только очень захотеть, — сказала Анастасия Яковлевна. И, помолчав, спросила неожиданно: — У вас есть семья, дети?
— Да, двое… Двое детей… — Теперь он не лежал — сидел на своем ворохе хвои.
— Как вам надо верить, что все будет хорошо!
Пилот не смог удержать горькой улыбки, от этого обезображенное лицо его стало еще непригляднее.
— А вы верите? Вы же… только делаете вид. И срываетесь. Да, да, вы проговаривались уже не раз! — сказал он.
— Я хочу верить, а вы должны, обязаны. Потому что вас ждут.
— Вас тоже ждут.
Она покачала головой — не отрицая, а печалясь, что знает больше его:
— Может быть. Но я уже не очень нужна сыну, а вы своим необходимы, И значит, должны держаться, И выдержать.
Плечи пилота вдруг опустились, обмякли. И стали вздрагивать. Отворачиваясь и пряча глаза под ладонью, будто учительница могла увидеть его слезы, он заговорил, шепелявя и заикаясь сильнее обычного:
— Но ведь это же, это… Вы, вы — мне говорите "держаться"! Вы! А я раскис, как худая баба.
— Но вы же смогли встать! — напомнила Анастасия Яковлевна. — Просто вам не собраться, потому что голодны, четвертый день ничего не ели…
— Не ел… — как эхо, повторил пилот.
— Вот, и, пожалуйста, не отказывайтесь, не валяйте дурака! — Анастасия Яковлевна покопалась в своем бауле, пошелестела бумагой и подала два сложенных один на другой бутерброда.
Пилот протянул руку — и отдернул. Провел языком по шелушащимся коричневым губам.
Женщина ждала.
— Берите же! Ну, если вы такой упрямый, это в моих интересах теперь, чтобы вы ели. В моих и в ваших…
Он тяжело вздохнул и взял бутерброды. Отвернулся и, просыпая крошки через разрыв в щеке, мыча от боли, стал есть. Почти не разжевывая, судорожными движениями горла проталкивая жесткие куски в пищевод.
Доев, голодными глазами посмотрел на сумку Анастасии Яковлевны. Она угадала его немую мольбу:
— Повремените. Сразу после голодовки нельзя есть много.
Он проглотил заполнившую рот слюну, приготовляясь терпеть. Понимал, что надо терпеть, но с трудом сдерживался, не кричал: дай, если все равно дашь, дай сейчас!
— Анастасия Яковлевна, а ведь вы поступаете вопреки своим же словам. Моя смерть помогла бы жить другим, вы же делитесь со мной… своей жизнью.
Она, почти не разжимая губ, голосом бесконечно утомленного человека спросила:
— Чего вы добиваетесь? Чтобы я рвала волосы и причитала? Неужели вы не понимаете, что если нас не спасут вовремя, если придется умирать, то лучше умирать… людьми?
Потом они, не следя за временем, сидели молча, думая каждый о своем. Подняв глаза на иллюминаторы, пилот обратил внимание, что мороз начинает разрисовывать стекла тонкими серебряными веточками. Он встал, проковылял к печке и, не сгибаясь в пояснице, присев на корточки, подбросил дров. Жара в печке почти не оставалось, дрова не желали загораться. Следовало нагнуться и, как это делается тысячи лет, раздуть огонь. Но пилот медлил, боясь разбудить боль. У него было такое чувство, будто боль затаилась, приготовилась прыгнуть и вцепиться в него, как только он нагнется, наклонит голову. Как прыгает рысь на склонившегося к водопою оленя. И пилот, еще не решаясь нагнуться, уже втягивал голову в плечи, как бы защищая ее от клыков боли, хотя обычно боль грызла поясницу и грудь. Наконец он отважился. Пытаясь облегчить пытку, сначала опустился на колени, начал сгибаться — и вдруг разом выпрямился опять: снаружи донеслись голоса, сдержанное — вполголоса — ругательство.
Пилот растерянно посмотрел на Анастасию Яковлевну и встретил ее ничего не выражающий взгляд.
— Кажется, кто-то идет? — спросил он неуверенно.
— Мне стыдно, — сказала Анастасия Яковлевна. — А вам?
Первым в самолет ввалился Ольхин, сбросил возле печки вязанку хвороста со спины, посмотрел на стоящего на коленях пилота.
— Богу молимся? Не поможет эта падлюка!
Его не удивило, и не обрадовало, что пилот встал, двигается.
— Дрова не разгораются, а я не могу согнуться, — пожаловался пилот.
— Ладно, я разожгу! — сказал Ольхин и, опустившись на четвереньки, смешно выпятив зад, принялся раздувать тлеющие сучья. Они почти сразу же взялись огнем, он поднялся. Отряхивая ладони, доложил появившемуся в дверях Ивану Терентьевичу: — Человек вкалывает на прямом производстве и еще дневалит по бараку! Заслуживает он поощрения или нет?!
Иван Терентьевич опустил рядом с ольхинской свою вязанку. Вытянув из-под нее связывавший хворост трос, аккуратно смотал в кольцо и спрятал в карман.
— Петли ходили ставить, — сказал он, ни к кому не обращаясь. И спросил у пилота: — Я гляжу, дело на поправку пошло? Оклемался маленько?
— Встал вот кое-как, — сказал пилот.
— Это хорошо, — мертвым голосом похвалил Иван Терентьевич, проходя к своей подстилке из веток, Снял плащ, расстелил и, усевшись на него, стал разуваться, сетуя: — Все одно как без ничего, ноги насквозь мокрые.
Босиком он вернулся к печке, пристроил над ней носки и ботинки, прикурил. Вздохнув, переступил с ноги на ногу и направился назад, к плащу.
— Так-то… — лёг, закрыл глаза.
Ольхин следил за ним алым и в то же время насмешливым взглядом, — по его мнению, Ивану Терентьевичу следовало потрясти свои сетки, выдать что-нибудь. Обманувшись, он сплюнул на горячую печку и, сидя против раскрытой дверцы ее, запел вполголоса, как бы про себя, но косясь на Ивана Терентьевича:
На песенку не отреагировали — Иван Терентьевич явно решил зажать харч. Ольхин вторично плюнул на зашипевшую печку и, шаря взглядом по самолету, увидел Зорку. Цокнув языком, позвал:
— Иди сюда, псина, потолкуем! Может, меня мышей научишь ловить, еще одна специальность будет!
— И много их у тебя, специальностей? — не выдержал Иван Терентьевич.
Ольхин самодовольно ухмыльнулся;
— Одна, но правильная.
— Какая же?
— Скокарь.
— Это по какой части?
— По квартирной. Бесплатная, чистка от лишнего барахла в отсутствие хозяев. Для этого фрайера и существуют.
— Неужели вам нравится себя оскорблять? — удивилась Анастасия Яковлевна.
— Почему "оскорблять"?
— Но ведь по вашим же словам… вы — вор!
— Обязательно, — подтвердил Ольхин и снова запел:
— И вы… вы, кажется, гордитесь этим? — совсем растерялась Анастасия Яковлевна.
— Точно, — согласился Ольхин.
— Какой ужас!
Ольхин, довольный, рассмеялся. А Иван Терентьевич, не открывая глаз, напомнил учительнице:
— Наш разговор не забыли по этому вопросу? — Он помолчал. — И ведь живут такие — чужими руками. Я бы их самосудом — под корень.
Ольхин снова вызывающе рассмеялся.
— Чего-о? А если пасть порвут или кишки выпустят?
Он злился на Ивана Терентьевича, на учительницу, даже на пилота, почему-то считая их сытыми и благополучными, а себя незаслуженно обманутым, обойденным. Ему хотелось завести их, задеть. В первую очередь Заручьева. И он его завел.
— Мне? Такая, как ты, гнусь? — Иван Терентьевич приподнялся на локтях.
Ольхин сделал движение, будто хотел кинуться на Ивана Терентьевича, споткнулся о его взгляд, скрипнул зубами — и хрипло прорычал:
— Не бойсь, дядя шутит!
— Ну, пошути, пошути, — сказал Иван Терентьевич. — Повесели маленько.
Ольхин иронически фыркнул и, делая вид, будто разговор с людьми ему наскучил, снова привязался к собаке:
— Так что, пес-барбос, не хочешь ко мне идти? Точно, сытый голодному не товарищ, а ты на мышах отожрался, жирненький! Снять бы с тебя шкуру — ох, и котлеты бы получились! — парень приложил собранные щепотью пальцы ко рту и, отнимая, громко, плотоядно чмокнул.
— Неужели вы могли бы убить Зорку? — спросила Анастасия Яковлевна. И, помолчав, точно не решалась обидеть этим вопросом, добавила: — И съесть?
— Запросто! Хоть сейчас!
— По-моему, вы просто стараетесь Показаться хуже, чем в самом деде, — сказала Анастасия Яковлевна. — Думаете, наверное, что жестокость признак силы, да?
Ольхин промолчал, помешивая палочкой угли. Откуда было знать этой учительнице, что в местах заключения на Севере собачина ходила за лакомое блюдо, ели ее не от голодухи вовсе, для шика. Только ему почему-то вдруг захотелось, чтобы эта слепая, обычно немногоречивая женщина думала, что он действительно хлещется, наговаривает на себя. А впрочем, пусть думает что хочет! — решил Ольхин, пожимая в ответ на вопрос Анастасии Яковлевны плечами. Но задиристый, на пределе откровенной перебранки разговор помогал не так остро чувствовать голод, отвлечься. Фрайера, — а онзнал, что у них есть жратва, должна быть, — видимо, не собирались ни есть сами, ни тем более предлагать ему. Отнять или украсть он не мог, да и не хотел, пожалуй, — не те обстоятельства и не те люди. Оставалось одно: попытаться раздобыть жратву на стороне, утереть Фрайерам нос, доказать, каков он на деле, В аська-баламут, чего стоит…
— Спасибо гражданину Заручьеву, хоть растолковал, как зайцев ловить, а то глухарятина надоела, в глотку уже не лезет, — не смог он не съехидничать. — Придется поймать десяток-два ради смеха…
Ольхин прошел в корму самолета, разыскал там кусок тонкого троса. Свернув, сунул в печку, сверху накидал хвороста.
— Снег еще малой, ушкан как попало бегает, не набил троп. А на жировой след петлю ставить бесполезно, разве только осинку срубить до около нее две-три петли насторожить, — доброжелательно, будто не его вовсе заводил Ольхин, посоветовал Иван Терентьевич.
— Можем и осинку, — согласился Ольхин. — А где?
— А по ручью, я думаю, ниже того места, где воду брали. Увидишь, где у них набегано, там и валяй. А осиннику наломаешь, так помочись на него, чтобы вернее.
— Может, еще… чего сделать? — Ольхин выпрямился, прищурив один глаз, угрожающе подбрасывая на ладони тяжелый гаечный ключ, которым собирался рубить трос.
— Я тебе дело говорю, до соленого он охоч, ушкан. Смекаешь?
Ольхину стало неловко, он попытался представить, будто Иван Терентьевич не так его понял;
— Я и говорю — может, сахару ему еще насыпать или маслом помазать?
— И петли, когда настораживать станешь, хвоей натри. Пихтовой, — заканчивая разговор, велел Иван Терентьевич.
Ольхин вытащил из печки раскалившийся добела трос, бросил на не застеленный хвоей металлический пол — остывать. Остудив, отрубил метра полтора, расплющив гаечным ключом на ребре напильника, расплел на прядки. Надел ватник.
— Ну, я пошел, готовьте сковородку.
— Ни пуха ни пера, — напутствовала его Анастасия Яковлевна.
— Не заплутаешь? — уже на выходе окликнул его Иван Терентьевич. — Помнишь, как дорогу смотреть, где какая сторона?
— Помню. А сейчас и ни к чему: снег, следы назад приведут.
Когда дверь за парнем, клацнув пружиной, захлопнулась, встал Иван Терентьевич. Подбрасывая дрова в печку, проворчал:
— Народ!..
С полчаса они сидели на своих подстилках из лапника, трое думающих по-своему об одном и том же. Потом Зорка подошла к двери и тихонько заскулила.
— Гулять хочешь? — спросил Иван Терентьевич, не торопясь подниматься и выпускать собаку, хотя понимал, что сделать это нужно именно ему.
Анастасия Яковлевна отложила свое вязанье, предварительно ощупав место, куда его положить, и повернулась к дверям — будто могла наблюдать за собакой.
— Может, слышит кого-нибудь? — предположил пилот. — Белку или птицу какую-нибудь? Собаки — они чуткие. И все время настороже.
Учительница повернулась в его сторону.
— Знаете, я тоже последнее время все настороже. Все прислушиваюсь. Какой-то страх, что может прилететь самолет, а мы не будем знать даже. И все время хочется выйти наружу, послушать.
— Я выйду, послушаю… Заодно дров прихвачу. — Иван Терентьевич выпустил Зорку, мимоходом захватив с печки носки и ботинки. Обулся. Вышел, лязгнув дверью.
— В такую погоду ждать самолет бессмысленно, — сказал ему вслед пилот.
Учительница еще могла шутить:
— Это вам бессмысленно, а я ведь не вижу, какая погода. — И вспомнила: — Вы же голодны, я хотела… Извините, я сейчас…
Он взял поданное: пирожок и яйцо, а взгляд, помимо воли, приковался к сумке — сумка заметно отощалая.
Вернулся Иван Терентьевич, ворча:
— Худо человек устроен: одежда ему нужна, тепло, сушь. Мы вот без огня пропали бы, а зверь — тот в сторону от огня подается. И ни снег ему, ни дождь не помеха.
Учительница с напряженным вниманием лица вдруг подалась вперед:
— Слушайте! Я же говорила…
Было слышно только робкое шастанье ветра в вершинах сосен. Потом где-то, почему-то внизу, родился тягучий, ноющий звук, вначале еще более робкий, чем ветер.
— Точно самолет. — Иван Терентьевич встал, распахнул настежь дверь, запрокинул лицо к небу.
Пилот какое-то мгновение тоже послушал и подтвердил, безнадежно покачивая головой:
— Самолет. Всепогодный, военный. Идет тысячах на трех.
Анастасия Яковлевна, торопясь и сбиваясь, словно боялась, что не успеет досказать что-то и тогда произойдет непоправимое, заговорила неестественным тонким голосом:
— Послушайте, лежит снег… Все белое, на белом хорошо видно… Разжечь костер, кто-то говорил — кинопленка, много дыма… Может быть, обратят внимание, даже военный… Заметят…
— И решат, что охотники, им сейчас самое время, — грубо прервал учительницу Иван Терентьевич.
— Ничего они не заметят, некогда на таких скоростях замечать, — сказал пилот. — Заметить может только борт, выполняющий специальный рейс.
Учительница подавленно молчала. Она продолжала вслушиваться во что-то, хотя тишину опять нарушали только ветер да потрескивание дров в печке. Она даже не вздрогнула, когда одно из поленьев треснуло особенно громко, почти как выстрел, и алый уголек, вылетев из огня, упал у ноги. Пилот молча смотрел в пламя, уронив между колен свои большие, но сейчас такие беспомощные руки, низко наклонив голову.
Иван Терентьевич закрыл дверь.
— Снег, — сказал он Анастасии Яковлевне.
Учительница кивнула и снова ушла в себя. Пилот подбрасывал в печку дрова, когда она внезапно спросила:
— Уже вечер, наверное?
— Нет, но к тому идет.
— А снег густой?
— Как вам сказать…
— Во всяком случае, достаточный, чтобы засыпать следы, да? Вы не боитесь, что этот парень может не найти дорогу к самолету? Если следы засыплет?
— Не думаю, — сказал пилот.
— Иван Терентьевич, — позвала слепая, — Иван Терентьевич, вас не беспокоит снег и что… Ольхин ушел в тайгу?
Заручьев подумал, заглянул в иллюминатор.
— Снег небольшой, однако, следов не завалит. Конечно, если он до потемок дотянет, в потемках что увидишь? А до потемок уже недолго.
— Может быть, вам пойти встретить его? Покричать?
— Не денется он никуда, — уверил Заручьев. Потом помолчал, покусывая нижнюю губу, и как бы подумал вслух: — Да-а, по глубокому снегу далеко не уйдешь, а ежели снегопад не кончится… Хм! Ладно, Анастасия Яковлевна, я пойду. — Он долго смотрел куда-то в сторону, в пустоту, потом повторил решительно: — Пойду!
Потом очень долго одевался, щелкая крышкой своего чемодана, шелестя бумагой.
— Анастасия Яковлевна, из энзе шаньгу придется взять, — говорят, идешь в тайгу на день, хлеба бери на неделю.
Он не то кашлянул, не то попытался хохотнуть.
— Конечно, — сказала женщина, — пожалуйста, вы еще спрашиваете…
Она даже пересела со своей койки на его, показывая, что доверяет ему, что он имеет полное право на бесконтрольность. Летчик отвернулся — не хотел соблазняться, завидовать.
— Вот, — Заручьев подал учительнице ее баул. — Распоряжайтесь, покуда меня не будет.
— Как будто вы на день или на два…
— Тайга, всякое может случиться. — Он выпрямился.
Уже застегивая плащ, сказал:
— Дров для печки я наготовил дня на три. — Не сгибаясь в пояснице, присел, достал из печки уголек, прикурил. И еще раз повторил: — Пойду!
Двое остались в самолете — молчать. Позже пилот, впуская Зорку, еще раз открыл дверь: снег, падавший раньше мелкими белыми звездочками, валил хлопьями. И вдруг кончился. Следы Ивана Терентьевича различались четко.
— Снег кончился, а следы видны прекрасно, — сообщил он Анастасии Яковлевне. — Так что можно не беспокоиться.
— Я не беспокоюсь, — сказала учительница. — Но когда представляешь человека одного в молчаливой и холодной тайге, хочется, чтобы кто-то был с ним рядом.
В самолете стало почти темно, хотя снаружи, на снегу, только сгущались по-настоящему сумерки. Красноватые отблески огня заплавали в стеклах иллюминаторов.
— Уже смерилось, — сказал, глядя на них, пилот. — И как-то уж очень скоро. В темноте Иван Терентьевич может и не встретить…
Он не сказал — кого, но это было без слов ясно.
Анастасия Яковлевна, копавшаяся у себя в изголовье, внезапно выпрямилась и стояла, уронив руки, а плотно сжатые губы ее нервно вздрагивали. Летчик наблюдал за ней встревоженным взглядом, недоумевая — что вдруг произошло?
— Что с вами? — спросил он.
— Иван Терентьевич не смог бы встретить его и днем, этого парня, — сказала учительница, не отвечая на вопрос. — Его бессмысленно встречать, он унес золото.
Пилот привстал — и увидел на разворошенных пихтовых ветках пилочки для ногтей, зеленую мыльницу и коричневую сумку-портфель. Пустую.
Заячьих следов в распадке не оказалось. Были — Иван Терентьевич научил Ольхина немножко разбираться в этом — беличьи, крестики рябчиков или куропаток, аккуратная строчка лисьих по берегу ручья. Где же искать заячьи? Может, здесь вообще зайцы не водятся? Ольхин, прищурив один глаз, посмотрел на свое отражение в омутке ручья, движением ноги столкнул туда оброненную дятлом расклеванную шишку. По воде кольцами побежала рябь, отражение задергалось, потеряло четкость.
Ольхин перепрыгнул через ручей и, сторонясь заснеженных веток, направился к березнику на другой стороне распадка.
Уже забираясь по косогору, поросшему, вперемежку с похожими на черные скелеты лиственницами, тонкоствольным березником, кое-где еще сохранившим несколько ржавых листочков, он наконец увидел заячий след. Ольхин решил пройти по следу, авось тот выведет к месту, где зайцы кормятся.
Вообще-то этот Иван Терентьевич мужик ловкий… Ольхин вдруг забыл об Иване Терентьевиче, и что у того наверняка кое-какая жратва карячится еще, и о заячьих следах. Перед ним, как солью, присыпанные снегом показывали черные бока обугленные сосновые кряжи, явные остатки костра, а к сосенке шатром были приставлены жерди. Кто-то не так давно — места отрубов еще не успели потемнеть — рубил здесь дрова и варил что-то в котелке, потому что над костром уцелел таган. Значит, здесь бывают люди? Значит, это не такая глушь, край света? Может быть, если подняться на высокую сопку и посмотреть — увидишь дым, деревню? Ведь этого никому не приходило в голову, разве фрайера что-нибудь соображают? Надо найти сопку, самую высокую сопку, — Ольхин закрутил головой, высматривая такую, достающую до неба. Но здесь до неба доставали даже низкорослые чахоточные березки, заслонявшие кругозор. Надо было выбраться из распадка на какую-нибудь ближнюю сопку, а оттуда уже высмотреть ту, самую высокую, с которой откроется даль, а вдали дым! И он почти бегом, путаясь в цепком березнике, уже не заслоняясь от хлещущих по лицу и обсыпающих снегом веток, заспешил вверх по косогору.
Но относительно крутой подъем почти сразу кончился, начался пологий тянигус, — Ольхин вспомнил это словечко Ивана Терентьевича. Березник уступил место густо заросшему подлеском сосновому бору. Ольхину нужен был горизонт, обзор, а взгляд всюду упирался или в стену деревьев, или в небо. Какого черта он полез по этому проклятому березняку? Следовало, как ходили с Иваном Терентьевичем, дойти до встречи распадков, где есть высокая сопка, — и не надо было бы терять время на попеки. Ладно, сейчас он вернется своим следом к ручью, там дорога знакомая, слава богу! Ольхин повернулся и, заботясь теперь только о том, чтобы не сбиться со следа, двинулся назад. Забыв о времени, о том, что в сутках только двадцать четыре часа и больше половины их — ночь. Вид старого кострища на обратном пути снова подстегнул его нетерпение, он зашагал быстрее. Ага, вот он, заячий след, а вон и спуск к ручью! Ольхин приостановился только для того, чтобы вытереть рукавом ватника заливающий глаза пот. И не думая больше о своих следах, благо дальше начиналась знакомая дорога, прямиком направился вдоль косогора.
Подойдя к сопке на стыке распадков, он удовлетворенно усмехнулся: сопка, как ему и помнилось, оказалась крутой и, видимо, достаточно высокой, во всяком случае гребня ее снизу нельзя было увидеть за переломом крутизны. Ольхин не сразу нашел переход через ручей, снова пересекший ему дорогу, но ставший куда шире, и, придерживаясь за стволы деревьев, начал подниматься по склону. Не в лоб, а наискосок — так подъем казался более пологим.
Сделав каких-то три десятка шагов вверх, Ольхин сразу же потерял представление о высоте сопки и о расстоянии, которое он уже одолел и которое еще предстоит одолевать на пути к вершине. Сопка высилась над ним, закрывая все, кроме неба. Опять его со всех сторон обступили деревья. Видимо, оттого стало не хватать света. Ольхин задрал голову, чтобы увидеть его в небе, — и на лицо упала первая снежинка.
Начался снегопад.
— Тебя еще не хватало, — поморщился Ольхин, упорно продолжая подниматься. Потом он уже не взбирался, а просто шел. И опять все заслоняли деревья, тайга. Все, кроме клочков неба, сплетенных черным кружевом веток. Но вершина, с которой он хоть что-то увидит, должна в конце концов быть? Должна. Значит, надо идти вперед, пока не закончится подъем.
Снег повалил густо, хлопьями.
Ольхин в раздумье остановился. Если так будет продолжаться дальше, может засыпать следы, и если он не обнаружит с этой вершины дыма, то… Он не стал задумываться, что произойдет тогда. Не в его характере было задумываться. Но он промок и замерз, начисто замерз — пальцы, когда он стал прикуривать, отказались слушаться. Что делать? Попытаться все-таки дойти до вершины, не сто же километров до нее, или отложить это на завтра? Это тоже было не в его характере — дважды браться за одно.
Раздумывая, он продолжал пробираться между стволами сосен, матеря лезущие в глаза ветки подлеска, ежась, чтобы снежные хлопья не сыпались за воротник, И вдруг понял, именно понял, не увидел — что снег больше не падает. И опять-таки понял, а не увидел, что уже почти смерилось.
Он оторопело свистнул: вот так да! Ночь! Ночь в тайге, на снегу, в одиночестве? Да провались все пропадом, пускай фрайера ищут всякие дымы-крымы, ему это не светит! Ольхин рывком повернулся и, все убыстряя шаг, пошел, а потом и побежал под уклон. Сначала он старался придерживаться своих следов, а потом решил, что дорога у него одна — вниз, к подножию сопки, в знакомый распадок с ручьем. Значит, можно идти напрямик, тем более следов и не видно почти, только время уходит зря — их разгадывать. Последние десятки метров Ольхин не шел, а скатывался. Он спешил: его пугала тьма, в которой и по знакомой дороге чем позднее, тем хуже будет шагать к печке и охапке пихтовых веток в самолете. Но уж зато печку он натопит, если даже фрайера шипеть станут, как в баке! Скинет с себя промокшие тряпки, закурит… И тут внезапно рухнул высокий пень, почти целое дерево, за который он цеплялся, и два или три метра Ольхин вместе с ним катился по склону, А встав на ноги, понял, что спуск кончился.
Он отряхнул снег — тот, что еще не успел впитаться в одежду, — потер одна о другую, чтобы согреть, ладони, голосом кондуктора объявил окружавшим его низкорослым пихточкам:
— Граждане пассажиры, производится пересадка на автобус номер одиннадцать, следующий до конечной станции под названием "Самолет"! — И, оттолкнув спиной березу, к которой прислонился, направился к противоположной стороне распадка. Дошел до косогора, оглянулся на оставленный в распадке след, на сопку, откуда, как на санках, съехал вниз, — и у него вдруг перехватило дыхание.
Это был не тот распадок!
По тому распадку должен, обязан течь ручей! Тот самый, что приведет его почти к самолету. Где этот ручей? Где?
— Ого-го-гооо! — закричал он только для того, чтобы слышать голос, хотя бы свой, — кричать было бесполезно. Идти? Он не знает куда, можно только вернуться по своему следу на сопку, к тому месту, где он решил идти напрямик, но разве что-нибудь увидишь в темноте? А не идти, ждать света — он же замерзнет ночью, он уже начал коченеть! А ведь где-то недалеко самолет, там печка, тепло. И там люди, не пустая тьма, там даже днем, при свете, горел костер… Костер! Вот что ему надо, но ведь сейчас даже сухой палки не найдешь, все засыпано снегом и укрыто тьмой. И вдруг его осенило: пень, в обнимку с которым он катился с сопки! Он же сухой до звона, такой здоровый пнище, и внизу, под сопкой, наверняка можно найти еще обломки, — он же был целым деревом когда-то, этот пень! Ольхин снова перебрел через распадок. Не обращая внимания на холод, руками ощупал прикрытые снегом сучья сухой сосны и только тогда облегченно разогнул спину.
Потом он складывал в кучу, очищая от снега, эти сучья, начав с тонких. Ходил в темноте от дерева к дереву, разыскивая березу, и ногтями сдирал с коры шелушащуюся, похожую на папиросную бумагу, пленку. Это было чудом, но спустя полчаса Ольхин уже сидел на корточках, то протягивая руки в пламя, то отдергивая их, а от его брюк и телогрейки шел пар. Только бы ночью не повалил опять снег! Если этого не случится, утром он запросто вернется к тому проклятому месту, где оставил свой след, по которому добраться до самолета — раз плюнуть. До утра он как-нибудь перемучается, потом отоспится в самолете, просушит как следует одежду. Пожрать он что-нибудь отглотничает у Фрайеров, должна же у них быть совесть в конце концов, хотя бы фрайерская. А там… там, может, глухарь попадет, потом отыщется подходящее местечко, чтобы на зайцев петли поставить… Чего, собственно, задумываться, как все сложится там, после? Говорят же: умри ты сегодня, а я завтра. Он не хочет умирать как раз сегодня, не согласен. Ему нужно пережить ночь, а завтра он будет думать, соображать что к чему. Но в проклятую тайгу больше один не сунется дальше ручья. Ну, ладно, еще петли проверять согласится, но от следа на шаг в сторону не отойдет, нет! Что ему, больше всех надо? Ольхин, пересилив лень и усталость, поднялся, обеспечил на какое-то время огонь пищей, а себя теплом и светом. Потом, подмостив несколько веток на землю, с которой жар костра согнал снег, уселся вполоборота к теплу и свету. Потом уронил голову на колени, и свет стал ему не нужен.
Ночью, замерзнув, он поднимался дважды. Полусонный, оправлял костер или подвигался ближе к огню и засыпал снова. Просыпаться, прогонять сон ему не хотелось — снилось, будто дежурит по кухне, повар поручил ему следить за топкой под котлом с кашей и, когда та сварится, обещал накормить от пуза. И Ольхин, стараясь успеть и в сновидении и в действительности, наскоро заканчивал возню с костром и спешил ждать кашу.
Он дождался утра.
Собрав на кострище в кучку все недогарки, еще посидел у маленького огонька, пытаясь табачным дымом насытить голод или хотя бы обмануть его. Утро занималось по-зимнему серенькое, низкое; как крыша в бараке, — снеговые облака задевали, казалось, вершины пихт в распадке. Боясь снегопада, Ольхин поспешно докурил сигарету, с сожалением бросил в костер окурок и поднялся.
И увидел, что это был тот распадок!
Сначала он не поверил своим глазам, решил, что не проснулся еще. Но нет — склон сопки, по которому он лез зигзагами, перейдя ручей, сам ручей и все еще хорошо заметным его собственный первый вчерашний след через распадок к сопке — все было на месте. Просто-напросто он, спускаясь, угадал вчера чуть выше, правее встречи распадков, и, естественно, не обнаружил ручья. Не разглядел в темноте, хотя находился в сотне шагов от него. Черт побери, он промучился целую ночь — и где? В месте, откуда с завязанными глазами мог прийти к самолету! Не идиотство ли, а? Но теперь ему все до лампочки, он почти дома…
Страхи ушли, Ольхин опять стал всегдашним, самим собой — и сразу же забыл обо всем, кроме голода.
Он посмотрел направо, на распадок, ведущий к самолету. Потом прямо, вниз по распадку, в котором находился, — этот вел к косогору, где они с Иваном Терентьевичем поставили вчера петли на глухарей, тоже знакомая дорога. Что, если у фрайеров и сегодня ничего ему не обломится? Скажут: экономия — и все, соси лапу, А до петель каких-нибудь полтора километра…
Ольхин вздохнул и зашагал вниз по распадку, прямо. По распадку, ведущему к петлям. Он шел, нарочно загребая резиновыми сапогами снег, чтобы оставлять более глубокие, более долговечные в случае снегопада следы. Утро, только-только родившееся из снега и таежного сумрака, не разгоралось, а тлело. Словно где-то за чертой горизонта медленно, чересчур медленно накалялась лежащая на боку анемичная лампа "дневного света" — мертвенного, голубоватого, призрачного. Призрачной была и тайга, пустая и безмолвная. Только один раз, уже на подходе к песчаному взлобку, где стояли две первых петли, мяукнув по-кошачьи, с пихты слетела кукша и закопошилась на сером снегу. Ветки деревьев, придавленные снегом, понуро обвисали, неподвижные, словно нарисованные тушью и белилами на грязном холсте.
К двум первым петлям Ольхину даже не понадобилось подходить — дуги "пружин", припорошенные снегом, говорили сами за себя: петли были не спущены, дураков глухарей не нашлось.
Ольхин помянул недобрым словом Ивана Терентьевича: натрепал, гад, что ловить глухарей проще простого, а люди должны пурхаться в снегу, мучиться! Сам небось сидит в самолете у печки, хавает втихаря шаньги и сало, а ты ходи, проверяй его липовые петли!
Ладно, сегодня он узнает, как это называется, Ольхин ему скажет, у Ольхина не заржавеет сказать…
Третья петля из пяти была насторожена под худосочными сосенками на спуске к ручью, на поросшей курчавым брусничником кочке. Конечно, как и следовало ожидать, и ее "пружина" была согнута в дугу, но… в чем дело? Тетива с верхнего конца пружины, хотя и туго натянутая, спускалась не отвесно, как полагается у настороженной петли, а уходила в сторону, за кочку рядом. И вершина пружины — да нет, это ему не кажется! — вздрагивала и раскачивалась!
Ольхин сделал несколько осторожных шагов — и пружина согнулась еще сильнее. За кочкой, разбрасывая перья, хлопнули огромные крылья, и тяжелая черносиняя птица рванулась в небо.
— Аа-аа! — успел застонать Ольхин.
Птица рванулась в небо, но проволока тетивы швырнула ее на землю. И сразу же, звериными прыжками преодолев расстояние между кочками, на нее грудью навалился человек, вдавил в снег. Руки его нашли ускользающую, зарытую в синее перо шею птицы и стиснули с такой силой, что побелели пальцы.
Потом Ольхин поднялся на дрожащие ноги, чувствуя во всем теле такую слабость, словно вышел победителем из смертельной борьбы, и посмотрел на поверженного противника. Глухарь лежал, распластав помятые, но все еще нарядные, как дорогие воинские доспехи, крылья, нелепо изогнув шею, теперь длинную и тонкую. Большую когтистую лапу его, похожую на переломленную ветку, все еще оттягивала тетива петли.
— У-ухх ты-ыы! — восторженно выдохнул Ольхин и сам почувствовал, как блаженная, почти идиотская, улыбка растягивает губы. И от этого улыбка стала еще шире.
Ольхин схватил глухаря за шею, поднял и, не зная, куда приложить свою великую радость, как ее выразить, — а не выразить было невозможно, радость переполняла его, проливаясь через край, — заорал:
— Тудыт твою растудыт! Бр-ратцы-ы-ы!
С глухарем на коленях он опустился прямо на кочку, в снег, не замечая его холода и сырости, и стал закуривать, глядя не на сигареты и спички, а на глухаря. Утро вдруг стало светлым и праздничным, тайга — гостеприимной, приветливой, как дом, в который должны прийти гости, где уже накрыт стол и кто-то тихонечко тренькает на гитаре. До чего же здорово получилось! До чего все-таки мировой мужик Иван Терентьевич, хотя и фрайер! Человек! Молоток! Сказал: будет глухарятина — и точно, без балды, — есть! А ведь еще две петли не проверено, может, и в них тоже… Ольхин вскочил и, прижав глухаря к груди, грея подбородок в ласковых перьях, заторопился к непросмотренным ловушкам.
Они оказались пустыми, и Ольхина это почти не огорчило. Еще попадутся, куда они денутся от него, глухари? Он сегодня же поставит еще десяток, нет два десятка петель на глухарей, благо трос есть, троса — хоть завались. И на зайцев тоже поставит петли, раз попадаются глухари, значит, и зайцы будут попадаться, Иван Терентьевич зря болтать не станет, не такой человек, чтобы трепаться. В общем, теперь дело пойдет! А сейчас, на первый случай, хватит и одного глухаря, в нем добрых полпуда! Жизнь, братцы! Сейчас он с гордым видом завалится в самолет, небрежно кинет глухаря и скажет:
— Хавайте и помните, что Ольхин — человек!
Нет, он скажет не так. Он войдет, остановится в дверях и, не показывая глухаря, спросит:
— Ну, как дела? Тонкие, звонкие и прозрачные, а харч в загашниках держите, бережете?
Они, конечно, промолчат, вроде это не к ним относится. Тогда он вынет из-за спины глухаря и скажет:
— Учитесь жить, фрайера! Вы жались, плесневелую корочку не могли дать человеку, хотя он с голода подыхал. Я бы тоже мог его зажать, на костер в тайге — и порядок. Но у босяков есть совесть, которую вы потеряли. Вопросы будут?
Вопросов, конечно, не будет. Фрайера начнут извиняться и толковать насчет того, что надо думать о завтрашнем дне, про неприкосновенный запас. А он тогда скажет:
— Думать прежде всего надо о людях…
В общем, он проведет культурно-воспитательную работу, насчет что к чему и откуда растут ноги. Надо, только глухаря пристроить, чтобы сразу в глаза не кинулся, — Ольхин остановился, проволокой, приготовленной для заячьих петель, связал глухарю шею с лапой и, как ружье, перекинул птицу за спину…
Вот и самолет. Увидев дым над трубой, Ольхин вспомнил, что промок и замерз, что сейчас он сможет наконец отогреться, поблаженствовать на мягких пихтовых ветках. Но дверь отворил с таким видом, будто заглянул так, между прочим. Не переступая порога, окинул взглядом кабину — летчик спал, отвернувшись к стене, Ивана Терентьевича не было.
Навстречу медленно поднялась учительница. Уставилась на него своими неподвижными глазами и — ему, Ольхину! — сказала:
— Я перед вами виновата. Ольхин убежал и… украл золото.
Сначала Ольхин смотрел на нее, ничего не понимая. Потом одна за другой стали мелькать разрозненные мысли — как выпадают из колоды карты. Пустое место Ивана Терентьевича… Золото, которое он, Ольхин, не брал… Лейтенант, который унес золото… Иван Терентьевич, который сказал, что золото унес лейтенант… Пустое место Ивана Терентьевича… Откуда-то снизу, от живота, к горлу стало подступать что-то горячее и душное, невыносимое, от чего захотелось разорвать самому себе грудь, одним ударом смести всех и все, закричать, завыть…
Но он только прохрипел:
— С-с-сука…
И, не соображая, куда и как, в бездумной ярости побежал — догнать, раздавить, загрызть и растерзать этого гада.
У Ивана Терентьевича и в мыслях не было — красть золото. Он спасал его, хотел, чтобы металл жил.
Не во власти Ивана Терентьевича было спасти людей — с собой их не унесешь, как брезентовую сумку со шлихом! Но и для них он сделал всё, что было в его силах.
Иван Терентьевич отошел километра полтора или два от самолета и стал присматривать место для ночлега, — темнело довольно быстро, а он все привык делать обстоятельно, не кое-как. Ему понравилась было сухая елка, упавшая на камень и переломившаяся на три части. Сложить их звездочкой — и на всю ночь хватит топлива, если не шибко большой огонь поддерживать. Но еловые дрова любят стрелять крупными искрами, попадет одна ночью на одежу — и дыра, а то еще и до тела достанет. Нет, елка дело негожее, он найдет сосну либо кедр, в тайге да добрых дров не найти — смешно!
Конечно же, он их нашел. Когда на колышках над костром, как горшки на заборе, уже сушились вверх подошвами ботинки, а в кружке с кипятком запаривались ветки малинника — чай, Иван Терентьевич, раскладывая около себя продовольственные запасы, сводил сам с собой счеты.
Людям, оставшимся у самолета, он ничего не должен, они должны ему. За его хлеб, которым он делился. Должны за тепло и крышу над головой, за то, что если их все-таки — вдруг? — спасут, только благодаря ему дотянут они до этого часа.
Немного нехорошо получилось, что ушел с обманом, вроде бы таясь, воровски. Никто бы его не остановил, доброго пути пожелали бы — нужно уметь не умирать без пользы, говорила старуха. Он мог всем посмотреть в глаза, но… зачем лишний раз напоминать людям, что они живые покойники, а ты еще способен выжить? Незачем! Иван Терентьевич одобрительно помотал головой и решил, что думать обо всем этом больше не будет. Впору подумать, как самому не сгинуть в тайге. Счастье его, что, не замахиваясь в поездках на рестораны и буфеты, всегда брал в дорогу изрядное количество домашней снеди. Теперь на этом он сможет проскрипеть суток двое. Двое-трое суток, а там — есть трос для петель и нож, а это вещи. Сейчас должен спускаться к устьям рек хариус, имея нож, нетрудно сплести из тальника морду. Хариусы — это еда, тем более соль имеется. Ночлеги он станет выбирать в местах, где есть смысл поблизости поставить петли на птицу или ушканов. С вечера будет ставить их, утром снимать — и дальше. Так же, если попадется река, с мордой, слава богу, мать его, бога, перетак, он не впервой в тайге. Обжился в ней, вроде своим стал, — Иван Терентьевич посмотрел поверх огня в темноту, за которой начинался бор. И еще дальше — в ночи у костра, подобные этой, тоже за сотни верст от жилья и все равно словно бы дома, у себя. Тайга — это не степь и не чужой город, где не найдешь места приткнуться. Тайга — всегда дом, — мысль об этом даже как-то разнежила Ивана Терентьевича, он потянулся за сигаретами. И вспомнил Ольхина.
Не хотел вспоминать, а вспомнил. Хотя, собственно, почему бы и не вспомнить? Да, он взял у парня пять пачек сигарет и две коробки спичек, ну и что? Он же не все сигареты взял, половину, и это — сигареты, не хлеб, без которого невозможно существовать. А он давал Ольхину именно хлеб, подкармливал, отрывая от себя. Ольхин должен это понимать. Другое дело, что, может быть, следовало предложить парню идти вместе — не слепой, не увечный. Но он не позвал Ольхина с собой, не имел права позвать, потому что Ольхин уголовник, вор, человек без стыда и совести, а Иван Заручьев должен был взять с собой шлих — искушение для Ольхина. Шлих он не мог оставить в самолете, мертвецам и тайге. Чтобы, если даже никто никогда не наткнется, не найдет, золото пропало без пользы, когда Иван Заручьев убивался за одну блестку в лотке, в кровь стирал ладони кайлом.
Или чтобы кто-нибудь, не державший в руках промывочного лотка, даром, готовенькое нашел?
— А хрена не хотите? — забывшись, спросил кого-то Иван Терентьевич. Хмыкнул, услышав свой голос, ножом заострил конец подвернувшейся под руку палочки. Насадив на нее основательно зачерствевший пирожок, стал разогревать над уже успевшими нагореть углями.
В общем, решил он, Ольхина звать с собой не следовало. Тем более, парень по тайге не хаживал, только обузой был бы. И запросто мог бы свалиться в дороге и не встать, тайга хлипких не любит. А там, у самолета, еще может дождаться выручки, он не слепой и не с раздавленной грудью. А не дождется… все равно где-нибудь пристукнули бы свои, ворье, или люди за длинные руки печенки отшибли бы. С такими, как Ольхин, это случается сплошь и рядом, Иван Заручьев нагляделся.
Иван Терентьевич снял с палочки горячий размякший пирожок, откусил, прихлебнул чая. И снова посмотрел за костер — дружелюбно, как смотрят из светлой комнаты в тьму за стеклами. Пожалуй, здесь, у костра, в одиночестве, он чувствовал себя спокойнее, увереннее, чем в самолете. Там его что-то угнетало, словно стоял кто-то за плечом и высматривал, что он делает…
Встав, Иван Терентьевич пощупал — не покоробилась бы кожа! — ботинки над костром, отставил колышки чуть дальше. Носки уже давно высохли, он надел их, заправил в носки брюки и, думая о предстоящем завтра пути, горестно пошлепал губами — в такой обуви по асфальту ходить можно, а вот по тайге… Потом долго и сосредоточенно рассматривал свои плащ, достал и открыл нож. Он подержал нож в руках, колеблясь еще минуту или две, и стал обрезать полы плаща. Выкроив из них портянки и обмотки, бросил в огонь оставшиеся лоскутья.
С треском надломилась, перегорев в месте соприкосновения с нижней, верхняя лиственница, в черное небо взлетел сноп искр. Иван Терентьевич посмотрел туда же, отметил, что звезд не видно, пасмурно, наверняка по солнцу завтра определить направление не удастся. Ладно, утро вечера мудренее, там видно будет. Пока что следует доужинать, завести часы и заснуть…
Уже под утро к костру прилетела любопытная и нахальная сойка. Она уселась сначала на невысокий, расколовшийся пень поодаль, потом спрыгнула вниз и, кокетливо вихляясь, точно хотела показать красивые голубые перышки обязательно на обоих крыльях, прискакала к костру. Ничего съедобного сойка не нашла, хотя бесстрашно обследовала вокруг костра все и даже не побоялась приблизиться к спящему на еловых ветках человеку.
Человек спал, открыв рот и посапывая.
Он спал без сновидений.
Задохнувшийся от бега и от ярости, чувствуя, что больше бежать не может, Ольхин бессильно прислонился к сосне, прижался к ее шершавой коре щекой — и опомнился.
Куда он бежит?
Зачем?
— Гад, падаль, сука позорная, паскудник! — крикнул он, как бросают вслед камень или что подвернулось под руку, и какое-то мгновение ждал шороха шагов трусливо убегающего человека.
Его окружали деревья, тайга. И тишина.
Ольхин зацепил ладонью горсть рыхлого снега, съел, не чувствуя холода. Начиная справляться с дыханием, выпрямился, уже осмысленным взглядом обвел вокруг себя. Этот гад, конечно, пошел к востоку, он все время толковал, что если идти, то на восток. А куда кинулся ты? — задал себе вопрос Ольхин. — Куда глаза глядят, да? Но разве сообразишь, в какой стороне отсюда восток? Если от самолета или от петель — знал бы: гад сам показывал.
Выскочив из самолета, он побежал прямо, да, прямо, значит… повернув налево, пойдет к ручью? Точно! А уж от ручья найдет, в какой стороне восток, разберется! Дернув плечами, Ольхин поправил за спиной глухаря, о котором совсем забыл, и, как подстегнутая кнутом лошадь, зарысил налево.
Выйдя к ручью, вспомнил, что восток — где вершина распадка. Его бил озноб, очень хотелось есть и было что есть, но ведь гад его не ждет! Скрипнув зубами, Ольхин решил, что за все мучения расквитается с гадом, а пока потерпит.
Сил не оставалось почти, вперед гнала ярость. Ольхина возмущало не обвинений в краже — ха, разве это обида? — а что обвинили напрасно. Он был уверен, что никто никакого золота не крал, золото унес лейтенант, ему положено было унести, просто гад решил на Ольхине выспаться в отместку за последний разговор, когда Ольхин объяснял, что такое вор и что — фрайер. Ладно, зато теперь Ольхин на нем выспится, ох и выспится, тошно будет, — он представил жалкого, растоптанного Ивана Терентьевича: пытается уползти в сторону, а за ним тянется кровавый след…
След!
Но ведь Иван Терентьевич и сейчас оставляет след! Идет, а за ним тянется цепочка следов, как вчера и сегодня за Ольхиным. Чего он мечется, ему надо искать след гада, след! А он даже не смотрит по сторонам, прется, ничего не видя! Самолет остался сзади и справа, поскольку пришлось сделать круг, чтобы выйти к ручью. Гад направляется к востоку, но идет где-то правее.
Ольхин перекинул глухаря на другое плечо — тяжелый, черт, проволока аж в тело врезается! — и двинулся направо, теперь уже зорко приглядываясь к поверхности снежного покрова.
След Заручьева он нашел в бору, там, откуда за стволами сосен открывалось светлое снежное поле — гарь. Ольхин дошел до конца бора — и увидел еще дымящийся костер. Опустился на охапку лапника возле костра, ногой сдвинул раскатившиеся бревна, чтобы они загорелись, и понял, что дальше идти не может.
— Перекур. — Ольхин не узнал собственного голоса.
Отшвырнув окурок, он заставил себя встать и как следует разжечь костер. Возиться с тяжелыми лиственничными кряжами мешал глухарь, болтавшийся за спиной. Ольхин освободился от него, бросил на лапник и только тогда до него дошло, что есть харч. Сейчас, здесь, не сходя с места! Он чуть не захлебнулся слюной.
Не столько отеребил, сколько ободрал птицу. Ногтями и зубами распорол брюшину и выдрал потроха, растянув по темно-зеленым еловым веткам лиловые кишки. Переломив хребет, кое-как отделил вместе с лапами всю заднюю часть и, нацепив на палку, сунул прямо в пламя. Потом обгрызал горькое обуглившееся мясо и снова совал его в костер — обгорать, и снова на зубах хрустели кости и угли, пока не прошла тупая сосущая боль в желудке. Пока не разобрал, что мясо несоленое.
Тогда Ольхин снова пристроил за спину глухарятину, закурил и осмотрелся. Слабенький ветерок, не способный даже пригнуть к земле дым костра, по одному угонял на гарь черные глухариные перья. И туда же тянулась цепочка оставленных человеком следов. Сначала цепочка, потом сужающаяся полоска, потом ниточка. По этой цепочке, полоске и ниточке следовало идти Ольхину. Может быть, плюнуть ему на эту погоню? Вернуться в самолет и завалиться спать? Брюки у него мокрые, у ватника только рукава успели просохнуть, пока жарил глухарятину. Придет он сейчас к самолету, откроет дверь… и ему скажут, что он украл золото, да? А если их выручат, то на него заведут новое дело по такой кляузной статье, что закачаешься? Доказывай потом, что ты не верблюд, все равно не докажешь! Нет, так не пляшет, гражданина Заручьева он догонит и доставит в самолет — разбираться. Догнать его, раз даже еще костер не погас, плевое дело — далеко он уйти не мог.
Ольхин забыл, что он в тайге, что один, а впереди ночь. Спотыкаясь, перелезая через валежины, он шел с тупой целеустремленностью пьяного найти среди похожих друг на друга деревьев, как в толпе на улице, нужного ему человека — и набить морду. Ни о чем больше он не мог думать и не хотел. Не забывая идти по следу, но не всегда помня, что идет по нему, Ольхин высматривал Ивана Терентьевича справа и слева, подозрительно вглядываясь в заросли хвойного подлеска, где тот мог спрятаться. Но след уводил мимо, дальше. Давно осталась позади гарь с костром. Потом были бор, распадок, поросшие березняком "бельники", опять гарь и бор. Ольхин не запоминал мест, по которым проходил, зная одно — след.
Начав снова уставать, он принялся распалять себя, воображая встречу с Иваном Терентьевичем.
— Что, сука? Попался? — спросит его Ольхин.
Тот замечется, заюлит, как нашкодившая кошка, которой прижали сапогом хвост. Заверещит:
— Я? Что? В чем дело? Какое вы имеете право?
А Ольхин врежет ему дрыном между лопаток.
— Вот, — скажет, — какое право. Понял?
Воображение прибавляло сил, но ненадолго. Потом их не стало хватать и на воображение. Ольхин приостановился, переводя дыхание, и спохватился, что подкрадывается вечер. Но теперь в этом был виноват Иван Терентьевич, и парень принялся собирать и стаскивать в кучу сухой валежник, каждую проходку прибавляя к счету, который будет предъявлен Заручьеву. Набралась уже порядочная куча топлива, когда Ольхин, возвращавшийся к ней в бессчетный раз с дровиной на плече, остановился на полдороге: ведь костер разжигать нельзя! Заручьев заметит огонь, поймет, что его преследуют, — и, несмотря на темноту, кинется бежать как заяц. Ольхину не разглядеть будет его следов, и гад оторвется на целую ночь хода! Ольхин перебирал в памяти самые уничтожающие слова: кусочник, гадина ползучая, помоечник, стукач, вор… И на последнем споткнулся — оно не становилось в ряд с остальными. Разве Иван Терентьевич вор? Он пакостный фрайер, а вор Ольхин! Вор, человек! А Иван Терентьевич именно не человек, не вор, просто Ольхин искал позорные слова, а Заручьев украл золото, вот и вышло, что он вор, черт, опять что-то не то получается, — Ольхин растерялся, точно внезапно зажгли свет, а он — голый.
— Поносник шелудивый, — уже вслух выругал он Заручьева, посчитав это разрешением вопроса.
Но надо было решать другой вопрос — о ночлеге. Его нельзя было решить никаким ругательством. Что делать? Заручьев мог находиться и в десятке километров впереди, и за перелеском, может быть тоже устраиваясь на ночлег. Как его не вспугнуть? Парень оглянулся и увидел сдвоенный след — свой и Ивана Терентьевича, — убегающий в только что оставленный позади бор. Идея! Вернуться назад и развести костер за бором, черта с два увидит тогда Заручьев огонь!
— Выкусил? — сразу повеселел Ольхин и с торжеством посмотрел туда, где терялся в сумерках след пока только одного человека.
Анастасия Яковлевна осторожно потянула с пилота полушубок.
— Проснитесь, пожалуйста!
— А! Что? — испуганно спросил летчик.
— Знаете, кажется уже утро…
Пилот, помотав головой, разогнал сонливость.
— Да, утро. А в чем дело?
— Приходил Иван Терентьевич… Только я не узнала его по голосу почему-то…
— Ну, что он сказал? Ольхина не нашел?
— Знаете, он ничего не успел сказать. Вернее, успел выругаться в дверях и… ушел снова. Но я ему сообщила о пропаже.
— Тогда все ясно, — сказал пилот. — Отправился ловить субчика. — У него получилось: шупшика.
— Если он… — учительница искала слово, — не поймал его вчера, то…
— Вчера он его встречал, а сегодня ушел ловить, догонять. Это разные вещи, Анастасия Яковлевна. Иван Терентьевич его найдет, он старый и опытный таежник. Так что давайте наберемся терпения и будем ждать.
— Еще одно ожидание, — вздохнула Анастасия Яковлевна. — До чего все это… невероятно.
— И до чего хочется есть, — в тон ей сказал пилот.
Анастасия Яковлевна, коснувшись рукой стены, повернулась, чтобы отойти к своей постели. Она пыталась представить себе маленький разбитый самолет в огромной белой тайге — сверху. Каким должны увидеть его те, кто их разыскивает. Сумеют ли, разглядят ли?
— Может быть, все-таки разжечь около самолета костер? — предложила она робко.
— Зачем. Погода нелетная, видимости — никакой.
Ну что ж, она понимала, что он прав, что некому приносить для костра лишние дрова, что, наверное, не помог бы и дым. И главное, что вот уже столько дней незачем было сигналить дымом…
— Давайте тогда… завтракать, — предложила она с горькой улыбкой. — Все равно…
"Перед смертью не надышишься!" — хотел закончить летчик, но промолчал. Он сказал другое:
— Нет воды. Не знаю, доковыляю ли я к ручью…
— Можно растопить снег, — догадалась Анастасия Яковлевна, и он, брякнув пустым ведром, вышел из самолета.
— Зорка! — окликнула Анастасия Яковлевна, когда дверь захлопнулась. Собака подошла, ткнулась мордой в колени. Женщина нагнулась, погладила ее между ушами и сказала:
— Как хорошо, что ты ничего не понимаешь…
Пилот вернулся с полным ведром снега, поставил ведро на печку.
— Порядок!
— Ну, вот и прекрасно. Будете потом рассказывать жене, как занимались бабьими делами — топили печку, чай заваривали… Хвастаться станете, наверно?
Он выдавил из себя невеселый смешок:
— Эх, Анастасия Яковлевна, Анастасия Яковлевна!..
Скудный завтрак прошел в молчании. Пилот не отрываясь смотрел, как неуверенные в своей точности длинные пальцы слепой учительницы заворачивают и прячут в открытую пасть баула остатки. Он видел только руки и еду. Он без конца мог бы смотреть на них. И даже забыл поблагодарить.
— Кстати, — нарушила затянувшееся молчание Анастасия Яковлевна и повернула лицо совсем не в ту сторону, где находился собеседник, — я ведь даже не знаю, как вас зовут. Представьтесь, пожалуйста.
— Зовут Владимиром, — сказал летчик. — Владимир Федорович Звонцов.
— Вот и познакомились, — улыбнулась учительница и насторожилась. — Вам не послышались шаги?
Он молча помотал головой, а потом, спохватившись, сказал:
— Нет.
— Опять! Слышите?
Пилот приоткрыл дверь, выглянул — и вспугнул с уцелевшего крыла самолета сойку.
— Ну и слух у вас! — удивился он. — Птица ходила по плоскости.
— Я подумала, возвратился Иван Терентьевич. Вы не сомневаетесь, что в случае… Ну, что он справится с Ольхиным?
— Конечно, — уверил летчик.
— Понимаете, как-то не хватает его…
Пилот понял по-своему:
— Запас дров нам оставили, в крайнем случае попробую пилить.
— Не хватает присутствия человека, — сказала Анастасия Яковлевна. — И именно Ивана Терентьевича. Его спокойствие как-то передавалось… А я ведь даже не представляю, какой он.
— Обыкновенный, — сказал пилот. — Но мужик, в самом деле, настоящий. С таким не пропадешь, но и такой не пропадет.
— Вы что, иронизируете?
— Нет, завидую.
Она вскинула голову, будто прислушивалась опять.
— А я не завидую. Спокойствие — это в какой-то мере и равнодушие, а равнодушным, по-моему… холодно жить.
Пилот прикурил сбереженный в запас окурок и лёг. К нему подошла Зорка, прислонилась к плечу и замерла. Пилоту было больно менять положение, он помнил об этом и все-таки стал поворачиваться на бок. Повернувшись, нашел, не открывая глаз, собачью голову и опустил на нее руку, а собака придвинулась еще плотнее и сама стала гладиться о ладонь. И оттого, что она искала его ласки и сочувствия, хотя куда больше ласка, и сочувствие, и жалость нужны были ему, у пилота даже как-то посветлело на душе, потому что у ничего не имеющих ничего не просят.
Он ничего не имел, ничего не мог дать, и ненавидел свое беспомощное тело. Такое слабое и такое требовательное: оно все время требовало еды — как работающий двигатель горючего. Пока двигатель работал вхолостую, можно было не беспокоиться о горючем: Остановиться? Ну и пусть, он сам хотел остановить его. Но учительница уговорила не останавливать, и он пошел на это тогда. Решив, что Заручьев и Ольхин бросили их, и, значит, двигатель обязан работать, потому что Анастасии Яковлевне нужны тепло и какая-то опора. Он так думал, должен был так думать.
Он ошибся — в тот раз и Ольхин и Заручьев вернулись. Но и минутная потребность в силе разбудила слабость: голод, однажды получивший подачку, стало невозможно смирять.
— Говорят, существует лечение голодом. Я, кажется, согласился бы обменять его на любые болезни, — сказал пилот и прикусил язык: не следовало вспоминать о голоде, можно подумать, будто он, не смея говорить прямо, выпрашивает новую подачку. Ничего подобного, голод существует сам по себе, он не собирается его ублажать, наоборот! Пилот оглянулся на учительницу, готовый закричать об этом. Анастасия Яковлевна сидела по обыкновению с вязанием на коленях, но руки неподвижно лежали на спицах, прогнув их своей тяжестью.
Она думала о том, что относительно счастлива, пожалуй: из темноты переходить в тьму Легче, чем из света. Слабое утешение, но все-таки. И она почти прожила отпускаемое людям. Сын? Он потерял ее уже давно, ну и — так и не найдет, вот и все… Она думала об этом, как читают иногда книгу — мысли не становились драными, за ними не было образов. А фразу пилота о лечений голодом, вернее то, что угадывалось за ней, слепая учительница именно увидела.
Она увидела залитый беспощадным солнечным светом и поэтому еще более страшный полустанок, перевернутую взрывом автомашину на перроне, толпу перепуганных людей, пешком добравшихся сюда от разбитого в степи эшелона. И человека, немного знакомого ей по Москве. Высокий, плечистый, в рваной телогрейке, он подошел к ним — тогда еще к ним — к ней и к сыну.
— Вот, — сказал он, — раньше лечил голодом язву, теперь подыхаю от голода.
И стал вымаливать у нее, тоже эвакуированной, тоже голодной, с привязчивостью цыганки "хоть крошку чего-нибудь". Он мог бы говорить и просить не унижаясь, не клянча, но потерял себя, сломался… Она не хотела, не могла видеть таким пилота.
Тогда у нее был узелок, маленький узелок в цветастом платке, вот почему тот человек подошел. Пусть теперь у нее не будет узелка.
— Владимир Федорович, вы не хотите еще натаять снега для чая? Может быть, к тому времени, когда он скипит, подойдет Иван Терентьевич…
— Рад стараться, — пилот, забывшись, сделал слишком резкое движение, застонал от боли и снова откинулся на свою подстилку. — Одну минуточку…
Он, придерживаясь за стенку, встал и, брякнув дужкой ведра, вышел. Вместе с ним выскользнула в дверь Зорка.
Низкие облака лежали на вершинах сосен, грозя снегопадом, но только редкие легкие снежинки, не падая, плавали в воздухе. Пилот посмотрел на небо и вздохнул. Зачерпнув в ведро пышного снега, стал уминать. Следившая за ним Зорка сделала два длинных прыжка, радостно виляя свернутым в баранку пушистым хвостом, припала на передние лапы и, положив морду на них, игриво тявкнула.
— Дурочка ты, — ласково сказал ей пилот.
Собака сделала еще прыжок, ближе, залаяла звонко, во весь голос, и, отбежав в сторону, остановилась, просительно глядя на человека.
— Гулять зовешь? На охоту? — губы пилота помимо его воли попытались сложиться в усмешку. — Эх, собака, собака…
Он пополнил ведро. Постояв несколько секунд с закрытыми глазами — преодолевал слабость, — тряхнул головой, словно пробуждаясь от сна, и побрел к самолету.
— Тишина в небе и на земле, — сказал он Анастасии Яковлевне.
Та, довязав ряд, повернула голову:
— Я сегодня даже не выходила… Как погода?
— Не знаю… Холодно.
— А Иван Терентьевич скоро уже сутки в тайге, И… тот парень. Я понимаю, что можно развести костер, но еда… ведь у Ивана Терентьевича только шаньга. И вдруг он заблудится?
— Иван Терентьич? — в тоне пилота послышалась ирония. — А парень… Парень соображал, на что шел!
— Вы считаете, что люди всегда соображают, на что идут?
— Должны.
Пилот опустился на колени, открыл дверцу и стал подбрасывать дрова. В печке обрадованно загудело пламя.
Только отмахав километра три, а то и с гаком, от напрасно собранных вчера дров, Ольхин увидел покинутый Иваном Терентьевичем ночлег. За молодым березничком, от которого к костру привел не одинарный след, а целая тропа. Парню пришлось поломать голову, прежде чем он понял, что в березнике Заручьев ставил на ночь петли на зайцев, а утром возвращался проверять их.
"Неужели поймал, сволочь?" — с ненавистью подумал Ольхин. Он ревниво обследовал пространство вокруг костра, переворошил лапник подстилки. Не обнаружив ни клочка заячьего меха, злорадно усмехнулся: не выгорело! Стало даже на душе легче — сам он, хотя и вертелся всю ночь около маленького, только руки согреть, костерка, но зато ел мясо! Без соли, но досыта!
Не выспавшийся, измученный двухдневной ходьбой без троп и дорог, Ольхин испытал торжество победителя — и это его взбодрило. Правда, Заручьев оторвался самое малое на три километра, их надо наверстать, но он, видимо, не торопится, вчера Ольхин далеко не ранним утром застал еще не потухший костер… Собственно говоря, чего думать? Не возвращаться же, напрасно сделав такой конец по тайге! Да и не может он возвращаться, нельзя возвращаться, не догнав, ему надо оправдаться — он что, забыл об этом?
Километров пять Ольхин отшагал, только один раз приостановившись — напиться из ручья. Перейдя ручей, выбрался на взлобок, мыском вдавшийся в уходящее к горизонту болото. След отворачивал направо, в обход, и Ольхин с удовольствием вспомнил о ботиночках Пиана Терентьевича, — даже краем болота приходилось хлюпать по воде. Но и ему, в резиновых сапогах, дорога давала себя почувствовать: все труднее и труднее становилось вытаскивать проваливающиеся в мох ноги. Опять, чтобы подстегнуть себя, Ольхин принялся материть Ивана Терентьевича и даже чокнутую старуху, которая не могла допереть, что Васек Ольхин не стал бы путаться с рыжим делом. А хуже всего, что вдруг повалил снег. Как позавчера вечером — густой, ватными хлопьями. И мокрый.
Парень поднял куцый воротник, втянул голову в плечи, прибавил шагу: хоть до леса поскорее добраться, деревья немного прикроют. Скоро он, лес? Ольхин, перемогая усталость, наддал еще, беспокоясь, что снег завалит следы. Наконец впереди смутно затемнел бор, под ногами перестало чавкать, начался подъем. Ольхин кепкой отряхнул снег с телогрейки, точно бор был домом, переступив порог которого можно сказать: "Ну и погодка на улице!" Но сосны оказались плохой защитой, снег валил и здесь, хотя не так густо. Подъем стал заметно круче. Между лопатками протянулась ледяная нитка таявшего на шее снега. По такой погоде черта с два догонишь, а если и догонишь — можно пройти мимо, не заметить. Да и заметишь — ну и что? Ты ему — так и так, начнешь качать права, а он пошлет подальше, и куда денешься? В лоб ему закахаешь? У него, между прочим, нож, да и малый довольно плотный… Правда, фрайер есть фрайер, если с ходу взять на оттяжку, наверняка закричит "караул". Но этот гад может и не закричать, с него станется… Эх, мог бы без психа объяснить учительнице и летчику всю петрушку и, пусть бы они не поверили даже, сидел бы сейчас в самолете, жрал глухарятину… Ольхин невольно обернулся через плечо, туда, где остался теплый, с раскаленной докрасна печкой самолет и люди в нем, живые люди! Об этом он подумал только сейчас, ему как-то вдруг, сразу, остро не хватило людей, еще больше чем крыши над головой и тепла. Он оглянулся, но увидел ту же, что и впереди, колеблющуюся мертвую белизну, муть. Пустоту. А-а, черт! Пропади все пропадом!
Ольхин круто повернулся и зашагал обратно: шаг, два, десять, теперь уже по своему следу. Шаг, два, десять, — в следы его уже успел поднападать снег, они казались оплывшими, будто он проходил здесь давным-давно.
— А дальше? — спросил он себя и остановился, уже не холод чувствуя на спине, а липкую, расслабляющую теплоту страха.
Если сейчас, здесь, сразу же на глазах заваливает следы, как он найдет свои вчерашние? Ведь пока он будет добираться до них, будет идти и снег! И снега нападает столько, что… их заровняет совсем, скроет! Тогда как же он найдет дорогу к самолету, как вообще найдет дорогу куда-нибудь? Только Иван Терентьевич будет все время оставлять свежие следы, если от него не отставать. И Ольхин уже снова почти бежал по следу Заручьева, шепча, хотя сам не замечал этого:
— Только бы не завалило… Только бы не завалило… Только бы…
Но след пока был достаточно четок. Если бы Иван Терентьевич в самом деле оказался не так далеко! Сидел бы у костра, пережидая снегопад… Разве этого не может быть?
Бор кончился, началась поросшая смешанным лесом покать, уклон. Спуститься бы по нему — и увидеть костер! В конце концов, с Иваном Терентьевичем можно найти общий язык, дотолковаться. Да, собственно, и психовать-то не из-за чего было: он зацепил Ивана Терентьевича за больное место, тот обиделся и решил отыграться, бывает… Все бывает, подумаешь! Главное, согреться бы сейчас, увидеть живого человека…
Спустившись в распадок, он даже удивился, не найдя костра, — ведь он так хотел, так надеялся!.. Правда, костер мог гореть за поворотом в конце распадка. Но за поворотом Ольхин увидел не костер, а реку. Черную, за прозрачным белым занавесом, между пустынными белыми берегами. След Ивана Терентьевича уводил вверх по течению реки.
— Иван Терентьевич! — заорал вдруг Ольхин, хотя не собирался этого делать, нельзя было кричать. Ведь Иван Терентьевич не знает, что это Ольхин просит его подождать, что Ольхин не собирается качать права, просто ему холодно и страшно, и он устал.
Он не заметил, когда и куда девалась река. Не удивился, увидев ее снова, но уже не справа, а слева. Иван Терентьевич некоторое время шел вдоль берега, и Ольхин шаг в шаг повторил его путь. Потом река впереди сузилась, каменные берега стали напоминать стоящие на полке книги, когда одна или две с края вынуты и весь ряд покосился. Оттуда доносился глухой монотонный шум. Судя по следу, Иван Терентьевич прошел над самой водой вперед, но потом почему-то вернулся и поднялся по косогору берега вверх. Ольхин не раздумывал почему. Не стал смотреть, что там, впереди. Он смерил взглядом крутизну косогора и, вздохнув, цепляясь за кусты, начал взбираться. Песок и острые плоские каменные обломки уползали из-под ног, ветки обламывались. Но он упорно лез вверх, надеясь, что там, за бровкой, увидит наконец костер. Но и наверху были только низкорослые кривобокие сосенки, слоистые камни, засыпанные снегом, да виляющий между камней след Ивана Терентьевича. Ольхин сделал десяток шагов — и почти из-под ног, оглушив хлопаньем крыльев, до оторопи напугав неожиданностью, вырвались несколько тетеревов. Еще два шага — новая партия, раскидывая крыльями снег, черными брызгами разлетелась по серому небу. Ольхин проводил птиц равнодушным взглядом — сейчас ему было не до них.
След Ивана Терентьевича привел к нагромождению каменных плит, заставил обогнуть, — и снова Ольхин увидел реку. Только теперь она была далеко внизу, похожая на лежащий на белой скатерти кривой нож. И, как разрез в скатерти, к реке, попетляв на спуске, тянулся след Ивана Терентьевича. Но самого Ивана Терентьевича или дыма костра Ольхин не увидел.
У него запершило в горле от жалости к себе, от обиды на непрерывно преследующую судьбу, которая могла бы хоть раз пожалеть. Только один раз — сейчас! Но разве она пожалеет, падлюка! Снег, переставший было падать, повалил еще гуще, вершины сосен начали перешептываться — поднимался ветер. Чувствуя, что ноги совершенно отказывают, что сейчас он просто-напросто ляжет на снег — и будь что будет, Ольхин все-таки поплелся к реке. Раз Ивана Терентьевича впереди не видно, а уж нет сил двигаться, внизу — вниз он как-нибудь сползет, скатится — он сам разведет костер, сядет к огню и не тронется больше с места. Амба так амба… Тем более что, кажется, начинает вечереть, снег и тьма все равно заставят его потерять спасительный след… Когда крутизна склона перестала сама увлекать вниз, а Ольхин еще не сообразил, что спуск кончился, что надо подняться на ноги, его стало заносить снегом.
Но он поднялся. Сгорбившись, безвольно уронив руки, теперь он искал глазами топливо, дрова. Искал, но не находил. На плоском берегу виднелись из-под снега только перержавевшие зонтики болотных дудок да тонкие прутики тальника. Ему не повезло и тут! Ольхин окинул безнадежным взглядом голый склон справа, по которому только что спустился, потом повернулся налево, к реке. Ее не было видно, заслонял обрез берега, и он подумал, что у воды могут оказаться какие-нибудь дрова. Палки, оставленные половодьем и высохшие за лето. Стараясь так переставлять негнущиеся ноги, чтобы леденящая ткань мокрых брюк не касалась тела, он добрел к береговой бровке и заглянул вниз. Речной плёс здесь изгибался, образовывая прилук. В таких местах реки всегда выносят к берегу то, что захватывают выше по течению. И Ольхин в самом деле увидел несколько коряг и древесных стволов, раскиданных выше уреза воды или прильнувших к галечнику, словно, обессилев, не смогли на него выбраться. Ольхин спустился к воде — следовало торопиться, вечер уже засинил снег и начал смазывать контуры.
Ближнюю из коряг пришлось забраковать, она оказалась совершенно гнилой, из нее отжималась влага. По пути к следующей он подобрал легкий сухой корень, потом елочку толщиной в руку, с единственным уцелевшим сучком. Коряжина тоже годилась. Ольхин оставил около нее корень и елочку, а сам потащился по берегу раздобывать чего-нибудь еще. Вывернул из снега похожий на хоккейную клюшку березовый комелек, чуть дальше откопал еще один корень, массивный, с натеком смолы, и направился к темному пятну на воде — на уже разгоревшиеся сухие дрова можно будет завалить даже и сырую деревину, сгорит за компанию.
Дровина только приткнулась к берегу, ее чуть покачивало течением. Вряд ли она годилась для костра, слишком напиталась водой, на поверхности виднелся только торец. На всякий случай Ольхин решил все-таки рассмотреть вблизи — похоже на обуглившееся бревно, а они не очень впитывают воду. Он сделал шаг, качнулся и, еще не разобрав, что перед ним такое, почувствовал страх, почему-то смешанный с брезгливостью. Плавающий предмет не походил ни на что, он даже не имел формы — что-то гладкое, округлое, иссиня-черное, как уголь или вороненный металл. Ольхин попробовал, зацепив березовым комельком, подтянуть его еще ближе, но комелек соскользнул, а предмет колыхнулся и стал поворачиваться. И Ольхин совершенно отчетливо увидел тускло блеснувший в темноте погон. Он выпустил комелек и отшатнулся.
— Начальник? — как у живого, спросил Ольхин, и все в нем сжалось, вытолкнув стиснувший сердце воздух, так что грудь стала совершенно пустой и холодной. Он попятился, обеими руками прижимая к животу корень, потом уронил его, даже не заметив, что уронил. Ему вдруг захотелось быть где-то далеко-далеко отсюда, где угодно, но только не видеть, не знать, что высовывающийся из черной воды еще более черный предмет — обтянутая мокрым плащом спина и плечи мертвого лейтенанта. Ольхину уже почему-то не было холодно, словно, прикоснувшись к холоду смерти, можно презреть обычный холод, забыть о нем. Еще раз бросив взгляд на того, кто недавно был человеком и "начальником", а стал плавающим на воде предметом, живой поднял уроненный корень и направился в другую сторону, прочь. По дороге он споткнулся еще о несколько древесных обломков, но не стал их подбирать, его вдруг охватило безразличие ко всему, какое-то равнодушное спокойствие. Закрыв глаза, Ольхин снова увидел плечи лейтенанта, тихонечко, ласково раскачиваемого водой, вздрогнул воем телом — и задрожал, лязгая зубами, не в силах унять дрожь, сознавая, что начинает замерзать насмерть. Что у него уже нет ни сил, ни желания разводить костер, что он хочет только одного — чтобы прекратился озноб, не стучали зубы. Ему мучительно захотелось отдыха, покоя, безразлично какого, и он опять подумал о лейтенанте. Но теперь он думал о нем без оттенка брезгливости, не как о трупе, а как о равном себе. И присутствие лейтенанта, то, что лейтенант плавал черным предметом в реке, как-то оправдывало бессилие, бессмысленность борьбы и страх перед этой борьбой, пересиливший даже страх смерти. Если уж не выдержал лейтенант — здоровущий малый, с начальническим окриком и пистолетом… Вспомнив о пистолете, Ольхин лениво подумал о том, что он может взять этот пистолет и тогда разом прекратятся дрожь и холод. Вернулся. Забрел в воду, равнодушно, словно делал что-то привычное, перевернул невесомое, покорное тело, задрал скользкую полу плаща, под которой горбатилась кобура. Ему не сразу удалось расстегнуть кобуру: скрюченные пальцы не слушались. Наконец расстегнул, вынул пистолет и, прищемив его рукоятку большим пальцем к плоской одеревеневшей ладони, выбрался на сухой галечник. А труп лейтенанта сам повернулся в прежнее положение, выставив черные лопатки, и густая черная вода, растревоженная Ольхиным, принялась их облизывать.
Дрожь продолжала колотить, он оглох от грохота зубов, отдававшегося в мозгу. Теперь он мог сразу нырнуть в тишину, но пальцы, удерживавшие ледяную рукоятку пистолета, отказались сгибаться. Тогда он, даже не сумев выпустить из них оружие, затолкал кое-как руку вместе с пистолетом в карман и стал ждать, чтобы пальцы отогрелись.
Стоял и ждал, пока они оживут, позволяя остальному телу умирать, безразличный к тому, что оно умрет. Опуститься бы на снег, лечь, но он боялся даже шевельнуться, потому что прикоснется, прилипнет к коже заледеневшая одежда — даже мысль об этом заставила Ольхина в ужасе зажмуриться. Но тогда ему показалось, что он уже падает, что сейчас ощутит это страшное прикосновение. Он поспешно открыл глаза и с облегчением увидел перед собой не летящую навстречу землю, а черное небо. И одну-единственную звезду в нем, мерцающую красноватым светом. Опустив взгляд чуть ниже, Ольхин различил обрез бережного наволока. Но ведь за наволоком и за плоским берегом, где он не мог найти дров, поднимается сопка, небо должно быть значительно выше. Тогда почему звезда? И вдруг понял, дошло: это же не звезда, костер! Костер, зажженный на склоне сопки Иваном Терентьевичем.
Вечером пилот забыл завести часы, хотя последние дни стал следить за временем.
Проснувшись, он посмотрел на циферблат, удивленно поднял брови — три? А почему светло? Перевел взгляд на постель Ивана Терентьевича — может быть, вернулся ночью и скажет, который в самом деле час?
На пихтовых ветках, свернувшись клубком, спала Зорка.
За ночь в самолете выстыло, но растапливать печку пилоту не захотелось. Он сел, натянув на плечи полушубок, покосился на Анастасию Яковлевну: спит или нет? Решил, что спит. Хотелось курить, но курева не было. Вспомнив похвальбу Ольхина, будто тот надолго обеспечен сигаретами, уже начал подниматься, но махнул рукой — конечно, подлец все взял с собой, бессмысленно искать. А закурить очень следовало бы: табачный дым притупляет чувство голода. Еще лучше было бы поесть, но вчера учительница, кажется, выложила из баула все, до последней крошки. Черт, как он не сообразил приберечь какой-нибудь пирожок на сегодняшнее утро? И Анастасия Яковлевна тоже как с ума сошла, могла ведь не роскошествовать так, — он как-то совсем забыл, что вчера думал иначе, даже сказал учительнице:
— Правильно, это лучше, когда знаешь, что ничего нет. Нет — и не думается!
К сожалению, думалось. Еще как. Хоть бы поскорее вернулся Иван Терентьевич, проверил свои петли. Или знать бы, что вообще не вернется: может, действительно заблудился, ведь и на старуху бывает проруха. Да и ворюга этот, если попался, мог неожиданно оглушить палкой по голове. Все могло случиться, учительница права. Но если бы знать, что действительно случилось, что можно Ивана Терентьевича не ждать, было бы позволительно воспользоваться его запасами. Кстати, надо посмотреть, сколько их — запасов, Только посмотреть, брать он не будет ни крошки. Преодолевая слабость, пилот встал и, кутаясь в полушубок, подошел к лапниковому настилу Ивана Терентьевича. Зорка подняла голову, радостно заколотила хвостом. Пилот движением руки прогнал ее, приподнял ветки. Ничего? Странно… Заглянул в чемодан: смена белья, тюбик зубной пасты со щеткой, три носовых платка. Да нет же, не может быть, чтобы — ничего! Иван Терентьевич взял только шаньгу, взял ее из баула, он сам видел это… Нет, он этого не видел — нарочно не смотрел, отвернулся. Но не важно, одна шаньга или две, важно — где сетки. Сетки! Нету! Нету, нечего искать, — он опять и опять перебрасывал ветки. Все ясно! Иван Терентьевич взял продукты с собой! Схватил, когда пришел утром и Анастасия Яковлевна ему сказала о краже золота, а она ну, конечно, слепой человек! — даже не заметила этого. Но ведь если он взял все, не какой-то кусок хлеба, значит, не собирался вернуться быстро? Может, вообще не собирался, если преследование заведет слишком далеко? Но если это так, на него не приходится рассчитывать, надо рассчитывать на себя, искать, где расставлены эти самые петли, что ли? Но достанет ли у него сил искать их и сумеет ли он их найти, ведь вчера шел снег?.. Холод все-таки заставил его отправиться за дровами. Анастасия Яковлевна, завернувшись в шубу, уже сидела, считая свои петли. Спросила:
— Сколько времени? Я слышу, вы встали.
— Утро.
— Тогда — доброе утро, Владимир Федорович! А точнее?
— Не знаю, забыл завести часы.
— Поставите потом по часам Ивана Терентьевича, — сказала она.
Он принялся растапливать печку. Бросил:
— Подозреваю, что мы его не увидим больше, Ивана Терентьевича.
— Один раз вы уже подозревали это. Потом, кажется, вам было стыдно?
Он хотел крикнуть ей в лицо, что она дура, что их обманули, обокрали, бросили подыхать. Но пилот промолчал: неудобно было обосновывать свои догадки — рассказывать, что рылся в чужих вещах. Затопив печку, с трудом поднялся с колен. Подождав, чтобы прошло головокружение, посмотрел на свои полуботинки.
— У вас нет чего-нибудь, годного на портянки?
— Замерзли ноги?
— Нет, собираюсь поискать поставленные нашими охотниками петли, а обувь у меня — для паркета.
Она достала из-под изголовья сумку.
— Попробую найти. Но… вы-то ведь в тайге не дома, ради бога не заблудитесь!
— Бога или нет, или он величайшая сволочь, — вырвалось у пилота. — Ну, а заблудиться… Следы назад приведут.
Анастасия Яковлевна протянула кофточку:
— Вот… Дать ножницы — разрезать? Нож, наверное, очень тупой.
— Но-ож? Что же вы молчали?
— Да. Из столового набора — разве такой нужен?
— Теперь, если найду петли, понадобится. Там какие-то насторожки вырезать надо. — Пилот, попробовав пальцем острие ножа, покачал головой и, отойдя к своей постели, занялся портянками. Обмотав ими ноги, поверх натянул носки, обулся.
— Ну, я пошел…
Зорка побежала следом, но пилот загородил ногой дверь:
— Куда ты, глупая! Вымокнешь в снегу, да еще распугаешь все на свете!
Вышел — и сразу же остановился. Кажется, Иван Терентьевич с Ольхиным направлялись в левую сторону от костра, там где-то должен быть ручей, в нем брали воду. Впрочем, туда должен еще сохраниться ольхинский след, решил он.
Но следов оказалось много, а он не следопыт и не Шерлок Холмс. Ольхин подался в последний раз неизвестно куда, Иван Терентьевич ушел, забежал вчера утром и снова показал пятки. И все следы запорошены снегом, все похожи. Придется спуститься к ручью, каждый след проверить отдельно.
След, выбранный для первой попытки, завел в молодой березник и оборвался. Пилот повторил попытку — и приплелся к крутой сопке на берегу ручья. Тот, кто проходил здесь до него, взобрался на сопку. Пилот мысленно выругался: он не сможет влезть на такую крутизну!
Впрочем, это и ни к чему, это не дорога к петлям, иначе знал бы из разговоров о таком крутом подъеме.
У подножия сопки след перекрещивался с другим, ведущим вниз по ручью, но тот был вообще следом из ниоткуда, во всяком случае не от самолета. Пилот нерешительно топтался на месте: как быть? Он уже основательно вымотался, все тело болело, кружилась голова, и до спазм в желудке хотелось есть, а тут еще пошел снег. Следовало возвращаться — но как вернуться, если где-то стоят петли, может быть близко, может быть с добычей уже, а снежина вдруг повалил такой, что завтра от следов ничего не останется! Ведь петли — это единственная надежда и его, и Анастасии Яковлевны, потому что их только двое теперь и, если он опять свалится, вконец обессилев, она даже не сможет найти палку для топлива. Он потерял право распоряжаться своей жизнью, раз без него не может обойтись другой человек. Он обязан устоять на ногах, теперь его смерть будет преступлением, а у него кружится голова и подгибаются колени…
Пилот, растерянно озираясь по сторонам, углядел припавшее к земле дерево — пихточку, у которой ручей подмыл корни. На ее стволе можно было сидеть, и он, спихнув снег, уселся. Если бы след, стоящий проверки, начинался отсюда, он двинулся бы по нему не раздумывая. Но пилот считал, что к петлям может привести только след, начинающийся в верхнем течении ручья, откуда он пришел. Снова идти туда, а потом делать новый конец — нет, на это он не способен, не может физически. Слишком его поковеркало при аварии, слишком слаб от голода. Смешно: голод отнимает единственную возможность наесться! И что это вообще: бред, издевательство судьбы или он сошел с ума? Умирать от голода, когда десятки, нет, миллионы людей выбрасывают чуть зачерствевший хлеб в мусоропровод, полки в магазинах ломятся от съестного в полутора-двух часах полета… Пилот с ненавистью поднял глаза к небу, а небо плюнуло ему в глаза снегом. Он зажмурился, и в это мгновение что-то толкнулось ему в ноги. Вздрогнув, он испуганно оглянулся — и увидел Зорку.
— Фу, дура… — выдохнул он с облегчением.
Собака положила ему на колени остроухую голову и, засматривая в лицо, блаженно размахивала кренделем хвоста. Она была очень довольна, что сумела найти его, несмотря на снег и сдвоенные следы, наверное, гордилась этим. Пилоту стало стыдно своего испуга, но выговаривать он стал собаке:
— Ну, чего примчалась? Зачем? Очень ты здесь нужна!
Он лгал, ему очень был нужен хоть кто-нибудь, чтобы не расплакаться от сознания бессилия, — когда на тебя смотрят, легче держать себя в руках. А еще — кажется, что этот кто-нибудь может, находясь около, чуточку согреть своей живой теплотой, одним ласковым прикосновением даже. И пилот невольно протянул руку и погладил собаку по голове. Прикосновение к мягкой и теплой шерсти как-то успокаивало, отвлекало, просто было приятно. И вторая рука, тоже невольно, потребовав своей доли, ласково проскользнула под ошейник.
"Жирненький, ох и котлеты бы получились", — вспомнились слова Ольхина и… котлеты. Он увидел их, почувствовал запах — жареного мяса и лука вместе — и закрыл глаза, чтобы не видеть. Но тогда он увидел Анастасию Яковлевну — с лицом лагерницы в каком-то фильме о фашистских зверствах, с лицом скелета.
"Неужели вы смогли бы убить Зорку?" — далеко-далеко прозвучал ее вопрос — Ольхину, не ему.
— Что вы, разве такое можно? — ответил он или ему подумалось, что ответил, а рука, первой прикоснувшаяся к собаке, скользнула между ушами, оказалась под ошейником. И вдруг пилот с ужасом и отвращением понял, что уже не сможет убрать руки, что они уже действуют помимо его воли!
Иван Терентьевич, насторожась, поднял голову в спросил, думая, что спрашивает все-таки у самого себя и у пустой темноты, потому что никто не мог подходить к костру, могло только послышаться, будто подходят:
— Кто там?
Тьма начиналась в двух шагах от костра, непроглядно плотная и черная оттого, что рядом был свет, огонь. Никто не ответил. Иван Терентьевич и не ожидал ответа, но во тьме под чьими-то шагами действительно хрустел снег. Это мог быть только зверь, люди не ходят ночью по тайге, и Иван Терентьевич отступил за костер, как отступают за крепостную стену.
Звери не подходят к огню — в круг света из тьмы вывалился человек, споткнувшийся о валежину на самой границе между темнотой и светом. Упал плашмя, как бревно, даже не попытавшись выставить вперед себя руки. И стал не подниматься, а перекатываться на бок.
Свет костра упал на его лицо.
— Василий? Ольхин? Ты?
Тот подтянул колени к животу и умудрился встать без помощи рук, шагнул к костру, медленно опустился на корточки. Только тогда, оторвав руки от туловища, протянул их почти в самый огонь. Иван Терентьевич, глядевший на него отвалив челюсть, вдруг рассмеялся дробным и добрым смешком.
— Ну, бра-ат! Ну и отколол номер! — И тотчас заволновался, забеспокоился, даже ногой топнул: — Руки-то, руки убери, они у тебя нечувствительные, сожгешь! Ты снегом их, от снега сразу отойдут, давай я тебе… — Он поспешно обошел костер и, зачерпнув в ковшик ладоней снегу, сам принялся растирать парня. — Не отморозил, не бойся, застыли только. Вот ноги у тебя как?
— Ноги… еще в ходу вроде… отошли, — трудно ворочая языком, ответил Ольхин.
Иван Терентьевич, быстро-быстро двигая ладонями, приговаривал, не переставая удивляться:
— Ну, парень! Вот это так да! По следу меня нашел, ага? А я-то думал, кликнуть тебя с собой или нет, решил — ну к лешему, своя голова есть. А ты "возьми и прискочи, а! Да еще по такой погоде! — Он искренне радовался и даже восхищался, что парень, которого он считал неспособным и на меньшее, сумел повторить проделанный им, Заручьевым, путь и сидит сейчас у костра, не замерзнув где-то по дороге. — Постой, ты же жрать хочешь, как медведь в апреле! Сейчас я тебе налажу, я сегодня барсука сонного из норы выкурил…
— Не хочу, — сказал Ольхин. — У меня есть. Глухарь.
— Попал-таки? — догадался и опять обрадовался Иван Терентьевич. — Ты смотри, сейчас ведь это редко уже. Ну ладно, грейся давай, отходи. После расскажешь, чего и как, я тебе чаю пока добуду, растоплю снег. Ну, ты и да-ал! Ну и ну-уу!..
Нет, он не ожидал от этого парня такой прыти. Надо же! Хотя — страх чего не заставит, поди, душа в пятки ушла, когда хватился Ивана Заручьева. Видать, большой страх маленький перешиб. А все равно молодец парень, рисковый, но, в общем-то, гостенек не больно желанный, — Иван Терентьевич уже неодобрительно глянул на парня и начал словно бы выговаривать:
— И ведь понес леший, а? Сообразила голова? Ты на себя оборотись, на кого похож? Сопли одни. Если бы я огня не зажег, кем бы ты сейчас был?
Ольхин слушал Ивана Терентьевича, недовольный голос то как бы укачивал, обволакивал покоем и вместе с теплом костра сладким хмелем тек по жилам. Разве не совершенно безразлично, какие слова произносят, каким тоном? Слушать их было праздником, мысленно Ольхин охотно соглашался со всем, отвечал Ивану Терентьевичу какими-то словами, но тот мог только видеть блаженную улыбку на грязном заросшем неопрятной щетиной лице. Заручьев, покусывая губы, тискал в кружку кулаком снег, а Ольхин думал, какой Иван Терентьевич хороший, умный человек и какой дурак он, Ольхин, психанувший из-за пустых слов слепой старухи. Он обязательно расскажет Ивану. Терентьевичу об этом, и как по своей глупости чуть не остался рядом с лейтенантом, и про лейтенанта в черной реке, и про пистолет — что теперь у них есть оружие, но расскажет обо всем потом, а сейчас будет слушать, как Иван Терентьевич ругается, и впитывать тепло, пока им не насытится!
Но лейтенанта вспомнил сам Заручьев:
— Суются — не знают куда, недоноски, да еще считают себя умнее всех. Замахиваться надо по силе, — Иван Терентьевич протянул Ольхину кружку с кипятком. — На, пей. Ты вот, как блоха, наскочил на меня, а я тебя, как блоху, — ногтем придавить могу, а вот, гляди ты, чаем отпаиваю. Или тоже начальство твое, лейтенант. Говорено было ему: не лезь, кишка у тебя тонка — через тайгу идти, пусти настоящего человека. Пошел… росомах накормить, те не брезгливые — и дурака приберут да выгадят.
Иван Терентьевич, вынужденный мириться с появлением Ольхина, мстил ему за это уверенностью в своей силе, презрительной жалостью, неоспоримостью своих обидных слов. Но Ольхин, слишком счастливый, чтобы обижаться за себя, почему-то обиделся за лейтенанта. Ему вдруг расхотелось рассказывать Ивану Терентьевичу об укачивающей лейтенанта черной воде и как легко поворачивается в ней тело. А Иван Терентьевич со снисходительной усмешкой присел рядом и, глядя в пламя костра, заслюнявливая горевшую боком сигарету, сказал потеплевшим голосом:
— Так-то, парень. Нужен ты мне как холера, но… куда тебя денешь теперь, живой человек все же. Теперь тебе только за меня держаться. Если я пропаду — и твоя судьба кончится, ни взад ни вперед дороги тебе не найти, да и замерзнешь опять, как шелудивый щенок. Вот уж не гадал, что связником разживусь, с которым не сел бы опростаться рядом, а приходится. — Он встал, потянулся — точно не знал, куда девать силу. — Ладно, сиди грейся, а я делом займусь. Правый ботинок у меня совсем развалился, так хочу из барсучьей шкуры что-нибудь вроде поршней или бродневых головок на ноги сообразить. По снегу не по земле, подюжат сколько-нибудь.
Растянув шкуру мездрой вверх, Иван Терентьевич насыпал на нее горячей золы из костра и стал втирать — обезжиривать. А Ольхин разулся, повесил сушиться портянки, потом, поглядывая искоса в сторону Заручьева, закурил. Он пытался перебить сигаретой вдруг зашевелившееся не в мозгу, а где-то в желудке, сосущее, как изжога, чувство тревоги. Он не закуривал уже несколько часов, первая же затяжка застлала сладким туманом глаза, но не прогнала тревогу. Ольхин уже не обольщался, не воображал, будто Иван Терентьевич радуется ему, как обрадовался он сам, как обрадовался бы по разумению Ольхина любой человек, встретив в тайге другого человека. Нет, нужен он ему как холера! Если он вздумает бросить Ольхина, тот действительно пропадет, сожрут росомахи. Ольхину вспомнился берег реки, синий снег и черный округлый предмет на черной воде. Нет, только не это! Пусть Иван Терентьевич оскорбляет его как хочет, даже бьет, он все вытерпит, только бы не остаться снова одному в тайге, уже испытав, чем это грозит! Надо как-то задобрить, залощить Ивана Терентьевича. Что, если пообещать украсть для него деньги, много денег? Не выйдет, Заручьев знает, что Ольхина и так ждет тюрьма, да еще — фрайер ведь! — может обидеться. Отдать пистолет? Больше отдавать нечего. Побоится взять: за пистолет — статья, да и зачем ему пистолет? Вдобавок он может подумать, будто Ольхин взял у лейтенанта не только пистолет, а еще и золото… Ха! Отдать Ивану Терентьевичу золото — вот что нужно сделать!
Это была идея, мысля!
Вот только… если лейтенант выбросил пли потерял золото, когда тонул?
И Ольхин сказал не очень уверенно:
— Иван Терентьевич, я вроде бы знаю, где должно быть золото. Ну, которое унес мой начальник.
Иван Терентьевич разогнул спину — так распрямляется пружина.
— Да?
Не спрашивая ни о чем больше, он снова опустился на колени перед шкурой и с ожесточением принялся обрабатывать ее новой порцией золы. Ольхин посмотрел на него недоумевающе: выходит, золото не интересует? Или Иван Терентьевич не понял? А, просто не поверил, конечно! Ольхин мысленно усмехнулся — иронически. Ничего, поверит завтра, когда его приведут туда, когда возьмет в руки. Или — если золота не окажется — поверит в искренность Ольхииа, в доброе желание его. Должен будет поверить, ведь Ольхин не взял золото сам, а в этом Иван Терентьевич не сможет усомниться, если дальше они отправятся вместе.
"Ладно, — подумал Ольхин, — докажу, когда рассветет".
Иван Терентьевич молчал. Его руки механически втирали в мездру уже пропитавшуюся жиром золу, но он словно бы позабыл, что нужно ее сменить. Наконец поднялся, встряхнул шкуру и сказал:
— Ну вот, уже не шибко жирная. Еще маленько потереть — и порядок, можно обувку шить. А ты отдыхай давай, сил набирайся к завтрему. Утром и о делах станем разговаривать, про золото и про все. Найдем общий язык. Ложись вон на пихтач и спи, я себе нового лапнику принесу.
И Ольхин понял и согласился всем своим бесконечно измученным телом, что Ивану Терентьевичу сейчас не до разговоров, он будет шить обувку, это же самое важное в дороге — обувь. И Ольхин, переставив свои сапоги так, чтобы их обдавало только теплом, не жаром, перебрался на приготовленное Иваном Терентьевичем место. Словно взмах птичьего крыла где-то сбоку, вне поля зрения, промелькнула мысль, что в кармане сигареты, надо бы их не смять. Но мысль эта промелькнула, а Ольхин уже поворачивался спиной к костру и летел в спасительную черноту сна.
Во сне он сначала лежал на штабеле теплых, пахнущих смолой бревен, чувствуя голым животом шершавость коры и плохо обрубленный сучок, но ленясь поворачиваться, потому что спину грело весенними лучами солнце. Потом искал начальника конвоя, потому что работу кончили, а тот не снимал оцепление. Тогда он пошел на берег, где сплавщики вязали плоты, и наконец нашел начальника — тот плавал в воде, выставив одни плечи, а бригадир сплавщиков смеялся и отпихивал начальника багром, как бревно. Потом вдруг стало жарко, раздались крики: "Горит!", "Лес горит!" Из клубов желтого дыма вырвался попавший в петлю глухарь, а Ольхин стал душить его, прижав грудью к снегу. Душил и краем глаза видел, как золотая от огня сосна вдруг повернулась и, распластав космы искр и дыма, стала падать — на него, на Ольхина, до костей прожигая жаром. Он рванулся в сторону, перекатился через левое плечо — и действительно увидел пламя и сноп искр над ним. И Ивана Терентьевича, подбрасывавшего в костер дрова.
Иван Терентьевич, словно споткнувшись, отступил от огня, а деревину, которую собирался бросить в пламя, бросил на снег. И каким-то особенным голосом сказал:
— Дрова вот подбрасываю, чтобы ты не замерз, уже прогорать стали…
Ольхина поразил взгляд Ивана Терентьевича. Такой, словно Иван Терентьевич спросил что-то и ждал ответа. Но Заручьев ничего не спрашивал, только смотрел, и тогда Ольхин невольно спросил сам:
— В чем дело?
— Да ни в чем… Говорю — дрова подбрасывал, — как-то уж очень беспечно ответил Заручьев.
Ольхин невольно покосился туда, где стояли сапоги. Но на месте сапог стояли смешные шлепанцы из шкуры. Повернулся, собираясь спросить о сапогах, — и увидел их на ногах у Заручьева. Это его не удивило: человек ходил по снегу за дровами. Но почему он в туго перепоясанном плаще, когда был в пиджаке до этого, зачем за плечами сетка с барсучьим мясом? Уже собрался в дорогу, хотя еще и темно? Но почему не разбудил, дров подкладывал на костер — спи, дескать, не просыпайся от холода? Ольхину вдруг показалось, будто одно сердце у него стало проваливаться куда-то, а другое, распирая грудь, подкатилось к самому горлу, закупорило его. Он растерянно посмотрел на грязный, обтаявший возле костра снег, свои босые ноги — и спросил:
— А как же я? Иван Терентьевич!
Заручьев поправил за спиной сетку и, не отступив, а сделав шаг вперед, к костру, не пряча взгляда, заговорил беспощадно и вместе соболезнующе:
— Ты?.. Тебя никто не заставлял за мной увязываться. Золота захотелось, легкого заработка?
— Какое золото? — отчаянно крикнул Ольхин.
Иван Терентьевич насмешливо дернул уголком рта:
— Ладно, дурачка не валяй. Скрывать не думаю: да, у меня, я взял, а на лейтенанта сказал, чтобы в грех, тебя не вводить. Я — ну и что?
И опять, как у самолета тогда, Ольхина захлестнула и понесла — а, все равно куда! — волна слепой безрассудной ярости. Он, Ольхин, будет замерзать в тайге, потому что этот гад, этот кусок твари не только закосил на него, да еще и хлещется этим!
— Вор! Падаль!
У Ивана Терентьевича сжались кулаки, и сам он подобрался, напружинился, весь — готовый к прыжку. А голос его зазвучал страшной, снисходительной ласковостью:
— Это ты мне можешь говорить? А, парень? — Иван Терентьевич шагнул вдруг почти в самый костер и не заговорил — залязгал словами: — Иван. Заручьев. В жисть. Нитки чужой. Задаром. Не взял. Понял, сволочь затюремная?
Ольхин — босиком — рванулся к нему и, не помня себя от ненависти, завизжал:
— Врешь, вор, ворюга! Кусочник! Золото украл и сапоги! У-у-у!..
— Брось! — Иван Терентьевич помахал раскрытой ладонью перед глазами Ольхина, будто разгоняя сигаретный дым. — Ты мне, паскудник, не сапогами — жизнью обязан! А металл… металл я взял, чтобы тебя к нему не допустить.
— Украл! — крикнул Ольхин, топчась на расплывающемся под голыми ступнями снегу. — Вор!
Иван Терентьевич помотал головой.
— Нет, не вор. Я его все равно что намыл, из земли достал. Ничейный, значит, я право имею взять, тридцать лет добывал!
— Видел? — Ольхин, показывая Ивану Терентьевичу кукиш, скособочился — и локтем ударился о твердое в кармане. И сразу же вспомнил, обо что.
— Возьму-у, — уверенно протянул Заручьев. — Это ты не сомневайся, уже взял!
— Отда-ашь!
— Не тебе ли?
— Мне отдашь, с-сука! — спокойно, со злорадным торжеством, но елейным голосом сказал Ольхин, а последнее слово даже пропел. — Ты, ишак, рогами упирался, да? Тридцать лет из земли доставал, да? Так тебе же, гаду, положено ишачить, а я за это золотишко, — Ольхин подмигнул и, щелкнув пальцами, сделал жест сеятеля, — знаешь как гульну по буфету? Ох и гульну! — Он потешался, паясничал, уничтожая Ивана Терентьевича, забыв обо всем, кроме своего торжества.
Заручьев снисходительно усмехнулся и, движением плеча проверив, на месте ли сетка, сказал:
— Ладно, некогда мне с тобой тут… Зла я тебе не хотел, сам ты его нашел, себя и вини… — И уже повернувшись уходить, кивком показал через плечо: — Там вон поршни тебе и барсучины кусок. Ну… — И Заручьев пошел прочь от костра, в начинающую синеть тьму. Ольхин как-то не сразу осмыслил это, с усмешкой провожая его взглядом, ждал, что Иван Терентьевич, покуражась, сейчас вернется. Но тот не останавливался.
— Стой! Эй, ты! Стой! — рявкнул тогда Ольхин.
Заручьев не обернулся.
— Стой, слышишь! — Ольхин рванулся было бежать следом — и запританцовывал босыми ступнями на снегу. — Стой, стрелять буду!
Он еще выкрикивал это, но уже понимал, что Заручьева не напугать, Заручьев только усмехнется и будет уходить, унося его сапоги и украденное золото. Тогда Ольхин вытащил из кармана пистолет и, потрясая им, закричал умоляющим отчаянным голосом:
— Стой! Слы-ышишь?! У меня пистолет! Пистолет! — и побежал, не чувствуя обжигающего холода снега. — Иван Терентьевич! Пистолет!
Иван Терентьевич уходил. Ольхин поглядел на его каменно-спокойную спину, потом на пистолет в кулаке. Вспомнил, что должен быть какой-то предохранитель, что-то нужно с ним сделать и прицелиться. Но он не хотел этого делать и не умел, ему хотелось заплакать, кажется, он уже плакал — от непоправимости происходящего. Потом он ударился обо что-то разутой ногой и упал на колени.
— Иван! Иван Теренть-и-ич! — это был не крик — вопль попавшегося в ловушку зверя.
Каменная спина Заручьева была уже на расстоянии десятка шагов. Шаг, еще шаг… Ольхин вытянул руку с пистолетом, и пистолет сам грохнул и дернулся в руке, а спина Ивана Терентьевича стала как-то быстро-быстро уменьшаться. Не удаляясь, а как бы проваливаясь. И вдруг превратилась в плоское черное пятно на синем снегу.
Пилот смотрел на дело своих рук, и руки у него тряслись. Ему захотелось их вымыть, но к ручью ноги отказывались идти. Он стал вытирать руки снегом, но снег просыпался меж пальцами.
— Фу, черт, не человека же задушил — собаку. — Пилот стал вспоминать вычитанное или слышанное когда-то: что у каких-то народов собачье мясо считается деликатесом, что его врачи, кажется, рекомендуют туберкулезникам. — Что, в конце концов, не умирать же людям ради жизни собаки?
Руки перестали дрожать, и он поволок Зорку к ручью. Снег на ее шкуре не таял, она казалась седой, даже не похожей на Зорку, и пилот старался думать о ней не как о Зорке, а просто как о собаке. Человек убил собаку, чтобы не подохнуть от голода, — что это, преступление?
У ручья он увидел валежину, смел с нее снег и сел, ноги у него были ватные. С помощью ножа Анастасии Яковлевны и напильника пилот стал снимать шкуру. Как попало, клочьями, лишь бы ободрать. Потом завернул в эти клочья лапы и голову, затискал под валежину, а тушку долго полоскал в ручье. От ряби текучей воды и слабости кружилась голова, поэтому одной рукой он болтал в ручье тушку, а другой обнимал согнувшуюся над водой березку. Ручей уже давно смыл с мяса кровь, но пилоту не хватало мужества уйти. Предстояло самое ужасное — разговор с Анастасией Яковлевной.
Да, преступления он не совершил. Поступил, как подсказывали разум и обстоятельства. Но… как ей сказать об этом? Выдумать, что Зорка попала в лапы, ну, медведя, что ли? Черт, медведи спят, не шалаются по тайге. Рысь? Это подходит, но как он сумел отнять у рыси добычу? Очень много лжи, а этой женщине так не хочется лгать! И — даже если он сумеет солгать! — Анастасия Яковлевна вряд ли станет есть мясо. Нет, это не решение — с рысью, а впрочем… впрочем… может быть, он придумает что-нибудь. Надо только очень правдиво солгать, все время помнить, что это будет благородная, святая ложь, — ведь надо, чтобы Анастасия Яковлевна ела, ведь он не только о себе думал!
Подойдя к самолету, он повторил себе это еще раз и, набрав полную грудь воздуха, толкнул дверь.
— Анастасия Яковлевна, можете меня поздравить! И себя тоже — у нас есть мясо!
Кажется, голос его не подвел, а если и дрогнул чуть, так ведь ему полагается волноваться, переживать удачу.
Учительница встала, облегченно, радостно улыбаясь, но живая улыбка в сочетании с мертвыми глазами напугала пилота: она показалась ему искусственной, актерской.
— Заяц? Нет, глухарь? Да? — гадала Анастасия Яковлевна.
— Рысь! Вернее, рысенок. Но все равно — еда, пища!
— Рысь? Разве их… едят?
— В нашем положении есть можно все съедобное. А рысь… рысь охотники считают отличной штукой.
— Рысь! Данте хоть мех погладить…
— Не выйдет, — пилот помедлил. — Я ее, чтобы в самолете не дрызгаться, на ручье разделал, а шкуру выбросил.
— Жалко, — сказала Анастасия Яковлевна, — шкуру и все внутренности Зорка, наверное, слопала бы. Удивляюсь, чем жива собака? Мы хоть что-то ели, а она?
— Собака, — сказал пилот и запнулся. — Собака перебьется — не человек…
Он вкладывал в свои слова особый, лишь ему ведомый, его оправдывающий смысл. А что? Собака — действительно собака, и только.
— Возможно, — согласилась Анастасия Яковлевна. — Бегает вот где-то, охотится, наверное, тоже…
— Да, конечно… Извините, Анастасия Яковлевна, я хозяйством займусь. Вода, дрова. — Он прихватил с печки ведро и пошел за снегом.
— Снежина валит опять — света белого не видно! — сказал он, вернувшись. — Погода и та против нас, небо закрыто, а как искать кого-то в тайге без авиации? Ходить и аукать?
— Мы с вами все-таки хоть в тепле и знаем, что о нас помнят, можем надеяться. Мне страшно за остальных, очень страшно!
— Здоровые мужики, что им сделается! — бодро уверил пилот, но представил себя самого, бродящего днем в поисках петель, — и стало холодно, он невольно втянул голову в плечи.
Вода в ведре начала закипать, запахло варевом. У пилота, не сводящего глаз с ворочающихся, как живые существа, кусков мяса, свело судорогой желудок. Он уже не мог терпеть дольше. Воровато оглянулся на учительницу и, вспомнив, что она не может видеть его жалкого нетерпения, попытался вынуть один из кусков. Но мясо было еще сырым, резиновым, оно отпрыгивало от напильника и ныряло под коричневую пену. Тогда пилот выхватил его прямо рукой, уронил на пол, обжегшись, и поднял, притиснув спрятанными в рукава ладонями. Вонзил зубы. Голод заставил его забыть о разорванной щеке и разбитой челюсти, но боль напомнила. Он затряс головой, как делает это схватившая белку лайка. Только окончательно убедившись, что еда действительно не по зубам, он с сожалением бросил ее обратно в ведро и снова по привычке всех зрячих оглянулся: не видели?
— Анастасия Яковлевна, у вас, кажется, была соль? И ложка?
— Есть и то и другое. Уже сварилось? Слишком быстро, по-моему.
— Еще нет, но мешать, пену снимать надо чем-то.
Он получил чайную ложку и — в бумажном кулечке — немного соли. Столько, что всей не хватило бы на ведро. А пилот высыпал треть и, подождав с полминуты, потянулся ложкой — попробовать.
— Знаете, — пошлепав губами, сказал он, — соли мало. Вообще мало.
— А вы посмотрите у Ивана Терентьевича, — подсказала она.
Пилот усмехнулся — уж он-то знал, что там можно, увидеть. Но все-таки пошел. Перебросив несколько веток, прикинулся удивленным:
— Вы знаете, ничего нет. Абсолютно ничего! — не заглядывая внутрь, он хлопнул крышкой чемодана. — А в чемодане тряпки, зубная щетка и мыльница.
Пальцы учительницы перестали играть спицами.
— Владимир Федорович, а вы… хорошо смотрели? — спросила она после паузы.
— Будьте спокойны, — уверил пилот.
Она долго молчала, потом сказала раздумчиво:
— Непонятно… И неожиданно…
— Ничего непонятного. Он — помните? — с самого начала порывался уйти. Доказывал, что ему следует идти, не лейтенанту. Ну и ушел. Ушел — и все. А вы о нем беспокоитесь…
— Не понимаю, что меняется, если он ушел… совсем? Ведь вы это хотите сказать?
Пилот пожал плечами и, чтобы не отвечать, занялся печкой — следовало подложить дров. Потом стал пробовать варево, чувствуя блаженную теплоту в желудке, черпая за ложкой ложку.
— А, знаете, ничего. Очень ничего. И скоро будет готово, по-моему. Не знаю только, как мясо.
— Мясо надо варить не меньше часа, Владимир Федорович, вы торопитесь.
— М-м… Сейчас попробуем…
У Анастасии Яковлевны снова замелькали в ловких пальцах спицы. Но ненадолго.
— Скажите, снег все идет? — спросила она.
— Идет, — летчик краем глаза взглянул на иллюминатор уже после того, как ответил.
— Зорка моя что-то не возвращается. Вдруг из-за снега не найдет дорогу?
— Собака? Не найдет дорогу? Хотя, знаете, — спохватился пилот, — даже розыскные собаки в дождь и снег не берут след. Теряют.
— Вот видите… — сказала Анастасия Яковлевна и плотнее закуталась в шубу.
Пилот снова принялся пробовать варево. Помогая зубам ножом, проглотил несколько кусочков мяса.
— Анастасия Яковлевна, я тут вовсю пробую. Давайте чашку, я вам налью.
— Что?
— Говорю, давайте налью вам похлебки. Поешьте.
— Спасибо. Не хочу.
— Но ведь надо же! Помните, вы меня уговаривали?
— Помню. Я поем потом. Вы, конечно, не поймете, что значит для меня Зорка… Она никогда не пропадала так подолгу, а еще этот снег, и вы сказали…
— Что я сказал? — наигранно удивился пилот. — Что снег и собака может не найти следа? Ну и что?.. в крайнем случае одичает, — радуясь, что учительница не может видеть выражения его лица, пилот положил ложку.
Костер догорел.
Сначала по краям кострища начали чернеть угли, а огонь отодвигался к середине. Потом угли стали подергиваться серым летучим пеплом. Огонь дожрал несколько головешек и забился под последнюю — черный от копоти двухметровый березовый недогарыш — и, показав несколько раз желтый язык, потух. На островке золы, окаймленном веточками убитого жаром брусничника, осталось лежать похожее на огромную рыбу обгорелое полено.
Давным-давно рассвело, начался день. Хмурый, пасмурный, без теней на снегу, сам — как в тени. Но белизна снега и скудный свет вместе позволяли довольно ясно просматриваться далям левого берега, а на правом — плоскому и ровному как доска склону сопки. Но Ольхин ничего не видел, кроме своих босых ног, по щиколотку утонувших в еще теплой золе, и черного полена, ближе и ближе к которому переставлял ноги по мере того, как остывали края кострища.
Он боялся поднять голову, потому что взгляд против его воли уперся в пятно на снегу, которое раньше было Иваном Терентьевичем. Понимал, что придется подойти к этому пятну — взять свои сапоги, — Ольхину даже мысленно не хотелось произносить другое слово: снять, — чтобы не босиком собирать дрова. Он понял это уже давно, когда костер только начал гаснуть, но оттягивал и оттягивал. И до той минуты, когда уже нельзя будет не увидеть и не подойти, старался даже не думать об этом, забыть. Хотел только подбросить дров и снова сидеть у огня, не вспоминая ни о том, что было, ни о будущем. Сидеть и ждать конца, но только не идти неизвестно куда, чтобы замерзнуть, как чуть не замерз вечером, на берегу, там…
Зола остыла, Ольхин встал.
Сунув ноги в оставленные Иваном Терентьевичем поршни, потянул завязки. У щиколоток шкура собралась гармошкой, теперь заручьевское произведение действительно стало напоминать обувь. Он выпрямился и посмотрел туда, где лежал мастер.
— Ты что, мертвяков никогда не видел? — уговаривал себя Ольхин. — Привыкай, сам скоро таким станешь. Мертвяк и мертвяк, подумаешь! — И все время помнил, что не просто мертвяк. Даже уговаривал себя, чтобы еще помедлить, не подходить. Но ведь когда-то надо было подойти, отделаться — и забыть.
Баба ты или мужик в конце концов?
Не подействовало, ноги в поршнях отказывались переступить через границу зольного заколдованного круга.
— Дурак, рогатик, там же не только твои прохаря, там еще рыжье, золотишко. Ты можешь заиметь куш, какого не имел в жизни. Да еще ножичек прихватишь и мясо, а для этого надо всего-навсего сделать десять шагов пошманать дохлого фрайера.
Зачем-то стараясь ступать неслышно — словно Ивана Терентьевича мог разбудить скрип снега, — Ольхин подошел к трупу. Сцепив зубы и стараясь отстраняться, стащил сапоги с негнущихся ног, начал обшаривать в поисках ножа карманы плаща — и наткнулся на сигареты. Четыре нераспечатанных пачки и одна наполовину пустая… так это же его, Ольхина, сигареты! И он уже с некоторым злорадством, с пренебрежением к смерти закончил обыск. Зеленый брезентовый мешок с висюльками пломб Иван Терентьевич носил на себе, как пояс. Чтобы снять его, пришлось перекатить труп с боку на бок. Ручки капроновой сетки с мясом Заручьев умудрился надеть на плечи, как лямки рюкзака, — Ольхин их просто перерезал. Забрав все чохом в охапку, вернулся к погасшему костру.
— Вот и все, — сказал он, бодрясь, и, опустив руки, вывалил все принесенное в золу кострища. Зола пыхнула в стороны и вверх, запорхала в воздухе, грязными хлопьями ложась на ольхинскую добычу. А он вздрагивающими пальцами размял сигарету, закурил и плюхнулся на обугленное полено посредине кострища. Пересиливая брезгливость, переобулся, — холод промерзшей резины он принимал за холод смерти, передавшийся сапогам. Вышвырнув за пределы магического круга пепелища поршни, обратил внимание на свои дрожащие руки и только тогда почувствовал, что замерз. Он встал, высматривая что-нибудь годное на дрова, и опять увидел труп Ивана Терентьевича. Поспешно отвернулся — и перед глазами оказался берег. Тот, под которым вода раскачивает второй труп. Нет, он не хочет, не может здесь оставаться, сейчас он соберёт свой скарб и уйдет, убежит! Ольхин поспешно запихал в сетку мешок с золотом, жалкие остатки глухаря, перекинул сетку через плечо, переступил через брусничник на снег — и остановился. Куда он пойдет, в какую сторону? Только два следа вели от костра: к реке, проложенный им вчера и еле различимый сегодня, и отчетливый, оставленный им только что. Оба — к мертвым, а ему нужно было живых, ему необходимы были живые!
Дороги к живым он не знал.
Нет, ее просто не существовало.
Но ведь для Заручьева-то она существовала! Ольхин снова зашелся от ненависти, вспомнив про Ивана Терентьевича. Он втоптал бы его в золу костра, перегрыз горло, за то что тот заставил себя убить, — из подлости, чтобы Ольхин не смог выбраться из тайги!
Так что же, значит, все-таки умирать в тайге?
Ольхин стоял — его сжигало бессильное бешенство — и не замечал, что рыдает от страха перед смертью, а еще больше от боязни тайги, одиночества в ней, из-за невозможности убежать от мертвых. Ну, пусть и он умрет завтра, но ведь можно посидеть у огня, не думая о том, что это завтра наступит, завтра — это еще так далеко! Ольхину вдруг вспомнилась куча дров, собранная им накануне и неиспользованная, почему-то представилось, что она совсем недалеко, рукой подать, почти сразу за этой вот каменной сопкой. Перевалить сопку — и можно чиркнуть спичкой и греться, ни о чем не думая, не видя этого берега и того, что лежит на снегу… Ольхин подхватил упавшую сетку и рванулся к склону сопки, по которому вчера спускался. Не к самолету, не к жилым местам — пока только прочь отсюда!
На вершину сопки он выбрался, тяжело дыша, мокрый. Поднимаясь, сбился со своего вчерашнего следа и не сразу нашел его наверху. Но — нашел, впился в него глазами и уже ничего, кроме следа, не видел, И наверное, потому, что слишком уж пристально вглядывался в оглаженную ветром и снегопадом извилистую канавку, вдруг перестал ее различать. С перепугу решил, что потерял след уже давно, что, может быть, его и не было, следа, примерещился. И только узнав место, где выпугивал вчера тетеревов, увидел и след. Он был у него под ногами, никуда не пропадал, просто глаза устали смотреть на белое. Он зажмурился, чтобы дать им отдых, а потом взглянул в том направлении, где предполагал березничек с заручьевским ночлегом, а чуть дальше — бор, перед которым у него собрано в кучу топливо. И не увидев ни березника, ни бора, а бесконечно широкую, с задымленным туманом краями пойму, понял, что ошибся. Что до того бора с кучей дров целый день пути, а чем дальше он будет двигаться, тем хуже и хуже будет заметен след, пока не пропадет вовсе.
Внизу, под ногами у него, справа, пряталась под сопку, на которой он стоял, река, а слева, в полукилометре от берега, черными пауками расползался по снегу горелый лес. Склон в этом направлении был довольно пологим, и Ольхин поплелся к горелому лесу: там хоть дрова под рукой будут.
С тупым равнодушием человека, выполняющего заведомо бессмысленное дело, вывернул постом в этом лесу прямо с корнями несколько обгорелых деревцов, сложил друг на друга и поджег. Теперь от мертвецов его отделяла сопка — для Ольхина это, хотя он только что перевалил ее, было так же далеко, как другой конец света. И они сразу стали бестелесным воспоминанием, словно кадры давным-давно виденного страшного фильма. Ольхин сидел у огня, над которым висел, сочась жиром, кусок барсучьего мяса, и ждал. Чего-то неопределенного, как бесцельно ждет иногда сидящий в сквере человек, чтобы передвинулась тень дерева на песке.
Перевернув мясо другой стороной к огню, он потянулся к сетке за солью и, выкладывая из нее помешавший добраться до соли тяжелый мешочек из брезента, впервые по-настоящему его разглядел. Сорвав пломбы, засунул внутрь руку и обнаружил второй, совсем маленький и тоже опломбированный. Еще одна пломба полетела в костер, а на зеленый брезент большого мешочка потек тусклый желтоватый ручеек. Ольхин разочарованно фыркнул.
— Золото! — он зачерпнул из ручейка на ладонь, подержал перед глазами. Его не волновал некрасивый текучий песок, даже не верилось, что этот песок — настоящее золото.
Потом он ел барсучье мясо, щедро его присаливая, слизывая с пальцев черный от грязи жир. Отяжелев от сытости, закурил, все-таки испятнав сигарету жиром, хотя пальцы стали после еды чистыми, а он еще вытер их о штаны. И почти сразу же захотелось пить. Ольхин видел в сетке Ивана Терентьевича кружку. Достав, вспомнил, как пил из нее спирт, помечтал, как кстати было бы выпить сейчас, напиться до чертиков, до забвения всего на свете, хотя в этот момент ни о чем не думал, только хотел пить. Он набил кружку снегом и поставил на угли, а память снова вернула его к костру около разбитого самолета, показала спину спящего лейтенанта и забулькала льющимся из бутылки спиртом. Все это как-то по-особенному осветилось и раскрылось, от воспоминания повеяло домашним теплом и спокойным уютом. Точно разбитый самолет и полюбившееся ему место между корней сосны, у костра, и малахольные разговоры фрайеров — все это было не в заснеженной тайге, а в комнате с кисейными занавесками и фикусом на окне. И память уже не смогла остановиться на этом, она повела в такую именно комнату, к столу, застеленному новой блестящей клеенкой. Опять забулькал разливаемый по стаканам спирт, нет — водка тогда была, и сутулый красноглазый старик, дядя по отцу, поднялся над столом, захрипел простуженным басом.
— Значит, с возвращением тебя, племяш. За то, чтоб больше туда не попадал. И считаю, не попадешь, должен теперь соображать, какая она — легкая жисть. Думал без трудов озолотеть, а явился к матке в дырявых портах да казенных заплатах…
Ольхин усмехнулся, точно действительно сидел напротив дядьки, слушал его горькие слова: а ведь озолотел, вон оно, золото… Обменить бы его на денежки — зубные техники, вроде, по червонцу за грамм дают, а тут его… Ольхин уважительно взвесил на ладони мешочек. И представил себя входящим в ту самую комнату с фикусом, хотя знал, что давно живут в ней чужие люди, себя, одетого с ног до головы в наимоднейшие импортные шмотки, а потом не дядьку, а себя же со стопкой в руке, во главе стола, поднимающего тост.
"Значит, за мое возвращение, дядя Гриша, хотя некоторые ошибаются в людях и недопонимают, что Василий Ольхин не такой человек, чтобы горбатиться за восемь червонцев в артели "напрасный труд". Что он может ездить на собственной "Волге" и всю дорогу гулять по ресторанам", — Ольхин сделал паузу — там, за столом, а здесь, около костра, опять подкинул на ладони мешочек со шлихом: а что, разве не хватило бы на машину и веселую жизнь? Вполне хватило бы, да еще сколько осталось бы… И он увидел себя за рулем сверкающей как зеркало "Волги", подруливающего к тротуару, где стоят две шикарные девочки, обе с лицами заграничной артистки Джины Лоллобриджиды, блондинка и черненькая.
"Может, вас подбросить, куколки?" — спрашивает Ольхин и, закуривая сигарету "Тройка", щелкает импортной зажигалкой.
Те, конечно, клюют на "Волгу" и на такого великолепного малого.
"О, это было бы очень кстати", — щебечут они.
На мгновение Ольхин заколебался: черненькую или белую посадить рядом с собой, — и там, в машине, и здесь, около костра, в горелой тайге. Он даже подвинулся на валежине, потеснившись в автомобиле, — и опомнился.
Опомнился, но не захотел расстаться с мечтой. Разве не может быть так на самом деле? Ведь золото не мечта, оно уже у него в руках, оно — его! Ольхин нагреб полную горсть шлиха, пересыпал с ладони на ладонь. Бережно, чтобы не обронить ни одной крупинки, убрал на место, а мешочек туго перевязал куском отрезанного от сетки капрона. Что помешает ему воспользоваться этим кушем? Надо только поскорее выбраться из этой чертовой тайги… а он совершенно забыл, что из тайги ему не выбраться. Это Иван Терентьевич знал, в какую сторону идти. А у лейтенанта был компас, — Ольхин посмотрел на сопку, за которой в реке плавал труп лейтенанта. Ничего не поделаешь, придется снова перебираться через сопку, опять обшаривать мертвого лейтенанта. Ольхин взглянул на небо — скоро или не скоро начнет темнеть, успеет он взять компас и убраться подальше от того места? Успеет вроде бы, сумерками еще не пахнет. Ну, а когда в руках окажется компас, все пойдет как по маслу. Должно пойти: теперь он уже не новичок в тайге, и у него есть железная цель, план. Остальное представлялось мелочами, о которых и думать не стоит прежде времени. Мыслями он снова был уже там, где переливаются разноцветные огни реклам и улыбаются женщины с лицами киноактрис… Он толкнул ногой выкатившуюся из пламени головню, сделал от костра несколько шагов и остановился: послышалось, что лает собака. Конечно, послышалось — он простоял минуту или две, но тишину нарушал только слабый и монотонный шум воды где-то за сопкой. Ольхин начал подниматься по склону, стараясь ступать в собственные следы, хотя снег был неглубоким, когда — на этот раз совершенно отчетливо — снова затявкала собака. Далеко в той стороне, где остался самолет.
— Так. — Ольхин даже не удивился, он как будто все время ожидал этого лая. Следовало ожидать, что, найдя самолет, кинутся искать золото, то есть его, Ваську Ольхина. Он представил себе, как рослая черная овчарка — один раз такая уже работала по его следу — обнюхивает в самолете ветки его постели и, натягивая поводок, тащит проводника наружу. Как идут по белому снегу черная собака и человек в черном пальто, связанные ремнем поводка, собака хрипит, вывалив на сторону красный язык, и жадно хватает оскаленной пастью снег.
— Ну что ж… — Ольхин, закинув голову, посмотрел на сопку: далеко или не очень до вершины? Нужно отделаться от пистолета и золота и уходить на восток или куда угодно. Когда его догонят — скажет, что шел по следам Заручьева, наткнулся на него, мертвого, и больше ничего сказать не может.
И будь что будет.
А если вдруг не догонят…
Завалину можно было и не делать, но он согласился бы не только подгребать снег к бортам самолета — дым разгонять над трубой, лишь бы не находиться в кабине. Общество Анастасии Яковлевны, хотя учительница вчера и сегодня едва ли произнесла десяток слов, стало для него невыносимым. Пилот тяготился молчанием — и робел заговорить, боясь позорной нарочитости того, что скажет. Понимал, что его упорное стремление вой из самолета должно останавливать внимание, и не мог заставить себя оставаться в самолете. Он даже не был уверен, что его подозревают — откуда основания для подозрений, ведь Зорка после его ухода час крутилась в самолете. Но явное нежелание Анастасии Яковлевны разговаривать, неизменное "спасибо, не хочу", когда ей предлагают поесть?..
Кончив с завалиной — пусть, все же тепло не так будет выходить, — пилот помечтал о сигарете, потом о пихтовых лапах в самолете, на которых можно было бы вытянуться, расслабить напряженное, все время помнящее о боли тело, — и только вздохнул. Отшвырнув лист дюраля, которым сгребал снег, он взял лежавшую на плоскости самолета ножовку и отправился заготавливать дрова.
Погода разгуливалась. Впервые после того дня, в который он навсегда, видимо, распрощался с небом, оно очищалось от низких облаков, а заслонившие солнце высокие, казалось, сами источали свет. Когда он с охапкой дров для печки вернулся к самолету, тонкая завеса их неожиданно прорвалась и рядом с ярким солнечным лучом на снег перед ним легла такая резкая тень, что он даже невольно приподнял ногу, словно мог о нее споткнуться. И чтобы не видеть ясного, влекущего к себе неба, без колебаний открыл дверь в самолет!
— Вот, — сказал он, — напилил дров…
Анастасия Яковлевна, не отрываясь от вязания, откликнулась мертвым, без интонаций голосом.
— Да? Представляю, чего это вам стоило.
— Ничего-о! — В самом деле он только пытался бодриться: возня с завалиной и шорканье по сучкам ножовкой вымотали совершенно. — Бок, кажется, болит меньше, и появилась хоть какая-то силенка, охапку хвороста могу принести… — Он хотел сказать этим, что благодаря мясу ожил немного, может позаботиться о дровах, без которых она замерзла бы. Пилоту очень хотелось, чтобы Анастасия Яковлевна поняла его и сказала что-нибудь вроде: "Да, наше счастье, что есть это мясо" или "Да, если бы не мясо, не представляю, что с нами было бы уже".
Но Анастасия Яковлевна молчала.
Расцепив пальцы, он позволил дровам упасть перед печкой, стараясь не гнуть спину, опустился на колени и бросил на уже затянутые пеплом угли несколько палок.
— Дров теперь должно идти меньше, завалина будет удерживать тепло.
— Да?
И все, как будто это для себя он занимался утеплением! Подволакивая ноги, пилот прошел к своей постели, умудрился, не поднимая рук, вылезти из полушубка.
Ложась, подумал, что лапник начал становиться жестким, подсох, надо бы наломать свежего.
— Сегодня, Анастасия Яковлевна, настелю вам свежих веток, помягче.
— Спасибо, мне хорошо и так.
И опять наступило натянутое, как струна, молчание. Слышно было, как потрескивают в печке дрова, — и ничего больше. Пилот, по крайней мере, мог бы поручиться, что ничего, но Анастасия Яковлевна, перестав вязать, стала прислушиваться к чему-то.
— Кажется… Кажется, лает собака?
Она повернула к нему лицо, и пилоту показалось, что даже мертвые глаза ее ожили. Он молчал, чувствуя, как снизу, от ног, по телу ползет страх, а учительница по обыкновению угадала его состояние:
— Да, по-моему, лает. Я не схожу с ума, не бойтесь. Вот… слышите?
Нет, он не слышал. А учительница, словно показывая что-то зримое, вскинула руку — дескать, пожалуйста, убеждайтесь. У пилота не выдержали нервы, он встал и распахнул дверь. К потрескиванию дров примешался было стук дятла, но сразу же смолк. Помедлив с минуту, пилот, чтобы не выносило тепло, закрыл дверь.
— Но ведь я отчетливо слышала, — сказала Анастасия Яковлевна таким тоном, словно пилот обманул ее, отнял или украл этот собачий лай.
Он пожал плечами и вернулся к своему месту. Надеялся, что учительница успокоится, поймет, что ослышалась. Но та снова насторожилась, и по выражению лица пилот догадывался, что она опять слышит что-то. Неужели в самом деле начинает сходить с ума, галлюцинирует? Накинув полушубок, боком, не выпуская Анастасию Яковлевну из вида, пробрался к двери, а выйдя, прислонился к самолету и закрыл глаза. И вдруг понял, что тоже сходит с ума: в напряженной, до звона в ушах, тишине звучал лай собаки.
Открыл глаза — только звон в ушах.
Снова — уже со страхом — закрыл, и опять в красной темноте залаяла собака. Тогда он стал бить себя ладонями по ушам, в голове загудело, забухало, но когда опустил руки и прислушался, тишину ничего не нарушало. Облегченно выругался, на всякий случай набрал в ладонь снега и приложил ко лбу. Теперь он просто боялся возвращаться в самолет, только и не хватает, глядя на Анастасию Яковлевну, самому рехнуться. Но ведь не ночевать же у костра! Пилот, вздохнул и, помедлив еще несколько минут, открыл дверь.
— К сожалению, Анастасия Яковлевна, вы все-таки ошиблись, — заговорил он ватным голосом. — Бывает, что слышится и даже видится такое, о чем много думаешь… — И вдруг челюсть у него отвисла: бесцеремонно толкнув его под колено, в самолет протиснулась лохматая рыжая собака и, брякая копями по металлу пола, шумно втягивая воздух, стала обследовать кабину.
— Зорка? — услышав характерное бряканье когтей, задохнулась единственным словом Анастасия Яковлевна.
Собака мимоходом ткнулась холодным носом в ее руку, обнюхала упавший с колен учительницы клубок и, протиснувшись между дверью и ногой пилота, выскользнула наружу. Он даже не посмотрел ей вслед, не удостоверился, что она не примерещилась, — он не сводил глаз с Анастасии Яковлевны.
Слепая учительница сидела, запрокинув лицо, а по щекам ее одна за другой скатывались слезы.
— Какой живой человек есть? — раздалось очень громко и очень близко.
И снова та же собака, так же по-хозяйски, безбоязненно вбежала в самолет, и следом за попятившимся пилотом ввалился тоже лохматый, в шкурах, человек. После сверкания в солнечных лучах ослепительно белого снега и голубого неба он близоруко сощурил и без того узкие глазки, разглядел в кабине людей, заморгал, заулыбался. И, повернувшись к распахнутой двери, заорал, приставив ко рту ладони:
— Ого-го-го-гой, е-есть живой! Е-есть! — И, оттолкнув ногой собаку, сказал находящимся в самолете: — Однако не услыхать будет, далеко, однако, отстал, тихо идет.
Пилот, забыв о разорванной щеке, что говорить надо только половиной рта, брызгая слюной, зашепелявил что-то совершенно неразборчивое. Анастасия Яковлевна, наступив на уроненную шубу, стояла неестественно прямая, зажмурив невидящие глаза так, что казалось, к вискам бегут не морщины, а трещины.
— Все совсем живой? — спросил человек в шкурах, но не стал ждать ответа, затараторил: — Я шибко шел, соболя не стал следить, однако, за ключом. Орон опять соболя нашел, — он не то снова оттолкнул собаку, то ли хотел показать движением ноги, кто нашел соболя. — Я думал, уже живой человек нету, все мертвый, так меня ваш человек пугал…
Пилот вдруг опустился на пол, словно сами собой подогнулись ноги, и, спрятав лицо в ладонях, заплакал. Хозяин собаки посмотрел на него растерянно и любопытно, заговорил как с ребенком:
— Зачем плачешь? А? Веселым быть надо — теперь помирать не будешь. Смотри — вон баба не плачет, смеется над тобой баба, разве так ладно? Давай лучше, курить будем, кушать будем…
Пилот нервно дернулся, изо всех сил стиснул зубы — и болезненно застонал. Когда боль в разбитой челюсти утихла, попросил:
— Закурить…
Человек достал кожаный залоснившийся кисет с махоркой и трубку.
— Есть бумага, — прошепелявил пилот. И, опираясь на руки, стал медленно подниматься.
— Давай бумага — даем табак, тогда я трубку закурим, — весело согласился человек. Пальцы его закопошились в кисете, а быстрые глаза забегали по кабине, остановились на стоявшем около печки ведре. Ноздри приплюснутого носа, по-звериному шевельнувшись, втягивали воздух. — Ваш человек говорил, совсем вам есть нечего, совсем смерть, скорей еду нести надо — а гляди, сколько мяса. Однако не понимаю, кого добывали: не ушкан, росомаха, может? — Он снова повел ноздрями.
— Собака это, — ровным, но необычайно низким голосом сказала Анастасия Яковлевна.
Пилот встал, а человек в мехах одобрительно закивал Анастасии Яковлевне:
— Собачье мясо хорошее, особенно когда мороз. Наши люди, эвенки, стариков собачьим мясом кормили, тогда старики долго молодой были…
Газету пилот видел под ветками заручьевской постели, к ней надо было пройти мимо Анастасии Яковлевны. И он пошел, заставив себя смотреть ей в лицо, как идут на казнь, считая ее заслуженной. И в этот раз так и не вспомнил, что учительница слепа, казалось, будто она может видеть его лицо, даже когда он стоит спиной к ней.
Свернув папиросу, прикурил от зажженной эвенком спички, закашлялся: успел отвыкнуть от табака.
— Ваш человек совсем ума нету, как сохатый осенью, бешеный такой, — продолжал болтать гость, по-хозяйски располагаясь на постели пилота: уселся, сиял через голову доисторическую меховую одежину вместе с шапкой, вытащил из очень современного, с надписью "Динамо" в рамочке под целлофаном рюкзака початую плитку чая, кружку и кожаные мешочки с чем-то. — Говорит: скоро-скоро идти надо, пока два люди может быть живой. А куда идти? — Он вопросительно поднял брови, развел руками. — Куда идти — сам не знает. Хорошо, что Орон, — эвенк ткнул мундштуком трубки в собаку, — немножко дорогу понимает, хотя молодой, а ваш парень потом сказал: старый костер есть, ключ есть, чум вроде был… Однако, если посуда нет, в моем котелке можно чай ставить, ваш человек сильно устанет, тоже чай надо, — явно не помышляя сам заниматься приготовлением чая, эвенк отставил от себя, через плечо глянув на пилота, чумазый жестяной котелок. — Я спрашиваю: крутой сопка ниже по ключу есть? Такой, что так смотреть надо. — Он запрокинул голову к потолку. — Ваш парень говорит: есть, есть. Я говорю: тогда ладно, Николай Тыннов — это я — дорогу найдет, Орон тоже дорогу найдет, наши места, ключ Оленьим называется… Однако, чай греть надо, снег иди набирай в котелок, раз гость пришел, — не изменил интонации. Тыннов, но строго посмотрел на пилота. — Как ты не понимаешь?
Он замолчал, только трубкой посапывал, пока пилот покорно ходил за снегом. Дождавшись его возвращения, предупредил:
— Один раз мало, еще и еще надо. Снегу много — воды совсем немножко будет, бурундуку не хватит, а бурундук какой? Во! — ногтем большого пальца эвенк отчеркнул половину мундштука трубки, продолжая рассказ. — Гляжу — совсем ваш человек глупый, старики не учили, как разговаривать. Сначала чай пить надо, потом — как охота, спросить, потом новости рассказать, если к огню сел. Так? — спросил он пилота и сам ответил: — Правильно, так. А ваш человек как? Ай-яй-яй…
Совсем порядка не знает! Чай не пьет, говорит: давай иди, где ключ и крутой сопка, два человека спасать. Сейчас иди, сразу. Николай Тыннов — это я — говорит: сразу нельзя, темно скоро будет, и утром сразу нельзя, Орону соболя сначала искать нужно, свежий след есть. Тогда ваш человек берет маленькое ружье наган и кричит плохие слова — зачем?..
— Лейтенант! — вырвалось благодарно у пилота. — Это лейтенант, если пистолет…
Эвенк посмотрел на него укоризненно:
— Я — гость, сначала мне говорить надо, разве и тебя старики не учили? Тогда ладно, говори ты, я молчать буду.
— Владимир Федорович, разве не все равно кто? — вмешалась тихо и грустно Анастасия Яковлевна. — Лейтенант, или Иван Терентьевич, или даже… тот парень? Любой попытался бы сделать для нас все возможное. Прекрасно, что одному из них это удалось. А еще двое?
— Один, — сказал пилот. — Иван Терентьевич. Второй не заикнулся бы о нас и обегал бы людей, так что если погибнет в тайге, то собаке с… собачья с… смерть. — Он спохватился, уже произнося это, и не мог не досказать, но хуже было не досказывать.
Губы учительницы дрогнули: не то она собралась улыбнуться, не то заплакать. Не произошло ни того ни другого, она просто промолчала.
Пилот встал.
— Да, — сказал он, — чай… Простите, я схожу за светом еще…
Вернувшись, поставил опять котелок на печку и подбросил дров. Эвенк постучал по железу печки коричневым от табака пальцем, окинул внимательным взглядом трубу и удовлетворенно кивнул:
— Однако хорошо придумали. Себе потом заберу, ладно? Балаган из березовой кожи сделаю, поставлю туда, когда буду приходить за соболем, совсем дров мало надо. — Он обратил внимание, с каким трудом распрямляет пилот спину, горестно зацокал языком. — Однако тебе ногами тоже по тайге не пройти, оленей и нарту надо. Тебе нарту, бабе нарту, целый аргиш надо. Когда Николай Тыннов пушнину добывать будет? За оленями на стойбище бросай три дня, обратно с оленями один день и еще полдня… Плохое место ты выбрал машину ломать… дороги никакой нету, люди отсюда далеко, хорошо я за соболем пришел, верно? — лукаво взглянул эвенк на пилота и замолчал, прислушиваясь. — Однако идет ваш парень, сейчас его ругать буду…
— Да, — подтвердила Анастасия Яковлевна, — идет! — Ее неподвижные зрачки были устремлены не на дверь, а в хвост самолета, глаза молчали, но лицо выражало нетерпение именно увидеть входящего.
Дверь открылась. Человек, как и Тыннов до него, приостановился на пороге, как будто граница между ярким освещением снаружи и рассеянным светом внутри самолета была вещной, хотя и невидимой — как стекло.
— Т-ты? — услышала Анастасия Яковлевна растерянный вопрос пилота. — В-вы?
Происходило что-то неожиданное — так не встречают людей, которым надо бросаться на шею.
— Кто это? — с тревогой спросила Анастасия Яковлевна. — Владимир Федорович, кто пришел?
Пилот не ответил.
Но в тревожной тишине зазвучала, сразу притупив тревогу, забавная, как детский лепет, скороговорка эвенка:
— Пришел? А голова у тебя есть, глаза у тебя есть? Смотри: оба живой, оба теплый, полный ведро мяса — это что? Наверно, Николай Тыннов гриб мухомор ел, видит, чего нет? Зачем ты мне скорей-скорей кричал, соболя не давал убить, когда Орон его нашел? Два соболя пропадали! Дурной ты человек! — Эвенк гневно махнул рукой. — Дурак!
Ольхин все еще стоял в проеме двери. Он ждал не такого приема-ведь спасал этих людей от голодной смерти, ему ноги должны целовать, плакать от радости! Ради чего, спрашивается, он отказался от единственного в жизни законного фарта, нахально лезущего в руки счастья?
— В цвет угадал, корешок, — сказал он с горькой усмешкой эвенку. — Точно, дурак! Чокнутый молью! Рогатик!
— Господи, так это — вы! — радостно выдохнула вдруг Анастасия Яковлевна и, от волнения, шагнула не к двери, не к Ольхину, а к печке, и остановилась, потеряв ориентировку. — Как хорошо, что именно вы…
Ольхин увидел ее лицо — счастливое, словно бы освещенное изнутри — и вспомнил, что ничего этого не было. Ни жертвы красивой жизнью, ни решения повернуть к самолету ради кого-то. Там, на сопке, когда он взглянул вниз, туда, где должен был взять компас, и еще дальше, на уходящую в бесконечность тайгу, — ему вдруг опять стало до дрожи холодно, словно уже прикоснулся к мертвецу. И единственный шанс спастись — немедленно, сейчас, оказаться среди живых. Это тогда подумал он о самолете и людях в нем, потому что к ним было ближе и вела дорога — след, проложенный человеком с овчаркой на поводке. Потому что невмоготу стало без людей и потом невмоготу будет среди людей — без их тепла. Этому научила, нашептала ему пустыня тайги — тихонько, на ухо, и он повернул назад, навстречу человеку с собакой, знающему самую короткую дорогу к людям. Чтобы сказать: делайте что хотите, только не гоните прочь. Потом, оттаяв около этого человека, оказавшегося совсем другим, понял, что, спасая себя, может спасти еще двоих.
— Ладно, — сказал он, — колода разобрана. У всех свои козыри. Теперь толкуйте с ним, — ой движением головы показал на эвенка. — Насчет транспортных расходов и всего прочего. Понятно?
Он посмотрел на пилота — и встретил слепое лицо зрячего. Пилот молчал: "собаке собачья смерть" сказал он недавно. Но Ольхин по-своему понял его молчание. Он движением плеча сбросил сетку, запустил руку в нее и шмякнул о нол тяжелый брезентовый мешочек.
— Вот, можете взять на сохранение без расписки, — сказал он и толкнул мешок ногой. — Разъяснения буду давать на следствии, вы, по-моему, не уполномочены. Меня эта падлюка умотала до того, что ноги не держат. И замерз, как собака. — Ольхин снова пнул золото, стряхнул с ног сапоги, снял прожженную в нескольких местах телогрейку и, потеснив эвенка, лёг. — Со всеми вопросами обращайтесь к моему корешку Николе, а я вырубаюсь. Считайте, что минут на шестьсот умер.
— Молчи, слушать надо! — сказал эвенк и сам наклонил голову на плечо.
— Кажется, что-то каплет, течет… — сказала Анастасия Яковлевна.
— Нет, слушай еще, — покачал головой эвенк.
Теперь все услышали низкое, нарастающее гудение, и пилот, забывая, что не может делать резких движений, бросился к двери распахнул ее, запрокинул к небу лицо.
И совсем не там, куда он смотрел, из-за освещенных солнцем зеленых вершин сосен выдвинулся показавшийся громадным маленький четырехкрылый самолет, тоже зеленый, задвинулся за другие сосновые вершины и, видимо, сделав круг, снова проплыл над головой пилота, покачивая крыльями. Теперь он летел так низко, что казалось, вот-вот заденет лыжами сосны. Было видно, как через борт его перевешивается голова в шлеме, как ослепительно вспыхивают, отражая солнечный свет, очки летчика. И как отделяется от самолета что-то ярко-красное и падает за вершинами самых ближних сосен.
— Вымпел! — закричал, разорвав начавшие подживать губы, пилот и, не обращая внимания на боль, бросаясь к месту падения, еще громче крикнул оставшимся в самолете: — Вымпел сбросили, пор-рядок!
Эвенк поднялся, стал облачаться в свои шкуры.
— Хорошо, оленей теперь вести не надо, теперь другой самолет прилетит, который так крутит, — он поднял над головой руку и кругообразными, широкими движениями медленно поводил в воздухе коричневым пальцем с черной каемкой ногтя.
1967–1968
1
Это не опечатка — такая фамилия (прим. книгодела)