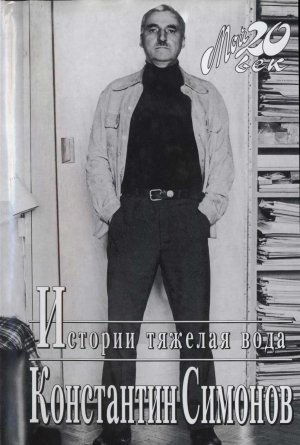
Возвращаясь к пережитому. О мемуарной прозе Константина Симонова
Первые стихи Константина Симонова были напечатаны во второй половине тридцатых годов, сейчас уже приходится добавлять — прошлого века. На молодого поэта сразу же обратили внимание, тем более что пора в литературе была тогда не очень урожайная. В нем увидели одну из самых ярких фигур нового, еще неведомого литературе поколения. Как заметил тогда Константин Паустовский, Симонов был «одним из первых талантливых поэтов — ровесников Октября, представлявших в литературе «молодых людей социалистического времени». И едва ли не как о главной черте молодого поэта говорили о присущем ему остром чувстве современности. То, что две самые крупные работы Симонова тех лет — поэмы «Ледовое побоище» (1938) и «Суворов» (1939) — и некоторые стихотворения («Поручик», «Английское военное кладбище в Севастополе») посвящены истории, в расчет не принималось, вернее, истолковывалось в том же духе — как своеобразное преломление неотступных тревожных раздумий о том, что нас не сегодня завтра ожидает. Впрочем, он и сам так считал. На обсуждении «Ледового побоища» в 1938 году Симонов говорил: «Желание написать эту поэму у меня явилось в связи с ощущением приближающейся войны. Я хотел, чтоб прочитавшие поэму почувствовали близость войны и что за нашими плечами, за плечами русского народа, стоит многовековая борьба за свою независимость». Позднее он снова повторил это: «Думая о предстоящей вооруженной схватке с фашизмом, некоторые из нас обращали взгляды в русскую историю, и прежде всего в военную историю нашего отечества. Размышлениям на эту тему были посвящены в предвоенные годы мои поэмы «Ледовое побоище» и «Суворов»… Работа над ними была тогда существенной частью моей нравственной жизни». В общем, нет ничего удивительного, что в его сознании и в сознании тех, кто писал тогда о его исторических поэмах, история воспринималась лишь как своеобразный, но вполне закономерный повод высказаться о современности, которая становилась все более тревожной и грозной…
Я же вспомнил об этих ранних опытах обращения Симонова к материалу истории для того, чтобы сказать, что они были для него первой, но все-таки существенной школой историзма, без которого в его трилогии «Живые и мертвые» было невозможно правдивое освещение событий великой войны, участником которой он был.
И не менее важен был историзм для его мемуарной прозы. И тогда, когда его целью, как в книге «Далеко на Востоке», было повествование о «малой войне», первой, в которой довелось ему участвовать (о военном конфликте с Японией на Халхин-Голе в 1939 году). И тогда, когда во фронтовых дневниках он писал о войне великой — с гитлеровской Германией (дневники увидели свет в двух томах под названием «Разные дни войны»). И тогда, когда рассказывал о пятимесячной командировке в только что проигравшую войну Японию («Япония. 46»).
По жанру все названные произведения — «путевые заметки». И в этом качестве они близки тем первоначальным — по ходу событий — записям писателя, которые были их основой. Думаю, что это был сознательный выбор Симонова, стремившегося сохранить и передать читателям живую плоть своих непосредственных впечатлений и оговаривавшего, что комментарии и попутные замечания, если они у него возникали, рождены другим, более поздним временем, другим опытом.
По-иному написаны «Глазами человека моего поколения», иную задачу ставил перед собой автор, но об этом речь впереди…
В 1971 году, когда он уже почти совсем забросил стихи, Симонов написал стихотворение, последняя строка которого не случайно дала название этой его книге воспоминаний. Мысль, выраженная в нем, была для него очень важна, не давала тогда ему покоя, потому стихотворение вдруг и написалось. Оно о том, что не надо принимать тонкий лед, едва — едва покрывающий реку, за ее глубинное течение: надо помнить о текущей подо льдом «тяжелой воде истории». Она, эта «тяжелая вода», определяет главное в жизни общества и судьбе людей.
Именно тут ключ к воспоминаниям Симонова — вне зависимости от того, пишет ли он о событиях, очевидцем которых был, или о людях, с которыми его сводила судьба…
И вот что еще непременно следует иметь в виду. Время, когда создавались мемуарные очерки Симонова, было трудное, порой уродливое, оно не давало автору возможности рассказать обо всем, что он знает и думает, на пути стояла бдительная цензура — главлит, главпур, ЦК на Старой площади, — решительно пресекавшая попытки как-то выйти за пределы дозволенного. Конечно, у тех читателей, которые — кто по молодости лет, кто из-за ослабевшей памяти — имеют весьма смутное, а то и превратное представление о былых временах и государственных нравах, эта мысль может вызвать недоумение: неужели и Симонову доставалось от цензуры? Баловень судьбы, обладатель одного из самых громких литературных имен, многажды лауреат, в тридцать лет один из руководителей Союза писателей и депутат Верховного Совета СССР — неужели и ему цензура чинила препятствия? Вот что нужно заметить по этому поводу. Популярность Симонова — фронтового корреспондента, драматурга и особенно поэта — была в годы войны невиданной. Последовавшее за этим официальное признание шло вслед за читательским успехом — славу Симонову сделали не власти, он завоевал ее своими произведениями, власти же решили, выдвигая и награждая его, ее присвоить, поставить себе на службу. Но благосклонность властей враз кончалась, едва писатель, каким бы высоким ни было отведенное ему до этого место в официальной иерархии признанных и удостоенных, касался в своих произведениях той правды, которая по каким-то причинам расценивалась власть имущими как нежелательная или зловредная. Писателя ставили на место, воспитывали, наказывали. Все это полной мерой отведал и Симонов.
Со всей остротой конфликт с цензурой, с властями, все разраставшийся и преследовавший писателя до самой его кончины, возник, когда на смену Хрущеву пришел Брежнев и в стране началась «ресталинизация». А Симонов чем дальше, тем решительнее отвергал пронизывавшую всю нашу жизнь сталинщину, ее порядки и нравы, особенно безобразно сказывавшиеся и особенно ощутимо задевавшие его в истолковании горьких событий Великой Отечественной войны. Тут надо сказать, что о чем бы и о ком бы ни писал Симонов (в том числе и в своих мемуарных очерках), главным предметом его размышлений и воспоминаний, основополагающей их исходной точкой неизменно была война. Не случайно в одном из вьетнамских своих стихотворений он написал: «Всё рифмы какие-то слышатся / Оттуда, из нашей войны». О войне он вспоминал, рассказывая о своих встречах с Буниным в Париже: «…я понаслышке уже знал про абсолютно безукоризненное поведение Бунина в годы немецкой оккупации, слышал, что он категорически отказался хотя бы палец о палец ударить для немцев. Для меня, только что пережившего войну, это было главным оселком в моем отношении к людям». Вспоминая о встречах с Хикметом, Симонов, конечно же, упомянет, что в годы мировой войны турецким поэтом была создана «удивительная поэма «Зоя», написанная в турецкой тюрьме, о русской девушке, повешенной среди подмосковных снегов немецкими фашистами». Война оказалась в его жизни ни с чем не сравнимым потрясением, не зря он как-то заметил, что «человек, всерьез заслуживающий этого названия, живет после войны с ощущением, что перенес операцию на сердце». Именно с таким чувством он и жил…
Продолжу, однако, разговор о «любезностях» цензуры, с которыми сталкивался Симонов. Не стану здесь подробно рассказывать о многолетней борьбе за издание дневников «Разные дни войны» — очень уж длинная, многоступенчатая и мучительная это была история. Первая часть дневников сорок первого года — «Сто суток войны» — должна была появиться в трех номерах «Нового мира» за 1967 год. Однако, набранная и сверстанная, света она так и не увидела. Обращение Симонова «на самый верх» успехом не увенчалось, поддержки он не получил, его даже не удостоили ответом. Мало того, само название этой вещи было занесено в черный, проскрипционный список главлита — любое упоминание о нем в печати было запрещено.
Еще пример — «Заметки к биографии Г. К. Жукова». Симонов начал писать их по просьбе своего друга, в войну редактора «Красной звезды» генерала Ортенберга, для сборника, который генерал составлял. Но после запрета «Ста суток войны» Симонов написал Ортенбергу: «До получения твоего письма я колебался только в одном: продолжать ли мне эту работу именно сейчас или отложить ее на некоторое время в связи с тем, что, очевидно, она — при нынешнем отношении к истории — скорей всего, все равно будет лежать в ящике письменного стола… Не надо тешить себя иллюзиями. Такого рода работа — а никакую другую мне делать неинтересно, да я и просто не смогу — при нынешнем, подчеркиваю, отношении к истории света не увидит. Поэтому я и сигнализировал тебе, что для проходимого через нынешнюю обезумевшую цензуру очерка надо срочно искать другого автора… Если бы вдруг случилось чудо и цензура наша образумилась, то тогда другое дело — такая вещь, конечно, могла бы быть напечатана. Но надежд на такое изменение нравов у меня что-то мало». Симонов все-таки дописал заметки о маршале Жукове, но мрачное предчувствие не обмануло его — свет они увидели, когда в живых уже не было ни Жукова, ни Симонова. Кстати, замечу попутно, что некоторые переклички в заметках о Жукове и в «Далеко на Востоке» возникли потому, что эти вещи писались отдельно, самостоятельно, независимо друг от друга.
Еще примеры на ту же тему… Последний абзац воспоминаний Симонова о Бунине, напечатанных в «Литературной России» 1 июля 1961 года, при последующих публикациях этого очерка цензурой категорически снимался. Именно по этой причине Симонов был вынужден их переименовать — «Из записей об И. А. Бунине», чтобы дать понять читателям: очерк печатается не полностью. В настоящей публикации этот текст, набранный для ясности курсивом, восстанавливается, как восстанавливается и первоначальное название очерка.
Таким же образом в мемуарном очерке Симонова об Эренбурге восстанавливается еще одна цензурная купюра (на нее указал исследователь творчества Эренбурга Б. Фрезинский).
Уход из жизни Александра Твардовского, у которого перед этим, после долгой травли, отобрали «Новый мир», Симонов, не раз выступавший в защиту журнала и его главного редактора (разумеется, эти выступления не печатались), воспринял как большую общественную и личную беду. Симонов высоко ценил стихи Твардовского, возглавил комиссию по литературному наследию после его кончины и много сделал для издания его произведений, преодолевая сопротивление властей предержащих. Этими горькими чувствами пронизаны воспоминания Симонова о Твардовском, которые он отдал в свое время в журнал «Вопросы литературы». И он, и редакция полагали, что в предназначенном для специалистов журнале они «пройдут» (характерное слово, обыденное в литературной жизни той поры) через цензурные рогатки. Но не тут-то было. Воспоминания были задержаны главлитом, оттуда переправлены в ЦК. Рукопись буквально исполосовали, в ней оказалось большое количество зияний и шрамов от пристального цензорского внимания — надзирающие за литературой в оба глаза следили за тем, что писали о Твардовском: «чуяла кошка, чье сало съела», боялись, что приоткроется, как они травили «Новый мир» и сживали Твардовского со свету. И Симонову, как и в случае с очерком о Бунине, пришлось, предупреждая читателей о сокращениях и потерях, также переименовать этот очерк — «Несколько глав из записей об А. Т. Твардовском». Для настоящего издания мы, благодаря любезности наследников Симонова, получили хранящийся в их архиве первоначальный экземпляр очерка — тот, который он представил в «Вопросы литературы», его мы и печатаем. Как и в воспоминаниях о Бунине и Эренбурге, здесь тоже курсивом восстанавливается все, запрещенное цензурой. Восстановлено и название очерка — «Таким я его помню…».
В общем, цензурные бесчинства той поры похожи одно на другое: все делалось по давно и хорошо отработанной исполнителями «указаний» колодке. За всем этим и стоял страх властей перед «истории тяжелой водой»…
Стоит сказать о том, что Симонов планировал выпустить сборник своих воспоминаний, подобный тому, который читатель держит сейчас в руках, дополнив его новыми мемуарами. В одном из последних интервью он рассказывал: «Сейчас занялся своим литературным архивом. Хочу написать и, очевидно, напишу в дополнение к тому, что у меня уже написано, книгу воспоминаний. Причем особенность этой книги будет заключаться в том, что в большинстве случаев — не всегда — она будет опираться на переписку с литераторами, о которых я буду писать… Я даже когда-то первоначально для такой книги придумал название — «Пачка писем». А потом мне почудилось, что в этом немножко что-то дамское есть, и отказался. Но названия другого, кроме «Книга воспоминаний», пока не придумал».
Но этот замысел он отложил до другого, более позднего времени, которое, увы, не было ему отпущено. Он уже очень плохо себя чувствовал и взялся за другую работу, которая казалась ему более важной, отвечающей его стремлению той поры привести в порядок то, что болело, то, что он хотел объяснить людям, но прежде всего сам хотел в этом разобраться, это было жгучей душевной потребностью. Весной 1979 года, за несколько месяцев до смерти, Симонов продиктовал свою последнюю работу — «Глазами человека моего поколения». У нее есть еще один заголовок — «Размышления о И. В. Сталине» (на эту тему он собрал очень важный материал — записал полные ценных исторических свидетельств беседы с маршалами Василевским и Коневым, адмиралом Исаковым). Впрочем, я не уверен, что он этот замысел осуществил бы, не уверен, потому что то, что написано, — это рассказ о своей жизни, Сталин возникает там в нескольких эпизодах встреч с писателями как оказавшийся в поле зрения автора исторический деятель, но увиден он автором с беспощадной ясностью на этом — раз в год устраиваемом вождем — показательном «театре одного актера», где, как во всей его зловещей деятельности, тоже проявлялись его иезуитство, жестокость, садизм: в назидание присутствующим одних он наказывал, других миловал, поощрял… Но пишет в записках Симонов о себе. Конечно, и прежде он тоже присутствовал в воспоминаниях, но как «боковая», «служебная» фигура; в этих же заметках он в центре повествования, главный их персонаж.
Так уж сложилось, что из-за болезни Симонов не успел вычитать и выправить рукопись «Глазами человека моего поколения»; публиковать ее пришлось мне. Разбирая в архиве Симонова оставшиеся после него рукописи, я наткнулся на заметки к задуманной им пьесе «Вечер воспоминаний». Очевидно, писались они незадолго до мемуаров «Глазами человека моего поколения» — автору и в том, и в другом случае не давали покоя одни и те же мысли и чувства. Мне они помогли яснее понять суть размышлений писателя о времени и о себе (точнее было бы говорить не о размышлениях, а о суде над самим собой).
В задуманной Симоновым пьесе врач назначает герою опасную, рискованную операцию, до нее остается какое-то время, и герою приходится решать, на что он должен использовать это уходящее, ограниченное, ставшее вдруг драгоценным время: «Что успеть? Состояние духа не такое, чтобы начинать что-то новое. А вот биография, с которой ко мне приставали, действительно не написана. Вот ее и надо, наверное, сделать. Пусть останется хотя бы черновик — в случае чего».
Со странным чувством читал я все это, словно бы Симонов угадал свой приближающийся конец — как все будет, перед каким выбором поставит его жизнь, что заставит решать, когда сил останется совсем мало. Так оно и случилось: когда болезнь заставила его выбирать, выбор этот пал на работу, представляющую расчет с собственным прошлым.
Сразу же надо сказать, что, приступая к запискам «Глазами человека моего поколения», Симонов не собирался предлагать их для печати, как говорили тогда, «писал в стол», потому что на собственном горьком опыте убедился: в обозримом будущем эту вещь напечатать не удастся. Это определило степень серьезности поставленных в ней проблем и предельный уровень откровенности автора.
Еще один отрывок из его заметок о задуманной пьесе «Вечер воспоминаний»: «В ней, — писал Симонов, — должно быть сразу четыре моих «я». Нынешний «я» и еще трое. Тот, каким я был в пятьдесят шестом году, тот, которым я был в сорок шестом году, вскоре после войны, и тот, которым я был до войны, в то время, когда я только — только успел узнать, что началась гражданская война в Испании, — в тридцать шестом году. Вот эти четыре моих «я» и будут разговаривать между собой… Сейчас при воспоминаниях о прошлом мы никак не можем удержаться от соблазна представить себе, что ты тогда, в тридцатых или сороковых годах, то, что ты тогда не знал, и то, что тогда не чувствовал, приписывать себе тогдашнему сегодняшние твои мысли и чувства. Вот с таким соблазном я вполне сознательно хочу бороться, во всяком случае, попробовать бороться с этим соблазном, который часто сильнее нас».
Сформулированный таким образом принцип историзма стал призмой, через которую рассмотрены в «Глазами человека моего поколения» события и люди и прежде всего прожитая самим автором жизнь. Симонов хотел выяснить, докопаться, почему до войны и в послевоенную пору он поступал так, а не иначе, почему так думал, к чему тогда стремился, что и как менялось затем в его взглядах и чувствах. Не для того, чтобы подивиться неожиданным капризам памяти, ее небескорыстному отбору — приятное, возвышающее нас в собственных глазах она хранит цепко и охотно, к тому, чего мы сегодня стыдимся, что не соответствует нашим нынешним представлениям, старается не возвращаться, и нужны немалые душевные усилия, чтобы вспомнить и то, что вспоминать не хочется. Оглядываясь на прожитые нелегкие годы, Симонов старается быть справедливым и нелицеприятным и к самому себе: что было, то было, за прошлое — ошибки, заблуждения, малодушие — надо рассчитываться. Симонов судит себя строго. Чтобы показать это, приведу один характерный отрывок из его заметок о пьесе «Вечер воспоминаний», где он пишет о том, к чему прикасаться было особенно больно, что свидетельствует о том, что и ты разделял представления, которых нынче стыдишься. Они были тогда общеприняты, за ними стояло государственное одобрение. Ты в них непосредственно не участвовал, но принимал их, считал тогда само собой разумеющимися. В этом отрывке есть, несомненно, и определенный автобиографический момент — иначе он не жег бы так автора…
«Нынешнему кажется, — писал Симонов, — что он всегда считал преступлением то, что было сделано в сорок четвертом году с балкарцами, или калмыками, или чеченцами. Ему многое надо проверить в себе, чтобы вспомнить, что тогда, в сорок четвертом, или сорок пятом, или даже в сорок шестом, он думал, что так оно и должно было быть. Что раз он слышал от многих, что там, на Кавказе или в Калмыкии, многие изменили и помогали немцам, то так и надо было сделать. Выселить — и всё! Ему не хочется вообще вспоминать сейчас о своих тогдашних мыслях на этот счет, да он и мало тогда думал об этом, по правде говоря. Даже странно подумать, что он мог тогда так мало думать об этом.
А тогда, в сорок шестом году, именно так и думал, не очень вникая в этот вопрос, считая, что все правильно. И только когда он сам сталкивался — а у него был такой случай — с этой трагедией на примере человека, который всю войну провоевал на фронте, а после этого, высланный куда-то в Казахстан или Киргизию, продолжал писать стихи на родном языке, но не мог их печатать, потому что считалось, что этого языка больше не существует, — только в этом случае поднималось в душе какое-то неосознанное чувство протеста».
Не секрет, конечно, что Симонов в данном случае имеет в виду Кайсына Кулиева. И стоит справедливости ради сказать, как в ту тяжкую пору Симонов выглядел в глазах Кулиева. Через много лет после этого, когда минули трагические, черные времена для Кулиева и его народа, он писал Симонову: «Помню, как приходил к Вам снежным февральским днем 1944 года в «Красную звезду». На стене у Вас висел автомат. Это были самые трагические для меня дни. Вы это, конечно, помните. Вы отнеслись ко мне тогда сердечно, благородно, как полагается не только поэту, но и мужественному человеку. Я помню это. О таких вещах не забывают».
Я привел это письмо Кулиева не только потому, что, когда речь идет об автобиографических мотивах, справедливость требует щепетильной точности. Главное — в другом. Мнение Кулиева помогает понять степень беспощадности отношения Симонова к прошлому, даже в тех случаях, когда его личной вины в происходившем не было. Не участвовал, но без снисхождения осуждает себя за то, что когда-то, не задумываясь, принимал на веру, соглашался, а это было ложью. Не так часто встречаются люди, способные допрашивать свое прошлое с подобной беспощадностью.
Не надо думать, что в «Глазами человека моего поколения» это одномоментная вспышка чувств — вдруг осенило, вдруг открылись глаза. Нет. Он давно к этому шел, давно не давало ему покоя желание проверить былое — и то, что было вокруг всех нас, и то, что тяготило его собственную душу.
В день своего пятидесятилетия, выслушав множество юбилейных речей, в которых его, естественно, всячески превозносили, он вдруг сказал в конце праздничного вечера: «Я хочу просто, чтобы присутствующие здесь мои товарищи знали, что не все мне в моей жизни нравится, не все я делал хорошо, — я это понимаю, — не всегда был на высоте. На высоте гражданственности, на высоте человеческой. Бывали в жизни вещи, о которых я вспоминаю с неудовольствием, случаи в жизни, когда я не проявлял ни достаточной воли, ни достаточного мужества. И я это помню». Я хорошо запомнил, как была встречена эта столь неожиданная для чествуемого и возносимого юбиляра речь. Но Симонов не только откровенно сказал тогда о том, что бывал не на высоте, о том, что его тяготит, но и сделал потом из этого для себя самые серьезные выводы, извлек уроки и старался, что мог, исправить. Один из этих трудных уроков для себя — «Глазами человека моего поколения». Читая их, стоит помнить о том, как нелегко и непросто человеку себя судить, кажется, нет более трудной, более мучительной душевной работы. Далеко не каждый за нее берется, редко кому она под силу. И надо уважать мужество тех, кто, как Симонов, отважился на такой суд, без которого невозможно очищение нравственной атмосферы в обществе.
Большая часть мемуарных очерков Симонова была написана в серые, мрачные «застойные» годы, когда торжествовала официозная «мифология», когда не верилось, что этому наступит когда-нибудь конец: казалось, задушат правду — и даже потомки наши не узнают, что же было на самом деле. В эту пору Симонов получил печально тревожное письмо, автор которого был в полном унынии от распространяющейся фанфарной лжи о нашей истории, прежде всего истории войны.
Отвечая на это откровенное, печальное письмо, Симонов писал: «Я менее пессимистически настроен, чем Вы, в отношении будущего. Думаю, что правду не спрячешь и история останется подлинной историей, несмотря на различные попытки фальсифицировать ее — главным образом при помощи умолчаний… Хотелось бы добавить: поживем — увидим, но поскольку речь идет об отдаленных временах, то мы уже не увидим. Однако думаю, что будут верить как раз тому, что ближе к истине. Человечество никогда не было лишено здравого смысла. Не лишится его и впредь».
Надежды свои на то, что история все-таки станет подлинной историей, Симонов связывал с отдаленным будущим. Мы же, перечитывая сегодня его воспоминания, можем без всяких преувеличений сказать, что они несут в себе те точные свидетельства, которые помогают понять, как текла нашей «истории тяжелая вода».
Л. Лазарев
Далеко на востоке
От автора
Неужели минуло уже почти тридцать лет после тех событий в Монголии, на реке Халхин-Гол, о которых идет речь в этих записях? Я задавал себе этот вопрос, перечитывая их и думая о том, через сколько пластов времени прошло мое, перешагнувшее за свой пятый десяток, поколение.
Время боев на Халхин-Голе — время моей юности, предгрозья перед трагическими и великими событиями, началом которых стал Брест, а концом — Берлин.
Позади была Испания, первая война с фашизмом, на которую готовы были пойти все, но попали добровольцами лишь немногие.
Впереди была Великая Отечественная война, на которой каждый совершил то, что положено.
Халхин-Гол был посредине. Там, в далекой пустыне, бок о бок с монголами сражаясь против вторгшихся в Народную Монголию японцев, армия первой в мире страны социализма с оружием в руках выполнила свой интернациональный долг. И, думается, именно поэтому события на Халхин-Голе не из тех, которые забываются, хотя, конечно, по своим масштабам они не идут в сравнение со многим из того, что нам пришлось пережить потом.
Мои записи о том лете и осени на Халхин-Голе не история событий, а лишь свидетельство одного из очевидцев о виденном своими глазами.
Остается объяснить, почему эти записи датированы 1948–1968 годами.
Вышло так, что, только приведя в порядок все свои материалы, связанные с Великой Отечественной войной, я сумел вернуться к началу — к Халхин-Голу и записать все, что сохранилось к тому времени в памяти.
А приготовить эти записи к печати руки дошли только теперь.
Константин Симонов 1968
Халхин-гольские записи
В июне 1939 года к тогдашнему начальнику ПУРа Мехлису пригласили группу, как тогда нас называли, «оборонных» писателей, и он предложил нам поехать в течение лета и осени в командировки в разные части Красной Армии. Все хотели ехать на Халхин-Гол, но послали туда только Славина, Лапина и Хацревина, видимо как людей, уже знавших Монголию. Они поехали вслед ранее уехавшему туда Ставскому. Мне предстояла осенью поездка на Камчатку, в находящуюся там воинскую часть. Вместо этого во второй половине августа меня вдруг вызвали в ПУР к Кузнецову (Мехлис, которого он заменял, в это время был на Халхин-Голе) и спросили, готов ли я ехать в Монголию. Я сказал, что готов.
Как сейчас помню, Кузнецов спросил меня:
— Как, ничего не жмет?
Я сказал, что не жмет.
Как выяснилось впоследствии, вызов объяснялся тем, что Ортенберг, редактор газеты армейской группы, действовавшей на Халхин-Голе, телеграфно запросил «одного поэта».
Когда я сказал, что готов ехать, то выяснилось, что ехать нужно сегодня же, с пятичасовым экспрессом. Происходило все это в час дня. Кое-как успели выписать мне литер и выдать деньги. Обмундирование выдать не успели, сказали, что выдадут на месте.
На пятые сутки я был в Чите, а через сутки уже летел на пассажирском самолете с окошечками в Тамцаг-Булак — тыловой городок, где стоял второй эшелон нашей действовавшей в районе Халхин-Гола армейской группы.
Когда мы летели, летчик вышел из кабины и, обращаясь к нам, сказал, чтобы мы смотрели за воздухом. Я долго смотрел «за воздухом», не обнаружил в нем ничего особенного, но с удивлением увидел, что все остальные тоже внимательно смотрят «за воздухом», в котором, видимо, и они ничего такого не замечали. Только впоследствии я выяснил, что фраза «смотреть за воздухом» предполагала наблюдение за тем, не появятся ли японские истребители. Тогда я был далек от такой мысли.
В Тамцаг-Булак прилетели с сумерками, летели туда часа три или четыре над сплошной желто-зеленой степью бреющим полетом; буквально из-под самолета выскакивали стада коз и напуганные шумом гуси и утки.
Тамцаг-Булак оказался городом довольно странного с непривычки вида: в нем было три или четыре глинобитных дома, скорее похожих на сараи, и сотни три малых, больших и средних юрт.
Ночью мне выдали обмундирование, почему-то танкистское, серое, — другого, кажется, на мой рост не было. Дали сапоги, пилотку, ремень и пустую кобуру: оружия тоже не было.
Утром кто-то, ехавший в штаб армейской группы на Хамардабу, которая была от города километрах в ста с чем-то, обещал завезти меня по дороге в Баин-Бурт — место, где стояла редакция. Утром Тамцаг-Булак выглядел еще непригляднее, чем вечером: кругом была выжженная, желто-зеленая степь без конца и края.
Мы ехали, и я впервые видел знакомые только по картинкам миражи: леса и озера передвигались то слева, то справа от нас.
Дороги, собственно, никакой не было: это была простая колея, накатанная по степи, правда, почти на всем протяжении абсолютно гладкая и ровная, только кое-где попадалось полкилометра или километр невыносимой тряски, там, где дорога пересекала полосы солончаков.
А над нашими головами проходили стайками самолеты к фронту.
Часа через два мы добрались до Баин-Бурта. Собственно, нельзя сказать, чтобы это был какой-нибудь пункт на карте. Просто здесь до конфликта находился пограничный пост (в шестидесяти километрах от границы), состоявший из нескольких юрт. Теперь пограничного поста не было, но стояла громадная, длинная палатка, в которой размещалась типография, и три или четыре юрты, в которых жили люди. Поодаль, в километре, виднелись юрты и палатки полевого госпиталя.
Мой попутчик ссадил меня перед юртой, сказал: «Приехали», повернул машину и уехал.
Я приоткрыл полог и вошел в юрту. В юрте посредине был стол, а по окружности стояли четыре койки. На одной из коек сидел Ставский, на другой — редактор армейской газеты полковой комиссар Ортенберг — человек, с которым мне потом пришлось не один год вместе работать и дружить и который в первую минуту мне очень не понравился: показался сухим и желчным. Он быстро и отрывисто со мной поздоровался.
— Приехали? Очень хорошо. Будете спать в соседней юрте, вместе с писателями. А теперь надо ехать на фронт. Володя, ты возьмешь его на фронт?
Ставский сказал, что возьмет.
— Ну вот и поедете на фронт сейчас. Пойдите поставьте свой чемодан.
Я, несколько огорошенный, пошел в соседнюю юрту. Там меня дружески встретили Славин, Лапин и Хацревин. Как выяснилось, именно они посоветовали редактору попросить прислать сюда поэта. Посоветовали не столько из любви к поэзии, сколько из чувства самосохранения, ибо въедливый Ортенберг, узнав, что они в молодости писали стихи, уже несколько раз покушался заставить их заняться этим в газете. Они знали, что какой-то поэт едет, но какой, не знали.
А через пятнадцать минут я сел в «эмочку» рядом со Ставским, который сам вел ее; шофер примостился на заднем сиденье, и мы поехали на фронт.
Несколько слов о Ставском, с которым я провел первые в своей жизни три дня на фронте и который был для меня в этом смысле своего рода «крестным отцом».
О нем как о человеке, сколько я помню, разные люди были всегда очень разных мнений. Одни не любили его. Другие — среди них особенно много военных — преданно любили и уважали. Третьи, вспоминая его, говорили о нем то хорошо, то плохо, и в каждом случае вполне искренне.
Мне думается, что правы были именно эти последние, и я сам принадлежу к их числу. Это был удивительно яркий пример человека, которого облагораживали война, опасность и товарищество среди опасности и который от этого до такой степени менялся, что был совсем другим человеком, чем в обычной, мирной, а для него всегда несколько начальственной, украшенной подчеркнуто важными знакомствами обстановке.
Мне пришлось с ним впервые столкнуться, когда я учился в Литературном институте. Он произвел на меня впечатление человека грубого, несправедливого и одновременно претендующего на картинную душевность и безапелляционную «партейную» непогрешимость. Сочетание этого создавало впечатление чего-то неуловимо ханжеского. Я не видел в нем ничего хорошего и имел реальные основания считать, что и он сам ко мне плохо относится. И вдруг на Халхин-Голе, взявши сразу другой, ворчливо-покровительственный тон, он в течение нескольких дней стал для меня и старшим другом, и дядькой — человеком, искренне беспокоившимся о моей безопасности больше, чем о своей. В нем были истинное дружелюбие, простое, непоказное товарищество и добрая забота.
А потом, после Халхин-Гола и Финляндии, я встретил его опять в Москве. Это был совсем другой человек. По-моему, он был несколько озлоблен тем, что ни его положение, ни знакомства, ни заслуги, ни авторитет как писателя — фронтовика не могли сломить какого-то едва заметного, но все же уловимого сквозь комплименты холодка, когда речь о нем заходила просто как о писателе.
Но это всего лишь деталь, связанная с его тогдашним настроением, а главное, передо мной вновь был человек грубый и самодовольный, с напыщенной прямотой и нетерпимостью говоривший о других людях.
А потом были 1942–1943 годы. Я неоднократно встречал на фронте людей литературных, а чаще — нелитературных, командиров дивизий, полков, которые говорили, что вот тогда-то или тогда-то у них был Ставский, и говорили о нем хорошо, с теплотой, с уважением к его храбрости и простоте. А надо ведь сказать, что к нашему брату писателю при всем армейском гостеприимстве потом, в воспоминаниях, относились сурово: и косточки перемывали, и не дай бог какая-нибудь червоточинка! Ее сразу замечали и долго о ней вспоминали. Значит, он там, на передовой, в самом деле был опять простым человеком и хорошим товарищем.
Он погиб в 1943 году. И когда мы в своей среде разговаривали о нем, я вспоминал сразу двух человек: одного — грубого, недружелюбного, напыщенного; другого — заботливого, простого, сердечного. Вспоминал и обоих сразу, и порознь.
Что же было? Непосредственная ли опасность украшала душу человека и он отбрасывал в себе все мелкое и злое, даже очень привычное и въевшееся? Или просто обстановка: окопы, поле, по которому надо было переползать, блиндаж, плащ-палатка, на которой стояла вскрытая ножом консервная банка и лежали два куска хлеба, твой и мой? Может быть, это не давало вспухать в горле пышным и ханжеским словам, останавливая их, и он говорил с тобой просто как товарищ, а не как «большое лицо»? Трудно ответить на этот вопрос, но, во всяком случае, все это было точно так, как я сейчас вспоминаю.
Уже не могу вспомнить сейчас во всех подробностях, как проходили те первые для меня дни на Халхин-Голе. Помню, что была жаркая громадная степь, по которой Ставский с удивительным чутьем ехал, переезжая с колеи на колею, а их было бесконечное количество, ибо степь была ровной, как стол.
Успех наступления уже определился. Бои со дня перехода наших войск в наступление шли седьмой день, а на десятый все уже было кончено. Наши в районе сопки Номун-Хан-Бурт-Обо сомкнули кольцо и сейчас брали сопки Зеленую, Песчаную и Ремизовскую — последние опорные пункты японцев.
Сначала мы поехали в штаб армейской группы на Хамардабу. Это была не слишком выдававшаяся над степью возвышенность с довольно крутыми скатами и извилистыми, расходившимися в разные стороны оврагами, вроде балок на верхнем Дону, только совершенно безлесными. В скаты были врыты многочисленные блиндажи, а кое-где стояли юрты, сверху прикрытые от авиации натянутыми сетками с травой.
Ставский пошел по начальству узнавать, что происходит и куда ехать, а я довольно долго — должно быть с час — сидел около какой-то юрты, кажется отдела по работе среди войск противника, в которую за этот час несколько раз приходили люди с разными трофеями: японскими записными книжечками, связками бумаг и фотокарточек — и оставляли все это в юрте.
Там сидел какой-то равнодушный лейтенант и разбирал все это, откладывая нужное на стол и бросая ненужное на пол. Пол юрты был завален фотографиями. Японцы, как я убедился в этом впоследствии, очень любят сниматься, и почти в каждой солдатской сумке были десятки фотографий: фотографии мужские, женские, фотографии стариков — видимо родителей, фотографии японских домиков, улиц, открытки с Фудзиямой, открытки с цветущей вишней — все это целым слоем лежало на полу, и проходившие к столу, за которым сидел лейтенант, шагали по всему этому туда и обратно, не обращая никакого внимания на то, что у них под ногами.
Это было мое первое и очень сильное впечатление войны. Впечатление большой машины, большого и безжалостного хода событий, в котором вдруг, подумав уже не о других, а о самом себе, чувствуешь, как обрывается сердце, как на минуту жаль себя, своего тела, которое могут вот так просто уничтожить, своего дома, своих близких, которые связаны именно с тобой и для которых ты что-то чрезвычайно большое, заполняющее огромное пространство в мире, а от тебя может остаться просто растоптанный чужими ногами бумажник с фотографиями.
Тогда, на Халхин-Голе, у меня не было с собой ничьих фотографий, но в 1941 году, когда я взял на фронт фотографию близкой мне женщины, я так и не смог избавиться от этого халхин-гольского воспоминания о юрте с фотографиями на полу и от ощущения жгучей опасности не по отношению к себе самому, а именно по отношению к этой фотографии, лежащей в кармане гимнастерки как частица всего, что осталось дома и что может быть взято и растоптано чужим каблуком.
Через час Ставский пришел, и мы поехали. Он сказал, что поедем на северную переправу, а оттуда — к Песчаной высоте, которую как раз сейчас берут.
По узкому мостику мы переправились через реку Халхин-Гол — ту самую спорную реку, до которой японцы числили свою границу и через которую они переходили еще в июле с намерением окружить всю нашу группу.
Сейчас бои шли довольно далеко за рекой, километрах в восьми. Оттуда слышалась густая артиллерийская канонада.
У переправы, на том берегу, было несколько землянок. Мы зашли в них, не помню зачем, и в это время невдалеке от нас японцы стали бомбить переправу.
Я впервые видел бомбежку. Это показалось мне больше всего похожим на внезапно возникшие на горизонте черные рощи. Потом мы поехали. Японцы опять бомбили, на этот раз близко от нас. Мы остановили машину и полезли в щель. Помню, я испугался, заметался, попал не в щель, а в какую-то воронку, которая, впрочем, показалась мне глубокой и поэтому безопасной. Когда мы вылезли, то Ставский сердился, что я отстал от него, и сказал, чтобы я держался возле него, а потом высмеял меня за то, как я оправдывался: что воронка была ближе и что она была глубокая. Высмеяв мое представление о безопасности, он стал терпеливо объяснять мне, что такое щель, почему ее роют под углом, почему ее роют узкую и почему она безопаснее, чем воронка.
Потом мы опять поехали дальше по степи. Сначала добрались до позиций артиллерийского дивизиона, где орудия стояли под сетками и вели беспрерывный огонь по гребню желтой высоты, видневшемуся невдалеке, километрах в трех. Это и была сопка Песчаная.
Но вел огонь не только этот дивизион — вели огонь еще несколько дивизионов, и гребень сопки, немножко впалый, как кратер вулкана, все время вспыхивал разрывами и дымился. Это было похоже на извержение, особенно если смотреть в бинокль. Хотя я знал еще со школьной скамьи разницу между скоростью света и звука, но несоответствие между появлением вспышек на гребне сопки и звуками разрывов бессознательно продолжало удивлять меня весь этот первый день.
От артиллеристов мы перебрались к пехотинцам; это был полк Федюнинского, впоследствии, в Отечественную войну, командовавшего армией, а тогда командира полка. Он был накануне ранен, причем, кажется, в неподходящее место — пониже спины. Во всяком случае, по этому поводу шутили и передавали его собственные ругательные остроты.
Командовал полком маленького роста майор. Помню его каску и очень грязную шинель, нескладно подпоясанную ремнем и горбившуюся на плечах. У него отросла семидневная щетина, очевидно, он не брился с начала наступления. Он был похудевший, усталый, со впалыми глазами. Кажется, фамилия его была Беляков, впрочем, не помню, может быть, я ошибаюсь. Он был заместителем командира полка по строевой части и принял на себя командование после ранения полковника. Его полк наступал на Песчаную сопку прямо в лоб. Сейчас он немного продвинулся и перенес командный пункт.
Мы оставили машину, потому что ехать дальше было нельзя: местность простреливалась, — и пошли вперед вместе с майором на новый командный пункт. Изредка чиркали пули. Тогда мне показалось, что это где-то далеко, и я даже удивился, когда одна шлепнулась близко и я увидел, как фонтанчиком встал песок. Мы прошли открытое место, потом закрытое, потом еще раз открытое, но по нас больше не стреляли, и мы выбрались на гребень низкого, но длинного холма, где был только что отбит японский блиндаж. Вокруг этого блиндажа, за гребнем высотки, разместился командный пункт полка, а командный пункт батальона, который был здесь до этого, ушел еще на сто метров вперед.
Сопка была отсюда хорошо видна. Она оказалась двойной: одна сопка немножко подальше и побольше, а другая — поменьше и поближе, метрах в трехстах от нас, может быть в четырехстах.
Уже начало смеркаться. Проходили раненые. Прошел маленький старшина, потный, обросший и с рукой на перевязи.
— И тебя ранило? — спросил майор.
Тот кивнул и выругался по адресу японцев и, ни на кого не обращая внимания, пошел дальше.
— Был командиром роты, — сказал майор. — Всех командиров в роте убило.
Как-то не сразу я заметил убитых японцев. Их было много: несколько лежало в круглых окопах в стороне, несколько — прямо на высотке, довольно много трупов лежало внизу, под холмом, — видимо, их уже свалили туда, вытащив из окопов.
Потом я заметил и наших. Лица их и головы были закрыты шинелями. Их лежало пять или шесть человек на горушке. Я думал сначала, что они отдыхают. Меня удивило только, какие у них длинные ноги. Оказалось, что это лежали мертвые. Потом подошел танк и привез еще одного убитого — командира роты. Его завезли на командный пункт полка, — сняли с брони, положили на землю, а танкисты быстро уехали заправляться.
Не помню точно всего, что было в этот день, и боюсь спутать, что было в этот, и что в следующий, и еще через день. Все эти три дня у меня как-то сошлись в один.
Ставский постоянно сам интересовался происходящим и в то же время не уставал мне объяснять, что, где, как и почему, причем ни чуточки не иронизировал над моей неопытностью, а все объяснял всерьез и досконально.
Надвигалась ночь. Примостились спать в мелких кустиках возле окопов. Я сдуру поехал без шинели. Ставский отдал мне свою плащ-палатку и при этом как-то особенно заботливо укрыл меня. Спал я крепко, но недолго, наверное часа два. Проснулся до рассвета и увидел, что устроился неудачно: то, что я принял за кочку, были ноги полузасыпанного землей японского солдата; от трупа шел запах; может быть, от него я и проснулся. Я перелег, но заснуть уже не мог.
Чуть рассвело, началось наступление. Мы перебрались на командный пункт батальона. Это был тоже маленький холмик с японскими окопами. Было тесно, потому что было много народу. Сюда же пришел комиссар дивизии — худощавый, южного тина человек, отчаянно мучившийся приступом язвы. Он был совершенно белый. Видно было, как ему плохо. Он все время интересовался боем и даже отдавал приказания, но у меня было такое чувство, что ему не до этого, не до боя и не до опасности, что боль, которая его мучает, сильнее.
Отсюда до ближайшей сопочки было метров двести. По ней вели огонь наши пушки. Сопочка эта мешала подходу к высоте. Ожидали, когда ее займут, чтобы начать штурм большой высоты.
Мы все время следили за этой сопочкой, а японцы оттуда все время обстреливали командный пункт нашего батальона. Пули проходили над козырьком окопа, а иногда закапывались в землю. Кто-то, слишком далеко высунувшийся, был убит наповал. Его отнесли назад и, как и у тех, раньше убитых, шинелью накрыли ему голову.
Я от времени до времени немножко высовывался, стараясь как можно глубже надвинуть на лоб каску и таким образом до минимума сокращая незащищенное расстояние между краем каски и глазами. Мне казалось, что так все-таки менее страшно, а смотреть постоянно хотелось.
Вдруг Ставский закричал:
— Смотри, смотри!
Я высунулся: из окопов, на вершине маленькой сопочки, один за другим выскакивали — их было довольно много — японцы и бежали через гребень сопки назад, к седловине, к большой сопке. Видимо, они выскочили, не выдержав огня, а может быть, получив приказ отступить на главную сопку. Во всяком случае, они один за другим выскакивали и бежали назад.
Комиссар дивизии не своим голосом закричал что-то, и две пушки, стоявшие сзади нас, перекатились на бугор рядом с нами, и артиллеристы очень быстро стали стрелять прямой наводкой по бежавшим в двухстах пятидесяти метрах от нас и очень хорошо видимым на гребне холма японцам. Снаряды один за другим попадали в самую гущу их. Кто-то еще бежал вперед, падал, опять бежал, наконец все упали.
Может быть, мне показалось это, но у меня до сих пор сохранилось ощущение, что я видел, как снаряд угодил прямым попаданием в одного из японцев. Может быть, на самом деле снаряд разорвался у него под ногами, но я видел, как человек, который только что был, вдруг на моих глазах исчез.
Через полчаса мы уже были на той сопочке, по которой стреляли наши пушки. Пушки катились дальше, пехота шла дальше, и к вечеру вся Песчаная высота была занята. Мы ночевали на ней среди многочисленных еще не убранных трупов, среди остатков чужой рухляди — вееров, бумаг, котелков, крошечных мешочков с маленькими японскими галетами, связок тоже крошечной сушеной рыбы — и среди того странного, как говорили тогда, «японского» запаха, который на самом деле был запахом креозота: японцы дезинфицировали им свои окопы.
На следующее утро мы на танке (иначе проехать было нельзя) перебрались на другой участок, где брали последнюю сопку. Перебирались мы по открытому месту, ибо между полком, где мы были, и полком, в который мы ехали, была сопка с японцами, все кругом простреливалось, и, если не ехать прямо, нужно было обходить где-то очень далеко, по большому кольцу наших войск, замыкавшему окруженных японцев.
Никакого ощущения от пребывания в танке, кроме ощущения грохота и многочисленных ушибов, я не испытал. Я был куда-то запихнут, и кто-то полусидел на мне, и я ничего никоим образом не мог видеть. В однообразный рев и грохот танка врывались еще какие-то грохоты. Когда мы приехали, выяснилось, что нас по дороге обстреливала артиллерия, но все сошло благополучно.
У этой последней сопки мы провели почти весь следующий день. Наконец она была взята. Мы пошли по окопам, буквально забитым телами убитых японцев. Я никогда потом не видел такого количества трупов в окопах. Видимо, сюда сползлось все, что могло сползтись. Это была самая последняя точка организованного сопротивления. Очень много было исколотых штыками. Было очень много ходов сообщения, окопов, блиндажей. Вся сопка была изрезана ими вдоль и поперек.
Кое-где еще раздавались выстрелы. Это доколачивали последних отстреливавшихся в блиндажах японцев. Потом при нас из песчаной норы вдруг вылез японец с поднятыми руками, с окровавленными и кое-как обмотанными бинтами лицом и шеей. Какой-то боец скинул с плеча винтовку и бросился на японца со штыком. Его остановили.
— Они только пять минут назад нашего командира роты убили — вот так, с поднятыми руками вышли! — кричал боец и рвался к японцу.
Его все-таки удержали, а кто-то сказал, что действительно здесь вот пять минут назад убили командира роты — так же вот вышли с поднятыми руками и убили!
Мы продолжали ходить по окопам, и я нервничал оттого, что так и не получил нагана и у меня не было никакого оружия. Тут, наверное, было все, вместе взятое: и страх, что вдруг откуда-то выскочит на меня японец, а я ничего не смогу сделать, и просто мальчишеское желание идти с наганом в руке, как ходили другие.
Бой угасал. На горизонте начинало зеленеть и краснеть. По-прежнему пахло креозотом. Вдалеке в двух или трех местах слышались пулеметные и винтовочные выстрелы. Где-то на маленьких сопочках и пригорках и просто в поле бродили последние группы японцев. Их добивали в мелких стычках, по-моему, еще дня три. Но война уже заканчивалась, это чувствовалось.
Ставский сказал, что ничего интересного больше не предвидится и что мы можем ехать к себе в Баин-Бурт: надо давать материал.
— Ты что будешь давать? — спросил он.
Я сказал, что попробую написать несколько рассказов в стихах о героях боев.
Мы пошли обратно. Оказалось, что Ставский уже распорядился, чтобы шофер пригнал «эмку» куда-то неподалеку. Нам предстояло пройти только небольшую ложбинку — там на холмике за кустами стояла наша «эмочка». Мы пошли через эту ложбинку метров двести длиной. Впереди шел Ставский, я за ним, больше никого не было.
И вдруг я услышал легкий свист и шлепок пули. Я вздрогнул, пригнулся, собирался лечь, но Ставский продолжал идти, не оборачиваясь. Я пошел тоже. Еще свист и шлепок. Потом длинная пауза. Ставский все не убыстрял шага. Прошли еще сто метров. Вот мы уже почти у холмика, сейчас мы зайдем за него. Еще свист и шлепок, еще свист и шлепок и еще один. Ставский идет все так же последние десять метров, и мы наконец за холмом. Только здесь Ставский оборачивается ко мне и говорит:
— Кое-где одиночки все-таки остались, еще несколько дней будут за нашими охотиться.
Машина действительно стояла там, где он сказал. Мы поехали обратно. Начинало все сильнее темнеть. То там, то здесь на скатах сопок и холмиков чернели остовы наших сгоревших танков и бронемашин. Около одной из них мы почему-то остановились. Ставский полез посмотреть. Это был легонький связной броневичок, зарывшийся передними колесами в японский окоп и уткнувшийся пулеметным стволом в землю. Рядом с ним прямо из земли торчали сапоги. Видимо, здесь же рядом, кое-как засыпанный песком, лежал погибший экипаж.
— Добрался, маленький, — сказал Ставский.
Как сейчас помню, это выражение, адресованное маленькому связному броневичку, показалось мне трогательным. В самом деле, к этому броневику была какая-то нежность: вот такой маленький, а дошел, врезался в окоп и здесь в последнюю минуту погиб.
Когда сели в машину, мне пришла в голову мысль, которую я сейчас же высказал Ставскому, — что хорошо бы, когда кончится конфликт, вместо всяких обычных памятников поставить в степи на высоком месте один из погибших здесь танков, избитый осколками снарядов, развороченный, но победивший.
Ставский резко заспорил со мной, говоря, что зачем же как монумент победы ставить ржавое, разбитое, то есть потерпевшее поражение, железо! Раз танк был так или иначе разбит или поврежден, он не годится для монумента победы.
Мы довольно долго спорили, но так и не сошлись во взглядах. Потом, когда я написал и напечатал стихотворение «Танк», в котором говорилось об этом, мы со Ставским случайно встретились в Москве и опять поспорили. Он снова говорил, что я не прав.
Но дело было, конечно, не в его или моей правоте, а в том, что эта же идея постепенно рождалась у самых разных людей: на нее наталкивала сама война. И сколько их, таких памятников, сейчас стоит, после войны, в разных местах! Кстати, как мне говорили, на Халхин-Голе теперь тоже стоит именно такой памятник — танк…
Совершенно неисповедимыми путями, по кромешной тьме Ставский, не вылезая из-за руля, за три часа довел машину до Баин-Бурта, сделав на обратном пути по непроглядной степи около ста километров.
Мы остановились у юрты Ортенберга. Я пошел туда переполненный впечатлениями, усталый, взволнованный и счастливый в этот момент тем, что война уже кончилась и опасности позади. Я чувствовал себя если не совсем, то почти причастным ко всему, что произошло.
В юрте было жарко. Топилась стоявшая посредине и уходившая трубой в потолок железная печка, а Ортенберг сидел на койке в полном обмундировании и спал, навалившись лицом и руками на стол, на котором лежала свежая полоса газеты «Героическая красноармейская». Он каждый день с рассвета уезжал в войска, возвращался к ночи и, выпустив газету, снова уезжал. Когда мы вошли, он поднял голову, посмотрел на нас сонными глазами, потом посмотрел на полосу, лежавшую перед ним, и красным карандашом — он, заснув, продолжал держать карандаш в руке — размашисто вычеркнул несколько абзацев, потом подумал, посмотрел на меня и вычеркнул целую колонку. Потом сказал:
— Надо написать стихи в номер. Сколько вам нужно строк? Шестьдесят хватит?
Я не нашел даже, что сказать.
— Шестьдесят, — сказал он. — Я снял тут одну колонку. Идите пишите.
Ночью я написал свое первое стихотворение для нашей армейской газеты. Это был мой первый опыт писания фронтовых рассказов в стихах, посвященных конкретным людям с подлинными фамилиями. Таких вещей я на Халхин-Голе написал десять или двенадцать. В начале Великой Отечественной войны по настоянию Ортенберга я, работая уже в «Красной звезде», написал еще два таких стихотворения, а потом бросил это и перешел на военные корреспонденции.
Я написал стихи, лежа на койке в юрте, и отнес их Ортенбергу. Он сидел над новой полосой, опять положив руки и голову на газетный лист, и опять спал. Когда я вошел, он встряхнулся, молча взял стихотворение и прочел его.
— Хорошо.
Потом спросил:
— А тут все фактически верно?
Я подтвердил.
— А то, может быть, не стоит настоящую фамилию? — еще раз спросил он.
Я еще раз сказал, что нет, что все фактически верно и можно ставить настоящую фамилию.
— Ну, хорошо. Идите спать.
Я пошел спать и долго не мог заснуть. Моих соседей по юрте — Льва Исаевича Славина, Захара Хацревина и Бориса Лапина — не было: они уехали утром и еще не вернулись.
Шел мелкий и сильный дождь. Подхваченный ветром, он летел даже не вкось, а почти параллельно земле. Слышно было, как шумит под дождем войлок.
А кругом была черная степь, абсолютно черная, без единого огонька, без единого пятна; даже соседних юрт не было видно: к ним надо было добираться на ощупь и угадывать, где они. Когда я приоткрывал войлок, завешивавший вход в юрту, то мне казалось, что я стою посредине большой черной комнаты без окон.
На следующий день я опять поехал на фронт и в ближайшие дни ездил туда как на дежурство. Рано утром выезжал, поздно ночью возвращался. Писал стихи, спал два — три часа, а если не успевал, то прямо садился в машину и опять ехал на фронт. Спал главным образом в дороге на заднем сиденье; за долгий путь сильно затекали ноги.
Боев, в сущности, уже не было. Наши и монголы вышли на границу с Маньчжурией, воткнули флаги и начали строить полевые укрепления, устанавливать колючую проволоку, класть малозаметные препятствия, состоявшие из тонкой, невидимой в траве, свитой спиралью проволоки. Достаточно было попасть в нее одной ногой, а потом другой, чтобы запутаться, не говоря уже о машине, которая мгновенно накручивала эту проволоку на оси и останавливалась. Рыли окопы, строили блиндажи. Кое-где вдоль границы происходили перестрелки с японцами. То там, то тут все еще добивали маленькие очажки японцев у нас в тылу и ловили одиночек. По ночам японцы стреляли, пробираясь к себе. На местах недавних боев наспех закапывали трупы. Там, где полевые дороги шли в теснинах между сопок, стоял тяжелый запах гниения.
Ночи были холодные, днем бывало то сухо и ветрено, то дождливо и ветрено. Дождь пронизывал до костей.
Разговаривая с людьми — с танкистами и с пехотинцами, — я понемногу уяснял себе картину боев, происходивших в течение четырех месяцев в этой бесконечной травянистой пустыне.
С самого начала конфликта мы были поставлены в очень тяжелые условия. У нас до ближайшей железнодорожной станции армейского снабжения — Борзя — было семьсот с лишним километров, а у японцев всего в ста километрах был Хайларский железнодорожный узел, а примерно в тридцати километрах — последний пункт строившейся Холун-Аршанской железной дороги.
Кстати говоря, постройка этой дороги явилась одной из причин конфликта. Примерно в пятнадцати километрах от границы между Монголией и Маньчжурией начинались первые отроги Хинганского хребта. Японцы тянули дорогу вдоль этих отрогов с юго — востока на северо — запад с таким расчетом, чтобы подвести ее к нашей границе, возможно ближе к Чите.
На участке Халхин-Гола монгольская граница образовывала большой выступ в сторону Маньчжурии, и японцы должны были или вести здесь дорогу через отроги Хингана, или строить ее в непосредственной близости к границе, на расстоянии орудийного выстрела.
Видимо, это не устраивало их, и они, помимо очередной провокации, ставили перед собой еще и практическую цель — захват всей полосы реки Халхин-Гол и прилегающих к ней высот для обеспечения строительства своей стратегической ветки, которое остановилось как раз перед Тамцаг-Булакским выступом.
Наверное, оттуда, с отрогов Хинганского хребта, были видны наши передовые позиции. Сопки без единого дерева, кое-где мелкий низкий кустарник, узкая и глубокая река Халхин-Гол и еще более извилистый, чем она, впадающий в нее ручей Хайластин-Гол. Западней за Халхин-Голом снова шла гряда сопок и возвышенностей, а дальше тянулась бесконечная монгольская степь до самого Тамцаг-Булака, а за ним еще на триста километров до Баин-Тумени и еще на полтысячи километров до Улан-Батора, по старому Урги.
Было что-то странное в этой войне, не похожее ни на что, чему я стал свидетелем потом. Это была война в полном смысле слова в пустыне; справа и слева тянулись бесконечные, ничем не защищенные степи, и только здесь, на участке в пятьдесят — шестьдесят километров, возводились вдоль гряды сопок легкие полевые укрепления. Конница, всадники могли обойти все это степями, взяв на сто или даже двести километров в сторону.
И с одной, и с другой стороны было что-то упорно обусловленное в том, что именно на этом участке четыре месяца происходили кровопролитнейшие бои. Маневрируя в пределах этой полосы, противники ни разу не раздвигали ее в стороны больше, чем еще на пять — десять километров.
Чуть севернее было синевато-свинцовое озеро Буир-Нур, холодное, чистое, окруженное низкой веселой зеленью, желтыми песчаными косами. Там, в районе пограничной заставы, и начались бои, начались, но сразу же переместились южнее, к реке Халхин-Гол. А застава, вблизи которой все началось, так и осталась спокойно — нетронутой и мирной со своим маленьким домиком, остатками какого-то не то храма, не то кумирни и с невысокой сторожевой вышкой, с которой невдалеке по-прежнему можно было видеть японскую пограничную заставу.
Наши танки пришли сюда, на Халхин-Гол, сделав четырехсоткилометровый марш по пустыне из Ундурхана. Пехота тоже шла по степи несколько сот километров. Ее у нас было не так много. Наша армейская группа, насколько я могу судить, даже в разгар боев насчитывала пехоты меньше, чем японцы. У нас было три дивизии, у японцев две плюс целый ряд отдельных батальонов — полицейских, железнодорожных и прочих, превращенных в пехоту; а японская дивизия по численности превышала нашу больше, чем в два раза. Но зато у нас было гораздо больше артиллерии и подавляющее преимущество в танках, против которых японцы только один раз неудачно попробовали бросить свои малочисленные и очень слабые в техническом отношении танковые части.
Авиации было много с обеих сторон, причем первые два месяца превосходство было на стороне японцев, и только на третий месяц после упорной борьбы оно перешло к нам. К концу боев с нашей стороны было особенно много авиации. В первые сутки нашего августовского наступления мы подняли в воздух без малого тысячу самолетов. Что касается происходивших над степью воздушных боев, то я так никогда и не видел потом такого количества самолетов в воздухе — сразу в обозримом глазом пространстве. Во время последнего сентябрьского воздушного боя, предшествовавшего мирным переговорам, когда японцы сделали свой последний звездный налет на наши аэродромы, воздух просто кишел самолетами: их было несколько сот с обеих сторон одновременно.
А кругом была пустыня. И воду возили на больших машинах, точно таких же, как бензиновозки. И ездили военторги в автобусах. И вообще у меня сохранилось ощущение, что на этом фронте, снабжавшемся за семьсот километров, было очень много машин — целые тысячи.
Рядом с нами, прямо в голой степи, стоял армейский госпиталь — десяток длинных брезентовых палаток.
«Дугласы» и ТБ-3, эвакуировавшие раненых в Читу, садились неподалеку от госпиталя, иногда подруливали прямо к палаткам; оттуда выносили раненых, грузили на самолеты, и они улетали. Ближайшая питьевая вода была в Халхин-Голе с его притоком Хайластин-Гол и в озере Буир-Нур. А дальше в тыл на много километров не было годной воды. Только белые солончаковые озера, из которых нельзя пить. Воду возили издалека и экономили.
Чаще всего я бывал у танкистов, в бригаде Яковлева, одного из первых Героев Советского Союза, погибшего во время танковой атаки еще до моего приезда. Он был убит, когда поднимал залегшую и не двигавшуюся за танками пехоту.
Кстати сказать, помню, как в одной из дивизий удивили меня разговоры с красноармейцами. В одном из таких разговоров я выяснил, что это была территориальная дивизия и что в данном случае разговаривавшие со мной люди попали в эту дивизию, так и не начав еще ничему обучаться. Их учили владеть винтовкой уже по дороге на Халхин-Гол, в вагоне, а везли их откуда-то с Урала.
Не знаю, может быть, это было вызвано тем, что все дальневосточные, давно и отлично обученные дивизии в ожидании перерастания конфликта в войну стояли в местах своей дислокации и не могли быть переброшены в Монголию, а может быть, имели место какие-то неурядицы, которые так часто бывают на войне, в особенности в первые месяцы ее…
У танкистов я чаще других бывал в батальоне Михайлова, тоже одного из первых Героев Советского Союза, тогда майора, впоследствии полковника, погибшего в Отечественную войну где-то под Калинином, командуя танковой дивизией. С Михайловым мы подружились. Мне нравился этот очень мягкий внешне и очень подобранный и резкий внутренне человек, с мягкой улыбкой и глазами, которые, когда он сердился, становились бешеными. Он был самолюбив, по-моему, и честолюбив и в то же время идеально держал себя в рамках той скромности, которую считал необходимой. Она была у него не природная, а от тренировки воли и холодного рассудка. Но мне и это тогда нравилось в нем.
Я провел в батальоне Михайлова много времени, расспрашивая его о бое при Баин-Цагане. 11–я яковлевская бригада особенно отличилась в этом сражении, которое решило исход первого периода боев на Халхин-Голе и пресекло попытки японцев окружить наши части. Потом, перед самой войной, в 1941 году, я написал поэму «Далеко на Востоке», где, в сущности, рассказана история марша яковлевской бригады через степи и той атаки при Баин-Цагане, за которую Михайлов получил Героя Советского Союза.
На фронте стояло затишье, только продолжались бомбежки и довольно крупные воздушные бои. Петляя по степи то к фронту, то от фронта, я привык к слову «воздух», хотя, впрочем, к этому времени японским истребителям было уже недосуг гоняться за всеми нашими сновавшими по степи машинами.
Удивительная это была степь, а вернее сказать, пустыня. Близко к фронту — ни одной птицы, никаких животных. Только подальше, как раз недалеко от нашей редакции, где была китайская бойня, где забивали пригоняемый монголами скот, было много орлов. На этом участке они сидели почти на всех телеграфных столбах, не пугались машин, медленно, нехотя взлетали. От нечего делать в них часто стреляли и попадали: они были обожравшиеся и ленивые.
А на свалке, около большой ямы, где валялось огромное количество гниющих внутренностей, орлы сновали, как воробьи где-нибудь на провинциальной булыжной мостовой. Их было всегда несколько десятков; они почти не обращали внимания ни на людей, ни на машины, лениво отлетали и снова садились жрать внутренности.
Дальше за нашим Баин-Буртом и за Тамцаг-Булаком, если отъехать в сторону от дороги, уже попадались утки и гуси, особенно влево от дороги, ближе к солончаковым озерам, видневшимся на горизонте.
А населения в этом районе совершенно не было. За все мое пребывание на Халхин-Голе (я не говорю, конечно, о военных: на южном участке фронта, где я чаще всего бывал, стояла на позициях одна монгольская кавалерийская дивизия, а на крайнем северном — другая) я только раз встретил семью аратов.
Это было около Тамцаг-Булака. Шли несколько верблюдов, груженных вьюками, и рядом с ними старый монгол и старая монголка.
Все население по призыву монгольского правительства снялось из этого района и откочевало вглубь. Это, кстати, облегчало борьбу с японским шпионажем, ибо японцы первое время пытались засылать из Внешней Монголии шпионов в штатском, которые выдавали себя за местных. А потом, когда население откочевало отсюда, каждый встреченный в полосе военных действий штатский уже брался под подозрение.
Первого или второго сентября я был с Ортенбергом на Хамардабе. Наверху, на возвышенности, толпилось много военных. Только что был получен указ о победе, ликвидации японской группировки и о награждениях. Стоял оживленный шумок, все разговаривали; на всех лицах было ощущение удачи и важности момента.
Посредине группы стоял Штерн в форме командарма. Он был подтянут, официален и сияющ. На нем было много орденов, блестела и хрустела совершенно новая портупея, сияли хорошо начищенные сапоги.
А рядом стоял летчик, комкор Смушкевич; являя всем своим внешним видом противоположность Штерну, он стоял с непокрытой курчавой головой и с длинным печальным лицом, в серой коверкотовой гимнастерке, заложив обе руки за спущенный низко, по-крестьянски, ремень. На нем были такие же, как гимнастерка, коверкотовые брюки навыпуск и сандалии на босу ногу. Он недавно разбился, ноги у него были переломаны, и он не мог носить сапоги.
Хотя в первые дни сентября на фронте не было выстрелов, в штабе начинала чувствоваться тревога.
Ждали информации о том, что происходит у японцев. Ходили всякие слухи, а главное, всех волновал вопрос, сочтут ли японцы себя разбитыми и постараются ли на этом закончить конфликт или втянут в дело новые силы. Может быть, даже всю Квантунскую армию, и тогда начнется что-то большое. Мы, пассивно стоящие теперь здесь, на этом выступе монгольской границы, в случае большой войны могли оказаться глубоко обойденными со стороны бескрайних, ничем не прикрытых степей, где кочевали только разъезды да патрулировали самолеты.
Во время одного из заездов своих на Хамардабу мне пришлось впервые столкнуться в военной среде с теми же самыми спорами о талантах и способностях, и притом почти в той же непримиримой форме, в какой они происходят у братьев писателей. Я не предполагал встретиться с этим на войне и поначалу удивился.
Не помню, кого-то дожидаясь, не то Ортенберга, не то Ставского, я сидел в одной из штабных палаток и разговаривал с командирами — кавалеристами. Один из них — сейчас уже давно генерал, а в то время совсем молодой еще полковник, служивший с Жуковым чуть ли не с Конармии, — убежденно и резко говорил, что весь план окружения японцев — это план Жукова, что Жуков его сам составил и предложил, а Штерн не имел к этому плану никакого отношения, что Жуков — талант и что все это именно так, потому что — он это точно знает — никто, кроме Жукова, не имел отношения к этому плану.
Разговор не носил личного характера. Если бы это было так, о нем не стоило бы и вспоминать. В словах полковника была та же увлеченность и безапелляционность, которая нередко бывала в наших собственных разговорах, когда мы, молодые питомцы Литературного института, категорически настаивая на талантах своих любимых поэтов и учителей, попутно, не слишком заботясь о справедливости, развенчивали всех остальных…
Седьмого сентября японцы на нашем крайнем правом фланге в районе сопки Ирис-Улийн-Обо произвели пробу сил одним батальоном вновь подошедшей гвардейской дивизии. Батальон ночью занял сопку, а днем почти целиком лег на ней, оставив 496 человек убитых. Наши потери были всего шесть или восемь человек. Японцев раздавили артиллерией и танками.
На следующий день в редакцию заехал где-то в другом месте ночевавший Ставский, вызвал меня из юрты и таинственно сказал:
— Собирайся без всяких разговоров, никому ничего не говори. Поедем: интересное дело!
Я сел с ним в машину. На Хамардабе к нам присоединился начальник политотдела армейской группы полковой комиссар Горохов.
И мы — теперь уж четверо, два полковых комиссара, шофер и я — двинулись, насколько я мог судить об этом при моей слабой ориентировке, куда-то на южный участок фронта.
Добрались мы туда к ночи. В одном месте дорогу нам преградили двигавшиеся танки; они шли, пыхая голубыми отсветами из глушителей и особенно громко лязгая в ночном безмолвии степи. Прошло их довольно много, штук сорок.
Ставский волновался все время, пока проходили танки, и спрашивал Горохова: что бы это могло быть, почему танки идут не в ту сторону, в какую им нужно идти?
Остановив ехавшую за танками легковую машину, мы от сидевших там командиров узнали, что предстоявшая операция отменена, уже не помню теперь, по каким причинам: не то японцы сами отступили и ушли, не то у нас появились какие-то высшие соображения.
Оказывается, Ставский поехал сюда потому, что здесь предполагалась большая ночная операция — окружение той вновь прибывшей японской гвардейской дивизии, один батальон которой уже погиб на Ирис-Улийн-Обо.
Все злились из-за этой отмены: злился Ставский, злился Горохов, злился даже я. Видимо, оттого, что Ставский злился, он не смотрел за дорогой, и мы в первый и единственный раз за все время моих поездок со Ставским на Халхин-Голе сбились с дороги, повернули один раз, повернули другой раз, окончательно запутались и застряли в песках. После этого стали выяснять, где мы. Ставский долго соображал и со своим удивительным чутьем (как позже выяснилось, оправдавшимся и на этот раз) ворчливо сказал, что мы находимся, очевидно, как раз посредине, между японцами и позициями 8–й монгольской кавалерийской дивизии, на самом крайнем фланге.
— Давайте вытаскивать машину.
Стали вытаскивать машину. Несколько раз садились на песок и отдыхали. Потом Ставский сказал, что, если не вытащим машину до утра и не выберемся отсюда в темноте, будет плохо, прохлаждаться нечего. Стали опять тащить машину. Наконец вытащили. И снова поехали в полной тьме.
Ставский вылез и сказал, что где-то здесь, по его расчетам, должен стоять штаб одного из полков 8–й монгольской кавалерийской дивизии, в которой он неделю назад был. Мы оставили машину с шофером и пошли, то полуутопая в песке, то поднимаясь на маленькие барханчики.
Вдруг резкий оклик по-монгольски. Мы стали кричать, в свою очередь, сначала по-русски, а потом вспоминая все известные нам монгольские слова; впрочем, их количество ограничивалось пятью — шестью. В ответ на это последовало щелканье затвора теперь уже различимого в темноте часового — монгола.
Мы остановились. Из темноты подошел другой цирик и тоже щелкнул затвором. Ставский выругался и сказал, что вот сейчас они нас и застрелят. Но Горохов вдруг стал кричать:
— Штаб! Штаб!
При слове «штаб» винтовки опустились. Обойдя нас с двух сторон и замыкая наше шествие, часовые с винтовками наперевес довели нас до штаба. Ставский долго болтал там с нашим, знакомым ему, советником. Я сперва прислушивался к их разговору о майских и июньских боях, а потом задремал. Ставский растолкал меня, и мы поехали обратно.
Так неудачно кончилась эта обещавшая стать интересной поездка.
На следующий день мне с Ортенбергом, Лапиным и Хацревиным пришлось быть у Жукова. Ортенберг хотел узнать, насколько реальны, по мнению Жукова, сведения о близком наступлении японцев, на что нам ориентироваться в газете.
Штаб помещался по-прежнему все на той же Хамардабе. Блиндаж у Жукова был новый, видимо только вчера или позавчера срубленный из свежих бревен.
Кстати, о бревнах. Мне рассказывали, что на северном участке фронта, когда понадобились бревна для полевых укреплений на границе, один из эскадронов, стоявший на самом фланге монгольской кавалерийской дивизии, обогнул степями японцев, забрался глубоко в их тыл и, спилив там на одном из участков Хайларской линии полсотни телеграфных столбов, волоком притащил их на наши позиции.
Итак, блиндаж был совершенно новый, очень чистый и добротно сделанный, с коридорчиком, с занавесочкой и, кажется, даже с кроватью вместо нар.
Жуков сидел в углу за небольшим, похожим на канцелярский, столом. Он, должно быть, только что вернулся из бани: порозовевший, распаренный, без гимнастерки, в заправленной в бриджи желтой байковой рубашке. Его широченная грудь распирала рубашку, и, будучи человеком невысокого роста, сидя он казался очень широким и большим.
Ортенберг начал разговор. Мы примостились кругом. Жуков отмалчивался. Въедливый, нетерпеливый Лапин стал задавать вопросы. Жуков все продолжал отмалчиваться, глядя на нас и думая, по-моему, о чем-то другом.
В это время вошел кто-то из командиров разведки с донесением. Жуков искоса прочел донесение, посмотрел на командира сердитым и ленивым взглядом и сказал:
— Насчет шести дивизий врете: зафиксировано у нас только две. Остальное врете. Для престижа… Хлеб себе зарабатывают, — сказал Жуков, обернувшись к Ортенбергу и не обращая внимания на командира.
Наступило молчание.
— Я могу идти? — спросил командир.
— Идите. Передайте там у себя, чтоб не фантазировали. Если есть у вас белые пятна, пусть честно так и остаются белыми пятнами, и не суйте мне на их место несуществующие японские дивизии.
Когда офицер вышел, Жуков повторил:
— Хлеб себе зарабатывают. Разведчики. — Потом повернулся к Лапину и сказал: — Спрашиваете, будет ли опять война?
Борис заторопился и сказал, что это не просто из любопытства, а что они с Хацревиным собираются уезжать на Запад в связи с тем, что там, на Западе, кажется, могут развернуться события. Но если здесь, на Востоке, будет что-то происходить, то они не уедут. Вот об этом он и спрашивает.
— Не знаю, — довольно угрюмо сказал Жуков. И потом повторил опять: — Не знаю. Думаю, что они нас пугают. — И после паузы добавил: — Думаю, что здесь ничего не будет. Лично я думаю так.
Он подчеркнул слово «лично», словно отделяя себя от кого-то, кто думал иначе.
— Думаю, можете ехать, — сказал он, как бы закругляя разговор и приглашая нас расстаться.
Мы вышли. Ортенберг остался еще на несколько минут и вышел вслед за нами. Вопрос об отъезде Лапина, Хацревина и Славина был решен. Через день или два они отправились самолетом через Улан-Батор и дальше — на Москву.
Наша юрта опустела. Как раз в это время Ставский переселился от Ортенберга куда-то на Хамардабу, и я перебрался к Ортенбергу. Там же с нами в юрте жил приехавший сюда в эти дни от «Правды» Николай Кружков. Мне, уже начинавшему чувствовать себя журналистом, его приезд показался хорошим предзнаменованием. Казалось, что раз после окончания событий «Правда» послала его сюда из Москвы, наверное, тут что-то еще будет происходить.
Я застал здесь только несколько самых последних дней войны, и мне хотелось, чтобы здесь произошло что-то еще и чтобы я принял в том, что последует, участие с самого начала.
Пожалуй, в таком желании присутствовали и какие-то дурные авантюристические нотки. Но скажу в свое частичное оправдание, что мои первые впечатления от боев на Халхин-Голе были еще очень далеки от всего того, что породила в моей душе война 1941 года.
То было громадное, вдруг обрушившееся несчастье, которое я сразу, буквально в первые дни ощутил как трагедию. В 41–м году, особенно в первые, самые страшные месяцы, у меня в душе гораздо меньше места занимали чувство опасности и личные опасения за то, что будет со мной. Физический страх, конечно, был, но это совсем другое. Я говорю о том, что в 41–м году в голове почти не было мыслей о собственной судьбе, а мысли о трагической судьбе родины, о трагедии, которая происходит с ней. Что будет? Как же мы отступаем? Неужели это возможно, неужели немцы могут нас победить? Что это значит?
Там, на Халхин-Голе, все это у меня совершенно отсутствовало. Я ощущал тогда все происходившее там как войну, в которой были затронуты наши обязательства, наш престиж, наша гордость, затронуты мои представления о том, что наша армия лучше всех других. Там происходила проверка этих представлений, но при этой проверке еще никак не были затронуты самые большие трагические проблемы: судьбы родины, родных, близких, наших городов, нашей земли — ничто это затронуто не было. Все это, казалось, одно, а война на Халхин-Голе — совсем другое. Было радостно, что мы в ней победили. Даже хотелось, чтобы японцы еще раз полезли и чтобы мы их еще раз разбили. Было романтическое ощущение войны, а не трагическое. Было ощущение, похожее на то, какое я раньше испытывал, узнавая, что тот или другой из наших дерется или дрался в Испании.
Только тогда мне не повезло, я хотел, но не попал в Испанию, а здесь мне повезло, и я попал.
Я, конечно, уже и тогда не был таким несмышленышем, чтобы не представлять себе взаимосвязанности событий в Испании и на Халхин-Голе и того, что происходило на Западе, где Германия в эти дни воевала с Польшей. Логически, в уме, для меня и тогда существовали эти связи, но почувствовал их всем сердцем и всей шкурой я только тогда, когда сам окунулся в 1941 году в громадную трагедию общенародного бедствия.
Кстати сказать, в первый же день на фронте в 1941 году я вдруг и навсегда разлюбил некоторые стихи Киплинга, которые очень долго и очень упорно любил, любил еще на Халхин-Голе. Киплинг и после 41–го года не перестал для меня существовать как интересный поэт, многие стихи которого мне продолжают нравиться. Но киплинговская военная романтика, все то, что, минуя существо стихов, подкупало меня в нем в юности, вдруг перестало иметь какое-либо отношение к той войне, которую я видел, и ко всему тому, что я испытал. Все это в 41–м году вдруг показалось далеким, маленьким и нарочито напряженным, похожим на ломающийся мальчишеский бас.
А в 39–м, там, на Халхин-Голе, я еще любил все стихи Киплинга!
Пожалуй, именно на этом маленьком примере я могу самому яснее всего объяснить, что переменилось в моей душе по дороге от 1939–го к 1941 году.
Лапин, Хацревин и Славин уехали. Мы простились с ними, не зная, когда увидимся снова.
Сейчас, много лет спустя, мне снова вспоминаются все люди, с которыми мы были вместе там, на Халхин-Голе.
Вспоминается Ортенберг, к которому у меня уже тогда, на Халхин-Голе, пробивались робкие симпатии с примесью некоторой опаски и раздражения и которого я в годы большой войны полюбил как одного из самых близких своих друзей. Мучивший всех и мучившийся сам, тормошливый, непоседливый, бессонный, то отвратительно придирчивый, то ворчливо добрый, Ортенберг, каждые свободные полчаса ребячливо учившийся ездить на мотоциклетке, гонявший на ней вокруг наших юрт и то тут, то там с грохотом падавший. Сначала доносились рев, гудение, потом треск — и тишина. Это значило, что полковой комиссар опять упал с мотоциклетки.
Вспоминаются и другие товарищи по редакции. Тогда на Халхин-Голе уцелели все — никого даже не поцарапало. Никого, кроме Ставского, не ранило и на финской войне, хотя половина была и на ней. А за эту войну почти все они погибли.
Погиб под Харьковом толстый Миша Бернштейн, всюду чувствовавший себя как дома, носивший на толстом брюхе сразу два фотоаппарата, почти физически лишенный чувства страха, обжора и примитивный хитрец, умевший найти место для того, чтобы выспаться даже в землянке, где стояли всего один стол со штабными документами и одна табуретка.
Погиб, тоже под Харьковом, Миша Розенфельд.
Убит бандеровцами под Львовом Паша Трошкин, которого я видел на Халхин-Голе только мельком, — по-моему, самый храбрый из всех наших фотокорреспондентов, хотя мне всегда казалось потом, когда я его наблюдал, что он физически боялся смерти ничуть не меньше меня, но только быстрее и решительнее всех нас преодолевал это чувство.
Погиб под Великими Луками Ставский.
Погибли под Киевом Борис Лапин и Захар Хацревин. Потом некоторые писатели попрекали этим Ортенберга, якобы задержавшего их в Киеве, не отозвавшего их оттуда вовремя, когда их было пора отозвать, и т. д. и т. п.
Это кажется мне совершенной неправдой, одной из тех легенд, которые возникают, когда умирает очень хороший и дорогой человек и начинают говорить, что если бы он в тот вечер не попал бы туда-то или туда-то, или если бы врач приехал на пять минут раньше, или если бы… — словом, если бы не тысяча «если бы», то он непременно остался бы жив.
Конечно, в Киеве дело было не в том, что Лапина и Хацревина кто-то не отозвал или задержал, а в том, что они были — они, то есть люди долга. И во время трагических боев за Киев, пока там дрались и пока оттуда отступала армия, в которую они были посланы, они не могли не оставаться в ней и не могли не уходить вместе с нею. Они были настолько решительны и бескомпромиссны, что, если бы у них оказался в планшетках журналистский материал, который необходимо было напечатать в газете, а для этого нужно было самим доставить его в Москву, они бы пренебрегли поверхностным мнением о том, ловко это или неловко. Но в той обстановке, очевидно, у них не было и не могло быть такого материала. И, не чувствуя необходимости, а без этого не считая для себя возможным уехать, они не уехали. Так мне кажется.
Правда, все остальное — когда остатки армии уже погибали за Киевом, дерясь в окружении, — могло оказаться и трагической случайностью; Лапин и Хацревин, как и некоторые другие люди, могли выбраться из окружения, а могли и не выбраться. Говорят, что Хацревин заболел. У него вообще были тяжелые болезненные припадки. А Лапин не захотел его оставить и остался с ним.
Может быть, это одна из тех легенд, которые часто ходят вокруг гибели хороших людей, но она очень похожа на правду. Это было вполне в характере Лапина.
На Халхин-Голе мы первое время жили в одной юрте вчетвером: Славин, Лапин, Хацревин и я. Узкие железные койки стояли по кругу у войлочных стен. Посредине стоял стол, на котором писали, сидя на койках. Впрочем, иногда, когда особенно надоедали комары, залезали днем в раскаленную солнцем «эмку», закрывали все стекла, давили внутри всех комаров и потом писали, сидя в этом пекле. А вечерами устраивали в юрте небольшой костер из старых газет и выкуривали дымом комаров. Впрочем, вскоре их снова набиралась полная юрта.
Круглая дыра наверху юрты закрывалась четырехугольным войлоком, все четыре угла которого были привязаны снаружи крепкими веревками к канату, охватывавшему всю юрту примерно на середине ее высоты. Когда шли дожди и был сильный ветер, веревки лопались, войлок срывался, открывал наверху отверстие, и целые ушаты воды среди ночи опрокидывались на наши койки. Всем было мокро, но вылезать наружу никому не хотелось. Начиналась торговля.
Захар Хацревин, в быту самый ленивый из всех нас четверых, сразу же начинал уговаривать меня выйти наружу и привязать войлок. Если большая часть дождя падала не на его сторону юрты, он убеждал меня довольно вяло; но, если дождь сыпался сильней всего именно на его койку, он, тщательно закрывшись вторым одеялом и накинув на голову шинель, принимался за меня с максимальной для его лени энергией. Говорил он примерно следующее:
— Вы прелестный парень, Костя, мы все это знаем и ценим. Кроме того, вы моложе всех нас, и я надеюсь, что вы не станете отрицать этого. Кроме того, третьего дня я уже вылезал и привязывал вместе с вами этот проклятый войлок.
— Да, но вместе со мной, — возражал я.
— Да, вместе с вами. А теперь попробуйте справиться с этим войлоком один, без меня. Это будет вам даже интересно!
— Но почему? — упирался я. — Сегодня ваша очередь.
Но он не отступал:
— Ну подумайте сами, какая необходимость вам во мне, в этом жалком интеллигенте с кривыми руками, которые абсолютно, совершенно ничего не умеют делать? Вы были токарем. Вы человек физического труда, вам это будет абсолютно легко и интересно, я вас уверяю.
Славин, накрывши голову, курил трубку, пуская дым из-под шинели. Лапин хихикал. Я в конце концов вылезал из-под одеяла, надевал шинель и сапоги.
Кстати, о шинели. Первые три дня, как я приехал, мне так и не достали шинели по росту, и я ездил со Ставским не в шинели, а в своем московском штатском габардиновом плаще поверх обмундирования. Если прибавить к этому, что на голове у меня была каска, а на выглядывавшей из-под штатского плаща гимнастерке не было никаких знаков различия, потому что я не был аттестован, то неудивительно, что меня все эти три дня задерживали сразу же, как только я отходил на пять шагов от Ставского.
Ко времени, которое я описываю, эпоха плаща кончилась, он лежал в чемодане, и я ходил в шинели с чудовищно короткими рукавами и не сходившимися внизу полами.
Итак, я влезал в сапоги, надевал шинель и выскакивал на улицу. Навстречу летел отвратительный, мелкий, но сильный, как град, дождь. Я начинал, чертыхаясь, привязывать войлок. Войлок не подчинялся. Тогда совестливый Борис Лапин оказывал мне посильную помощь. Оказание помощи он начинал с того, что говорил мне:
— Костя, вы же знаете, что я ничего не вижу, поэтому дайте мне руками в руку конец веревки и покажите, куда его надо привязывать.
Я ему давал руками в руку конец веревки, и он начинал привязывать. Наконец, совершенно промокшие, мы возвращались и дрожа залезали под одеяла.
— Захар, в следующий раз пойдете вы, — довольно сурово говорил Лапин.
— Вы оба прелестные ребята. Вы, очевидно, прелестно завязали этот войлок. Я никогда в жизни не смог бы его так завязать, — сонно говорил из-под одеяла пригревшийся Хацревин.
Ходили они оба со знаками различия интендантов второго ранга — темно — зеленые петлицы с красными кантами, а на них по две шпалы и по маленькому золотому колесу, похожему на маховик печатной машины. Впрочем, колеса они с петлиц сняли, поэтому на фронте их несколько раз принимали за докторов и требовали участия в разных медицинских делах. Звание интендантов им, впрочем, как и всем без исключения писателям, не нравилось. И они были не прочь поиронизировать над собою по этому поводу.
Кстати, однажды Ортенберг после долгих и вполне штатских препирательств со Львом Исаевичем Славиным вдруг, рассвирепев и вспомнив, что он как-никак начальство, и притом военное, крикнул Славину:
— Товарищ интендант первого ранга, прошу мне не противоречить!
Мы все даже опешили от неожиданности.
Ортенберг после этого минут пятнадцать сохранял вполне официальный, строгий вид, но вечером, едучи куда-то со мной в машине, вдруг сам фыркнул, вспомнив об этом.
Хорошо помню Лапина и Хацревина на протяжении тех нескольких дней боев, которые я успел застать. Бои, как я уже писал, велись за взятие двух-трех последних сопок. Все было сосредоточено на пятачке, и поэтому мы сталкивались каждый день.
Хорошо помню, как Лапин и Хацревин появились в том батальоне, где мы были со Ставским, и как Лапин с повышенным интересом спрашивал, не произошло ли тут чего-нибудь, пока их не было. Ему постоянно сопутствовало чувство, что он чего-то не увидел и не успел и что это немедленно нужно исправить.
Помню их вытянутые лица, когда мы со Ставским забрались в танк, чтобы по кратчайшему пути пересечь обстреливаемый участок, а им уже не хватило места в танке, и они очень этим расстроились, а потом через несколько часов все же каким-то кружным путем оказались там же, где мы. И Хацревин удовлетворенно хихикал и потирал свои вечно зябнущие длинные пальцы. Он всегда потирал их тем особенным движением, которым протирает доктор зимой, придя с улицы, прежде чем начать осмотр больного. Это была очень характерная привычка.
А методичный Лапин все время вынимал небольшую записную книжечку и, близоруко щурясь за очками, что-то записывал.
Потом, уже в Москве, когда остались позади все монгольские ветры, дожди и непогода, кто-то — уже не помню кто — шутя мне рассказывал, что, когда Лапин и Хацревин после нескольких месяцев халхин-гольской эпопеи сели в купе международного вагона, Захар потянул носом, поднял воротник пиджака и, схватившись за горло, сказал Лапину:
— Боря, по-моему, какой-то сумасшедший открыл окно в коридоре. Пожалуйста, пойдите закройте. Я чувствую, как с каждой секундой все больше простуживаюсь.
Может быть, это была только шутка, но очень похожая на правду.
Позднее, осенью 1940 года, когда в Европе уже второй год шла война, мы случайно оказались с Хацревиным вместе в большом пустом подмосковном доме отдыха, где, кроме меня с ним, в те дни, помнится, жил только один, теперь покойный, Аркадий Гайдар.
Сидя у теплой печки, но тем не менее зябко нахохлившись и привычным движением потирая свои вечно зябнущие руки, Захар вспоминал о Халхин-Голе.
— Прелестное время! Теперь, на расстоянии, мне кажется, что даже Ставский был очаровательным парнишкой. (Он очень не любил Ставского.) А полковой комиссар Ортенберг с его отвратительной привычкой каждый день выпускать газету, не считаясь даже с погодой! А японские окопы, в которых было столько прекрасной рисовой бумаги! Вы знаете, как я люблю эту бумагу, какое удовольствие она мне всегда доставляла! А помните толстого Экслера, который во время воздушной тревоги бегал в щель с двумя касками на тот случай, если одна из них будет повреждена? А эти очаровательные дожди! Вы помните, как я под этими дождями завязывал нашу юрту?
— Ну, завязывал-то, положим, я.
— Теперь, на расстоянии, мне кажется, что завязывали не вы, а я. Во всяком случае, дожди были очаровательные и странные: они шли абсолютно параллельно земле. Мне иногда хочется опять попасть под такой дождь. А наш старшина Узультуев! А песенка, которую мы с вами написали:
А как полковой комиссар Ортенберг катался на мотоциклетке!..
Хацревин был болезненный, очень городской, очень воспитанный, с вкрадчивым голосом и неловкими руками человек. Но этот человек был готов ехать куда угодно: на край света, на войну, завтра, послезавтра, сию минуту…
Возвращаюсь в Монголию. Очень отчетливо стоит в памяти одна ночь, по-моему, около 10 сентября. Уже десять или двенадцать дней в Европе шла война. Не помню, по какому поводу я заехал поздно вечером в Тамцаг-Булак и остановился в юрте какого-то отдела, где была мощная радиостанция. Хозяин предложил:
— Хотите, послушаем Европу?
Мы начали настраивать радио. Поймали сначала какую-то промежуточную станцию, потом не то Москву, не то Ленинград — передавали оперу. Потом забрались еще дальше.
И вдруг, за семь или восемь тысяч километров, я услышал то самое, что сейчас можно услышать только в трофейных немецких кинохрониках. Я услышал передачу из только что взятого немцами Кракова. В то время я еще не окончательно забыл немецкий язык, да и содержание передачи было такое, что я мог понять почти каждое слово. Немецкий диктор вел передачу откуда-то, должно быть, с балкона где-то на центральной площади Кракова. Гремели оркестры, били барабаны, слышался грохот проезжающих танков, топот колонн. Немцы входили в Краков. Диктор кричал о том, какой это древний город, сколько в нем населения, на какой день войны он взят, какие части проходят. Все это прерывалось снова топотом, снова грохотом танков, снова оркестрами.
Перенесшись через восемь тысяч километров, эта далекая европейская война вдруг возникла во всей ее осязаемости здесь, в Азии, в этой юрте, на другом конце света, в пустыне, в штабном городке, где всего несколько дней назад затихла, неизвестно надолго ли, другая, здешняя война.
Война… Вот она влезла туда, вот она влезла сюда, вот она ползет и лезет из этого радио. В эти минуты я впервые с полной очевидностью почувствовал, что вот-вот мы будем воевать с немцами, что это непременно будет, и будет скоро, и что все это, что там происходит, лишь самое начало чего-то огромного и необъятно страшного. Именно не подумал, как не думал я об этом и раньше, а почувствовал.
Я не выдержал этого ощущения и попросил выключить радио. Снова наступила тишина. Я вышел из юрты. Кругом была черная, пахнущая овчиной, покоем степь. Потом где-то за несколько километров послышалось урчание самолетного мотора — должно быть, собирался на вылет один из ночных разведчиков эскадрильи, стоявшей недалеко от Тамцаг-Булака.
Потом в январе сорок пятого я попал в недавно освобожденный Краков и бродил по нему. И мне вспомнилась та монгольская ночь. Я стоял на одной из городских площадей, на той, где был магистрат, и мне подумалось, что, наверное, вот тут, с этого балкона, говорил тот немец, которого я слышал в 1939 году. Шел уже шестой год с тех пор, как я был в Тамцаг-Булаке, а война все еще продолжалась. И это была все та же самая, одна война, которая шла тогда и все еще шла теперь, и еще неизвестно было, когда и где она может кончиться. Это сейчас задним числом, после того как в конце войны события развернулись так быстро, нам самим кажется, что уже тогда было ясно, что все кончится вот-вот. А на самом деле ведь даже еще в апреле, когда уже брали Берлин, все еще боязно было поверить в исполнение наших желаний — в конец войны. Ведь еще и тогда казалось, что она может продлиться еще где-нибудь в Шварцвальде, в Баварии…
В Монголии тянулись последние перед перемирием дни. Воздушные бои шли со все возрастающей силой, а на линии фронта все было по-прежнему спокойно. Все ждали, что дальше: мирные переговоры или опять война. И в этом состоянии ожидания было неохота что-либо делать, хотя, впрочем, Ортенберг выколачивал из меня по стихотворению через день.
Больше всего в эти дни я ездил к танкистам. Между прочим, там произошла смешная история с моим револьвером. Как раз к окончанию военных действий я с некоторым опозданием, но все же, к большому моему удовольствию, получил на складе пистолет системы «ТТ» и немедленно сунул его в кобуру.
Теперь, имея при себе оружие, я возвращался ночью с передовых, постоянно представляя себе, что мы натолкнемся на какую-нибудь группу из числа рассыпавшихся по степи японцев, и не только наткнемся, но и непременно возьмем их в плен. В связи с этим я расстегивал кобуру и передвигал ее из-за спины поближе к животу, чтобы удобнее было выхватить пистолет. Ничего похожего не происходило, но пистолет все-таки заметно украшал мою жизнь.
И вот как-то, приехав к танкистам, к Михайлову, я увидел, как ординарец Михайлова и еще кто-то, расстелив плащ-палатку, чистили винтовку и два или три револьвера.
— Надо бы и мой почистить, — сказал я солидно.
— А вы дайте, — сказал Михайлов, — вам почистят.
Это предложение меня очень устраивало. Собственно, на него-то я и рассчитывал, ибо хотя слышал, что пистолеты надо чистить, но не знал и стеснялся спрашивать, как эта штука разбирается.
Я полез в кобуру, вынул пистолет и положил его на плащ-палатку. Михайлов поднял его двумя пальцами, посмотрел на него, потом на меня и спросил:
— Вот так вы его и возите?
— Да, — сказал я.
— Так, смазанный?
— Да. А что? По-моему, он хорошо смазан.
Я был в полной уверенности, что это так и есть, ибо мне дали со склада пистолет, добротно смазанный чем-то густым и желтым, и я вытер у него только рукоятку, чтобы она не скользила в руке, а остальное так и оставил, полагая, что где — где, а на складе-то уж знают, чем и как нужно смазывать оружие.
— Так это же у вас заводская смазка, — сказал Михайлов, — ею же смазывают для хранения! Разве можно стрелять с такой смазкой! Надо непременно все это вытереть и смазать заново ружейным маслом.
Я был удручен и унижен. Значит, напрасно я хватался за рукоятку, напрасно расстегивал кобуру и передвигал ее со спины на брюхо — все напрасно?
Наш лагерь сильно опустел. Уехали Розенфельд и Экслер, уехали Лапин, Хацревин и Славин, улетел шумный Миша Бернштейн.
Ставский жил на Хамардабе. Я и Кружков, единственные оставшиеся корреспонденты, ездили на передовые с утра, а к вечеру обычно возвращались. Около госпиталя помещалась юрта Монценкоопа, где монгольский кооператор в ватном халате и сапогах продавал несложный ассортимент товаров, главным образом папиросы «Борцы» и сгущенное молоко. Продавалось все это на монгольские деньги, на тугрики. Тугрики у нас были, но девать их там, в степи, было вовсе некуда и тратить не на что.
Как-то я купил там, в Монценкоопе, продававшееся в больших красивых коробках китайское печенье. Печенье это, может быть очень вкусное на любителя, мне показалось странным. Состояло оно из сала, смешанного с мукой и сахаром. Все это было скатано в большие шары и покрыто сверху яркими фиолетовыми, зелеными и желтыми разводами.
По ночам мы втроем — Кружков, Ортенберг и я — пили чай со сгущенным молоком. Кипятили чай прямо в кружках на железной печке и добавляли туда треть сгущенного молока. Получалась сладкая и дымная горячая бурда, которую тем не менее приятно было пить.
Ортенберг, когда заставал нас с Кружковым уже за чаепитием, начинал кричать, что, наверное, мы спутали кружки и взяли его кружку и что ему придется пить из наших, а он не собирается, потому что у него кружка чистая, а у нас грязные.
Кружки — все одинаково грязные, то есть не грязные, а темные от постоянных заварок, — были абсолютно похожи одна на другую, но Ортенберг искренне считал, что именно его кружка самая чистая.
Если мы днем не уезжали, то обедать ходили за километр в госпиталь. Там под маленьким навесом, за длинным столом ели похлебку с огромным количеством баранины. В степи свирепствовали комары. Для того чтобы хоть как-то поесть, садились в шинелях, подняв воротники, надев на руки перчатки, нахлобучив пилотки на лоб, а с двух сторон тарелки поставив в двух подсвечниках специальные японские, кажется с Формозы, зеленые тлеющие спиральки, которые, пока они тлели, хоть немножко отгоняли комаров. Спиралек этих мы набрали великое множество в японских окопах. Это был наш главный и очень радовавший нас трофей.
Газета выходила, заполняясь моими длиннейшими балладами, статьями Кружкова и не пошедшими раньше и находившимися в загоне очерками наших уже уехавших собратьев. Ортенберг, по-прежнему по целым дням пропадавший в войсках, среди ночи засыпал над газетными листами, потом вдруг вскакивал, открывал глаза и сразу, без паузы кричал:
— Певзнер!
Через минуту появлялся неизменно пунктуальный секретарь редакции — маленький чернявый Миша Певзнер.
Вечно не высыпавшегося Ортенберга за эту минутную паузу уже снова начинало клонить ко сну.
— Слушаю вас, товарищ полковой комиссар.
— Что вы пришли?
— Вы меня вызывали?
— Зачем я вас вызывал?
— Не знаю, товарищ полковой комиссар.
— Идите.
Проходило несколько минут. Ортенберг мучительно думал: зачем же он звал Певзнера, и затем обязательно или вспоминал, или придумывал, зачем бы его вызвать, и снова по степи разносилось:
— Певзнер!
В крайней юрте постукивала на машинке машинистка. Она была единственная женщина в нашем лагере и занимала целую юрту. Была она очень хорошая, очень тихая и не очень красивая женщина. Когда я приехал, старожилы рассказывали легенду, как Ортенберг в заботах о том, чтобы у него в редакции комар носу не подточил, выбирал для нашей «Героической красноармейской» машинистку. Ему сказали, что он может взять для газеты любую машинистку из семи или восьми находившихся в то время в распоряжении политотдела. Он вызвал их всех, долго задавал им всякие несущественные анкетные вопросы, а сам тем временем исподволь выбирал, какая понекрасивее. Наконец выбрал и, счастливый, увез ее в редакцию. К сожалению, она еще и не очень быстро печатала.
Четырнадцатого или пятнадцатого сентября был последний большой воздушный бой. Только в поле нашего зрения в разных местах упало по крайней мере полтора десятка самолетов, а всего, кажется, за этот день мы сбили их не то тридцать, не то сорок.
На следующий день с утра мы помчались на Хамардабу. Были получены сведения, что сегодня в нейтральной зоне начинаются переговоры с японцами. Хотя лишних людей не брали, но мне удалось присоединиться к Ортенбергу и Ставскому, и часа через полтора или два мы наконец доехали до передовых, замыкая колонну из шести или семи машин.
Место будущих переговоров представляло собою гряду невысоких песчаных холмов с узкими лощинами между ними. В одной из этих лощин, прилепясь сбоку к подножию холма, стояло, вернее, почти висело одинокое кривое дерево, первое дерево, которое я увидел здесь.
Мы вышли из машины. На основании всего предыдущего не было причин особенно доверять японцам. Позади нас, замаскированные ветками, стояли несколько танков. Пулеметы тоже были наготове.
Полковник Потапов, заместитель Жукова, согласно предварительным переговорам по радио, должен был в этот день встретиться с японцами в нейтральной зоне, между нашей колючей проволокой и их окопами, для того чтобы договориться о месте ведения дальнейших переговоров.
Впоследствии Потапов командовал 5–й армией под Киевом и, тяжело раненный, попал в плен к немцам. А дивизионный комиссар Никишев, который был членом Военного совета нашей армейской группы на Халхин-Голе, также под Киевом застрелился.
Потапов был худощавый, высокий, чуть-чуть резковатый, но при этом подтянутый и в чем-то самом главном безукоризненно корректный человек, то, что называется «военная косточка». Этот день был для него последним его полковничьим днем. В ходе переговоров выяснилось, что японцы намерены направить завтра в качестве главы своей комиссии по переговорам генерал-майора. Жуков, не желая заменять Потапова кем-то другим и в то же время не считая возможным, чтобы наш представитель был в меньшем звании, чем японец, запросил Москву, и там присвоили Потапову очередное звание комбрига, в котором он на следующий день и явился на переговоры.
Мы, человек десять или двенадцать, перевалили через сопочку, спустились по ее откосу и подошли к нашим проволочным заграждениям. Впереди была ничья земля и японцы. Позади нас были молчаливые желтые холмы, за грядой которых — мы знали это — все было готово для того, чтобы выручить нас на случай провокации.
Прошло несколько минут ожидания. Японцев не было. Потом на гребне других холмов, метрах в трехстах или четырехстах, появились машины; оттуда вышли японцы и быстро пошли навстречу нашим. Когда они прошли три четверти расстояния, Потапов и еще двое пошли навстречу им. Нам было велено остаться, и мы остались около прохода в колючей проволоке, на несколько шагов выйдя вперед за нее.
Встреча произошла шагах в тридцати от нас. Японцы отсалютовали саблями, наши отдали честь. Произошел короткий разговор. Японцы повернулись и пошли к своим машинам, а наши тоже повернулись и пошли назад.
Как выяснилось, переговоры были назначены на завтра; место было выбрано здесь же поблизости, на маленьком плато, в нейтральной зоне, в километре от наших позиций и на таком же расстоянии от японских. Там договорились поставить три большие палатки: одну для нашей делегации, другую для японской и третью, центральную, для заседаний. Устройство этой центральной палатки брали на себя японцы.
Число членов делегаций с обеих сторон было определено, кажется, по пять человек. Ставский устроился в состав делегации в качестве писаря, что вызвало у всех в штабе группы веселое оживление. Но он непременно хотел присутствовать при всех переговорах, а другой вакансии не было, и Ставский вечером срочно разыскивал четыре старшинских треугольничка вместо своих шпал.
Мне было обещано, что я смогу находиться в этой нейтральной зоне в нашей палатке. Насчет присутствия в палатке для переговоров сказали, что об этом не может быть и речи.
Но к этому времени во мне уже начинала пробиваться жилка военного корреспондента, и я решил, что главное — забраться завтра в нейтральную зону, в нашу палатку, а там будет видно!
Вернулись к себе в Баин-Бурт поздно ночью, а на рассвете выехали обратно на переговоры.
Жалею, что ничего не записывал тогда. Три дня переговоров с японцами, на которых мне тогда пришлось присутствовать, изобиловали многими любопытными, а подчас и значительными подробностями. Не хочется сейчас придумывать, пользуясь памятью как канвой, а поэтому — только о том разрозненном, что действительно помню.
Вторая половина сентября в Монголии в тот год была уже по-зимнему холодной и ветреной. Ехали мы с Ортенбергом и Кружковым издалека и рано и, когда добрались до нейтральной полосы, отчаянно прозябли. Вылезли из «эмочки» на холод, дрожа в своих шинелях. Ветер гнул траву, высоко над горизонтом стояло по-зимнему холодное и неяркое солнце; вдали виднелись желто-серые отроги Хингана, а до них тянулась гряда больших и малых желтых холмов. Невдалеке за ближними из этих холмов что-то курилось, может быть, стояли походные японские кухни, а может быть, жгли трупы убитых.
В лощине, где вчера встретились парламентеры, уже стояли три палатки: ближняя — наша, к ней был проведен телефон из штаба, потом, метров за сто, центральная — большая шелковая палатка, похожая по форме на что-то очень знакомое — не то на памятные по детским книжкам рисунки княжеских походных шатров, не то на шатры из половецких плясок в «Князе Игоре». Еще дальше стояла третья — японская — палатка.
Участники переговоров, наши и монголы, все наутюженные, начищенные, уже вылезли из машин и небольшой группкой стояли возле нашей палатки. Японцы целой толпой теснились вдалеке около своей палатки. Нас было явно меньше. Как всегда в таких случаях, у нас считали хорошим тоном, чтобы было поменьше корреспондентов, газетчиков. В результате нас оказалось всего трое, не считая Ставского, который стоял поодаль в солдатской шинели с четырьмя треугольничками старшины: он уже официально как писарь входил в делегацию и не соприкасался с нами.
Сначала произошла небольшая заминка. Обе стороны, несмотря на все предварительные строжайшие и точнейшие инструкции, все-таки не совсем точно знали, что им делать, в какой именно момент шагнуть вперед и когда приложить руку к фуражке.
После этой заминки все вдруг разом двинулись. Мы, не теряя времени, пошли следом.
Навстречу нам шли японцы. Они были почти все в отличавших северную Квантунскую армию зимних шинелях с большими лохматыми собачьими воротниками. Шинели были перепоясаны портупеями с мечами. Впереди шел генерал, за ним два или три полковника и несколько младших офицеров. Их сопровождала целая толпа журналистов, фотографов и кинооператоров.
Обе группы, наша и их, встретились перед центральной палаткой. Все обменялись приветствиями и откозыряли. Японские фотокорреспонденты и кинооператоры засуетились: они приседали, забегали вперед, слева и справа, беспрерывно щелкая затворами и снимая всех нас вместе и порознь.
А у меня, как на грех, отлетели именно в эту минуту сразу две пуговицы на шинели. Я стоял, как скучающий приказчик, сложив руки на животе, маскируя отсутствие двух пуговиц и придерживая разлетавшиеся на ветру полы шинели. Все наши были до того начищены и наглажены, что я не сомневался: заметь кто-нибудь из начальства отсутствие у меня этих двух проклятых пуговиц, я был бы немедленно изгнан с территории переговоров.
Через минуту или две этого стояния японские солдаты отогнули шелковый полог, и члены делегации вошли в палатку. Там внутри стоял длинный и довольно широкий стол и два десятка стульев. С обеих сторон, посередине, стояло по мягкому креслу для руководителей делегаций. Остальные расселись по бокам, наши — с одной стороны стола, японцы — с другой.
За три дня переговоров я постепенно прочно втерся в эту палатку. Ортенберг, который сразу же устроился там в первый день, все время придумывал мне какие-то поручения, чтобы я ему приносил или относил какие-то мифические материалы, а на самом деле — пустую папку, в которой ничего не было.
В первый вечер после переговоров комбриг Потапов ворчал и даже грозился пожаловаться на Ортенберга Жукову. Но, как говорится, стерпится — слюбится, и на второй и третий день я уже сидел в палатке, как гвоздь, и меня было трудно выковырнуть оттуда.
Увы! В первый же час переговоров выяснилось, что наши переводчики годятся только на самый худой конец. Основным переводчиком на переговорах стал японский майор со штабными аксельбантами: маленький, юркий, хихикающий, скалящий зубы, словом, совершенно похожий на тех японцев, каких любили изображать в кино наши актеры. Он говорил по-русски с сильнейшим акцентом и в то же время с идеальным литературным знанием русского языка. При переводе и еще больше в вольных беседах в перерывах между переговорами он щеголял идиомами и русскими поговорками: «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней», «Тише едешь, дальше будешь» и т. д. и т. п., причем все это очень забавно звучало в его устах. Улыбался он беспрестанно.
Между прочим, любопытная подробность: в первый же момент, когда я увидел японцев, я заметил, что офицеры при встрече с нами почти все улыбались подчеркнуто и напряженно. А стоявшие позади них солдаты вовсе не улыбались, их лица были спокойны и серьезны. Тогда это показалось мне результатом дисциплины, повиновения. Потом, шесть лет спустя, уже в Японии, я понял, и, кажется, правильно, что пресловутая, не сходящая с губ японская улыбка и быстрая мимика, которые, пока не привыкнешь к ним, кажутся ужимками, — все это отнюдь не общенародная привычка или обыкновение. Это скорей результат современной японской цивилизации в наиболее поверхностном ее выражении, признак воспитания, принадлежности к определенным привилегированным кругам. Что же касается японских крестьян, то я, немного поживя в японской деревне, могу утверждать, что трудно представить себе более естественное, простое, без малейших элементов фальши человеческое поведение, чем у них. Но это между прочим.
А переговоры тем временем шли. Основные вопросы были, разумеется, уже решены при подписании перемирия в Москве, хотя на всякий случай наши и монгольские войска здесь, на Халхин-Голе, продолжали оставаться в повышенной боевой готовности.
Здесь, на месте, переговоры сводились главным образом к вопросам порядка и времени демаркации границы, на которую вышли наши и монгольские войска, к вопросу о том, на какое расстояние к ней можно и нельзя приближаться, и, наконец, к вопросу о взаимной передаче пленных и выдаче трупов.
Этот последний вопрос стал камнем преткновения на переговорах.
О формальностях, связанных с временной демаркацией границы, и о взаимной передаче пленных договорились быстро. Что же касается выдачи трупов, то тут переговоры затянулись надолго.
Так как все бои происходили на территории Монголии и почти все убитые с обеих сторон были убиты на монгольской территории, то теперь, когда мы повсюду вышли на линию границы, японцы должны были предъявить нам, согласно нашему заявлению, всего-навсего не то сорок два, не то пятьдесят два трупа наших и монгольских бойцов, убитых за пределами монгольской территории в тот момент, когда мы замыкали кольцо вокруг окруженных японских войск. А японских трупов, зарытых на монгольской территории, насчитывалось, по нашим соображениям, пятнадцать — двадцать тысяч.
Здесь придется сделать оговорку. Общее число японцев, погибших за все время боев, было еще больше. Но доставка на родину тела убитого, а вернее, его сожженного праха для японцев ритуал, освященный религией и традициями. Поэтому до самого последнего момента, пока не замкнулось наглухо наше кольцо, японцы вывозили и вытаскивали в тыл тела своих убитых и стали зарывать их на месте только в последние пять — шесть дней боев, когда были совершенно окружены нами. Попало их в это кольцо около двадцати тысяч. Сдалось нам около двухсот человек. Из этих цифр нетрудно догадаться о степени ожесточенности боев и об упорстве сопротивления японцев.
Как выяснилось впоследствии, дерясь и погибая в этом окружении, японцы тем не менее хоронили своих, ведя специальные карты, а точнее, рисованные от руки планы, на которых они помечали, где, в каком месте, на какой глубине и сколько похоронено трупов.
То, чему я стал свидетелем, говорит мне, что, очевидно, какое-то количество офицеров и унтер-офицеров еще в дни боев по ночам, в одиночку, пробиралось к своим из района окружения через расположение наших войск, имея при себе эти планы.
Забегая вперед, скажу, что потом, когда разрывали эти могилы, я видел японского поручика, бледного, видимо еще страдающего от раны, с забинтованной и подвязанной к шее рукой и с планом в руке. Это было на той самой Ремизовской сопке, штурм которой я наблюдал. Он стоял и следил за работой своих солдат, проверяя по плану, где зарыты трупы. По некоторым признакам я заметил, что он сверяется не только с планом, но и с собственной памятью. Он смотрел в разные стороны, отмечал какие-то подробности, потом опять заглядывал в план. Я спросил его, был ли он здесь. Он сказал, что да, он был здесь. Я спросил его, как давно. Он назвал день, в который мы брали эту сопку, день, в который я тоже был здесь.
Возвращаюсь к переговорам. Японцы оказались в затруднении. Они, конечно, знали примерную общую цифру своих убитых, оставшихся на монгольской территории; одна часть этих убитых была похоронена ими самими, и это было нанесено на карты и планы. Другая часть была похоронена тоже ими самими, но планов не имелось: люди с планами не дошли — погибли. И, наконец, очень много японцев, погибших в самые последние дни, было зарыто уже после боев нашими похоронными командами.
События на Халхин-Голе, кончившиеся разгромом 6–й японской армейской группы, были небывалым позором для командования Квантунской армии, хотя сама по себе японская пехота, надо отдать ей должное, дралась в этих боях выше всяких похвал. Японское командование, по ходу дела представлявшее лживые — то победоносные, то уклончивые — реляции, боялось того, что в печать и общество просочатся сведения об истинных размерах неудач и потерь. Эти сведения, кстати сказать, все-таки просочились потом, хотя и в неполном виде. Где-то, кажется в «Асахи», было напечатано, что японцы потеряли на Халхин-Голе не то пятнадцать, не то восемнадцать тысяч убитыми. Но даже и эта сильно преуменьшенная цифра произвела тогда в Японии сенсацию.
И вот, прося о передаче им трупов солдат, представители Квантунской армии, с одной стороны, в силу традиций, хотели, чтобы им было передано возможно большее количество трупов, а с другой стороны, выставляя свои требования, они не хотели указывать, какое количество их солдат и офицеров было в действительности убито. Тогда бы их заявка фигурировала как официальный документ. По этому поводу и шли длинные и хитроумные переговоры.
С советско-монгольской стороны тоже были некоторые затруднения. Нам и не хотелось заставлять своих бойцов выкапывать японские трупы, и в то же время не хотелось пускать на монгольскую территорию для раскопок японские похоронные команды. Войска стояли в боевой готовности, район был укреплен, и предоставить японцам возможность осматривать его нам вовсе не хотелось.
Так возникли первые препирательства. Наконец мы согласились на то, чтобы японцы вырывали трупы своими силами. Тогда они предъявили карты, где были указаны погребения буквально во всех сколько-нибудь важных с военной точки зрения пунктах нашего расположения. Среди этих сорока-пятидесяти пунктов одни соответствовали действительности, другие могли соответствовать, а третьи были абсурдными.
Начались новые препирательства. Наконец договорились о том, что японцам будет разрешено выкопать трупы в десяти основных пунктах. При этом мы затребовали от них цифру, сколько всего их солдат погребено на нашей территории. Японцы заявили, что, по их подсчетам, на монгольской территории осталось три тысячи трупов, но так как мы ограничиваем возможность раскопок только десятью пунктами, то такого количества трупов они вырыть не надеются.
Затем пошли переговоры о составе команд. Выяснилось, что японцы хотят послать десять команд по сто человек в каждой. Японцы попросили, чтобы из уважения к умершим, которых будут откапывать их товарищи, мы бы дали возможность солдатам, которые будут работать, иметь при себе тесаки.
Мы согласились.
Тогда японцы попросили, чтобы их офицеры, которые будут руководить работами, могли иметь при себе огнестрельное оружие, а затем и позондировали почву, не могут ли и солдаты иметь при себе карабины. Потапов разозлился и спросил: не входит ли в церемониал их военных почестей стрельба из пулеметов, не желают ли они прихватить с собой и пулеметы?
Вот тут-то, насколько мне помнится, майор-переводчик и произнес русскую поговорку: «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней», — прикрыв этой иронией отступление.
В конце концов договорились: у солдат будут тесаки, а у офицеров — мечи.
Новый спор возник о том, сколько же дней нужно десяти командам по сто человек, чтобы вырыть три тысячи трупов. Опять началась торговля. Японцы назвали не то двадцать, не то пятнадцать дней. Наши давали два дня, потом три, наконец согласились на пяти. Наши ссылались на то, что, исходя из сообщенной самими японцами цифры, каждый из тысячи их солдат должен за пять дней вырыть всего три трупа. Японцы в ответ говорили о трудностях поисков, о тяжелом грунте и о чувствах солдат, которые будут вырывать из земли трупы своих товарищей и должны делать это осторожно, чтобы не задеть их тела лопатами и кирками.
Никогда в моем присутствии столько не говорили о трупах: с утра до вечера склонялось слово «трупы» — «трупы», «на трупах», «при трупах». «При трупах» употреблялось главным образом в смысле оружия. Японцы настаивали на том, что если при трупах будет найдено оружие, то это оружие они имеют право взять с собой. Наши возражали и говорили, что все оружие, которое осталось на территории Монголии, считается трофейным. Наконец, кажется, договорились на том, что все найденное холодное оружие заберут с собой японцы, а все огнестрельное останется у нас.
Дальше пошел разговор о документах, планшетах, полевых сумках и т. д. Он тянулся нескончаемо, пока не договорились, что увезено будет только то, что окажется в карманах обмундирования; все планшеты, полевые сумки и прочее, найденное при раскопках, останется у нас.
К концу третьих суток осатанели все — и наши, и японцы. Кончили переговоры, по-моему, на четвертые сутки, днем. Потом был маленький перерыв, а вечером в честь окончания переговоров наши дали ужин японцам в той же самой палатке, где мы три дня беспрерывно говорили о трупах.
Стол был заставлен закусками, икрой, водкой и коньяком. Прислуживали мобилизованные для этой цели три самые миловидные девушки из военторга.
Пили из пиал. Наливали их полными. Сидевший напротив меня майор-переводчик пытался передернуть и вообще сопротивлялся, но ему сказали, что, по русским обычаям, если девушка наливает полный бокал или чашку, то не выпить — значит, оскорбить ее, выразив сомнение в ее нравственности. Не помню, кто так находчиво придумал этот старинный русский обычай, но на майора, уже находившегося под легким градусом, это подействовало.
— Да, да, я слышал что-то подобное, — подтвердил он, не то не видя другого выхода из положения, не то не желая признаться, что он не знает чего-то, связанного с Россией и русскими традициями.
Выпив эту пиалу залпом, дальше он стал пить поистине беззаветно. К нему, впрочем, присоединились и остальные. Даже хмурый штабной майор, молодой красивый японец, все переговоры сидевший на самом конце стола впритык, ближе всех остальных к нашей делегации и за трое суток не проронивший ни слова, к концу вечера неожиданно заговорил на довольно приличном русском языке, пытался ухаживать за официанткой и даже затянуть какую-то песню.
Руководивший делегацией японский генерал-майор встал, картинно приоткрыл полог палатки и, глядя на небо, на котором сияла полная луна, витиевато сказал, что сегодняшняя луна сияет, как наше приятное собрание, и, как оно, уже клонится к закату, и он просит извинения у высокого русского командования, ибо он должен ехать к своему высокому японскому командованию.
В просторечии это означало: «Господа офицеры, пошли, пока не поздно, а то, я вижу, у вас развязываются языки».
Вслед за генералом кое-как встали и остальные члены делегации: ужин был закончен.
На следующий день был ответный ужин, который давали японцы, но туда я уже не попал.
На вторые сутки после окончания мирных переговоров началась процедура передачи трупов. Было сделано десять проходов в колючей проволоке и организовано десять маршрутов с махальщиками на поворотах. На всякий случай вдоль маршрутов выставили побольше пулеметов во всех удобных, а иногда и неудобных местах.
Десять колонн японских машин с белыми флагами в один и тот же час двинулись через наше расположение. Раскопки продолжались сначала пять, потом три дополнительных дня, о которых попросили японцы, и еще два дня, которые мы добавили сами, — в общем, всего десять дней. Если не ошибаюсь, японцы выкопали восемь с лишним тысяч трупов и могли бы копать еще и еще. Теперь мы бы им это охотно разрешили, имея на то особые причины.
Действовавшая на Халхин-Голе 6–я армейская группа генерала Комацубары была полностью уничтожена в боях, и тысячу человек, предназначенных для рытья трупов, японцам пришлось взять из состава тех двух или трех новых японских дивизий, которые к этому времени подтянулись к монгольской границе. Говорили даже, что поначалу японцы специально взяли этих людей из разных дивизий с целью возбудить у новичков гнев и жажду мщения за погибших товарищей. Получилось же совершенно обратное.
В дни раскопок, как назло японцам, вдруг вновь установилась сухая и по-летнему жаркая погода. Трупы были похоронены уже давно. Как только вскрывали какое-нибудь место погребения, вокруг распространялся тяжкий смертный смрад. По мере того как трупы наваливали в грузовики, а солнце поднималось к зениту, смрад все усиливался, и к вечеру, когда грузовики, наполненные трупами, уезжали, становилось просто невыносимо дышать.
Сначала японские солдаты перед тем, как, согласно отмеченному на плане крестику, начать раскапывать могилу, становились в строй в положении «смирно», снимали свои каскетки, опускали их до земли, кланялись, потом надевали их и осторожно принимались за работу для того, чтобы, копая, не задеть тела погибших. Так было в первый день.
Но уже на третий или на четвертый день картина переменилась. Трупов было такое множество, смрад стоял такой страшный, солнце палило так немилосердно, что солдатам уже ничто не могло помочь, даже надетые на рот и нос просмоленные черные повязки. Солдаты знали теперь только одно: как бы поскорей развязаться с тем или другим погребением и закончить работу, назначенную им на сегодняшний день.
Вместе с лопатами теперь в ход пошли железные крюки, которыми подцепляли трупы. Лопатами рыли теперь уже вовсю, с маху, кроша землю и тела. Крюками поддевали, как дрова, и швыряли в машины полусгнившие лохмотья человеческих тел.
Картина эта была поистине чудовищной в своей бесконечности. Сделавшись тягостно-привычной, она все больше утрачивала свою первоначальную связь с уважением к останкам погибших товарищей. Теперь это была просто нескончаемая черная, страшная работа гробокопателей, что не замедлило сказаться на японских солдатах, несмотря на всю их дисциплину. Согласно полученным нами сведениям, солдаты похоронных команд были деморализованы. Во всех дивизиях пошли разговоры о том, какое громадное количество трупов похоронено там, в Монголии, и какое, значит, поражение понесли там японские войска.
Сначала японцы попробовали бороться с этим, прекратив посылку солдат из разных дивизий и назначив во все команды солдат из одной дивизии. Потом и это не помогло — слухи продолжали расходиться, и, несмотря на желание японцев выкопать как можно больше трупов, на десятый день они сами прекратили работы, вопреки нашей готовности разрешить их продолжение.
Так и стоит перед глазами эта картина: жаркий осенний день, даже не жара, а какой-то острый сухой зной. Легкий ветерок колеблет уже засохшую, полужелтую траву. В лощине стоят желто-зеленые японские грузовики с открытыми бортами, и на них навалено что-то черное и зеленое, на что страшно взглянуть и что еще страшнее представить себе, закрыв глаза.
На скате холмика, над лощиной, где зияет разрытая земля и в этой земле видны какие-то непонятные куски и пятна, надо всем этим, на скате, сидят и отдыхают несколько десятков японских солдат. Их каскетки у одних сдвинуты на затылок, у других положены рядом; смоляные повязки сдвинуты со рта и оставлены только на носу; солдаты жуют связки сушеной рыбешки и мелкие японские галеты. Поодаль сидит офицер. Он не ест и не снимает повязку, он развернул на планшетке план погребения и что-то отмечает на нем. Так и вижу все это перед собой, как будто это было вчера.
Итак, на десятые сутки с мертвыми было покончено. Осталась последняя процедура — с живыми — передача пленных.
Но сначала, чтобы не забыть, — один характерный эпизод: к этому времени мы получили странное сообщение, что командующий Квантунской армией (то есть, по существу, всем маньчжурским фронтом) генерал Уэда в связи с событиями на Халхин-Голе смещен с должности, а непосредственно командовавший уничтоженной на Халхин-Голе 6–й армейской группой генерал Комацубара получил орден, дай бог памяти, не то бронзового орла, не то черного ястреба. Сообщение поистине загадочное, если не учесть некоторых особенностей психологии тогдашней японской правящей клики.
Генерал Комацубара на следующий день после того, как кольцо наших войск вокруг его частей замкнулось, вылетел из этого кольца в тыл, в Маньчжурию. Формально, как показывали пленные офицеры, для организации отпора нашему дальнейшему продвижению в глубь Маньчжурии, а фактически, может быть, и просто для спасения своей особы. Впрочем, дело не в этом.
Когда генерал Комацубара вылетел из окружения, у японцев, никак не ожидавших такого быстрого разгрома на Халхин-Голе, в эти дни ни в районе боев, ни на подходе не было никаких серьезных резервов. И наши, и монгольские войска наличными силами, будь на то приказ, могли бы в два-три дня пройти сто километров до самого Хайлара и, чего доброго, занять его без особого сопротивления.
Но войска наши, наоборот, получили строгий приказ, выйдя на линию государственной границы Монголии, не пересекать ее, остановиться и немедленно начать окапываться и возводить проволочные заграждения.
Комацубара, после своего разгрома на Халхин-Голе почти ничего не имея под рукой, собрал все, что он мог наспех наскрести: пару железнодорожных батальонов, немножко баргутской кавалерии, остатки какого-то вышедшего из окружения полка, сводный полицейский полк, — и с этими войсками занял реальное соотношение сил в те дни, это была оборона в кавычках.
Но мы, не имея приказания двигаться, не двигались и только продолжали возводить полевые укрепления на государственной границе. Комацубара со своей полицией и железнодорожниками тоже, естественно, не двигался, стоял на месте и доносил, что он «сдерживает натиск советских войск и не пускает их на маньчжурскую территорию». Так он простоял с неделю и дождался подхода спешивших из других пунктов Маньчжурии японских дивизий.
Очевидно, эпизод этой «успешной обороны» маньчжурской границы со столь ничтожными силами против во много крат превосходящего противника выглядел в Токио столь героично, что бросивший в окружении на гибель две свои дивизии незадачливый генерал, которому, в сущности, по японским понятиям о чести следовало сделать себе харакири, вместо этого вдруг получил орден.
Трудно судить, в какой мере это награждение было произведено сознательно, с целью поддержать версию о японских успехах на Халхин-Голе, и в какой мере стало результатом дезинформации Комацубарой высшего начальства. Наверное, имело место и то и другое. Очевидно, японская военщина по самой своей психологии не могла представить себе, чтобы чьи-то войска, имея перед собой открытый фронт, не перешли бы границу и не устремились бы на чужую территорию. А если они не могли себе этого представить, то, следовательно, должны были предположить, что кто-то задержал советско-монгольские войска; задержать же их в тот момент мог только генерал Комацубара со своими полицейскими и железнодорожниками.
Так выглядит этот необъяснимый на первый взгляд эпизод военной карьеры командующего японскими войсками на Халхин-Голе.
Возвращаюсь к рассказу.
Передача пленных происходила 2 октября в двух пунктах: передача здоровых, а вернее, ходячих пленных была назначена там же, где раньше велись переговоры, в центре, чуть ближе к правому флангу наших позиций. А передача тяжелораненых и не могущих двигаться назначена была ближе к нашему левому флангу, километра за полтора перед нашими позициями, на поле, которое могло служить аэродромом. Туда должны были прилететь наши самолеты, груженные японскими пленными, и их самолеты, груженные нашими пленными.
Мы с Ортенбергом приехали к месту передачи ходячих пленных рано, за час до начала процедуры. По дороге мы обогнали человек двести, маршировавших под конвоем, японцев, половина из них — легкораненые — шли с повязками, человек тридцать ехали на грузовиках.
Едва мы прибыли на место, как выяснилось, что кто-то чего-то не предусмотрел и в результате все представители — и наши, и японские — оказались здесь. А туда, где будут передавать тяжелораненых, не послано ни одного полномочного представителя.
Между тем условленное время передачи приближалось.
Чтобы понять последующее, надо представить себе схему расположения наших и японских позиций. Наши, шедшие по границе, позиции представляли собой в этом месте вогнутую в нашу сторону дугу. Таким образом, для того чтобы проехать с правого фланга на левый по нашим дорогам, шедшим за нашими позициями, надо было делать объезд по всей этой дуге. Если же сделать тот же путь — с фланга на фланг — через японские позиции, можно было ехать по хорде этой окружности, то есть по значительно более короткой дороге.
Наш представитель — майор, которого теперь собирались отправить вместе с переводчиком туда, на левый фланг, — поехав в объезд дорогами, шедшими позади наших позиций, явно опоздал бы к началу передачи. Это сорвало бы намеченный ритуал, а мы хотели в точности придерживаться его.
Тогда тут же, на месте, неожиданно быстро договорились с японцами, и их представитель, полковник, взялся ехать вместе с нашими по прямой через японское расположение. Ортенберг, который в таких случаях мгновенно ориентировался, буквально впихнул меня в «эмку», рядом с переводчиком, прошептав мне в ухо, чтобы я не валял дурака, пользовался случаем и ехал:
— Там будет у тебя настоящий материал! Гораздо интереснее, чем околачиваться тут!
Я еще не успел ничего сообразить, как шофер уже крутанул баранку и мы поехали вслед за желтым японским «шевроле», нырявшим по дороге впереди нас. Поехали мы впопыхах, все вооруженные. Кроме того, сзади на сиденье лежала винтовка шофера, а в ногах у нас было почему-то навалом насыпано десятка полтора гранат. Переводчик высунул через окно палку с белым платком. Это, согласно предварительной инструкции, должно было изображать белый парламентерский флаг.
Не успели мы проехать за японцами и полутора километров, как молчаливый длинный майор, ехавший на переднем сиденье, вдруг повернулся и взъелся на переводчика:
— Чего вы высунули эту тряпку? Что мы, сдаваться, что ли, едем? Уберите!
Переводчик сказал:
— Инструкция.
— Мало ли что инструкция. Мы не сдаваться едем. Мы победители. Нечего нам с этой тряпкой ездить. Уберите, говорю я вам!
Переводчик сказал:
— Но они же тогда могут в нас стрелять.
— Пусть попробуют! — сказал решительный майор, и палка с платком была убрана.
Нельзя сказать, чтобы меня обрадовал этот обмен репликами, но я, как лицо безгласное, сидел в углу машины и ждал, что будет дальше.
Проехав километра четыре, мы услышали впереди несколько взрывов, похожих на взрывы гранат. Потом дорога круто повернула, мы обогнули какой-то холмик, и передо мной открылась картина, которую я едва ли когда забуду.
За грядой холмов была довольно ровная степь. В степи, за несколько сот метров вправо от нас, начинался и уходил вдаль глубокий ров шириной в два — два с половиной метра. В нем было навалено что-то сильно дымившееся. Поодаль, метрах в тридцати, стояли солдаты с лопатами; а еще немножко поодаль — группа офицеров, наблюдавших за происходившим. Этот дым был тот самый, который мы видели издалека, с места переговоров, а этот ров был местом сожжения вырытых на нашей территории японских трупов. Взрывы, которые мы слышали, когда проезжали, и которые слышали и потом, когда уже миновали это место и поехали дальше, были взрывы обойм с патронами и фанат, оставшихся в обмундировании у убитых. Они рвались там, во рву, когда до них доходил огонь. Этим, кстати, наверное, объяснялось то, что, облив бензином очередную партию трупов, солдаты отходили на приличную дистанцию от рва.
«Так вот оно, пресловутое священное сожжение трупов, — подумал я. — Кому чей прах попадет при таком сожжении? Что будет вложено в какую урну, чьи останки на каком из японских островов окажутся и, наконец, всегда ли это будет прах людей или иногда и прах убитых лошадей, которых тоже, бывало, закапывали по соседству с погребенными солдатами, а потом вместе отрывали и грузили на машины — не из пренебрежения, а просто потому, что в этой страшной каше из обрывков гниющих тел уже иногда не было человеческих сил разобрать где что».
Теперь все это, сваленное с грузовиков, лежало, облитое бензином, во рву и горело. Потом этот пепел клался в аккуратные урны, урны запечатывались, вывозились по железной дороге через Маньчжурию, через море и опять по железным дорогам развозились на места в патриархальные домики японских деревень, и престарелые родители верили, что заботливо сбереженный прах их сына действительно покоится в этой урне.
Вся эта картина погребения не вызвала во мне тогда ничего, кроме удивления, смешанного с жалостью к мертвым и отвращением к живым.
Двигаясь по хорде, мы заехали, я думаю, километров на десять в глубь японского расположения. На дорогах стояли столбы со стрелками — указателями. Каждые два-три километра попадались заправочные пункты, то есть просто стояло несколько бочек с бензином, и при них — солдат.
Проезжали легковые машины и грузовики, и тут же, рядом, мокрые, вспотевшие японские солдаты, втроем или вчетвером впрягшись в двухколесную повозку, тащили бочку с водой.
Степь была очень ровная, но, в противоположность нашим прифронтовым местам, наезженных колей было мало, шла только одна дорога; иногда стоял указатель поворота, и шло ответвление в сторону. Как я потом узнал из разговоров, японцы, чтобы не блуждать и не путаться по ночам в степи, под страхом дисциплинарных взысканий запретили наезжать новые колеи; движение было разрешено только по уже наезженным дорогам. В условиях войны в пустыне нельзя не признать это вполне разумной мерой.
Наконец мы стали вновь приближаться к нашим позициям. Вдруг японская машина остановилась, полковник вылез из нее и на ломаном русском языке сказал, что придется минуту подождать: маленькая неисправность в моторе, сейчас шофер исправит. Японец — шофер стал копаться в моторе, а мы стояли радом: полковник Харада — опираясь на свой самурайский меч, а наш мрачный майор — заложивши руки за спину и с удовольствием глядя на испортившуюся японскую машину.
Не помню, о чем мы говорили; о чем-то, очевидно, говорили, потому что прошло минут десять, а японец все еще копался с машиной. Наш шофер ходил вокруг японского. Ему явно и мучительно хотелось объяснить японцу, что надо предпринять, и, судя по его виду, он точно знал, что именно надо сделать, но не решился вмешаться и лишь искоса поглядывал на майора, ожидая разрешения. Наконец японец что-то подвернул, подкрутил, мучения нашего шофера кончились; мы сели и снова поехали вслед за японцами.
— Не терпелось помочь, — желчно сказал майор.
— Так ведь что там: продуть, и всё, — сказал шофер. — А он не понимает.
— А ты бы ему продул.
— Да я бы продул, да ведь не знаю, можно ли…
— То-то — «не знаю», — сказал майор. — Пусть останавливаются. А мы подождем, мы не гордые. Пусть на наших глазах унижают достоинство своей техники.
Мы проехали еще минут пять, и японцы опять остановились. Полковник Харада вылез и сказал, что нам придется подождать минуточку, потому что в машине снова что-то испортилось. Японский шофер, подняв капот, лихорадочно завозился в машине, наш ходил кругом него, полковник Харада по-прежнему опирался на свой самурайский меч и смотрел в спину своему шоферу такими глазами, что я подумал, шоферу сегодня не миновать палок или чего-нибудь в этом роде — уж очень судорожно улыбающимся было лицо у полковника Харады.
Так мы постояли минут десять. Майор посмотрел на небо, потом на часы и сказал:
— Опоздаем.
Потом опять помолчал, видимо, колеблясь, и наконец сказал шоферу:
— Федосеев, помогите.
Федосеев кинулся к мотору. С минуту они поговорили с японским шофером на том непонятном для всех других, особом шоферском языке, о котором в одном из военных очерков сорок первого года так хорошо писал Евгений Петров; японец что-то повернул, наш что-то повернул, кто-то куда-то подул, мотор завелся, и мы поехали.
Японцы ехали по-прежнему впереди нас, на дистанции шагов в сто. На нашем пути встретился маленький холмик, и мы на несколько секунд потеряли японцев из виду: они уже перевалили, а мы только поднимались. А когда мы поднялись на холмик, то увидели, что японцы атакованы нашим броневичком, на крыле которого с наганом в руке стоит какой-то из наших командиров. Полковник Харада, вылезший из своего «шевроле», что-то пытался показывать руками. Наш командир, не сходя с подножки броневика, тоже жестикулировал, но жестикуляция у него получалась более внушительная, ибо в одной руке у него оставался забытый в пылу спора наган.
Подъехав, мы выяснили, в чем дело. Оказывается, мы из нейтральной зоны заехали в зону одной из наших дивизий. И надо сказать, что у капитана, стоявшего на подножке броневика, заметно омрачилось лицо, когда он увидел нас и, выслушав наши объяснения, уразумел, что мы едем вместе с этим японским полковником, что японец — парламентер и что его нельзя схватить и пленить.
— А что мне — парламентер, не парламентер! — не сдавался капитан. — Вот продержу его два дня — пусть узнает, как заезжать на нашу линию!
— Так он же с нами!
— Ну и что ж, что с вами? А вот заехал. Вот задержу его дня на два!
— Пока вы только нас зря задерживаете!
— Вас пропустим, а его задержим!.. Вот сейчас задержим, — доверительно обратился он теперь уж непосредственно к японцу, — задержим, и всё!
— Ну ладно, довольно, — сказал мрачный майор. — Некому будет пленных сдавать и принимать. Поехали!
— Буду провожать вас до границы нашей зоны.
— Провожайте, провожайте.
И мы поехали, теперь уже мы впереди, за нами — Харада, а за ним — бравый капитан на броневичке.
Наконец мы приехали на площадку, где должны были приземляться самолеты. По условиям, самолетов должно было приземлиться восемь: четыре с нашей стороны и четыре с японской.
Через несколько минут после нашего приезда первыми, согласно условию, стали приземляться японские самолеты. Три из них пришли пустыми — только для того, чтобы забрать японских пленных. Только на четвертом оказались тяжелораненые наши — человек двенадцать: небритые, грязные, обросшие, ужасно исхудалые, в большинстве с тяжелыми ранениями, некоторые с ампутациями.
Один взятый еще в мае старшина был страшно худой, заросший до глаз бородой, в которой появилась седина, с ввалившимися глазами, с перебинтованной грудью, с одной ногой в шине и, что меня особенно поразило, в обгорелой гимнастерке без одного рукава. Так он был взят на поле боя, раненный в грудь, ногу и руку, в обгоревшей гимнастерке, и в таком же виде его возвращали нам через пять месяцев.
Здесь же на площадке стоял наш маленький санитарный автобус. Оттуда раненым быстро притащили еду, шоколад, кажется, сгущенное молоко и еще что-то, поили их и кормили. Минут через пятнадцать подошли и наши самолеты; они снизились один за другим, и наши с помощью японцев стали вытаскивать оттуда японских тяжелораненых. Было их, по-моему, человек семьдесят, все на носилках, все тяжелые; некоторые могли садиться на носилках, некоторые лежали пластом. Все были одеты в чистое белье и в чистенькое, новенькое, с иголочки, японское обмундирование. Рядом с каждым лежала на носилках новенькая японская шинель, каждый был накрыт до пояса новеньким японским одеялом, словом, видимо, все соответствовало инструкции — «сдать в полном порядочке».
Я так и слышу, как звучат эти слова: «сдать в полном порядочке». Сдали действительно в полном порядочке. Кстати сказать, это было нетрудно: в наши руки попало не то пятнадцать, не то двадцать тысяч полных комплектов зимнего обмундирования, завезенного японцами в предвидении зимней кампании.
Японцы лежали мрачно и тихо, чувствовалась их угнетенность. Полковник Харада, очень любезный и улыбчивый с нами, вдруг стал говорить каким-то свистящим, как хлыст, голосом. Бывшие тут же два японских майора и два капитана — как выяснилось, военные врачи — распоряжались выгрузкой и главным образом погрузкой пленных на самолеты. Японские санитары действовали грубо, швыряли носилки об землю, но никто из раненых не застонал и не охнул. Наши вытаскивали их гораздо мягче, вежливей, и даже не вежливей, а просто-напросто сердечней.
Японцы вели себя со своими ранеными нарочито грубо. В этом чувствовалась не столько действительная грубость, сколько необходимость быть грубыми на глазах у начальства, необходимость показать презрение к этим пленным. Санитары старались вовсю. Доктора считали носилки и тоже разговаривали резкими и свистящими голосами. Ни один из них так и не ответил на те несколько вопросов, которые — стоя рядом, я слышал это — задали им пленные. Врачи и санитары, не стесняясь, перешагивали через носилки.
Потом, когда выгрузили всех пленных, санитары вдруг появились с пачками белой бумаги, пошли вдоль рядов и одному за другим, быстро и грубо, начали надевать каждому из раненых на головы колпаки, похожие на большие пакеты, в которые у нас в магазинах насыпают крупу. Эти большие пакеты из плотной, в несколько рядов склеенной бумаги напяливались пленным на головы.
Как-то странно и тяжело было смотреть, как тем из раненых, кто сам не мог приподнять голову, грубо приподнимали ее и нахлобучивали на нее пакет, а следующий, тот, кто мог поднимать голову, уже сам приподнимался на локтях и вытягивал шею навстречу пакету.
Полковник Харада проходил мимо меня. Я задержал его и спросил: что они делают с пленными? Он быстро остановился и произвел на своем лице два необыкновенно быстрых движения: сначала он быстро улыбнулся. Это был жест по отношению ко мне — он отвечал на мой вопрос. Потом эта улыбка так же быстро исчезла, и нижняя губа полковника оттянулась в надменную гримасу. Кивнув на пленных и сделав очень короткий и очень презрительный жест в их сторону, он сказал:
— Это надевают на них для их пользы, чтобы им было не стыдно смотреть в лицо офицерам и солдатам императорской армии.
Наверно, надо было сказать ему, что после всего происшедшего на Халхин-Голе некоторым генералам и офицерам японской армии следовало бы надеть на голову такие мешки, чтобы им не было стыдно смотреть на своих возвращающихся из плена солдат, но, как часто в таких случаях бывает, эта мысль пришла мне в голову позднее, чем нужно. Харада уже отошел и отдавал какие-то распоряжения.
Пленных японцев быстро и грубо запихивали, именно запихивали, в японские самолеты, наших погрузили в один из наших самолетов. Самолеты один за другим начали подниматься в воздух, а мы остались на быстро опустевшей посадочной площадке.
Если мы хотели застать хотя бы конец официальной церемонии на главном пункте передачи пленных, надо было немедленно ехать назад. Однако когда мы подошли к машинам, то выяснилось, что машина полковника Харады в третий раз испортилась, и его шофер, стоя спиной к нам, копался в моторе. Харада, ни слова не говоря, подошел к нему сзади и, держа свой офицерский меч за середину, легонько дотронулся ножнами до ноги шофера. Одновременно он слегка обернулся к нам и улыбнулся. Улыбка была для нас. Шофер повернулся. У него были такие испуганные глаза, что я понял: пока над ним стоит Харада, он может копаться в моторе два, три, двенадцать часов, но все равно с этими ошалевшими от страха глазами ничего не починит. Харада сказал что-то по-японски, шофер тоже ответил по-японски. Харада улыбнулся нам и сказал:
— Боюсь, что не доедем.
Тогда мы предложили ему сесть в нашу машину вместе с нами. Он поколебался и сказал:
— Хорошо, спасибо.
Задержавшись около своего шофера, он начал что-то говорить ему. В это время наш угрюмый майор и переводчик препирались, как быть теперь: выставлять через окно белый флаг или нет. Теперь перед нами уже не поедет японская машина, так что в нас наверняка будут стрелять.
— Да, но с нами ихний полковник едет, — сказал майор.
— Да, но его не сразу увидят. Увидят нашу машину в тылу японского расположения. Представьте себе, в нашем тылу — японская машина! Сперва обстреляют нас, а потом уже его заметят, — говорил переводчик.
— Что же, в нашей машине будет японский полковник, — говорил майор, — а мы белый флаг выставим, как будто мы сдались ему? Нет, так, без флага поедем!
Полковник Харада подошел к нам, и мы сели в нашу «эмку», майор снова впереди, а мы втроем сзади: с одного бока переводчик, посредине полковник, а с другого бока я. Харада был изрядно стиснут между нами. Меч, поставленный между ногами, мешал ему, и на кочках казалось, что он вот-вот выбьет себе мечом зубы. Кроме того, ему мешала лежавшая сзади на сиденье винтовка, а вид рассыпанных на полу гранат тоже, наверно, действовал не слишком утешительно.
Должно быть, сыграла свою роль и недавняя встреча с ретивым капитаном броневичка. Во всяком случае, когда мы стали разворачиваться и выезжать с посадочной площадки, Харада встревожился и стал говорить:
— Нет, не сюда, а сюда! Дорога сюда!
Он, очевидно, опасался, что его завезут в наше расположение. Майор повернулся и мрачно сказал:
— Я дорогу знаю. Где раз проехал, второй раз знаю. Я вас довезу, вы не беспокойтесь.
— Я не беспокоюсь, — сказал полковник и начал опять улыбаться и расспрашивать нас о каких-то вещах, вовсе не относившихся ни к нашей поездке, ни к войне: о женщинах, о высшем образовании и о Москве, где он когда-то был не то помощником военного атташе, не то кем-то еще.
Теперь мы уже явно ехали по японской территории, но полковник, стиснутый нами с двух сторон и сидевший в нашей машине, видимо, чувствовал себя все-таки неуютно. Мы с переводчиком тоже чувствовали себя не слишком хорошо и все время боялись, что кто-нибудь из японских солдат, стоявших на постах на поворотах дороги, возьмет и выпалит в нас. Я очень удивлялся, как этого не случилось. Может быть, японцев гипнотизировала неукротимая уверенность нашего майора, что все будет в порядке и что его никто не посмеет тронуть, а может, их ошеломлял вид одинокой, без всякого сопровождения проезжавшей через их позиции русской машины, но никто из них так и не выстрелил. Винтовки поднимались, машина подъезжала ближе, в пяти шагах японцы видели стиснутого между нами японского полковника, делали ему на караул по-ефрейторски, и мы проезжали дальше.
Так в конце концов мы благополучно вернулись к месту переговоров.
К тому времени, когда мы вернулись, церемония опроса и подсчета была закончена, и мимо нас промаршировали пленные.
Вначале прошли наши, их было человек восемьдесят. Во главе их шел одетый в синий танкистский комбинезон худой, черный, бородатый человек с печальными глазами и рукой на перевязи. Это, как мне сказали, был майор — командир батальона нашей бронетанковой бригады. Его считали погибшим в одном из боев еще в июле. Но оказалось, что он в плену. Как старший по званию среди пленных, он вел колонну.
Наши пленные молча прошли мимо нас и скрылись за поворотом дороги, уходившей к нашим позициям. Потом прошли японцы. Замыкая их колонну, ехали две открытые машины, в которых сидели раненые главным образом в ноги.
Дорога. По ней, замыкая колонну, едет последняя машина с японскими пленными. Она едет сначала мимо маленькой группы наших врачей и сестер, потом мимо группы наших командиров, руководивших передачей, потом мимо большой группы японских офицеров.
И вот на этом последнем куске дороги, под взглядами всех, кто стоит по сторонам ее, в кузове последней машины поднимается японец и демонстративно долго приветственно машет нашим врачам и сестрам перевязанной бинтом кистью.
Все стоят молча, наши и японцы, все это видят. А он, приподнявшись в кузове, все машет и машет рукой, машет долго, до тех пор, пока машина не скрывается за поворотом.
Кто был этот человек? Японский коммунист или просто человек, которому спасли жизнь наши врачи и который, несмотря ни на что, хотел выразить им последнюю благодарность? Что ждало этого человека там, в Японии: дисциплинарное взыскание или военный суд? Не знаю, но эта сцена до сих пор живет в моей памяти. Потом, вернувшись с Халхин-Гола, я написал об этом стихотворение «Самый храбрый», но мне не удалось выразить в нем все то, что было у меня на сердце, когда я видел эту сцену.
Вот, пожалуй, и все, что имело смысл вспомнить в связи с моей первой корреспондентской работой в Монголии. Многое забылось, а многое помнится слишком туманно для того, чтобы иметь право записывать это на бумагу.
После обмена пленными я провел на Халхин-Голе всего три или четыре дня. Меня тянуло на Запад. Казалось, что там, на Западе, вот-вот развернутся военные события. К счастью, я тогда ошибся на полтора года.
Два или три дня не было самолета. Я решил съездить проститься к танкистам. Майор Михайлов свез меня на Баин-Цаган, на место знаменитого Баин-цаганского побоища, где наши танки одни, без пехоты, уничтожили перебравшуюся на этот берег Халхин-Гола японскую дивизию. Мы ездили и ходили по этой большой плоской горе. Михайлов показывал мне места, откуда выходили его танки, где он шел сам, где убили его водителя, где он разворачивался, где стояли японские пушки.
Было холодно, дул сильный ветер, выдувал песок из-под травы и обнажал ее корни. Всюду по горе были расшвыряны гильзы, осколки, вдавленные котелки, а кое-где рядом с кусками железа в песке валялись кости.
Все-таки поле боя всегда печальное зрелище, даже когда это победное поле, даже когда оно уже почти заросло травой и не являет своим видом ничего ужасного.
На следующий день мы от нечего делать ездили с Ортенбергом в степь на озера и стреляли из нагана в уток, и он даже убил одну или двух, потому что утки не привыкли здесь, чтобы по ним стреляли; они сидели на виду, абсолютно неподвижно и, взлетев после выстрела, снова садились на прежнее место. Но добраться до уток мы так и не смогли, потому что вода озер была обманчивой. Под белой водой тянулись непроходимые солончаки.
На обратном пути в нашу редакцию я в последний раз видел монгольский мираж. На горизонте громоздились горы, потом они подтаяли, и у их подножия оказалось озеро. Потом исчезло и озеро и появился лес. Потом исчез и он.
Мы поздно вернулись и долго сидели в юрте, вспоминая прошедшие дни. С боями здесь было кончено, новых как будто не предвиделось. В окрестных степях было холодно, ветрено и пустынно.
А на следующий день вдруг подвернулся самолет ТБ-3. На этом самолете везли человек тридцать пленных, не то баргутов из Внутренней Монголии, не то японцев, не пожелавших вернуться к себе. Везли их в Читу. Они были погружены в крылья, а нас с Кружковым посадили в переднюю штурманскую кабину.
По стечению несчастных случайностей полет едва не кончился плохо. Сначала мы увидели, как перестал крутиться один винт и мы медленно пошли на трех моторах над сплошными лесами. Недалеко от Читы отказал второй мотор. К счастью, мы находились на большой высоте, и пилот, теряя высоту, стал медленно идти на оставшихся моторах. Так он тянул тридцать или сорок километров, пока наконец мы сели — не там, где должны были, не долетев до Читы.
Когда мы вылезли из самолета, совершенно измученный пилот стоял и стирал пот с лица и шеи.
— Прилетели, — сказал он. — Не думал, что долетим.
На полуторатонке добрались до Читы. Читинский поезд ушел пятнадцать минут назад. Предстояло трое суток ждать следующего, потому что сесть на проходящий хабаровский или владивостокский в те дни не было никакой возможности.
Если не ошибаюсь, в Читу мы попали около десятого октября. Через неделю я был в Москве, а еще через день оказался в Западной Белоруссии…
1948–1968
К биографии Г. К. Жукова
Часть первая. Встречи
Эта первая часть заметок связана с моими встречами с Г. К. Жуковым в разные годы между 1939–м и 1967–м.
Я не биограф Георгия Константиновича Жукова, и то, что я пишу о нем, не биография, а именно заметки к ней, попытка взглянуть на этого выдающегося военного деятеля глазами писателя.
Хочу добавить, что я участник войны, человек своего поколения, и мое восприятие личности Г. К. Жукова не сводится к личным встречам и разговорам. На протяжении многих лет мы много слышали и читали о Жукове, и в моих глазах, так же как и в глазах других людей, постепенно складывался облик этой крупной личности. Это уже не субъективное восприятие от личных встреч, а более объективное и широкое, связанное с народным отношением и народной молвой, которая еще в ходе Великой Отечественной войны признала Г. К. Жукова одним из народных героев и, независимо ни от чего, неизменно продолжала стоять на своем. Частица этого общего чувства присутствует и в моем восприятии личности Г. К. Жукова.
На Халхин-Гол я попал поздно, в конце событий. Шли дни нашего последнего, августовского наступления. Японская группировка уже была окружена плотным кольцом наших и монгольских войск, и ее добивали в барханах восточней реки Халхин-Гол, брали штурмом последние оставшиеся в руках у японцев сопки — Ремизовскую, Песчаную, Безымянную…
Я знал, что нашей армейской группой командует комкор Жуков, что он кавалерист, приехал сюда из Белорусского военного округа. И в войсках, и в нашей армейской редакции говорили о нем с уважением. Говорили, что крут и решителен, говорили, что хотя на Халхин-Гол съехалось много высшего начальства, но Жуков не дал себя подмять, руководит военными действиями сам, сам же, «по слухам», и предложил план окружения японцев. Поговаривали, что были и другие планы, но Жуков настоял на своем, и там, в Москве, Сталин и Ворошилов утвердили его план.
Позже, когда окруженных японцев добили и на фронте установилась не то тишина, не то затишье перед новой бурей, в одном из разговоров я услышал подтверждение того, о чем уже слышал раньше.
В моих записках о Халхин-Голе сохранилась такая запись:
«Как-то во время одного из своих заездов на Хамардабу мне пришлось впервые столкнуться в военной среде с теми же самыми спорами о талантах и способностях, и притом почти в той же непримиримой форме, в какой они происходят у братьев — писателей. Я не предполагал встретиться с этим на войне и поначалу удивился.
Дожидаясь не то Ортенберга, не то Ставского, я сидел в одной из штабных палаток и разговаривал с командирами-кавалеристами. Один из них — полковник, служивший с Жуковым чуть ли не с Конармии, — убежденно и резко говорил, что весь план окружения японцев — это план Жукова, что Жуков его сам составил и предложил, а Штерн не имел к этому плану никакого отношения, что Жуков талант, а Штерн ничего особенного из себя не представляет и что это именно так, потому что — он это точно знает — никто, кроме Жукова, не имел отношения к этому плану.
Разговор не носил личного характера. Если бы это было так, о нем не стоило бы и вспоминать. В словах полковника была та же увлеченность и безапелляционность, которая нередко бывала в наших собственных разговорах, когда мы, молодые питомцы Литературного института, категорически настаивая на талантах своих любимых поэтов и учителей, попутно развенчивали всех остальных».
Жукова я впервые встретил неделю спустя, утром после назначенной на предыдущую ночь, но в последний момент отмененной частной операции против новых, только что подошедших японских частей. Приведу и на этот раз отрывок из своих халхин-гольских записей.
«На следующий день мне с Ортенбергом, Лапиным и Хацревиным пришлось быть у Жукова. Ортенберг хотел узнать, насколько реальны, по мнению Жукова, сведения о близком наступлении японцев, на что нам ориентироваться в газете.
Штаб помещался по-прежнему все на той же Хамардабе. Блиндаж у Жукова был новый, видимо только вчера или позавчера срубленный из свежих бревен, очень чистый и добротно сделанный, с коридорчиком, занавеской и, кажется, даже с кроватью вместо нар.
Жуков сидел в углу за небольшим, похожим на канцелярский, столом. Он, должно быть, только что вернулся из бани: порозовевший, распаренный, без гимнастерки, в заправленной в бриджи желтой байковой рубашке. Его широченная грудь распирала рубашку, и, будучи человеком невысокого роста, сидя он казался очень широким и большим.
Ортенберг начал разговор. Мы примостились кругом. Жуков отмалчивался. Въедливый, нетерпеливый Лапин стал задавать вопросы. Жуков все продолжал отмалчиваться, глядя на нас и думая, по-моему, о чем-то другом.
В это время вошел кто-то из командиров разведки с донесением. Жуков искоса прочел донесение, посмотрел на командира сердитым и ленивым взглядом и сказал:
— Насчет шести дивизий врете: зафиксировано у нас только две. Остальное врете. Для престижа… Хлеб себе зарабатывают, — сказал Жуков, обернувшись к Ортенбергу и не обращая внимания на командира.
Наступило молчание.
— Я могу идти? — спросил командир.
— Идите. Передайте там у себя, чтобы не фантазировали. Если есть у вас белые пятна, пусть честно так и остаются белыми пятнами, и не суйте мне на их место несуществующие японские дивизии.
Когда командир вышел, Жуков повторил:
— Хлеб себе зарабатывают. Разведчики… — Потом повернулся к Лапину и сказал: — Спрашиваете, будет ли опять война?
Борис заторопился и сказал, что это не просто из любопытства, а что они с Хацревиным собираются уезжать на Запад в связи с тем, что там, на Западе, кажется, могут развернуться события. Но если здесь, на Востоке, будет что-то происходить, то они не уедут. Вот об этом он и спрашивает.
— Не знаю, — довольно угрюмо сказал Жуков. И потом повторил опять: — Не знаю. Думаю, что они нас пугают. — И после паузы добавил: — Думаю, что здесь ничего не будет. Лично я думаю так.
Он подчеркнул слово «лично», словно отделяя себя от кого-то, кто думал иначе.
— Думаю, можете ехать, — сказал он, как бы закругляя разговор и приглашая нас расстаться».
Таким было первое, надолго врезавшееся в мою память впечатление о Жукове. Оно сохранилось тем отчетливее, что в следующий раз я увидел Жукова лишь через пять с половиной лет, в тот день, когда Кейтель, Штумпф и Фридебург прилетели в Берлин подписывать акт о безоговорочной капитуляции германской армии.
Однако о впечатлениях мая 1945 года потом, позже.
А сейчас о другой встрече с Жуковым, уже после войны, в октябре 1950 года.
Я встретил Жукова совершенно неожиданно для себя, в многолюдстве, на тесном кисловодческом пятачке. Я знал, что он командует Уральским военным округом, но здесь, на отдыхе, он был не в военном, а в штатском, которое, впрочем, сидело на нем так же привычно и ловко, как и военная форма.
Я понимал, что он не может помнить меня в лицо, и, представившись, сказал, что был у него на Халхин-Голе.
— Да, конечно, — сказал Жуков, — по-моему, мы и потом с вами встречались, во время войны.
Это была естественная ошибка памяти: ему показалось, что я, как и многие другие военные корреспонденты, тоже был у него где-то на фронте.
Пришлось ответить, что мне в этом отношении не повезло, я так ни разу и не встретился с ним за всю войну, до самого ее конца.
Я попросил его уделить мне время и ответить на некоторые вопросы о Халхин-Голе, объяснив, что мною задуман роман, герои которого участвуют в этих событиях.
Жуков немного помедлил. Я понимал, что в те годы, после его освобождения с поста первого заместителя министра обороны, и его положение, и его душевное состояние были не из легких. Мне даже показалось, что сейчас он откажется, не захочет говорить со мной ни о Халхин-Голе, ни о себе. Однако после короткого молчания он сказал:
— Хорошо.
И тут же назначил место и время встречи.
Встреч было две, по нескольку часов каждая, причем одна из них происходила у вдовы Орджоникидзе, Зинаиды Константиновны, в санатории, где она жила.
Обе беседы с Жуковым были записаны мною тогда же, сразу после наших встреч.
Вспоминая Халхин-Гол, Жуков говорил о масштабах поражения, которое понесли японцы.
— Помню, мы как-то заехали в район речки Хайластин-Гол. Там, когда японцы пытались вырваться из кольца, их встретила наша 57–я дивизия, и они оставили там столько убитых, что едешь ночью по этому полю боя и слышно, как ребра хрустят под машинами. И страшный запах трупов… А помните, как потом, уже после переговоров, они выкапывали трупы своих, погибших в окружении? Столько выкопали, что под конец иногда увидят — и стараются скорей обратно забросать землей, чтобы не выкапывать, закончить. Уже самим невтерпеж стало…
После этого он вернулся в разговоре к тем событиям начала июля 1939 года, когда он только что приехал на Халхин-Гол и вступил в командование.
Об этих событиях, о Баин-цаганском сражении, или, как чаще говорили тогда, о Баин-цаганском побоище, нашем первом крупном успехе после полутора месяцев боев, я был наслышан еще там, на Халхин-Голе. Сражение произошло в критический для нас момент. Японцы крупными силами пехоты и артиллерии переправились на западный берег Халхин-Гола и намеревались отрезать наши части, продолжавшие сражаться на восточном берегу реки. А у нас не было вблизи на подходе ни пехоты, ни артиллерии, чтобы воспрепятствовать этому. Вовремя могли подоспеть лишь находившиеся на марше танковая и бронебригады. Но самостоятельный удар танковых и бронечастей без поддержки пехоты тогдашней военной доктриной не предусматривался.
Взяв, вопреки этому, на себя всю полноту особенно тяжелой в таких условиях ответственности, Жуков с марша бросил на японцев танковую и бронебригады.
Вот что говорил об этом он сам, одиннадцать лет спустя:
— На Баин-Цагане у нас создалось такое положение, что пехота отстала. Полк Ремизова отстал. Ему оставался еще один переход. А японцы свою 107–ю дивизию уже высадили на этом, на нашем берегу. Начали переправу в 6 вечера, а в 9 часов утра закончили. Перетащили 21 тысячу. Только кое-что из вторых эшелонов еще осталось на том берегу. Перетащили дивизию и организовали двойную противотанковую оборону — пассивную и активную. Во-первых, как только их пехотинцы выходили на этот берег, так сейчас же зарывались в свои круглые противотанковые ямы, вы их помните. А во-вторых, перетащили с собой всю свою противотанковую артиллерию, свыше ста орудий. Создавалась угроза, что они сомнут наши части на этом берегу и принудят нас оставить плацдарм там, за Халхин-Голом. А на него, на этот плацдарм, у нас была вся надежда. Думая о будущем, нельзя было этого допустить. Я принял решение атаковать японцев танковой бригадой Яковлева. Знал, что без поддержки пехоты она понесет тяжелые потери, но мы сознательно шли на это.
Бригада была сильная, около 200 машин. Она развернулась и пошла. Понесла очень большие потери от огня японской артиллерии, но, повторяю, мы к этому были готовы. Половину личного состава бригада потеряла битыми и ранеными и половину машин, даже больше. Но мы шли на это. Еще большие потери понесли бронебригады, которые поддерживали атаку. Танки горели на моих глазах. На одном из участков развернулось 36 танков, и вскоре 24 из них уже горело. Но зато мы раздавили японскую дивизию. Стерли.
Когда все это начиналось, я был в Тамцаг-Булаке. Мне туда сообщили, что японцы переправились. Я сразу позвонил на Хамардабу и отдал распоряжение: «Танковой бригаде Яковлева идти в бой». Им еще оставалось пройти 60 или 70 километров, и они прошли их прямиком по степи и вступили в бой.
А когда вначале создалось тяжелое положение, когда японцы вышли на этот берег реки у Баин-Цагана, Кулик потребовал снять с того берега, с оставшегося у нас там плацдарма артиллерию — пропадет, мол, артиллерия! Я ему отвечаю: если так, давайте снимать с плацдарма все, давайте и пехоту снимать. Я пехоту не оставлю там без артиллерии. Артиллерия — костяк обороны, что же — пехота будет пропадать там одна? Тогда давайте снимать все.
В общем, не подчинился, отказался выполнить это приказание и донес в Москву свою точку зрения, что считаю нецелесообразным отводить с плацдарма артиллерию. И эта точка зрения одержала верх.
Рассказав о Баин-Цагане, Жуков вдруг вспомнил о майоре Ремизове, полк которого оказался на марше слишком далеко, чтобы поспеть в тот день к началу боя.
— Вы знали Ремизова? — спросил он.
Я сказал, что не застал его в живых, только слышал о нем.
— Хороший был человек и хороший командир, — сказал Жуков. — Я любил его, и ездить к нему любил. Иногда, бывало, заезжал чайку попить. Ремизов был геройский человек, но убили его по-глупому, на телефоне. Неудачно расположил свой наблюдательный пункт, говорил по телефону, а местность открытая, и пуля прямо в ухо влетела. На месте.
С Ремизовым была такая история. Когда мы окружали японцев, он рванулся вперед со своим полком, прорвался вглубь.
Японцы сразу бросили на него большие силы. Мы сейчас же подтянули туда бронебригаду, которая с двух сторон подошла к Ремизову и расперла проход. — При этом Жуков показал руками, как именно бронебригада расперла этот проход. — Расперли проход и дали ему возможность отойти. Об этом один товарищ послал кляузную докладную в Москву, предлагал Ремизова за его самовольные действия предать суду и так далее… А я считал, что его не за что предавать суду. Он нравился мне. У него был порыв вперед, а что же это за командир, который в бою ни вперед, ни назад, ни вправо, ни влево, ни на что не может самостоятельно решиться? Разве такие нам нужны? Нам нужны люди с порывом. И я внес контрпредложение — наградить Ремизова. Судить его тогда не судили, наградить тоже не наградили. Потом уже посмертно наградили — дали Героя Советского Союза.
Командир танковой бригады комбриг Яковлев тоже был очень храбрый человек и хороший командир. И погиб тоже нелепо. В район нашей центральной переправы прорвалась группа японцев, человек триста. Не так много, но была угроза переправе. Я приказал Потапову и Яковлеву под их личную ответственность разгромить эту группу. Они стали собирать пехоту, организовывать атаку, и Яковлев при этом забрался на танк и оттуда командовал. И японский снайпер его снял пулей, наповал. А был очень хороший боевой командир.
Японцы за все время только один раз вылезли против нас со своими танками. У нас были сведения, что на фронт прибывает их танковая бригада. Получив эти сведения, мы выставили артиллерию на единственном танкодоступном направлении в центре, в районе Номун-Хан-Бурт-Обо. И японцы развернулись и пошли как раз на этом направлении. Наши артиллеристы ударили по ним. Я сам видел этот бой. В нем мы сожгли и подбили около ста танков. Без повреждений вернулся только один. Это мы уже потом по агентурным сведениям узнали. Идет бой. Артиллеристы звонят: «Видите, товарищ командующий, как горят японские танки?» Отвечаю: «Вижу-вижу…» — одному, другому… Все артиллерийские командиры звонили, все хотели похвастаться, как они жгут эти танки.
Танков, заслуживающих этого названия, у японцев, по существу, не было. Они сунулись с этой бригадой один раз, а потом больше уже не пускали в дело ни одного танка. А пикировщики у японцев были неплохие, хотя бомбили японцы большей частью с порядочных высот. И зенитки у них были хорошие. Немцы там у них пробовали свои зенитки, испытывали их в боевых условиях.
Японцы выставили против нас как основную силу две пехотные дивизии. Но надо при этом помнить, что японская дивизия — это, по существу, наш стрелковый корпус: 21 тысяча штыков, 3600 человек командного состава. По существу, нам противостояло там, на Халхин-Голе, два стрелковых корпуса и кроме них отдельные полки, охранные отряды, железнодорожные отряды…
Перейдя с воспоминаний о халхин-гольских событиях к оценке их, Жуков сказал:
— Думаю, что с их стороны это была серьезная разведка боем. Серьезное прощупывание. Японцам было важно тогда прощупать, в состоянии ли мы с ними воевать. И исход боев на Халхин-Голе впоследствии определил их более или менее сдержанное поведение в начале нашей войны с немцами.
Думаю, что, если бы на Халхин-Голе их дела пошли удачно, они бы развернули дальнейшее наступление. В их далеко идущие планы входил захват восточной части Монголии и выход к Байкалу и к Чите, к тоннелям, на перехват Сибирской магистрали.
У нас на Халхин-Голе было тяжело со снабжением. Снабжались со станции Борзя, за 700 километров. А у японцев было две станции снабжения рядом: Хайлар — в 100 и Холун-Аршан — в 30 километрах. Но к концу военных действий на Халхин-Голе японские военные деятели поняли, что при тогдашнем уровне технического оснащения их армии они не в состоянии с успехом наступать против нас. Хотя кадровые японские дивизии дрались очень хорошо. Надо признать, что это была хорошая пехота, хорошие солдаты.
Заговорив о стойкости японских солдат и приведя несколько примеров этой стойкости, Жуков недовольно пожал плечами и сказал:
— Вообще у нас есть неверная тенденция. Читал я тут недавно один роман. Гитлер изображен там в начале войны таким, каким он стал в конце. Как известно, в конце войны, когда все стало расползаться по швам, он действительно стал совсем другим, действительно выглядел ничтожеством. Но это был коварный, хитрый враг, сильный военачальник. И если брать немцев, то, конечно же, они к нему не всегда одинаково и не всегда отрицательно относились. Наоборот. На первых порах восхищались им. Успех следовал за успехом. Авторитет у него был большой, и отношение к нему внутри Германии, в частности со стороны германского военного командования, было разное на разных этапах. А когда мы его изображаем с самого начала чуть ли не идиотиком — это уменьшает наши собственные заслуги. Дескать, кого разбили? Такого дурака! А между тем нам пришлось иметь дело с тяжелым, опасным, страшным врагом. Так это и надо изображать…
Так выглядит в моих записях то, что говорил Жуков о Халхин-Голе и в связи с Халхин-Голом тогда, в 1950 году. Но к воспоминаниям о халхин-гольских событиях он возвращался на моей памяти и потом, в другие годы, беседуя на другие темы.
В одной из этих бесед осенью 1965 года Жуков, вспомнив Халхин-Гол, снова заговорил на ту же тему — о правде и неправде в наших оценках врага.
— Японцы сражались ожесточенно. Я противник того, чтобы отзываться о враге уничижительно. Это не презрение к врагу, это недооценка его. А в итоге не только недооценка врага, но и недооценка самих себя. Японцы дрались исключительно упорно, в основном пехота. Помню, как я допрашивал японцев, сидевших в районе речки Хайластин-Гол. Их взяли там в плен, в камышах. Так они все были до того изъедены комарами, что на них буквально живого места не было. Я спрашиваю их: «Как же вы допустили, чтобы вас комары так изъели?» Они отвечают: «Нам приказали сидеть в дозоре и не шевелиться. Мы не шевелились». Действительно, их посадили в засаду, а потом забыли о них. Положение изменилось, их батальон оттеснили, а они все еще сидели уже вторые сутки и не шевелились, пока мы их не захватили. Их до полусмерти изъели комары, но они продолжали выполнять приказ. Это действительно настоящие солдаты. Хочешь не хочешь, а приходится уважать их.
Продолжая говорить на эту тему, Жуков снова, как и тогда, в 1950 году, перебросил мостик от войны с японцами к войне с немцами.
— Вспоминаю пленного немца, которого я допрашивал под Ельней. Это был один из первых взятых там в плен танкистов. Молодой, высокий, красивый, белокурый, эдакий Нибелунг, даже вспомнилась картина «Нибелунги», которую смотрел в кино в двадцатые годы. Словом, образцовый экземпляр. Начинаю его допрашивать. Докладывает, что он механик-водитель такой-то роты, такого-то батальона, такой-то танковой дивизии. Задаю ему следующие вопросы. Не отвечает.
«Почему вы не отвечаете?» Молчит. Потом заявляет: «Вы военный человек, вы должны понимать, что я как военный человек уже ответил на все то, что должен был вам ответить, — кто я и к какой части принадлежу. А ни на какие другие вопросы я отвечать не могу. Потому что дал присягу. И вы не вправе меня спрашивать, зная, что я военный человек, и не вправе от меня требовать, чтобы я нарушил свой долг и лишился чести».
Тогда я спрашиваю его: знает ли он, с кем разговаривает? Нет, не знает. «Переведите ему, что я генерал армии Жуков». Выслушав это, он отвечает: «Я не знаю вас. Я знаю своих генералов. А ваших генералов не знаю».
Молодец! Держится таким наглецом, просто на редкость. Ну как его не уважать? Нельзя не уважать.
Я говорю ему: «Если не будете отвечать — расстреляем вас, и всё». Побледнел, но не сдался. Говорит: «Ну что ж, расстреливайте, если вы хотите совершить бесчестный поступок по отношению к беззащитному пленному. Расстреливайте. Я надеюсь, что вы этого не сделаете. Но все равно я отвечать ничего сверх того, что уже ответил, не буду».
Когда я потом докладывал Сталину о Ельнинской операции, я рассказал ему об этом пленном, проиллюстрировал им, что представляют из себя немцы, с кем нам приходится иметь дело. Знать это и ясно оценивать — важно. Потому что эта оценка неотъемлемо входит в расчеты и планы. С такими вещами надо считаться и при оценке противника, и при оценке собственных возможностей. Планируя операцию, надо оценивать моральное состояние, уровень дисциплины и выучки солдат противника. Недооценив все это, нетрудно впасть в ошибки и просчеты.
В 1950 году Жуков говорил о своем назначении на Халхин-Гол коротко, не вдаваясь в детали. Теперь он рассказал об этом подробнее.
— На Халхин-Гол я поехал так — мне уже потом рассказали, как все это получилось. Когда мы потерпели там первые неудачи в мае — июне, Сталин, обсуждая этот вопрос с Ворошиловым в присутствии Тимошенко и Пономаренко, тогдашнего секретаря ЦК Белоруссии, спросил Ворошилова: «Кто там, на Халхин-Голе, командует войсками?» — «Комбриг Фекленко». — «Ну, а кто этот Фекленко? Что он из себя представляет?» — спросил Сталин. Ворошилов сказал, что не может сейчас точно ответить на этот вопрос, лично не знает Фекленко и не знает, что тот из себя представляет. Сталин недовольно сказал: «Что же это такое? Люди воюют, а ты не представляешь себе, кто у тебя там воюет, кто командует войсками? Надо туда назначить кого-то другого, чтобы исправил положение и был способен действовать инициативно. Чтобы мог не только исправить положение, но и при случае надавать японцам». Тимошенко сказал: «У меня есть одна кандидатура — командира кавалерийского корпуса Жукова».
«Жуков… Жуков… — сказал Сталин. — Что-то я помню эту фамилию». Тогда Ворошилов напомнил ему: «Это тот самый Жуков, который в 37–м прислал вам и мне телеграмму о том, что его несправедливо привлекают к партийной ответственности». «Ну, и чем дело кончилось?» — спросил Сталин. Ворошилов сказал, что ничем, — выяснилось, что для привлечения к партийной ответственности оснований не было.
Тимошенко охарактеризовал меня с хорошей стороны, сказал, что я человек решительный, справлюсь. Пономаренко тоже подтвердил, что для выполнения поставленной задачи это хорошая кандидатура.
Я в это время был заместителем командующего войсками Белорусского военного округа, был в округе на полевой поездке. Меня вызвали к телефону и сообщили: завтра надо быть в Москве. Я позвонил Сусайкову. Он был в то время членом Военного совета Белорусского округа. Тридцать девятый год все-таки, думаю, что значит этот вызов? Спрашиваю: «Ты стороной не знаешь, почему вызывают?» Отвечает: «Не знаю. Знаю одно: утром ты должен быть в приемной Ворошилова». — «Ну что ж, есть!»
Поехал в Москву, получил приказание: лететь на Халхин-Гол, и на следующий день вылетел.
Первоначальное приказание было такое: «Разобраться в обстановке, доложить о принятых мерах, доложить свои предложения».
Я приехал, в обстановке разобрался, доложил о принятых мерах и о моих предложениях. Получил в один день одну за другой две шифровки: первая — что с выводами и предложениями согласны. И вторая: что назначаюсь вместо Фекленко командующим стоящего в Монголии особого корпуса.
В другой беседе, тоже осенью 1965 года, Жуков коснулся проблемы своих взаимоотношений с находившимися на Халхин-Голе старшими начальниками. Об отзвуках этого внизу, среди подчиненных, я уже упоминал. Теперь об этом заговорил сам Жуков.
— На третий день нашего августовского наступления, когда японцы зацепились на северном фланге за высоту Палец и дело затормозилось, у меня состоялся разговор с Г. М. Штерном. Штерн находился там, и по приказанию свыше его роль заключалась в том, чтобы в качестве командующего Забайкальским фронтом обеспечивать наш тыл, обеспечивать группу войск, которой я командовал, всем необходимым. В том случае, если бы военные действия перебросились и на другие участки, перерастая в войну, предусматривалось, что наша армейская группа войдет в прямое подчинение фронта. Но только в этом случае. А пока что мы действовали самостоятельно и были непосредственно подчинены Москве.
Штерн приехал ко мне и стал говорить, что он рекомендует не зарываться, а остановиться, нарастить за два-три дня силы для последующих ударов и только после этого продолжать окружение японцев. Он объяснил свой совет тем, что операция замедлилась и мы несем, особенно на севере, крупные потери. Я сказал ему в ответ на это, что война есть война и на ней не может не быть потерь и что эти потери могут быть и крупными, особенно когда мы имеем дело с таким серьезным и ожесточенным врагом, как японцы. Но если мы сейчас из-за этих потерь и из-за сложностей, возникших в обстановке, отложим на два — три дня выполнение своего первоначального плана, то одно из двух: или мы не выполним этот план вообще, или выполним его с громадным промедлением и с громадными потерями, которые из-за нашей нерешительности в конечном итоге в десять раз превысят те потери, которые мы несем сейчас, действуя решительным образом. Приняв его рекомендации, мы удесятерим свои потери.
Затем я спросил его: приказывает ли он мне или советует? Если приказывает, пусть напишет письменный приказ. Но я предупреждаю его, что опротестую этот письменный приказ в Москве, потому что не согласен с ним. Он ответил, что не приказывает, а рекомендует и письменного приказа писать мне не будет. Я сказал: «Раз так, то я отвергаю ваше предложение. Войска доверены мне, и командую ими здесь я. А вам поручено поддерживать меня и обеспечивать мой тыл. И я прошу вас не выходить из рамок того, что вам поручено». Был жесткий, нервный, не очень-то приятный разговор. Штерн ушел. Потом, через два или три часа, вернулся, видимо, с кем-то посоветовался за это время и сказал мне: «Ну что же, пожалуй, ты прав. Я снимаю свои рекомендации».
Некоторых трудностей, возникших в ходе боевых действий на Халхин-Голе и обусловивших на первых порах ряд наших неудач, Жуков коснулся в другой беседе, говоря о причинах драмы, разыгравшейся в июне 1941 года.
— В нашей неподготовленности к войне с немцами в числе других причин сыграла роль и территориальная система подготовки войск, с которой мы практически распрощались только в 39–м году. Наши территориальные дивизии были подготовлены из рук вон плохо. Людской материал, на котором они развертывались до полного состава, был плохо обучен, не имел ни представления о современном бое, ни опыта взаимодействия с артиллерией и танками. По уровню подготовки наши территориальные части не шли ни в какое сравнение с кадровыми. С одной из таких территориальных дивизий, 82–й, мне пришлось иметь дело на Халхин-Голе. Она побежала от нескольких артиллерийских залпов японцев. Пришлось ее останавливать всеми подручными средствами, пришлось с командного пункта с Хамардабы послать командиров и цепью расставить их по степи. Еле остановили. Командира дивизии пришлось снять, а дивизию постепенно в течение полутора месяцев приучали к военным действиям. Потихоньку пускали людей в разведки, в небольшие бои, приучали их к воздействию артиллерии, к бомбовым ударам; учили взаимодействовать с танками. Впоследствии, подучившись, приобретя первый боевой опыт, дивизия в конце августа, в последних боях, действовала уже неплохо. А в июле она бежала. И японцам, видевшим, как она бежит от нескольких артиллерийских залпов, ничего не оставалось, как наступать вслед за ней. И их удалось тогда остановить, только сосредоточив по ним огонь всей наличной артиллерии со всех точек фронта. Вот что такое территориальная дивизия, не прошедшая никакой боевой школы. Я это пережил там, на Халхин-Голе…
Жуков вернулся к Халхин-Голу и еще в одной беседе. В ней он уже не столько вспоминал о событиях того времени, сколько определял место, которое занял Халхин-Гол в его жизни, в военной биографии.
— Первое тяжелое переживание в моей жизни было связано с 37–м и 38–м годами. На меня готовились соответствующие документы, видимо, их было уже достаточно, уже кто-то где-то бегал с портфелем, в котором они лежали. В общем, дело шло к тому, что я мог кончить тем же, чем тогда кончали многие другие. И вот после всего этого — вдруг вызов и приказание ехать на Халхин-Гол. Я поехал туда с радостью. А после завершения операции испытал большое удовлетворение. Не только потому, что была удачно проведена операция, которую я до сих пор люблю, но и потому, что я своими действиями там как бы оправдался, как бы отбросил от себя все те наветы и обвинения, которые скапливались против меня в предыдущие годы и о которых я частично знал, а частично догадывался. Я был рад всему: нашему успеху, новому воинскому званию, получению звания Героя Советского Союза. Все это подтверждало, что я сделал то, чего от меня ожидали, а то, в чем меня раньше пытались обвинить, стало наглядной неправдой.
Конечно, на фоне последующих событий Великой Отечественной войны масштабы военных операций на Халхин-Голе кажутся небольшими. Они разворачивались на ограниченном участке в 40–50 километров, численность всей 6–й армейской группы японцев не достигала ста тысяч человек, не достигала этой цифры и численность участвовавших в боях наших и монгольских войск.
Правда, в районе конфликта с обеих сторон действовали крупные по тем временам силы авиации, такие, что однажды в разговоре с Жуковым я с некоторым смущением сказал, что потом, во время Великой Отечественной войны, мне не приходилось видеть воздушных боев, в которых бы одновременно с обеих сторон дралось в воздухе такое число истребителей, как в Монголии. И он, усмехнувшись, ответил мне: «А вы думаете, я видел? И я не видел». Но даже учитывая это, следует сказать, что события на Халхин-Голе все же остались крупным военным конфликтом, не переросшим в большую войну.
Однако значение этих военных действий в истории оказалось гораздо большим, чем их непосредственный масштаб. Жестокий урок, полученный японским военным командованием на Халхин-Голе, имел далеко идущие последствия. В первые, самые тяжкие для нас месяцы войны с немцами еще не выветрившаяся память о Халхин-Голе заставила японские военные круги проявить осторожность и связать проблему своего вступления в войну с Советским Союзом со взятием немцами Москвы. Значение этого для нас трудно переоценить.
Трудно переоценить и другое: на Халхин-Голе мы показали, что у нас слова не расходятся с делом и наш договор о взаимопомощи с Монголией — это не клочок бумаги, а реальная готовность защищать ее границы как свои собственные.
Халхин-Гол был началом полководческой биографии Жукова. Впоследствии ему пришлось принять участие в событиях неизмеримо большего масштаба, но это начало там, в далеких монгольских степях, было многообещающим.
В войну с немцами Жуков вступил как военачальник, уже имевший за плечами решительную победу в условиях военных действий, носивших современный характер и развернувшихся с применением механизированных войск и авиации. Это не только создавало Жукову авторитет в войсках, но и, думается, имело важное значение для него самого. Первые шаги, сделанные в науке побеждать, — это не только военный опыт, это одновременно и нравственный фактор, одинаково важный и для солдата, и для полководца, для его образа мыслей и образа действий.
Слова Жукова о Халхин-Голе «Я до сих пор люблю эту операцию» в устах человека, закончившего войну в Берлине, многозначительны. К началу Халхин-Гола за плечами у Жукова было уже четверть века военной службы, мировая и Гражданская войны, путь от солдата до командира корпуса. Но как для военачальника руководство Халхин-гольской операцией было для него пробным камнем. И поэтому он и любил ее.
Армейская молва говорит, что, когда в 1939 году Жукову позвонили из Москвы в Белоруссию и, ничего не объясняя, приказали срочно прибыть в Москву, он спросил по телефону только одно: «Шашку брать?» Не знаю, так ли было или не так, но мне кажется, что в этом устном рассказе, пусть даже легенде, было выражено верное понимание характера этого человека.
Как я уже сказал, после Халхин-Гола мне ни разу не довелось увидеть Жукова вплоть до дня капитуляции германской армии, но облик его продолжал складываться в моем сознании, как и в сознании всех участников войны.
Жуков был для меня человеком, которого Сталин отправил спасать положение в Ленинграде в самые критические сентябрьские дни 1941 года, а потом отозвал его оттуда под Москву в самое критическое для нее время — в начале октября.
Думаю, не ошибусь, сказав, что в глазах участников войны наша победа под Москвой была связана прежде всего с двумя именами: с именем Сталина, оставшегося в Москве и произнесшего 7 ноября 1941 года всем нам памятную речь на Красной площади, и с именем Жукова, принявшего командование Западным фронтом в самый катастрофический момент, когда судьба Москвы, казалось, висит на волоске.
Разумеется, и то, что Ленинград не пал, а выстоял в блокаде, и то, что немцев повернули вспять под Москвой, — историческая заслуга не двух и не двадцати человек, а многих миллионов военных и невоенных людей, результат огромных всенародных усилий. Это тем более очевидно сейчас, с дистанции времени.
Однако если говорить о роли личности в истории и в применении к Жукову, то имя его связано в народной памяти и со спасением Ленинграда, и со спасением Москвы. И истоки этой памяти уходят в саму войну, в 1941 год, в живое, тогдашнее сознание современников. Этим и объясняется непоколебимость их памяти перед лицом разных событий последующего времени.
Последующий ход войны сделал особенно любимыми в народе несколько имен наиболее выдающихся военачальников. Но среди них Жуков все равно остался первой любовью, завоеванной в самые трагические часы нашей судьбы, и потому — сильнейшей.
И когда в конце войны он был назначен командовать фронтом, двигавшимся прямо на Берлин, это казалось естественным — человек, отстоявший Москву, будет брать Берлин.
Понимаю, что на это можно многое возразить. Можно напомнить, что Рокоссовский, командовавший до Жукова нацеленным прямо на Берлин 1–м Белорусским фронтом, был вправе считать несправедливым свое перемещение на соседний — 2–й Белорусский фронт; можно с достаточными основаниями сказать, что шедший левее Жукова 1–й Украинский фронт под командованием Конева сделал для успеха Берлинской операции не меньше, чем войска, которыми командовал Жуков; наконец, можно по-разному смотреть на причины, по которым Сталин именно на этот раз в конце войны, под Берлином, координацию действий всех трех фронтов оставил за собою, а Жукова направил командовать одним из них.
Все это так. И, однако, повторяю, что, когда при участии других фронтов именно фронт Жукова взял большую часть Берлина, имперскую канцелярию и рейхстаг и именно Жукову было поручено принять безоговорочную капитуляцию германской армии, это было воспринято в народе как нечто вполне справедливое, люди считали, что так оно и должно было быть.
Церемония подписания безоговорочной капитуляции германской армии описана уже много раз — и в корреспонденциях журналистов, и в воспоминаниях присутствовавших там военных. Писал об этом и я. Не буду повторять ни других, ни себя в описании подробностей. Но некоторые свои ощущения того дня, связанные с Жуковым, хочу вспомнить.
Очевидно, можно без преувеличения сказать, что среди присутствовавших там представителей союзного командования именно за его плечами был самый большой и трудный опыт войны. Однако капитуляцию неприятельской армии ему приходилось принимать впервые, и процедура эта была для него новой и непривычной. Если бы он сам воспринимал эту процедуру как дипломатическую, наверное, он бы чувствовал себя менее уверенно.
Секрет той спокойной уверенности, с какой он руководил этой процедурой, на мой взгляд, состоял как раз в том, что он не воспринимал ее как дипломатическую. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германской армии было для него прямым продолжением работы, которой он занимался всю войну: ему было поручено поставить на ней точку именно как военному человеку, и он поставил ее с тою же уверенностью и твердостью, которая отличала его на войне.
Трудно даже мысленно проникнуть в душу другого человека, но надо думать, что Жуков ощущал себя в эти часы не только командующим фронтом, взявшим Берлин, или заместителем Верховного Главнокомандующего, но человеком, представлявшим в этом зале ту армию и тот народ, которые сделали больше всех других. И как представитель этой армии и этого народа он лучше других знал и масштабы совершившегося, и меру понесенных трудов. В его поведении не было ни высокомерия, ни снисходительности. Именно для его народа только что закончившаяся война была борьбой не на жизнь, а на смерть, и он вел себя с той жесткой простотой, которая пристала в подобных обстоятельствах победителю. Хотя впоследствии и среди побежденных немецких генералов, и среди разделивших с нами победу союзников нашлись люди, задним числом оспаривавшие масштабы нашего вклада в эту победу, тогда, в мае 1945 года, на этот счет не существовало двух мнений.
В этом не оставляло сомнений даже поведение подписывавшего капитуляцию фельдмаршала Кейтеля. Надо отдать ему должное: он вел себя с подобающим достоинством. Но наряду с этим было в его поведении и нечто другое, неожиданное. Казалось бы, ни его политические взгляды, ни его мысли о собственном будущем не должны были заставить его относиться к Жукову с большим вниманием, чем к другим сидевшим в этом зале представителям союзного командования. Скорее, следовало ожидать обратного. Однако логика проигранной войны, помимо воли Кейтеля, оказалась сильнее всего остального.
Наблюдая за ним во время процедуры капитуляции, я несколько раз видел, с каким пристальным вниманием он следит за Жуковым, именно и только за ним. Это было горькое, трагическое любопытство побежденного к той силе, которую олицетворял здесь Жуков, как к силе наиболее ненавидимой и в наибольшей степени решившей исход войны.
С тех пор, когда я читаю статьи и книги, задним числом ставящие под сомнение меру нашего вклада в победу над фашистской Германией, я почти всегда вспоминаю Карлсхорст, капитуляцию и лицо фельдмаршала Кейтеля, с каким-то почти жутким любопытством глядящего на Жукова.
После подписания акта капитуляции происходил затянувшийся далеко за полночь ужин, который давало наше командование в честь союзников. Во время ужина было много не удержавшихся в моей памяти речей, но одно место в речи Жукова я запомнил. Американское и английское командование было представлено высшими авиационными начальниками — генералом Спаатсом и маршалом авиации Теддером. Уже не помню, за здоровье кого из этих двоих авиаторов произносил тост Жуков, но сказал он примерно следующее: «Пью за ваше здоровье от имени наших солдат, которым для того, чтобы увидеть результаты вашей работы, пришлось дойти до Берлина своими ногами».
Я сказал «примерно» из осторожности. Но, по-моему, сказаны были именно эти слова. И запомнились они потому, что за ними стояло то самое, что называется решающим вкладом в победу, стояла формула нашего участия в этой так дорого стоившей нам войне.
После войны мне довелось видеть Жукова в разные годы: в 1950 и в 1952 году, в бытность его командующим Одесским и Уральским военными округами, в 1955–1957 годах, когда он занимал пост заместителя министра и министра обороны, и в последние годы, когда он ушел в отставку.
Я коснусь этих встреч с той стороны, с какой они представляют интерес для моих заметок. Но сначала одно общее, относящееся ко всем ним, наблюдение. Они происходили в разные для Жукова времена, и это делало тем более очевидной одну из главных черт его натуры. Характер этого человека всегда оставался неподатливым перед внешними обстоятельствами. Обстоятельства менялись, а человек оставался самим собой. И эта неизменяемость характера была не только свидетельством нравственной силы, но и ее источником. Сознание своей способности не поддаваться обстоятельствам в свою очередь усиливало эту неподатливость.
Во время первой встречи в 1950 году я заметил в глазах присутствовавших при этом близких Жукову людей тревогу. Ее легко было понять. Выведенный из состава ЦК и снятый с высших военных должностей, Жуков командовал второстепенным военным округом, в сущности, находился не у дел и вдобавок под дамокловым мечом, потому что время было крутое. Тревожные глаза близких призывали его к еще большей мере сдержанности, чем та, которую он сам для себя определил в этом разговоре. Однако, наверняка сознательно ограничивая себя в рассказе и обходя некоторые темы, Жуков в то же время не считал для себя возможным, говоря об истории войны, стесывать в ней острые углы там, где они неотвратимо возникали по ходу рассказа. Очевидно, он достаточно хорошо сознавал, какой вес имеют в его устах те или иные излагаемые им исторические факты, и не желал считаться с привходящими обстоятельствами.
Я уже приводил то, что он говорил тогда о Халхин-Голе. Говоря о своем вступлении в должность командующего Ленинградским фронтом, он тоже не счел нужным смягчать драматизм ситуации, в которой это произошло.
Приведу соответствующее место записи нашего разговора в 1950 году.
«Прилетев в Ленинград, я сразу попал на заседание Военного совета. Моряки обсуждали вопрос, в каком порядке им рвать корабли, чтобы они не достались немцам. Я сказал командующему флотом Трибуцу: «Вот мой мандат» — и протянул ему записку, написанную товарищем Сталиным, где были определены мои полномочия. «Как командующий фронтом, запрещаю вам это. Во-первых, извольте разминировать корабли, чтобы они сами не взорвались, а во-вторых, подведите их ближе к городу, чтобы они могли стрелять всей своей артиллерией». Они, видите ли, обсуждали вопрос о минировании кораблей, а на них, на этих кораблях, было сорок боекомплектов. Я сказал им: «Как вообще можно минировать корабли? Да, возможно, они погибнут. Но если так, они должны погибнуть только в бою, стреляя». И когда потом немцы пошли в наступление на Приморском участке фронта, моряки так дали по ним со своих кораблей, что они просто-напросто бежали. Еще бы! Шестнадцатидюймовые орудия! Представляете себе, какая это силища?»
В этой же беседе Жуков в кратких словах обрисовал положение под Москвой в ноябре 1941 года. Он не высказывал общепринятых в то время суждений, что немцы ни при каких обстоятельствах вообще не могли взять Москвы. Он говорил о реальных фактах: почему немцы не взяли Москвы и чего им для этого не хватало.
«Последнее немецкое наступление началось 15–16 ноября. К началу этого наступления на главном направлении Волоколамск — Нара на своем левом фланге они имели 25–27 дивизий, из них примерно 18 танковых и моторизованных. Но в ходе боев их силы оказались на пределе. И когда они уже подошли к каналу, к Крюкову, стало ясно, что они не рассчитали. Они шли на последнем дыхании. Подошли, а в резерве ни одной дивизии. К 3–4 декабря у них в дивизиях оставалось примерно по 30–35 танков из 300, то есть одна десятая часть. Для того чтобы выиграть сражение, им нужно было еще иметь там, на направлении главного удара, во втором эшелоне дивизий 10–12, то есть нужно было иметь там с самого начала не 27, а 40 дивизий. Вот тогда они могли бы прорваться к Москве. Но у них этого не было. Они уже истратили все, что у них было, потому что не рассчитали силу нашего сопротивления».
Сейчас в истории Великой Отечественной войны давно общеизвестен тот факт, что к началу нашего контрудара под Москвой немецкие войска уже получили приказ на отступление. В то время, в 1950 году, говорить об этом было не принято. Хотя, казалось бы, то обстоятельство, что немцы еще до наших контрударов были поставлены упорством нашей обороны в критическое положение, вынуждавшее их к отходу, ничуть не преуменьшало заслуг нашей армии, скорее наоборот. Но, видимо, такое изложение подлинных исторических событий казалось тогда менее героичным, и было принято говорить, что мы нанесли свой контрудар по немцам, еще продолжавшим рваться к Москве. Но Жуков еще тогда, в 1950 году, не постеснялся опровергнуть эту общепринятую в то время формулировку.
«Как выяснилось потом из документов, — сказал он, — в ту ночь, когда мы начали свое наступление, Браухич уже отдал приказ об отступлении за реку Нара, то есть он уже понимал, что им придется отступить, что у них нет другого выхода».
Говоря о том, что снятый с высших военных должностей Жуков, командуя второстепенным округом, в сущности, оказался не удел, я, пожалуй, не совсем точно определил ситуацию, в которой мы встретились с Жуковым в 1950 году. Точнее было бы сказать: ожидалось, что он окажется не у дел. Ожидалось, но не получилось. Вот как говорил мне об этом сам Жуков много позже, уже в 1965 году:
«В 1947 году, когда Сталин снял меня с должности заместителя министра и назначил на Одесский округ, я, приехав в Одессу, твердо решил ни на йоту не снизить требований к своим подчиненным, к войскам, к их боевой подготовке. Я твердо решил оставаться самим собой. Я понимал: от меня ждут, что я стану другим, что махну рукой и буду командовать округом через пень колоду. Но я не позволил себе этого. Конечно, слава есть слава. Но в то же время она палка о двух концах и иногда больно бьет по тебе. После этого удара я сделал все, чтобы остаться таким, каким был. В этом я видел свое внутреннее спасение. В выдержке, в работе, в том, чтобы не потерять силы характера и в этих тяжело сложившихся для меня обстоятельствах».
Когда я услышал это много лет спустя из уст Жукова, я заново вспомнил нашу встречу с ним в 1950 году, вспомнил его сдержанность, твердость, нежелание обходить острые углы. Он не только хотел остаться, но и остался самим собой.
В следующий раз я встретил Жукова два года спустя, в декабре 1952 года, при обстоятельствах, изменившихся для него в лучшую сторону. Выведенный в 1947 году из состава ЦК, Жуков на XIX съезде партии был избран кандидатом в члены ЦК. Не приходилось сомневаться, что это произошло по инициативе Сталина, никаких иных объяснений в то время быть не могло. Многих это обрадовало и в то же время удивило. Меня удивило, может быть, меньше, чем некоторых других, по причинам, которые заставляют немножко отклониться в сторону. Впрочем, думаю, в данном случае это оправданно.
Примерно за год до этого на заседании, где обсуждался вопрос о Сталинских премиях, и в частности о присуждении премии Эммануилу Казакевичу за его роман «Весна на Одере», Сталин, одобрительно отозвавшись о романе, вдруг сказал, что в нем есть недостаток, который, если не поздно, хорошо бы исправить.
«Там у товарища Казакевича, — сказал Сталин, — выведен в романе член Военного совета Сизокрылов. Но в его романе Сизокрылов выведен в такой роли, как будто он не член Военного совета, а командующий фронтом. Если прочитать те места, где участвует этот Сизокрылов, то создается именно такое впечатление, что он командующий фронтом, хотя он называется членом Военного совета. Но мы знаем, кто командовал этим фронтом. Им командовал не какой-то Сизокрылов, а Жуков. У Жукова есть свои недостатки, мы его за них критиковали. Но Жуков командовал под Берлином хорошо, во всяком случае неплохо. Почему же в романе товарища Казакевича выведен какой-то Сизокрылов, а не Жуков? Это не соответствует действительности». И, обратившись к присутствующим на этой встрече писателям, Сталин добавил: «Скажите товарищу Казакевичу, чтобы он, если не поздно, подумал над этим вопросом».
Говорить об этом Казакевичу выпало на мою долю. Выслушав мой рассказ, Казакевич только скрипнул зубами. Оказалось, Сталин угадал совершенно точно. В романе Казакевича первоначально был выведен не член Военного совета, а командующий фронтом. Но в обстановке, которая сложилась в то время вокруг Жукова, опубликовать эту линию романа в первоначально задуманном виде Казакевичу так и не удалось. В конце концов он вынужден был отступить и назвать Сизокрылова членом Военного совета, хотя за сохранившимися в романе поступками и разговорами Сизокрылова продолжала оставаться фигура командующего фронтом. «Если бы раньше!» — только и мог с горечью сказать в ответ Казакевич. Роман уже вышел несколькими изданиями, и что-нибудь менять в нем было теперь поздно.
Обо всем этом я вспомнил, когда после XIX съезда вдруг оказался рядом с Жуковым за столом во время ужина, который ЦК давал присутствовавшим на съезде иностранным делегациям. И не только вспомнил, но и счел себя вправе рассказать Жукову. Я почувствовал сквозь не изменившую ему сдержанность, что он в тот вечер был в очень хорошем настроении. Думаю, что избрание в ЦК было для него неожиданностью, тем сильней, наверное, было впечатление, которое это произвело на него. Однако чувство собственного достоинства не позволило ему ни разу ни словом коснуться этой, несомненно, больше всего волновавшей его темы за те несколько часов, что мы просидели рядом.
Разговор шел о разных других вещах, в том числе и о моей тогда только что вышедшей и, как я теперь понимаю, не слишком удавшейся мне с художественной стороны книге «Товарищи по оружию». Но как раз этой художественной стороны Жуков в разговоре со мной не касался. Появление «Товарищей по оружию», как я понял из разговора, обрадовало его тем, что в литературе появилась первая книга, рассказывающая о дорогих его сердцу военного человека халхин-гольских событиях.
Сказав мне, что фактическая сторона дела изложена мной довольно точно, Жуков сделал мне несколько замечаний, касавшихся главным образом тех или иных не нашедших себе места в романе событий. Помню, он при этом посетовал, что, когда мы встречались с ним в 1950 году, в начале моей работы, все обошлось двумя разговорами.
— К сожалению, многое так и не успел вам рассказать, — заметил он, адресуя упрек скорей себе, чем мне, с деликатностью, которая уживалась в нем с прямотой суждений.
Более деликатных вопросов он вообще не коснулся. Дело в том, что в романе, хотя и без фамилии, был выведен командующий нашей группой войск на Халхин-Голе, за фигурой которого проглядывала личность Жукова — прототип этой фигуры.
Публикуя роман, я встретился с колебаниями в печатавшей его редакции. Некоторым из моих работавших там коллег, без труда угадавшим, кто стоит за этой фигурой, казалось, что при общей положительной характеристике мне следовало наделить ее и некоторыми отрицательными чертами. На них повлияло критическое отношение, сложившееся в те годы к Жукову, и они опасались, как пройдет соответствующее место романа через цензуру. Опасения, впрочем, оказались напрасными. Роман благополучно прошел цензуру. Мое положение оказалось много легче, чем положение Казакевича. Халхин-Гол был далеко, а взятие Берлина — у всех на памяти, не говоря уже о разнице в масштабах этих событий.
Еще давно, сразу после войны, задумывая свой роман, я с самого начала не собирался выводить в нем под собственными именами ни Жукова, ни других исторических лиц, исходя из принципиального взгляда, что, когда речь идет о живых людях, этого вообще не следует делать в художественном повествовании; тем оно и отличается от документального. Однако, признаться, в тот вечер меня по-человечески беспокоило, как отнесется Жуков к отсутствию в романе его имени, не сочтет ли он это в сложившихся вокруг него обстоятельствах признаком моей робости или результатом привходящих соображений. И я был рад, что, не касаясь этой щепетильной темы, он говорил о романе с сочувствием, видимо, правильно поняв меня.
В 1955 году я дважды был у Жукова в Министерстве обороны. Первый раз, когда он был еще заместителем министра, а во второй — когда его уже назначили министром.
Первая встреча была связана с судьбой одного армейского политработника, которого и Жуков, и я хорошо знали еще по Халхин-Голу. Достойно пройдя через всю Великую Отечественную войну, он в 1950 году вопреки своему желанию продолжать службу в армии был демобилизован якобы по болезни, а на самом деле по обстоятельствам, далеким от элементарной справедливости. Вопрос был непростой и вдобавок находился вне прямой компетенции Жукова. Сразу же без обиняков объяснив мне это, Жуков сказал, что все зависящее от него сделает, хотя поручиться за удачу не может.
Вспомнив в связи с этим разговором Халхин-Гол, он, усмехнувшись, сказал мне, что все же я, пожалуй, переборщил в своей книге, заменив в ней вымышленными не только имена живых, но и мертвых.
«Живые — ладно, так и быть, это уже дело ваше, — сказал он, — но мертвые-то? С ними-то уж, кажется, все ясно! Почему не назвали своим именем хотя бы такого героя Баин-Цагана, как комбриг Яковлев, и заменили его каким-то Сарычевым, или почему не вывели покойного Ремизова? Это же были действительно герои! Почему у вас нет хотя бы этих имен?»
Главным в его словах и в чувстве, стоявшем за ними, была забота о своих погибших соратниках по Халхин-Голу. Но в той иронии, с которой он в этот раз заговорил со мной, я почувствовал и другое: где-то в глубине души ему все же хотелось, чтобы в книге были прямо названы и имена живых. Несколько лет назад он не думал об этом, а сейчас, как мне показалось, подумал, хотя и не сказал мне прямо.
Вторая встреча в том же году была связана с начатой мною подготовительной работой к роману «Живые и мертвые». Я попросил у Жукова, чтобы мне помогли познакомиться с некоторыми материалами начального периода войны. Он сказал, что помощь будет оказана, и адресовал меня в Военно-научное управление Генерального штаба. Потом, помолчав, добавил, что, наверное, мне было бы полезно посмотреть на начало войны не только нашими глазами, но и глазами противника — это всегда полезно для выяснения истины.
Вызвав адъютанта и коротко приказав ему: «Принесите Гальдера», он объяснил мне, что хочет дать мне прочесть обширный служебный дневник, который вел в 1941–1942 годах тогдашний начальник германского Генерального штаба генерал-полковник Гальдер.
Когда через несколько минут ему на стол положили восемь толстых тетрадей дневника Гальдера, он похлопал по ним рукой и сказал, что, на его взгляд, среди всех немецких документов, которые он знает, это, пожалуй, наиболее серьезное и объективное свидетельство.
— Чтение не всегда для нашего брата приятное, но необходимое, в особенности для анализа наших собственных ошибок и просчетов, их причин и следствий.
Он заговорил на тему, которая, как и во время нашего разговора в 1950 году, продолжала его занимать, — о необходимости объективной оценки сил и возможностей противника, идет ли речь об истории или о сегодняшнем и завтрашнем дне. К сожалению, я не записал этого разговора и не могу привести его в подробностях, не рискуя нагородить отсебятины. Но в связи с ним мне кажется уместным привести именно здесь то, что Жуков говорил на эту же тему впоследствии, в беседах, содержание которых я записал. Вот некоторые из этих записей.
«Надо будет наконец посмотреть правде в глаза и, не стесняясь, сказать о том, как оно было на самом деле. Надо оценить по достоинству немецкую армию, с которой нам пришлось столкнуться с первых дней войны. Мы же не перед дурачками отступали по тысяче километров, а перед сильнейшей армией мира. Надо ясно сказать, что немецкая армия к началу войны была лучше нашей армии подготовлена, выучена, вооружена, психологически более готова к войне, втянута в нее. Она имела опыт войны, и притом войны победоносной. Это играет огромную роль. Надо также признать, что немецкий Генеральный штаб и вообще немецкие штабы тогда лучше работали, чем наш Генеральный штаб и вообще наши штабы, немецкие командующие в тот период лучше и глубже думали, чем наши командующие. Мы учились в ходе войны, и выучились, и стали бить немцев, но это был длительный процесс. И начался этот процесс с того, что на стороне немцев было преимущество во всех отношениях.
У нас стесняются писать о неустойчивости наших войск в начальном периоде войны. А войска бывали неустойчивыми и не только отступали, но и бежали, и впадали в панику. В нежелании признать это сказывается тенденция: дескать, народ не виноват, виновато только начальство. В общей форме это верно. В итоге это действительно так. Но, говоря конкретно, в начале войны мы плохо воевали не только наверху, но и внизу. Не секрет, что у нас рядом воевали дивизии, из которых одна дралась хорошо, стойко, а соседняя с ней — бежала, испытав на себе такой же самый удар противника. Были разные командиры, разные дивизии, разные меры стойкости.
Обо всем этом следует говорить и писать, я бы сказал, что в этом есть даже педагогическая сторона: современный читатель, в том числе молодежь, не должен думать, что все зависит только от начальства. Нет, победа зависит от всех, от каждого человека, от его личной стойкости в бою. Потому что мы знаем, как в одинаковых условиях одни люди вели себя стойко, а другие — нет. И этого нельзя замалчивать».
«Говоря о том, как немцы проиграли войну, мы сейчас часто повторяем, что дело не в ошибках Гитлера, дело в ошибках немецкого Генерального штаба. Но надо добавить, что Гитлер своими ошибками помогал ошибаться немецкому Генеральному штабу, что он часто мешал принимать Генштабу более продуманные, более верные решения. И когда в 1941 году после разгрома немцев под Москвой он снял Браухича, Бока, целый ряд других командующих и сам возглавил немецкие сухопутные силы, он, несомненно, оказал нам этим серьезную услугу. После этого и немецкий Генеральный штаб, и немецкие командующие группами армий оказались связанными в гораздо большей мере, чем раньше. Их инициатива оказалась скованной. Шедшие теперь от Гитлера как от главнокомандующего сухопутными войсками директивы стали непререкаемыми в большей степени, чем это требовалось в интересах дела. Существовавший раньше в германской армии уровень самостоятельности в решении оперативных вопросов снизился, и увольнение Браухича, с которого все это началось, было нам, конечно, на руку.
В первый период войны мы привыкали к факту наступления немцев, к темпам их наступления, привыкали к неудачам и поражениям, привыкали искать выход из самых тяжелых положений и принимать свои контрмеры. Немцы же, которые в начале войны так смело и рискованно шли вперед, ломили нас, наступали, прорывались, эти же самые немцы во втором и третьем периодах войны никак не могли привыкнуть к тому, что теперь им приходится обороняться, отступать, терпеть поражения.
Если проследить историю войны в этом втором и третьем периодах, можно насчитать много в принципе повторяющихся ситуаций, в которых немцы вновь и вновь попадают впросак, в окружения, в котлы и, несмотря на повторяемость ситуаций, все еще не могут привыкнуть воевать в этой новой для них, непривычной обстановке поражений и отступлений.
Если взять, например, обстановку, сложившуюся перед нашим наступлением в Белоруссии летом 1944 года, то достаточно было посмотреть на карту, чтобы стало вполне очевидным, что мы должны были нанести удары именно с тех направлений, с которых мы их потом и нанесли, что мы в состоянии создать этот Белорусский котел и что в итоге это может закончиться прорывом шириной 300–400 километров, который немцам нечем будет заткнуть. Немцы могли это предвидеть.
Логика событий, элементарная военная грамотность подсказывали им необходимость вывести свои войска из будущего котла, сократить и уплотнить фронт, создать за своим фронтом оперативные резервы — словом, все, что полагается в подобных случаях. Но немцы этого не сделали и в результате подверглись разгрому в Белорусской операции.
Но в дальнейшем, оказавшись в тяжелейшем положение когда им нечем было заткнуть прорыв в 400 километров, надо отдать им должное, они нашли смелый и верный выход из положения. Вместо того чтобы пытаться, растянувшись цепочкой, заткнуть всю эту огромную брешь, они начали с того, что сосредоточили ударную группировку и нанесли нам встречный удар в центре этого пустого пространства. Они приковали нас, заставили ввязаться в бои и приостановили таким образом наше наступление. А тем временем в тылу стали создавать новую линию обороны и благодаря этому неожиданному для нас и смелому удару в значительной мере успели это сделать. Принятое ими после разгрома в Белорусском котле решение следует признать смелым и умным».
Приведенные здесь выписки из бесед 1965 года, как мне помнится, близко перекликаются с тем, что говорил мне Жуков десятью годами раньше в своем кабинете в Министерстве обороны. Разговор тогда шел о том же самом: об объективной оценке наших собственных действий, будь то поражения или победы.
Жуков возвращался к этой теме не раз в разные годы, и, когда я теперь перечитал все свои записи и перебрал в памяти все наши разговоры, я лишний раз подумал о том, с какой твердостью и последовательностью он бил в одну точку — при всей ненависти к врагу, отметая любые эмоции, мешающие выяснить и оценить суть дела.
В мае 1956 года, после самоубийства А. Фадеева, я встретил Жукова в Колонном зале, в комнате президиума, где собрались все, кому предстояло стоять в почетном карауле у фоба Фадеева. Жуков приехал немного раньше того времени, когда ему предстояло стоять в почетном карауле, и вышло так, что мы полчаса проговорили с ним, сидя в уголке этой комнаты.
Тема разговора была неожиданной и для меня, и для обстоятельств, в которых происходил этот разговор. Жуков говорил о том, что его волновало и воодушевляло тогда, вскоре после XX съезда. Речь шла о восстановлении доброго имени людей, оказавшихся в плену главным образом в первый период войны, во время наших длительных отступлений и огромных по масштабу окружений.
Насколько я понял, вопрос этот был уже обговорен в Президиуме ЦК и Жукову как министру обороны предстояло внести соответствующие предложения для вынесения по ним окончательного решения. Он был воодушевлен предварительно полученной им принципиальной поддержкой и говорил об этом с горячностью, даже входившей в некоторый контраст с его обычной сдержанностью и немногословием. Видимо, этот вопрос касался каких-то самых сильных и глубоких струн его души. Наверное (по крайней мере мне так показалось), он давно думал об этом и много лет не мог внутренне примириться с тем несправедливым и огульным решением, которое находил этот вопрос раньше. Он с горечью говорил о том, что, по английским законам, оказавшимся в плену английским солдатам и офицерам за все время пребывания в плену продолжали начислять положенное им жалованье, причем даже с какой-то надбавкой, связанной с тяжестью положения, в котором они находились.
«А что у нас, — сказал он, — у нас Мехлис додумался до того, что выдвинул формулу «Каждый, кто попал в плен, — предатель родины» и обосновывал ее тем, что каждый советский человек, оказавшийся перед угрозой плена, обязан был покончить жизнь самоубийством, то есть, в сущности, требовал, чтобы ко всем миллионам погибших на войне прибавилось еще несколько миллионов самоубийц. Больше половины этих людей были замучены немцами в плену, умерли от голода и болезней, но, исходя из теории Мехлиса, выходило, что даже вернувшиеся, пройдя через этот ад, должны были дома встретить такое отношение к себе, чтобы они раскаялись в том, что тогда, в 41–м или 42–м, не лишили себя жизни». Не помню уже в точности всех слов Жукова, но смысл их сводился к тому, что позорность формулы Мехлиса — в том недоверии к солдатам и офицерам, которое лежит в ее основе, в несправедливом предположении, что все они попали в плен из-за собственной трусости.
«Трусы, конечно, были, но как можно думать так о нескольких миллионах попавших в плен солдат и офицеров той армии, которая все-таки остановила и разбила немцев? Что же, они были другими людьми, чем те, которые потом вошли в Берлин? Были из другого теста, хуже, трусливей? Как можно требовать огульного презрения ко всем, кто попал в плен в результате всех постигавших нас в начале войны катастроф?..»
Снова повторив то, с чего он начал разговор, что отношение к этой трагической проблеме будет пересмотрено и что в ЦК единодушное мнение на этот счет, Жуков сказал, что он считает своим долгом военного человека сделать сейчас все, чтобы предусмотреть наиболее полное восстановление справедливости по отношению ко всем, кто заслуживает этого, ничего не забыть и не упустить и восстановить попранное достоинство всех честно воевавших и перенесших потом трагедию плена солдат и офицеров. «Все эти дни думаю об этом и занят этим», — сказал он.
Годом позже я увидел Жукова, выступавшего с трибуны во время одного из самых бурных заседаний, на которых мне пришлось присутствовать. Не буду касаться общего хода этого заседания, скажу только об одном, на многие годы запомнившемся мне моменте. Жуков дошел в своей речи до того места, где он в резкой форме напомнил двум или трем сидевшим за его спиной в президиуме заседания людям о прямой ответственности, которую они несут за события 1937–1938 годов.
В ответ на это один из тех, кому были адресованы слова Жукова, прервал его, сказав, что время было такое, когда приходилось подписывать некоторые документы, хотел ты этого или не хотел. И сам Жуков хорошо знает это. И если порыться в документах того времени, то, наверное, можно найти среди них такие, на которых стоит и подпись Жукова.
Жуков резко повернулся и ответил:
— Нет, не найдете. Ройтесь! Моей подписи вы там не найдете.
Хорошо помню, как меня поразили тогда сила и уверенность этих слов, обращенных в прошлое.
В день двадцатилетия победы над Германией уже восьмой год находившийся в отставке Жуков впервые вместе с другими маршалами занял свое место за столом президиума торжественного заседания. Это было актом справедливости. Именно так и восприняли это собравшиеся в зале люди, среди которых по крайней мере девять десятых участвовали в войне и хорошо помнили, какую роль сыграл в ней Жуков.
Когда на торжественном заседании среди имен других военачальников было названо имя Жукова, уже много лет не произносившееся ни с одной трибуны, в зале возникла стихийная овация. С трибуны было произнесено много прославленных в годы войны имен, и, наверное, в иных обстоятельствах реакция на произнесение имени Жукова не была бы такой подчеркнуто бурной. Ему аплодировали с такой силой и единодушием, что в этот день и час была наконец восстановлена историческая справедливость, которой в душе всегда упорно жаждут люди, несмотря ни на какие привходящие обстоятельства.
Думаю, что Жукову нелегко было пережить эту радостную для него минуту, в которой, наверное, была и частица горечи, потому что, пока не произносилось его имя, время продолжало неотвратимо идти, а человек не вечен. Кто знает, может быть, рядом с другими мыслями в его голове шевелилась и та, простая в своей беспощадности, что можно было вообще не дожить до этой минуты.
Поздний вечер этого дня и часть ночи вместе с несколькими другими военачальниками Жуков провел у нас в Доме литераторов на традиционной ежегодной встрече писателей — участников войны. И тут вновь проявились его выдержка и сила характера.
Надо ли говорить, что в эту ночь главное внимание собравшихся на встречу было обращено прежде всего на него. Бывает в жизни так, что, от чистой души выражая всю силу своих чувств, люди где-то, сами не замечая того, теряют меру и ставят в трудное положение человека, которому адресованы их чувства.
Именно так и было в ту ночь. Некоторые из присутствовавших на встрече, радуясь восстановлению справедливости, одновременно проявляли несправедливость по отношению к другим своим военным гостям, минутами забывая об их присутствии.
Но я почувствовал, что Жуков сам не забывает об этом ни на минуту. Это явствовало из его поведения по отношению к своим присутствовавшим за столом товарищам и сослуживцам и из того краткого слова, которое он поначалу вообще, кажется, не намеревался говорить и сказал, лишь почувствовав, что без этого невозможно обойтись.
В его речи не было ни одного личного момента. Он не говорил ни о себе, ни о своем участии в войне. Это было слово об исторических заслугах народа, партии и армии, слово одного из участников огромной войны, обращенное к другим ее участникам.
Думаю, что это слово было уроком тем из нас, кто, радуясь присутствию Жукова, готов был потерять чувство меры. Во всяком случае, мне так показалось, и я испытал большое чувство уважения к этому так много пережившему и с таким высоким достоинством державшему себя человеку.
Ряд моих последующих встреч с Жуковым был связан с работой над документальным фильмом «Если дорог тебе твой дом», в котором я принимал участие как один из его авторов. Фильм был посвящен Московской битве, и Жуков, так же как и некоторые другие ее участники и руководители, согласился рассказать перед киноаппаратом о нескольких решающих моментах этой битвы. Фильм в законченном виде длится всего девяносто минут, и те кадры, где Жуков рассказывает в нем о Московской битве, лишь небольшая часть всего им сказанного. Остальное — около двух тысяч метров пленки — передано в кинолетопись и хранится там для истории и для будущего использования.
Съемки фильма были долгими и трудными. Были и трудности, связанные с участием в нем Жукова. Мы понимали ту моральную ответственность, которую взяли на себя, попросив Жукова принять участие в фильме, и ту тяжесть положения, которая возникла бы, если бы по независящим от нас причинам включение в фильм кадров бесед с Жуковым оказалось бы невозможным. Думаю, что это понимал сам Жуков, хотя он ни разу ни словом не коснулся этой темы.
Съемки затягивались и переносились. Не хочу входить ни в причины, ни в основательность этих причин, но то место, связанное с историей боев за Москву, где мы первоначально собирались снимать Жукова (о чем ему было известно), как выяснилось, оказалось неприемлемым для съемок — по мнению тех лиц, от которых зависело решение этого вопроса. А потом одно время стала под сомнение и сама возможность съемок. Тем не менее съемки в конце концов состоялись, правда, не там, где мы сначала предполагали, а дома у Жукова, на подмосковной даче, где он жил уже много лет.
Хорошо помню, как, приехав к нему, чтобы договориться о днях съемок и сказать, что их придется делать не там, где мы думали, а у него дома, я с тревогой ожидал вопроса: «Почему?» — на который мне было бы трудно ответить. Но Жуков ничего не спросил, только понимающе усмехнулся и сказал: «Ну что ж, на даче так на даче. Как-никак — тоже зона обороны Москвы».
Накануне съемок Жукову не повезло. Он был на рыбалке и, поскользнувшись на мокрых мостках, сильно разбил ногу. Ему было трудно сидеть, ходить, вообще двигаться. Но он был готов к съемке и не захотел откладывать ее. Ему предстояла трудная задача: рассказать перед аппаратом миллионам будущих зрителей о решающих моментах огромного сражения. Краткий очерк этого сражения, работу над которым он в то время заканчивал, все-таки составлял девяносто страниц на машинке. А мы еще просили у него некоторые живые подробности тех дней, не входившие в этот краткий очерк. В предшествовавших съемкам размышлениях в его памяти вставали сотни подробностей и обстоятельств битвы. Но из всего этого ему предстояло отобрать лишь наиболее существенное и рассказать об этом перед аппаратом сжато и свободно.
Я хорошо представлял себе то напряжение, какого все это требовало. А тут еще вдобавок все время напоминавшая о себе резкой болью травма ноги. Конечно, это лишь деталь человеческого поведения, но меня поразила та железная сосредоточенность, с которой в тот день рассказывал перед аппаратом Жуков о Московской битве, не забывая о ее живых подробностях и в то же время неуклонно проводя то главное, что он намеревался сказать, — историческую правду об остроте сложившегося под Москвой положения и о мере нависавшей над ней опасности. Не сказать об этом с полной определенностью значило для него не сказать и о силе того перелома в войне, который произошел под Москвой.
Необходимость сказать о Московской битве наиболее полную историческую правду была для Жукова внутренне как бы прямым продолжением того дела, которое он делал во время самой Московской битвы. В каком-то смысле это было для него как бы продолжением войны, и то, как он рассказывал о ней, заставляло меня заново думать о том, как он воевал.
Сейчас, когда я пишу эти заметки, прошло уже почти полгода с тех пор, как я в последний раз видел Жукова. В тот вечер в одном из московских домов встретились люди, главным образом военные и уже немолодые, чтобы за торжественным столом отметить круглую дату жизни и военной деятельности хозяина дома.
Среди приглашенных и пришедших на эту встречу был Жуков. И его приглашение в этот день, в этот дом, и его приход туда имели особое значение. Судьба сложилась так, что Жукова и хозяина дома на долгие годы отдалили друг от друга обстоятельства, носившие драматический характер для них обоих, для каждого по-своему. А если заглянуть еще дальше, в войну, то и там жизнь, случалось, сталкивала их в достаточно драматической обстановке. Однако при всем том в народной памяти о войне их два имени чаще, чем чьи-нибудь другие, стояли рядом, и в этом все-таки и состояло самое главное, а все остальное было второстепенным.
И когда на вечере, о котором я вспоминаю, после обращенной к хозяину дома короткой и полной глубокого уважения речи Жукова оба эти человека обнялись, должно быть впервые за многие годы, то на наших глазах главное снова стало главным, а второстепенное — второстепенным с такой очевидностью, которой нельзя было не порадоваться.
А потом на этом же вечере один из присутствующих, считая, что он исполняет при этом свою, как видно, непосильно высокую для него должность, вдруг произнес длиннейшую речь поучительного характера.
Стремясь подчеркнуть свою причастность к военной профессии, он стал разъяснять, что такое военачальник, в чем состоит его роль на войне и, в частности, что должны и чего не должны делать на войне командующие фронтами. В общей форме его мысль сводилась к тому, что доблесть командующего фронтом состоит в управлении войсками, а не в том, чтобы рисковать жизнью и ползать по передовой на животе, чего он не должен и не имеет права делать.
Оратор повторял эту полюбившуюся ему и, в общем-то, в основе здравую мысль долго, на разные лады, но всякий раз в категорической форме. С высоты своего служебного положения он поучал сидевших за столом бывших командующих фронтами тому, как они должны были себя вести тогда, на войне.
Стол был праздничным, а оратор был гостем за этим столом. В бесконечно отодвигавшемся конце своей речи он, очевидно, намерен был сказать тост за хозяина. Поэтому его не прерывали и, как это водится в таких неловких случаях, молчали, глядя в тарелки. Но где-то уже почти в конце речи при очередном упоминании о ползании на животе Жуков все-таки не выдержал.
— А я вот, будучи командующим фронтом, — медленно и громко сказал он, — неоднократно ползал на животе, когда этого требовала обстановка и особенно когда перед наступлением своего фронта в интересах дела желал составить себе личное представление о переднем крае противника на участке будущего прорыва.
— Так что вот, признаюсь, было дело — ползал! — повторил он и развел руками, словно иронически извиняясь перед оратором в том, что он, Жуков, увы, действовал тогда вопреки этим застольным инструкциям. Сказал и уткнулся в свою тарелку среди общего молчания, впрочем, прерванного все тем же оратором, теперь перескочившим на другую тему.
Даже сам не знаю, почему мне так запомнился этот мелкий штрих в поведении Жукова в тот вечер. Скорей всего потому, что в его сердитой иронии было что-то глубоко солдатское, практическое, неискоренимо враждебное всякому суесловию о войне, и особенно суесловию людей, неосновательно считающих себя военными.
Часть вторая. Записи бесед
На протяжении 1965–1966 годов у меня было несколько особенно длительных бесед с Жуковым. Их характер в значительной мере определялся кругом тех вопросов, с которыми я обращался к Жукову.
В связи с упоминавшейся мною работой над фильмом мне было важно знать взгляды Жукова на все случившееся в первый период войны.
В связи с работой над романом о последнем периоде войны меня интересовал характер работы Ставки и тот взгляд, который сложился у Жукова на Сталина как Верховного Главнокомандующего нашей армией.
Наконец, в лице Жукова я видел, может быть, самого незаурядного представителя того поколения наших военных, которые, так трудно начав войну, с честью вынесли ее на своих плечах. Я писал и собирался дальше писать об этих людях, и меня глубоко интересовали разные периоды военной деятельности Жукова, его оценки событий, в которых он участвовал, и людей, с которыми его сводила служба.
В итоге получились довольно обширные записи, за точность которых, разумеется, несу ответственность только я сам.
Мне кажется, что эти записи, подобранные мною по темам, имеют не только исторический, но и психологический интерес. За ответами Жукова стоит его личность, стоит не только его отношение к тем или иным событиям, но и его манера излагать их, в которой тоже проявляются черты характера.
Некоторые места из этих бесед я уже привел в первой части «Заметок», там, где мне это казалось необходимым. Все остальное собрано здесь.
«У нас часто принято говорить, в особенности в связи с предвоенной обстановкой и началом войны, о вине и об ответственности Сталина.
С одной стороны — это верно. Но с другой, думаю, что нельзя все сводить к нему одному. Это неправильно. Как очевидец и участник событий того времени, должен сказать, что со Сталиным делят ответственность и другие люди, в том числе и его ближайшее окружение — Молотов, Маленков, Каганович.
Не говорю о Берии. Он был личностью, готовой выполнить все что угодно, когда угодно и как угодно. Именно для этой цели такие личности и необходимы.
Так что вопрос о нем — особый вопрос, и в данном случае я говорю о других людях.
Добавлю, что часть ответственности лежит и на Ворошилове, хотя он и был в 1940 году снят с поста наркома обороны, но до самого начала войны оставался председателем Государственного Комитета Обороны. Часть ответственности лежит на нас — военных. Лежит она и на целом ряде других людей в партии и государстве.
Участвуя много раз при обсуждении ряда вопросов у Сталина в присутствии его ближайшего окружения, я имел возможность видеть споры и препирательства, видеть упорство, проявляемое в некоторых вопросах, в особенности Молотовым; порой дело доходило до того, что Сталин повышал голос и даже выходил из себя, а Молотов, улыбаясь, вставал из-за стола и оставался при своей точке зрения.
Многие предложения Сталина, касавшиеся укрепления обороны и вооружения армии, встречали сопротивление и возражения. После этого создавались комиссии, в которых шли споры, и некоторые вопросы тонули в этих спорах. Это тоже была форма сопротивления.
Представлять себе дело так, что никто из окружения Сталина никогда не спорил с ним по государственным и хозяйственным вопросам, — неверно. Однако в то же время большинство окружавших Сталина людей поддерживало его в тех политических оценках, которые сложились у него перед войной, и прежде всего в его уверенности, что если мы не дадим себя спровоцировать, не совершим какого-нибудь ложного шага, то Гитлер не решится разорвать пакт и напасть на нас.
И Маленков, и Каганович в этом вопросе всегда были солидарны со Сталиным; особенно активно поддерживал эту точку зрения Молотов. Молотов не только был сам человеком волевым и упрямым, которого трудно было сдвинуть с места, если уж он занял какую-нибудь позицию. По моим наблюдениям, вдобавок к этому он в то время обладал серьезным влиянием на Сталина, в особенности в вопросах внешней политики, в которой Сталин тогда, до войны, считал его компетентным. Другое дело потом, когда все расчеты оказались неправильными и рухнули и Сталин не раз в моем присутствии упрекал Молотова в связи с этим. Причем Молотов отнюдь не всегда молчал в ответ. Молотов и после своей поездки в Берлин в ноябре 1940 года продолжал утверждать, что Гитлер не нападет на нас. Надо учесть, что в глазах Сталина в этом случае Молотов имел дополнительный авторитет человека, самолично побывавшего в Берлине.
Авторитет Молотова усиливался качествами его характера. Это был человек сильный, принципиальный, далекий от каких-либо личных соображений, крайне упрямый, крайне жестокий, сознательно шедший за Сталиным и поддерживавший его в самых жестоких действиях, в том числе и в 1937–1938 годах, исходя из своих собственных взглядов. Он убежденно шел за Сталиным, в то время как Маленков и Каганович делали на этом карьеру.
Единственный из ближайшего окружения Сталина, кто на моей памяти и в моем присутствии высказывал иную точку зрения о возможности нападения немцев, был Жданов. Он неизменно говорил о немцах очень резко и утверждал, что Гитлеру нельзя верить ни в чем.
Как сложились у Сталина его предвоенные, так дорого нам стоившие заблуждения? Думаю, что вначале у него была уверенность, что именно он обведет Гитлера вокруг пальца в результате заключения пакта. Хотя потом все вышло как раз наоборот.
Однако несомненно, что пакт с обеих сторон заключался именно с таким намерением.
Сталин переоценил меру занятости Гитлера на Западе, считал, что он там завяз и в ближайшее время не сможет воевать против нас. Положив это в основу всех своих прогнозов, Сталин после разгрома Франции, видимо, не нашел в себе силы по-новому переоценить обстановку.
Война в Финляндии показала Гитлеру слабость нашей армии. Но одновременно она показала это и Сталину. Это было результатом 1937–1938 годов, и результатом самым тяжелым.
Если сравнить подготовку наших кадров перед событиями этих лет, в 1936 году, и после этих событий, в 1939 году, надо сказать, что уровень боевой подготовки войск упал очень сильно. Мало того, что армия, начиная с полков, была в значительной мере обезглавлена, она была еще и разложена этими событиями. Наблюдалось страшное падение дисциплины, дело доходило до самовольных отлучек, до дезертирства. Многие командиры чувствовали себя растерянными, неспособными навести порядок.
Когда после финских событий я был вызван с Халхин-Гола и назначен командующим Киевским военным округом, Сталин, разговаривая со мной, очень резко отозвался о Ворошилове:
— Хвастался, заверял, утверждал, что на удар ответим тройным ударом, все хорошо, все в порядке, все готово, товарищ Сталин, а оказалось…
Я еще командовал Киевским военным округом, когда в декабре 1940 года мы проводили большую военную игру. В этой игре я командовал «синими», играл за немцев. А Павлов, командовавший Западным военным округом, играл за нас, командовал «красными», нашим Западным фронтом. На Юго-Западном фронте ему подыгрывал Штерн.
Взяв реальные исходные данные и силы противника — немцев, я, командуя «синими», развил операции именно на тех направлениях, на которых потом развивали их немцы. Наносил свои главные удары там, где они их потом наносили. Группировки сложились примерно так, как потом они сложились во время войны. Конфигурация наших границ, местность, обстановка — все подсказывало мне именно такие решения, которые они потом подсказали и немцам. Игра длилась около восьми суток. Руководство игрой искусственно замедляло темп продвижения «синих», придерживало его. Но «синие» на восьмые сутки продвинулись до района Барановичей, причем, повторяю, при искусственно замедленном темпе продвижения.
В январе 1941 года состоялся разбор этой стратегической игры на Главном Военном совете. Делая порученный мне основной доклад, я решил остановиться на некоторых тревожных для нас вопросах. Прежде всего на вопросе о невыгодном размещении системы новых укрепленных районов вдоль новой границы. Конфигурация границ делала это размещение невыгодным. Гораздо выгодней было бы разместить их, отодвинув примерно на сто километров вглубь. Я понимал, что эта точка зрения вызовет недовольство, потому что критикуемая мною система размещения укрепленных районов была утверждена Советом Труда и Обороны, в конечном счете Сталиным. Тем не менее я решил, что делать нечего. Придется об этом сказать.
Сталин внимательно слушал доклад и задал ряд вопросов мне и другим выступавшим. В частности, он спросил: почему «синие» были так сильны, почему в исходных данных нашей игры были заложены такие крупные немецкие силы? Ему было отвечено, что эти силы соответствуют возможностям немцев и основаны на реальном подсчете всех тех сил, которые они могут бросить против нас, создав на направлении своего главного удара большие преимущества. Этим и объясняется такое решительное продвижение «синих» во время игры.
Вскоре после этого разбора я был назначен начальником Генерального штаба.
Я не имел до этого опыта штабной работы и к началу войны, по моему собственному ощущению, не был достаточно опытным и подготовленным начальником Генерального штаба, не говоря уже о том, что по своей натуре и по опыту службы тяготел не к штабной, а к командной деятельности.
В начале 1941 года, когда нам стало известно о сосредоточении крупных немецких сил в Польше, Сталин обратился с личным письмом к Гитлеру, сообщив ему, что нам это известно, что нас это удивляет и создает у нас впечатление, что Гитлер собирается воевать против нас. В ответ Гитлер прислал Сталину письмо, тоже личное и, как он подчеркнул в тексте, доверительное. В этом письме он писал, что наши сведения верны, что в Польше действительно сосредоточены крупные войсковые соединения, но что он, будучи уверен, что это не пойдет дальше Сталина, должен разъяснить, что сосредоточение его войск в Польше не направлено против Советского Союза, что он намерен строго соблюдать заключенный им пакт, в чем ручается своей честью главы государства. А войска его в Польше сосредоточены в других целях. Территория Западной и Центральной Германии подвергается сильным английским бомбардировкам и хорошо наблюдается англичанами с воздуха. Поэтому он был вынужден отвести крупные контингенты войск на восток, с тем чтобы иметь возможность скрытно перевооружить и переформировать их там, в Польше. Насколько я понимаю, Сталин поверил этому письму.
В дальнейшем становилось все более и более причин для тревоги. Перед лицом повторяющихся тревожных сигналов Наркомату обороны удалось добиться у Сталина разрешения на частичный призыв в кадры полумиллиона запасных и на переброску в западные округа еще четырех армий.
Я как начальник Генерального штаба понимал, что и переброска армий, и переброска мобилизованных к месту службы не могут остаться в секрете от немцев, должны встревожить их и обострить обстановку. А раз так, то одновременно с этими необходимыми мероприятиями нужно привести в боевую готовность войска пограничных округов. Я докладывал об этом Сталину, но он, после того как его две недели пришлось убеждать согласиться на первые два мероприятия, теперь на это третье мероприятие, непосредственно связанное с первыми двумя, согласия так и не дал. Он ответил, что приведение в боевую готовность войск, стоящих в пограничных районах, может привести к войне, а он убежден, что нам удастся славировать, объяснить и частичный призыв, и переброску армий таким образом, чтобы это не встревожило Гитлера.
Так получилось, что одни из мер были нами проведены, а другие — нет. По существу, мы остановились на полумерах, что никогда не приводит к добру.
Непорядок был у нас и с мобилизационным планом развертывания промышленности в военное время. В мае, на четвертый месяц после того, как я принял Генеральный штаб от Мерецкова, я подписал в основном уже подготовленные еще до меня мобилизационные планы перевода промышленности на военные рельсы. Набравшись решимости, я поехал к Ворошилову, состоявшему в то время председателем Государственного Комитета Обороны, и буквально принудил его принять от меня на рассмотрение эти планы. Просто-напросто оставил их у него.
Несмотря на мои звонки, он в течение месяца так и не приступил к рассмотрению этих планов и только через месяц после нового звонка сказал, чтобы я к нему приехал: надо обсудить, как, с чьим участием и в каком порядке рассматривать планы. Поняв, что дело затягивается, я не поехал к нему, а позвонил Сталину и пожаловался на происходящее.
На следующий же день мы, военные, были вызваны на заседание Политбюро.
Последовал диалог между Сталиным и Ворошиловым.
— Почему вы не рассматриваете план?
— Мы только недавно его получили.
— Какого числа вы передали Ворошилову этот план? — Это уже был вопрос ко мне.
Я сказал, что месяц назад.
После соответствующей реакции была назначена комиссия для рассмотрения плана. В комиссии было много споров и препирательств. Некоторые ее члены говорили, что-де у нас много других вопросов, надо все ломать, а мы не можем всего ломать и т. д.
Дело затягивалось и затягивалось. Видя это, мы решили добиться и добились, чтобы были приняты хотя бы отдельные решения по плану подготовки боеприпасов, по остальным пунктам этот план развертывания промышленности к началу войны так и не был утвержден.
Особенно тяжело обстояло в ту зиму и весну дело с боеприпасами. Новые, поставленные на вооружение артиллерийские системы, в том числе противотанковые, были обеспечены только пробными сериями снарядов. Из-за задержки со снарядами задерживалось и уже налаженное производство орудий.
Мы поставили вопрос о создании годового запаса снарядов на первый год войны, считая, что после перевода промышленности на военные рельсы производство, покрывающее нужды войны, может быть достигнуто только через год после ее начала.
Возникли споры.
Вознесенский, человек, знавший экономику, тут же мгновенно подсчитал, какое огромное количество снарядов мы хотим иметь в запасе, и с карандашом в руках начал доказывать, что, согласно нашим расчетам, мы планируем 500 снарядов для поражения одного танка противника.
— Разве это возможно?
Пришлось ответить ему, что это не только возможно, а необходимо, что будет отлично, если нам удастся обойтись даже не пятьюстами, а тысячью снарядов для уничтожения каждого немецкого танка.
— А как же быть с нормами поражения танков, записанными у вас во всех документах? — спросил Вознесенский.
— Так это же нормы поражения на учениях, а на войне другое дело.
Была создана комиссия.
После всех подсчетов убедились, что производство такого количества снарядов металлом обеспечить можно, но нельзя обеспечить порохами, с порохами дело обстояло из рук вон плохо.
В итоге нашу заявку пока было предложено удовлетворить только на 15–20 процентов.
Говоря о предвоенном периоде и о том, что определило наши неудачи в начале войны, нельзя сводить все только к персональным ошибкам Сталина или в какой-то мере к персональным ошибкам Тимошенко и Жукова.
Все это так. Ошибки были.
Но надо помнить и некоторые объективные данные. Надо подумать и подсчитать, что представляли тогда собой мы и наша армия и Германия и ее армия. Насколько выше был ее военный потенциал, уровень промышленности, уровень промышленной культуры, уровень общей подготовленности к войне.
После завоевания Европы немцы имели не только сильную, испытанную в боях, развернутую и находившуюся в полной боевой готовности армию, не только идеально налаженную работу штабов и отработанное буквально по часам взаимодействие пехоты, артиллерии, танков и авиации. Немцы имели перед нами огромное преимущество в военно-промышленном потенциале. Почти втрое превосходили нас по углю, в два с половиной раза — по чугуну и стали. Правда, у нас оставалось преимущество по нефти — и по запасам, и по объему добычи. Но, даже несмотря на это, мы, например, к началу войны так и не имели необходимого нам количества высокооктанового бензина для поступавших на наше вооружение современных самолетов, таких, как МиГи.
Словом, нельзя забывать, что мы вступили в войну, еще продолжая быть отсталой в промышленном отношении страной по сравнению с Германией.
Говоря о нашей подготовленности к войне с точки зрения хозяйства, экономики, нельзя замалчивать и такой фактор, как последующая помощь со стороны союзников. Прежде всего, конечно, со стороны американцев, потому что англичане в этом смысле помогали нам минимально. При анализе всех сторон войны это нельзя сбрасывать со счетов. Мы были бы в тяжелом положении без американских порохов, мы не смогли бы выпускать такое количество боеприпасов, которое нам было необходимо. Без американских «студебеккеров» нам не на чем было бы таскать нашу артиллерию. Да они в значительной мере вообще обеспечивали наш фронтовой транспорт. Выпуск специальных сталей, необходимых для самых разных нужд войны, был тоже связан с рядом американских поставок.
То есть то развитие военной промышленности, которое осуществлялось в ходе войны, и переход ее на военные рельсы были связаны не только с нашими собственными военно-промышленными ресурсами, имевшимися к началу войны, но и с этими поставками[1]. И это тоже следует учитывать, сравнивая то, с чем мы вступили в войну и с чем — Германия, располагавшая притом еще и военной промышленностью всех захваченных ею стран Европы.
Наконец, надо добавить, что Гитлер со дня своего прихода к власти абсолютно все подчинил интересам будущей войны, все строилось в расчете на победу в этой войне, все делалось для этого и только для этого. А мы такой позиции не заняли, остановились на полумерах. Сталкивались друг с другом интересы ведомств, шла бесконечная торговля по каждому вопросу, связанному с вооружением армии и подготовкой к войне. Все это тоже надо класть на чашу весов, объясняя причины наших поражений и неудач первого года войны.
Сталин считал, и считал справедливо, что для того, чтобы подготовиться к войне, нам нужно еще минимум два года. Они нужны были и для военно-стратегического освоения районов, занятых нами в 1939 году, и для реорганизации армии, в том числе технической, с которой мы сильно запоздали. Хотя за год, прошедший между концом финской кампании и началом войны, было немало сделано, но, чтобы оказаться вполне готовыми к войне, нам нужно было действительно еще около двух лет.
Сведения о предстоящем нападении немцев, шедшие от Черчилля и из других источников, Сталин считал вполне логичным стремлением англичан столкнуть нас с немцами и поскорее ввязать нас в войну, к которой мы, по его убеждению, были не готовы. Он считал также, что провокации возможны не только со стороны англичан, но и со стороны некоторых немецких генералов, склонных, по его мнению, к превентивной войне и готовых поставить Гитлера перед свершившимся фактом. О сообщениях, переданных Зорге, несмотря на занимаемую мною тогда должность начальника Генерального штаба, я в то время ровно ничего не знал. Очевидно, доклады об этом шли непосредственно к Сталину через Берию, и Сталин не счел нужным сообщать нам об этих имевшихся у него донесениях.
Сведениями о дислокации значительных военных сил в Польше мы располагали, но Сталин в принципе считал само собой разумеющимся, что немцы держат у наших границ крупные части, зная, что и мы в свою очередь держим на границе немалое количество войск, и считаясь с возможностью нарушения пакта с нашей стороны. А непосредственное сосредоточение ударных немецких группировок было произведено всего за два — три последних дня перед войной. И за эти двое — трое суток разведчики не успели передать нам сведений, которые бы составили полную картину готовящегося.
Что такое внезапность?
Трактовка внезапности, как трактуют ее сейчас, да и как трактовал ее в своих выступлениях Сталин, неполна и неправильна.
Что значит внезапность, когда мы говорим о действиях такого масштаба? Это ведь не просто внезапный переход границы, не просто внезапное нападение. Внезапность перехода границы сама по себе еще ничего не решала. Главная опасность внезапности заключалась не в том, что немцы внезапно перешли границу, а в том, что для нас оказалась внезапной ударная мощь немецкой армии; для нас оказалось внезапностью их шестикратное и восьмикратное превосходство в силах на решающих направлениях; для нас оказались внезапностью и масштабы сосредоточения их войск, и сила их удара. Это и есть то главное, что предопределило наши потери первого периода войны. А не только и не просто внезапный переход границы.
Начало войны застало меня начальником Генерального штаба. Обстановка для работы в Генеральном штабе в те дни была крайне трудной. Мы все время отставали, опаздывали, принимали запоздалые, несвоевременные решения.
Наконец Сталин поставил передо мной прямой вопрос:
— Почему мы все время опаздываем?
И я ему на это тоже прямо ответил, что при сложившейся у нас системе работы иначе и быть не может.
— Я как начальник Генерального штаба получаю первую сводку в 9 утра. По ней требуется сейчас же принять срочные меры. Но я сам не могу этого сделать. Я докладываю наркому Тимошенко. Но и нарком тоже не может принять решения. Мы обязаны доложить это вам. Приехать в Кремль и дожидаться приема. В час или в два часа дня вы принимаете решения. Мы едем, оформляем их и направляем приказания на места. Тем временем обстановка уже изменилась. Мы хотели удержать такой-то пункт, скажем Ивановку, — придвинуть к ней войска. Но немцы за это время уже заняли ее. Наоборот, хотели вывести войска из какого-то другого пункта. А немцы тем временем уже обошли его и отрезали. Между получением данных, требующих немедленного решения, и тем решением, которое мы принимаем, проходит 7–8 часов. А за это время немецкие танки делают 40–50 километров, и мы, получив новые сведения, принимаем новое решение и снова опаздываем.
Я доложил Сталину, что, на мой взгляд, двухступенное командование невозможно.
— Либо я как начальник Генерального штаба должен докладывать Тимошенко, с тем чтобы он, ни с кем не согласовывая, немедленно принимал решения; либо я должен докладывать все это непосредственно вам, с тем чтобы эти решения немедленно принимали вы. Иначе мы будем продолжать опаздывать.
К началу июля неправильность принятой системы и гибельность проволочек стали ясны самому Сталину. Тимошенко был назначен командующим Западным направлением, а обязанности Верховного Главнокомандующего взял на себя Сталин. С ликвидацией этой двухступенности наша работа начала принимать более нормальный и более оперативный характер. Кроме того, состояние ошеломленности, в котором мы находились в первые десять дней войны, несколько смягчилось. Продолжали происходить тяжелые события, но мы психологически уже привыкли к ним и стремились исправить положение, исходя из реально складывавшейся обстановки.
Вспоминая предвоенный период, надо сказать, что, конечно, на нас — военных — лежит ответственность за то, что мы недостаточно настойчиво требовали приведения армии в боевую готовность и скорейшего принятия ряда необходимых на случай войны мер. Очевидно, мы должны были это делать более решительно, чем делали. Тем более что, несмотря на всю непререкаемость авторитета Сталина, где-то в глубине души у тебя гнездился червь сомнения, шевелилось чувство опасности немецкого нападения. Конечно, надо реально себе представить, что значило тогда идти наперекор Сталину в оценке общеполитической обстановки. У всех на памяти еще были недавно минувшие годы; и заявить вслух, что Сталин не прав, что он ошибается, попросту говоря, могло тогда означать, что, еще не выйдя из здания, ты уже поедешь пить кофе к Берии.
И все же это лишь одна сторона правды. А я должен сказать всю. Я не чувствовал тогда, перед войной, что я умнее и дальновиднее Сталина, что я лучше него оцениваю обстановку и больше него знаю. У меня не было такой собственной оценки событий, которую я мог бы с уверенностью противопоставить как более правильную оценкам Сталина. Такого убеждения у меня не существовало. Наоборот, у меня была огромная вера в Сталина, в его политический ум, его дальновидность и способность находить выходы из самых трудных положений. В данном случае в его способность уклониться от войны, отодвинуть ее. Тревога грызла душу. Но вера в Сталина и в то, что в конце концов все выйдет именно так, как он предполагает, была сильнее. И, как бы ни смотреть на это сейчас, это правда».
В предыдущей главе даны некоторые записи, говорящие о том восприятии личности Сталина, которое сложилось у Жукова к началу войны.
В ходе войны Жуков узнал Сталина гораздо ближе. Его взгляд на Сталина, сложившийся в ходе войны, представляет особую ценность, потому что этот взгляд опирается на огромный четырехлетний опыт совместной работы. Для Жукова Сталин в годы войны — это прежде всего Верховный Главнокомандующий, с которым он все эти годы, как правило, имел дело без промежуточных инстанций, непосредственно, и в роли начальника Генерального штаба, и в роли командующего разными фронтами, оставаясь при этом членом Ставки, в роли и первого заместителя Главнокомандующего, и координатора действий нескольких фронтов.
Для Жукова Сталин во время войны — это человек, принявший на свои плечи самую трудную должность в воюющем государстве. И Жуков отмечает прежде всего те черты натуры Сталина, которые проявлялись при исполнении именно этой должности. Поэтому тот портрет Сталина, который вырастает в этих записях, сделанных со слов Жукова, хотя и не может претендовать на полноту, но отличается конкретностью наблюдений, связанных с той общей работой, которую они оба делали. Добавлю, что в этом портрете присутствуют, конечно, и личные эмоции, вносящие момент субъективности.
Группируя эти записи, я условно разделил их на две части: записи, отражающие разные моменты войны, расположены в хронологическом порядке; записи, в которых отражается общий взгляд Жукова на личность Сталина в годы войны, даны без соблюдения хронологии.
Итак, сначала записи, отражающие хронологию событий.
«Впервые в жизни я разговаривал со Сталиным в 1940 году, после своего возвращения с Халхин-Гола. Шел к нему, надо признаться, с некоторым трепетом в душе, но встретил он меня очень хорошо. Я увидел человека внешне, на первый взгляд, самого обыкновенного: небольшого роста, чуть ниже меня, спокойного, приветливого, показавшегося мне очень внимательным и человечным.
Он долго и обстоятельно расспрашивал меня о событиях в Монголии, о моих выводах.
Впечатления от последующих встреч со Сталиным сложились разные, да и сами эти встречи были очень разными. Он был человеком с большим чувством юмора и иногда, когда дела шли хорошо, бывал, как в первую нашу встречу, внимательным и человечным. Но в большинстве случаев, а в общем-то почти всегда, был серьезен и напряжен. В нем почти всегда чувствовалась эта напряженность, которая действовала и на окружающих. Я всегда ценил — и этого нельзя было не ценить — ту краткость, с которой он умел объяснять свои мысли и ставить задачи, не сказав ни единого лишнего слова. Эту краткость он в свою очередь сам ценил в других и требовал докладов содержательных и кратких. Он терпеть не мог лишних слов и заставлял в таких случаях сразу переходить к существу дела.
При своем грузинском акценте он великолепно владел русским языком и, можно без преувеличения сказать, был знатоком его. Это проявлялось даже в мелочах. Однажды, еще в период моей работы начальником Генерального штаба, диктуя мне директиву и нетерпеливо заглядывая при этом через плечо, он вдруг сказал мне:
— Ну, а запятые я буду за вас расставлять?
И когда я полушутя сказал, что я не мастер на запятые, ответил совершенно серьезно:
— А неправильно поставленная запятая иногда может изменить суть сказанного.
Бывал он и груб, очень. По своему характеру я в некоторых случаях не лез за словом в карман. Случалось даже, что резко отвечал на его грубости, причем шел на это сознательно, потому что иногда надо было спорить, иначе я бы не мог выполнить своего долга.
Однажды, полушутя-полусерьезно обратившись к двум присутствовавшим при нашем разговоре людям, он сказал:
— Что с вами говорить? Вам что ни скажешь, вы всё: «Да, товарищ Сталин», «Конечно, товарищ Сталин», «Совершенно правильно, товарищ Сталин», «Вы приняли мудрое решение, товарищ Сталин». Только вот один Жуков иногда спорит со мной…
В конце июля 1941 года, еще находясь в должности начальника Генерального штаба, анализируя обстановку, я пришел к выводу, что немцы в ближайшее время не будут продолжать наступать на Москву до тех пор, пока не ликвидируют угрозу правому флангу своей нацеленной на Москву группировки со стороны правого фланга нашего Юго-Западного фронта.
В связи с этим я письменно изложил свои соображения о необходимости, оставив Киев, занять прочную оборону по восточному берегу Днепра, усилить правый фланг Юго-Западного фронта и сосредоточить за ним две резервные армии для парирования удара немцев. По моим предположениям, они могли нанести этот удар по правому флангу Юго-Западного фронта с выходом в его тылы.
Прочитав написанный мною документ, Сталин вызвал меня к себе. У него находились Берия и Мехлис. Сталин в их присутствии обрушился на меня, говоря, что я пишу всякую ерунду, горожу чепуху и так далее. Все это в очень грубой форме.
Я сказал в ответ на это:
— Товарищ Сталин, прошу вас выбирать выражения. Я начальник Генерального штаба, если вы как Верховный Главнокомандующий считаете, что ваш начальник Генерального штаба городит чепуху, то его следует отрешить от должности, о чем я и прошу вас.
В ответ на это он сказал мне:
— Идите, мы обдумаем вашу просьбу.
Я снова был вызван к нему через сорок минут, и Сталин уже более спокойным тоном сказал мне:
— Мы решили удовлетворить вашу просьбу. Вы освобождены от должности начальника Генерального штаба. Что вы хотите делать? Какую работу вам дать?
Я сказал, что могу пойти командовать корпусом, могу армией, могу фронтом. Думаю, что больше пользы принесу, командуя фронтом.
В тех моих письменных соображениях, из-за которых начался этот разговор и состоялось мое снятие с должности начальника Генерального штаба, я наряду с другим писал, что на Западном фронте необходимо ликвидировать уже занятый к этому времени немцами ельнинский выступ, грозящий нам большими осложнениями.
Теперь, когда речь зашла о том, кем и куда назначить, я сказал, что хотел бы получить возможность осуществить эту операцию.
— Хотите наступать? — иронически спросил Сталин.
— Да, — ответил я.
— Считаете, что с нашими войсками можно проводить наступление? — продолжал он так же иронически. — Им еще не удалось ни одно наступление, а вы собираетесь наступать?
Я отвечал, что да, и надеюсь на успех.
После того как я был назначен командовать фронтом и провел Ельнинскую операцию, я уже в своей новой должности вновь доложил Сталину прежние соображения об опасности удара немцев с северо — запада на юго — восток, в тыл нашему Юго-Западному фронту. На сей раз он отнесся к этим соображениям по-другому. И даже нашел в себе силы сказать мне:
— Вы мне правильно докладывали тогда, но я не совсем правильно вас понял.
После этого он заговорил о том, что Буденный плохо справляется с командованием Юго-Западным направлением.
— Кем, по вашему мнению, следовало бы его заменить?
Подумав, что он, быть может, имеет в виду меня, я ответил, что, на мой взгляд, на Юго-Западное направление следовало бы направить Тимошенко, он обладает авторитетом в войсках, опытом и вдобавок по национальности украинец, что имеет свое значение в условиях операций, развертывающихся на Украине.
Помолчав и, как я понял из последующего, приняв это решение, Сталин заговорил о Ленинграде и Ленинградском фронте. Положение, сложившееся под Ленинградом в тот момент, он оценивал как катастрофическое. Помню, он даже употребил слово «безнадежное». Он говорил, что, видимо, пройдет еще несколько дней и Ленинград придется считать потерянным. А с потерей Ленинграда произойдет соединение немцев с финнами, и в результате там создастся крайне опасная группировка, нависающая с севера над Москвой.
Сказав все это, он спросил меня:
— Что вы думаете делать дальше?
Я с некоторым удивлением ответил, что собираюсь ехать обратно, к себе на фронт.
— Ну а если не ехать обратно, а получить другое назначение?
Услышав это, я сказал, что, если так, я бы хотел поехать командовать Ленинградским фронтом.
— А если это безнадежное дело? — сказал он.
Я высказал надежду, что оно еще может оказаться не таким безнадежным.
— Когда можете ехать? — коротко спросил он.
Я ответил, что если ехать — предпочитаю немедленно.
— Немедленно нельзя. Надо сначала организовать вам сопровождение истребителей.
И сразу же позвонил авиаторам, запросив у них прогноз погоды. Пока ему давали прогноз погоды, он спросил, кого, по моему мнению, можно назначить моим преемником на Западном фронте. Я ответил, что командующего 19–й армией Конева.
Тем временем авиаторы дали прогноз. Прогноз на утро был плохой: туман.
Сталин сказал:
— Дают плохую погоду. А для вас, значит, хорошую.
И тут же написал короткую записку:
«Ворошилову. ГОКО назначает командующим Ленинградским фронтом генерала армии Жукова. Сдайте ему фронт и возвращайтесь тем же самолетом. Сталин».
Эта записка и была моим назначением.
Положив ее в карман, я утром сел в самолет, прилетел в Ленинград и принял фронт».
Следующая запись, которую я хочу привести, связана с тяжелыми для нас октябрьскими событиями, когда, прорвав фронт и окружив под Вязьмой большую часть войск Западного и Резервного фронтов, немцы шли на Москву.
«Во второй половине дня 6 октября мне в Ленинград позвонил Сталин. Поинтересовался, как идут дела на фронте, как обстановка, и после этого сказал, что мне нужно немедленно вернуться в Москву для выполнения особого задания.
Я ответил, что завтра же вылетаю. 7 октября, сдав дела по командованию Ленинградским фронтом начальнику штаба генералу Хозину, я вылетел в Москву. В Москву прилетел уже вечером и сразу направился на квартиру к Сталину. Сталин болел гриппом, но работал.
Поздоровавшись кивком головы, он предложил посмотреть на карту и сказал:
— Не могу добиться ясного доклада, что происходит сейчас на Западном направлении. Где противник, где наши войска? Поезжайте немедленно в штаб Западного фронта и позвоните мне в любое время суток. Я буду ждать».
Опустив в данном случае рассказ Жукова о том, как он поехал в штабы и войска Западного и Резервного фронтов и разбирался там в сложившейся обстановке, я прямо перейду к записям о тех разговорах со Сталиным, которые произошли у Жукова при его последующем назначении командующим Западным фронтом.
«Сталин был в нервном настроении и в страшном гневе. Говоря со мной, он в самых сильных выражениях яростно ругал командовавших Западным и Брянским фронтами Конева и Еременко и ни словом не упомянул при этом Буденного, командовавшего Резервным фронтом. Видимо, считал, что с этого человека уже невозможно спросить. Он сказал мне, что назначает меня командующим Западным фронтом, что Конев с этой должности снят и, после того как посланная к нему в штаб фронта правительственная комиссия сделает свои выводы, будет предан суду военного трибунала.
На это я сказал Сталину, что такими действиями ничего не исправишь и никого не оживишь. И что это только произведет тяжелое впечатление в армии. Напомнил ему, что вот расстреляли в начале войны командующего Западным фронтом Павлова, а что это дало? Ничего не дало. Было заранее хорошо известно, что из себя представляет Павлов, что у него потолок командира дивизии. Все это знали. Тем не менее он командовал фронтом и не справился с тем, с чем не мог справиться. А Конев — это не Павлов, это человек умный. Он еще пригодится.
— А вы что предлагаете делать?
Я сказал, что предлагаю оставить Конева моим заместителем.
Сталин спросил подозрительно:
— Почему защищаете Конева? Что он, ваш дружок?
Я ответил, что нет, что мы с Коневым никогда не были друзьями, я знаю его только как сослуживца по Белорусскому округу.
Сталин дал согласие.
Думаю, что это решение, принятое Сталиным до выводов комиссии, сыграло большую роль в судьбе Конева, потому что комиссия, которая выехала к нему на фронт во главе с Молотовым, наверняка предложила бы другое решение. Я, хорошо зная Молотова, не сомневался в этом.
Через день или два после того, как я вступил в командование фронтом, я направил Конева как своего заместителя на правый фланг, к Калинину. Управляя этим далеко отстоявшим флангом, он действовал там самостоятельно и удачно и вскоре вступил в командование созданным там Калининским фронтом.
Через два дня после того, как я начал командовать фронтом, Молотов позвонил мне. В разговоре с ним шла речь об одном из направлений, на котором немцы продолжали продвигаться, а наши части продолжали отступать. Молотов говорил со мной в повышенном тоне. Видимо, он имел прямые сведения о продвижении немецких танков на этом участке, а я к тому времени не был до конца в курсе дела. Словом, он сказал нечто вроде того: или я остановлю это угрожающее Москве отступление, или буду расстрелян! Я ответил ему на это:
— Не пугайте меня, я не боюсь ваших угроз. Еще нет двух суток, как я вступил в командование фронтом, я еще не полностью разобрался в обстановке, не до конца знаю, где что делается. Разбираюсь в этом, принимаю войска.
В ответ он снова повысил голос и стал говорить в том же духе:
— Как же это так, не суметь разобраться за двое суток!
Я ответил, что, если он способен быстрее меня разобраться в положении, пусть приезжает и вступает в командование фронтом. Он бросил трубку, а я стал заниматься своими делами.
За несколько дней до парада на Красной площади Сталин позвонил мне и сказал, что у ГОКО есть намерение (он имел обыкновение так говорить: «ГОКО решил», «У ГОКО есть намерение») 7 ноября провести в Москве традиционный парад. Мое мнение? Не могут ли немцы помешать этому действиями с воздуха и на земле? Не сделают ли они попытки прорваться к Москве?
Я ответил, что на земле мы можем гарантировать — ничего сверх обычного в этот день не произойдет. А с воздуха парад надо дополнительно обеспечить. Может быть, следует вдобавок к имеющимся перебросить под Москву некоторые истребительные части. Заключил тем, что провести парад, по моему мнению, возможно и что это произведет ободряющее впечатление на армию.
Второй раз Сталин позвонил мне уже утром, накануне парада. Сказал, что решено проводить парад, и, добавив, что сегодня вечером будет выступать на заседании Моссовета, спросил, позволит ли мне обстановка приехать туда из штаба фронта.
Я приехал и присутствовал на этом заседании, состоявшемся в метро на станции «Маяковская».
Сталин был человеком, который если за что-то уж однажды зацепится, то потом с трудом расстанется с этой своей идеей или намерением, даже когда объективные обстоятельства прямо говорят, что с первоначальным намерением необходимо расстаться.
В мае 1942 года Сталин сравнительно мягко отнесся к виновникам керченской катастрофы, очевидно, потому, что сознавал свою персональную ответственность за нее. Во-первых, наступление там было предпринято по его настоянию, и такое количество войск тоже было сосредоточено по его настоянию. Ставка, Генеральный штаб предлагали другое решение. Они предлагали отвести войска с Керченского полуострова на Таманский и построить нашу оборону там. Но он не принял во внимание этих предложений, считая, что, действуя так, мы высвободим воевавшую в Крыму 11–ю немецкую армию Манштейна. В итоге вышло, что армия Манштейна все равно была высвобождена, а мы потерпели под Керчью тяжелое поражение.
Приняв неправильное решение, Сталин вдобавок отправил на Керченский полуостров таких представителей Ставки, которые обеспечили катастрофу: Мехлиса и Кулика. Последний вообще неспособен был разумно руководить чем-либо. Эти представители действовали под Керчью в сочетании со слабым, безвольным командующим фронтом Козловым. И когда это предприятие, начатое по настоянию Сталина и под руководством лично им направленных туда людей, закончилось катастрофой, они понесли меньшее наказание, чем, очевидно, понесли бы за то же самое при других обстоятельствах другие люди.
Уже в тот период, когда я стал заместителем Верховного Главнокомандующего и между выездами на фронт иногда по месяцу, по два работал в Москве, я однажды сказал Сталину, что все его ближайшие помощники, я в том числе, издергались и измотались до последней степени.
Он с некоторым удивлением спросил: «Почему?»
Я сказал ему, что, когда он работает по ночам, мы тоже в это время работаем. И пока нам не становится известным, что он уехал и лег спать, мы не уезжаем и не ложимся спать. А утром, когда он спит, у нас самое горячее время, мы вынуждены работать. Он встает в два часа и начинает работать, а мы, уже проработав к этому времени все утро, находимся в любую минуту в готовности к его вызову. Так идет день за днем, месяц за месяцем. И люди измотаны этим.
Пока я ему все это говорил, он несколько раз переспрашивал меня, уточнял, даже выразил удивление тем, что никто не ложится спать, пока не лег он. Потом сказал:
— Хорошо. Обещаю вам, что больше не будут звонить вам ночью.
И действительно, с того дня до самого конца войны он ни разу не позвонил мне позднее двенадцати часов ночи. Один раз позвонил ровно в двенадцать, но свой разговор со мной начал с вопроса:
— А вы еще не ложились спать, товарищ Жуков?
Я сказал, что нет, только собираюсь. Он задал какой-то деловой вопрос, не из числа самых существенных, и, сразу закончив разговор, сказал:
— Ну, прощайте, отдыхайте».
Приведу ответ Жукова на один из моих вопросов, связанных со Сталинградской операцией. Вопрос этот был вызван тем, что в некоторых статьях и мемуарах можно было заметить различие во взглядах на то, как была введена в бой в декабре 1942 года под Котельниково находившаяся в резерве Ставки 2–я гвардейская армия Малиновского. Момент был критический, деблокирующая танковая группа Гота прорывалась все ближе к Сталинграду, и 2–я гвардейская армия была брошена ей навстречу, хотя первоначально эту армию предполагалось использовать на другом, Юго-Западном фронте. Решительным ударом на Ростов она должна была отрезать все находившиеся восточнее немецкие войска. Я столкнулся с намеками на то, что было бы правильнее, даже ценой того, что Гот прорвется еще ближе к Сталинграду, сохранить за армией Малиновского прежнюю решительную задачу отсекающего удара на Ростов.
Меня привлекала эта точка зрения, она казалась мне более смелой, и, задавая Жукову свой вопрос, я, откровенно говоря, думал, что он поддержит ее. Но мои ожидания не оправдались.
«В период, когда возник вопрос о переадресовке армии Малиновского, — сказал Жуков, — я уже был не на юге, а на Западном фронте, занимался там организацией наступления против немцев, с тем чтобы они не могли перебросить силы на юг. Организуя это наступление, которое нельзя признать удачным, я был вызван к телефону Сталиным. Он сказал мне, что есть предложение переадресовать армию Малиновского, бросить ее на помощь Сталинградскому фронту, вместо того чтобы, как раньше предполагалось, наращивать ею удар на Ростов с севера. И спросил, как мое мнение.
Я в свою очередь спросил, как смотрит на это находящийся там, на юге, Василевский.
Сталин сказал, что Василевский считает необходимым переброску этой армии на помощь Сталинграду. Уважая мнение Василевского и считая его существенным, я ответил Сталину, что если так, то это, видимо, действительно необходимо.
На этом и закончился наш разговор. И, глядя в прошлое, учитывая тогдашнее соотношение сил, я считаю, что в той обстановке нам ничего, кроме этого, и не оставалось. Подписываюсь под этим решением и считаю его правильным.
Кстати сказать, наш первоначальный план действительно предполагал удар на Ростов с севера, чтобы запереть у немцев все, что окажется восточнее этого удара. План этот был составлен в Ставке и подписан Василевским и мною как заместителем Верховного Главнокомандующего.
Помню, как я попросил тогда Сталина подписать ту карту, на которую был нанесен этот план.
— А для чего? — сказал он. — Я знаю об этом, со мной это согласовано.
Тогда я сказал ему:
— Распишитесь для истории.
— А, для истории, — сказал он и расписался на карте.
Я хотел, чтобы он расписался на этой карте. Ответственность была огромная, решение принималось важнейшее, и было необходимо, чтобы он сам расписался на этой карте».
Следующие записи связаны с 1944–1945 годами, с последним периодом войны.
«Осенью 1944 года после завершения летней Белорусской операции во время разговора со Сталиным в Ставке по итогам этой операции он сказал мне:
— Вот видите, вы предлагали вначале, чтобы фронты наступали в иной последовательности, я с вами тогда не согласился и был прав. При той последовательности, которую мы установили, все получилось лучше.
Хорошо помня, как происходило дело при планировании этой операции, в которой я координировал действия двух фронтов, я возразил, что хотя все действительно вышло хорошо, но я и не предлагал другой последовательности действий фронтов.
— Как не предлагали? — сказал Сталин.
— Не предлагал. Давайте посмотрим директивы.
Он выдвинул ящик стола, вынул директивы, сначала сам начал читать, а потом протянул их мне и сказал:
— Читайте.
Я стал читать и вскоре дочитал до того места, из которого явствовало, что он не прав, что я действительно не предлагал иной последовательности введения в дело фронтов при проведении операции.
Он прервал меня, забрал у меня директивы и передал их Маленкову:
— Читайте.
Тот, вернувшись назад, дошел до этого же самого места и запнулся, видимо, не зная, что ему делать дальше, потому что дальше шел текст, вступавший в противоречие со словами Сталина. Запнулся, но все же продолжил чтение — что ж делать!
Сталин забрал у него бумаги и дал Берии:
— Читай!
Стал читать Берия, но при всем желании ничего другого вычитать не мог.
Сталин забрал директивы и, сунув обратно в ящик, ничего не сказал, но чувствовалось, что он был очень не доволен. Почему-то именно в этом случае ему захотелось весь успех операции, связанной с правильностью ее планирования, оставить за собой.
Разговор в тот день вообще вышел тяжелый. А вскоре после этого он заговорил со мной о том, что в предстоящих Висло — Одерской и Берлинской операциях специальной координации действий фронтов на месте вообще не потребуется. Что эту координацию сможет осуществлять Ставка непосредственно из Москвы. Сказав это, он предложил мне взять на себя командование 1–м Белорусским фронтом, который пойдет прямо на Берлин.
Я спросил у него, куда же он думает в таком случае назначить Рокоссовского, командующего этим фронтом. Он ответил на вопрос вопросом:
— А вы как думаете в этом случае? Вы будете командовать 1–м Белорусским фронтом, куда назначить Рокоссовского?
Я ответил, что если так, то, очевидно, его следует направить командовать 2–м Белорусским фронтом, который будет взаимодействовать с 1–м Белорусским фронтом в нашем ударе на Берлин.
Вот как был решен этот вопрос, а не так, как иногда пытаются представить в последнее время. И начало этого вопроса, само возникновение его относится к более раннему времени, к подведению итогов Белорусской операции и к тому конфликту, который при этом возник. Считаю, что именно результатом этого конфликта было нежелание Сталина, чтобы я координировал действия фронтов, и его намерение направить меня командовать решающим, но одним фронтом».
«В воспоминаниях Конева о его разговоре со Сталиным в первый период Белорусской операции есть место, внушающее мне сомнение.
Конев написал, что Сталин спросил его о возможности ввода в прорыв на его фронте, через его армии, двух танковых армий 1–го Белорусского фронта. Мне трудно поверить, что Сталин мог внести такое предложение, прежде всего потому, что, как это видно из слов самого Конева, в тот момент, когда Сталин спросил о такой возможности, обе танковые армии 1–го Белорусского фронта — и армия Катукова, и армия Богданова — уже были введены мною своими первыми эшелонами в дело. Вынимать их из 1- го Белорусского фронта и перебрасывать для дальнейших действий на 1–й Украинский фронт в тот момент уже значило частично выводить их из боя. Сталин понимал, что это значит, и мне трудно представить, что он мог это предложить. Тем более трудно, что как раз в это время он спокойно отнесся к замедлению темпов нашего наступления на 1–м Белорусском фронте. Когда я доложил ему, что, как я и опасался, мы застряли, что немцы сосредоточили силы, оказывают ожесточенное сопротивление и наше продвижение замедлилось, мы все еще не можем прорваться в глубину, Сталин отреагировал на это очень спокойно.
— Ну что ж, — сказал он, — пусть подтягивают резервы, пусть цепляются. Больше перебьете здесь, меньше останется в Берлине.
Такой была его реакция в тот трудный для нас день.
Она осталась такой же и в дальнейшем. Я рассчитывал поначалу, что 1 мая мы уже доложим об окончании боев за Берлин и что об этом можно будет объявить на майском параде. Когда 30 апреля я понял, что сделать этого мы не сможем, я позвонил Сталину и сказал, что нам придется еще дня два провозиться с Берлином. Я ожидал с его стороны недовольство, а может быть, и упреки. Но он против моих ожиданий сказал очень спокойно:
— Ну что ж, пока не сообщим. В это Первое мая все и так будут в хорошем настроении. Позже сообщим. Не надо спешить там, на фронте. Некуда спешить. Берегите людей. Не надо лишних потерь. Один, два, несколько дней не играют теперь большой роли.
Такой была его реакция на мои доклады и в начале боев за Берлин, и в конце их».
А теперь несколько записей, дающих представление об общем взгляде Жукова на деятельность Сталина как главнокомандующего и его отношение к людям, работавшим в годы войны под его руководством.
Личные эмоции уживаются в этих записях с несомненным стремлением к той справедливости в оценках, которая, как мне кажется, вообще присуща Жукову, несмотря на всю резкость, а порой и непримиримость его характера.
«В стратегических вопросах Сталин разбирался с самого начала войны. Стратегия была близка к его привычной сфере — политике, и чем в более прямое воздействие с политическими вопросами вступали вопросы стратегии, тем увереннее он чувствовал себя в них.
В вопросах оперативного искусства в начале войны он разбирался плохо. Ощущение, что он владеет оперативными вопросами, у меня лично начало складываться в последний период Сталинградской битвы, а ко времени Курской дуги уже можно было без преувеличения сказать, что он и в этих вопросах чувствует себя вполне уверенным.
Что касается вопросов тактики, строго говоря, он не разбирался в них до самого конца. Да, собственно говоря, ему как Верховному Главнокомандующему и не было прямой необходимости разбираться в вопросах тактики. Куда важнее, что его ум и талант позволили ему в ходе войны овладеть оперативным искусством настолько, что, вызывая к себе командующих фронтами и разговаривая с ними на темы, связанные с проведением операций, он проявлял себя как человек, разбирающийся в этом не хуже, а порой и лучше своих подчиненных. При этом в ряде случаев он находил и подсказывал интересные оперативные решения.
К этому надо добавить, что у него был свой метод овладения конкретным материалом предстоящей операции, метод, который я, вообще говоря, считаю правильным. Перед началом подготовки той или иной операции, перед вызовом командующих фронтами он заранее встречался с офицерами Генерального штаба — майорами, подполковниками, наблюдавшими за соответствующими оперативными направлениями. Он вызывал их одного за другим на доклад, работал с ними по полтора, по два часа, уточнял с каждым обстановку, разбирался в ней и ко времени своей встречи с командующими фронтами, ко времени постановки им новых задач оказывался настолько хорошо подготовленным, что порой удивлял их своей осведомленностью.
Помню один из таких разговоров, когда он вдруг спросил меня про какую-то деревню, кем она занята — немцами или нашими. Мне, в то время руководившему действиями двух фронтов, было неизвестно, кем занята эта деревня. Я так и сказал ему об этом. Тогда он подвел меня к карте и, сказав, что эта деревня занята немцами, посоветовал обратить на нее внимание.
— Как населенный пункт она ничего из себя не представляет, — сказал он, — может быть, самой деревни после боев вообще не существует. Но если взять конфигурацию всего участка фронта, то пункт этот существенный и в случае активных действий немцев он может представить для нас известную опасность.
После того как я сам посмотрел на карте конфигурацию этого участка фронта, я должен был согласиться с правильностью его оценки. Это всего лишь один пример такого рода.
Пожалуй, при помощи такого метода он порой любил подчеркнуть перед нами свою осведомленность, но все же главное состояло в том, что его осведомленность была не показной, а действительной и его предварительная работа с офицерами Генерального штаба для уточнения обстановки перед принятием будущих решений была работой в высшей степени разумной.
В начале войны — говоря так, я в этом смысле отмечаю как рубеж Сталинградскую битву — случалось, что, выслушивая доклады, он иногда делал замечания, свидетельствующие об элементарном непонимании обстановки и недостаточном знании военного дела.
Так, например, было, когда летом 1942 года мне пришлось докладывать ему по Западному фронту об операции, связанной со взятием Погорелого Городища. Я докладывал ему о нанесении двух ударов: справа — главного, слева — вспомогательного. Справа на карте была большая, глубокая красная стрела, слева — небольшая. Обратив внимание на эту вторую стрелу, он спросил:
— А это что такое?
Пришлось объяснить, что малая стрела обозначает вспомогательный удар.
— Какой еще там вспомогательный удар? Какого черта нам разбрасывать силы? Надо сосредоточить их в одном месте, а не разбрасывать.
Пришлось докладывать, как мною задуман этот вспомогательный удар, что, ударив в двух местах, мы должны создать у противника неуверенность, в каком из них наносится главный удар, должны сковать часть его резервов на направлении нашего вспомогательного удара, чтобы он не успел ими сманеврировать, когда на вторые сутки операции обнаружит, где мы в действительности наносим главный удар.
Несмотря на то что мое объяснение, казалось, было убедительным, он остался недоволен им. Я продолжал доказывать свое. В конце концов он, так и не согласившись с моими доводами, сказал:
— Вас не переубедишь. Вы командующий фронтом и отвечаете за это.
Пришлось ответить, что я понимаю, что я командующий фронтом, и готов нести полную ответственность за то, что я предлагаю.
На этом и закончился тот разговор, довольно характерный для первого периода войны.
Впоследствии, во втором периоде, когда обсуждались планы операции, Сталин, наоборот, не раз сам ставил вопросы: нельзя ли нанести еще вспомогательный удар, продемонстрировать, растащить силы резерва противника? Именно с таким гораздо более глубоким пониманием этих вопросов было связано в дальнейшем планирование целой серии наших последовательных ударов разных фронтов, в особенности так называемых «десяти сталинских ударов» 1944 года».
«Со времени Сталинграда Сталин придерживался своего собственного подхода к проблемам окружения и уничтожения немецких войск. Ход Сталинградской операции запал ему в память, и он неоднократно возвращался к ее опыту. Когда у нас потом намечалась операция на окружение немцев в районе Кривого Рога, мне пришлось с этим столкнуться в разговоре со Сталиным. Он возразил против наших намерений провести оперативное окружение немцев, с тем чтобы впоследствии завершить его тактическим окружением и уничтожить их в созданном нами котле. Возразил и поставил другую задачу, потребовал, чтоб мы создали угрозу окружения, которая заставила бы немцев поспешно отходить из Криворожского бассейна. Вспомнив при этом Сталинград, он сказал, что так же, как теперь, мы обещали там окружить и уничтожить немцев за десять дней, а провозились с ними два с лишним месяца.
Схожий разговор произошел со Сталиным и в более поздний период, когда уже в 1944 году с нашим выходом на направление Черновицы — Проскуров нами по общей обстановке намечалось окружение немцев. Во всяком случае, мы об этом думали.
Сталин позвонил и сказал:
— Чувствую, что вы там затеваете окружение.
Пришлось подтвердить, что действительно такая мысль у нас есть и ее подсказывает сама обстановка.
— Не надо этого, — сказал Сталин. — Сколько времени это займет у вас?
Мы ответили, что окружение и последующее уничтожение окруженного противника, очевидно, займет около месяца.
— Месяц, — сказал он, — говорите, месяц? И в Сталинграде тоже говорили. А на самом деле займет и два, и три месяца. Не надо его окружать на нашей территории. Надо его вышибать. Гнать надо, скорей освобождать землю, весной надо будет сеять, нужен будет хлеб. Надо уменьшить возможность разрушений, пусть уходит. Создайте ему такую обстановку, чтобы быстрей уходил. Надо поскорее выгнать его с нашей территории. Вот наша задача. А окружение будете проводить потом, на территории противника».
«Если говорить о директивах Сталина по использованию тех или иных родов войск, в частности артиллерии, так называемых «сталинских указаниях по военным вопросам», то с полным правом назвать их так, разумеется, нельзя. Обычно это были соображения, связанные с общим руководством войсками или с действиями тех или иных родов войск. В основе их лежали выводы, сделанные из предыдущего опыта войны, который предстояло использовать для руководства войсками в дальнейшем. Все это, как правило, разрабатывалось командующими родов войск и их штабами, Генеральным штабом, Антоновым, Василевским, мною, затем предлагалось на рассмотрение Сталина и после его утверждения как его указания шло в войска».
«Профессиональные военные знания у Сталина были недостаточными не только в начале войны, но и до самого ее конца. Однако в большинстве случаев ему нельзя было отказать ни в уме, ни в здравом смысле, ни в понимании обстановки. Анализируя историю войны, надо в каждом конкретном случае по справедливости разбираться в том, как это было. На его совести есть такие приказания и настояния, упорные, невзирая ни на какие возражения, которые плохо и вредно сказывались на деле. Но большинство его приказаний и распоряжений были правильными и справедливыми.
Говоря это, нельзя забыть и о тех тяжелых моментах, которые бывали в разговорах со Сталиным. Однажды я был у него на докладе вместе с Василевским. Василевский докладывал истинную обстановку, не соответствующую ни нашим ожиданиям, ни нашим намерениям. Немцы делали как раз обратное тому, что мы предполагали и чего хотели. Сталина этот неприглядный доклад вывел из себя. Он подошел к Василевскому и в упор спросил его:
— Вы на кого работаете, товарищ Василевский?
Тот не понял:
— То есть как, товарищ Сталин?
— Вы на кого работаете, на англичан или на немцев?
Василевский повторил:
— Не понимаю вас, товарищ Сталин.
— Что вы не понимаете? Вы делаете такой доклад, как будто вы работаете не на нас, а на англичан…
Василевский побледнел. И когда мы после этого вдруг прервавшегося тяжелого разговора ехали с ним в машине, долго не мог прийти в себя. А утром мы вновь были с ним на докладе у Сталина, и Сталин вел себя так, словно этого вчерашнего разговора вообще никогда не было.
А вообще во второй период войны Сталин не был склонен к поспешности в решении вопросов, обычно выслушивал доклады, в том числе неприятные, не проявляя нервозности, не прерывал и, покуривая, ходил, присаживался, слушал.
В конце войны в нем как отрицательная черта заметна стала некоторая ревность, стало чаще и яснее чувствоваться, что ему хочется, чтобы все победы и успехи были связаны с ним, и что он ревнует к высоким оценкам тех или иных действий тех или иных командующих. Я, например, остро почувствовал это на Параде Победы, когда меня там приветствовали и кричали мне «ура» — ему это не понравилось; я видел, как он стоит и у него ходят желваки».
«Вы спрашиваете, каким был Сталин в начале войны и каким в конце? Что в нем изменилось? Заметна ли была разница?
Прежде всего надо сказать, что Сталин остался Сталиным. Его принципиальные взгляды, привычки, его отношение к обстановке и к людям не претерпели решительных изменений. Само отношение к людям у него осталось прежнее, но война переоценила людей. В ходе войны стали видней, чем в начале, их заслуги, их возможности, их необходимость для дела, и с этим все больше связывалось отношение Сталина к людям. К Коневу, например, в начале войны он относился плохо, снимал с командования фронтами, а позже, когда Конев вступил в командование Степным фронтом и дело у него пошло хорошо, успехи и удачные операции сменяли друг друга, Сталин, видя, как Конев воюет, изменил к нему свое отношение. В ходе войны сам Сталин приобретал опыт и знания, стал понимать многое из того, чего не понимал вначале. Втянулся в военную деятельность, стал глубже и справедливее в своих оценках. А кроме того, он стал вообще гораздо больше считаться с объективной действительностью. Точка зрения — «То, что я решил, может и должно быть» уступила место более трезвым позициям, основанным на объективной оценке реальности: «Можно сделать только то, что можно сделать; то, чего нельзя сделать, — нельзя».
Он все более внимательно прислушивался к советам, возникала взаимосвязь между его стремлением прислушаться и считаться с советами и его все более глубоким пониманием военной обстановки. Одно рождало второе, а второе, в свою очередь, усиливало первое. Более глубокое понимание обстановки толкало на то, чтобы прислушиваться к советам, а прислушиваясь к ним, он все глубже вникал в вопросы войны».
«Как я уже упоминал, в тех разговорах со Сталиным, которые были прямо связаны с ведением военных действий, мне за годы войны неоднократно приходилось выражать свое несогласие и вступать в споры. Очевидно, все это создало у него определенное мнение обо мне.
Когда я был уже снят с должности заместителя министра и командовал округом в Свердловске, Абакумов под руководством Берии подготовил целое дело о военном заговоре. Был арестован целый ряд офицеров, встал вопрос о моем аресте. Берия с Абакумовым дошли до такой нелепости и подлости, что пытались изобразить меня человеком, который во главе этих арестованных офицеров готовил военный заговор против Сталина. Но, как мне потом говорили присутствовавшие при этом разговоре люди, Сталин, выслушав предложение Берии о моем аресте, сказал:
— Нет, Жукова арестовать не дам. Не верю во все это. Я его хорошо знаю. Я его за четыре года войны узнал лучше, чем самого себя.
Так мне передали этот разговор, после которого попытка Берии покончить со мной провалилась».
Зная, что Жуков уже давно работает над воспоминаниями о своем жизненном пути, я не решался отнимать у него время просьбами рассказать мне свою биографию. Но в ходе наших бесед, главной темой которых была война, само собой вышло так, что он сам от времени до времени обращался к разным — и очень далеким, и более близким — событиям своей жизни, то давал характеристики людей, с которыми его сводила судьба, то высказывал те или иные взгляды на жизнь вообще и на свой собственный жизненный путь в частности.
Я привожу эту часть наших бесед, хорошо сознавая всю разнохарактерность приведенных здесь записей, в которых, однако, присутствует свойственная Жукову цельность натуры.
«Когда я написал воспоминания о своих детских годах и юности, я перечитал их и подумал: до чего же похожи биографии почти у всех наших генералов и маршалов, почти каждый из какой-то далекой деревеньки или села, почти каждый из бедной, чаще всего крестьянской, семьи. Удивительное сходство!
Я иногда задумываюсь над тем, почему именно так, а не иначе сложился мой жизненный путь на войне и вообще в жизни. В сущности, я мог бы оказаться в царское время в школе прапорщиков. Я окончил в Брюсовском, бывшем Газетном, переулке четырехклассное училище, которое по тем временам давало достаточный образовательный ценз для поступления в школу прапорщиков.
Когда я девятнадцатилетним парнем пошел на войну солдатом, я с таким же успехом мог пойти и в школу прапорщиков. Но мне этого не захотелось. Я не написал о своем образовании, сообщил только, что кончил два класса церковно-приходской школы, и меня взяли в солдаты. Так, как я и хотел.
На мое решение повлияла поездка в родную деревню незадолго перед этим. Я встретил там, дома, двух прапорщиков из нашей деревни, до того плохих, неудачных, нескладных, что, глядя на них, мне было даже как-то неловко подумать, что вот я, девятнадцатилетний мальчишка, кончу школу прапорщиков и пойду командовать взводом и начальствовать над бывалыми солдатами, над бородачами, и буду в их глазах таким же, как эти прапорщики, которых я видел у себя в деревне. Мне не хотелось этого, было неловко.
Я пошел солдатом. Потом кончил унтер-офицерскую школу — учебную команду. Эта команда, я бы сказал, была очень серьезным учебным заведением и готовила унтер-офицеров поосновательнее, чем ныне готовят наши полковые школы.
Прошел на войне солдатскую и унтер-офицерскую науку и после Февральской революции был выбран председателем эскадронного комитета, потом членом полкового.
Нельзя сказать, что я был в те годы политически сознательным человеком. Тот или иной берущий за живое лозунг, брошенный в то время в солдатскую среду не только большевиками, но и меньшевиками, и эсерами, много значил и многими подхватывался. Конечно, в душе было общее ощущение, чутье, куда идти. Но в тот момент, в те молодые годы можно было и свернуть с верного пути. Это тоже не было исключено. И кто его знает, как бы вышло, если бы я оказался не солдатом, а офицером, если бы кончил школу прапорщиков, отличился в боях, получил бы уже другие офицерские чины и к этому времени разразилась бы революция. Куда бы я пошел под влиянием тех или иных обстоятельств, где бы оказался? Может быть, доживал бы где-нибудь свой век в эмиграции? Конечно, потом, через год — другой, я был уже сознательным человеком, уже определил свой путь, уже знал, куда идти и за что воевать, но тогда, в самом начале, если бы моя судьба сложилась по-другому, если бы я оказался офицером, кто знает, как было бы. Сколько искалеченных судеб оказалось в то время у таких же людей из народа, как я…»
«Двадцать пять лет я просидел на коне. Был унтер-офицером, комвзводом, комэскадроном, командиром полка, командиром дивизии и корпуса.
Началом была унтер-офицерская служба в царской армии. Роль унтер-офицеров в царской армии была очень велика. По существу, на них лежало все обучение солдат, да и немалая тяжесть повседневного руководства солдатами, в том числе и руководство ими в бою. Среди царских офицеров было немало настоящих трудяг, таких, которые все умели делать сами и делали, не жалея на это ни сил, ни времени. Но большинство все-таки сваливало черновую работу на унтер-офицеров, полагалось на них. И это определяло положение унтер-офицеров в царской армии. Они были хорошо подготовлены, служили серьезно и представляли собой большую силу».
«В 1921 году мне пришлось быть на фронте против Антонова. Надо сказать, это была довольно тяжелая война. В разгар ее против нас действовало около семидесяти тысяч штыков и сабель. Конечно, при этом у антоновцев не хватало ни средней, ни тем более тяжелой артиллерии, не хватало снарядов, бывали перебои с патронами, и они стремились не принимать больших боев. Схватились с нами, отошли, рассыпались, исчезли и возникли снова. Мы считаем, что уничтожили ту или иную бригаду или отряд антоновцев, а они просто рассыпались и тут же рядом снова появились. Серьезность борьбы объяснялась и тем, что среди антоновцев было очень много бывших фронтовиков и в их числе унтер-офицеров. И один такой чуть не отправил меня на тот свет.
В одном из боев наша бригада была потрепана, антоновцы изрядно насыпали нам. Если бы у нас не было полусотни пулеметов, которыми мы прикрылись, нам бы вообще пришлось плохо. Но мы прикрылись ими, оправились и погнали антоновцев.
Незадолго до этого у меня появился исключительный конь. Я взял его в бою, застрелив хозяина. И вот, преследуя антоновцев со своим эскадроном, я увидел, что они повернули мне навстречу. Последовала соответствующая команда, мы рванулись вперед, в атаку. Я не удержал коня. Он вынес меня шагов на сто вперед всего эскадрона. Сначала все шло хорошо, антоновцы стали отступать. Во время преследования я заметил, как мне показалось, кого-то из их командиров, который по снежной тропке — был уже снег — уходил к опушке леса. Я за ним. Он от меня… Догоняю его, вижу, что правой рукой он нахлестывает лошадь плеткой, а шашка у него в ножнах. Догнал его и, вместо того чтобы стрелять, в горячке кинулся на него с шашкой. Он нахлестывал плеткой лошадь то по правому, то по левому боку, и в тот момент, когда я замахнулся шашкой, плетка оказалась у него слева. Хлестнув, он бросил ее и прямо с ходу, без размаха вынеся шашку из ножен, рубанул меня. Я не успел даже закрыться, у меня шашка была еще занесена, а он уже рубанул, мгновенным, совершенно незаметным для меня движением вынес ее из ножен и на этом же развороте ударил меня поперек груди. На мне был крытый сукном полушубок, на груди ремень от шашки, ремень от пистолета, ремень от бинокля. Он пересек все эти ремни, рассек сукно на полушубке, полушубок и выбил меня этим ударом из седла. И не подоспей здесь мой политрук, который зарубил его шашкой, было бы мне плохо.
Потом, когда обыскивали мертвого, посмотрели его документы, письмо, которое он недописал какой-то Галине, увидели, что это такой же кавалерийский унтер-офицер, как и я, и тоже драгун, только громаднейшего роста. У меня потом еще полмесяца болела грудь от его удара.
Так это было во время антоновщины.
Нашими войсками командовал тогда Тухачевский, а Уборевич был у него заместителем…»
Услышав это, я не удержался и спросил, как он оценивает Уборевича и Тухачевского.
«Обоих ставлю высоко, хотя они были разные люди, с разным опытом.
У Тухачевского был опыт фронтовых операций, а Уборевич командовал в Гражданскую войну армией, выше этого тогда не поднимался.
И по общему характеру своего мышления, и по своему военному опыту Тухачевский был более эрудирован в вопросах стратегии.
Он много занимался ими, думал над ними и писал о них. У него был глубокий, спокойный, аналитический ум.
Уборевич больше занимался вопросами оперативного искусства и тактикой. Он был большим знатоком и того и другого и непревзойденным воспитателем войск. В этом смысле он, на мой взгляд, был на три головы выше Тухачевского, которому была свойственна некоторая барственность, небрежение к черновой повседневной работе. В этом сказывались его происхождение и воспитание.
Сталкиваться с ним мне пришлось чаще всего в 1936 году во время разработки нового боевого устава. Нужно сказать, что Ворошилов, тогдашний нарком, в этой роли был человеком малокомпетентным. Он так до конца и остался дилетантом в военных вопросах и никогда не знал их глубоко и серьезно. Однако занимал высокое положение, был популярен, имел претензии считать себя вполне военным и глубоко знающим военные вопросы человеком. А практически значительная часть работы в наркомате лежала в то время на Тухачевском, действительно являвшимся военным специалистом. У них бывали стычки с Ворошиловым и вообще существовали неприязненные отношения. Ворошилов очень не любил Тухачевского, и, насколько я знаю, когда возник вопрос о подозрениях по отношению к Тухачевскому, а впоследствии и о его аресте, Ворошилов палец о палец не ударил для того, чтобы его спасти.
Во время разработки устава помню такой эпизод. При всем своем спокойствии Тухачевский умел проявлять твердость и давать отпор, когда считал это необходимым. Тухачевский как председатель комиссии по уставу докладывал Ворошилову как наркому. Я присутствовал при этом. И Ворошилов по какому-то из пунктов, уже не помню сейчас по какому, стал высказывать недовольство и предлагать что-то не шедшее к делу. Тухачевский, выслушав его, сказал своим обычным спокойным голосом:
— Товарищ нарком, комиссия не может принять ваших поправок.
— Почему? — спросил Ворошилов.
— Потому что ваши поправки являются некомпетентными, товарищ нарком.
Он умел давать резкий отпор именно в таком спокойном тоне, что, конечно, не нравилось Ворошилову.
С Уборевичем я работал вместе целых четыре года начиная с 1932–го. Я служил в Инспекции кавалерии у Буденного, а до этого был заместителем командира дивизии в Киевском округе. И вот Уборевич звонит туда, в Киевский округ, к Тимошенко, и спрашивает его, не могли бы он рекомендовать кого-либо из кавалеристов, чтобы навести порядок в 4–й кавалерийской дивизии. 4–я кавдивизия раньше была лучшей кавдивизией Первой Конной армии. Потом ее перебросили в Ленинградский военный округ, потом в Белоруссию, в такие места, где надо было все строить заново, занимать дивизию хозяйственным строительством. Командир дивизии оказался неудачным, за два года пребывания в Белоруссии дивизия только и занималась строительством, запустила боевую подготовку и вообще находилась в отвратительном виде. Тимошенко порекомендовал Уборевичу взять на эту дивизию меня. Уборевич в своем обычном решительном тоне позвонил в Москву Ворошилову и попросил:
— Товарищ нарком, дайте мне на дивизию Жукова, мне его порекомендовал Тимошенко.
Ворошилов ответил, что я работаю в Инспекции кавалерии у Буденного. Но Уборевич настоял на своем:
— В инспекции народу много, там можно найти и другого, а мне нужен командир дивизии, прошу выполнить мою просьбу.
Когда меня вызвали, я, разумеется, был рад пойти на дивизию и выехал в Белорусский округ. Дивизией я еще не командовал, только бригадой.
Поначалу мои отношения с Уборевичем сложились неудачно. Примерно через полгода после того, как я принял дивизию, он влепил мне по чьему-то несправедливому докладу выговор. Была какая-то инспекционная проверка в дивизии, оказалось что-то не так, в итоге выговор в приказе по округу. Выговор несправедливый, потому что за полгода дивизию поставить на ноги невозможно. За полгода с ней можно только познакомиться и начать принимать меры. А сделать все то, что требовалось для приведения дивизии в полный порядок, я за полгода не мог при всем желании. И вот — выговор. Притом заочный. Это был первый выговор за всю мою службу, и, на мой взгляд, повторяю, совершенно несправедливый. Я возмутился и дал телеграмму: «Командующему войсками округа Уборевичу. Вы крайне несправедливый командующий войсками округа, я не хочу служить с Вами и прошу откомандировать меня в любой другой округ. Жуков».
После телеграммы прошло два дня. Звонит Уборевич и вызывает меня к телефону.
— Интересную телеграмму я от вас получил. Вы что, недовольны выговором?
Я отвечаю:
— Как же я могу быть довольным, товарищ командующий, когда выговор несправедлив и не заслужен мною?
— Значит, вы считаете, что я несправедлив?
— Да, я так считаю. Иначе не отправил бы вам телеграммы.
— И ставите вопрос о том, чтобы откомандировать вас?
— Ставлю вопрос.
— Подождите с этим. Через две недели будет инспекторская поездка, мы на ней с вами поговорим. Можете подождать со своим рапортом до этого?
— Могу.
— Ну так подождите.
На этом закончился наш разговор. На инспекторской поездке Уборевич нашел случай, отозвал меня в сторону и сказал:
— Я проверил материалы, по которым вам вынесли выговор, и вижу, что он вынесен неправильно. Продолжайте служить. Будем считать вопрос исчерпанным.
— А выговор могу считать снятым? — спросил я.
— Разумеется, раз я сказал, что он несправедлив.
На этом закончился инцидент.
Впоследствии дивизия стала лучшей в округе и одной из лучших в армии. За два года я привел ее в порядок.
Отношения с Уборевичем сложились хорошие. Я чувствовал, что он работает надо мной. Он присматривался ко мне, давал мне разные задания, вытаскивал меня на доклады. Потом поручил мне на сборе в штабе округа сделать доклад о действиях французской конницы во время сражения на реке По в Первую мировую войну.
Этот доклад был для меня делом непривычным и трудным. Тем более что я, командир дивизии, должен был делать этот доклад в присутствии всех командующих родами войск округа и всех командиров корпусов. Но я подготовился к докладу и растерялся только в первый момент: развесил все карты, остановился около них; надо начинать, а я стою и молчу. Но Уборевич сумел помочь мне в этот момент, своим вопросом вызвал меня на разговор, дальше все пошло нормально, и впоследствии он оценил этот доклад как хороший.
Повторяю, я чувствовал, как он терпеливо работает надо мной.
А вообще он был строг. Если во время работы с его участием видел, что кто-то из командиров корпусов отвлекся, он мгновенно, не говоря лишнего слова, ставил ему задачу:
— Товарищ такой-то! Противник вышел отсюда, из такого-то района, туда-то, находится в таком-то пункте. Вы находитесь там-то. Что вы предполагаете делать?
Отвлекшийся командир корпуса начинал бегать глазами по карте, на которой сразу был назван целый ряд пунктов. Если бы он неотрывно следил, он бы быстро нашел, но раз хоть немножко отвлекся, то все сразу становится трудным. Это, конечно, урок ему. После этого он уже в течение всего сбора не сводит глаз с карты.
Уборевич был бесподобным воспитателем, внимательно наблюдавшим за людьми и знавшим их, требовательным, строгим, великолепно умевшим разъяснить тебе твои ошибки. Очевидность их становилась ясной уже после трех — четырех его фраз. Его строгости боялись, хотя он не был ни резок, ни груб. Но он умел так быстро и так точно показать тебе и другим твои ошибки, твою неправоту в том или ином вопросе, что это держало людей в напряжении».
Во время своего рассказа об Уборевиче, назвав Тимошенко, Жуков вдруг вне связи с предыдущим вернулся к нему и сказал:
«Тимошенко в некоторых сочинениях оценивают совершенно неправильно, изображают его чуть ли не как человека безвольного и заискивающего перед Сталиным. Это неправда. Тимошенко старый и опытный военный, человек настойчивый, волевой и образованный и в тактическом, и в оперативном отношении. Во всяком случае, наркомом он был куда лучшим, чем Ворошилов, и за тот короткий период, пока им был, кое-что успел повернуть в армии к лучшему. Случилось так, что после харьковской катастрофы ему больше не поручалось командовать фронтами, хотя в роли командующего фронтом он мог быть много сильней некоторых других командующих, таких, например, как Еременко. Но Сталин был на него сердит и после Харькова, и вообще, и это сказалось на его судьбе на протяжении всей войны. Он был человеком твердым, и как раз он никогда не занимался заискиванием перед Сталиным, если бы он этим занимался, вполне возможно, что он получил бы фронт».
Во время одной из бесед мы заговорили с Жуковым о военных мемуарах. Судя по его отзывам на разные книги и публикации, он внимательно читал почти все, что вышло, и, очевидно, этот вопрос интересовал его еще и потому, что он сам продолжал еще работать над собственными воспоминаниями о войне.
Приведу несколько связанных с этим записей.
«Не знаю, как ваше мнение, но мне кажется, что в мемуарах военачальников не место огромным спискам имен и огромному количеству боевых эпизодов с упоминаниями тех или иных случаев героизма. В тех случаях, когда это преподносится как личные наблюдения, — это неправда. Ты, командующий фронтом, сам этого не видел, не присутствовал при этом, не знаешь лично человека, о котором идет речь, не представляешь себе подробностей его подвига. В некоторых случаях не знаешь и фамилии человека, совершившего подвиг. В большинстве случаев эти факты в мемуарах берутся из чужих материалов.
Они не характеризуют деятельности командующего фронтом, а порой мешают созданию целостной картины происходящего, изложенной с точки зрения того, кто пишет мемуары. Мне думается, что злоупотребление этим выглядит как ложный демократизм, ложное заигрывание.
Для того чтобы показать, как воюет народ, не обязательно брать из газет того времени или из политдонесений списки фамилий. Когда ты рассказываешь о том, как воюет целый фронт, как воюют входящие в него армии, как воюет вся эта огромная масса людей, какие потери они несут, чего добиваются и как побеждают, — это и есть рассказ о действиях народа на войне.
В ходе войны мы совершили немало ошибок, и об этих ошибках нам надо писать в своих мемуарах. Я, во всяком случае, пишу. В частности, пишу о тех ошибках, которые были у меня как у координатора действий двух фронтов во Львовско-Сандомирской операции, когда мы, имея более чем достаточные для выполнения задачи силы, топтались перед Львовом, а я как координатор действий двух фронтов не использовал эти силы там, где было необходимо, не сманеврировал ими своевременно для успеха более быстрого и решительного, чем тот, который был достигнут.
Большой недостаток некоторых мемуаров, которые я читал, — ограниченность кругозора и командующих армиями, и даже командующих фронтами.
Порой создается странное впечатление, что, казалось бы, опытный и образованный военный человек, действующий на войне в пределах своих разграничительных линий и имеющий соседей справа и слева, забывает о том, что с их действиями связаны не только его неудачи, но и его успехи. Забывает, что справа и слева от него действуют части той же самой Советской армии, которым надо отдавать должное так же, как и собственным своим частям, забывает, что все это одна и та же армия, а не какая-то другая и что немцы действуют не специально против его армии или фронта, а против Советской армии в целом, против всех армий, всех фронтов.
И если в данный момент именно он испытывает затруднения, по нему наносится удар, против него немцы сосредоточивают крупные силы, то это связано с тем, что где-то в другом месте у них этих сил нет, что где-то они ослабили напряжение и не наносят удара, и у кого-то из его соседей справа или слева в связи с этим в данный момент легче.
Этот сосед, в свою очередь, не должен забывать о причинах того, почему ему в данный момент легче. Но и ты, когда пишешь мемуары, не вправе забывать, что успех твоего труда связан с тем, что в это время немцы сосредоточивали силы на другом участке, что там твоим соседям приходилось тяжело.
Нельзя забывать, что ты имел успех не только потому, что ты сам такой умный и хороший и что так хорошо действовали твои войска, но и потому, что для твоего удара сложилась благоприятная обстановка, соседи отвлекли на себя основные силы противника, а ты получил преимущества, легшие в основу твоего успеха.
Но этот твой успех — общий, а не только твой. Точно так же, как если у соседа складывается выгодная обстановка, а у тебя тяжелая, то успех соседа не только его успех, но и твой.
Вот это нередко забывают в воспоминаниях. Пишут так, как будто ведут войну только в своих разграничительных линиях, как будто твои войска нечто совершенно отдельное от всего другого. С такой узостью кругозора принципиально нельзя мириться, не говоря уже о том, что узость эта ведет к целому ряду искажений в оценке самого хода военных действий».
Видимо, то обстоятельство, что в период бесед с ним Жуков продолжал работу над своими воспоминаниями, отразилось на характере некоторых сделанных мною записей. Когда человек, проживший большую жизнь, как бы заново оглядывает ее всю наедине с собой, то какая-то часть его размышлений над собственной жизнью проникает и в его разговоры с собеседниками.
Приведу несколько записей, носящих именно такой характер.
«Бывает, чувствуешь, что все-таки не полностью используешь заложенные в тебе возможности, что в той или другой сфере тебе не хватает знаний, подготовки, систематического образования. Жизнь сложилась так, что многого не удалось приобрести. Скажем, знания биологии, естественных наук, с которыми сталкиваешься даже в своих чисто военных размышлениях. Меня никогда не покидало ощущение, что круг моих знаний более узок, чем тот, какой бы мне хотелось иметь и какой я испытывал необходимость иметь по роду своей деятельности. Испытывал и испытываю».
«Я никогда не был самоуверенным человеком. Отсутствие самоуверенности не мешало мне быть решительным в деле. Когда делаешь дело, несешь за него ответственность, решаешь, — тут не место сомнениям в себе или неуверенности. Ты всецело поглощен делом и тем, чтобы всего себя отдать этому делу и сделать все, на что ты способен. Но потом, когда дело закончено, когда размышляешь о сделанном, думаешь не только над прошлым, но и над будущим, обостряется чувство того, что тебе чего-то не хватает, того или иного недостает, что тебе следовало бы знать рад вещей, которых ты не знаешь, и это снова вернувшееся чувство заставляет все заново передумывать и решать с самим собой: «А не мог бы ты сделать лучше то, что ты сделал, если бы ты обладал всем, чего тебе не хватает?»
Мне многое приходилось осваивать практически, без достаточных, предварительно накопленных широких и разносторонних знаний. Это имело и свою положительную сторону. Отвечая за дело, стремясь поступить наилучшим образом и чувствуя при этом те или иные пробелы в своей общей подготовке, я стремился решать встававшие передо мной вопросы как можно фундаментальнее, стремился докопаться до корня, не позволить себе принять первое попавшееся поверхностное решение. Было повышенное чувство ответственности по отношению к порученному делу, ощущение необходимости до всего дойти своим умом, своим опытом, стремясь тут же непосредственно пополнить свои знания всем тем, что было нужно для дела.
При всей трудности положения иногда в этом была и своя положительная сторона. Кстати сказать, некоторые из наших высокообразованных, профессорского типа военных, профессоров, оказавшихся в положении командующих на тех или других фронтах войны, не проявили себя с положительной стороны. В их решениях мне случалось замечать как раз элементы поверхностности. Порой они предлагали поверхностные решения сложных проблем, не укладывавшихся в их профессорскую начитанность. В этом состояла оборотная сторона медали — им иногда казалось простым, само собой разумеющимся то, что на самом деле было трудным и что мне, например, казалось очень трудным для решения, да так оно и было в действительности».
«Есть в жизни вещи, которые невозможно забывать. Человек просто-напросто не в состоянии их забыть, но помнить их можно по-разному. Есть три разные памяти. Можно не забывать зло. Это одно. Можно не забывать опыта. Это другое. Можно не забывать прошлого, думая о будущем. Это третье.
Мне пришлось пережить в своей жизни три тяжелых момента. Если говорить о третьем из них, то тут в чем-то, очевидно, виноват и я, — нет дыма без огня. Но пережить это было нелегко.
Когда меня в пятьдесят седьмом году вывели из состава Президиума ЦК и из ЦК и я вернулся после этого домой, я твердо решил не потерять себя, не сломаться, не раскиснуть, не утратить силу воли, как бы ни было тяжело.
Что мне помогло? Я поступил так. Вернувшись, принял снотворное. Проспал несколько часов. Поднялся. Поел. Принял снотворное. Опять заснул. Снова проснулся, снова принял снотворное, снова заснул… Так продолжалось пятнадцать суток, которые я проспал с короткими перерывами. И я как-то пережил все то, что мучило меня, что сидело в памяти. Все то, о чем бы я думал, с чем внутренне спорил бы, что переживал бы в бодрствующем состоянии, все это я пережил, видимо, во сне. Спорил, и доказывал, и огорчался — все во сне. А потом, когда прошли эти пятнадцать суток, поехал на рыбалку.
И лишь после этого написал в ЦК, попросил разрешения уехать лечиться на курорт.
Так я пережил этот тяжелый момент».
Хочу закончить эти заметки тем же, с чего их начал.
Это не попытка написать биографию Жукова, а именно заметки к ней, и я буду рад, если впоследствии хотя бы часть сказанного и приведенного в них сослужит службу будущим биографам этого во многих отношениях выдающегося человека.
Апрель-май 1968
Об Иване Николаевиче Берсеневе
Весной 1939 года я написал пьесу «Медвежья шкура» и набрался смелости показать ее А. Горюнову, заведовавшему тогда литературной частью у вахтанговцев. Горюнов разбранил пьесу с полезной для меня откровенностью и, по-моему, категорически не поверил, что у меня что-нибудь из нее выйдет.
Прошло полгода. За это время я впервые побывал на войне — на Халхин-Голе, видимо, повзрослел, а главное, получил какую-то новую, недостававшую мне долю жизненного опыта. Человеческий конфликт, построенный на условных умозрительных ситуациях, приобрел в моем сознании реальные и более суровые черты, связанные не только с «музой дальних странствий», а с настоящей разлукой и с настоящей опасностью. Словом, в голове у меня образовалась новая пьеса на ту же тему, но с другими людьми и в другой обстановке. Я так ясно видел эту пьесу, что она казалась мне почти написанной, хотя я не написал еще ни слова. Больше того, мне казалось, что я могу всю ее с начала до конца рассказать тому, кто захочет меня слушать.
Как раз в это время я посмотрел два спектакля в Театре имени Ленинского комсомола — «Мой сын» в постановке Серафимы Германовны Бирман и «Нору» в постановке Ивана Николаевича Берсенева. Оба эти спектакля произвели на меня сильное впечатление, да и неудивительно — они принадлежали к числу лучших спектаклей, созданных в то время московскими театрами.
Мне очень захотелось, чтобы мою еще не написанную пьесу поставили в Театре Ленинского комсомола, и я пошел к Берсеневу. Он встретил меня в своем маленьком тесном кабинете на первом этаже театра. Он только что пришел с затянувшейся репетиции (по-моему, он тогда начинал репетировать Сирано), но ни в его словах, ни в его поведении не проскальзывало и тени усталости. Высокий, стройный, красивый, доброжелательный, обаятельный и сознающий свое обаяние — он был весь, как бы это получше сказать, как элегантная пружина.
Я солгал ему, что вчерне уже написал пьесу, но, перед тем как начисто переписать ее, хочу, если он согласится меня послушать, рассказать ему содержание.
Он внимательно посмотрел на меня и быстро спросил (он вообще не любил долгих предисловий):
— Сколько нужно времени для того, чтобы закончить пьесу?
Я сказал: две недели. И, уже сказав, испугался, что вот сейчас он вполне резонно ответит мне: «Ну вот и прекрасно, через две недели и приходите, не с рассказом о пьесе, а с самой пьесой». Но он, выдержав очень короткую паузу, сказал совсем другое:
— Ну что ж, хорошо, рассказывайте.
Я ошибся, подумав, что ему было лень слушать рассказ о пьесе, которую он вскоре мог прочесть своими глазами. Ему вообще никогда и ничего не было лень, если дело шло об интересах его театра. В этом я впоследствии много раз убеждался.
Очевидно, я его чем-то заинтересовал как возможный будущий автор, а через сколько времени будет закончена пьеса — он спросил, просто чтобы составить себе представление о том, насколько она готова уже сейчас.
— Раз через две недели, значит, почти готова, есть смысл послушать!
Я рассказал ему пьесу. Это заняло больше часа времени. Два-три раза в кабинет заглядывали люди, но Берсенев только поворачивал голову, делал короткое решительное движение пальцем, чтобы не мешали, и продолжал слушать.
Когда я кончил рассказывать, Берсенев закурил погасшую сигару, поглядел куда-то мимо меня в потолок, соображая что-то свое, имевшее отношение к планам театра, и коротко сказал: пьеса его интересует; если я действительно закончу ее через две недели и она понравится в театре, то ее можно будет поставить еще в этом сезоне, к июню.
Размышления столь практического свойства были неожиданны и от этого тем более радостны для меня.
Я ответил, что действительно окончу пьесу через пятнадцать дней.
Иван Николаевич, соображая, перелистнул стоявший на столе календарик и, уже вставая, сказал:
— Стало быть, вы принесете ее сюда, прямо ко мне!
Он назвал число, ровно на пятнадцать дней отстоявшее от даты нашего разговора.
— Надо пойти пообедать! — добавил он уже стоя. — Вечером играю.
Это было любезное извинение в том, что он не склонен дальше длить наш разговор.
По отношению к молодому автору это, пожалуй, было даже чересчур внимательно, но я был ему благодарен не за обходительность, а за тот деловой тон, который он взял со мной, указав и дату сдачи пьесы, и даже возможный срок постановки. Это был знак доверия. А оно-то и было мне в тот день нужнее всего.
Через пятнадцать дней я принес пьесу.
Я встретил Ивана Николаевича в фойе, раздираемого что-то спешившими ему сказать актерами и заведующим постановочной частью, тащившим его смотреть макет.
— А, принесли! — быстро пожимая мне руку, сказал Берсенев. — Давайте!
Он свернул пьесу в трубку, даже не взглянув на заглавие, и, небрежно зажав ее под мышкой, коротко протянул мне руку на прощание.
Только уже идя через фойе, он еще раз повернулся:
— Приходите ко мне послезавтра, во время «Норы», но не в кабинет, а наверх, в гримерную. У меня будет время между выходами!
Я пришел на «Нору» не между его выходами, а с самого начала.
Берсенев, как всегда (я видел этот спектакль уже три раза), превосходно играл Хельмера, а я сидел в зале, и в душе у меня шевелилось запоздалое сожаление: кажется, в моей пьесе нет роли, которую бы захотел играть сам Берсенев! Так оно и было на самом деле.
Когда в середине спектакля я поднялся наверх, к нему в гримерную, он ходил по ней с сигарой в зубах в костюме и гриме Хельмера, заложив пальцы в кармашки жилета. Лицо его было холодным и отчужденным и, я бы сказал, неприятным, несмотря на красоту. В гриме Хельмера красота его лица сразу лишалась обаяния и делалась какой-то пошло-бесчеловечной.
Надо отдать должное Берсеневу: располагая большим сценическим обаянием, он беспощадно отшвыривал его в сторону, когда этого требовала правда образа.
Итак, по кабинету ходил с сигарой в зубах Хельмер, а моя пьеса, скатанная в трубку, лежала на гримировальном столике.
Присев на стоявшее в гримерной громадное средневековое кресло с высокой спинкой и дубовыми львиными ручками, Хельмер вытащил изо рта сигару и сказал, что моя пьеса ему понравилась. Только, прежде чем читать ее труппе, надо вычеркнуть из нее две сцены, а кое-какое действие из них перенести в другие. Сделать это несложно, и он даже может подсказать мне, как именно.
Все сказанное было очень важно и в общем радостно для меня, но я еще не мог реально воспринять это.
Между мною и Берсеневым все еще стояла стена. Он по-прежнему был для меня Хельмером. И только когда он пересел на другой стул, к гримировальному столику, развернул пьесу и начал говорить, открывая ее на заложенных страницах, что-то в его голосе и облике неуловимо, но решительно переменилось и стоявшая между нами стена исчезла.
Мы проговорили в обрез почти до самого выхода Берсенева на сцену. Потом он встал, чуть-чуть повел широкими плечами, мельком взглянул в зеркало на отчужденное, холодное лицо Хельмера и, заложив пальцы в карманы жилетки, вышел из гримерной уже не своей, а его походкой.
Мы закончили наш разговор о том, что мне надо исправить в пьесе, на следующий день. Место было на первый взгляд малоподходящее для этого — коктейль-холл!
Устроенное на западный образец кафе-бар со стойкой и высокими табуретами возле нее и изгибавшейся, уходившей на хоры лестницей было тогда в Москве новшеством. Мы пришли рано, в коктейль — холле было почти пусто. Мы сидели с Берсеневым внизу, за столиком, пили кофе и разговаривали о пьесе.
Инициатива встречи именно здесь, в коктейль-холле, принадлежала самому Берсеневу, и в том, что он выбрал для нашей встречи именно это место, присутствовала известная доля яда.
Дело в том, что молодой автор избрал как раз этот злополучный коктейль-холл местом действия одной из картин своей пьесы. Мало того, он даже в подробных ремарках очень оригинально, как ему казалось, разработал будущие мизансцены: кто сидит за столиком, кто стоит у стойки, кто взбегает мимо них по лестнице, кто кого видит и кто кого не видит!
И как раз эту картину, место действия которой открывало, по мнению молодого автора, столь богатые сценические возможности, Берсенев и предлагал вычеркнуть из пьесы в первейшую очередь.
Сначала он объяснил мне причины этого по существу, не касаясь места действия, но потом, лукаво прищурясь, добрался и до коктейль-холла.
— Итак, как сами видите, сцена вовсе не нужна, — сказал он, — а если вам непременно хочется построить лестницу зигзагом, то отложите свою идею до следующей пьесы. Пусть у вас там герой не только по лестницам бегает, пусть хоть через окно прыгает, если на то окажется железная необходимость! Вам, наверное, понравилось, — продолжал он, небрежно поведя сигарой, — что все это кругом похоже на уже готовую декорацию, но эта декорация совершенно не подходит ни к выведенным вами людям, ни к их разговору. А вы, мало вам этого, еще заранее сами расписали на этой лестнице совершенно не идущие к вашей пьесе мизансцены!
Если бы он в последнюю секунду не пожалел меня, он, наверное, добавил бы — пошлые!
Прищуренные глаза его в этот момент перестали быть доброжелательными. Он не любил заранее запланированных поверхностно-броских мизансцен и навязчивых авторских ремарок, так же как не любил слишком длинных режиссерских экспликаций и вступительных разговоров о том, как режиссер «видит» спектакль и как предполагает его ставить.
Он предпочитал говорить об этом по ходу работы и в каждом отдельном случае кратко, точно и ясно. Во всем этом я убедился впоследствии, уже работая с ним.
Разумеется, сколько крупных режиссеров, столько индивидуальных стилей в режиссуре, и тут вовсе не обязательно соглашаться с Берсеневым, но в том, что он непримиримо считал избыток режиссерских разговоров вокруг будущей постановки лишним суесловием, была органическая черта и его собственного режиссерского стиля, и его человеческой натуры. Он всегда ясно знал, чего он хотел, и актеры на его репетициях в громадном большинстве случаев имели дело не с ходом его мыслей, а с их результатом; он приходил на репетицию с продуманными решениями. Возможно, с этим были связаны свои протори и убытки, но с этим же были связаны и стройность, цельность, ясность поставленных им спектаклей, и та лишенная всего отвлекающего, великолепная дисциплина его репетиций, которая была привлекательна своей цельностью даже для готового спорить с ней человека.
Спектакль был готов к выпуску именно тогда, когда обещал Берсенев. Ставил его (это была его первая постановка) актер Владимир Соловьев. Берсенев, несмотря на то что он репетировал роль Сирано, наблюдал за постановкой от начала до конца, а на последнем этапе, буквально засучив рукава и не уходя с репетиций, помогал молодому режиссеру выпустить спектакль.
Не его вина, что спектакль вышел все же не летом, а лишь в конце осени 1940 года. Произошел довольно редкий случай — неопубликованную пьесу стали критиковать в печати еще до выхода спектакля. Театр был вынужден приостановить почти законченную работу. Молодой автор стал переделывать пьесу, в чем-то, видимо, к лучшему, а в чем-то и к худшему. Создававшаяся обстановка никак не благоприятствовала работе.
Но я это пишу не для того, чтобы защищать свою первую пьесу, мне просто кажется нелишним вспомнить, как в такой обстановке Берсенев решительно и весело работал над выпуском нового варианта пьесы. Хочу подчеркнуть именно это слово — весело. Он силой своей энергии и темперамента переборол все похоронные настроения, связанные с выпуском спектакля, казалось, заранее обреченного на растерзание критики. В итоге спектакль был выпущен и имел — не берусь судить, заслуженный или незаслуженный — успех у зрителя и рецензии почти во всех центральных газетах, где хвалили и отчасти жалели актеров и дружно в пух и прах разносили автора.
Берсенев отнесся к этому совершенно спокойно, спектакль «История одной любви» не только не снял, а наоборот, густо включил в репертуар, и этот его, очень важный для самочувствия молодого автора, поступок был тоже одной из причин моей последующей, на протяжении ряда лет, совместной работы с Театром имени Ленинского комсомола.
По утрам появлялись все новые и новые язвительные рецензии, а по вечерам во время спектаклей моей пьесы, на которые Берсенев часто заходил на час-полтора, мы сидели у него наверху в гримерной и обсуждали план новой пьесы, которая условно называлась «Герой Советского Союза».
Я написал ее очень быстро и увлеченно — и потому, что сам точно знал, чего хотел, и потому, что чувствовал — и театр, и его руководитель, несмотря на то что первый блин вышел комом, верят в мою новую работу.
Берсенев поддерживал мое боевое настроение. Очевидно, ему были тогда куда яснее, чем мне, промахи моей первой пьесы, но он предпочитал сетованиям на эту тему разговор о новом деле.
Я дал ему пьесу утром, а к вечеру он уже прочел ее. Пусть меня упрекнут в нескромности — я все равно скажу, что в тот вечер у Берсенева было счастливое лицо. Именно так! Он считал, что пьеса как раз то, что сейчас нужно для его театра, и буквально после трехминутного разговора сказал, что сам будет ставить ее. Потом вдруг рассмеялся и добавил, что моя авторская ремарка насчет окна будет выполнена им в точности!
Дело в том, что я созорничал и, держа в памяти поучительный, но все же задевший меня разговор в коктейль — холле, в первой же картине своей новой пьесы заставил героя прыгать из окна. В данном случае характер героя требовал, пожалуй, именно такого поступка — поэтому Берсенев смеялся и не возражал.
Мы прощались уже поздно, на углу Брюсовского переулка, в котором жил Берсенев.
— А как же мы все-таки назовем нашу с вами пьесу? — как бы подчеркивая этим словом «наша», что, если понадобится, он будет воевать за нее до конца, спросил Иван Николаевич. — Ведь назвать ее «Герой Советского Союза» — значит, уже в афише начинать с конца!
Я ответил, что название должно быть как-то связано с главным героем пьесы. Может, назвать ее «Настоящий парень»?
— По существу верно, но хвастливо! — возразил Берсенев.
Моя первая книжка стихов, которую я незадолго до этого подарил ему, называлась «Настоящие люди». Пришлось молча проглотить пилюлю, в которой была доля истины. Берсенев задумался, помолчал и вдруг сказал:
— А знаете что, давайте назовем ее «Парень из нашего города»! Немножко длинно, но это ничего; если пьеса понравится — привыкнут!
Через две недели пьеса была прочитана, роли распределены, и Берсенев начал ставить спектакль, решив выпустить его через два с половиной месяца и заранее распределив всю работу ровно на сорок восемь репетиционных дней, включая все прогоны и генеральные.
Мне хотелось, чтобы Иван Николаевич сам играл в пьесе роль комбрига Васнецова, но он мягко отвел это предложение под тем предлогом, что в такие сжатые сроки он, ни на что не отвлекаясь, должен всецело сосредоточиться на режиссерской работе.
Это была, конечно, неправда, я в этом убедился во время нашей следующей работы над спектаклем «Так и будет». Физических и душевных сил Берсенева, его энергии и редкой способности к мгновенным переключениям с одного на другое еще и спустя четыре года вполне хватило и чтобы поставить спектакль, и чтобы сыграть в нем главную роль.
Дело было совсем в другом: ему просто-напросто не нравилась важная по ходу пьесы, но бесхарактерно написанная мною роль Васнецова. Быть может, в душе он даже посчитал нахальством с моей стороны предлагать ему такую роль, но обошелся без малейшего намека на это и даже мимолетно выразил огорчение тем, что ему не управиться и со спектаклем, и с ролью!
Когда он считал это полезным для дела, он бывал превосходным дипломатом и, уклоняясь от истины, смотрел на тебя не своими обычными, чуть прищуренными, а наивными, круглыми, детски — невинными синими глазами.
В данном случае он разводил дипломатию не только потому, что, по его мнению, я уже все равно не мог исправить неудавшуюся роль, но и потому, что надо было все-таки вытащить ее, дав хорошему актеру. Слух о том, что сам Берсенев отказался от роли как от плохой, вряд ли способствовал бы самочувствию этого актера.
Репетиции «Парня из нашего города», которые вел Берсенев и на которых я присутствовал на всех без исключения, врезались мне в память так подробно, что я затрудняюсь писать о них, соблюдая какую-то последовательность, это было бы слишком длинно.
Хочу сказать только о некоторых проявившихся в работе над спектаклем чертах Берсенева как режиссера и как человека. Мне кажется, что лично ему дороже всего в пьесе был деятельный, неунывающий характер главного героя — парня из нашего города — Сергея Луконина, на роль которого Берсенев с абсолютной точностью назначил Владимира Соловьева. Этот характер, по-моему, был лично близок Берсеневу. Внешне тут все, казалось бы, очень далеко — юный возраст, военная профессия, окружающая среда, обстоятельства жизни, — но внутренне Берсенев чувствовал себя таким или почти таким человеком — не сгибающимся и не унывающим ни при каких обстоятельствах, человеком дела. Минутами мне казалось, что он где-то в глубине души ревнует к игравшему Луконина Соловьеву, жалеет, что сам по возрасту уже не может сыграть эту роль.
Однако с тем большей силой он стремился все свое понимание роли донести до зрителя через Соловьева. Он делал это самоотверженно, влюбленно и придирчиво именно потому, что где-то в глубине души ревновал.
И второе мое тогдашнее ощущение, думается, тоже верное: Берсенев был очень театральным человеком, почти вся жизнь его была замкнута в театре и в кругу людей театра. Герой пьесы Луконин и выведенные рядом с ним его сверстники и друзья, главным образом военные люди, в какой-то мере были для Берсенева «племя младое, незнакомое»…
Но это племя ему нравилось. Нравилось и через призму пьесы, нравилось и в жизни.
Помню тот особый приглядчивый интерес, с которым Берсенев общался с моим халхин-гольским товарищем — молодым полковником — танкистом Михайловым, консультировавшим постановку пьесы. В какой-то мере этот его интерес относился даже и ко мне, к автору. Я краешком глаза уже видел войну, и Берсенев настойчиво расспрашивал меня об этом, порой даже не умея скрыть своего разочарования, когда выяснилось, что я меньше видел и меньше знаю, чем ему бы хотелось.
Он, уже пожилой человек, другого круга, другого поколения, хотел рассказать своим спектаклем об этом «племени младом, незнакомом», рассказать сильно и точно, доказать, что как художнику оно ему знакомо!
И мне думается, что именно это направление его режиссерской страсти, проявленной в работе над спектаклем, стало главным секретом удачи трактованных им как режиссером образов Луконина, Бурмина, Гулиашвили, Севастьянова, Сафонова.
Разумеется, не следует забывать, что все эти роли были сыграны превосходными актерами — Соловьевым, Пляттом, Олениным, Селезневым, Мельниковым. Но в данном случае я говорю о режиссере, который вывел их всех на сцену именно как поколение и, на мой авторский взгляд, очень точно почувствовал общие черты этого поколения.
Целеустремленная и увлеченная работа Берсенева вместе с игрой актеров сделала спектакль «Парень из нашего города» этапным для Театра имени Ленинского комсомола. Потом, много лет спустя, когда на сцене того же театра очень любовно и тщательно была осуществлена новая постановка той же пьесы, — спектакль во второй раз, увы, не родился! Не мне судить, может быть, тут виновата и пьеса, может, и она в какой-то мере отжила свой век, но одно несомненно — в спектакле, поставленном как бы в память Берсенева, на этот раз не хватало главного, не хватало его самого как автора этого спектакля.
Премьера первого спектакля «Парень из нашего города» состоялась в марте 1941 года. В мае мы вместе с Берсеневым участвовали в обсуждении новых постановок этого года в Союзе писателей, а в июне началась война. Я уехал на фронт, театр был вынужден уехать в эвакуацию в Среднюю Азию. И, кроме одной или двух мимолетных встреч в Москве, я не виделся с Берсеневым до 1944 года, когда Театр Ленинского комсомола вернулся, а я между двумя поездками на фронт, в срок, сейчас кажущийся мне неправдоподобно коротким, написал для него пьесу «Так и будет».
На этот раз Берсенев не только ставил пьесу, но и играл в ней главную роль. Эту главную роль — полковника саперных войск Савельева, офицера военного времени, потерявшего семью и вернувшегося в небольшой отпуск на пепелище — в свою бывшую квартиру, занятую чужими людьми, — я писал, заранее видя перед собой Берсенева как исполнителя.
Обдумывая, какие черты дать главному герою, я понимал, что, на мой взгляд, мог и чего не мог сыграть Берсенев. Мне казалось, что он по характеру своего дарования не сыграет профессионального военного. Но человека, ставшего военным потому, что от него этого неумолимо потребовали время и долг, Берсенев сыграет, и сыграет хорошо.
И вот я написал полковника саперных войск Савельева именно таким, вдобавок сделав его сорокалетним человеком; Берсенев вполне мог сыграть тот возраст, хотя ему самому было тогда уже около шестидесяти. Потом я нисколько не раскаивался в обоих моих решениях, заранее приспособленных к индивидуальности актера; и то и другое решение позволили мне потом, по ходу пьесы, внести в образ некоторые важные, на мой взгляд, человеческие черты.
Война явно шла к концу, но все еще продолжалась. Впереди были еще бесчисленные жертвы. Это накладывало отпечаток и на пьесу, и на ту атмосферу, в которой создавался спектакль.
Берсеневу очень хотелось сыграть полковника Савельева, и хотелось сделать это именно тогда, в разгар войны, в 1944 году. Время и обстоятельства отразились на его особенной увлеченности тем образом, который он создавал. Ему не пришлось быть военным, но ему хотелось создать образ человека, который стал военным, достаточно откровенно сыграв в этом человеке самого себя.
Годы эвакуации были трудными годами для театров. Требовалось много сил, твердости и, я бы добавил, мужества, чтобы не утратить достигнутой театром художественной высоты, сохранить требовательность к себе и другим, восполнить потери в коллективе. Не буду продолжать, тут можно было бы сказать очень многое. Берсенев, руководя театром во время войны, делал большое и нужное в военное время дело, но ему хотелось сделать еще больше, и этому желанию, видимо, отвечала его роль в «Так и будет».
Должно быть, потому, что Берсенев вкладывал в эту роль очень много личного, он часто во время работы волновался, иногда настолько, что трудно было узнать его. Он сомневался — удастся или не удастся ему тот или иной кусок, советовался, проверял, искал поддержки.
Вспоминаю и такую деталь: для него вдруг оказалось очень важным, что я ему отдал свою старую шинель. В сшитой ему в театральной мастерской новой шинели он чувствовал себя неловко, поеживался в ней, не мог приспособиться и даже жаловался на это. Моя старая шинель как-то сразу пришлась ему по плечу, понравилась и тем, что она старая, и тем, что, как он выражался, «обжитая». В этой шинели ему, очевидно, легче было чувствовать себя вернувшимся с фронта, усталым, много пережившим на войне человеком.
Сначала на репетициях он искал в образе некоторой военной жестковатости. Ему казалось, что фронт должен был внести эту жесткость и во внешний, и в душевный облик человека, ставшего военным. Одно время, когда он шел по этому пути, в создаваемом им образе проскальзывали ненатуральные, натянутые нотки. Он так напористо хотел быть похожим на человека, несущего на своих плечах груз войны, что становился непохожим на него.
Потом вдруг, на очередной репетиции, он мужественно изменил рисунок роли и стал репетировать по-другому — проще, мягче, человечнее.
— Или я сыграю военного, не надсаживая себе горла, — задумчиво сказал он Кене после этой репетиции, — или, значит, я вообще не могу сыграть военного и не буду его играть!
Такую фразу от него редко можно было услышать — обычно он считал, что все, за что он берется, у него непременно должно выйти!
И он действительно от репетиции к репетиции стал беспощадно отбрасывать еще оставшиеся в роли натянутые, подчеркнуто военные нотки, которые он задумал вначале. Образ стал получаться очень человечным, трогательным и мужественным тем особым мужеством, которое бывает в людях храбрых, но нисколько не заботящихся о том, чтобы по всякому поводу подчеркивать свою храбрость словами или поведением.
Берсенев играл мягкого, доброго человека, хорошо делавшего на войне свое суровое дело, не загрубевшего и не растерявшего ничего из того, что раньше было свойственно ему — мирному человеку, строившему, а не взрывавшему мосты и дома.
В разгар войны он играл человека, который любит мир, которому, как всему человечеству, больше идет штатское, чем военное.
Он нес через спектакль мысль о мире и о том, что это будет величайшим счастьем для людей, хотя дорога к этому «ведет через войну».
Ту же атмосферу человечности несла через спектакль игравшая военного врача Греч — Серафима Германовна Бирман. Оба они вместе как исполнители как бы повели за собой по этому пути и всех других актеров.
Мне трудно отделить в этом спектакле работу Берсенева как актера от его работы как режиссера. Атмосфера человечности, ставшая сущностью его образа, стала атмосферой всего спектакля. Берсенев всегда говорил мало и точно. Во время этой постановки он как режиссер говорил особенно мало. Часть своей режиссерской работы он делал как исполнитель главной роли сам, своим исполнением вовлекая соприкасавшихся с ним актеров в работу именно в той тональности, которая была задана им как режиссером.
В начале репетиций черточки натянутости, подчеркнутой «военности», о которых я уже говорил, меня сильно смущали. Минутами мне даже самому начинало казаться, что у Берсенева не выйдет эта роль. Но когда он решительно отбросил все это, пошел по другому пути, то в итоге создал образ доброго, усталого, но сильного и бесстрашно думающего над жизнью человека. Как это иногда бывает в театрах, созданный им образ Савельева стал для меня единственно возможным и неотделимым от Берсенева. Я потом не мог смотреть в этой роли других хороших актеров; мне казалось, что они играют не то, хотя вполне возможно, что я был несправедлив к ним.
Когда спектакль был выпущен, о нем писали по-разному: и хорошо, и кисло. Те, кто был настроен кисло, упрекали пьесу и спектакль в утешительстве, хотя мне казалось, что спектакль вовсе не утешительский, а просто-напросто человечный. Намекали на то, что этот спектакль — времянка, что он на злобу дня: отгремит война — и он потеряет свой смысл! Это не оправдалось. Спектакль, поставленный Берсеневым, идет в Театре имени Ленинского комсомола уже шестнадцатый год. Я позволяю себе упомянуть об этом, потому что речь идет не о пьесе, а о спектакле. Ту же пьесу ставили десятки театров, но шестнадцатый год идет именно этот спектакль, поставленный Берсеневым. Значит, им было заложено сюда что-то такое непреходящее, человечное, что трогает сердце людей и через пятнадцать лет после конца войны.
Следующие мои две пьесы — «Под каштанами Праги» и «Русский вопрос» — были поставлены в Театре имени Ленинского комсомола Серафимой Германовной Бирман, но Берсенев в обоих случаях был участником создания этих спектаклей. В первом случае — как не щадивший своего времени верный друг и советчик; во втором — как превосходный, очень острый и саркастический исполнитель роли Макферсона. Эта работа была последней нашей совместной работой с Иваном Николаевичем Берсеневым.
И как руководитель театра, и как режиссер и актер Берсенев был не только даровитой, но и сильной натурой. Он твердо знал, чего он хочет! А это — далеко не всегда встречающееся в театре свойство — всегда было глубоко притягательным для меня.
1960
О Всеволоде Илларионовиче Пудовкине
Я впервые увидел Пудовкина очень давно — в 1932 или 1933 году. Пудовкин ставил тогда на студии «Межрабпомфильм» своего «Дезертира», а мы, молодые ребята, работавшие в механической мастерской студии, бегали в свои обеденные перерывы наверх в павильон смотреть, как снимает Пудовкин.
Он поразил меня тогда так же или почти так же, как, наверное, поражал всех, кто впервые видел его, занятого работой. Поразил неистовой увлеченностью делом и одновременно — полной отрешенностью от всего, что в данный момент к этому делу не имело касательства. Очевидно, он не только не думал о том, как он может выглядеть со стороны во время работы, в запале, но и не способен был представить себе, что художник вообще может думать об этом. Во время съемок он сам был не вне картины, которую снимал, а как бы внутри нее. Он входил внутрь ее пространства — духовного и физического — и существовал там. Он улыбался и сердился, корчился, сгибался, разгибался, вскакивал, чуть не взлетал в воздух вместе с тем чувством, которое владело им в данную секунду там, внутри совершаемой им работы. И в этом было нечто удивительное и пугающе прекрасное, запоминающееся на всю жизнь.
Наверное, я говорю об этом другими словами, чем сказал бы тридцать пять лет назад. Но в основе того, что я говорю сейчас, лежит чувство первой изумленное Пудовкиным, которое у меня сохранилось с юности, и я нисколько не преувеличиваю силу этого чувства.
Следующая памятная для меня встреча с Пудовкиным состоялась через десять лет. Весной 1943 года я получил в редакции «Красной звезды» двухмесячный отпуск, чтобы написать повесть о Сталинграде, и сидел писал ее в Алма-Ате.
Пудовкин как раз в это время закончил там, в Алма-Ате, фильм «Русские люди», в основу которого была положена моя пьеса. К созданию фильма я не имел никакого отношения. Пудовкин сам написал сценарий, и я увидел картину только на просмотре, когда она уже была готова.
Фильм произвел на меня сильное впечатление. Я уже видел к тому времени несколько постановок пьесы в театрах в превосходном актерском исполнении, и, хотя в фильме тоже хорошо играли, поразило меня не это. Меня поразило другое, то, чего не было в театре и что вторглось в фильм вместе с Пудовкиным — режиссером и актером.
Да, да, и актером. Потому что Пудовкин играл в этом фильме одну из главных ролей — роль немецкого генерала. Роль новую, написанную им самим для себя и лишь отчасти, сюжетно, напоминавшую о том персонаже пьесы, от которого оттолкнулся Пудовкин.
Я вновь смотрел этот фильм через двадцать лет, после войны, и мне кажется, что и по сей день никто еще у нас в кино не сыграл с такой силой и значительностью фигуры генерала фашистского вермахта — человека сильной индивидуальности, врага жестокого и опасно крупного. Именно таким написал его Пудовкин и таким сыграл его. Сыграл тогда, в 1943 году, когда многие объективные и субъективные причины толкали даже серьезных художников на изображение врага если не окарикатуренного, то, во всяком случае, примитивизированного.
Очевидно, в то время я знал лучше Пудовкина, чём была эта война, знал ее быт, ее неповторимые подробности. Но Пудовкин всем своим человеческим опытом и силою художнического видения лучше и глубже, чем я, почувствовал внутреннюю суть врага и меру сконцентрированной в нем опасности. Именно таким и сыграл он в фильме написанного им немецкого генерала. Сыграл уверенно и точно. И когда мы разговаривали после просмотра картины, я почувствовал, что он уверен в своей правоте.
Вторым, что поразило меня в фильме, был сделанный в нем Пудовкиным бой, переходивший в рукопашную схватку, между нашими и немцами. Схватку настолько яростно-напряженную, что при всех ее земных, реалистических подробностях она одновременно воспринималась и как символ общего нечеловеческого напряжения борьбы, которая происходила на всем огромном фронте — от моря до моря.
По поводу написанного и созданного им образа немецкого генерала Пудовкин не счел нужным объясняться со мной. Тут он был вполне уверен в себе. Но его, видимо, тревожило, как я, человек, приехавший с фронта, отнесусь к этому огромному, занявшему чуть ли не две части в картине, эпизоду боя.
Во всяком случае, едва я раскрыл рот, чтобы заговорить об этом, как он остановил меня и, сказав: «Подождите, я сначала хочу вам объяснить», потащил меня за руку из маленькой просмотровой в павильон — тоже маленький и убогий, в котором по нынешним временам не то что бой, а небольшую массовую сцену, наверно, сочтет невозможным снимать начинающий режиссер.
— Вот где мы снимали этот бой, — сказал Пудовкин и стал объяснять, что на студии не было ровно ничего для того, чтобы снимать сцену боя. Не было ни обмундирования, ни оружия, ни снаряжения, ни просто людей подходящего типажа для того, чтобы снять хотя бы несколько сот человек, с двух сторон вступающих в бой. — Вот здесь мы это делали, — повторил Пудовкин. — Вот тут, в этом углу. А эти полпавильона были заняты другой декорацией, а этот угол — третьей.
Он назвал, я сейчас не помню уже какие, две картины, которые снимались в этом же единственном павильоне одновременно с «Русскими людьми».
— Вот так! А теперь говорите правду, что вы думаете об этом куске?
Я сказал то, что думал: что, идя на просмотр, я совсем иначе представлял себе этот кусок в фильме, но что сила, с которой он сделан, покорила меня.
Один из наших общих друзей, куда лучше меня разбиравшийся в том, что называется спецификой кино, стал говорить в связи с этой сценой боя о знаменитом пудовкинском монтаже и о том, что в данном случае, монтируя эту сцену, для которой, казалось бы, просто-напросто не существовало достаточного материала, Пудовкин превзошел самого себя.
Может быть, Пудовкин был внутренне доволен этой похвалой, но в тот момент он никак не отозвался на нее. Видимо, тогда его больше волновало другое: не помешает ли мне ограниченность средств и пространства почувствовать тот внутренний крупный масштаб сцены, которого он добился, не знаю уж, как точней сказать, чудом ли своего монтажа или чудом своего темперамента. Разгляжу ли я большую правду его искусства за теми мелкими издержками в правдоподобии, которые он, может быть, сам сознавал? Оттого, наверное, словно бы оправдываясь, он и потащил меня в этот убогий павильон.
Он был рад, что я понял его. И не считал нужным скрывать этой радости.
Вскоре меня вызвали в Москву.
Все лето и осень сорок третьего года одна за другой шли фронтовые поездки, и я даже толком не знал о дальнейшей судьбе пудовкинской картины, пока однажды, вернувшись, не увидел афишу с незнакомым названием «Во имя Родины».
На фотографиях были знакомые лица Жарова, Крючкова, Пастуховой, Жизневой, Грибкова, игравших у Пудовкина в фильме «Русские люди», а название почему-то другое. Размышлять об этом было некогда. На следующий день я снова поехал на фронт, а когда вернулся, меня вызвали в МК к Александру Сергеевичу Щербакову. Причиной вызова было желание увидеть на экране фильм о защите Москвы в 1941 году.
Щербаков вызвал меня как предполагаемого автора сценария. Вопрос о том; кто будет его ставить, как я понял из разговора, оставался открытым.
Я с охотой взялся за эту работу и сказал, что буду очень рад, если Пудовкин согласится ставить картину.
Щербаков, к моему удивлению, промолчал. Тогда я сказал о своих впечатлениях от «Русских людей», поставленных Пудовкиным, и попутно заметил, что меня огорчило новое название картины.
— Напрасно огорчаетесь, — сказал Щербаков. — Картине дано другое название в ваших же интересах. Картина неудачная. Мы ее все-таки выпустили, но изменили название, чтобы не компрометировать хорошую пьесу «Русские люди».
Я растерялся, но все-таки сказал — мне как автору казалось, что, наоборот, Пудовкин в своем фильме многое сделал гораздо сильнее, чем это было в моей пьесе.
— Напрасно вам это показалось, — сказал Щербаков. — Никто не отрицает таланта Пудовкина, но эта картина у него не вышла. Ни размаха, ни широты, ни массовых сцен, ни русской природы — не чувствуется масштаба. Удивляюсь, как вам это понравилось. А еще больше удивляюсь, почему он так снял: все в какой-то тесноте — одно на другое, одно на другое…
Я стал рассказывать Щербакову о том, как и в каких условиях снималась картина, почему в ней не было и не могло быть массовых сцен и той широты, о которой он говорил. Я, как умел, горячо защищал Пудовкина. Щербаков слушал меня внимательно и, как мне казалось, доброжелательно. Однако, когда я закончил, он повторил то же самое, с чего начал:
— Неудачная картина…
И добавил, что о постановщике будущего московского фильма еще есть время подумать.
Я объяснил ему, что, по-моему, лучше с самого начала знать, для какого режиссера ты пишешь сценарий, а еще лучше сразу же начинать эту работу вместе с ним. Поэтому я прошу его не возражать против того, чтобы я связался с Пудовкиным и предложил делать эту работу вместе. Я верю, что Пудовкин сделает картину лучше, чем кто-нибудь другой. И добавил что-то вроде того, что я себе не враг и не настаивал бы на своем, если бы не был в этом уверен.
— Ну, смотрите, — сказал Щербаков, — чтобы потом не пенять на себя. В данном случае я вам приказывать не могу, но предупредить должен.
Он попрощался со мной не столько сердито, сколько огорченно, и я ушел.
«Красная звезда», где я работал, была в это время в прямом подчинении у Щербакова как у начальника Политуправления армии. Я знал от своих товарищей по работе, что Щербаков иногда бывал крут, и даже очень, но мне ни разу не пришлось испытать этого на себе. Наоборот, однажды, в первый год войны, вызвав меня в ЦК, Щербаков в очень трудном для меня вопросе проявил такую глубокую человечность, о которой я помню и сейчас, через двадцать пять лет. Уже после этого мне пришлось еще несколько раз встречаться и подолгу говорить с ним в связи с работой над большой статьей о Московской битве, к первой годовщине ее.
Тем более меня встревожило, что он так и не внял ни одному из моих доводов, когда я говорил о фильме Пудовкина. Я искренне удивлялся, как же так я не мог переубедить этого явно расположенного ко мне человека. И почему он закончил разговор со мной предупреждением: не пеняйте потом на себя?
И лишь потом, после его смерти, после войны, в связи с другим событием в моей писательской жизни, я понял, что Щербаков тогда, в сорок третьем году, оставив за мною право делать будущий фильм о Москве с Пудовкиным, взял на себя немалую по тому времени ответственность.
…После войны М. Н. Кедров поставил на сцене МХАТа инсценировку моих «Дней и ночей». Постановка с успехом шла уже несколько месяцев, как вдруг спектакль был временно снят.
Оказалось, что на нем побывал И. В. Сталин и спектакль ему не понравился: на сцене не хватает размаха, широты, масштабов Сталинградской битвы…
Надо ли говорить, с какой серьезностью мы отнеслись тогда к замечаниям Сталина. Желая спасти спектакль, мы несколько суток сидели над инсценировкой, думая, как же внести в нее требуемые масштабы. Этим требованиям сопротивлялся сам материал «Дней и ночей», история клочка земли, трех домов, горстки людей, через которую было задумано как в капле воды показать целое — всю битву. Как ни бились, так ничего и не придумали.
Спектакль не был восстановлен.
Именно тогда я вспомнил свой разговор с Щербаковым о фильме «Русские люди» в 1943 году. Те же самые требования и даже те же самые слова — широта, размах, масштабы… Очевидно, все это и тогда шло непосредственно от Сталина, но Щербаков не счел нужным или возможным сказать мне об этом.
Ради объективности добавлю: насколько я знаю, и пьесе «Русские люди», и повести «Дни и ночи» премии были присуждены по инициативе Сталина, читавшего и то и другое. Но, очевидно, при чтении у него создалось одно ощущение, а когда он смотрел эти вещи, материализованные на экране или на сцене, у него возникло то требование широты, огромности общих масштабов, которое погубило спектакль МХАТа и определило судьбу пудовкинского фильма.
Да, видимо, тогда, в сорок третьем году, Щербаков, не наложив прямого запрета на мою будущую работу с Пудовкиным над фильмом о Москве, сделал максимум того, что он мог сделать.
Пудовкин вернулся в Москву, и мы встретились, помнится, поздней осенью сорок третьего года. Он уже знал, что фильм его не понравился, и был очень огорчен этим. Не посыпая соли на раны и не пересказывая ему во всех подробностях разговор с Щербаковым, я предложил Пудовкину делать вместе фильм о Москве. Когда он в принципе согласился, я дал ему до нашей следующей встречи свои дневники 1941 года.
Мне казалось, что некоторые эпизоды, рассказанные в дневниках, некоторые детали пригодятся нам при работе над сюжетом сценария. Будущий сценарий мне самому представлялся как сценарий сюжетного фильма, с несколькими героями, с какой-то драматической и любовной коллизией.
Но разговор с Пудовкиным вышел совсем неожиданным.
— Я буду ставить ваши дневники, — сказал он прямо с порога, едва мы начали разговор.
— Как?
— А вот так… Никаких сюжетов, ваши дневники — они и будут сюжетом. Там, где чего-то будет не хватать, придумаем, добавим, но в том же ключе. И чтобы именно военный корреспондент связал между собой всех других людей.
Не буду пытаться восстанавливать наш диалог с Пудовкиным — через двадцать пять лет это невозможно сделать без натяжек. Очевидно, и те слова, что я уже привел, лишь приблизительно соответствуют сказанному им в тот день. Но смысл того, что он говорил, я помню достаточно хорошо. Это было неожиданным для меня. А неожиданное — сильнее запоминается.
Пудовкин говорил, что у него нет желания делать картину, полную условностей, придумывать разные искусственные повороты сюжета, семейные связи и драматические ситуации, что он не хочет ломать голову над тем, как связать между собой в сценарии людей, которых не связывает между собой война и которых можно соединить, только придумывая искусственные в условиях войны встречи. Он говорил, что, во всяком случае, хочет свести эту искусственность к минимуму. Его интересует не ход сюжета, а ход войны, не личные драмы, а драма войны. Его интересует не история чьей-то любви друг к другу, а история сражения за Москву. А так как ему хочется при этом, чтобы в фильме были и люди, сражающиеся на переднем крае, и люди, руководящие сражениями, так как ему нужны и окопы, и Москва, и даже какие-то очень далекие от Москвы места, где люди думают о Москве, — то все это, по его мнению, как раз и можно естественнее всего связать при помощи человека, который сегодня может встречаться с одними, а завтра с другими, сегодня быть здесь, а завтра там, — то есть при помощи военного корреспондента.
Кроме того, он считает, что битва за Москву началась еще в начале войны, далеко от Москвы, и для того, чтобы показать это, он тоже видит достаточно материала в моих дневниках.
Я совершенно не ожидал всего этого, но духовный натиск Пудовкина был таким сильным, он был так убежден в своей абсолютной правоте и так яростно и блестяще доказывал ее, что я почти сразу же согласился. И мы в тот же день сели работать над сценарием.
Работали мы ровно месяц, у меня дома, каждый день с утра до вечера. Сейчас уже не могу вспомнить, кто из нас записывал текст сценария. Мне помнится, что Пудовкин, но, может, я ошибаюсь, может быть, мы делали это и поочередно. Каждый вечер перепечатывали черновик написанного за день на машинке, а на следуют щее утро, прежде чем садиться за дальнейшую работу, перечитывали, поправляли и давали машинистке перепечатать еще раз.
Во всяком случае, именно такой осталась у меня в памяти эта работа.
Сценарий получился чересчур длинным. Помню, что в один из последних дней работы Пудовкин, перелистав сценарий, быстро, в уме, прокадровал написанное и сказал, что в картину влезет примерно четыре пятых того, что мы написали. Я предложил сократить, но он сказал, что сделает это потом — пусть сначала почитают в таком виде, а сократим позже, на свежий глаз.
Я уехал на фронт, а сценарий стали читать.
Уже не могу вспомнить, как, где и сколько раз его читали. Помнится, он побывал на Сценарной студии и в Комитете по кинематографии, потом, очевидно, его посылали к Щербакову. Я уезжал, приезжал, а вопрос о сценарии все еще решался.
Конец был невеселым. Идея Пудовкина — сделать сценарий по дневникам военного корреспондента, сначала показавшаяся такой неожиданной мне самому, показалась еще более неожиданной почти всюду, где читали сценарий.
Как мне помнится, ничего обидного или резкого нам нигде сказано не было. Просто мы сделали не то, чего от нас ждали. Сценарий был воспринят не как фильм о сражении за Москву, а как фильм о военном корреспонденте, и в таком качестве его сочли нецелесообразным снимать.
Пудовкину предложили работать над «Нахимовым».
Он любил сценарий «Смоленская дорога», а главное, хотел снимать фильм о том, что его волновало тогда больше всего на свете, — о современности, о войне с фашизмом. Он написал Сталину письмо, в котором излагал свое понимание написанного им сценария и свое кредо художника, прося прочесть сценарий и решить этот спор.
Насколько я знаю, ответа не было. Не берусь судить — попало или не попало это письмо к Сталину. Быть может, и не попало.
Через несколько месяцев Пудовкин взялся за работу над «Нахимовым», а сценарий «Смоленская дорога» так и остался непоставленным.
1967
О Владимире Александровиче Луговском
Я не помню, когда именно я впервые назвал Владимира Александровича Луговского по имени и отчеству и впервые пожал его большую добрую руку. Это было потом, когда все мы — Алигер, Долматовский, Матусовский, Борис Лебедев, Яков Кейхгауз и другие наши сверстники, — уже учась в Литературном институте, стали на несколько лет питомцами Луговского, ходили к нему домой и в редакцию «Молодой гвардии», читали ему стихи, ждали советов. Все это было потом. Одни из нас приводили других. Как-то раз привели и меня. Кто это сделал и как это было — не помню.
Зато хорошо помню, как еще года за два или за три до этого я впервые увидел Луговского и услышал, как он читает стихи. Мне не было двадцати, я только начинал писать и носил свои стихи в консультацию Гослитиздата. Наверное, именно там мне и посоветовали пойти на выступление Луговского. Оно происходило в небольшом ампирном особняке на Зубовском бульваре, в райкоме партии. Маленький зал был полон народу, в нем сидело, наверное, человек полтораста. Луговской читал разные стихи; читал и свою знаменитую «Песню о ветре», но больше всего читал новые стихи о Европе. Он недавно вернулся тогда из заграничной поездки. Хорошо помню его тогдашнего: очень высокого, очень широкоплечего, с глубоко втянутым животом и выпирающей из пиджака грудью. Под пиджаком была надета глухая, до горла, тонкая черная фуфайка…
Я много раз потом, уже хорошо зная его, не уставал поражаться тембру его голоса, переходящего от шепота к грому, — и когда он говорил, и когда он читал стихи, и когда пел. Этот голос поразил меня и тогда, в первый раз. В его голосе клокотало, раскатывалось, гремело мужество. Когда он читал тихо, затаенная сила этого голоса чувствовалась еще сильнее. Но и когда он читал громко, словно выпустив весь голос на волю, все равно казалось, что это не весь голос, что там, где-то в недрах его огромных легких, оставались еще какие-то не выброшенные в воздух звуки. Иногда, читая, он округлял свой бас, словно придерживая его на поворотах, И за этим чувствовалась мягкая, пружинящая сила.
Стихи мне понравились. Понравился и человек, читавший их. Он был красивый, строгий и сильный. Когда еще только учишься писать стихи и думаешь о том, как и кому ты их принесешь и покажешь, то в твоем первом впечатлении о человеке, который станет потом первым судьей твоих стихов, очень важно ощущение его доступности или недоступности. Внешность у Луговского была недоступная. Но в манере держать себя проскальзывали доброта и снисходительность.
А потом прошло какое-то время, и мы все начали ходить к Луговскому в «Молодую гвардию» и домой, сперва в маленькую квартирку на Тверском бульваре около Литературного института, потом в большую, новую — в Лаврушинском переулке. Мы любили Луговского потому, что он любил нас. Без этого между старшим и младшим в литературе никогда не рождается и не может родиться дружба. Может родиться уважение, преклонение, восхищение — что угодно, но не дружба.
Мне случилось наблюдать больших поэтов, у которых были преданные молодые поклонники и которые смотрели на них как на что-то волочащееся за ними по земле. Неся в себе нечто унизительное для обеих сторон — не знаю, для какой больше, — такого рода отношения или превращаются в окончательное уродство, порой на всю жизнь, или безвозвратно проходят. Повторяю, мы любили Луговского потому, что он любил нас, хотя в нашей юношеской любви к нему была, конечно, и нота преклонения, и доля идеализации человека, которого мы любили. Но главное состояло в том, что не только он был нужен нам, но и мы были нужны ему. Мы, со своими незрелыми стихами, со своим неоперившимся мужеством, были нужны и интересны Луговскому.
Он не смотрел свысока ни на наши незрелые мысли, ни на наши незрелые стихи. Он одно принимал в них, другое отвергал, но ему было интересно и важно: куда, по какой дороге в будущее идут эти мысли и эти стихи. И конечно же, он больше любил то, что было ближе ему, даже порой оказываясь несправедливым и больше радуясь не самым лучшим стихам, а самым близким ему по духу и по голосу. В этом была своя субъективная справедливость; он не претендовал быть судьей молодой поэзии, он хотел быть ее другом и сообщником, но именно в том, что было близко ему самому как поэту и человеку. Луговской в те годы необыкновенно много возился с поэтической молодежью. Но сказать, что он собрал вокруг себя самое талантливое в ней, было бы неверно. Были очень талантливые молодые поэты, которые казались неинтересными ему и для которых он сам был неинтересен. В его орбиту вошли только те, кто был ему близок по устремлениям, те, кто, в свою очередь, предпочитал его стихи стихам других хороших поэтов, не потому, что стихи Луговского были непременно лучше, но потому, что именно его стихи были нам ближе.
Поэзия пустынь и гор, яростных ветров и соленых морских побережий, обаяние тех мест, где человеку трудно и где от него требуется мужество, романтика революции и Гражданской войны, революционного Востока, борьбы с басмачеством, пограничной службы, наконец, романтические ноты предчувствия будущих боев с фашизмом — все это было нам очень близко в Луговском. Мы это чувствовали и в его стихах, и в его суждениях о чужих, в том числе и наших, стихах, и в песнях, которые он пел, и в былях и даже небылицах, которые он рассказывал.
Да, наверное, среди былей попадались и небылицы. Вспоминая уже взрослым человеком, как Луговской рассказывал нам и как мы, двадцати — двадцатидвухлетние, по-детски раскрыв рот, слушали его, я задним числом трезво понимаю: да, бывало и так, что его рассказы отрывались от земли, что в них вплетался и домысел, и вымысел и что, наверное, даже сама биография Луговского в этих рассказах представала перед нами более романтической, более жесткой, вооруженной, военной, чем она была. В его жизни и в самом деле было немало интересного, но в нашем мальчишеском представлении она казалась овеянной, быть может, излишним романтическим ореолом.
А впрочем, почему излишним? Романтика нам была нужна как хлеб. Недаром мы в те годы так любили Багрицкого, недаром нашим старшим товарищем стал именно Луговской. Мы сами требовали от него романтики. Мы сами хотели, чтобы все эти шашки, ятаганы и ружья, висевшие у него над большой тахтой в кабинете, непременно имели свою историю, чтобы все они были в боях и чтобы об этих боях нам было рассказано. И порой под нашим собственным натиском какой-нибудь из этих ятаганов приобретал в устах Луговского еще более удивительную историю, чем имел на самом деле.
Скептический ум — это самый очевидный и в то же время самый дешевый сорт ума. Мне уже давно кажется это, и я не переменил своего взгляда и сейчас. Смеяться над юностью нетрудно. Но стоит ли?
Луговской никогда не смеялся над юностью, ни над собственной, ни над чужой. В собственной юности он опирался на то, что ему в ней нравилось, и хотел добавить в нее то, чего ей, по его мнению, недоставало, — еще больше опасностей, риска, романтики.
Мне очень понятно это чувство. В годы гражданской войны в Испании мне так нестерпимо хотелось поехать туда и я так много раз потом возвращался — и в стихах, и в прозе — к этой юношеской теме моей души, что в конце концов многие стали считать, что я был в Испании. Порой мне стоило усилия воли в ответ на чей-то вопрос, где и когда я был в Испании, ответить: нет, я там не был. Но душевно я там был. И несколько стихотворений, которые я люблю до сих пор, я написал именно об Испании. А вот в желании быть там, принять участие в первом открытом бою с фашизмом для меня, например, огромную роль сыграла моя юношеская дружба с Луговским, облик его молодости, стоящий в моих глазах, его стихи, его мужественный голос, певший «Бандьера роха» и «Джон Браун», и даже скрещенные сабли, висевшие над тахтой, где он спал.
Одна из важных черт нашей дружбы состояла в том, что Луговской не требовал от нас преклонения перед его стихами. Мы любили его стихи. Так было по большей части. Но порою они не нравились нам, и, хотя мы очень переживали необходимость сказать ему об этом, все-таки говорили. И ни разу не помню, чтобы он воспринял это как измену. Он просто отчаянно огорчался и как-то притихал. Мы бывали расстроены все сразу — и он, и мы, и неизвестно, кто больше. Наверное, так оно и должно быть, если дружба действительно дружба. Помню такое, особенно печальное, затишье после того, как он прочел нам поэму «Полковник Соколов».
Зато «Курсантскую венгерку» мы заставляли его читать подряд три или четыре раза. Мне и сейчас кажется, что это одно из самых лучших стихотворений о Гражданской войне, которое я когда-нибудь знал, — звонкое и чистое, овеянное дымкой печали то ли позднего раздумья, то ли предчувствия уже накатывающейся новой войны.
Луговской много сделал для нас в те годы, и, конечно, каждый из нас с благодарностью вспоминает его как своего редактора и защитника, сначала ругавшего, потом заставлявшего исправлять, а потом все-таки двигавшего в печать наши стихи.
Но главное все же не в этом. Место Луговского в нашей юности гораздо больше и важнее. Он понимал и поддерживал в нас то, что было самым дорогим для нас самих: веру в людское мужество, в мужскую дружбу, в солдатское товарищество, в то, что поэзия не существует без дальних дорог, без испытаний, без трудностей, без волн моря и песка пустынь, без твердого выбора — с кем ты и против кого, без твердого знания — во имя чего ты живешь и ради чего готов умереть. Ему хотелось, чтобы мы выросли в поэтов мужества, в поэтов, для которых тревожный ветер революционных боев был бы не только воспоминанием о прошлом, но и дыханием настоящего и предчувствием будущего. Мы могли писать стихи лучше или хуже, но ему нравились только те, в которых была эта сердцевина. И спасибо ему за это, потому что это многое определило в нашей поэтической жизни, да и не только поэтической.
Сейчас мне на десять лет больше, чем было тогда Луговскому, но я, словно это было не четверть века назад, а вчера вечером, помню Луговского, поющего американскую песнь о Джоне Брауне, о Джоне Брауне, который первым поднял восстание за свободу негров и погиб вместе со своими сыновьями в неравном бою с южанами. Эта песня потом стала военной песней северян. Мне и до сих пор кажется, что Луговской пел ее невыразимо прекрасно, вкладывая в это свое представление о том, каким должен быть человек.
Февраль 1961
Он был бойцом…
Илья Григорьевич Эренбург по-разному входил в жизнь разных людей. В мою жизнь он вошел вместе с Испанией, вместе с первыми корреспонденциями оттуда, из Мадрида. Вошел вместе с Кольцовым, вместе с печатавшимися в газетах первыми списками награжденных за выполнение особых заданий правительства летчиков и танкистов. Вместе с появившимися на улицах Москвы людьми в кожаных куртках с такими редкими тогда орденами Красной Звезды на груди.
Голос Эренбурга был для меня тогда, в юности, голосом человека, стоявшего где-то там, на самом переднем крае войны с фашизмом.
Я не читал в молодости ни «Хулио Хуренито», ни других первых книг Эренбурга. И хотя читал его романы начала тридцатых годов — «День второй» и «Не переводя дыхания», но эти книги прошли как-то мимо меня. Может быть, потому, что я, совсем еще молодой тогда человек, по-другому видел и по-другому, исходя из личного опыта, чувствовал ту эпоху первых пятилеток, о которой писал Эренбург.
Повторяю, он вошел в мое сознание своими корреспонденциями из Испании. И своими стихами об Испании, печатавшимися тогда в журнале «Знамя».
Эти стихи, в которых нас привлекала их прозрачность, то, что в них явно шла речь о наших добровольцах в Испании, принадлежали в те годы если не к числу моих самых любимых, то во всяком случае к числу больше всего волновавших меня стихов.
Я впервые увидел Эренбурга в тридцать восьмом году, когда он приезжал из Испании. Был вечер в студенческом клубе на Стромынке, и там, за кулисами, я увидел Эренбурга — человека, приехавшего из Испании, человека, писавшего об Испании, человека, видевшего своими глазами первые бои с фашизмом.
Это было для меня тогда самым главным в Эренбурге и так и осталось самым главным до начала Великой Отечественной войны, когда главным в моем сознании сразу стали его статьи в «Красной звезде», настолько нужные людям, буквально как хлеб, и делавшие такое огромное дело, что нам, работавшим тогда в «Красной звезде» вместе с Эренбургом, даже как-то почти и не вспоминалось все, что было написано Эренбургом раньше, до войны.
Только что вернувшись из долгой командировки в Японию, я встретился с Эренбургом в апреле 1946 года в Париже, откуда мы должны были втроем — с ним и с генералом Галактионовым — лететь в Соединенные Штаты Америки.
В «Красной звезде» я работал вместе с Эренбургом, но встречался с ним сравнительно редко и мимолетно. Зато в течение нескольких месяцев нашей американской поездки много и часто был с Эренбургом бок о бок и, как мне кажется, хорошо разглядел его во время той трудной работы, которую он на моих глазах делал там, в Америке.
У меня неплохая память, но я не хочу вдаваться в подробности этой совместной поездки, о которых писал сам Эренбург. Да и вдобавок, если вдаваться в подробности, то, видимо, два очень разных человека и по-разному вспоминают, и по-разному оценивают их, и мне бы, пожалуй, пришлось поспорить с некоторыми оттенками в воспоминаниях Эренбурга. Но я не захотел делать этого при его жизни и тем более не хочу делать это после его смерти.
Я хочу вспомнить лишь о самом главном, о том, каким был Эренбург в Америке, что он любил, что ненавидел и с чем боролся.
Мне приходилось встречаться с суждениями, что Эренбург не любил Америку, не любил ее в общем и целом. Так вот просто: очень любил свою любимую Францию и очень не любил свою нелюбимую Америку. Не любил — да и всё тут!
Не любить ту или иную страну «просто так», потому что тебе не нравится что-то в стиле жизни, который в ней установился, или в манерах людей, или в их чуждых тебе обыкновениях, — не любить за это целую страну может только обыватель, тупой и недалекий человек.
Эренбург не был обывателем. Он отнюдь не был чужд пристрастий и антипатий, но прежде всего на протяжении всей своей жизни он был бойцом. Именно это составляло суть его натуры. А кроме того, что он был бойцом, он был еще и человеком большого и острого ума, способного в самой трудной обстановке хирургически отпрепарировать главное от второстепенного, важное — от малосущественного.
В ту нашу поездку Эренбург смотрел на Америку прежде всего и главным образом с точки зрения человека, который еще продолжает жить недавно кончившейся войной.
Вспомним время, когда мы с Эренбургом приехали в Америку. Над Японией были взорваны атомные бомбы, и в Соединенных Штатах сразу же появились люди, которые стали считать, что, имея монополию на атомную бомбу, нечего цацкаться с Советской Россией и можно разговаривать с ней с позиции силы.
За два месяца до нашего приезда в Америку Черчилль именно там, в Америке, произнес свою речь, в которой тоже пытался говорить о нас с позиции силы.
Словом, это было время, когда нам нельзя было позволить наступать себе на ноги. И особенно там, в Америке.
Эренбург по натуре был не из тех людей, которые позволяют наступать себе на ноги. Однако та резкость, с которой он выступал в Америке по политическим вопросам, была не результатом характера, хотя в ней, конечно, присутствовал и характер, — она была результатом самоощущения представителя израненной войной Советской страны, по отношению к которой некоторые из американцев пытались взять тон послевоенного превосходства, опираясь на свою силу, на свою сытость, на свое почти не затронутое войной благополучие.
И с этими американцами Эренбург говорил так, что каждый разговор шел на острие ножа. Эренбург не только лично, он — и это было гораздо сильнее в нем — общественно ненавидел каждого из людей, которые не желали помнить, какие жертвы принес Советский Союз в недавней войне, сколько пролито крови и сколько перетерплено испытаний.
И он умел ставить таких людей на место со всей силой присущего ему сарказма и полемического опыта.
— Что думает Эренбург, кто будет у вас премьером вместо Сталина, если его сейчас вновь не изберут на этот пост?
Вспомним то время и представим себе всю меру издевки, с какой был задан Эренбургу этот первый вопрос на американской земле.
Эренбург встал, немного наклонил к плечу голову, словно нацеливаясь в кого-то, и ответил без всякой паузы:
— Мы с вами разные люди, и у нас разные взгляды на характер и длительность наших привязанностей. Вы каждые четыре года занимаетесь выбором очередной политической невесты, а мы женаты всерьез и надолго.
Американцы умеют ценить такого рода ответы — зал громыхнул смехом. Зал хохотал над автором вопроса как человеком, решившим, что он загонит в тупик Эренбурга в первую же минуту его пребывания в Америке.
Думаю, что не только потом, но и тогда Эренбург не испытывал особенно нежной любви к Сталину. Но Сталин был для Эренбурга человеком, стоявшим во главе воевавшей страны, и он, писатель, приехав из этой страны в Америку, не собирался допускать чьих бы то ни было издевок ни над собой, ни над своей страной, ни над главой своего государства.
Этот первый ответ Эренбурга был как бы камертоном для многого, что мне потом довелось слышать из его уст во время бесчисленных обедов, митингов и пресс-конференций.
Он был мягок и дружелюбен с людьми, которые отдавали должное его стране, ее жертвам, ее потерям, ее усилиям, ее победам. И если эти отдававшие должное его стране люди чего-то не понимали или в чем-то сомневались, он объяснял им самые простые вещи не только дружелюбно, но и с какой-то даже удивлявшей меня терпеливостью и не свойственной ему кротостью.
Но стоило ему почувствовать недружелюбие к своей стране, или попытку говорить о ней свысока, или попытку навязать ей чужие правила жизни, как он становился язвительным и беспощадным.
Была Америка, которую он любил, но была и Америка, которую он терпеть не мог. Это верно, этому я свидетель. И, как пример этого, у меня и до сих пор стоит перед глазами коротенькая сцена после одного шумного и многолюдного митинга.
Эренбурга окружили охотники до автографов, совавшие ему американские издания его книг для подписи. Он подписывал долго и много, пока вдруг какой-то человек не пристал к нему, чтобы он написал ему не только свою фамилию, но еще что-то такое, чего хотелось этому человеку.
Эренбург написал.
Но развязный любитель автографов этим не ограничился, он стал требовать, чтобы Эренбург написал ему еще что-то.
Эренбург отказался.
Тогда любитель автографов, продолжая совать книжку, стал говорить, что он в свое время внес в помощь России целых двадцать пять долларов и Эренбург должен написать ему за это все, что он просит.
Эренбург сердито взглянул на него и вытащил бумажник:
«Вот вам пятьдесят долларов, чтобы вы больше никогда не напоминали нам о том, как вы много сделали для России. Возьмите и отстаньте от меня».
Было бы слишком долго вспоминать все подряд, время было трудное; отвечать на многие вопросы было не так-то просто. И я с восхищением, которое сохранилось у меня до сих пор, видел и слышал, как Эренбург с блеском выходил из самых трудных положений.
Кажется, — это было уже под самый конец поездки, — уже в Канаде, на большой людной пресс-конференции зашел разговор о признании нами Аргентины. Мы знали, что об этом шли переговоры, но нам было абсолютно неведомо, чем все в итоге кончилось. Один из корреспондентов задал вопрос, явственно пахнувший провокацией:
— Правда ли, что Советская Россия признала Аргентину, хотя там у власти по-прежнему Перон, которого в советской прессе в былые времена называли фашистом?
Эренбург прищурился и сказал:
— Не понимаю вопроса.
Ему повторили вопрос. И он вторично сказал:
— Не понимаю вопроса.
Под смешок набитого корреспондентами зала ему в третий раз громко повторили все тот же вопрос.
— Нет, я слышу то, что вы говорите, — сказал Эренбург. — Я не понимаю смысла вашего вопроса. Когда мы не признавали Перона, вы были недовольны и спрашивали, почему мы не признаем Перона. Теперь, когда, если верить вашим словам, мы признали Перона, вы недовольны тем, что мы его признали. Я не понимаю, чего, в конце концов, вы хотите от нас? — под хохот зала заключил Эренбург.
Поездка в Америку была для Эренбурга самым первым и самым трудным этапом в той послевоенной борьбе за мир, которую он вел до конца своей жизни.
То, что сделал Эренбург в годы войны, хотя и не полностью, но все-таки подытожено в нашем сознании. А все то, что сделал Эренбург после войны, в борьбе за мир, думается, еще не до конца нами осознано. Это такая большая работа, что даже страшно подумать, что один человек мог так много вынести на своих плечах.
Всякий из нас, людей, переживших войну, хорошо помнит, какую огромную роль в годы войны играла военная публицистика Эренбурга, как высоко ценили ее читатели и на фронте, и в тылу, с каким нетерпением открывали «Красную звезду» и «Правду», искали на их страницах очередное выступление Эренбурга.
Наша литература и наша журналистика в годы войны с честью выполнили свой долг перед народом. Свидетельство тому — подшивки военных лет центральных, фронтовых, армейских, дивизионных газет, в которых работали тысячи писателей и журналистов. Свидетельство выполненного долга и те тяжелые потери, которые понес писательский и журналистский корпус, выполняя свой гражданский и свой литературный долг в огне боев на всех фронтах Великой Отечественной войны — от Черного до Баренцева моря.
Илья Григорьевич Эренбург был лишь одним из многих литераторов и журналистов, в годы войны отдававших всего себя на службу сражающемуся народу, его жизненным интересам, его справедливым историческим целям.
Но, говоря об Илье Эренбурге как об одном из многих писателей, неукоснительно выполнявших в годы войны свой гражданский долг, надо к этому добавить, что и масштабы всего сделанного Эренбургом во время войны, и мера того влияния, которое имела его работа на умы и сердца его военных читателей, и острота и сила его страстного публицистического пера, и то неутомимое постоянство, с которым он писал о самых острых, самых драматических темах военных дней, все это, вместе взятое, в соединении с его несравнимым публицистическим талантом по праву сделало его любимцем сражающейся армии, а шире говоря — сражающегося народа.
Работая в нашей центральной военной газете «Красная звезда», Эренбург, стремясь чаще и больше выезжать на фронт, в действующую армию и настаивая на этих поездках, порою ставил редакцию в сложное положение. С одной стороны, в редакции хорошо понимали, как необходимо ему для очередных статей, корреспонденций, фельетонов непосредственное общение со своими фронтовыми читателями. А с другой стороны — газета есть газета, и, как только в ней неделю — полторы, а уж тем более две не появлялось статей и корреспонденций Эренбурга, начинали сыпаться письма с фронта: где Эренбург, почему его не видно на страницах газеты, когда будут его статьи?
В «Красной звезде» печатались многие талантливые писатели и журналисты, чьи имена прочно связаны с историей Великой Отечественной войны, и все-таки, если на страницах «Красной звезды», или «Звездочки», как ее ласково называли на фронте, долго не появлялось очередного выступления Эренбурга, то всем казалось, что не хватает чего-то очень важного и нужного. И наверно, именно это читательское чувство и может служить высшей оценкой всего, что делал Илья Эренбург в годы войны.
Когда теперь, спустя много лет после войны, я размышляю над той удивительной силой воздействия, которую с самых первых дней войны получили публицистические выступления Эренбурга, я думаю, что одной из причин этого было то, что его страстные антифашистские, антинацистские выступления на страницах наших газет имели очень прочный, уходивший в глубь его писательской жизни фундамент.
О вооруженной борьбе с фашизмом Эренбург, впервые на нашей памяти, писал из Испании, из осажденного Мадрида. Но для него самого как для писателя Испания не была местом первой встречи с фашизмом. На протяжении двадцатых и начала тридцатых годов, бывая во многих странах Европы, он встречался с различными проявлениями фашизма и писал о нем еще в те времена, когда у этого исчадия ада прорезывались первые зубки.
И если говорить о фундаменте той ненависти, которую испытывал Эренбург к фашизму, то первый слой этого фундамента — его первые встречи с фашизмом двадцатых годов.
Второй слой — встреча с фашизмом в начале тридцатых годов, главным образом во Франции, когда французские поклонники Гитлера боролись с Народным фронтом и когда, живя в Париже, Эренбург был одним из самых деятельных организаторов конгресса в защиту культуры против фашизма.
А те встречи с фашизмом в Испании, под гул бомбежек Мадрида, о которых мы читали в тридцать седьмом и тридцать восьмом годах в корреспонденциях Эренбурга на страницах «Известий», были уже третьим слоем этого фундамента ненависти.
Но Эренбургу довелось еще увидеть и трагедию разгрома Франции в 1940 году, увидеть звериный, самодовольный лик фашизма, считавшего, что он уже победил, что его будущее обеспечено. Обо всем этом, увиденном там, во Франции, Эренбург написал перед началом Великой Отечественной войны в своей книге «Падение Парижа». Впечатления, легшие в основу этой книги, стали четвертым слоем того фундамента ненависти к фашизму и нацизму, который прочно существовал в уме и сердце писателя к началу Великой Отечественной войны.
На этом многослойном и крепком фундаменте и возникли первые его корреспонденции первых дней и месяцев Великой Отечественной войны, сразу обратившие на себя пристальное внимание читателей силою своей страсти и своей непримиримости.
С первых же дней войны, сражаясь на страницах наших газет с фашизмом, Эренбург открыл свой собственный счет. Так, во время войны мы обычно говорили не о писателях, а о снайперах, о людях прямого и смертельного действия. Но это с достаточной точностью применимо и к Эренбургу. И метафора, что Илья Эренбург — снайпер пера, не новая и не моя. А старая, солдатская, времен войны.
Это уже сейчас, спустя много лет, я, вспоминая прошлое, пытаюсь проанализировать, как и из чего складывалась военная публицистика Эренбурга времен Великой Отечественной войны. А тогда, в войну, я, наверное, так же, как и другие читатели Эренбурга, не думал над истоками его публицистики.
Тогда, в годы войны, мы, по правде говоря, не знали и истории создания «катюш» и не раздумывали над тем, в результате каких многолетних трудов и усилий они вдруг появились на фронте. Для нас было главным то, что они появились и ударили по фашистам!
Так это было и с прямым и сокрушительным действием военных статей Эренбурга. Люди, причастные к войне, не размышляли над тем, откуда и как он появился, они радовались тому, что он есть!
На протяжении всех четырех лет войны мне довелось работать с Ильей Григорьевичем Эренбургом в «Красной звезде». Приходилось мне там же, в редакции, видеть Эренбурга и поздними вечерами, когда давно был сдан в набор его очередной материал для завтрашнего номера «Красной звезды», а он все еще сидел за машинкой. Это не вызывало удивления ни у меня, ни у моих товарищей по «Красной звезде». Мы знали, что кроме статей в «Красную звезду», в «Правду», кроме статей, специально написанных для фронтовой печати, на просьбы которой Эренбург считал своим долгом всегда, когда мог это сделать, откликаться, — мы знали, что кроме всего этого он делает еще одну большую и постоянную работу. Знали, что через Советское Информбюро в телеграфные агентства и газеты Америки, Англии и сражающейся Франции направляются корреспонденции Эренбурга, специально написанные для этих агентств и газет.
Но никто из нас тогда не читал этих статей и корреспонденций. Прямо с машинки Эренбурга они шли в Информбюро и оттуда на телеграф. И хотя мы знали, что он пишет эти корреспонденции, но вся та работа Эренбурга, которая постоянно шла у нас на глазах, вся его работа для наших газет казалась нам такою огромной, что как-то невольно забывалось, что он одновременно с этой работой успевает делать еще и другую.
И вот теперь, после смерти писателя, наконец собраны вместе и прочтены подряд копии тех корреспонденций, что за годы войны были отправлены им в зарубежную прессу. Общая цифра их огромна — около трехсот. Это значит, что каждые четыре дня войны за рубеж шла очередная корреспонденция Эренбурга, печатавшаяся иногда в одной, двух, трех, а иногда и сразу в нескольких десятках и даже сотнях газет.
Первая из этих статей датирована 3 июля 1941 года — она была написана в тяжелейшие дни отступления и оборонительных боев на всем фронте — от Балтики до Черного моря. Последняя из отправленных за рубеж, в военное время, корреспонденций датирована 27 апреля 1945 года. В этот день войска 1–го Белорусского фронта, в ходе боев за Берлин, заняли Нейкельн и Темпельхоф и, овладев Потсдамом, окружили Берлин и соединились там с войсками 1–го Украинского фронта.
Между статьей, с которой началась эта работа Эренбурга, и статьей, которой она закончилась, пролегло четыре года войны.
Об этих годах, усилиями участников войны — мемуаристов, историков, литераторов, журналистов, создано немало летописей, разных и по-разному написанных.
Думается, что серия написанных для зарубежной печати статей Эренбурга — тоже летопись войны. Очень своеобразная, интересная, открывающая и новые страницы мужества нашего народа, и новые страницы его душевной жизни. Эти статьи являются летописью мужества прежде всего потому, что они рассказывают о мужестве нашего народа. Но в статьях проявилось и мужество самого писателя, его твердый, непримиримый характер.
Корреспонденции Эренбурга, посылавшиеся им за рубеж, дают представление о том нравственном накале, с которым они писались, о политической бескомпромиссности и принципиальности их автора.
Эренбургу в этих корреспонденциях, особенно в тот длительный период, когда наши союзники все не открывали и не открывали второй фронт, выдвигая в свое оправдание все новые и новые и все менее и менее уважительные причины, приходилось вступать в полемику и по этому, и по целому ряду других вопросов. И, вступая в споры, Эренбург не склонен был проявлять ни застенчивости, ни уклончивости, ни прибегать к деликатному огибанию острых углов.
Корреспонденции, которые посылал за рубеж Эренбург, не только были полны глубочайшей веры в свою страну, в свой народ, в свою армию, они не только дышали гордостью за советских людей, сделавших на этой войне, казалось бы, невозможное. Корреспонденции Эренбурга были непримиримыми по отношению ко всем тем, кто на Западе не желал воевать в полную силу. Ко всем, кто отсиживался, оттягивал открытие второго фронта, надеялся загрести жар чужими руками.
Корреспонденции Эренбурга полны полемики, имеющей не только исторический, но самый живой современный интерес. Он полемизирует с английской и американской печатью, которая пыталась преуменьшить масштабы наших усилий и преувеличить масштабы усилий наших союзников. Он полемизирует с теми из западных военных корреспондентов, которые писали отсюда, из России, в свои газеты неправду или полуправду. Он полемизирует с охотниками оттянуть открытие второго фронта, со всеми, невзирая на лица, вплоть до Черчилля! Он с ядовитой иронией высмеивает всех, кто там, на Западе, к концу войны, спекулируя понятием гуманизма, уже начинал готовиться к предстоящему списанию грехов с военных преступников.
Это о них, разоблачая всю лживость их мнимого человеколюбия, он написал в одной из своих корреспонденций, что «нельзя одновременно любить и людей, и людоедов».
Это об их подзащитных, которых они потом, уже после войны, с таким рвением защищали, сокращая им сроки отсидок и оправдывая их, он писал с беспощадным сарказмом, что «ведьмы уже запаслись носовыми платочками».
Нравилось или не нравилось это в редакциях тех французских, английских и американских газет, куда писал Эренбург, но он называл в своих корреспонденциях вещи своими именами. Туда, в их газеты, он писал осенью сорок второго года, в дни сталинградских боев, что «Октябрь 1917 года проверен в октябре 1942–го» и что «Октябрьская революция вторично спасла Россию».
И сразу же после победы, когда на Западе появились охотники приписать себе хотя бы половину ее — дальше аппетиты в то время еще не шли, — Эренбург, отвечая им, уже тогда ставил все точки над «и». И в первой же своей послевоенной корреспонденции писал: «рели осмотреть труп фашизма, — на нем много ранений, от царапин до тяжелых ран. Но одна рана была смертельной, и ее нанесла фашизму Красная Армия».
Только теперь, через двадцать восемь лет после Победы, прочтя все это вместе, я понял, с какой существенной частью работы Ильи Эренбурга мы, его товарищи по редакции, не были знакомы в годы войны; понял, какие масштабы и политическое значение имела эта его работа, невидимая для нас тогда, как бывает невидима подводная часть айсберга.
Встречи с Чаплином
Летом 1946 года, во время поездки по Соединенным Штатам Америки, я оказался в Голливуде и в первый же день своего приезда спросил у нашего консула, не может ли он мне помочь увидеться с Чарли Чаплином.
— Что ж, надеюсь, что это возможно, — сказал он. — Чаплин вообще прекрасно относится к людям, приезжающим из Советского Союза. Я позвоню ему от вашего имени.
На следующее утро, вновь увидев консула, я узнал, что он уже звонил Чаплину.
— Чаплин просит вас заехать сегодня в два часа дня к нему на студию. Он просит извинения, что назначает вам свидание там, но он сейчас репетирует новый фильм, готовится начать съемки, с утра до вечера пропадает на студии и поэтому может принять вас только там.
В половине второго мы вдвоем с переводчиком поехали к Чаплину.
Расстояния в Лос-Анджелесе изрядные, и мы проехали почти полчаса, прежде чем остановились на широкой улице около маленькой зеленой калиточки. За калиткой и забором виднелись невысокие деревья и несколько низких одноэтажных зданий. Я не сразу понял, что мы добрались до места, и, когда мой переводчик Бернард Котэн сказал, что это и есть киностудия мистера Чаплина, я был немножко удивлен. Простой заборчик, низенькие, как мне показалось, деревянные одноэтажные строения… Мне представлялось, что студия, в которой работает Чаплин, должна выглядеть совсем по-другому. Мы прошли между двумя палисадничками, вошли в какие-то маленькие воротца, за которыми находилась тоже маленькая проходная будка. Будка была совсем крохотная, похожая на телефон-автомат; справа будка с маленьким окошечком, прямо — калитка во двор, а слева несколько скамеек, на которых сидели три или четыре человека, должно быть актеры. Я тоже присел на скамейку, рядом с ними, а Котэн утонул головой в окошечке будки. Я услышал, как он повторяет: «Мистер Чаплин, мистер Чаплин… два часа… два часа, мистер Чаплин, мистер Чаплин, мистер Симонов… два часа…» Он говорил что-то еще, но я понимал только в пределах моего явно недостаточного знания английского языка.
Девица в окошечке что-то отрывисто и, как мне показалось, даже сердито отвечала ему, и он опять твердил свое: «Мистер Симонов… мистер Чаплин… два часа». Это продолжалось несколько минут, потом он повернулся ко мне и сказал с досадой:
— Удивительное дело, она ровно ничего не знает!
— Пусть она позвонит и напомнит Чаплину — может быть, он забыл, — сказал я.
— Она отказывается ему звонить, потому что он сейчас репетирует.
— Так что ж мы будем делать?
— Придется ждать здесь. Может быть, придет кто-нибудь из тех, кто должен явиться к нему на репетицию, я пошлю ему записку. А может быть, он сам вспомнит и позвонит сюда.
Мы сели на скамейку рядом и стали ждать.
Бернард Котэн, с которым мы ездили по Америке уже третий месяц, нисколько не стеснялся все это время ругать при мне все, что ему не нравилось в Америке с его позиций либерального американца, но в то же время с такой же горячностью хвалил все, что в американской жизни и в американском быту казалось ему хорошим и достойным подражания. В особенности он любил подчеркивать американскую точность, она была его коньком, тем более что он сам в любых обстоятельствах оставался эталоном этой точности. А теперь мы сидели с ним рядом на скамейке перед закрытой дверью и абсолютно не представляли себе, сколько нам еще придется сидеть. Через полчаса молча клокотавший рядом со мной Котэн вновь подошел к проходной будке и попросил девушку позвонить Чаплину, но получил тот же самый ответ: мистер Чаплин репетирует, и, пока он репетирует, она не будет ему звонить. Котэн снова уселся рядом со мной и на этот раз начал клокотать уже не молча, а вслух:
— Вот эта вечная неточность! Эта вечная безалаберность! Эта вечная неразбериха всегда и всюду, где имеешь дело с артистами и им подобными людьми!..
Он изъяснялся в этом духе довольно долго. Когда я снова посмотрел на часы, на них было уже несколько минут четвертого. Пошел второй час ожидания. Мне самому было досадно, но Котэн, совершенно очевидно, страдал еще больше меня, и я, чтобы прекратить его страдания, сказал ему, что нам, пожалуй, следует уйти. Мистер Чаплин — великий человек, но больше часа не следует ждать даже великих людей. Вернемся в гостиницу, а вечером позвоним, — может быть, произошло недоразумение и нас ждали не сегодня, а завтра?
Именно в этот момент открылась калитка студии и в ней появился высокий седой мужчина, к которому кинулся Котэн. Они перебросились несколькими словами, мужчина ушел и почти тотчас же вернулся и сказал, что мистер Чаплин просит, бога ради, извинить его, что он с утра беспрерывно репетирует, но скоро закончит и просит нам передать, чтобы мы пока шли на студию и ходили бы там всюду, где захотим, и делали все, что захотим.
Седой мужчина исчез так же быстро, как появился, а мы вошли во двор.
Это был обыкновенный студийный двор, только немного меньше и немножко чище, чем я привык видеть у нас. Во дворе стояло несколько одноэтажных домиков, а кругом них довольно много декораций, совсем новеньких, только что покрашенных, и старых, обветшалых.
В Голливуде благословенный для кинопромышленности климат — средняя годовая температура что-то около десяти градусов тепла, и круглый год не бывает ни сильной жары, ни сильных дождей, ни снега. Поэтому неудивительно, что многие декорации стояли здесь в более или менее сохранившемся виде уже долгие годы. Мы бродили между ними, словно по смутно знакомому городу, то здесь, то там вдруг узнавая то, что мы уже видели в картинах Чаплина. Вот это — стена парикмахерской из «Диктатора», а вот это — часть стены дома из «Новых времен», а вот это — фасад здания из фильма «Огни большого города»…
Как потом выяснилось, после окончания съемок того или иного фильма на студии Чаплина часть декораций так и остается в неприкосновенности до следующей картины, потому что потом их, не разрушая, заново перестраивают, приспосабливают. А некоторые куски декораций из каждой картины Чаплин оставлял намеренно, для памяти, как своеобразный музей. Мы бродили между декорациями, а в это время в центре студийного дворика человек сорок постановщиков неторопливо и почти бесшумно строили большой новый комплекс декораций: несколько небольших интерьеров, какой-то домик, еще один домик, банковский подъезд, уголок сада, кусок какого-то зала, который мы потом узнали в фильме «Комедия убийств» как зал суда, и, наконец, самую большую из декораций — тюремный двор.
Мы бродили уже минут тридцать или сорок, как вдруг откуда-то из-за угла нам навстречу выбежал живой Чаплин. Я употребил слово «живой», потому что, хотя и готовился встретиться с Чаплином, мне все равно в первую секунду было абсолютно странно вдруг увидеть Чаплина. Выбежал живой Чаплин, улыбающийся, очень любезный, очень маленький, совершенно седой и очень красивый. Тонкий, изящный, узкий, очень милый, с вежливо-застенчивой улыбкой на лице. Это была улыбка, которой он улыбался в фильмах, улыбка, которой он улыбался в гриме, и в то же время эта улыбка была его собственной, человеческой улыбкой. А впрочем, это было уже и невозможно разобрать, какая улыбка была его собственной: та, из фильмов, или эта, которой он улыбался сейчас, — робкая, застенчивая, именно застенчивая улыбка, которая из-за того, что на лице его не было грима, казалась совершенно естественной, в ней не было ничего резкого, ничего подчеркнутого.
На нем была какая-то старенькая рубашечка в полоску или в клеточку, уже не помню, с просекшимся воротничком. А поверх рубашки — джемперок, застегивающийся на пуговки, тоже старенький, и серые шерстяные штаны с латками, обветшалые и протертые. Видимо, это был костюм, в котором он привык репетировать, и мне, когда я увидел на нем этот костюм, показалось, что он репетирует в нем, наверное, уже не первую и не вторую картину.
Он поздоровался и попросил у нас извинения, что заставил нас так долго ждать и что все так вышло.
— Я совершенно негодный, отвратительный, неточный человек, — сказал он. — И вообще со мной совершенно невозможно иметь дело и не нужно иметь дело. Мне кажется, уже никто и не желает иметь со мной дело. И, очевидно, правильно поступает.
Все это было сказано с улыбкой.
— Надолго ли вы приехали в Голливуд?
Я ответил, что недели на две.
Все, что говорил Чаплин, он говорил быстро, на ходу, и при этом мы все время как-то бесцельно, как мне показалось, передвигались, вернее, Чаплин быстро передвигался, а мы поспевали за ним.
— Я сейчас репетирую последние дни, — говорил он. — Я вообще всегда репетирую до самой последней минуты. Но при этом я все еще не подобрал всех актеров, которые мне нужны. И сейчас опять пробую по нескольку разных актеров на несколько ролей. Никак не могу найти сыщика.
Он вдруг спохватился:
— Но вы же не знаете, в чем дело! Вы же не представляете, что будет у меня в картине.
Я ответил, что я кое-что читал об этом, что в газетах писали, что в его фильме будет рассказано что-то вроде истории Синей Бороды.
— Да, да, — сказал он. — Но это будет безумно смешно. Вы даже не представляете себе, как это будет смешно.
Он на несколько секунд замолчал, и по выражению его лица мне показалось, что он сейчас вспоминает какие-то ужасно смешные вещи из своей будущей картины и, вспоминая их, забавляется своими воспоминаниями.
— Но мы сначала пойдем посмотрим декорации, — сказал он. — Вот этот домик, где он будет обольщать свою четвертую жену. Это будет безумно смешная сцена. В сущности, в душе он ребенок. И очень застенчивый человек, и вовсе не любит обольщать женщин. Он совершенно не любит этим заниматься. И при этом он еще очень, очень вежливый…
И Чаплин каким-то неуловимым жестом и короткой смешной гримасой показал, какой вежливый его герой.
— Он очень вежливый. А она очень шумная женщина. Очень большая, очень немолодая и очень шумная женщина. Неприятная женщина. А ему нужно ее обольстить. А потом убить. Понимаете? Но он очень не любит все это делать. Он прекрасный семьянин и очень застенчивый человек. Ему так неудобно обольщать эту женщину, и он так вокруг нее прыгает при этом, и у него толком ничего не получается… Это будет безумно смешно!
Он обернулся на полуслове, заметив какого-то шедшего к нему человека. Человек в руках нес несколько вещей, которые в такой комбинации можно увидеть только на киностудии: бутылку с наклейкой, длинный гвоздь и кандалы.
— Сейчас, минуточку, — сказал Чаплин и подошел к своему сотруднику. — Очень хорошо. Бутылка, гвоздь и кандалы.
Он взял у него из рук кандалы и стал примерять на свою руку.
— Да. Кандалы хорошие. Эти годятся.
Он повернулся к нам и стал объяснять:
— Это будет нужно для тюрьмы. Его потом посадят в тюрьму. Вот с этой сценой в тюрьме я и имел самые большие неприятности с цензурой. Там есть такая сцена: когда его сажают в тюрьму, то к нему приходит священник и говорит традиционную фразу, которую они говорят, приходя к заключенным: «Чем я могу вам помочь?» Вернее, не говорит, а собирается сказать. А мой Верду, как только священник входит к нему, сам первый говорит священнику: «Чем я могу вам помочь?» И вот из-за этой фразы у меня было два месяца задержки, потому что наша цензура нравов, в которой главную роль играют католики, непременно хотела это место выбросить. Но я запротестовал и сказал, что без этого места я вообще ничего не буду снимать, у меня в фильме обязательно будет это место… Пойдемте дальше, посмотрим декорации. Сейчас я вам покажу тюремный двор.
Мы подошли к декорации тюремного двора, и Чаплин воскликнул:
— Ах, четвертый день я опаздываю!
Мы сначала не поняли, почему он заговорил об опоздании, но он, взглянув на часы, объяснил:
— Вот видите, я опять не могу ничего как следует проверить. Это будет в самой последней сцене. Верду пойдет вот отсюда, и, когда он пойдет, тень должна разрезать этот тюремный двор ровно пополам. Он пойдет вот отсюда, здесь будет яркий солнечный свет, а потом, как раз посередине двора, он из этого солнечного света перейдет в полосу тени, в почти полную темноту. И уже в этой темноте уйдет в ворота. Этим кончится картина. И я хочу проверить, где точно лежит эта тень, правильно ли поставлены декорации по отношению к этой тени. И вот четвертый день не могу сюда попасть, когда тень должна лежать так, как мне это нужно. Каждый раз забываю. И вот сегодня опять забыл!
Он прошел с нами мимо всех декораций, в нескольких местах останавливался и говорил с постановщиками, потом присел вместе с нами на доски и снова стал рассказывать куски будущего фильма, причем сам страшно веселился. Он рассказывал о том, как в Марселе у его героя появилась женщина, безумно глупая и безумно шумливая. Он уже женился на ней, но никак, никоим образом не может выкачать из нее деньги. Раньше она была женщиной легкого поведения, но потом вдруг выиграла большие деньги в лотерею. У нее сто тысяч франков, которые Верду ужасно хочет вытянуть у нее, а она раздаривает эти деньги всем кому угодно, кроме него. Она его очень любит, но именно ему денег не желает давать. И он ужасно мучается этим.
— Это будет безумно смешно, — повторил Чаплин.
После этого он продолжал рассказывать другие кусочки фильма, смеясь и в заключение каждый раз повторяя, что это будет очень смешно.
Наконец он зашел в маленький домик и вернулся оттуда с синей папкой под мышкой.
— Сейчас я вам кое-что почитаю.
Снова усевшись на доски, он стал читать нам вслух кусочки сценария. Страничку из одного места, потом страничку из другого, потом страничку из третьего. Читая, он при этом сам очень веселился, смеялся, а иногда и заливался хохотом, причем трудность моего положения заключалась в том, что мне приходилось смеяться по два раза: сначала я смеялся просто потому, что глядел на смеющегося Чаплина, хотя и не понимал того текста, который он читал по-английски. Потом Котэн переводил мне этот текст, и я снова еще раз смеялся уже задним числом, сопоставляя этот смешной текст с тем, как смешно читал его Чаплин. Постепенно я все больше и больше чувствовал характер героя фильма, человека, которого изображал нам Чаплин.
Читая кусочки сценария, он необычайно точно, одновременно и печально, и уморительно, передавал застенчивость этого человека, его внешность, его манеры.
— Он седой и немолодой, как я, — объяснял Чаплин. — С такими же усиками. Очень приличный. Очень застенчивый. Он очень не любит соблазнять женщин, но ему все время приходится это делать. И ему очень неловко перед ними. Он их убивает. Но ему все это очень, очень не нравится.
Как мне показалось, его самого очень забавлял придуманный им характер мсье Верду.
Наконец я, до крайности заинтересованный его будущим фильмом, спросил Чаплина:
— Нельзя ли мне почитать сценарий? Мы сядем вечером с Котэном, и если не за один вечер, то за два он переведет мне его с листа.
Чаплин минуту помолчал, словно что-то вызывало его колебания, но потом решительно сказал:
— Да, да, конечно. Я вам подарю экземпляр сценария. Сейчас подарю. Почитайте его. Но я очень вас прошу, чтобы его никто у вас не увидел и никто не украл.
Я постарался успокоить его, сказав, что надеюсь, что у меня его никто не увидит и никто не украдет, но, вернувшись домой, мне хотелось бы перевести этот сценарий на русский язык и напечатать его где-нибудь в журнале.
— Пожалуйста, — сказал Чаплин. — Я буду очень рад этому. Но только с одним условием, чтобы все это было не раньше, чем моя картина окажется на экране. А то украдут. То есть не у вас украдут, а у меня украдут. Почитают на русском языке, переведут обратно на английский и украдут у меня. Прочитают там, у вас, а украдут здесь, у нас. И чтобы он у вас ни в коем случае не пропал здесь. Пожалуйста!
Озадаченный тяжестью падавшей на меня ответственности, я с сомнением сказал:
— Так, может быть, тогда не надо, если так обстоит дело?
— Нет, нет, — сказал Чаплин. — Пожалуйста, я подарю вам его. Я очень рад. Я сейчас надпишу его.
Мы зашли в его контору, небольшую комнату, и он, сев к столу, сделал на сценарии дарственную надпись. После этого мы снова вышли во двор.
— Я сегодня же или в крайнем случае завтра прочту с помощью мистера Котэна весь сценарий, — сказал я. — Нельзя ли будет после этого посмотреть у вас хотя бы одну или две ваших репетиции? Мне бы очень хотелось.
Чаплин на секунду замялся.
Я сказал, что обещаю быть абсолютно безгласным зрителем, постараюсь ничем не помешать ему.
— Считайте меня просто одним из стульев, которые стоят у вас в павильоне. Я буду просто сидеть и смотреть откуда-нибудь из-за угла, и мне это будет очень интересно.
— Хорошо, пожалуйста, — сказал он после еще одной секундной паузы.
Я уже потом понял, что это было очень большое доброжелательство с его стороны.
За оба следующих дня, которые я провел у Чаплина на репетициях, я на них так никого и не увидел, кроме того худого седовласого человека, его помощника, который в первый день выходил нам навстречу, и актеров, вызывавшихся каждый для своей сцены. Очевидно, для самого Чаплина было непривычно, что кто-то сидит в углу павильона и глазеет на то, как он репетирует. И то, что он при всем этом все-таки разрешил мне присутствовать на своих репетициях, разумеется, следует отнести не за счет его внезапной симпатии ко мне, а за счет его давних симпатий к стране, из которой я приехал.
Чаплин сказал, чтобы я приходил к нему на репетиции на следующий же день к десяти часам утра.
— У меня последние дни репетиций, — сказал он. — Как только я закончу репетиции, я сразу же начну снимать. Съемки займут у меня десять недель. А после съемок я буду писать музыку и озвучивать фильм. А сами съемки не могут занять больше десяти недель. Я не могу себе позволить никакой затяжки. Студия заморожена. Она три года не работала. Была на консервации. А сейчас я нанял рабочих-постановщиков и всех, кто необходим для съемок, сроком на десять недель. И за эти десять недель я должен начать и закончить съемки. Иначе я прогорю. Я разорюсь. Этот сценарий — первый, который я написал именно как сценарий, как что-то похожее на литературное произведение. До сих пор я записывал все, что придумывал, все, что буду снимать, просто в своей рабочей тетради, а потом работал по этим записям. Потому что я сам все знал и сам все делал. А сейчас я в первый раз все это записал подряд, как сценарий. Это первый мой сценарий. Приходите завтра в десять часов, я буду репетировать, а в пятницу или в субботу приезжайте ко мне домой, мы с вами пообедаем.
Я поблагодарил и на следующий день ровно к десяти утра приехал снова на студию, перед этим за вечер и ночь бегло прочитав с помощью Котэна сценарий.
Но хотя мы приехали ровно к десяти, Чаплин уже репетировал. Он начал еще раньше.
Репетиционный зал, в котором работал Чаплин, был легким деревянным строением, в сущности, не залом, а большой комнатой в пятьдесят — шестьдесят квадратных метров. В комнате стояло несколько стульев, в углу маленький шкафчик — и всё.
Кроме Чаплина и актера, с которым он сейчас работал, в комнате был всего один человек — тот самый, вчерашний — седой, высокий. Он был тоже очень вежливый, тоже застенчиво улыбающийся, тоже совершенно седой, как Чаплин; зрительно он был в этой комнате как бы еще одним повторением Чаплина, только выше на полторы головы.
В течение всего дня репетиции он делал все, что было необходимо: быстро, безмолвно передвигал стулья, подавал Чаплину ту или иную вещь, нужную для работы, варил ему на спиртовке кофе или, на минуту скрывшись за дверью и проводив одного актера, вводил другого. Кроме всего этого, у него был под мышкой сценарий, и он время от времени, когда это было нужно, подавал текст.
В этот день Чаплин пробовал актеров на роль сыщика. В сценарии «Комедия убийств» есть сцена, когда к Верду приходит сыщик. Сыщик уже знает, что Верду убийца. Но Верду во время их разговора, налив вино, меняет стаканы и заставляет сыщика выпить яд. После этого сыщик все-таки арестовывает его и увозит, но, когда они оба уходят, мы уже знаем, что сыщик выпил яд.
Чаплин на моих глазах пробовал трех сыщиков. Это были три разных типажа. Один был толстый сыщик, традиционный противник Чаплина из немых картин двадцатых годов, нелепый в своей толщине и огромности рядом с маленьким Чаплином, которого он преследует.
Второй сыщик был крепкий, мрачный, набычившийся мужчина гангстерского вида. Страшноватый, но не такой огромный по своим объемам.
Третий сыщик был долговязый неуклюжий человек, внешность которого мало соответствовала профессии. Все трое знали назубок текст своей роли — видимо, помощник Чаплина с ними уже предварительно занимался, — а сам Чаплин встречался с ними в работе только сейчас, впервые.
Я подумал тогда, а потом получил этому подтверждение от самого Чаплина, что он перед началом съемок пробовал новых актеров только на те роли, на которые раньше уже решил взять других актеров, но в последний момент передумал, по каким-то соображениям отменив первоначальное решение.
Сам Чаплин тоже знал наизусть текст, вложенный им в уста Верду, и, если изредка у него происходила крошечная заминка перед соответствующей репликой, помощник мгновенно подавал ему текст.
Самым интересным для меня на этой репетиции было то, как Чаплин, играя мсье Верду, на каждой репетиции, с каждым новым актером играл роль иначе, применяясь именно к этому актеру. Или, пожалуй, точнее будет сказать, что он не просто применялся к партнерам, а применительно к факту существования их на сцене, применительно к своему, тому или иному, ощущению их физического поведения менял рисунок собственной роли. Он иначе общался с худым, долговязым неуклюжим сыщиком, чем с громким и толстым и чем с третьим из них — мрачным и набычившимся. Он себя иначе физически чувствовал с каждым из них. Если ему по рисунку роли надо было при разных пробах повторить одну и ту же мизансцену, обойти кругом сыщика, — одного из них он обходил так, а другого совершенно иначе. Мимо одного он пролезал, мимо другого проскальзывал, а третьего обегал бегом. У него были совершенно разные выражения лица, когда он разговаривал с каждым из них, потому что в роли Верду он совершенно по-разному ощущал их. С одним он был застенчив и суетлив, с другим был спокойнее, почти все время сохраняя на лице улыбку, а с третьим вел себя с внезапной развязностью перешагнувшего через собственный страх робкого человека.
Все, что происходило на репетиции, происходило очень быстро, живо, но, при всей быстроте избранного Чаплином темпа, его не покидала в общении с актерами мягкая вежливость. Он с самого начала стремился, вводя актеров, дать им почувствовать, что сейчас они будут участвовать в очень веселой репетиции, где им предстоит сыграть очень смешную сцену.
— Понимаете, — говорил Чаплин, — он вас отравляет гуманно. Не все так делают, не все так отравляют людей. А как вы думаете вести себя с ним? Как вы думаете действовать в свою очередь? Он вас хочет отравить, зная, что вы хотите его арестовать. А вы хотите его арестовать, еще не зная, что он вас хочет отравить. Как, по-вашему, вы будете говорить с ним в этих обстоятельствах?
Пробуя актеров одного за другим, Чаплин наконец остановился на худом неуклюжем сыщике. И выбрал его. Видимо, его привлекало несоответствие функции этого человека, который должен был арестовать Верду и тем самым в итоге привести его на гильотину, и неуклюжей, какой-то даже неумелой внешности, плохо сочетающейся с расхожим представлением о том, каким должен быть сыщик. К этому сыщику, играя Верду, Чаплин примерялся гораздо дольше, чем к другим, — и так и эдак, менял то одно, то другое в самом поведении сыщика и снова сам примерялся уже к этому новому поведению. Он несколько раз спрашивал у этого актера советов, с одним из советов вдруг радостно согласился, был очень доволен этим советом, долго смеялся, радовался и почти сразу же после этого быстро — быстро закончил репетицию.
Мне показалось, что прошло совсем мало времени, хотя на самом деле прошло четыре часа.
На Чаплине, так же как и накануне, была та же шерстяная кацавейка на пуговках, а на гвоздике на стене репетиционного зала висел серый пиджак с латками на локтях. Обношенный, уютный стандартный пиджак из тех, какие носили в конце двадцатых годов.
После репетиции мы сразу же выбежали на улицу. Именно выбежали. Впереди бежал своей стремительной походкой маленький Чаплин, а сзади я и массивный, запыхавшийся Котэн. Сначала побежали вдоль по улице, потом перебежали улицу, ныряя между машин, потом перебежали еще какую-то вторую улицу и вбежали в маленький кафетерий. Он был почти пуст. Мы влезли на высокие стулья перед стойкой, и Чаплин, словно все еще продолжая бежать, хотя он уже сидел перед стойкой, быстро — быстро заказал себе кофе и бутерброд с котлетой — традиционную еду американских забегаловок.
Котэн выпил несколько стаканов молока, я — кофе, и через десять минут мы уже шли обратно на студию. На этот раз не бежали, а шли, впрочем довольно быстро.
Войдя в репетиционный зал и повесив пиджак на тот же гвоздик, Чаплин сказал своему седому помощнику:
— Давайте подбирать мадам Грасье. — И, повернувшись к нам, с довольным видом объяснил: — Это будет безумно смешная сцена.
Я, как и обещал заранее, в меру сил сохранял весь этот день упорное молчание: сидел в углу на своем стуле как гвоздь, смотрел и молчал.
Но Чаплин несколько раз за время репетиций сам прерывал это молчание, вдруг подходил ко мне и спрашивал:
— Верно, это смешно? Верно, забавно?.. А вот это, с этим сыщиком, поверьте, будет просто уморительно. Вы только представьте себе: он еще чувствует себя полным хозяином положения, а на самом деле он уже отравлен, его уже не существует.
Теперь, после перерыва, ожидая, когда придет актриса, он сказал:
— Мне для этой сцены необходима актриса, которая могла бы играть очень тяжелую, глупую женщину, очень глупую и при этом очень самодовольную. Такую очень большую и очень самодовольную женщину. Чтобы он все время бегал вокруг нее и никак не мог к ней подойти. Мне нужно, чтобы, отчаявшись во всех других способах, он попытался повлиять на нее при помощи магнетизма, замагнетизировать ее. А потом, когда он наконец начнет обнимать ее, как раз в этот момент войдет агент по покупке домов, и он, увидев агента, сделает вид, что он ловит мух за ее спиной. И все это будет безумно смешно… Вот вы увидите.
Через несколько минут пришла актриса, как мне показалось — опытная и хорошая. Чаплин начал с ней репетировать, и все получалось действительно безумно смешно. Он испытывал на ней силу магнетизма, таращил на нее глаза, говорил о провидении, о таинственных силах, которые должны их соединить, обнимал ее, делал вид, что ловил мух за ее спиной, прыгал вокруг нее, делал массу других смешных вещей.
Едва успев закончить репетицию с этой актрисой, он сразу же вызвал другую, тоже, на мой взгляд, хорошую и опытную, но несколько другого стиля поведения и внешности. Первая женщина, с которой он репетировал, была не столько большая, сколько самодовольная, плотная. А эта вторая, более худая, но зато высокая, возвышалась над ним как башня. И у Чаплина по отношению к ней сразу появились другие оттенки физического действия. Он стал примеряться к ее росту, по-другому тянуться к ней, по-другому ходить вокруг нее, по-другому обнимать ее. При этом, как я заметил, его не только не утомляла необходимость поисков нового рисунка роли. Наоборот, эта необходимость радовала его и даже веселила. Все эти новые примерки к роли, совершенно очевидно, доставляли ему удовольствие, такое естественное, словно он и не представлял себе вообще, как все это может быть иначе, без этих упорных и в то же время быстрых и веселых поисков и находок.
У меня возникло ощущение, что, работая с актером, он как бы чувствует своего партнера всеми фибрами своего тела. Он не существовал в пространстве отдельно от партнера. В его сознании и даже физическом ощущении оба тела — его тело и тело партнера — находились в пространстве не сами по себе, а как бы в постоянной физической зависимости друг от друга, и поэтому по отношению к одному партнеру каждое движение и каждый поворот тела у Чаплина были другими, чем те же самые по общему рисунку движения и повороты, сделанные по отношению к другому партнеру.
Начав в половине десятого утра, Чаплин кончил репетицию в пять часов вечера. И мы расстались до завтра.
На следующий день ему предстояло репетировать с девушкой, с Ренэ, которую он в роли Верду приводит к себе в дом, чтобы попробовать на ней действие яда. Но вместо этого в конце концов отпускает ее. Предшествующий этому разговор между Верду и девушкой Чаплин и репетировал всю первую половину следующего дня.
На этой второй репетиции я почувствовал всю меру его тщательности, дотошности.
Теперь это была уже не просто проба актеров. Вчера он только примерялся к актерам, решая, кого из них взять, кого не взять на роль. А с этой девушкой, исполнявшей роль Ренэ, он работал уже не первый день. Это была очередная репетиция, и тот крошечный кусок, который они готовили, он повторил при мне восемнадцать или девятнадцать раз. На мой взгляд, девушка была очень мила, и у нее все с самого начала очень хорошо получалось. Но Чаплин был не удовлетворен этим и после каждого нового повторения без всякого раздражения, с улыбкой, спокойно говорил:
— А теперь еще раз!
Наконец, когда они прорепетировали этот кусок в последний раз и он отпустил актрису, закончив на сегодняшний день все репетиции, я в ответ на его вопрос сказал ему, что, по-моему, актриса в этой роли очень хороша.
— Ах, нет, — сказал он, — у меня с ней еще ровно ничего не получается. Я уже семь месяцев с ней бьюсь, и пока все равно ничего не выходит.
Потом вздохнул и вдруг серьезно и впервые за все время устало спросил:
— Ну, что ж вам еще показать?
Я сказал, что хотел бы посмотреть один из его фильмов.
— Какой? «Диктатора»? Вы его, наверное, не видели.
Я ответил, что как раз «Диктатора» я видел.
— Где вы видели? — заинтересовался Чаплин.
Я рассказал ему, где я видел «Диктатора». Это было еще во время войны, в сорок четвертом году, в Южной Италии. Муссолини уже был свергнут, город, в котором я видел фильм, был освобожден союзниками, и итальянцы впервые видели своего бывшего диктатора в карикатурном виде.
Я рассказал Чаплину, какие не поддававшиеся описанию сцены происходили на моих глазах в кинотеатре. Как итальянцы стучали ногами, топали, свистели, заливались слезами от хохота.
Он, посмеиваясь, выслушал меня, потом спросил:
— Так что же вам тогда показать?
— Если можно, я хотел бы посмотреть то, что вы сами больше всего любите.
— Лучшая картина, которую я сделал, это «Пилигрим», — сказал Чаплин. Потом задумался и добавил: — И потом я покажу вам еще «Чаплин на фронте» — это антивоенная картина, и еще я очень люблю картину «Пьяница». Придете завтра на студию, и я вам покажу эти картины.
На следующий день Чаплин встретил меня в небольшом просмотровом зале на студии.
— Ну что ж, давайте смотреть.
Он распорядился, в какой последовательности показывать картины, посидел несколько минут рядом со мной и ушел работать — репетировать.
Когда я, через четыре часа, посмотрел все, что он распорядился мне показать, в том числе блистательные ленты «Пилигрим» и «Чаплин на фронте», — Чаплин, закончив работу, уже уехал со студии. И в этот день мы уже не увиделись.
На следующий день я поехал к нему обедать.
Чаплин жил, по голливудским представлениям, недалеко, всего в пяти-шести милях от гостиницы, где я остановился.
Его дом стоял на небольшой возвышенности, окруженный парком. Мы поднялись вверх по покатой дороге, остановились у подъезда.
Уже не помню сейчас, каким был этот дом. Это как-то не осталось в памяти. Осталось в памяти только то, что Чаплин заядлый теннисист и пловец и что рядом с домом бассейн для плавания и теннисная площадка. От других я слышал, что Чаплин играл в теннис великолепно, а сам он рассказывал мне, что с ним играет Тильден, бывший чемпион мира по теннису. Упомянув об этом, он сказал, что, хотя Тильден уже давно не выступает в соревнованиях, у него и теперь нет ни одного лишнего грамма жира. Мне хорошо запомнилось, каким тоном профессионального уважения сказал об этом Чаплин. Мне даже показалось, что это было сказано не только о Тильдене, но и о себе самом, о том, что человек, продолжающий работать, не имеет права ни на один лишний грамм жира.
Было совершенно очевидно, что Чаплин соблюдает это правило. Он был в то время сухощав, изящен, элегантен, пропорционален и необычайно точен и ловок в движениях.
Встретив нас, он провел нас в комнаты и познакомил с женой, молодой красивой женщиной, на вид двадцати одного — двадцати двух лет. Чаплин женился на ней всего два года назад. И за это время у нее родился не то один, не то два ребенка. Во всяком случае, мне запомнилось, что, когда Чаплин привел нас в комнату, он сказал, что жена задерживается, придет через несколько минут, потому что укачивает ребенка.
На обеде у Чаплина кроме нас был один из известных тогда американских театральных деятелей и немецкий эмигрант, антифашист, знаменитый композитор Ганс Эйслер, больше всего тогда известный нам по песням Эрнста Буша.
Мы много разговаривали и перед обедом, и за обедом, и после него, но мне показалось, что Чаплин более оживлен и весел и вообще чувствует себя гораздо больше в своей тарелке, когда он работает, чем когда отдыхает. Он и дома оставался оживленным и веселым, но все это было как-то не так непринужденно и естественно, как там, на студии. Словно что-то неуловимое было утрачено при переодевании из того латаного серенького старенького студийного пиджачка в черный вечерний костюм, в котором он принимал нас.
За обедом и в особенности после обеда Чаплин много говорил о том, какие тяжелые настроения возникли в Америке после войны, в каком трудном психологическом состоянии оказались люди, как послевоенный пессимизм и разочарование все сильнее проявляют себя в искусстве, и, рассказывая об этом, несколько раз возвращался все к одному и тому же вопросу: нет ли у нас, в Советском Союзе, такого же упадка духа, такого же ощущения растерянности и бесперспективности и вообще, и в особенности в искусстве.
Разговор на эту тему был долгим, и мне трудно вспомнить его во всей последовательности. Но зато я хорошо помню чувство, которое у меня отчетливо возникло тогда, во время этого разговора: Чаплина очень беспокоило то состояние растерянности, которое все больше овладевало после войны американским искусством. И очень волновало — нет ли чего-то похожего и у нас? И ему очень хотелось, чтобы этого у нас не было.
В разговоре участвовал и Ганс Эйслер. Он произвел на меня впечатление большого умницы и глубокого человека. Ему, как и Чаплину, — это чувствовалось по его вопросам — хотелось укрепить себя в ощущении, что пессимизм и бесперспективность, с которыми они сталкиваются вокруг себя в Америке, не есть явление всеобщее.
Разговоры, впрочем, шли не только на эту тему. Еще до обеда Чаплин, узнав, что я недавно был в Японии, сам стал вспоминать о своей поездке туда, о японских театрах и начал меня расспрашивать, какие театры сгорели во время бомбежек и пожаров и какие остались целы. Он вспоминал и театр «Но», и театр «Кабуки», но, пожалуй, больше всего говорил о кукольном театре в Осаке, спрашивал, как мне понравился этот театр, и, услышав, что понравился, тут же стал показывать движения японских актеров, работающих с куклами, позы, условно выражающие грусть, любовь, страдание, ревность, тоску, которые они придают куклам. Показав несколько приемов работы японских актеров с куклами, он вернулся к разговору о театре «Но» и «Кабуки» и с невероятной точностью стал показывать, как движутся на сцене актеры старинного театра «Но». При этом он не повторял и не копировал их движений, а изображал их короткими зрительными намеками, изображал, как двигается актер в театре «Но», как он страдает, как он говорит. Интонации голосов Чаплин повторял только в одну десятую силы, тоже лишь намеками, но такими точными, что для меня, видевшего и слышавшего все это совсем недавно, а не десять лет назад, как Чаплин, заново возникала вся атмосфера театра «Но».
Потом он стал показывать, как движутся по сцене актеры «Кабуки», совершенно по-другому, чем движутся актеры «Но». Он показывал это, как бы делая на бумаге несколько штрихов карандашом. Но за этими штрихами сразу угадывалось целое.
От театра «Кабуки» он перешел к разговору о японской гравюре, показал гравюры, привезенные им с собой из Японии, и жене с трудом удалось оторвать его, чтобы идти к столу.
После того как мы съели какой-то бульон, Чаплин спросил:
— Как вы думаете, что у нас будет на второе? Что бы вы хотели съесть на второе?
Надо сказать, что на всех, или почти на всех, американских парадных обедах принято подавать на второе курицу. Я уже третий месяц ездил по Америке и почти каждый день бывал на обедах или ужинах по разным официальным и полуофициальным поводам, и каждый день, днем или вечером или и днем и вечером, ел на второе жареную курицу. Никак не предполагая дальнейшего, я ответил Чаплину, что, учитывая американскую традицию официальных обедов, я буду рад съесть на второе что угодно, кроме курицы.
После маленькой паузы Чаплин сказал без улыбки, мрачным тоном:
— К сожалению, я не оригинал. У меня на второе будет курица.
Все расхохотались и одолели эту очередную курицу.
После того как с курицей было покончено, Чаплин рассказал историю о двух маленьких птичках, о том, как молодой аристократический воробей поселился в Нью-Йорке на одной из самых аристократических крыш и как однажды, полетев на окраину и познакомившись там с молоденькой воробьихой, очень хорошенькой, но, по его представлениям, несколько вульгарной, сгоряча, от избытка чувств, пригласил ее побывать на его аристократической крыше. На следующий вечер, когда золотая воробьиная молодежь собралась и болтала на аристократической крыше, вдруг прилетела эта хорошенькая, молодая, но вульгарная воробьиха, о которой он уже успел забыть.
Чаплин очень смешно показывал, перебирая по столу пальцами, как воробьиха летела с крыши на крышу, как она спешила и как наконец прилетела. А воробей, когда она прилетела, оглянулся на своих друзей и сделал вид, что не заметил ее. И как бедная воробьиха была расстроена и полетела обратно, с крыши на крышу, из аристократического района к себе на окраину.
Казалось бы, в этом маленьком рассказе не было ничего особенного, но Чаплин с таким удивительным юмором и точностью изображал, как воробьиха весело и быстро перелетала с крыши на крышу, стремясь к воробью, и как печально и медленно, тоже с крыши на крышу, летела обратно, и с каким презрительным выражением своего воробьиного лица он отвернулся от нее, — что все это воспринималось как смешная и печальная, уже не воробьиная, а человеческая история.
В следующий раз я увидел Чаплина на приеме в нашем консульстве. Как мне сказали, Чаплин редко бывал на приемах, но в данном случае он пришел демонстративно, проявив этим свои симпатии к Советскому Союзу.
Было много народу, одни сменяли других, приезжали и уезжали, но Чаплин, приехав, демонстративно пробыл весь этот вечер до самого конца.
Мне уже было пора уезжать из Лос-Анджелеса, и у меня в последние дни возникло чувство душевной необходимости как-то ответить на то гостеприимство, которое мне, человеку, приехавшему из Советского Союза, оказали в Голливуде самые разные люди.
Меня принимали как своего гостя известный голливудский режиссер Майльстон, популярный в те времена киноактер Гарфильд, одна из самых крупных американских актрис Бет Девис и, наконец, Чаплин.
Я стал раздумывать над тем, как же мне быть, как устроить им всем ответный дружеский прием.
В нескольких десятках миль от Голливуда на одном из причалов в это время стоял наш, пришедший сюда из Владивостока, танкер. Представитель торгпредства надоумил меня принять своих гостей на танкере, на советском корабле, который всегда и всюду остается частицей нашей земли.
Я посоветовался с консулом, а консул, в свою очередь, посоветовал мне поговорить с капитаном танкера.
Я позвонил по телефону и пригласил капитана позавтракать со мной.
На следующий день он приехал. Это был сорокапятилетний моряк, неулыбчивый, сдержанный и неплохо говоривший по-английски.
Я кратко изложил ему свою просьбу и поначалу не нашел сочувствия. Его смущало, что это будет происходить на его танкере, потому что танкер во время войны беспрерывно совершал рейсы между Америкой и Советским Союзом, а после войны так и не ремонтировался. Давно пора было отремонтировать что-то в машинном отделении, да и внешний вид танкера не устраивал капитана. При этом он почему-то особенно напирал на поручни, которые облезли, и их заново надо было обивать медью.
Я ответил ему, что едва ли Чаплин будет надевать белые лайковые перчатки и, подобно придире адмиралу у Станюковича, проверять при помощи этих перчаток, насколько идеально чисты поручни в машинном отделении.
В конце концов я все-таки уговорил капитана, и он, взяв у меня деньги на предстоявшие расходы, уехал к себе на танкер готовиться к приему. Мы подсчитали, сколько гостей можно разместить у него в кают-компании, и я решил пригласить восемь человек: Бет Девис с мужем и Чаплина, Майльстона и Гарфильда с женами.
Когда я стал приглашать моих американских друзей, оказалось, что Бет Девис нездорова и не сможет приехать, а все остальные с охотой согласились. Идея побывать на советском пароходе всем понравилась.
Чаплин сразу сказал, что непременно будет, но спросил, в котором все это произойдет часу. Я ответил, что послезавтра в семь часов, потому что на следующий день я должен улетать.
— В семь немножко поздно, — сказал Чаплин. — Если можно, я бы попросил вас устроить это часа в четыре. Потому что к десяти мне нужно вернуться обратно в Голливуд. На следующий день у меня начинаются первые съемки фильма, и перед этим у меня правило — во-первых, как следует выспаться, а во-вторых, не пить. Так что прошу меня не уговаривать, — рассмеялся он.
В день, назначенный для этого обеда, у меня после завтрака была встреча с голливудскими сценаристами. В программе встречи были вопросы и ответы, главным образом на тему о положении драматургов, сценаристов, режиссеров и актеров в советском кино и театре.
Мы заранее договорились с Чаплином, что я к нему заеду после того, как кончится встреча, но, к моему удивлению, он сам появился на этой встрече с самого начала. Когда она кончилась, мы вышли вместе с ним.
— Поехали, — сказал он. — Только не уговаривайте меня пить, ладно?
Судя по этой повторной просьбе, я понял, что Чаплину уже приходилось иметь дело с русским гостеприимством, и я клятвенно обещал ему, что не буду уговаривать его пить.
Мы заехали за его женой, он сел за руль в свой старомодный «фордик» и предложил нам с переводчиком тоже пересесть к нему из своей машины, чтобы было веселее ехать.
Довольно быстро, за час с небольшим, мы сделали пятьдесят или шестьдесят миль до стоянки нашего танкера и остановились на причале.
У трапа нас встретили капитан танкера и еще один советский капитан со стоявшего тут же поодаль парохода. Почти одновременно с нами приехали Майльстон и Гарфильд с женами.
За столом в кают-компании кроме шести приглашенных американцев были мы с переводчиком, наш консул, работник торгпредства — «красный купец», как он сам себя отрекомендовал, капитан танкера, его третий помощник — молодая женщина — и тот капитан с другого нашего парохода, который встретил нас у трапа, старый морской волк, человек лет под шестьдесят, прекрасно говоривший по-английски.
Когда капитан танкера два дня назад спрашивал меня, как лучше организовать этот прием, я сказал ему, что нужно просто-напросто приготовить хороший русский обед и на первое обязательно сварить борщ.
— А что будем пить? — спросил капитан. — Водка у нас кончилась, водки нет.
Водки не было и у меня, оставалось только четыре — пять бутылок из-под нее. Тогда я решил, что бог меня простит за этот невинный подлог, и попросил капитана, взяв с собой эти бутылки, налить в них продававшуюся в Лос-Анджелесе американскую «русскую водку» с пышными наклейками на бутылках: «Смирнов, поставщик двора его величества». Я был убежден, что если настоять эту водку на перце и лимонных корках и перелить ее в бутылку из-под московской водки, то не только американцы, но и мы сами, грешные, не разберем, какая это водка — американская или русская.
— А что приготовить на второе? — спросил капитан.
И тут в наш разговор вмешался Котэн, который, прожив в тридцатые годы несколько лет в Советском Союзе, всем на свете кушаньям предпочитал бефстроганов.
— Приготовьте бефстроганов, — сказал Котэн. — Самое вкусное, что я ел в Советском Союзе, — это бефстроганов!
На том и порешили.
Когда мы явились на танкер, моряки на трапе и на палубе с интересом поглядывали на Чаплина и сердечно приветствовали его.
Мы прошли в кают-компанию и сели за стол.
Я держал слово и не уговаривал Чаплина пить. Но он сам, едва попав на танкер, сразу же забыл о собственных просьбах и без малейших настояний с моей стороны опрокинул сначала одну рюмку водки, потом другую, потом третью.
На танкере служила буфетчицей тетя Маша, уроженка Владивостока, уже немолодая женщина, лет шестидесяти. До войны она была домохозяйкой, но в 1943 году ее сын — моряк — погиб во время перехода из Владивостока в Америку на корабле, торпедированном, очевидно, японцами. И она, оставшись одна, пошла работать буфетчицей на этот танкер и уже три года ходила на нем в плавание. Это была женщина высокая, полная, со следами былой красоты на спокойном, приветливом лице. Очень приветливая и заботливая, она в то же время обладала огромным прирожденным чувством собственного достоинства. Трогательно заботясь о Чаплине, она принимала его на корабле, как хозяйка у себя дома.
— Милости просим, — говорила она ему. — Милости просим, покушайте хорошенько. Может, еще тарелочку борща вам налить? Нравится вам борщ?
— Борщ очень хороший, — подтверждал Чаплин.
— Так я вам налью еще тарелочку.
Он начал отказываться. Это ее огорчило.
— Вы скажите ему, объясните, — обратилась она к Котэну, — что другой раз он когда еще такого борща попробует.
После этого объяснения Чаплин съел еще тарелочку борща.
Принимала она его так приветливо и радушно не потому, что он был знаменитый человек, важный гость, а потому, что видела две его картины — «Новые времена» и «Огни большого города» — и он в обеих этих картинах ей очень понравился как артист.
— Вы ему переведите, что он очень хороший артист, — говорила она Котэну. — Я его картины по нескольку раз смотрела. Они мне очень нравятся.
Все это она говорила с сознанием важности того, что ей понравились картины Чаплина, и с уверенностью, что ему это должно быть приятно.
Ему и было приятно. Наверное, он достаточно привык к постоянно поднимавшейся вокруг него суете, для того чтобы ему по контрасту понравилась та естественная независимость и то ощущение равенства, которое он чувствовал в этой старой буфетчице.
Еще когда мы ехали в машине, Чаплин деликатно, но достаточно твердо попросил меня, чтобы не было ничего официального, чтобы его принимали без всяких, как он выразился, «манифестаций». Потому что «манифестации» испортят ему все настроение.
Никаких «манифестаций», разумеется, не было, но, когда мы уже пообедали и на стол подали кофе, тетя Маша подсела на диванчик рядом с Чаплином и протянула ему маленький букетик цветов.
— Переведите, — сказала она, — что я дарю ему эти цветы за то, что он хороший артист.
Чаплин, неожиданно для меня, вдруг растрогался, и, когда брал этот букетик, у него на глазах показались даже слезы, а тетя Маша, увидев слезы у него на глазах, тоже растрогалась и прослезилась.
Во всем этом, наверно, сыграло свою роль и то, что еще в середине обеда, когда тетя Маша выходила из кают-компании, капитан рассказал Чаплину историю того, как она попала на их танкер.
За столом мы просидели неожиданно долго и довольно много выпили. В одиннадцатом часу, когда было покончено и с обедом, и с кофе, капитан позвал баяниста, баянист присел с нами за стол, заиграл на баяне, и мы начали петь песни, и новые — советские, и старые русские. У нескольких человек оказались хорошие голоса, и мы пели песни одну за другой. Потом, в паузе, Чаплин вдруг сам затянул по-русски «Гай-да, тройка, снег пушистый…». Он спел всю песню, хотя и не помнил всего текста, а баянист тихонько подыгрывал ему.
В заключение на стол поставили шампанское, и мы собирались завершить им затянувшийся ужин, как вдруг, неожиданно для всех нас, дверь в кают-компанию настежь открылась и на пороге появились две здоровенные фигуры в плащах, руки в карманах, на груди — камеры с блицами, а карманы оттопырены — видимо, набиты запасными лампочками.
Сомнений не могло быть — неизвестно как, но на корабль прорвались корреспонденты. Войдя, они сразу же повели себя довольно развязно; я от неожиданности еще не нашелся, как с ними быть, но Чаплин как на пружине вскочил из-за стола и спросил:
— Вы что? От Херста? Из херстовских газет?
Они ответили, что да, они из херстовских газет.
— Тогда убирайтесь к черту! Сейчас же убирайтесь отсюда к черту! — крикнул Чаплин и снова сел за стол.
Надо сказать, что как раз в это время в херстовских газетах, занимавших доминирующее положение на всем Западном побережье Америки, был очередной прилив травли Чаплина. Его пытались на этот раз привлечь к суду за какое-то мнимое прелюбодеяние с какой-то мифической девицей и, мало того, старались сделать из него отца какого-то неизвестного ему ребенка.
Травля Чаплина шла уже беспрерывно четыре года, она началась сразу же после того, как он в сорок втором году на огромном массовом митинге резко выступил за открытие второго фронта, и с тех пор не прекращалась.
Но так как газеты не могут всегда писать с одинаковым рвением об одном и том же, то в этой травле были свои приливы и отливы, и как раз сейчас был новый прилив.
Чаплин, обругав корреспондентов, сел и выжидательно посмотрел на меня. Я поднялся и сказал корреспондентам, что я хозяин этого обеда, что мне известен весь список приглашенных и, так как они оба не значатся в этом списке, я прошу их оставить кают-компанию и вообще корабль.
Во время поездки по Америке у меня бывали разные разговоры с разными людьми — бывали и откровенные, бывали достаточно дипломатические. Многое в этих последних разговорах зависело не только от моих собственных чувств, но и от обстоятельств, в которых я порой оказывался. Бывали случаи, когда мой прогрессивно настроенный переводчик Котэн сетовал на то, что я разговариваю с тем или иным джентльменом не с той прямотой и резкостью, которой ему от меня хотелось.
Но на этот раз возможность перевести мои слова доставила Котэну истинное удовольствие, и он отчеканил по-английски все сказанное мной с явной радостью на лице и, быть может, даже в еще более резкой форме, чем это было сказано по-русски.
Корреспондентам ничего не оставалось, как повернуться и выйти.
Капитан попенял дежурному помощнику за то, что он пустил на танкер корреспондентов, и приказал больше никого не пускать.
Наступила пауза.
Я спросил:
— Что будем теперь делать?
Спросил, потому что мне показалось, что никому не хотелось уходить.
— Может быть, показать вам нашу кинокартину?
Чаплин с удовольствием согласился.
Капитан вытащил листочек со списком картин, которые были на танкере, и я выбрал «Медведя» и «Выборгскую сторону».
— Если вы не устали, то, может, посмотрим две картины? — сказал я.
— Давайте две, — сказал Чаплин. — Очень хорошо. Я давно не видел советских картин.
Пока в кают-компании наводили порядок, вешали экран, мы все вышли на палубу. Была холодная звездная ночь. Баянист прислонился к поручням и заиграл русскую.
Чаплин неожиданно для всех опустился и легко и весело сделал несколько колен вприсядку.
Мы вернулись вниз, в кают-компанию, и сначала посмотрели «Медведя», а после него «Выборгскую сторону».
«Медведь» Чаплину не особенно понравился, а «Выборгскую сторону» он смотрел с большим интересом, всю, от начала до конца.
Когда кончилось кино, мы выпили еще по чашке кофе и, веселые и довольные, поднялись на палубу, чтобы ехать обратно в Лос-Анджелес.
И тут произошло нечто совершенно неожиданное, во всяком случае для меня.
Черная ночь, высокий борт танкера, длинный и узкий, спущенный вдоль борта трап, слабые, скупые фонари на причале и там, внизу, под этими фонарями, человек двенадцать или пятнадцать в пальто и плащах, шляпы надвинуты на лоб, а спереди, под плащами, что-то топорщится.
Я не сразу сообразил, что это спрятанные под плащи фотоаппараты. Мы стали цепочкой спускаться по трапу, и едва начали спускаться, как все эти пятнадцать человек кинулись к трапу, распахнули плащи, пальто и начали один за другим щелкать аппаратами. Одна вспышка, другая, третья… десятая.
Мы спустились при этих вспышках по трапу, Чаплин остановился и, глядя на толпу корреспондентов, стоявших между ним и его «фордиком», резко, обеими руками распахнул на груди пальто.
— Снимайте, снимайте! Ну, что ж вы? Снимайте! Вы, американское гестапо!
И его жест, и выражение его голоса были такими, словно он говорил: «Стреляйте в меня…»
И они «стреляли», снимали его один за другим, один за другим, — новые и новые вспышки, до последнего момента, пока он не сел с женой в машину.
Я сел вместе с переводчиком в свою машину, и мы поехали сзади, вслед за Чаплином.
На следующее утро я проснулся в гостинице у себя в номере от стука в дверь. Вошел Котэн, прижимая к животу целый ворох газет. Все это были херстовские газеты, в Лос-Анджелесе, во всяком случае, в то время других не выходило. И во всех них первая полоса состояла из сплошных фотографий Чаплина, его жены, трапа со спускающимися по нему людьми. А над фотографиями были огромные заголовки:
«Кинозвезды на красном корабле…»
Котэн стал переводить мне тексты, а я начал рассматривать фотографии. И странная вещь: ни на одной из них не нашел себя, хотя я спускался с танкера вслед за Чаплином и одновременно с ним стоял на трапе, хотя и внизу, там на причале, я стоял недалеко от него. Но моей персоны ни на одной фотографии не было.
Не фигурировала моя фамилия и в подписях. В тексте было написано, что вчера вечером в таком-то пункте побережья на советском красном пароходе была устроена оргия, на которую в сопровождении русского консула приехали известный своей левизной знаменитый Чаплин и Майльстон с женами, которых читатели могут увидеть на этих снимках: вот они стоят рядом с русским консулом на фоне красного парохода.
Оргия, которая была устроена на красном корабле, длилась до четырех часов ночи…
Дальше в газетах с разными вариациями сообщалось, что оргия была безумной по размаху, что кинозвезд поили десятками бутылок шампанского, которое перед ними расставляли на столах красные матросы, в то время как на экране шел советский революционный фильм «Медведь».
Так выглядел на страницах херстовских газет наш, правда затянувшийся, но довольно скромный, ужин с борщом и бефстрогановом.
Я в первую минуту не понял, почему я не оказался ни на одном из этих снимков и почему ни в одной из газет не была упомянута моя фамилия. Мне даже показалось это какой-то странной деликатностью. Но недоумение длилось недолго. В чем дело — было не так трудно догадаться.
Если бы дать на фотографиях рядом с Чаплином и меня — а о моем приезде в то время довольно много писали — и если б сообщить все так, как оно было, что советский писатель на борту советского парохода давал обед своим американским друзьям, и в их числе Чаплину, то по крайней мере три четверти сенсационности, и уж во всяком случае загадочности, безнадежно пропали бы. А вот написать, что Чаплин был на красном пароходе и что его принимал там советский консул, и снять его рядом именно с советским консулом — вот это была сенсация! Вот это было загадочно и подозрительно! Это могло стать дополнительной лептой в ту кампанию травли, которая велась против Чаплина в газетах.
Ночью мне надо было лететь в Нью-Йорк, а вечером перед этим Майльстон устроил у себя дома ужин, с которого я поехал прямо на аэродром.
На этом ужине был и Чаплин с женой.
Он был очень элегантен, одет во все черное, но показался мне в тот вечер более старым и усталым, чем обычно.
Когда мы, простившись с Майльстоном, вместе уходили оттуда, Чаплин повернулся ко мне и спросил:
— Как, читали сегодня газеты?
— Да, читал, — сказал я.
Накануне мы говорили с ним о возможности его поездки в СССР, и, может быть, под впечатлением того искреннего гостеприимства, которое ему оказали моряки и в особенности буфетчица тетя Маша, он сказал, что если поедет в СССР, то ему хотелось бы поехать не торопясь, на таком вот, как этот, торговом пароходе, пропутешествоэать на нем от Лос-Анджелеса до Владивостока, а потом поехать до Москвы по Великому сибирскому пути.
Тогда этот разговор оборвался, перешел на другие темы, но сейчас, прощаясь со мной, Чаплин вдруг вспомнил о нем.
— Если дело пойдет и дальше так, как сегодня с этими газетами, — мрачно сказал он, — то может оказаться, что я приеду к вам раньше, чем сам предполагаю. Есть люди, которые хотят довести дело до высылки меня отсюда, из этой страны.
Он пожал мне руку, первым сел в машину и уехал.
1968
О Назыме Хикмете
Биография этого человека обладает величественной простотой. Родился в начале нашего века в Турции и умер в начале шестидесятых годов нашего века в Москве. Из шестидесяти лет своей жизни больше сорока лет был поэтом и почти столько же был коммунистом. Полтора десятка лет просидел в турецкой тюрьме. Первую книгу стихов напечатал на турецком языке в Советском Союзе — это еще до тюрем, тюрьмы были потом. А в пятьдесят — после тюрем — бежал на лодке через Черное море в Советский Союз. В последние годы перед смертью объехал полмира, борясь за мир. Ненавидел фашизм, верил в торжество коммунизма. Любил свою Турцию. Любил Россию Ленина. Умер внезапно, быть может, даже не успев подумать о смерти и оставив после себя неумирающие книги.
Люди, знающие турецкий язык, на котором он писал свои стихи, говорят, что он был великим поэтом. Люди, не знающие турецкого языка и читавшие его стихи только в переводах на другие языки мира, говорят то же самое.
Его биография от начала и до конца рассказана в его стихах гораздо лучше, чем можем ее рассказать мы, люди, знавшие его. Его биография рассказана также и в его прозе, и в его пьесах, но в его стихах она рассказана несравненно прекраснее, потому что как прозаик он был талантлив, как драматург — блестящ, как поэт — велик.
В разных странах мира выходили и выходят антологии его поэзии и драматургии. В Советском Союзе готовится к изданию шеститомное собрание его сочинений на русском языке. И у меня есть предчувствие, что не за горами время, когда полное собрание сочинений одного из величайших поэтов двадцатого века выйдет и на его родном языке, в стране, где он родился и народ которой он гордо, нежно и преданно любил до последнего дня своей жизни.
К антологиям его пьес и стихов уже написано немало предисловий и послесловий, в которых подробно повествуется о его жизненном и творческом пути. О том же самом уже написаны и изданы диссертации и книги, и, конечно, они будут писаться и издаваться еще и еще, и было бы странно, если бы это было иначе. Но я сейчас не готов к тому, чтобы писать еще одну статью о творчестве Назыма Хикмета. Я просто хочу вспомнить, каким он был, и объяснить, почему я люблю его стихи.
Он был человеком высоким, красивым и сильным, рыжеволосым, с голубыми глазами, с узким ястребиным лицом. У него была легкая походка и быстрое рукопожатие. Он любил говорить без предисловий, переходя прямо к делу (так это было у него и в стихах). Он умел сердиться сквозь улыбку и улыбаться сквозь гнев (и это тоже было у него и в стихах). Он любил чувствовать себя как дома, когда приходил или приезжал к людям, и любил, чтобы люди, которые приходили или приезжали к нему, тоже чувствовали себя у него как дома — сразу, без предисловий. Он любил встать к огню сам и приготовить своими руками еду для друзей и любил, когда друзья то же самое делали для него.
Он любил запах хлеба, и запах мяса, и запах вина.
Он любил все это легко, мимоходом, одновременно и придавая, и не придавая этому значения. И он терпеть не мог запаха сытости и запаха благополучия, как только они становились главными запахами в чьем-нибудь доме. Но больше всего он ненавидел запах национализма. Как только он чувствовал в чьих-то словах малейший признак этого душка, его ноздри начинали хищно подрагивать и он бросался в бой, еще не перестав улыбаться. При нем нельзя было сказать плохо ни о турках, ни об армянах, ни о французах, ни о русских, ни о евреях — ни о ком.
Он был турком и безмерно любил свой народ, но при нем нельзя было наступить на ногу ни одной нации.
Он был убежденным коммунистом, но никогда не чванился этим в спорах с инакомыслящими — пожалуй, именно в силу своего глубокого убеждения, что коммунизм, в конце концов, — это будущее всего человечества.
Он любил всех детей, говорящих на всех языках, и все города построенные, и всю землю, вспаханную трудовыми руками человечества.
Он любил вслушиваться в стихи, произносимые на разных языках, и по выражению его подпертого ладонью, внимательно, с полузакрытыми глазами слушавшего лица было видно и то, как ему хочется понять непонятное, и как ему хочется, чтобы это непонятное было прекрасным.
Он был яростным спорщиком. Он спорил всегда и со всем, с чем он был не согласен. Он был готов спорить с любым человеком, потому что он никогда и ни на одного человека не смотрел свысока, никогда не считал, что тот или другой человек не стоит того, чтобы он, Хикмет, заводил с ним спор. Каждый человек был для него таким же человеком, как он сам. Он был готов любить каждого и сердиться на каждого.
Я никогда не видел у него скучающего выражения лица. Ему были интересны все люди, каждый по-своему. И даже когда человек говорил, по его мнению, очень скучно, Хикмет смотрел на этого человека с интересом:
— Смотрите, как скучно он говорит!
Ему было интересно, почему этот человек говорит так скучно. Откуда у этого человека появилась такая способность?
Обращаясь к людям, он чаще всего говорил: «Слушай, брат». На его русском языке с чудовищным турецким акцентом эти слова звучали просто великолепно. «Слушай, брат», — говорил он, обращаясь к человеку, которого знал сорок лет, с первого своего приезда в Советский Союз. «Слушай, брат», — говорил он студенту-филологу, впервые пришедшему к нему в дом. «Слушай, брат», — высунувшись из машины, обращался он к милиционеру, чтобы спросить у него дорогу.
Это было какое-то удивительное обращение, за которым стояла прекрасная уверенность, что все люди охотно сделают для него все, что они смогут, и что он в свою очередь постарается сделать все, что сможет, для любого из этих людей.
Что до меня, то я услышал эти слова впервые из его уст через пятнадцать минут после того, как пятнадцать лет назад, после бегства из Турции, он сошел с самолета на московскую землю. Пока к тому месту, где мы стояли, подруливал самолет, в котором летел Хикмет, каждый из нас молча думал о том, кого мы сейчас увидим. Полтора десятка лет в тюрьме, потом несколько месяцев под домашним арестом, потом отчаянный побег через море — как он будет выглядеть, этот вчерашний узник, который сейчас выйдет из открывающегося люка и спустится по лестнице на московскую землю?
По лестнице навстречу нам спускался высокий, красивый рыжеволосый человек. Ноги его ступали твердо и легко. Голова была чуть-чуть откинута назад, а голубые глаза полны любопытства. Достаточно было пяти минут, чтобы понять, что он приехал сюда не отдыхать, не пожинать лавры, не залечивать раны, он приехал жить, работать, спорить, драться. И только кончики пальцев, сжимающие насованные ему охапки цветов, чуть-чуть дрожали от усталости и волнения.
А еще через десять минут, уже в машине, я услышал его голос: «Послушай, брат».
— Послушай, брат, мы едем в гостиницу «Москва»? Да? Мы не поедем мимо такого старого кино «Унион»? Я хочу посмотреть на него, там было наше общежитие, когда я учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока.
Первое «Послушай, брат» было ласковое, вопросительное. А второе, еще через десять минут, было уже такое сердитое, словно он засучивает рукава.
— Послушай, брат, нельзя переводить стихи так, как ты говоришь. Стихи надо переводить точно. Мне совсем не важно, чтобы там были чужие красивые рифмы. Мне важно, чтобы в них был мой смысл.
Мы ехали с ним в машине через новую Москву, на которую он успевал жадно смотреть, в то же время продолжая ругаться. А ругался он не из-за того, что его перевели стихами, недостаточно хорошо звучавшими по-русски. Напротив, с точки зрения русского звучания стиха, перевод, из-за которого он ругался, был сделан превосходно. Но тот самый главный оттенок мысли, тот ее острый поворот, из-за которого он писал это стихотворение, — он-то и ушел в тень в этом блестящем, казалось бы, переводе.
И он ругался:
— Послушай, брат, очень хорошо, если ты говоришь, что получились очень хорошие русские стихи, я тебе верю, я очень рад. Но, пожалуйста, не надо, пожалуйста, пусть будет просто подстрочник прозой, но так, чтобы все поняли, что я хотел сказать.
Он ехал через Москву, в которой не был столько лет, глядел на нее жадными глазами и ругался из-за принципов стихотворного перевода. Он уже не чувствовал себя гостем. Он уже жил здесь, в Москве, жил, работал, спорил, считал себя своим — и был своим.
Через двенадцать лет после этого, однажды утром, он встал с постели, вышел из спальни, пересек столовую, прошел в переднюю, потянулся к ящику, чтобы взять утренние газеты, и умер. Умер прежде, чем упал. Так потом сказали врачи.
Удивительный человек умер. Остались только его стихи — тоже удивительные. Остались стихи, написанные в тюрьмах и на свободе. Остались удивительные поэмы, частично и до сих пор еще не разысканные, поэмы, в которых по многу тысяч строк, и удивительные маленькие стихи, похожие на короткий широкий вздох всей грудью. Остались «Письма к Таранта Бабу», удивительная любовная поэма, сквозь которую, как зарево далекого пожара, проступают кровавые пятна первой фашистской войны в Абиссинии. Осталась удивительная поэма «Зоя», написанная в турецкой тюрьме, о русской девушке, повешенной среди подмосковных снегов немецкими фашистами. Осталось одно из самых удивительных стихотворений Хикмета — его автобиография, написанная незадолго до смерти, полная жестокой математики лет и яростного желания жить как можно дольше. Остался целый мир его поэзии, которую всё переводят и переводят и еще будут переводить и переводить на все языки мира. Через эту поэзию прошло все, что прошло через жизнь самого Хикмета. Прошли женщины, которых он любил, и доктора, которые его лечили, и тюремщики, которые его стерегли. Прошли друзья, которым он верил до конца и которые до конца верили ему, и друзья, которые на каком-то повороте истории перестали быть его друзьями. Прошли враги, которых он ненавидел и презирал; и ничтожества, над подлостью которых он смеялся; и герои, перед которыми он преклонял голову; и соседи по камере, с которыми он делил табак и пищу.
Через его стихи четырьмя бурными десятилетиями прошел двадцатый век. Прошел то боком, то напролом. Прошел, пробуя человека, как металл, — и на изгиб, и на разрыв, и на сжатие. Век прошел через человека, а человек прошел через век. И остался сильным и веселым, добрым, человечным, открытым добру и нетерпимым к мерзости.
В этой поэзии все переплетено и перепутано, как в жизни. И, останавливаясь перед каждым из стихотворений и раздумывая над ним, трудно ответить самому себе, о чем оно. О любви? Да. О революции? Да. О том, что человек стареет и это невесело? Да. О том, что хорошо, когда горит огонь и можно смотреть в него? Да, и об этом. Здесь все переплетено и перепутано в том великолепном беспорядке, который называется душевной жизнью человека, смело и откровенно брошенной на бумагу, напечатанной, предъявленной на всеобщее обозрение.
Мы иногда употребляем выражение «поток сознания» в уничижительном смысле; особенно в тех случаях, когда имеем дело с имитацией этого понятия, когда и сознание чуть теплится, и поток превращается в мнимодвижущуюся, а в сущности, стоячую воду. Но когда сознание человека вбирает в себя все самое живое, противоборствующее, трагическое и героическое, чем так опасно богат наш трудный и великолепный век, и когда поток этого сознания — действительно поток, в кровь режущийся грудью о самые острые камни века, — тогда этот поток сознания воспринимается как нечто естественное, как и исповедь и проповедь, существующие друг в друге, неразъятые и неразнимаемые.
Именно такой я ощущаю поэзию Хикмета. В ней есть все, чем живет и дышит человек. Она состоит из капель, но она — поток. И этот поток, при всех его водоворотах и подводных камнях, знает, куда он несется. Стихотворная исповедь и проповедь Хикмета — это исповедь и проповедь человека сложного, мятущегося, ошибающегося, любящего, ненавидящего, но при этом знающего, куда и зачем он идет.
А глаза у человека, написавшего все эти стихи, были голубые, а волосы — рыжие, а походка — легкая. И за день до смерти он яростно спорил о том, какой будет жизнь через двадцать лет. И умер, протягивая руку к утренним газетам.
1964
Об Иване Алексеевиче Бунине
Эти записи я, к сожалению, сделал лишь много лет спустя после встреч с Иваном Алексеевичем Буниным. Мне кажется, что я не забыл ничего существенного, не забыл и характера этих разговоров с Буниным, то есть запомнил не только что он говорил, но и как он говорил. Однако, воспроизводя в некоторых местах своих записей прямую речь Бунина, я не хочу и не могу настаивать на строгой документальности этого воспроизведения, на сохранении всех особенностей подлинной стилистики бунинской разговорной речи. Я лишь стремлюсь добросовестно воспроизвести слова Бунина такими, какими они спустя много лет сохранились в моей памяти. А память, даже хорошая, — инструмент недостаточно совершенный.
Я виделся с Буниным пять или шесть раз в Париже летом сорок шестого года. Как раз в это время происходило принятие советского гражданства многими бывшими эмигрантами, в особенности теми, кто так или иначе участвовал в движении Сопротивления или занимал во время войны явно выраженные антинемецкие позиции.
Я выступал вместе с нашим тогдашним послом во Франции А. Е. Богомоловым на вечере в большом парижском зале, уже не помню, как он назывался. В зале собралось тысячи полторы человек из русской колонии в Париже. Часть собравшихся уже приняла советское гражданство, многие думали об этом.
После доклада А. Е. Богомолова, говорившего о нашей победе и о возможностях для возвращения на родину, открывшихся перед присутствующими, я прочел «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» и некоторые другие военные стихи 1941–1942 годов. Два или три из прочитанных мною стихотворений взволновали зал, и меня долго не отпускали. А когда все кончилось, кто-то из руководителей Союза советских патриотов подвел меня к сидевшим в первых рядах Бунину и Тэффи и познакомил меня с ними.
Тэффи была еще очень моложавая женщина, ей никак нельзя было дать ее семидесяти лет. Со мною разговаривал человек очень живого, я бы сказал, даже озорного нрава, с какими-то удивительно современными повадками. У меня и тогда, и позже — я потом еще несколько раз встречался с Тэффи — складывалось из этих встреч, может быть и ошибочное, впечатление, что если бы Тэффи тогда вернулась домой, то она почувствовала бы себя как рыба в воде в московской не столько писательской, сколько актерской среде.
Бунин и при первой, и при последующих встречах с ним вызвал у меня совсем иные ощущения. Он казался мне человеком другой эпохи и другого времени, человеком, которому, чтобы вернуться домой, надо необычайно многое преодолеть в себе, — словом, человеком, которому будет у нас очень трудно. В моем ощущении он был человеком глубоко и последовательно антидемократичным по всем своим повадкам. Это не значило, что он в принципе не мог в чем-то сочувствовать нам, своим советским соотечественникам, или не мог любить всех нас, в общем и целом, как русский народ. Но я был уверен, что при встрече с родиной конкретные современные представители этого русского народа оказались бы для него чем-то непривычным и раздражающим. Это был человек, не только внутренне не принявший никаких перемен, совершенных в России Октябрьской революцией, но и в душе все еще никак не соглашавшийся с самой возможностью таких перемен, все еще не привыкший к ним как к историческому факту. Он как бы закостенел в своем прежнем ощущении людей, жизни, быта, в представлениях о том, как эти люди должны относиться к нему и как он должен относиться к ним, какими они могут быть и какими быть не имеют права…
Внешне Бунин был еще крепкий, худощавый, совершенно седой, чуть-чуть чопорно одетый старик. Гордая посадка головы, седина, суховатость, подтянутость, жесткость и острота движений, с некоторой даже подчеркнутостью всего этого.
Он был как-то сдержанно — приветлив. И очень сдержан, и очень приветлив в одно и то же время.
Он поблагодарил меня за чтение стихов, сказал какие-то хорошие слова, спросил, долго ли еще пробуду в Париже, и заметил, что хорошо бы еще раз повидаться. Я, в свою очередь, сказал, что был бы очень рад вновь увидеть его. На этом мы распрощались.
Что я чувствовал, когда впервые подходил к Бунину? Я со школы знал «Господина из Сан-Франциско» и до войны читал все вещи Бунина, которые были у нас изданы. В 1944 году, когда мы вошли в Белград, я познакомился там с бывшим министром просвещения врангелевского правительства Малининым, служившим хранителем библиотеки эмигрантского Русского дома в Белграде. Этот старик, категорически не пожелавший уходить с немцами, много рассказывал мне о резком расколе эмиграции на тех, кто пошел служить немцам, и на тех, кто считал это несовместимым со своей честью. Мы ходили с ним по библиотеке, и он, узнав, что я люблю Бунина, дал мне дубликаты почти всех вышедших за границей бунинских книг. Так в конце войны я прочел и «Жизнь Арсеньева», и «Лику», и множество неизвестных мне раньше рассказов Бунина. Прочел и его «Окаянные дни». При чтении этой книги записок о Гражданской войне было тяжелое чувство: словно под тобой расступается земля и ты рушишься из большой литературы в трясину мелочной озлобленности, зависти, брезгливости и упрямого до слепоты непонимания самых простых вещей.
Когда я приехал в Париж, я понаслышке уже знал про абсолютно безукоризненное поведение Бунина в годы немецкой оккупации, слышал, что он категорически отказался хотя бы палец о палец ударить для немцев. Для меня, только что пережившего войну, это было главным оселком в моем отношении к людям.
Я относился к Бунину как к очень хорошему писателю и как к человеку, занявшему во время войны достойную патриотическую позицию. Я уважал его за это, и это уважение зачеркивало для меня некоторые неприемлемые страницы в его прошлом. Словом, мне хотелось, чтобы Бунин вернулся домой.
Но когда я говорю «вернулся», надо сказать всю правду — при встречах с Буниным, чем дальше, тем больше, у меня росло ощущение, что возвращение будет тягостно для него. Хорошо, если он возьмет советское гражданство, хорошо, если он закрепится на тех максимально близких к нам позициях, на которых он был в то лето, но настаивать на том, чтобы он непременно ехал домой, может быть, не следует: он слишком многого у нас не поймет, не примет, не ощутит себя как дома.
Перед моими последующими встречами с Буниным наш посол говорил мне, что было бы хорошо как-то душевно подтолкнуть Бунина к мысли о возможности возвращения, говорил о том, что Бунин живет не в безвоздушном пространстве и есть силы, которые действуют на него в обратном направлении.
Я с охотой взял на себя это неофициальное поручение попробовать повлиять на Бунина. Не собираясь с места в карьер приниматься за уговоры — брать паспорт и ехать, — я видел свою задачу в том, чтобы рассказать Бунину все, что ему будет интересно: о войне и о людях во время войны, дать ему представление о том, что мы пережили за последние годы, и всем этим душевно приблизить его к нам.
Не помню уже, в тот же самый вечер, когда я познакомился с Буниным, или на следующий вечер мы зашли в кафе и вдруг наткнулись на уже сидевших там Бунина и Тэффи.
Мы довольно долго просидели вместе в кафе, потом Тэффи ушла первой, а я, прощаясь, пригласил Бунина пообедать.
Он спросил где и, улыбнувшись, добавил: здесь разные рестораны по разным возможностям. Я сказал: все равно где, пойдем туда, где лучше кормят.
— Ну что ж, раз так — в «Лаперуз», — как мне показалось, с некоторым недоверием к моим возможностям сказал он.
После войны во Франции вышли сразу две мои книги, и у меня были деньги. Через два дня мы обедали с Буниным на набережной Сены в этом выбранном им «Лаперузе», обедали не спеша, несколько часов, и разговаривали.
Не знаю, то ли Бунин почувствовал, что мне хочется подтолкнуть его к возвращению на родину, то ли сам он тогда неотступно думал об этом, во всяком случае, где-то посредине обеда, который начался малосущественным разговором, Бунин вдруг заговорил о своем возвращении.
Допускаю, что он ждал, что я сам заговорю на эту тему, и хотел предупредить меня.
Заговорив о возвращении, он сказал, что, конечно, очень хочется поехать, посмотреть, побывать в знакомых местах, но его смущает возраст.
— Поздно, поздно… Я уже стар, и друзей никого в живых не осталось. Из близких друзей остался один Телешов, да и тот, боюсь, как бы не помер, пока приеду. Боюсь почувствовать себя в пустоте. А заводить новых друзей в этом возрасте поздно. Лучше уж я буду думать обо всех вас, о России — издалека. Да и по правде говоря, — другой вам этого не скажет, а я признаюсь, — очень привык к Франции, как-никак уже двадцать пять лет здесь, привычка ко всему: к квартире, к прогулкам, к образу жизни… Франция стала для меня второй родиной. Вам, наверное, приходилось говорить с нашим братом эмигрантом. Многие ругают Францию, любят злословить на ее счет. Я не принадлежу к их числу, тем более что иногда эта ругань показная; не то чтобы вам, советским, угодить, не то чтобы себе цену набить. А я привязался к Франции, очень привык, и мне было бы трудно от нее отвыкать. А брать паспорт и не ехать, оставаться здесь с советским паспортом — зачем же брать паспорт, если не ехать? Раз я не еду, буду жить так, как жил, дело ведь не в моих документах, а в моих чувствах…
Он свернул на некоторое время с этой темы, но потом снова возвратился к ней и стал говорить о Куприне. Позже, в следующие наши встречи, он еще несколько раз заговаривал о Куприне. Видимо, он много думал об этом.
— Я не хочу, чтобы меня привезли в Москву, как Куприна. — Он старательно и ядовито подчеркивал: не приехал, а «привезли». — Вернулся домой уже рамоли, человеком ни на что не способным… Я так возвращаться не хочу.
Он говорил о Куприне с не понравившимся мне озлоблением, с отзвуками каких-то старых счетов, видимо, с новой силой вспыхнувших в нем после возвращения Куприна на родину. Но при всей ядовитости его тирад в них была и горечь, адресованная самому себе; кажется, он действительно со страхом думал об этом: вернуться домой уже не тем, кем был, обмануть ожидания…
Потом, уже не помню, в это наше свидание или в следующее, мы с ним вскоре снова встретились где-то в ресторане или кафе и он стал говорить о войне и своем отношении к немцам…
Говорил сдержанно, но с волнением, чувствовалось, что это было для него весьма важно душевно. Мне кажется даже, что тогда, в сорок шестом году, после своего вызывающего поведения по отношению к немцам, он считал себя вправе и вернуться, и не возвращаться, считал, что он может взять советский паспорт и может не брать, что он все равно чист перед Россией. В нем явно было это самоощущение гордости и чистоты; оно стояло за всем, что он рассказывал мне.
В начале войны немцы через кого-то — он называл мне, но я забыл, через кого, — забрасывали удочки: не будет ли Бунин сотрудничать с ними? Речь шла не о том, чтобы он стал их прямым сотрудником, а делались лишь осторожные предложения выступить в каких-то покровительствуемых немцами изданиях, принять участие в каких-то журналах, напечатать при их содействии что-нибудь более или менее нейтральное.
Бунин отклонил все эти предложения, и у него стало усиливаться ощущение, что тучи над ним сгущаются. Рассказывая об этом, он подчеркивал:
— Вы, разумеется, понимаете, что у меня было иное положение, чем у других, хотя Нобелевскую премию к тому времени я уже проел — одна медаль золотая осталась, — но все же надо мною еще мерцал ореол лауреата Нобелевской премии, и это играло свою роль в отношении немцев ко мне, вернее, в их обращении со мной. Нобелевская премия сдерживала их и соблазняла вовлечь меня в свою орбиту. Читали они там меня или не читали, но, что я лауреат Нобелевской премии, знали все, и, если бы я начал сотрудничать в их изданиях, это было бы для них существенно. Почувствовав, что обречен на дальнейшие домогательства, я жил безвыездно на юге, на берегу моря, в доме знакомого врача. Жили мы бедно, главным образом — в смысле голодно, попросту временами нечего было есть. Это было уже во время оккупации немцами всего юга Франции. У нас с врачом был приемничек, и я на мансарде (дом был трехэтажный) слушал русские передачи. Когда у вас начались салюты, а потом пошли все чаще и чаще, я в некоторые ночи попадал в трудное положение. Помню, как-то было чуть ли не четыре салюта. Мой хозяин — врач, у него внизу, в подвале, было припрятано немного спирта… Я послушаю салют, какой-нибудь город возьмут, — и с верхнего этажа вниз: немножко выпью, пороюсь в шкафах, найду какой-нибудь сухарь, закушу и снова наверх… Так, бывало, на радостях и бегал всю ночь вниз и вверх.
Рассказывая о своей жизни при немцах с юмором и даже с озорством, он нисколько не подчеркивал собственного мужества. Допускаю, что иногда ему и хотелось бы что-то подчеркнуть, но он тщательно воздерживался от этого из чувства собственного достоинства, из боязни, чтобы это не приняли за его заискивание перед нами, советскими.
Он говорил обо всех своих поступках в период немецкой оккупации как о само собой разумевшейся для него линии поведения. А потом — мне это очень запомнилось — снова вернулся к вопросу о паспорте и приезде:
— Нет, я не поеду, не поеду на старости лет… это было бы глупо с моей стороны… Нет, я не Куприн, я этого не сделаю. Но вы должны знать, что двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года я, написавший все, что я написал до этого, в том числе «Окаянные дни», я по отношению к России и к тем, кто ею ныне правит, навсегда вложил шпагу в ножны, независимо от того, как я поступлю сейчас, здесь ли я остаюсь или уеду.
В другой раз он заговорил о Мережковском и о Гиппиус, он их обоих не любил и презирал. Не помню, с чего начался разговор, но Бунин вдруг вспомнил, как не то после окончания войны, не то после освобождения Парижа от немцев он увидел шедшую ему навстречу по одной из парижских улиц Зинаиду Гиппиус. Еще издалека завидев ее, он перешел на другую сторону, не желая с ней встречаться. Но она, увидев его, тоже перешла, и они столкнулись нос к носу. Мережковский незадолго перед тем умер, и Гиппиус стала говорить Бунину, что «вот все теперь от нас шарахаются! И от Дмитрия Сергеевича отворачивались перед его смертью, и меня не замечают, проходят мимо, вот и вы перешли на другую сторону — очевидно, не хотели здороваться…».
— Я ответил, что действительно не имел большого желания с нею встречаться, и сказал ей: вы, сударыня, пожинаете плоды собственной деятельности. Вам с Дмитрием Сергеевичем было хорошо здесь при немцах, теперь — плохо. А мне было плохо, а теперь хорошо. Она, конечно, дама, но я не мог говорить с ней иначе, потому что презирал ее. И так оно и обстояло в действительности: они с Мережковским служили немцам, но до этого они оба служили еще и итальянцам, успели побывать на содержании у Муссолини, и я прекрасно знал это. Мое презрение к ним было именно тем чувством, которое они вполне заслужили. И я не считал нужным его скрывать.
Сколько мне помнится, Бунин раза два возвращался в разговорах со мной к своим «Окаянным дням», даже спросил меня, читал ли я их. Я сказал, что нет, хотя на самом деле читал. Он сказал, что в этой книге много такого, под чем он сейчас не подписался бы, но что она писалась в другое время и в других обстоятельствах, а кроме того, даже и тогда он в этой книге не позволил себе писать о большевиках много такого, что писали в то время о них другие литераторы.
В этой связи Бунин впервые упомянул об Алексее Толстом.
Бунин много и долго говорил о нем. И за этими воспоминаниями чувствовалось все вместе: и давняя любовь и нежность к Толстому, и ревность, и зависть к иначе и счастливей сложившейся судьбе, и отстаивание правильности своего собственного пути. Он говорил о Толстом вперемежку: то с язвительностью, то с любовью, и все это странным образом сходилось иногда в одной и той же фразе.
Среди прочего Бунин вспомнил, как где-то, не то в Париже, не то на юге, в Марселе или Ницце, когда Толстой, кажется в 1935 году, путешествовал с молодой женой, они оказались в одном ресторане. Бунин был один, Толстой с дамой, поэтому Бунин счел, что если кому-то из них подходить к другому, то в данном случае это должен сделать он.
Глядя, как Толстой знакомо сидит за столом и смачно, с удовольствием ест, Бунин подозвал официанта и послал записку Толстому: «Здравствуй, я здесь, могу к тебе подойти, не возражаешь ли?»
— Он получил записку, сразу поднялся, и я пошел к нему… Мы встретились, обнялись, и я немного посидел с ними. Я был очень рад его тогда увидеть, очень рад. Такой была наша единственная встреча после его возвращения в Россию. Больше я его не видел.
Из других писателей Бунин, как я уже сказал, несколько раз возвращался в разговорах к Куприну и Телешову — расспрашивал о Телешове с нежностью и спокойной старой дружбой, но я, к сожалению, ничего не мог ответить — я тогда не знал Телешова.
Однажды Бунин вдруг заговорил о Катаеве — вспомнил, как Катаев пришел к нему когда-то в Одессе. Потом заговорил о катаевской прозе, высоко отзываясь о ней, особенно о «Белеет парус одинокий».
— Да, трудно было подумать тогда, в Одессе, что из этого молодого человека выйдет такой хороший писатель.
Когда мы в третий или четвертый раз увиделись с Буниным и я еще раз попробовал его куда-то пригласить, он ответил:
— Нет, довольно. Наоборот, пора бы мне вас пригласить к себе, но нынешний быт наш такой, что и надо бы, да совестно.
Горький смысл сказанного был в том, что худо жить. Принять так, как хотелось бы, не может, а принимать не так, как хотел бы, не с руки.
Тогда я отважился сказать:
— Иван Алексеевич, если вы не рассердитесь, у меня такое предложение: давайте устроим ужин на коллективных началах, в смысле — ваша территория, мой провиант. Я позволил себе заговорить об этом с вами потому, что, может быть, мне к послезавтрему удастся доставить сюда, в Париж, что-нибудь наше, московское, такое, что вам приятно будет вспомнить.
Бунин без колебаний согласился, просто сказал:
— Ну что ж, ну давайте.
Мы договорились о часе ужина и о том, что в этот день я заранее завезу к нему все, что добуду.
В то время в Париже проходила конференция четырех министров, и из Парижа в Москву и обратно каждый день ходили наши прямые самолеты. Расставшись с Буниным, я сразу поехал в гостиницу, к нашим ребятам-летчикам и рассказал им, о чем идет речь: что послезавтра я встречусь с Буниным, что мы с ним договорились поужинать у него дома на паях и я хочу угостить его нашим московским харчем. Я дал ребятам записку в Москву, к себе домой, — они утром летели и с удовольствием согласились все сделать; Бунина читали, и идея им понравилась. Я волновался, не подведут ли они меня по какой-нибудь случайности, успеют ли, но они полетели и всё успели. Передали домой мою записку, мои домашние купили у «Елисеева», где был тогда так называемый коммерческий магазин, все, что можно было найти сугубо отечественного, вплоть до черного хлеба, любительской колбасы, селедки и калачей. Летчики взяли эту посылку на следующий день на рассвете в самолет, и на второй день все это оказалось в Париже. За несколько часов до ужина «московские харчи» были уже на квартире у Бунина.
Бунин был в добром настроении. Пожалуй, все это его немножко тронуло и показалось забавным. А кроме того, его просто радовало присутствие на столе черного хлеба, калачей, селедки, любительской и копченой колбасы — всей этой полузабытой, особенно за годы войны, русской еды. Помню, как он ел эту любительскую колбасу и, смеясь, приговаривал: «Да, хороша большевистская колбаска!..»
В тот вечер у Бунина в гостях были поэт и критик Георгий Адамович, один из самых умных литературных людей эмиграции, и Тэффи. Все немножко выпили московской водки, и она пела под гитару очень хорошо, чуть надтреснутым, но обаятельным голосом. Ее голос был старше ее, она выглядела моложе. А в голосе чувствовалась старческая трещинка. Она пела какие-то полуцыганские романсы на слова Полонского, на неизвестную мне музыку. Да и этих стихов Полонского я то ли раньше не знал, то ли не помнил.
Бунин попросил меня почитать стихи. Читал я довольно много и под конец прочел из еще не напечатанной тогда поэмы «Несколько дней» главу, связанную с моей недавней поездкой в Японию: «Я в эмигрантский дом попал, в сочельник, в рождество». В этой главе шла речь о ночи под рождество в эмигрантской семье, получившей советские паспорта. Главное место занимали мои собственные мысли о родине, но вначале были, пожалуй, все-таки рискованные для чтения в данных обстоятельствах строки о русской эмиграции. Когда я прочел главу из поэмы, Бунин попросил меня прочесть еще что-нибудь, я прочел одно или два стихотворения, и он только здесь, вдруг вернувшись к поэме, сказал:
— Однако вы рискнули это читать мне!
— Да, Иван Алексеевич, рискнул.
— Рискованно, рискованно, нашего брата вы там не больно-то пощадили.
Очевидно, чтение этой главы все-таки зацепило его, хотя и не вывело из того состояния добродушия и некоторой умиленности, которое было у него в тот вечер.
Это была моя последняя длительная встреча с ним. После того мы виделись и разговаривали еще раз, если не ошибаюсь, в книжной лавке. Я уезжал в Москву, и он по-дружески простился со мной, напомнив о моем обещании выяснить в Москве некоторые волновавшие его недоразумения с Гослитиздатом.
В связи с Буниным стоит упомянуть о двух моих разговорах с Адамовичем. Первый раз я разговаривал с ним после ужина у Бунина. В тот вечер он пошел проводить меня до гостиницы. А потом я был на юге Франции и, узнав, что мы с ним соседи, зашел к нему повидаться, и мы проговорили несколько часов. Адамович был близким другом Бунина и его жены. Кружок Бунина — Тэффи, при тогдашней расстановке сил в старой эмиграции, оказался на ее правом фланге, но при этом занимал непримиримые антинемецкие позиции. К этому кружку до войны примыкал Алданов, сейчас собиравшийся вернуться из Америки. Для него вопрос о сотрудничестве или несотрудничестве с немцами никогда практически не стоял, он эмигрировал в Америку и всю войну был там. Адамович подтвердил мне то, что я уже слышал: что Алданов имел и имеет огромное влияние на Бунина. Мне показалось, что Адамович в душе недолюбливал Алданова, но в то же время отдавал ему должное и говорил, что это человек большой моральной силы.
Как я понял из этого разговора, Бунин, решая вопрос о том, ехать или не ехать ему домой, и даже о том, брать или не брать ему советский паспорт, оглядывался на Алданова, боясь его суждений, и уж во всяком случае считался с ними, с тревогой думая о том, как Алданов отнесется ко всему этому. А Алданов — это можно было заранее сказать — отнесется к идее возвращения Бунина на родину резко отрицательно.
Что остается добавить?
Я уехал из Парижа, когда вопрос о том, захочет ли Бунин получить советский паспорт и поедет ли домой, находился в нерешенном положении. Мысль о поездке его и пугала, и соблазняла. Он думал о своем собрании сочинений в Москве; мы много говорили с ним об этом. Он волновался, что у него вышла какая-то неудачная переписка с Гослитиздатом, что Гослитиздат не так его понял, как он хотел, а он, видимо, не так понял Гослитиздат. Возникли взаимные обиды, которые я обещал ему выяснить. Бунин огорчался, что его не так поняли, и очень хотел, чтобы его издали… Говорил:
— Я, может быть, и поехал бы, повидал, да ведь не пустят так вот, чтобы поехать просто… Коли поехать, так надо уж и жизнь доживать. А я уж как-то привык к мысли, что буду здесь доживать. Если бы просто поехать…
Словом, он был еще в нерешительности. У меня создалось ощущение, что холодный разум подсказывает ему: не надо ехать, а чувства нет — нет и дают о себе знать и требуют этой поездки, зовут к более решительному сближению с родиной.
Как раз в это время появился доклад А. А. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград», о Зощенко и Ахматовой… Когда я это прочел, я понял, что с Буниным дело кончено, что теперь он не поедет. Может быть, Бунина не столь уж взволнует то, что сказано о Зощенко — о писателе, чуждом и далеком для него, — но все, что произошло с Ахматовой, будет им воспринято лично — возвращаться нельзя! Он воспримет удар по Ахматовой как удар по себе. Если об наотрез отказавшейся уехать в эмиграцию Ахматовой говорят и пишут такое, то что же будут говорить о нем, проведшем столько лет в эмиграции… Словом, я понял, на всех наших мыслях о возвращении Бунина надо ставить крест. Так оно и оказалось.
Я вернулся в Москву и предпринял в Гослитиздате некоторые шаги — там действительно собирались издать его большой однотомник…
Долгие годы я считал утраченным письмо Бунина ко мне, свидетельствовавшее и о его настроениях того времени, и о его желании увидеть себя изданным на родине.
И вдруг, к своей радости, совсем недавно нашел исчезнувшее письмо, которое, наверно, уместно привести в моих записях об И. А. Бунине.
Вот оно:
«27. VII.1946
Дорогой собрат Константин Михайлович, вы изъявили доброе желание принять некоторое участие в деле издания Государственным издательством моих избранных сочинений: позволяю себе поэтому вкратце осведомить вас насчет этого дела. Началось с того, что мне позвонила Эльза Триоле, извещая меня, что она получила от г. Аплетина телеграмму: «Вышлите немедля последний сборник рассказов Бунина». Я после того отправился к Б. Д. Михайлову (73, Champs-Élysées Paris) и попросил запросить Москву, зачем именно нужен там мой сборник. Дней через десять пришел ответ: «для издания» — и просьба выслать для (того же) переиздания еще некоторые мои последние книги. Я послал через г. Михайлова рукопись моего последнего сборника («Темные аллеи»), «Жизнь Арсеньева», «Лику» и «Освобождение Толстого» (жизнь и учение Толстого), но дошло ли все это, не знаю и по сию пору. Затем я получил открытку от Н. Д. Телешова, в которой он между прочим сообщил мне, что Государственное издательство выпускает «изборник» моих произведений в размере листов 25–ти. Очень взволнованный этим, я тотчас написал приблизительно одно и то же и Телешову, и Государственному издательству — свое крайнее огорчение, что меня издают без моего ведома, главное — не спросив меня, что именно я хотел бы дать для этого издания, видеть в этом издании и в каких текстах (указав, что есть собрание моих сочинений, изданное в 1934 г. в Берлине «Петрополисом», — единственное, которым следует пользоваться). Было это еще в январе, но ответ я получил от г. Аплетина только в марте: он телеграфировал уже лично мне: «Selon vôtre desir Editions Litteraires État ont suspendu préparation recueil vos œuvres». (Подпись и адрес: 12, Kouznetsky Most, Moscou.) Я письмом поблагодарил г. Аплетина за ответ и попросил его сообщить мне, навсегда ли или только до выслушивания моих пожеланий отложено издание моих произведений, но сообщения этого так и не получил — чем и кончилась вся история издания меня Государственным издательством.
Пишу вам все это, Константин Михайлович, просто на всякий случай — ничего не домогаясь от Государственного издательства и не имея ни малейшего намерения побуждать вас к беспокойству по этому делу, если, возвратясь в Москву, вы не вспомните о нем. А если вспомните и замолвите за меня словечко в Государственном издательстве, буду очень благодарен вам…
Ив. Бунин».
Вскоре после этого датированного июлем письма, осенью того же, 1946 года Бунин выступил в Париже с заявлением достаточно враждебного нам характера. Эту позицию он продолжал занимать и позже, она усугублялась, и мне кажется, что в некоторых наших статьях и предисловиях напрасно замалчивают эту сторону дела. Последняя книга воспоминаний Бунина, изданная в 1950 году, по-моему, очень дурна. Наряду с несколькими блестящими вещами в ней много дешевой и злобной антисоветчины, которую он мстительно отобрал из написанного в разные годы и по разным поводам. Это был последний предсмертный удар, который он нам нанес в меру своих старческих сил.
Думается, что всего этого из «песни о Бунине» тоже не надо выкидывать. Нельзя изображать дело так, что якобы он на склоне жизни вернулся к нам. Мне кажется, что я видел Бунина именно в тот недолгий период его жизни, когда он был наиболее близок к нам, но и меру этой наибольшей близости тоже нельзя преувеличивать.
Рискуя повториться, хочу попробовать вспомнить еще некоторые подробности.
Во время войны и сразу после нее Бунин бедствовал. В 1946 году, когда я его видел, он помощи ниоткуда не получал, да и не собирался получать. И свое отношение к писателям, живущим у кого-то на прокормлении, очень ясно выразил мне в своем презрительном рассказе о Гиппиус и Мережковском. Квартира у него была большая, обветшалая, запущенная — квартира обнищавших петербургских интеллигентов.
Ну, а как жил он в довоенные годы? Видимо, тоже в стесненных обстоятельствах. Он рассказывал мне о том, как получил Нобелевскую премию и как все это было неожиданно для него. О поездке в Швецию и самом акте получения премии он рассказывал серьезно, с оттенком гордости, а о том, как потом тратил деньги, — с большим юмором; деньги летели, было неисчислимое количество просьб о помощи со стороны эмигрантов, которые все разом на него навалились. Кое-кому пришлось помочь, но, если бы помогать всем, кто просил, не хватило бы и десяти Нобелевских премий. По его словам, после получения премии он вдруг стал фигурой, которую, по мнению всех других, оставшихся ни при чем, можно и нужно было доить. И этим дружно занялись весьма многие, в том числе и совершенно неизвестные ему лица.
Как выглядел Бунин летом 1946 года? Я уже говорил о его облике. Мне трудно сейчас вспомнить, как он бывал одет, но на нем все хорошо сидело и выглядело хорошим. Уже суховатая старческая шея, сухощавое лицо. Видимо, оттого, что он похудел не за последние годы военной голодовки, а всегда был худощав, это помешало образоваться на его лице и шее мешкам и складкам.
В нем уживалось как бы два юмора. Один юмор добродушный, а другой — желчный. И он вперемежку пользовался и тем и другим, как будто у него в запасе всегда есть два пистолета двух разных калибров и он может, в зависимости от обстоятельств, вынимать то один, то другой.
Он был еще крепок, гулял хорошей быстрой походкой и любил пройтись, никогда ни всерьез, ни в шутку не жалуясь на здоровье.
Что он говорил о литературе? О нашей и французской? Я мало что запомнил из этого. Пожалуй, даже осталось ощущение, что он вообще не склонен был говорить о литературе. Больше говорил о России, о Франции, о войне, о политике, о немцах. И даже когда вспоминал Алексея Толстого, то опять-таки не как писателя, а как друга и человека с иной судьбой, чем у него самого…
1961–1973
Самый разный Горбатов
Знакомы с Борисом Леонтьевичем Горбатовым мы были на протяжении пятнадцати лет, с тридцать девятого года до последнего года его жизни — 1954–го. Когда мы впервые встретились, ему было тридцать один, а когда он умер — всего-навсего сорок шесть. Но если говорить о той степени близости, которая позволяет мне писать эти воспоминания, то подружились мы лишь где-то посередине нашего знакомства, в сорок шестом году, во время поездки в Японию. И все, о чем пойдет речь, за одним исключением, относится к последним восьми годам жизни Горбатова.
В данном случае мои воспоминания опираются только на память. Удержать в ней все подробности дружеских разговоров многолетней давности, разумеется, невозможно, однако думаю, что и общий смысл их, и тон близки к истине.
Горбатов и в самом деле был очень разный, хотя и цельный. Благородство, непримиримость к фальши, нелюбовь к позе, строгость к себе, недовольство написанным, способность радоваться за другого, нерасчетливость, горячность, щедрость, неистребимый юмор — все эти качества, вместе взятые, образовывали натуру внутренне цельную. Но внешние проявления этой цельности в зависимости от обстоятельств, места действия, собеседников были такими разными, что порой казалось: в этом кругло-квадратном, мощно скроенном, наголо бритом человеке, которого зовут Борис Горбатов, сидит сразу несколько Горбатовых и на поверхность выскакивает то один, то другой из них, заранее неизвестно — какой.
Москва. Сорок четвертый год. Мы оба одним самолетом вернулись с фронта из Польши, оба были в Майданеке и оба пишем о том, что увидели там, в лагере смерти. Каждый по-своему: я, сдерживая себя, — сухо, протокольно; Горбатов — гневно, возмущенно, приподнято. О том, как будем писать об этом, спорили еще там, в Люблине, и каждый остался при своем.
— Не ожидал от тебя такой подлости, — говорит Горбатов при встрече. Говорит так сердито, что даже ноздри у него подрагивают.
— Чего ты от меня не ожидал?
— Того, что ты напечатаешь два куска, пока я напечатаю один. Договорились же, что будем писать одновременно.
— Договорились, что начнем писать одновременно, — уточняю я.
— Ну конечно! Тебе только — начать да кончить! Тебе жаль времени даже на то, чтобы хоть немножко притормозить и вспомнить, что ты писатель. Я встаю, думаю, пью чай, снова думаю, раскладываю пасьянс, еще раз думаю и только после этого пишу. А ты вообще никакой не писатель, а обормот! Едва продрав глаза, сразу же садишься и строчишь свои четырехколонники, как ни странно, вполне удовлетворительные. Нет, так дальше у нас с тобой дело не пойдет. Если опять окажемся где-то вместе, сразу же договоримся, что ты начинаешь писать на неделю позже меня!
Горбатов смеется так, что у него прыгают очки, и рассказывает мне в лицах, как сегодня утром редактор «Правды» Петр Николаевич Поспелов, увидев в «Красной звезде» мой второй четырехколонник, свирепо укорял его в неоперативности.
Токио. От международного корреспондентского клуба, куда мы заезжали с Горбатовым за какой-то нужной нам информацией, до нашего местожительства в кое-как отремонтированном нами домике бывшего торгпредства километров двенадцать через развалины Токио. Мы едем на своем «виллисе» и спорим с Горбатовым. Я упрекаю его за то, что одна из наших трех машин, старый японский «фордик», так и не вышла из гаража по его вине: он не достал бензина, — а по распределению наших обязанностей — бензин должен доставать он.
— Я вчера поздно вернулся и сегодня проспал, — сердито бурчал Горбатов.
— Не проспал, а провалялся, — уточняю я.
— Да, я лежал и думал. Понимаешь, думал, то есть занимался тем, о чем ты не имеешь ни малейшего представления.
— Вот и надумал бы, где бы достать бензину, — гну я свое. — Когда распределяли обязанности, ты же сам предложил, что будешь заниматься машинами и горючим.
— Я считал, что это легче всего, потому и взялся, а ты знал, как это трудно, и все-таки всучил мне, хотя тебе прекрасно известно, как я не люблю работать!
Я говорю Горбатову, чтобы он не валял дурака, он же сам предложил, чтобы я стал руководителем нашей группы.
— Да, предложил, потому что еще не раскусил тебя, но теперь я организую общественность, и мы тебя снимем в ближайшую же неделю, не позже!
— Хорошо, но, пока я еще у власти, тебе придется добывать бензин на все три наши машины.
— И не подумаю! — говорит Горбатов. — Сколько достану, столько и достану. Если достану на две, и то поклонитесь мне в ножки!
— Если достанешь на две, — озлившись, говорю я, — то мы, все остальные, будем ездить на этих двух, а ты на той — третьей, на которую не достанешь.
Мы начали спорить, едва отъехав от корреспондентского клуба, и теперь, к разгару спора, доехали до середины дороги. До нашего дома еще километров шесть.
— Останови машину, — вдруг говорит Горбатов.
— Зачем?
— Останови машину.
«Виллис» останавливается, и Горбатов, легко перебросив через борт свое грузное, но сильное тело, оказывается на мостовой.
— Что это значит?
— Это значит, что я не желаю дальше ехать в одной машине с таким отвратительным буквоедом и вообще гнусным типом, как ты.
— Да ладно тебе, садись, — пробую я выпустить из него пар.
— Не поеду.
— Садись.
— Не поеду. — Он рывком надвигает на лоб шляпу, закладывает руки в карманы и быстро идет в сторону от машины своими мелкими, семенящими, чуть-чуть смешными шажками.
— Смотри не заблудись.
— Не твое дело.
Он идет. Я уезжаю.
Приехав домой, я сразу же посылаю «виллис» с шофером навстречу Горбатову, авось, не пожелав ехать со мной, он соблаговолит поехать без меня. Но «виллис» через час возвращается, так и не обнаружив Горбатова.
Мы — Агапов, Кудреватых, я и поехавшая в Японию вместе с нами моя стенографистка Муза Николаевна, добрейшая душа во всей нашей группе, — садимся, расстроенные, за стол и, уже сев, решаем не притрагиваться к еде, пока не появится Горбатов.
— Он так не любит ходить пешком, говорит Кудреватых, — может быть, чтобы смягчить его душу, поставим на этот раз бутылку водки из нашего НЗ?
Я не возражаю. Мне, наверное, больше всех хочется смягчить душу оставленного мною посреди Токио Горбатова, и, достав хранящиеся у меня в кармане ключи от сейфа, я вынимаю оттуда бутылку водки, приношу и ставлю на стол.
Сидим еще тягостных полчаса.
Вдруг с треском открывается наружная дверь, и еще из коридора доносится веселый, громкий голос Горбатова:
— Ну конечно, наверное, всё уже сожрали, пользуясь моим отсутствием. Оставили мне одни объедки.
Он входит в комнату веселый, улыбающийся, продрогший и порозовевший от непривычной для него долгой ходьбы.
— Имей в виду, — говорит он, обращаясь ко мне, — что я по дороге раздумал снимать тебя с руководства, потому что лучший способ расплаты за то, что ты оставил меня, так ненавидящего ходить пешком, одного посредине Токио, это заставить тебя и дальше руководить нами. Ты еще нахлебаешься горя с каждым из нас, особенно со мной. Даю тебе честное пионерское!
Снова Токио. Горбатов, в начале нашей поездки добродушно насмешливый, после нескольких месяцев пребывания в Японии заметно изменился. Все чаще и чаще в те вечера, когда мы после работы собираемся в своем жидком домике, изрядно промерзшем за эту небывало холодную токийскую зиму, Горбатов появляется или чем-то раздраженный, или угрюмый до нелюдимости. Он бегает своими быстрыми шажками из угла в угол по комнате, сердито пожимая плечами, и ни с кем из нас не заговаривает, видимо, предпочитая этому молчаливый разговор с самим собою.
Именно так, особенно долго, он бегает по комнате в тот вечер, о котором я сейчас вспоминаю, и вдруг, остановившись напротив меня, спрашивает:
— Ну, что смотришь?
Пожав плечами, я отвечаю, что видеть его в таком настроении никому из нас не доставляет удовольствия.
— Удовольствие? — Он морщится от этого не понравившегося ему слова и, еще с минуту побегав взад — вперед, резко останавливается напротив меня и, ткнув себя пальцем в грудь, говорит с усмешкой, которая нисколько не смягчает серьезности сказанного: — Не в состоянии дальше пребывать в условиях капитализма! Понятно тебе?
Я молчу.
— Сегодня в шахту спускался. Ох! — Он мотает головой с таким страдальческим выражением лица, что к его словам нечего прибавлять. — Был бы я японским писателем, я бы написал им такой роман о японском рабочем классе… К черту! — Подняв кулак, он потрясает им в воздухе и наконец садится на стул и говорит тихо и горько, словно удивляясь чьей-то непонятливости или недогадливости: — Интересно, когда вообще кончится вся эта нелепость, которая называется капитализмом?
Москва. С Александром Александровичем Фадеевым у Горбатова отношения товарищеские, но не столь простые, какими могут показаться на первый взгляд. Корни этого уходят в двадцатые годы. Совсем еще юный тогда, Горбатов был одним из секретарей ВАППа. И хотя, разочаровавшись в прелестях руководящей деятельности, он поспешил расстаться с ней, однако Фадеев, вспоминая то время, при случае замечает, что Горбатов уже с пеленок был леваком. Обычно эти иронические замечания совпадают с каким-нибудь возникающим между ними спором.
Расставшись с работой в ВАППе, Горбатов вошел в сложившуюся вокруг журнала «Октябрь» литературную группу, во главе которой стояли Серафимович и Панферов. В силу групповых пристрастий и отталкиваний той поры Панферов какое-то время был ближе Горбатову, чем Фадеев. И об этом они, по-моему, оба помнят — и Горбатов, и Фадеев, который вообще все помнит.
В дальнейшем Горбатова захватывает журналистика, «правдистская» работа, дальние и трудные поездки, потом начинается война, и литературные разногласия двадцатых — начала тридцатых годов вроде бы уходят в прошлое.
Однако в сорок шестом году, когда в новом составе секретариата правления Союза писателей Фадеев по предложению Сталина становится генеральным секретарем, а Горбатов, тоже по предложению Сталина, секретарем партийной группы правления, Фадееву, насколько я понимаю, это не очень нравится. Для него как для руководителя Союза писателей казалось бы естественным одновременно руководить и работой партгруппы. Однако секретарь партгруппы не он, а Горбатов, и в этом есть непривычный для Фадеева оттенок комиссарства. Конфликтов на этой почве внешне не возникает, но некая сложность их взаимного положения, быть может нарочито созданная, незримо присутствует в их отношениях.
Однажды в первый год нашей работы в Союзе Горбатов в разговоре со мной вдруг горько срывается:
— Ты напрасно думаешь, что Саша любит меня. Не любит и никогда не любил. И все его шутки, что я левак и загибщик, — шутки только наполовину. Ничего не попишешь, с таким перекосом я уж засел в его памяти с тех лет! — Горбатов усмехается. — Конечно, я и сейчас в чем-то все такой же, каким был тогда, в двадцатые годы, но я ведь, согласись, немножко и другой и, наверное, пишу немножко иначе и лучше, чем тогда. Но Саша упрям, и я для него один из тех людей, о которых он не любит менять свои прежние мнения.
В словах Горбатова горечь, тем большая, что сам он любит Фадеева и высоко ценит его книги, все — и «Разгром», и «Удэге», и «Молодую гвардию».
Осенью сорок седьмого года, когда «Молодая гвардия» имеет уже огромный и, казалось бы, неоспоримый успех, посмотрев сделанный по роману фильм Сергея Герасимова, Сталин вдруг заново мысленно возвращается к книге Фадеева и обнаруживает не только в фильме, но и в ней ряд несовершенств.
Мы с Горбатовым оба читаем внезапно появившуюся в «Культуре и жизни» статью на эту тему и съезжаемся в Союзе писателей. Фадеева в этот день нет в Москве, он в отъезде, кажется в Риге. Мы пробуем дозвониться до Фадеева и думаем о тяжести удара, который ему предстоит испытать.
Для меня в тот же день в том же номере «Культуры и жизни» своя неожиданность — статья «Жизни вопреки», не оставляющая камня на камне от моей повести «Дым отечества». И размышления о сложности собственного положения несколько отвлекают меня от мыслей о беде, происшедшей с Фадеевым.
Зато Горбатов хотя по-дружески и сочувствует мне, но думает прежде всего о Фадееве. «Бедный Саша, как он будет теперь, как ему будет трудно!» — несколько раз повторяет Горбатов. Он настолько угнетен происшедшим, что меня это сначала даже поражает.
И только потом я до конца понимаю, в чем дело. В статье, критикующей «Молодую гвардию», вспоминают и хвалят «Непокоренных» Горбатова, сличают одно с другим в положительном для Горбатова и отрицательном для Фадеева смысле.
— Ты знаешь, как я писал «Непокоренных» и что они для меня такое! — наконец не выдерживает и сам заговаривает об этом Горбатов. — Но как только я подумаю, что кому-то приходит в голову столкнуть одно с другим, мне делается стыдно перед Сашей! Мои «Непокоренные» со всем хорошим, что в них нашли, и его «Молодая гвардия» со всем плохим, что о ней написали, все равно для меня-то самого это несравнимо! Я-то это понимаю, но как сделать, чтобы это понял он? Как ему это сказать? Он же не даст мне это сказать!
И Фадеев действительно не дает ему этого сказать. Ни ему, ни другим.
Вернувшись в Москву, Фадеев сразу же с присущей ему в такие моменты холодной взвинченностью напрочь отсекает всякие попытки сочувствовать ему. И в этом цельность фадеевского характера. Но и в том, с каким самоотречением и с какой силой сочувствия к Фадееву накануне его приезда говорит мне о себе и о нем Горбатов, тоже цельность характера или, пожалуй точнее, цельность души.
Москва. У Горбатова отпуск для работы над романом. Неделю назад мы сговорились с ним, что сегодня вместе пообедаем, а до этого не будем ни встречаться, ни перезваниваться по телефону. Он собирается уехать работать в Донбасс, но до этого решил засесть и написать еще здесь, в Москве, очередную главу романа «Жили два товарища», которая, по его словам, уже придумана им от первой и до последней строчки. Мы и обедать-то сговорились по случаю окончания этой главы.
Приезжаю. Горбатов открывает мне дверь только после нескольких звонков и, буркнув «Здравствуй!», шлепает обратно босыми ногами к себе в кабинет.
Когда я вхожу, он уже снова лежит на диване в своей привычной позе — кулак под голову, — и валяется так, кажется, с утра. Под подушку запихнута какая-то толстая книга: ни на стуле у дивана, ни на столе ни единого листка с записями, ни малейших следов работы.
— Садись, — говорит он, не вынимая кулака из-под головы и мрачно глядя на меня. — Куда мы поедем обедать и что будем есть?
— Что будем, то и будем, — говорю я.
— Ах да, я же забыл, что ты великий организатор. — По-прежнему не улыбаясь, он мрачно смотрит на меня.
Я спрашиваю: кончил ли он главу?
— Нет. Если точней, и не начинал.
— Почему?
— Потому что я не писатель.
— Ты все перепутал, — говорю я, стараясь перевести разговор в шутку. — Не писатель — это я. А ты как раз писатель.
— Я тоже не писатель, — говорит Горбатов.
— Когда ты это выяснил?
— В прошлый понедельник. Начал читать «Сагу о Форсайтах», никогда раньше по своей темноте не читал, начал сразу со второго тома, чтобы быстрее кончить, и, пока читал второй том, иногда еще казалось, что я все-таки писатель. Но как только взялся за первый, окончательно понял — нет! Писать не умею. Он умеет, а я не умею.
— Дочитал?
— Дочитал.
— А когда все-таки начнешь писать главу?
— Через неделю. Перед тем как начать, надо заново приучить себя к мысли, что придется учиться писать.
Он наконец садится на диване, надевает носки и, кряхтя, зашнуровывает туфли. Подходит к гардеробу и, надев поверх майки, в которой валялся, новенькую, довольно-таки щегольскую рубашку, начинает выбирать галстук. Глаза у него становятся веселыми.
— Насколько серьезно услышанное мною? — спрашиваю я.
— Настолько серьезно, что за неделю не написал ни строчки. Не мог. Но сейчас так хочется есть и так живо представляю себе все, что буду есть, и могу так точно заранее описать все еще не съеденное, что подозреваю, я все-таки писатель. Хотя бы натуралист!
Он надевает пальто, шляпу, берет в руку свою, привезенную им из Японии, толстую бамбуковую палку и, весело поблескивая очками, смеясь чему-то, чего я еще не знаю, вдруг спрашивает меня:
— Ну, как ты думаешь, каким я представлял себе классического буржуа на заре своей юности? Толстый, лысый, в очках, в шляпе, с палкой и ездит в машине! Я!
Донбасс. Горбатов — один из тех, о ком мещане говорят: «Он не умеет устраиваться». Он и в самом деле человек не очень уютной жизни, и происходит это не от многолетней привычки к перемене мест, а от природного насмешливого нежелания думать на несущественные для него бытовые темы.
В 1950 году летом я приезжаю к нему в Донбасс, где он ежегодно по нескольку месяцев живет на окраине Донецка в маленьком сборном домике. И вдруг понимаю до конца то, о чем раньше лишь догадывался: настоящий дом Горбатова — здесь, в Донбассе. Он и сам здесь выглядит как-то по-другому и, кажется, куда больше чувствует себя хозяином, чем в своей московской квартире.
Работая здесь над романом о своих земляках, Горбатов, немножко хитря, проверяя на слушателях будущие подробности еще не написанных глав, любит рассказывать, в особенности приезжим, вроде меня, людям о разных донбасских событиях и случаях, о разных шахтерских профессиях, и существующих, и уходящих, и уже ушедших из шахтерского быта; о коногонах и лампоносах, о стволовых и откачниках, о крепильщиках и запальщиках, о шахтных пожарах, о горноспасательной службе и тысяче других вещей. Шахтерский труд остается в его рассказах тяжелым и опасным, но всегда поэтичным. И любая шахтерская профессия несет у него свою собственную поэзию — иногда на глазах рождающуюся, как поэзия машиниста угольного комбайна, иногда на глазах умирающую, как поэзия коногона.
Идя рядом с тобой своей быстрой, немножко семенящей походкой по самой обыкновенной, ничем не примечательной бурой донецкой земле с выгоревшей, пожелтелой травой, Горбатов может вдруг резко остановиться, показать пальцем на эту землю и за какие-нибудь пять минут дать почувствовать всю мощь и всю поэзию происходящего сейчас там, внизу, под землей, под тем самым местом, где он остановил тебя. Так, словно он видит сквозь землю, он может долго рассказывать со всеми подробностями, как разветвляются штреки, где пролегают лавы; может, показав на дом вдалеке, вскользь заметить, что под ним недавно начали новую проходку, а примерно под той вон трамвайной будкой тянутся уже выработанные до конца и заброшенные горизонты. Он умеет дать почувствовать, что там, внизу, под этой молчаливой, даже не вздрагивающей землей, всюду идет работа, всюду люди, всюду тот подземный, главный и самый поэтичный для него Донбасс.
Этим летом Горбатов не только сидит здесь над романом. Здесь еще и снимается по его сценарию фильм «Донецкие шахтеры», и в домике, где живет Горбатов, обычно после съемок собирается добрая половина съемочной группы. Сегодня до вечера еще далеко, но съемка почему-то не состоялась, и несколько человек из киногруппы уже давно пришли и нетерпеливо ждут Горбатова, который с утра уехал в обком: в громоздкой махине киноэкспедиции в очередной раз что-то заело, понадобилась срочная помощь, и он в очередной раз отправился за этой помощью.
Все сидят, ждут и пьют пиво.
Горбатов входит, вытирает пот — день жаркий, — наливает себе стакан холодного пива, с наслаждением делает большой глоток, и в этот момент кто-то из присутствующих невпопад, даже не подождав, пока человек утолит первую жажду, торопливо спрашивает:
— Ну, как там, в обкоме?
Горбатов ставит на стол недопитый стакан, не садясь упирается кулаками в стол, в позе человека, собирающегося завершить заседание, и серьезно, без тени улыбки, глядя прямо в лицо спросившему, отвечает:
— В обкоме обсуждали наш вопрос — посвятили ему больше трех часов. Выразили недовольство тем уровнем, на котором у нас в фильме исполняется роль первого секретаря обкома, и дискутировали, как быть дальше. Приняли решение поручить играть в нашем фильме роль первого секретаря обкома второму секретарю обкома.
Сбитые с толку абсолютно серьезным лицом и строгим тоном Горбатова, все на какую-то секунду шалеют от сказанного, даже, кажется, пробуют как-то уместить все это в сознании. И только не уместив, начинают дружно хохотать. Но лицо Горбатова не меняется. Все с тем же серьезным видом он садится за стол, допивает свой стакан пива и добавляет самым обыденным тоном:
— Выписки из решения с собой не дали, но завтра к началу съемки пришлют.
Я заехал в Донецк к Горбатову ненадолго, на три дня, по дороге на юг — в Сухуми, и завтра утром мне предстоит ехать дальше.
— Ничего вы не понимаете в природе, — говорит Горбатов.
— Кто это мы?
— Все вы, теряющие лучшее время года на поездки в Крым и на Кавказ. Ты первый.
Мы сидим около горбатовского щитового домика на вынесенных из комнаты стульях, я маюсь от жары, а он, развалясь, сняв ботинки, носки и поставив на раскаленную землю босые пятки, совершенно очевидно наслаждается донбасской жарой, как мне кажется, отчасти искренне, а отчасти поддразнивая меня.
— Ну что там, на твоем Кавказе? — говорит он. — Горы да море. И больше ничего. А тут! Шахты, терриконы, степь, садки, садочки, реки, раки, пиво. Здесь пыль, и та вкусная.
Вчера вечером он мне ничего заранее не сказал, а ночью, пока я спал, с какой-то своей здешней компанией отправился ловить раков. Утром, зайдя в крошечную ванную комнатку, чтобы помыться и побриться, я услышал у себя за спиной странное скребущее шуршанье и, обернувшись, увидел, как в ванне, безнадежно пробуя выбраться из нее, ползают по дну и друг по другу по крайней мере три сотни раков. Сейчас, ближе к обеду, там, в домике, на плиту уже поставлены две здоровенные кастрюли, греется вода, и Горбатов начинает посматривать на часы: приближается время идти варить раков. Все специи уже приготовлены, и сюда наружу доносится запах еще с утра наломанного в огромном количестве переросшего старого укропа.
— И раков у вас там нет, на Кавказе, — говорит Горбатов, вставая. — И вообще незачем тебе туда ездить. Приехал сюда и сиди здесь. Отдай мне свой билет и сиди.
Я попадаюсь на удочку и объясняю то, что ему и так отлично известно, что еду туда, на Кавказ, дописывать книгу.
— И напрасно, — говорит он. — Писателя из тебя все равно уже не получится. Это давно ясно. А если твоя Муза Николаевна уже поехала и ждет там, когда ты явишься диктовать, дай ей телеграмму, чтобы сама сидела и дописывала твой роман — без тебя у нее это получится ничуть не хуже, наверное, даже лучше.
И он, очень довольный собой, шлепая по горячей земле босыми пятками, уходит варить раков, из-за которых сегодня почти не спал, желая доставить мне удовольствие. Раков я люблю не меньше, чем он. На этом мы сходимся.
Сухуми. Все-таки мне в конце концов удается уговорить Горбатова поехать вместе со мной на один из зимних месяцев в Абхазию, в приморский поселок Гульрипши, где у меня маленький домик, в котором я, уходя в так называемые творческие отпуска от работы в Союзе, в «Новом мире» или в «Литературной газете», сижу и пишу, чаще всего зимой.
Погода, хотя и считающаяся по здешним местам зимней, стоит теплая, пригревает южное солнышко, от него веселей жить, и Горбатову, вопреки его собственным ожиданиям, нравится здесь. Он подружился с несколькими добрыми людьми и иногда ездит в Сухуми поужинать с кем-нибудь из них, но большую часть времени сидит у меня и пишет роман.
Встает он рано, почти сразу же принимается за работу, но где-то после полудня складывает исписанные за утро листки и за весь остальной день больше уже не прикасается к ним. Слоняется по дому и по берегу, часами молча раскладывает свои неизменные пасьянсы и, надумав за эти часы молчания все или почти все, что ему надо для завтрашней работы, начинает томиться.
Я обычно в это время еще продолжаю ковыряться над правкой написанного накануне, и он ближе к вечеру все чаще заглядывает ко мне, поддразнивает и вызывает на разговоры. Иногда ему удается оторвать меня, и тогда мы двадцать-тридцать минут вместе ходим по берегу. Но обычно оторвать меня раньше времени ему так и не удается. И он, стоя в дверях, в очередной раз измывается над моею усидчивостью: что хотя терпение и труд все перетрут, но литературы из такого перетирания все равно не получится и, когда я наконец пойму это, мне станет задним числом стыдно, что я напрасно оставлял его в одиночестве.
Сложив исписанные листки, он, конечно, продолжает по-своему работать. И когда гуляет, и даже когда придирается ко мне, он все равно думает о своем романе. Судя по нашим разговорам с ним, ему кажется, что эта книга должна будет внутренне связать и завершить почти все сделанное им раньше.
В общем, здесь, в Гульрипши, он работает над книгой, которую, как мы сейчас привыкли говорить, считает своей «главной книгою», хотя самих этих слов «главная книга» на моей памяти он ни разу не произносит вслух.
В один из вечеров он наконец после долгих колебаний решает, что эта его книга о Донбассе так и будет называться — «Донбасс». Сначала он условно называл ее «Жили два товарища», потом ему приходили на ум разные другие заглавия. И сегодня он заново добросовестно перебирает их все одно за другим, вслух произнося и отвергая каждое и упрямо возвращаясь к последнему, лишь недавно облюбованному, но как будто с самого начала существовавшему: «Донбасс».
— «Донбасс», а? Хорошо будет? Верно? «Донбасс», — громко повторяет он, как бы выкатывая на середину стола, за которым мы сидим, и на середину комнаты, и вообще на середину мира это звучное, крупное слово. — «Донбасс», а? Нет, так и назову — «Донбасс»!
Очень интересно относится Горбатов к своей книге «Обыкновенная Арктика». Она наполовину дорога ему как книга, и книга удавшаяся, а наполовину — как подлинное свидетельство о том прекрасном куске жизни, который он провел в Арктике.
Своеобразное отношение Горбатова к «Обыкновенной Арктике» еще и в том, что хотя я уже не раз слышу от него: «В общем-то, это моя лучшая книга», «Признаться, это моя лучшая книга», — но в этих чуть-чуть даже самодовольных словах спрятана и какая-то неудовлетворенность. Все-таки Арктика для него только эпизод, страница биографии, а Донбасс, с которым он связан всеми корнями, был и остается самым главным в его жизни. И где-то одно ощущение не сходится с другим: ему кажется, что свою пока что лучшую книгу он написал не о том, о чем должен был бы ее написать и чего от него ждали. Отсюда и та почти неотступная тревога, которая с самого начала сопровождает всю его работу над романом «Донбасс»: он хочет, чтобы все-таки не «Обыкновенная Арктика», а именно «Донбасс» стал его лучшей книгой.
Москва. Разговор происходит в Союзе писателей, в кабинете Фадеева. Недавно кончился секретариат, все уже разошлись, а Горбатову, прежде чем вместе ехать ко мне, нужно куда-то позвонить по «вертушке».
Я на минуту выходил из комнаты — взять спички — и поэтому не знаю, с кем и про кого говорит Горбатов, но по уже начавшемуся разговору чувствую, что он трудный для Горбатова. Низко нагнув голову, почти касаясь лицом стола и стиснув в пальцах телефонную трубку, он несколько раз повторяет, что с человеком, про которого он говорит, поступлено несправедливо.
— Нет, несправедливо. Нет, все равно несправедливо. А я вам говорю, что он этого не заслужил; ручаюсь, что не заслужил, я его слишком хорошо знаю, чтобы в это поверить. Нет, не ошибаюсь и так и напишу! Нет, не я один, а и другие о нем такого же мнения! Бесполезно или не бесполезно — все равно буду писать.
Он кладет трубку, вытаскивает большой чистый платок и устало и недовольно вытирает им бритую голову. Платки у него всегда большие и чистые. По-моему, он с утра рассовывает по карманам сразу несколько платков.
— Все равно я напишу!
Горбатов выбирается из-за стола, за которым он сидел, разговаривая по «вертушке», и, разминаясь, ходит по кабинету.
Из дальнейшего выясняется, что речь по «вертушке» шла о его товарище по двадцатым годам; я этого человека изредка встречал, но знаю мало, больше со слов самого Горбатова.
— Ну, как тебе объяснить? — говорит Горбатов, отвечая на мой вопрос. — Если длинно, надо читать лекцию про то, как мы с ним входили в литературу и что в ней делали. А если коротко: я — это все равно что он, а он — это все равно что я.
Он возвращается к столу и начинает что-то быстро писать на листке бумаги. Потом встает, подходит ко мне и протягивает написанное. Я читаю. Это просьба Горбатова пересмотреть дело человека, вместе с которым он работал и которого знает с самой лучшей стороны на протяжении многих лет.
— Хорошо, если бы и ты подписал, — говорит Горбатов, пока я читаю письмо.
Я отвечаю, что слишком мало знаю этого человека, чтобы писать о нем.
— Зато я его знаю за двоих, — говорит Горбатов. — Если б ты знал кого-нибудь так, как я его, и попросил бы меня подписать, я бы подписал.
— Хорошо, — говорю я, — но тогда хотя бы составь письмо по-другому.
— Почему?
— Потому что, если подписывать вдвоем, я не могу сказать о себе, что работал вместе с ним и знаю его столько же лет, сколько ты. Найди другие слова, без этих подробностей.
— Хорошо, я исправлю. — Горбатов снова садится за стол и сначала мучительно долго думает, потом исправляет написанное, потом переписывает его начисто и наконец протягивает мне. — Теперь можно нести на машинку? — спрашивает он.
— Теперь можно.
Он уходит в машинописное бюро, и я остаюсь один. Я действительно слишком мало знаю человека, о котором, как теперь выяснилось, мы будем писать вдвоем с Горбатовым. И мне не по себе от этого. Но слова Горбатова, что он знает этого человека за нас обоих — и за себя, и за меня, — не из тех, через которые переступишь, за ними для него стоит вся та мера дружбы, которая нас соединяет.
Сухуми. Поздней осенью, и на этот год снова приехав вместе со мной в Гульрипши, Горбатов вчерне заканчивает здесь одну из последних написанных им глав второй книги «Донбасса» — главу о том, как из шахты за ненадобностью поднимают последних, еще остававшихся там лошадей и как с ними прощаются переходящие на другую работу коногоны.
Он читает мне эту главу, в одной руке держа стопку своих обычных маленьких, аккуратных, вырванных из блокнотов листочков, а другой время от времени сердито потирая лоб. Он волнуется, потому что особенно любит эту главу, любил уже давно — с тех пор, как задумывал ее и впервые рассказывал о ней. А сейчас, когда читает, кажется, сам начинает понимать, как все хорошо у него вышло, и от этого волнуется еще больше.
Я говорю ему, что услышанное мною сейчас принадлежит к лучшим страницам из всего, что он вообще написал. Это правда, и я вижу по его лицу, он сам знает, что это правда. Помолчав, он спрашивает:
— А у лошадей ведь тоже получились характеры? Верно? — И, сняв очки, трет платком переносицу и повлажневшие во время чтения глаза.
Он чужд сентиментальной любви к животным, но эти лошади, потрудившиеся и состарившиеся в шахте, для него тоже часть Донбасса.
Как-то вечером, не очень поздно, поработав каждый над своим и порядочно устав — Горбатов в этот день дольше обычного, часов до четырех, просидел за столом, — мы едем в Сухуми. От Гульрипши до Сухуми — километров пятнадцать, из них первые два с половиной, до шоссе, по очень плохой дороге, по таким горбам и выбоинам, которые с трудом выдерживает мой старенький «Москвич». Едем мы на ужин к нашему общему знакомому Шалве Михайловичу Габескириа, с которым Горбатов подружился еще в свой прошлый приезд сюда. Габескириа, по его словам, достал какое-то особенно хорошее вино, что для Горбатова, впрочем, безразлично, поскольку он предпочитает водку и пиво.
Проезжаем с километр от моего домика, и вдруг во время этой трясучки по колдобинам Горбатов болезненно охает.
— Что такое? — спросил я.
— Ничего. В боку кольнуло, сел как-то неудобно.
Я подвигаюсь на сиденье, чтоб ему было просторней. Проезжаем еще метров пятьсот.
— Как, ничего?
— Ничего.
Лица его в темноте не видно, но голос мне не нравится. Я переспрашиваю:
— В самом деле ничего?
Мы продолжаем ехать. Он с минуту не отвечает, потом говорит:
— Мне, кажется, плохо.
Я останавливаю машину.
— Больно сердце, — говорит он. — И сзади, спину. Вообще больно.
Что делать? Возвращаться обратно ко мне — значит, снова два километра трясти по колдобинам человека с сердечным приступом, а вдруг и с инфарктом. Да и как потом забирать его оттуда, если, не дай бог, его нужно будет класть в больницу? Ехать вперед — еще полкилометра скверной дороги, но зато дальше сразу шоссе до самого Сухуми.
— Так как, возвращаемся или едем дальше? — спрашиваю я.
— Как решишь, так и делай, ты же любишь командовать, — верный себе, через силу насмешливо хмыкает Горбатов.
Мы подъезжаем к дому, где на втором этаже один, без семьи, живет собравшийся угощать нас ужином Шалва Михайлович Габескириа, я бегу по лестнице и возвращаюсь с ним.
Первое предложение: проехать еще немножко и добраться сразу до больницы. Но Горбатов наотрез отказывается:
— Врача вызывайте, а в больницу не поеду. Вы мне поможете, и я к вам заберусь, — в конце концов, у вас всего второй этаж. Не так уж мне плохо, как вы думаете!
О том, чтобы поднимать его на второй этаж, не может быть и речи, и тут вступает в свои права удивительное в таких случаях грузинское гостеприимство: соседи Габескириа, живущие в квартире под ним, предлагают освободить для Горбатова у них на первом этаже комнату, где он, сколько надо, сколько скажут врачи, столько и будет лежать! И пусть Габескириа тоже пока перебирается к ним! И я вполне могу у них заночевать! И ужин для нас надо перенести со второго этажа сюда; больному будет веселее, если мы будем потихоньку ужинать, а он будет лежать рядом и тоже что-нибудь съест и выпьет, если захочет! Все эти предложения сыплются разом, как из рога изобилия!
Горбатов смеется, охает от боли, снова смеется и, поблагодарив, соглашается.
Мы под руки проводим его на первый этаж, в нижнюю квартиру, и укладываем на тахту, которая за эти несколько минут уже заново застелена. Но Горбатов, ложась на тахту, не хочет раздеваться — наверно, ему это кажется первым шагом к больнице. Мы снимаем с него только ботинки и пиджак.
Кто-то звонит в больницу, кто-то другой едет за врачом. Я, конечно, говорю, что теперь не до ужинов и незачем перетаскивать сверху вниз все, что там у Габескириа приготовлено, но Горбатов сердито мотает головой, ему нравится, что он будет лежать и смотреть, как мы будем ужинать. По-моему, ему кажется, что раз так, значит, у него не инфаркт! И вообще все это его веселит!
Потом происходит все, что бывает в таких случаях: приезжает один врач и второй врач. Куда-то ездят и что-то достают, привозят, меряют, проверяют, делают уколы. Решают, что больного пока что не надо трогать и что мы правильно поступили, что привезли и положили его здесь, а завтра с утра придет профессор и вместе с ним будут решать, что дальше… Потом сверху все-таки притаскивают и вино, и еду; один из врачей уезжает, а другой остается дежурить и ночевать. Мы придвигаем стол к самым дверям второй комнаты, где лежит Горбатов, и он видит нас, иногда подает насмешливые реплики с обычной своей ворчливой интонацией, не то шутя, не то сердясь, требует, чтобы ему дали водки. Водки мы ему, конечно, не даем, ужин короткий, еда в рот не лезет, и вообще все это имеет скорей психологическое значение: подтвердить ему, что ничего особенного не произошло.
Когда все это кончается, уносят со стола посуду и стелют постель врачу, Горбатов тихо подзывает меня поближе к изголовью:
— Обещай только одно: не давай забрать меня в больницу. Ты же знаешь, что я этого не могу!
Он напоминает мне о Нине Николаевне Архиповой, своей будущей жене, что она тоже больна и лежит сейчас в больнице в Москве, и, оставшись в Сухуми в больнице, он будет совсем лишен возможности хоть как-то связываться и общаться с ней. И вообще ему надо в Москву.
— Обещай, что ты отправишь меня в Москву.
— Если врачи разрешат, конечно отправлю.
— И если не разрешат — тоже!
— В общем, отправлю, — говорю я, чувствуя, что желание его непреклонно.
Так оно в конце концов потом и происходит — где-то через неделю, после бурных споров, медики приходят к решению, что Горбатова можно отвезти в Москву в лежачем положении, в спальном вагоне, при условии, если с ним в купе поедет врач, имея при себе все, что может понадобиться в любую секунду.
Хочу добавить, что именно тот молодой врач — грузин, который стоял за реальность этой поездки и не боялся ее, занял верхнюю полку в одном купе с Горбатовым и благополучно довез его до Москвы.
Москва. После инфаркта Горбатов приходит в себя быстрей, чем мы смели надеяться. Он перестает жить в одиночестве, у него появляется семья, все складывается как будто совсем хорошо. Потихоньку двигается вторая книга «Донбасса»; понемножку входит в обычную колею и та работа, которую делает Горбатов в Союзе писателей. Он снова такой, как всегда, участливый, горячий, способный и вспылить, и тут же посмеяться над собственной вспыльчивостью. По-прежнему при нем и его главное качество — прирожденная справедливость по отношению к самым разным, в том числе и далеким ему в литературе, людям.
Идет какое-то затянувшееся до вечера заседание в нашем конференц-зале в Союзе писателей. Горбатов сидит рядом, справа от меня. Ничего особенного не происходит, обсуждаемый вопрос никаких острых переживаний, помнится, не вызывает ни у меня, ни у Горбатова, ни у других присутствующих. Уже к концу заседания Горбатов берет слово для какого-то делового предложения, и вдруг голос его делается каким-то странным.
В памяти моей и это изменение голоса, и какие-то не те слова, которые он тогда вдруг начал говорить, слова, неразборчивые и непонятные, сейчас ассоциируются со строчкой, написанной от руки человеком, теряющим сознание: писал-писал, и вдруг руку повело куда-то в неизвестность, вкось по странице, уже безвольно и бессильно.
Мы смотрим на него и не можем понять, что он говорит, лицо его как-то странно искажено, он силится объяснить нам, что собирался сказать, и не может. Так продолжается десять или пятнадцать секунд. И вдруг я вижу, как его начинает клонить со стула. Я и кто-то еще из товарищей едва успеваем подхватить его, не дать упасть, и он тяжело повисает на наших руках. Подняв на руки, мы переносим его в расположенный рядом с конференц-залом вестибюль и кладем на стоящий там у стены узкий диван. Подсовываем что-то под голову, пододвигаем под ноги стул. Кто-то кидается звонить по телефонам; кто-то, крикнув, что нужно побольше свежего воздуха, бежит вниз и открывает там настежь наружную, ведущую на улицу дверь.
За окнами уже темно, вот почему я помню, что это было вечером.
Самое мучительное, что Горбатов все еще пытается что-то объяснить всем нам, столпившимся вокруг него, и не может. Мы растерялись и еще не понимаем до конца, что у него паралич одной стороны тела и лица. Наконец он измученно замолкает. Потом снова пытается заговорить и снова замолкает.
Через несколько минут приезжает «скорая помощь», его кладут на носилки и, накрыв сверху принесенным с вешалки пальто, укладывают в машину. Я еду вместе с ним, сажусь туда внутрь, рядом с ним, лежащим. Везти его недолго и недалеко, на улицу Грановского. Там меня пускают в «приемный покой». Врачам все уже ясно, и они объясняют мне, что это инсульт с частичной потерей речи и частичным параличом.
Горбатова должны уносить из «приемного покоя» дальше, куда меня сейчас уже не пустят, но его что-то беспокоит, и он снова пытается сказать мне это.
Я нагибаюсь над ним и, приблизив лицо к его лицу, пытаюсь расслышать и понять, чего же он хочет. В конце концов не столько по словам, сколько по движению — глядя на меня, он все поводит лицом в левую сторону — понимаю, чего он от меня хочет. Он хочет, чтобы я взял с собой лежащий в левом внутреннем кармане его пиджака партийный билет. Я лезу в пиджак, который с него еще не сняли, достаю оттуда бумажник с документами, вынимаю и кладу к себе в карман его партийный билет, и он, прикрыв глаза, показывает, что это именно то, чего он хотел от меня. И мне даже кажется, что на лице его появляется мучительное усилие одобрительно улыбнуться мне.
Его уносят, а я остаюсь за дверью с тягостным чувством, что мы больше не увидимся.
К счастью, это оказалось не так: пережив и этот удар, он снова стал на ноги и даже пробовал работать. Но это продолжалось недолго. Инсульт все-таки оказался началом конца. И в следующую зиму Горбатова не стало.
Я узнал об этом в Кисловодске, узнал не сразу и из-за чудовищной зимней непогоды — два дня подряд — не мог вылететь, просидел их на аэродроме, так и не попав на похороны.
Все, о чем я вспомнил, хочу кончить стихами, написанными в год его смерти. Думаю, что в них сказано больше, чем я мог бы сказать сейчас, спустя почти четверть века, о своем тогдашнем чувстве неизгладимости потери.
Вот они, эти стихи:
1954–1978
Таким я его помню…
Совладать с чувствами пока еще трудно, слишком недавно случилось все то, что навсегда отделило его от нас и о чем он сам, с такой пронзительно спокойной грустью, сказал нам в стихотворении «В тот день, когда окончилась война…».
Еще слишком близко в памяти все связанное с его смертью, с тем постепенным уходом от нас, каким она была. Хотя, как и всякая смерть, она в то же время была мгновенной чертой, разделившей все, что связано с ним, на «до» и «после».
Последние годы наиболее тесного общения первыми встают в памяти, и это делает трудной необходимость начинать с начала.
Мне не требуется дополнительной дистанции времени, чтобы осознать место, принадлежащее в нашей литературе Твардовскому как одному из великих поэтов XX века. Но именно эта, уже сложившаяся определенность моего нынешнего взгляда на него, пожалуй, и затрудняет попытки вспомнить, задним числом, как она постепенно складывалась в моем сознании.
Если начать с давно прошедших времен, то, по правде говоря, я не помню своего восприятия первых стихов Твардовского, печатавшихся в начале тридцатых годов в московских журналах. Я уже учился тогда в Литературном институте, начинал писать и жил (не в материальном, конечно, а в духовном смысле) главным образом стихами. Однако, как это теперь ни странно мне, среди многого, жадно и поспешно прочитанного в те годы, ранние стихи Твардовского не отложились в моем сознании как что-то заметное, особое.
Для меня, как, впрочем, и для многих поэтов моего поколения, в те годы главной любовью оказался Багрицкий, на какое-то время заслонивший от нас даже Маяковского.
Он был для меня в советской поэзии главным поэтом тогда. Рядом с ним в моем сознании стояли некоторые ранние стихи Тихонова, красота его грузинского цикла, — сознание этой красоты и увлечение этими стихами пришло немного позже. Важны были для меня некоторые стихи Луговского, я любил их потому, что любил самого Луговского и много общался с ним в те годы. И, пожалуй, еще наиболее важным увлечением тех лет для меня были поэмы Сельвинского…
Если добавить к этому, что в те годы наибольшим моим увлечением — большим, чем Багрицкий, — были стихи Киплинга, которые я и переводил с подстрочников, и читал все, что было переведено на русский язык, которому я в наибольшей степени, чем кому бы то ни было другому за всю поэтическую работу, подражал тогда, — если добавить это, то, наверное, станет понятнее, почему первые печатавшиеся тогда стихи Твардовского, и даже уже не первые, ставшие заметными для многих других, для меня остались незаметными. Они как-то прошли мимо меня, не вошли в круг моих не только пристрастий, но и поэтических интересов.
В моей памяти и в моем мире поэзия Твардовского возникает внезапно и сразу вместе со своей «Страной Муравией». И даже некоторые другие его стихи, которые он печатал, а я читал до «Муравии», заново возникли в моем сознании уже потом, после этой, поразившей меня, поэмы.
Эпитет «поразившей» — не результат позднейшей переоценки. Он — тогдашний. Я был поражен, потому что столкнулся с небывалым в поэзии тех лет свободным повествованием, которое при этом, всегда и всюду, оставалось стихами. В нем не было ничего вынужденного, никаких компромиссов между требованиями сюжета и требованиями внутреннего поэтического напряжения, самоценности каждой поэтической строфы и строки, не зависимой от их служебной роли в повествовании.
Так сразу в «Стране Муравии» я столкнулся с тем, быть может самым поразительным, свойством поэзии Твардовского, которым отмечено почти все, им сделанное. Он не обращался к стихам, чтобы рассказать ими о жизни; он обращался к жизни стихами, и делал это так, словно только так и можно было это сделать. Словно никак ловчее и точнее, чем стихами, и невозможно изложить все, к чему бы он ни обратился. Поражала внутренняя духовная стройность поэмы, при всем ее разноречье, разноглавье, чуть было не сказал — разнотравье… Впрочем, будем считать, что так именно и сказал — это слово тоже не случайно попало на язык.
В те годы я был юношей из интеллигентной, сугубо городской, никак и ничем не причастной к деревенской жизни семьи. Еще несколько лет прошло, прежде чем война свела меня с деревней и с ее людьми, одетыми и не одетыми в солдатские шинели.
Все или почти все в моем тогдашнем, еще очень малом жизненном опыте было далеко от жизненного опыта Твардовского, стоявшего за его «Страной Муравией». Если условно принять слишком механическое для всякой большой поэзии деление, которым ее порой размашисто рассекают на городскую и деревенскую, то мои поэтические пристрастия и моя осведомленность, в общем, были связаны скорее с кругом городской поэзии. «Авиатор» или «В соседнем доме окна жолты…» Блока были мне в ту пору ближе, чем его «На поле Куликовом».
Словом, во мне самом существовало некое внутреннее препятствие против того, чтобы я проник во внутренний мир «Страны Муравии», а вслед за ней «Сельской хроники».
И, однако, это произошло. Или, точней, произошло обратное. Мир поэзии Твардовского, силою его дарования выйдя далеко за пределы первоначального жизненного материала, сам проник в меня.
Собственно говоря, на таком преодолении препятствий, связанных с разностью жизненных опытов, вкусов и пристрастий, и основывается всеобщее значение поэзии, когда ее вторжение становится множественным — во многие души.
Такая победа над читателями, в том числе поначалу невосприимчивыми или даже предубежденными, притом победа, достигнутая бескомпромиссно, без подыгрывания вкусам, без поисков популярности, без всяких признаков отказа от своего «я», особого, основанного на собственном опыте и собственном взгляде на жизнь, — удел немногих. И в их числе — Твардовского, с первых шагов зрелого периода его творчества, к которому относятся и «Страна Муравия», и «Сельская хроника».
Всеобщность такой победы не означает, конечно, победы над каждым встречным, над всяким упрямцем и над всяким, кто искренне и страстно заперся в своем восприятии мира от напора чужой поэзии. Но, как в широко и быстро хлынувшем наступлении, все это остается где-то позади большой поэзии, уже вышедшей на просторы большого читателя и нимало не озабоченной тем, что в своем движении она обтекла и оставила позади себя островки сопротивления.
Так было с поэзией Твардовского, и эта уже послевоенная метафора не раз приходила мне потом в голову.
Не раз в разные годы я со смешанным чувством удивления и сожаления думал об этих искренне, но бессмысленно сопротивлявшихся в тылу у поэзии Твардовского островках ее непонимания и невосприятия, когда читал или изустно слушал мнения порою крупных поэтов, продолжавших относиться к ней как к чему-то специфически деревенскому, не имевшему отношения к их собственному душевному опыту.
Что до меня, то я благодарен судьбе за то, что не запер уши и, наравне с большинством читателей Твардовского, еще в довоенные годы услышал этот сильный и чистый голос.
Добавлю, уже как частность, — то изумление и даже оторопь, которые я профессионально испытывал, читая и перечитывая «Страну Муравию» и видя, как свободно, без всяких проторей и убытков в стихе владеет Твардовский труднейшим в поэзии мастерством повествования, имели прямые последствия для моей собственной работы. Мне, без достаточных оснований, представлялось в те годы, что я сам на пороге овладения мастерством создания сюжетной поэмы. Первые опыты вроде бы дали некоторое подтверждение этому. Но когда от исторических тем я перешел к повести в стихах о юности своего поколения, то, лишь написав много тысяч строк и поставив точку, я осознал, что задуманное не вышло, что этого я не умею. И именно «Страна Муравия», сам факт ее присутствия в моей памяти помогли мне тогда отказаться от этой своей работы как от повествования в стихах. Выбросив из нее две трети, я оставил для печати лишь то, что сравнительно удалось, то, что несло в себе лирическое начало.
Я отвлекся в сторону и заговорил о собственной работе потому, что это решение было очень важным для меня тогда, осталось важным на долгие годы, а в своей первооснове связывалось с моим восприятием поэзии Твардовского.
Хорошо помню, какое впечатление в литературных кругах в начале 1939 года произвело награждение Твардовского. Он оказался среди очень немногих, наиболее известных русских писателей, награжденных орденом Ленина. Впечатление было далеко не однозначным. Была и ревность, и вопрос — не рано ли? Но в самом молодом поколении, к которому принадлежал тогда я, удивления, в общем, не было. За этим фактом для нас стояло как бы признание старшинства Твардовского. Не возрастного, а внутреннего. Признание его первенства среди многих других поэтов, не только нашего, но и старших поколений.
В те давние годы я больше встречался с поэзией Твардовского, чем с ним самим. Встречался, конечно, и с ним, но хочу обойтись без натяжек. Наверно, не нужно силиться для полноты картины вспоминать то, что не врезалось в память настолько, чтобы вспоминать без усилий.
Стихи Твардовского для меня значили тогда намного больше, чем его личность. Я гораздо отчетливее помню, как читал их, чем как видел его. А оставшееся с тех времен ощущение личности Твардовского сложилось у меня не столько из впечатлений о собственных встречах, сколько из того, что я слышал от людей, соприкасавшихся с ним в годы его занятий в ИФЛИ, в Институте философии, литературы и истории, куда он пришел как студент, будучи уже известным поэтом.
С осени 1938–го и до отъезда на Халхин-Гол летом 1939–го я сам был аспирантом ИФЛИ и слышал много разговоров о Твардовском. ИФЛИ гордился им. И гордился не так, как гордятся тенором или вундеркиндом, а основательно, как человеком, которого ни профессия поэта, ни признание, ни слава не смогли переменить в его отношении к институту, где он учился. Пришедшая к нему слава нисколько не поколебала его серьезного и строгого отношения к тому понятию необходимой для писателя образованности, в которое он вкладывал очень много. Он не манкировал занятиями и не делал себе тех легкодоступных послаблений, до которых были так охочи некоторые из нас, успевших выпустить по первой книжечке стихов студентов Литинститута. Став выдающимся поэтом, он оставался выдающимся студентом, с упорством продолжая идти к поставленной цели и с блеском завершив образование в лучшем по тому времени гуманитарном высшем учебном заведении страны.
Об этих чертах личности Твардовского я слышал тогда от многих людей, с большим уважением относившихся и к его серьезному образу жизни, и к его серьезным занятиям.
Бывает в жизни и так, что узнанное с чужих слов становится частью твоих собственных представлений о личности человека. Так это было и с моим представлением о личности Твардовского.
Думается, годы занятий в ИФЛИ были весьма важны для него; если они и не заложили — все это заложено было гораздо раньше, — то, очевидно, окончательно сформировали в нем строгое отношение к знаниям, отличавшее его на протяжении всей жизни. Не раз потом, при встречах с Твардовским, в том числе в последние годы его жизни, мне приходил на память ИФЛИ — то, с каким тщанием он занимался тогда, и то, какое это имело на него влияние.
Летом 1939 года я впервые попал на «малую» войну, в Монголию, на Халхин-Гол; вслед за этим оказался в Западной Белоруссии; потом, не успев попасть на финскую, почти до самой Отечественной войны занимался на курсах военных корреспондентов.
После Халхин-Гола я уже не жил так всецело поэзией, как в предыдущие годы. И жил по-другому, и о ближайшем будущем думал вполне определенно — как о войне.
С Твардовским встречался несколько раз мельком — и перед финской, и после нее.
Из стихов, связанных с финской войной, больше всего запомнились тогда стихи Алексея Суркова. Они поддерживали мое собственное ощущение войны как трудного, кровавого и долгого дела.
Стихи Твардовского о финской войне прошли как-то мимо меня. Более важным фактом для моего отношения к Твардовскому были не его тогдашние стихи о войне, а то, что он пробыл «незнаменитую» войну на Карельском перешейке. В том предчувствии будущего, которым я тогда жил, это казалось особенно существенным.
И лишь несколько лет назад не стихи того времени, а фронтовые записи Твардовского, которые он вел на Карельском перешейке, открыли мне все скрытое напряжение духовной жизни, какою жил он тогда, в преддверии надвигавшегося на нас трагического будущего, и ту нелегко давшуюся ему внутреннюю подготовку к этому будущему, которая без прикрас, во всей своей трезвой суровости встает со страниц записей.
Конечно, строки Твардовского — одни из самых удивительных по силе — «На той войне незнаменитой» могли быть написаны только во время или после «знаменитой», после Великой Отечественной войны. И сам эпитет — «незнаменитая» война — мог появиться только на ней или после нее. Но первоначально почувствовано это было тогда, в сороковом году, на Карельском перешейке. И то, как это было почувствовано еще тогда, многое определило в дальнейшем.
«На той войне незнаменитой» я прочел гораздо позже, чем «Я убит подо Ржевом». Но хотя по срокам встречи с ним оно для меня — читателя — оказалось позднейшим, по срокам чувств — у Твардовского — оно предваряло «Я убит подо Ржевом». И так же, как и многое другое, было отстоявшейся в душе заготовкой на будущее.
В годы Великой Отечественной войны, если меня не обманывает память, у меня было всего две мимолетных встречи с Твардовским, обе в Москве, на перекладных с фронта на фронт. Во фронтовой обстановке война нас так ни разу за все четыре года и не свела.
И все значение постоянной впряженности Твардовского в войну, от начала и до конца ее, сознавалось не через личные встречи с ним, а через все прибавлявшиеся главы его «Василия Теркина». И через их прямое, и через их косвенное воздействие. Еще не законченная книга не только становилась на наших глазах частью народного духа. Больше того — через читавших, а порой и знавших ее наизусть, еще продолжавших воевать людей она делалась как бы неотъемлемой частью самой войны.
Наверное, я бы наложил свое последующее восприятие на первоначальное, если бы сказал сейчас, что уже по первым прочитанным главам ощутил весь масштаб замысла, всю глубинную силу правды о войне, во имя которой была замышлена поэма.
Правда о первых прочитанных главах состояла в том, что я как поэт столкнулся с чем-то недоступным для меня. Сомневаться не приходилось.
Именно тогда, во время войны, я написал несколько стихотворений, которые тоже читались наизусть и переписывались и которые я люблю и поныне. Но трезвое чувство сравнительных масштабов сделанного не покинуло меня, когда я прочел первые главы «Теркина». А где-то в сорок четвертом году во мне твердо созрело ощущение, что «Василий Теркин» — это лучшее из всего написанного о войне на войне. И что написать так, как написано это, никому из нас не дано.
Об этом своем ощущении я написал Твардовскому по его фронтовому адресу.
«Дорогой Саша! Может быть, тебя удивит, что я тебе пишу, ибо в переписке мы с тобой никогда не были и особенной дружеской близостью не отличались. Но тем не менее (а может быть — тем более) мне непременно захотелось написать тебе несколько слов.
Сегодня я прочел в только что вышедшем номере «Знамени» все вместе главы второй части «Василия Теркина». Мне как-то сейчас еще раз (хотя это думается мне и о первой части) представилось с полной ясностью, что это хорошо. Это то самое, за что ни в стихах, ни в прозе никто еще как следует, кроме тебя, не сумел и не посмел ухватиться. Еще в прозе как-то пытались, особенно в очерках, но в прозе это гораздо проще (чувствую по себе). А в стихах никто еще ничего не сделал. Я тоже вчуже болел этой темой и сделал несколько попыток, которые не увидели, к счастью, света. Но потом понял, что, видимо, то, о чем ты пишешь, — о душе солдата, — мне написать не дано, это не для меня, я не смогу и не сумею. А у тебя получилось очень хорошо. Может, какие-то частности потом уйдут, исчезнут, но самое главное — война, правдивая и в то же время и ужасная, сердце простое и в то же время великое, ум не витиеватый и в то же время мудрый — вот то, что для многих русских людей самое важное, самое их заветное, — все это втиснулось у тебя и вошло в стихи, что особенно трудно. И даже не втиснулось (это неверное слово), а как-то протекло, свободно и просто. И разговор такой, какой должен быть, свободный и подразумевающийся. А о стиле даже не думаешь: он тоже такой, какой должен быть. Словом, я с радостью это прочел.
Пока что за войну, мне кажется, это самое существенное, что я прочел о войне (в стихах-то уж во всяком случае)…»
Пока еще не Константин — Кирилл. Начало 1920–х годов
Александра Леонидовна (в девичестве княжна Оболенская) и Александр Григорьевич Иванишевы, мать и отчим К. Симонова
К. Симонов (крайний слева) среди товарищей по Литературному институту
К. Симонов — токарь на кинофабрике «Межрабпомфильм». 1932
Евгения Ласкина, первая жена
Сотрудники газеты «Героическая красноармейская» среди военачальников.
Справа налево: Б. Лапин, К. Симонов, Г. Штерн, Я. Смушкевич, Н. Воронов, Г. Жуков, З. Хацревин, Л. Славин, Д. Ортенберг, Н. Бирюков, М. Никишев, П. Горохов. Халхин-Гол, 1939
К. Симонов с матерью и Героем Советского Союза полковником Г. Михайловым (прототипом Луконина — героя пьесы «Парень из нашего города»). Февраль 1941
Кадр из фильма «Парень из нашего города» (1942) В главных ролях Л. Смирнова и Н. Крючков.
С Евгением Долматовским. 1939
С Владимиром Луговским. Крым, 1939.
Слева направо. К. Сурков, О. Курганов, К. Симонов, Б. Кригер, П. Трошкин. 1941, Западный фронт под Смоленском.
Автограф стихотворения «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»
С Романом Карменом. Вязьма, 1943
К. Симонов выступает перед офицерами и солдатами армии генерала Пухова. Курская дуга, июль 1943
К. Симонов. 1941
К. Симонов и В. Серова. 1944
Они же с сыном В. Серовой от первого брака Анатолием. 1943
Кадр из фильма «Живые и мертвые» (1964)
С режиссером-постановщиком фильма «Живые и мертвые» А. Столпером и исполнителем роли Синцова — К. Лавровым.
С Алексеем Столпером. 1943
С маршалом И. С. Коневым на рыбалке. 1966
На даче у маршала Г. К. Жукова. 1966
Эмигранты «первой волны». Сидят: слева направо — Г. Адамович, Ив. Бунин 1940–е годы
С Генеральным секретарем Союза писателей СССР Александром Фадеевым. 1949
С секретарем Европейского сообщества писателей Джанкарло Вигорелли (слева) и Джоном Стейнбеком. 1964
С Алексеем Толстым во время поездки в Харьков на процесс военных преступников. Декабрь 1943
С Ильей Эренбургом и Назымом Хикметом. Москва, 1952
С Борисом Горбатовым. Гульрипши, 1950–е годы
Фотография Чарли Чаплина с дарственной надписью К. Симонову. 1946
С Куртом Воннегутом. 1960–е годы
…Николай Тихонов (слева) и Джон Бойнтон Пристли. 1946
…Жоржи Амаду. 1950–е годы
…Жан Поль Сартр. 1962
…Эльза Триоле. 1946
Марсель Марсо 1960
С сыном Алексеем. 1943
С дочерью Марией. 1970–е годы
С женой Ларисой Жадовой. 1970–е годы
С дочерьми Александрой (слева) и Екатериной. 1970–е годы
С Александром Твардовским. Гульрипши, 1969
Дарственная надпись на фотографии с членами редколлегии журнала «Новый мир» после разгрома редакции: «Дорогому Константину Симонову, бывшему дважды главным редактором «Нового мира», большому другу редакции «Нового мира» и моему лично. — Все минется, только правда останется. А. Твардовский.
21. V.70. Москва»
В рабочем кабинете. Гульрипши, 1969
Памятный камень на Буйническом поле, где был развеян прах Константина Симонова
Твардовский вскоре ответил мне письмом, которое, думаю, правильно будет привести здесь.
«11.11.44
Дорогой Костя! Сердечно благодарю тебя за твое письмо, оно меня тронуло и порадовало: в наше время люди забывают иногда о таких простых и нужных вещах, как выражение товарищеского сочувствия работе другого, хотя бы она и была иной по духу, строю, чем твоя. Мне жаль, что ты знакомился со второй частью «Теркина» в отрыве от первой (никаких вообще «частей» в книге не будет), но я покамест не имею другого, кроме первой части, издания, и к тому же она уже во многом не соответствует последнему варианту. Буду рад подарить тебе книгу, когда она выйдет более или менее полностью, а пока что хотел бы получить от тебя твою книжку стихов — гослитиздатовскую. Жму руку. Еще раз спасибо.
А. Твардовский».
В тоне ответа Твардовского на мое письмо присутствовала та определенность и строгая сдержанность, которая вообще отличала и его речь, и его письма во всех случаях, когда дело касалось литературы и других серьезных для него предметов.
Уже после смерти Твардовского я имел возможность вновь убедиться в этом, по обязанности председателя комиссии по литературному наследию, читая некоторые из писем, связанных с его редакторской деятельностью. Тогда, в 1944 году, отвечая на мое письмо, он счел нужным с достаточной определенностью сказать о моей работе как об иной по духу и строю, чем его собственная.
Так оно и было тогда, так осталось для него и потом. Даже в последние годы его жизни, когда мы с ним были в наиболее тесных отношениях, его добрые чувства ко мне не делали для него ближе мою работу. Он неизменно отзывался о ней так, как она, на его взгляд, того заслуживала, не золотя пилюли, если в такой пилюле была, по его мнению, необходимость.
Говорю об этом как о прекрасном, но, к сожалению, не частом в нашем кругу свойстве. Ставя в литературе выше всего ее правдивость, Твардовский распространял это правило и на правдивость суждений о литературе. Строгое требование правды, обращенное к литературе в целом и к тем ее произведениям, с которыми он сталкивался как редактор, было с тою же строгостью обращено им и к самому себе, ко всему, что выходило из-под его пера, в том числе — и к письмам, затрагивающим общественные и литературные проблемы, содержащим его оценки сделанного другими.
Я не считаю, что он всегда был прав в своих оценках, но его мнение всегда было определенно. Искреннее и твердое убеждение в своей правоте и чувство ответственности стояли за каждым написанным им в письме или отзыве словом. О такую определенность иногда можно было и ушибиться, но ее нельзя было не уважать. Эта черта, свойственная Твардовскому как деятелю литературы, дорогого стоила; она свидетельствовала о силе и целостности его личности.
С той военной поры и доныне много раз перечитанный за десятилетия «Теркин» остался для меня самым главным и сильным впечатлением от поэзии Твардовского. Сказанное не значит, что я ставлю «Книгу про бойца» выше позднейших и — каждая по-своему — прекрасных поэм Твардовского. Поэзия Твардовского вообще не рождает желания, утверждая одно, отрицать другое; она слишком сильна и слишком едина в своем поэтическом волеизъявлении, да и попросту слишком хороша для того, чтобы мысленно пускать его поэмы по соседним беговым дорожкам, выясняя, какая какую обойдет. Дорога всегда была одна — никаких соседних и боковых не было — дорога от него — к нам. От поэта к нашим, читательским, душам. А что из посланного им за его жизнь по этой прямой дороге с наибольшей силой толкнулось в твою душу — зависит не только от него, но и от тебя, от твоего восприятия и поэзии, и жизни.
Я говорю лишь о том, что в мою собственную душу с наибольшею силою толкнулся или — хочется употребить более сильный глагол — вторгся именно «Василий Теркин».
Потом, в куда более заскорузлом для потрясения поэзией немолодом возрасте, с тою же силой вторглась в мою душу лирика Твардовского последних лет. И поразило не то, как она написана, хотя и это поразительно, а то, как в ней подумано о жизни, с какой глубиной, печалью и мужеством, заставляющими заново подумать о самом себе, как живешь и как пишешь.
Возвращаясь к «Василию Теркину», хочу добавить, что из памяти почему-то и до сих пор не выходят некоторые литературные разговоры и споры той поры, когда поэма вышла в свет. Иногда в них сквозило желание умалить то, что сделал и продолжал делать Твардовский своим «Теркиным». Не обходилось без размышлений на тему: что такое общечеловеческое, что такое крестьянское, что такое советское и что такое русское. Причем «крестьянское» и «русское» отдавалось «Теркину», а «советское» и «общечеловеческое» оставлялось на долю других литераторов и других произведений.
Отзвуки этих разговоров и споров вспыхивали и потом. Помню, в частности, наши яростные дружеские споры по этому поводу с Назымом Хикметом, за плечами которого была собственная удивительная поэзия, полная глубокого общечеловеческого содержания и при этом неотъединимо несшая в себе присущие ей национальные черты. Как это ни странно, мы так и не могли сговориться с Хикметом в оценках «Василия Теркина». При всех признаваемых им поэтических достоинствах для него это была чисто русская и прежде всего крестьянская поэма, а для меня — общечеловеческая.
А впрочем, может быть, и не так уж странно. Порою как раз крупные таланты, ведя в поэзии огонь в собственном, однажды избранном направлении, теряют то боковое зрение, без которого их взгляд на поэзию делается и неполным, и несправедливым.
Помню, как сам Твардовский, например, искренне и последовательно отрицал не масштабы дарования, а масштабы значения Маяковского в нашей поэзии, считая самоё структуру его поэтики чуждой русскому стихосложению.
Случилось так, что после конца войны я почти год пробыл в долгих зарубежных командировках и московская послевоенная литературная жизнь началась для меня только с осени 1946 года. Еще во время войны Твардовского и меня ввели в Президиум Союза писателей. А вернувшись в Москву, я вдобавок стал одним из секретарей Союза.
Для меня послевоенная Москва начинается прямо с осени сорок шестого года, с постановлений ЦК, доклада Жданова о «Звезде» и «Ленинграде» и с заседаний, которые проходили под председательством Жданова в ЦК и на которых обсуждался в течение двух или трех — не помню уже сейчас — дней вопрос о том, каким же быть Союзу писателей, и как им руководить, и что нужно делать.
В этих заседаниях участвовали все, кто входил тогда в Президиум Союза писателей, в том числе и те писатели, которых, до выборов, кооптировали уже во время войны, где-то в сорок четвертом — в начале сорок пятого года, когда Союзом стали руководить Тихонов и Поликарпов.
Поликарпов уже не был к тому времени в Союзе писателей, его сняли где-то еще в сорок пятом или весной сорок шестого года, в те времена, когда я был за границей, — и я об этом только слышал из вторых уст.
По-моему, одним из непосредственных поводов, а может быть последним поводом, к снятию Поликарпова из Союза писателей было какое-то заседание Президиума, на котором он высказывался в обычной своей прямолинейной и резкой манере, задел этим Твардовского, который, не пожелав мириться с таким тоном разговора, встал и, хлопнув дверью, ушел.
До этого у Поликарпова были конфликты с Вишневским как с редактором «Знамени» по поводу публикаций некоторых вещей, в частности, кажется, «Ленинградского дневника» Веры Инбер и «Спутников» Пановой. Но последней каплей было это — уход Твардовского с Президиума. И кажется, именно после этого Сталин произнес роковую для Поликарпова фразу о том, чтобы не подпускать его в дальнейшем к работе с интеллигенцией, — сказано это было еще грубее, — и потом, после этой фразы, до смерти Сталина, все попытки людей, уважавших Поликарпова, ценивших его, вернуть его к деятельности Союза писателей не приносили успеха. Я думаю даже, что наши предложения не докладывались Сталину, — такое у меня ощущение. А мы предлагали то сделать его директором Литературного института, то ввести в состав редакционных коллегий «Литературной газеты», «Нового мира». Все это каждый раз упиралось в стенку молчания — отказ!
А Поликарпова тянуло вернуться в Союз писателей и работать с писателями. По образованию педагог, он вообще любил литературу, людей литературы, литературные дела и очень тяжело переживал свой вынужденный уход с работы.
Так вот, в сентябре сорок шестого года, когда состоялись эти заседания у Жданова и когда на них присутствовали новые, кооптированные во время войны молодые члены Президиума, в том числе Твардовский и я, и был также Поликарпов, которого снять-то сняли, но одновременно забыли освободить из Президиума Союза писателей, и он числился в Президиуме, хотя работал уже в Московском педагогическом институте. Когда было распоряжение созвать Президиум, то и его пригласили в связи с этим распоряжением.
Так вот, на этих заседаниях, очевидно неожиданно для Поликарпова, несколько писателей, и, мне помнится, в том числе Твардовский, сказали о нем в присутствии Жданова добрые слова и выразили желание, чтобы он принял участие в составе будущего руководства Союза писателей.
Не помню уже, о какой роли шла речь, но то или иное его участие предполагалось в этих писательских выступлениях. За таким желанием стояло справедливое ощущение личности Поликарпова — сильной, честной, принципиальной; угловатый, но очень чистый!
И мне думается, что вот именно тогда, когда он меньше всего ждал доброго слова со стороны писателей, когда, казалось бы, наоборот, кто-то мог его задним числом лягнуть в связи с прошлыми столкновениями — когда он находился у кормила управления, вот эти добрые слова как-то еще больше притянули его к писательским делам и заставили потом еще больше страдать от того, что его никак не допускали до этих дел, несмотря на желание писателей.
Видимо, ему были дороги и добрые слова Твардовского.
Потом отношения между этими двумя людьми оставались сложными, потому что Твардовский, работая в «Новом мире», неоднократно сталкивался с Поликарповым по целому ряду принципиальных литературных вопросов, и столкновения эти, в силу характеров обоих участвовавших в них людей, бывали и резкими, и тяжелыми. И однако, оба они, каждый по-своему, уважали друг друга и, пожалуй, даже любили. Каждому из них что-то нравилось в другом.
Ну, я не говорю уже о том, что Поликарпов, любивший литературу, понимал все значение поэзии Твардовского, просто любил его стихи и готов был сделать для Твардовского, как для человека, все, что было в его силах, при этом сохраняя свои принципиальные позиции в спорах.
А Твардовский — это подтверждает ряд разговоров с ним, которые у меня были в разное время — и при жизни Поликарпова, и, в особенности, после его смерти, — уважал Поликарпова, говорил о его уходе из жизни с горечью, сожалением, что ему уже не доводится встречаться, сталкиваться с этим человеком. Когда Поликарпов умер, Твардовский пришел проводить его в последний путь, и выполнил этим не только формальный долг — формальным он, собственно, и не был, — а внутренний, нравственный долг. Причем, надо сказать, ему, Твардовскому, это давалось очень тяжело. Он огромным усилием воли преодолевал себя, чтобы пойти на чьи-то похороны, участвовать в этих церемониях, провожать кого-то в последний путь. Для него это было связано буквально с потрясением всей его личности. Он этого очень не любил и где-то в глубине, мне кажется, страшился всего того, что было связано с уходом человека из жизни. Поэтому пойти на похороны для него всегда было поступком, решением нравственно важным. Когда он мог избежать этого — он избегал.
Говорю здесь об этом потому, что наши встречи с Твардовским с сорок шестого до сорок девятого года были связаны главным образом с моим и его участием в работе Союза писателей, и чаще всего — с заседаниями Президиума, посвященными очередным выдвижениям тех или иных книг на соискание Сталинских премий.
Об этом стоит хотя бы кратко вспомнить, потому что и присутствие Твардовского на этих обсуждениях, и его участие в них были фактом весьма существенным в литературной жизни того времени. О тех произведениях, которые он читал по собственной охоте или по щепетильно соблюдаемому им правилу никогда и ни о чем не судить понаслышке, у него бывало твердо сложившееся собственное мнение, которое, будь оно положительным или отрицательным, он обычно высказывал без обиняков. Он был в нашей среде одним из тех, кто, при характерном для того времени общем ослаблении художественных критериев и увеличении количества премий, соблюдал довольно суровый уровень публичных литературных оценок. У меня осталось впечатление, что он даже испытывал удовлетворение от сознания, что нетребовательные к себе литераторы боятся его суждений при оценке художественного достоинства многих весьма далеких от совершенства книг. На каком-нибудь заседании, где обсуждались и превозносились произведения заведомо слабые, и само присутствие Твардовского, и возможность его выступления заранее воспринимались с тревогой. Он любил в таких случаях наводить страх божий и не лез за словом в карман. И делал это, даже когда не так-то просто было, не обращая внимания на разные привходящие обстоятельства, сохранить строгость собственных художественных критериев и напомнить о них публично.
Может быть, то, что я собираюсь сказать, уместнее выглядело бы в воспоминаниях о Фадееве, но мне все-таки хочется хотя бы коротко вспомнить здесь о немалом влиянии, которое, по моим наблюдениям, имел в те годы Твардовский на Фадеева.
Годы эти были годами их дружбы, начавшейся еще до войны. Твардовский высоко ставил Фадеева как художника. Без этого для такого человека, как Твардовский, дружба с таким человеком, как Фадеев, была бы затруднительна. Что касается Фадеева, то он уже давно был подлинным, в самом высоком смысле этого слова, поклонником поэзии Твардовского.
Вдобавок к этому в личности Твардовского были некоторые близкие натуре Фадеева человеческие черты. Его притягивали к Твардовскому и народное начало его личности и творчества, и сила натуры. В то сложное время на плечах Фадеева лежали сложные литературно — политические обязанности. И в частности, ежегодно — обязанности, связанные с необходимостью оценок литературных произведений, выдвигаемых на премии.
Требования текущего дня, порой верно, а порой и неверно трактуемые, случалось, входили в противоречие с собственными критериями художника, с собственными эстетическими оценками, и Фадеев на моих глазах не раз оказывался перед лицом таких противоречий, иногда отступая перед ними, прибегая к литературной дипломатии, а иногда до конца продолжая стоять на своем.
Думаю, не ошибусь, сказав, что при отношениях, сложившихся в ту пору между ним и Твардовским, Твардовский не раз оказывался для него барометром истинных литературных оценок. Непосредственными помощниками Фадеева в Союзе писателей были другие люди, в их числе и я, но не сомневаюсь, что самым душевно важным для Фадеева человеком в литературной среде был тогда именно Твардовский. И особенно явственно это чувствовалось, когда возникала наиболее трудная проблема для личности, наделенной большими правами, но при этом остающейся личностью художника, — как поступить? Посмотреть сквозь пальцы на явное художественное несовершенство той или иной книги или выставить ей именно ту невысокую отметку, которой она заслуживает, несмотря ни на какие привходящие обстоятельства?
Имею все основания думать, что мнение Твардовского в подобных случаях не только много значило для Фадеева, но иногда имело и прямое влияние на него.
Свои собственные отношения с Твардовским в то время я не могу назвать близкими — это не соответствовало бы истине, — но строгость его литературных оценок и та прямота, с какой он их публично высказывал, имели известное влияние и на меня. Не преувеличиваю меры этого влияния, но оно было, и оно запомнилось.
Запомнилось и чисто зрительно: угрюмо — насмешливое, подпертое рукой, откуда-то сбоку глядящее на тебя укоризненно лицо Твардовского в те минуты, когда ты преувеличенно хвалишь что-то, что на самом деле не след бы хвалить. Воспоминание, очевидно, существенное для меня — иначе навряд ли вспомнил бы это через столько лет.
Я не был близок тогда с Твардовским, и думаю даже, что он относился ко мне в то время без особого уважения, доброжелательства уж во всяком случае.
Что касается стихов, то мои стихи, за редким исключением, ему вообще никогда не нравились, насколько я понимаю. Об исключениях я скажу позже.
Надо сказать, что в смысле оценок стихов — говорю это, конечно, не в свою защиту как поэта, говорю вполне объективно — Твардовский был очень узким человеком. И узость эта была связана с его самоощущением собственной поэзии как чего-то наиболее важного в поэзии вообще, наиболее существенного, наиболее сильного. Он был убежден, что говорит в поэзии самое главное, говорит лучше всех, и вообще-то это соответствовало действительности. Жизнь показала и показывает это — чем дальше, тем больше.
Его отношение к чужим стихам обычно бывало негативным в тех случаях, когда эти стихи резко отличались от его поэзии, от духа его и от формы. Если говорить о поэзии предшественников, то он до конца жизни искренне и непримиримо не принимал Маяковского и все, что было связано в поэзии с поэтикой Маяковского, считая это чуждым для естественного развития русской поэзии.
Я формулирую категорически, несколько грубо, но суть сводилась к этому, даже когда шла речь о Маяковском.
Не принимал он полностью ни Кирсанова, ни Сельвинского.
С другой стороны, когда речь шла о поэтах более близких к нему, как бы следовавших в его русле, в его поэтике или близко к ней, то он тоже был очень суров в своих оценках, потому что ему казалось, что писать в русле его поэзии, в общем-то, бессмысленно, поскольку лучшее, что можно сделать в этом направлении, делает он сам.
Исключение составляла поэзия Исаковского — и потому, что в ней были действительно высокие образцы этого направления в нашей поэзии, и потому, что стихи Исаковского, закономерно ставшие песнями, являли собой пример чего-то сделанного в русле этой поэзии на самом высоком уровне и недоступного самому Твардовскому — он именно этого не умел. Может быть, и не стремился уметь именно это, выходя постоянно за пределы тех задач, которые возникают в стихотворении, которое закономерно, в силу каких-то своих внутренних свойств, может стать песней. А кроме того, по обстоятельствам биографии и своих литературных начал, он очень считался с мнением Исаковского, с его строгостью в оценках поэзии. Считал его в какой-то мере — и это так и было — своим учителем на раннем этапе работы, и естественно, и иногда даже чуть-чуть насильственно, из чувства благодарности, порядочности, отдавал ему должное и подчеркивал даже старшинство Исаковского. Хотя где-то внутренне, конечно, ощущал старшим себя самого. Да иначе оно и быть не могло — по масштабам поэзии, а не по возрасту!
Итак, поэты далекие не вызывали одобрения своей далекостью, поэты близкие не вызывали одобрения за свою излишнюю близость, которую Твардовский был иногда склонен даже преувеличивать, как бы внутренне подгребать поэтов, не столь уж похожих на него, в «похожие» и осуждать их за это. И это можно было наблюдать в поэтическом отделе «Нового мира» в те времена, когда журналом руководил Твардовский.
В общем, через строгое сито его взглядов на поэзию проходило много посредственного, чисто и точно написанного, но наделенного, если можно так выразиться, не первичными половыми признаками, а лишь вторичными. И я порой удивлялся тому, как Твардовский отвергал стихи талантливых, не похожих и на него, и друг на друга поэтов, и пропускал нечто чистое, холодноватое, антологичное, именно такое, про что у Данте говорится: «Оно не заслуживает ни хулы, ни хвалы…»
Твардовский любил говорить о мастерстве и любил мастеров своего дела. Я думаю, что его многолетняя дружба с Маршаком и его глубокое уважение к нему были связаны, прежде всего, с этим. Разумеется, Маршак был кладезем знаний; он необыкновенно много знал, а Твардовский любил встречаться с людьми, много знавшими, разговорами с которыми обогащал и душу, и память.
И понимание мастерства поэзии, и строгость в оценках, и точность в поэтических рекомендациях, которыми отличался Маршак, и, добавлю, искреннее преклонение Маршака, начиная с тридцатых годов, перед поэзией Твардовского, понимание ее — все это, вместе взятое, делало Маршака, пожалуй, самым близким в поэзии Твардовскому человеком.
По отношению к Маршаку он часто бывал некритичен. Меня, например, удивляло, что Твардовский одинаково ценил как действительно замечательные вещи Маршака — такие, как его переводы из Бернса, Шекспира, такие, как его удивительные детские стихи, так и лирику Маршака, в общем-то вторичную, потому что всего себя, главного, Маршак отдал другому. Он был высокоталантливым и даже гениальным интерпретатором, но он не был поэтом той первозданной силы, когда талант, как говорится, идет от пупа.
Его лирика, очень тщательно написанная, выверенная на аптекарских весах поэтической точности, в общем-то, была в поэзии вторичным явлением, а Твардовский был склонен ценить ее как первичную.
Я отвлекся в сторону от того, с чего начал, но, видимо, так оно и будет повторяться на всем протяжении этих воспоминаний.
Начал я с того, что Твардовский относился ко мне в то время без особой любви и, может быть, даже уважения; и уж во всяком случае, без особого доброжелательства. К тому были, как мне кажется, разные причины.
Во-первых, несоответствие моей тогдашней популярности и моего положения в литературной жизни тому, что я в действительности сделал. Я был именно в этот период тем, что склонны называть «выскочками», и с известными к тому основаниями: у меня к этому времени было написано несколько хороших, как мне кажется, и знаменитых — это объективная действительность — стихотворений, две или три очень известных пьесы, из которых одна хорошая, а другие не столь хороши, одна повесть, заслуживающая внимания, а если посмотреть на печать, на упоминание в различных статьях, обзорах, рецензиях и так далее и так далее, могло создаться впечатление, что я одно из первых лиц в литературе.
И должность — с одной стороны, первый заместитель Фадеева, с другой стороны, редактор самого большого журнала — вроде бы тоже соответствовала этому ложному представлению.
Твардовский был чуток к таким вещам и достаточно язвителен, и не склонен был их прощать кому бы то ни было, в том числе и мне.
Во-вторых, не нравилось ему многое и в моих тогдашних повадках, и в образе жизни. И как я, только что вернувшись из-за границы, с несколько глуповатым шиком, особенно если принять во внимание время, в которое мы тогда жили, одевался. Не нравилась слишком бурная и шумная общественная деятельность; не нравились, очевидно, некоторые повадки, связанные где-то в своей основе, должно быть, все-таки с дворянским происхождением, — в общем, где-то я был для него тогда делавшим шумную литературную карьеру дворянчиком, молодым, да ранним.
А при этом, может быть, что-то из написанного мною во время войны ему и нравилось, да и, в общем, из чувства справедливости он, очевидно, отдавал должное моей работе военного корреспондента в годы войны.
Хотя и тут, как это иногда проскальзывало у нас в разговорах, склонен был считать, что я больше скользил по верхам, чем заглядывал в глубину:
Мне ни тогда, ни сейчас не казалось это достаточно справедливым, но у Твардовского было искреннее свойство считать, что до конца в глубину заглядывает только он сам. И, пожалуй, единственное исключение из этого в литературе он впоследствии сделал для Солженицына, когда ему показалось, что в «Одном дне Ивана Денисовича» тот заглянул в большую глубину, чем заглянул сам Твардовский, говоря о жизни своего народа.
А я думаю, что это было заблуждением, потому что дело было не в мере глубины — мера глубины всегда оставалась большей у Твардовского, — дело было в ином, ошеломившем Твардовского материале, над которым работал в этой повести Солженицын.
Преклонение перед человеком, который, как показалось Твардовскому, заглянул в бо́льшую глубину народной жизни, чем он сам, было основой его последующего отношения к Солженицыну. И тех переоценок и масштабов его таланта, и качеств его личности, с которыми были связаны их последующие, достаточно трудные и горькие для Твардовского отношения.
При встречах и разговорах о литературе, да и вообще о жизни, уже и тогда, в первые годы после войны, Твардовский был столь же резок, а порой ядовит и даже беспощаден, ироничен, каким оставался до конца своей жизни. Что все же не приводило нас к столкновениям: я эту манеру сносил, порой огрызался, платил той же монетой, а в глубине души переживал как известную боль: да, терпимая, да, в иной раз даже добродушная, но в общем-то слишком ироничная по отношению к тебе манера Твардовского выводила из равновесия.
Видимо, сила его таланта и сила его личности были таковы, что пройти мимо этого я не мог. И забыть об этом не мог. Мне внутренне хотелось так объяснить ему себя, чтобы он меня понял и стал лучше ко мне относиться. Но объяснить это словами было невозможно — это можно было объяснить только жизненными и литературными поступками, то есть книгами или решимостью на что-то, на что я в те годы не решался.
Ничто другое не могло сблизить меня с Твардовским.
В те же первые послевоенные годы у меня вышло, кажется единственное на памяти, столкновение с Твардовским, которое не стоило бы вспоминать, не будь у него эпилога.
Твардовский как-то заехал ко мне домой в том, иногда посещавшем его настроении, когда он любил задираться и по делу, и без дела, поддевать собеседников, притом привыкнув, что это в таких случаях сходит ему безнаказанно. В ту пору я уже стал редактором «Нового мира», и у меня сидела в гостях одна из сотрудниц журнала, бывшая моим другом еще с юных лет, со студенческой скамьи.
Вскоре после прихода Твардовского мы втроем поспорили о каких-то напечатанных в журнале стихах, и Твардовский остался в этом споре в одиночестве. Не знаю уж, почему это его так задело тогда, но он, вдруг прервав спор, сказал что-то уничижительное о моей гостье. Что-то вроде того, что можно было и не спрашивать о ее собственном мнении, после того как ее начальство, то есть я, уже высказалось. Это было обидно, а главное, настолько несправедливо, что я, поманив за собой Твардовского из комнаты в коридор, сказал, что ему нужно сейчас же пойти и извиниться.
Он долго молча, недоверчиво смотрел на меня, словно не понимал, как ему могли сказать такое, не ослышался ли он. Потом, поняв, что не ослышался, повернулся, надел шапку и ушел.
Когда через несколько дней мы встретились с ним, ни я, ни он не вспомнили о происшедшем — видимо, обоюдно сочли это лишним. И все-таки потом, при других обстоятельствах, Твардовский счел нужным сам вспомнить об этом.
Прошло много времени, редактором «Нового мира» был уже не я, а Твардовский, и та сотрудница журнала, из-за которой вышло у нас когда-то столкновение, уже несколько лет работала в «Новом мире» вместе с Твардовским. Я зашел по каким-то своим делам в «Новый мир», и вдруг Твардовский, среди разговора о совсем других вещах, ничего не уточняя и не напоминая подробностей, посмотрев на меня, сказал:
— Как выяснилось, ты был прав тогда насчет… — Он назвал имя-отчество. — А я был не прав.
Сказал и вернулся к прерванному разговору.
Я бы не вспомнил здесь того маленького столкновения, если бы не эти слова Твардовского, сказанные спустя пять или шесть лет и свидетельствующие о такой важной черте его нравственного облика, как конечная, глубоко продуманная справедливость к людям.
В начале 1950 года возник вопрос о моем переходе из «Нового Мира» в «Литературную газету». Несмотря на настойчивые уговоры Фадеева, я колебался. И подмывало попробовать силы на таком новом для меня деле, как редактирование газеты, — казалось, я смогу сделать ее другой, более интересной, — и жаль было покидать «Новый мир».
Кроме того, и это было тоже немаловажно для меня, возникал вопрос — в чьи руки передать журнал? Допускаю, что это происходило от излишней самоуверенности, но я не видел человека, которому готов был бы без колебаний передать в руки дорогое для меня дело.
Не знаю, чем бы все кончилось, если бы не Твардовский, который вдруг, в присутствии Фадеева, посоветовал мне все-таки пойти на газету. Сказав, что мне по силам переменить ее к лучшему, он, словно угадав причину моих колебаний, добавил, что, если я пойду на «Литературную газету», он готов попробовать свои силы в «Новом мире».
Кандидатура Твардовского как редактора «Нового мира» до этого ни разу не приходила мне в голову. Я воспринимал его, и казалось с достаточными основаниями, как человека, от времени до времени готового проявлять свой темперамент в литературных спорах, но при этом не склонного повседневно и регулярно тянуть такую лямку, как редактирование толстого журнала.
Я ошибался, и это очень быстро подтвердилось — очевидно, именно тогда в жизни Твардовского пришел час, когда ему захотелось самому, на практике, в общественно — литературном деле применить те нравственные и эстетические критерии, которые у него сложились. И толстый литературный журнал был, конечно, хотя и нелегким, но благодарным полем для такого рода деятельности.
Я посмотрел на Твардовского с некоторой оторопью — настолько удивило меня своей неожиданностью его предложение. Очевидно, эта оторопь была написана у меня на лице, потому что он счел нужным подтвердить:
— Да, да, совершенно серьезно. Если ты возьмешься за ту лямку, я готов перенять от тебя эту.
Редко берусь дословно вспоминать давние разговоры, но в данном случае все это именно так и было сказано.
Я согласился пойти в «Литературную газету», а Твардовский через месяц стал редактором «Нового мира».
Вскоре мы договорились с Твардовским, что роман о событиях 1939 года в Монголии, «Товарищи по оружию», я, когда закончу, принесу в «Новый мир».
В таком решении сыграло свою роль и то, что Твардовский пригласил к себе заместителем Анатолия Тарасенкова, через руки которого в предвоенные годы в журнале «Знамя» прошли почти все мои первые стихи и поэмы, так же как и большинство из написанного Твардовским.
В 1951–1952 годах я принес в «Новый мир» сначала первую, а потом и вторую часть своих «Товарищей по оружию».
Роман этот, впоследствии сжатый мною с тридцати двух до девятнадцати печатных листов, все-таки и сейчас оставляет желать лучшего. А в ту пору, когда я в первоначальном виде принес его в «Новый мир», был вещью растянутой, рыхлой, а местами просто-напросто неумело написанной.
Были в нем, конечно, и тогда места и главы, продолжающие нравиться мне до сих пор, но к этому хорошему не так легко было продраться сквозь забивавшие его сорняки. Однако Твардовский отнесся к принесенной мною работе с интересом. Как я думаю сейчас, к тому было несколько причин.
Первая из них, и довольно горькая для меня, состояла в том, что, если не считать достаточно редких исключений, именно эти годы были, пожалуй, самыми трудными и неурожайными в нашей прозе. Вышло так, что как раз тогда особенно выбирать было не из чего, а пятнадцать — двадцать листов прозы все равно надо было печатать в журнале каждый месяц.
Вторая причина благожелательного отношения Твардовского к печатанию моего романа на страницах его журнала была связана с материалом романа. Материал был нов, монгольская пустыня, далекая, известная большинству людей только по коротким тассовским заметкам, шедшая в обстановке военной тайны малая, но жестокая и кровопролитная война, как-то вдруг после начала Великой Отечественной сразу заслоненная ею и оставшаяся у большинства лишь где-то в уголках памяти. В прозе о ней к тому времени еще ничего не было написано, и я в своем весьма далеком от совершенства романе впервые приоткрывал эту страницу истории, и приоткрывал довольно широко, относительно неплохо зная материал и опираясь, кроме собственной памяти, не только на документы, но и на разговоры с участниками событий, знавшими намного больше меня. В числе их был и Георгий Константинович Жуков.
В данном случае я упомянул о нем не только потому, что он командовал группой советско-монгольских войск, разгромивших на Халхин-Голе японцев, но и потому, что еще одной из причин благожелательного отношения Твардовского к роману были понравившиеся ему главы, связанные с изображением командующего нашей армейской группой. Он был назван в романе просто «командующим», но я бы покривил душой, сказав, что прямо назвать Жукова — Жуковым мне помешало время, когда я писал роман.
Помешало другое — я писал роман, а не документальное сочинение. Писал о событиях, участниками которых были мои современники, и еще тогда взял для себя принцип, которого держался и впоследствии, — выводить в таких случаях на сцену только вымышленных героев, хотя бы за ними иногда и прощупывались реальные исторические лица.
Однако, принимая этот принцип, Твардовский был доволен моей решимостью изобразить именно в то время как всецело положительную — фигуру командующего, за которым не только по должности, но и по характеру не мог не угадываться Жуков. Твардовскому это казалось справедливым, а стремление к справедливости было связано со всем его образом мыслей.
У меня сохранилась датированная июлем 1952 года стенограмма обсуждения второй части романа, в котором деятельное участие принимал Твардовский.
Эта рабочая запись свидетельствует о характере редакторской работы, об искренности, прямоте и доброжелательной строгости Твардовского. И мне хочется привести здесь некоторые из его тогдашних высказываний.
«Скажу, что, как говорят в плохих прописях, первая часть жизни всегда лучше второй части жизни, потому что первая всегда что-то обещает, — так первая часть произвела большее впечатление, чем вторая. Это я должен сказать с совершенной искренностью…
На всей второй части лежит отпечаток некоторой, я бы сказал, торопливости, то есть первая часть мне представляется как читателю, — а я не только редактор, но и читатель, — более отточенной в смысле языковом, в смысле фразеологическом, в смысле писательского мастерства. Вторая часть в этом смысле меня во многом огорчила.
Если мы начнем печатать первую часть, по которой есть наши замечания и которая гораздо чище, то вторая часть требует доработки, с перышком надо пройтись, фразу за фразой…
К этому и сводится мое предложение — насчет отшлифовки, очистки от всякой словесной перхоти, причем иногда и фразеологической, то есть нужно целые фразы иногда вычеркивать.
Общий тон хороший, главы есть замечательные, например главы с поимкой японских шпионов, вообще вся эта степь — это чудесно, но немножко отчетливей нужно сказать, что же они делали там.
…Ты живешь в романе в 1939 году, и ты этого должен держаться. У тебя слишком умны иногда люди. Синцова мобилизовали в сентябре, и он уже все понимает! Да же Маша строит жизнь в соответствии с большой войной. А каким было бы прекрасным решение, чтобы она задумала посадить что-нибудь в саду к приезду Синцова. То есть — все наоборот! Никто же ничего не знал тогда!..
Я был человеком, кончившим высшее учебное заведение и мобилизованным 15 сентября, и я понять ничего не мог…
У тебя хорошо, когда люди из боя, из монгольской степи говорят, что заключен договор.
Ты должен их устами показать, что они понимают мудрость советской политики. Значит, нападения не будет? Так? Но ты наделяешь людей слишком большой прозорливостью, которая не свойственна им…
Речь идет о том, что мы не знали тогда многого такого, что знают твои герои. Они знают слишком много.
Я считаю, что вещь удалась… Этот роман — обещание. Ты начал очень спокойно и уверенно, как будто говоришь читателям:
— Я вам расскажу историю некоторых моих друзей. Я вам расскажу, как некоторые люди учились, жили, были военными, приехали на границу, и, когда на границе был конфликт, вот что там произошло. Но я вам это рассказал накануне каких-то больших событий. А после этого начнется что-то очень большое…
Художника надо все время держать в мобильном состоянии. Он не должен быть один с самим собой. Говорите ему самое резкое, что только можете, и от этого ему будет только польза. Сейчас художник нуждается в том, чтобы ему говорили все абсолютно. У него идет изумительный процесс. Он еще не простился с этой вещью. Когда она будет напечатана и выйдет отдельной книгой, он займется работой над следующей частью, и тогда он может сказать, что вообще эта книга у меня слабая…»
Так говорил Твардовский в 1952 году, в общем положительно относясь тогда к моему роману и в то же время словно предугадывая мое собственное будущее недовольство сделанным, заставившее меня вновь и вновь возвращаться к работе над «Товарищами по оружию», уже через много лет после их публикации в «Новом мире».
Вслед за романом я переписал наново свою довоенную пьесу «История одной любви», о которой вспоминаю сейчас только потому, что это дает мне возможность привести здесь очень поучительное, характерное для Твардовского письмо с отказом напечатать эту пьесу в «Новом мире» и с объяснением причин такого решения.
«Внуково, 15.VII.53
Дорогой Костя! Я, м. б., не дозвонюсь до тебя в предотъездный день, поэтому вкратце излагаю свое впечатление от пьесы, прочитанной мною одним махом. Она действительно «легко читается и даже легко писалась» — это можно о ней сказать с несравненно большей справедливостью, чем было сказано о твоем лучшем большом и серьезном труде. Но и здесь, говоря «легко читается», я не хочу сказать это в дурном смысле. Это достоинство, и достоинство не так часто встречающееся у нас. В ее незамысловатой, отчасти наивной (это ведь дань молодости, но пьеса-то все же та, которая была написана 12–14 лет назад) конструкции, немногочисленности действ, лиц, отчетливости положений, незагроможденности побочными мотивами и т. п. — ее очевидные преимущества перед многими современными драматургическими построениями. Это все так. И ничего дурного нет в том, что ты возвратился к ней, переписал ее набело (я говорю «ничего дурного», потому что резко отрицательно отношусь к той распространившейся моде переделок и перелицовок вещей четвертьвековой давности до 25 % нового текста — об этом мы в Н. М. будем однажды писать на одном из избранных примеров), решил дать ее вновь на сцену, включить в собрание сочинений и т. п. Но боже тебя упаси публиковать ее в журнале, не только в Н. М., где она просто не пойдет, но и в каком-либо ином месте. Это будет несолидно, в духе поветрия, которое в этом смысле уже принесло десятки подобных случаев на базе неписанья нового — желания хоть как-нибудь напомнить о себе, получить гонорар — вплоть до примера А…ой — помнишь?
После «Товарищей по оружию», вещи, перенесшей тебя в иной горизонт, горизонт более глубокого залегания, чем все твое прежнее (кроме, м. б., рассказов и отдельных очерков), нельзя тебе появляться в этом перелицованном костюмчике, где при всей его отглаженности боковой кармашек все же перешел на правую сторону, — нельзя, не советую.
О многом еще я могу сказать при встрече, при беседе, но писать много мне некогда сейчас. Одно скажу, не вижу я истинно творческой необходимости этой переделки. Как это можно вдруг обратить внимание людей — читателей, зрителей — к этой «проблеме», минуя годы и потрясения, занимающие их (людей) души вчера и сегодня? Это — «профессиональное». Это вроде как бы «отдохнуть» от сложности и пр. Но в творчестве отдыха нет даже там, где создаются вещи для отдыха, для легкого потребления. Вот что, примерно, обязывает меня сказать тебе моя уверенность в тебе — писателе, обязанном к свершениям уже не ниже «Товарищей», не то что не ниже или не выше, а вернее, не жиже.
Твой А. Твардовский».
Истинно товарищеская строгость этого письма Твардовского, его настойчивое и терпеливое желание объяснить мне, почему он не только не может напечатать мою пьесу, но и почему я не должен стремиться к ее публикации в журнале, произвели на меня большое впечатление. Я еще не остыл от пьесы, перечитывая письмо Твардовского, вновь и вновь принимался мысленно спорить с ним то по одному, то по другому поводу, но конечная правота его выводов все-таки переубедила меня.
К следующему, 1954 году относится встреча с Твардовским, когда, по-моему, я в первый и последний раз вслух читал ему свои стихи. Я уже пять или шесть лет почти не писал их и вдруг за два или три месяца, почти не отрываясь, можно сказать за один присест, написал книгу стихов, потом названную мною «Стихи 1954 года».
Я был увлечен этой книгой и сам оценивал ее куда выше, чем она того заслуживала. Сказался многолетний перерыв в писании стихов; после такого перерыва особенно хотелось поверить в свою удачу. И я решился на то, чего, наверно, не сделал бы в другом случае. Решился прочесть всю книгу стихов вслух Твардовскому, которого заведомо считал не только строгим, но и далеко не всегда праведным судьей чужой поэзии.
В те годы я жил совсем рядом, через улицу от «Нового мира», и, зайдя туда перед концом рабочего дня, затащил Твардовского к себе — слушать стихи.
Он сел напротив меня за стол и, тяжело положив на него руки, немного нагнувшись вперед, стал слушать — терпеливо и внимательно, всю книгу подряд, не перебивая и не давая мне останавливаться. Когда я делал паузу между стихами, то встречался со взглядом, в котором ничего нельзя было прочесть.
— Давай дальше, дальше…
Так я прочел всю книгу.
Твардовский довольно долго молчал. Потом сказал:
— Конечно, если ты перед кем-то поставишь вопрос так: или всё, или ничего, поежатся, но в конце концов, на твою беду, напечатают всё. Но позволь нам взять в наш портфель только то, что или хорошо, или почти хорошо. А все остальное — твоя воля, где и как печатать!
Он поговорил несколько минут об одном особенно понравившемся ему стихотворении, потом, припоминая или по названиям, или по смыслу и загибая неторопливо пальцы, назвал и другие стихи, которые бы он взял. В рукописи книжки было тогда стихотворений двадцать пять — тридцать, но для тех, что он выбрал, хватило пальцев на двух руках, еще остались и незагнутые.
— Ничего из других стихов не хочешь брать? — спросил я.
— Из других ничего не хочу, — сказал он, поднял голову и посмотрел на меня прямо и очень внимательно. — Знаю, можешь сказать мне в ответ, что я у себя в «Новом мире», бывало, и похуже того, от чего сейчас отказываюсь, печатал, и будешь прав. Но ведь ты сам редактор, сам знаешь, что, когда номер пора в типографию, а выбрать не из чего, бывает, и дерьмо ешь, а говоришь — вкусно. Тут другой случай — есть что и из чего выбирать. Я и выбрал. А ты уж сам решай — обижаться тебе или не обижаться, соглашаться печатать у нас только это, а все остальное — где хочешь! — или не соглашаться.
Я не обиделся и согласился, с той поправкой, что, поспорив немного, добавили к выбранным Твардовским еще одно или два стихотворения, которые я считал в числе лучших. Добавили, впрочем, только после того, как я прочел их еще по одному разу.
Твардовский сидел и слушал так же неторопливо и внимательно, еще по разу примеряясь к уже слышанным стихам.
За всем, что он говорил в тот вечер, стоял не высказанный на словах, но достаточно ясно услышанный мною призыв: не пользуйся ты, пожалуйста, сейчас тем, что ты на коне и что найдутся охотники пойти тебе навстречу, коли принесешь даже неважные стихи; пойми, что это не благо! А благо для писателя как раз наоборот: то нормальное положение, когда одно, что получше, у тебя возьмут, а другое, что похуже, не побоятся — вернут. Вот именно так, как я предлагаю тебе сейчас — одно взять, а другое вернуть.
Я не повел себя так, чтобы Твардовскому пришлось вслух высказывать мысли, которые я прочел за его словами. Обижать меня он явно не хотел, тем более что некоторые стихи ему понравились. Но если бы я поступил по-другому, то и он бы, не сомневаюсь, в свою очередь поступил по-другому, сказал бы вслух то, о чем подумал, обидеть бы не побоялся.
В начале осени 1954 года, когда шла подготовка ко Второму съезду писателей, я почти ежедневно сидел в Союзе. Твардовский зашел ко мне туда по делу, но не по собственному, а по чужому, писательскому. Если мне не изменяет память, речь шла о задержке с переизданием книги одного из старых, хороших, но не пользовавшихся достаточным вниманием писателей.
Я обещал в меру своих сил помочь этому изданию. Твардовский, выслушав, кивнул, но прощаться не стал, продолжал молча сидеть напротив меня в кресле — мрачный и сосредоточенный. Потом, после долгого и под конец ставшего тягостным для меня молчания, вдруг уперся в меня глазами и сказал, коротко, без лишних слов, как что-то не только заранее обдуманное, но, быть может, даже и заранее сформулированное:
Если будут предлагать идти обратно на «Новый мир» — не смущайся, иди. Имей в виду, что раз так, то я за это. — Я, сказав, сразу поднялся. Видимо, решил ограничиться сказанным, дальнейшего разговора на эту трудную тему продолжать не желал.
Сказанное Твардовским было для меня не только важным, но и неожиданным. То, что он, очевидно, уйдет в ближайшее время из «Нового мира», я знал, знал и всю сумму приведенных к этому обстоятельств.
Но я знал и другое: у Твардовского есть горькая обида на меня за то, что я сначала слушал в его чтении большую часть поэмы «Теркин на том свете» и хвалил ее, а потом, когда он завершил поэму и зашла речь о ее печатании, не только не поддержал его, а, напротив, высказался против публикации поэмы в журнале.
Нелегко вспоминать о том, о чем позже сожалел (и в чем коришь себя и до сих пор). Но без этого печального для меня воспоминания не будет правдивой общей картины моих отношений с Твардовским. Его справедливая обида на меня еще несколько лет после этого стояла между нами.
А теперь, когда я объяснил это, не трудно понять, насколько неожиданными для меня были слова, сказанные мне Твардовским о «Новом мире».
Мне врезалось в память каждое его слово, я хорошо понимал обдуманность каждого из них. Он помнил о нанесенной мною ему обиде, поэтому и сказал «не смущайся». Он сожалел, что расстается с журналом, поэтому: «раз так»; но при всем этом он все-таки предпочитал узнать, что новым редактором журнала стал я, а не кто-то другой, и, очевидно, считал нужным довести это до моего сведения, иначе не сказал бы мне того, что сказал.
Через два или три месяца после этого Твардовский ушел из «Нового мира», а мне предложили вновь взять на себя редактирование журнала. И я дал согласие.
В данном случае не к месту говорить о моей работе в редакции «Нового мира». Скажу о ней только в связи с Твардовским и с тем наследством, которое я от него получил, вернувшись в журнал.
Пока Твардовский редактировал журнал — между началом 50–го и концом 54–го года, я внимательно и даже ревниво следил за тем, как ведется журнал. И меня, наверно, можно понять, как человека, в свое время, по доброй воле, передавшего на ходу Твардовскому это литературное дело, на которое в первые годы после войны всеми, кто участвовал в нем, было положено немало трудов.
Естественно, что, читая журнал, номер за номером, я далеко не всегда соглашался с Твардовским в том выборе, который он делал — одно отвергая, а другое публикуя в отделах прозы и особенно поэзии. Рецензии и статьи, печатавшиеся в журнале, тоже иногда давали мне повод для критических размышлений, а порой и вызывали желание спорить.
Однако за пять лет без малого, которые в тот раз, в 1950–1954 годах, Твардовский вел журнал, я, несмотря на ревность, о которой упоминал, сделал главный и несомненный для себя вывод: в журнал при Твардовском вошло нечто новое, нечто такое, чего недоставало в нем раньше в период моей работы, — стремление сосредоточить литературные усилия на преодолении общественных трудностей. Критика и самокритика наших недостатков, основанная на глубоком знании жизни, велась в журнале на самом трудном и неподатливом материале, на материале наших и общественных, и бытовых неустройств в деревне, устами прежде всего Овечкина, а вслед за ним и Тендрякова, Залыгина, Троепольского. К этим именам, в данном случае главным, можно было бы прибавить еще несколько. Имен людей, чьими усилиями при Твардовском в «Новом мире» с наибольшей правдивостью и глубиной были затронуты тогда в литературе многие труднейшие проблемы нашей жизни, быта, нравственности. А за всем этим, вместе взятым, несомненно стояло постоянное стремление редактора сделать главным героем на страницах журнала правду жизни, публично разобраться в ее сложностях и тем помочь утверждению здоровых начал.
Не знаю, как бы я сформулировал это тогда, но сейчас, спустя много лет, ощущение сделанного Твардовским в «Новом мире» формулируется так. А тогда, в конце 1954 года, я просто почувствовал, что руководимый Твардовским журнал, вовлекший в свою работу Тендрякова, Овечкина, Залыгина, Троепольского и других, превосходно знающих жизнь и смело вторгающихся в нее писателей, сделал этим нечто столь важное для литературы, чего редактор, пришедший после него на его место, не вправе растерять. Моими первыми обращениями после прихода в «Новый мир» были обращения именно к этим писателям с просьбой продолжать оставаться авторами «Нового мира» и дать журналу свои новые вещи.
Большинство из тех, к кому я обратился, тяжело переживали уход Твардовского из «Нового мира» и ко мне, пришедшему на его место, относились выжидательно, а подчас и с долей иронии, как к человеку, который обещать обещает, а выполнит ли обещанное, оправдает ли их доверие — еще бог весть?
На протяжении тех трех с небольшим лет, что я вторично был редактором «Нового мира», в нем опубликовали свои новые вещи все упомянутые мною писатели, пришедшие в журнал при Твардовском. Приложить к этому все усилия я считал не только долгом перед литературой, но и долгом перед своим предшественником.
Говоря о работе «Нового мира» в те годы, вспоминаю лишь о том, что в моем самоощущении было в наибольшей степени связано с тем, что я бы назвал в журнале — традицией Твардовского. Ни о чем другом не буду.
С Твардовским в те годы я встречался редко, гораздо больше, чем с ним самим, — с его стихами, со все новыми главами «За далью — даль». Мне уже трудно понять сейчас, издали, почему так это вышло, но первые главы новой книги Твардовского не взяли меня в плен так, как это было когда-то с первыми главами «Теркина». Некоторые куски только еще разворачивавшегося повествования показались мне тогда многословными. Больше того. С какой-то, странной для меня сейчас, слепотой я не почувствовал тогда всей жизненной значительности того разговора на литературные темы, который развертывался с читателем по ходу поэмы. И даже — было — хотел отозваться, написал «Литературные заметки» с критическими размышлениями вокруг первых глав поэмы. Написал, но, к счастью, не напечатал. К счастью, потому что в дальнейшем своем развороте новая книга Твардовского все больше и больше захватывала меня. Окончательный душевный перелом во мне произвела та глава, где я прочел ставшие историческими строчки: «Тут ни убавить, ни прибавить, так это было на земле».
А когда все здание поэмы было неторопливо доведено Твардовским до конца, эта удивительная путевая книга стала для меня вторым по своему значению его произведением после «Василия Теркина».
Добавлю, что к этому времени я уже другими глазами вгляделся и в первые, когда-то не особенно понравившиеся мне главы.
Вгляделся — почувствовал их нравственную силу и меру значения в общем замысле.
Чтобы уже не возвращаться к этому, забежав вперед, скажу, что в середине шестидесятых годов мне захотелось эти слова из книги «За далью — даль» — «Тут ни убавить, ни прибавить» — сделать названием того документального фильма о начале Великой Отечественной войны, который я задумал вместе с писателем Евгением Воробьевым и режиссером Василием Ордынским. Слова «Тут ни убавить, ни прибавить» были не только названием сперва сценария, а потом и фильма почти на всем протяжении нашей работы над ним, но были как бы и высшим смыслом того, во имя чего мы делали этот фильм, постоянным напоминанием о том, как именно надо его сделать.
Мне до сих пор жаль, что в многотрудную пору выпуска этого фильма, — а вышел он на экран после долгих и жестоких споров, — мне пришлось заменить строку Твардовского, первоначально стоявшую в заголовке фильма, строкою собственного стихотворения — «Если дорог тебе твой дом…». Стихотворение «Убей его» было тоже дорого мне памятью о самом трудном времени войны, но выбранная первоначально строка из «За далью — даль» намного больше отвечала сути сделанного нами фильма.
К началу 1958 года, после того как я около трех лет снова редактировал «Новый мир», я надумал уехать на два — три года из Москвы в интересные для меня места, совмещая там писательскую работу с корреспондентской.
В редакции «Правды» в принципе одобрили мое намерение поехать ее разъездным корреспондентом по республикам Средней Азии, а мои ташкентские друзья готовы были гостеприимно принять меня в Ташкенте, если я на эти два — три года переселюсь туда вместе с семьей.
Для себя самого я все именно так и решил, но одного моего решения было мало. При отъезде на такой длительный срок речь шла о прекращении практического участия в работе секретариата Союза писателей и об уходе с поста главного редактора «Нового мира».
Чтобы по возможности ускорить решение вопроса, я просил о приеме у Н. С. Хрущева, бывшего тогда первым секретарем ЦК КПСС, и несколько дней спустя был принят им.
Не думаю, что разговор, с которым я к нему пришел, был для него неожиданным; препятствий к тому, чтобы я ехал на два — три года корреспондентом «Правды» в Средней Азии, не возникло, за исключением одного: после моих объяснений, почему я хочу уехать, и после довольно долгого разговора на литературные темы, который в данном случае не идет к делу, Хрущев, прищурясь, спросил меня:
— Значит, через две недели, как я вас понял, хотите быть уже там, в Ташкенте? — Речь перед этим шла о том, что я хотел быть в Ташкенте, а точнее, в Голодной степи к началу сева хлопка. — А кто будет здесь редактором в «Новом мире»?
Я ничего не ответил, только молча пожал плечами. Этот вопрос было не мне решать. Да и отвечать на него как-то не с руки.
Но Хрущев, видимо, понял мое молчание по-своему: не то как упорство, не то как выражение обиды, и во второй раз спросил, уже напористо, с нажимом:
— Почему уходите от ответа? Сегодня работаете в журнале, а завтра хотите уехать. Вместо вас послезавтра надо на ваше место другого. Кого? Что вы сами — mo об этом думаете? Не поверю, чтоб сами об этом не думали.
— Конечно, думал, — ответил я и назвал того, о ком действительно думал все последние месяцы, собираясь расстаться с журналом: Твардовского. И сказал несколько слов о своем взгляде на Твардовского. Именно как на редактора. Добавлять что-либо более пространное не возникло желания, да, кажется, и не было нужды.
Хрущев сказал мне в ответ не то «обсудим», не то «обдумаем» и, поднявшись, пожелал доброго пути в Ташкент.
Я уехал в Ташкент. А Твардовский во второй раз стал редактором «Нового мира».
Хочу, чтобы те, кто прочтет этот маленький эпизод, меня верно поняли. К тому времени мысль о возвращении Твардовского в «Новый мир» возникла у многих людей — и литераторов, и не литераторов, понимавших, что Твардовский находится в самом разгаре сил и что ему в самую пору вновь принять на себя большое общественное литературное дело.
Не думаю, чтобы мой ответ сыграл какую-то роль в возвращении Твардовского в «Новый мир». Это и так бы состоялось. Но меня все-таки спросили: что я думаю? И я ответил, сказав то, что было на устах у многих.
Осенью 1958 года я получил от Твардовского полусерьезное-полушутливое послание на бланке «Нового мира».
«Дорогой Константин Михайлович!
Надеюсь, ты не станешь отказываться от тех слов, коими при передаче дел ко мне ты обещал журналу свое сотрудничество. Я их хорошо помню, есть и свидетели. Не откажи уведомить: что ты сможешь дать нам в 59 (хотя бы) году…
Желаю тебе всего доброго под ташкентскими кущами.
Твой А. Твардовский».
Весной 1959 года, помнится, в первый же день приезда из Ташкента в Москву, я зашел к Твардовскому в «Новый мир». Дел у меня не было, просто потянуло зайти в журнал. Твардовский был приветлив, шутил: как же я теперь буду представлен на близящемся съезде Союза писателей — как московский или как ташкентский писатель? Расспрашивал о моей работе в Средней Азии — где был и что видел… Я чувствовал его доброе отношение к себе, но не только это. В противоположность некоторым другим моим московским товарищам по профессии, он с серьезным одобрением относился к тому, что я на довольно долгий срок уехал в Среднюю Азию и, оторвавшись от привычной литературной жизни, с другим сталкиваюсь и о другом думаю. Он смотрел на это как на писательскую необходимость переменить на время жизнь, по-другому оглядеться вокруг и по-другому посмотреть на себя. Не выдаю то, что я сейчас сказал, за слова Твардовского, но разговор с ним в тот день шел примерно об этом.
Вдруг вспомнив среди этого разговора о Монголии, а вслед за ней и о своем романе «Товарищи по оружию», который я когда-то печатал в «Новом мире» у Твардовского, я поддался возникшему во мне душевному движению и, вытащив из портфеля, сунул Твардовскому в руки папку с рукописью, которую до этого вовсе не собирался ему давать.
— Возьми, прочти. И скажи, что думаешь об этом, только быстро, дня за три.
— Коли быстро, так послезавтра принесу прочитанную, — ответил он, кажется, почувствовав мое волнение.
— Пока не поговорим о ней — я тебе ее не давал, а ты ее не читал, — сказал я про рукопись.
Твардовский молча кивнул и положил рукопись к себе в портфель.
Рукопись была небольшая — первые двести с лишним страниц романа «Живые и мертвые», которые потом, в ту же весну, отдельно, с отрывом в несколько месяцев от всего остального — от продолжения и окончания романа, были напечатаны в журнале «Знамя».
Это был трудный для меня момент. Роман был написан почти полностью, но все вместе как-то не укладывалось и не укладывалось… В конце концов я приготовил к печати эту небольшую рукопись — первые, больше всего нравившиеся мне самому главы. Я хотел убедиться в возможности напечатать их вот так, отдельно, и в чьей-то решимости это сделать.
Видимо, в тот момент такое самоутверждение было мне необходимо для окончания работы. По правде говоря, не знаю, отдал бы я тогда эту рукопись Твардовскому, если бы он обрадовался ей и попросил ее для «Нового мира». Наверное бы, все-таки отдал, хотя и в этом была бы известная неловкость перед «Знаменем», редакция которого читала год назад первую половину романа и вернула мне ее для доработки со многими замечаниями, в том числе и вполне справедливыми.
Но этот вопрос, который я ставлю перед собой сейчас, тогда, весной 1959 года, мне обдумывать не пришлось. Начало моего романа Твардовскому не понравилось, как он выразился — «не погляделось». Придя к нему через день, я сидел напротив него, и он, переворачивая рукопись лист за листом, огорченно говорил мне о своем недовольстве ею. А я сидел, слушал и все не мог взять в толк: чем он недоволен, что не так? Доводы его, высказанные мягко и с вполне очевидным доброжелательством, на этот раз меня не убеждали.
Терпеливо растолковывая мне, почему не понравилась моя рукопись, где я, по его мнению, напрасно раздвоился — между романом и рассказом от первого лица, Твардовский прибег даже к терминам из области теории литературы. Уверял меня, что я как-то неправильно, с точки зрения технологии литературного мастерства, смещаю точку зрения на происходящее, вижу одно и то же разными глазами… А я слушал и не мог ни согласиться с ним, ни понять его. Понимал только, что, раз дело дошло до теории литературы, значит, при чтении рукописи был утрачен первоначальный непосредственный интерес к ней. А раз так — стало быть, не о чем и говорить!
Наконец Твардовский протянул мне мою рукопись с закладочками на многих страницах, со следами внимательнейшего чтения и, освободившись от нее, огорченно развел руками: мол, рад бы соврать тебе, да не могу, не имею права…
Я был не убежден в его правоте и огорчен. Он был убежден в ней и тоже огорчен. Таким огорченно провожавшим меня из редакции я и запомнил его в тот трудный, но не обидный для меня день, после которого осталось странное чувство: почему-то не поняли друг друга, а почему — неизвестно…
Ни Твардовский, ни я никогда больше не возвращались к разговору о той рукописи. Так и осталось: я рукопись ему не давал, а он ее не читал.
Я вернулся из Средней Азии в Москву, а через несколько лет после этого Твардовский переехал из Внукова в писательский кооперативный дачный поселок на Пахре, и мы стали с ним там соседями.
Я писал роман и большую часть времени работал за городом. А для Твардовского, хотя он и ездил регулярно в Москву, дом его в нашем дачном поселке стал постоянным местом жительства.
После моего возвращения в Москву мы и до его переезда сюда, на Пахру, были в добрых отношениях. А такое житейское обстоятельство, как соседство, сблизило нас намного больше. Точней говоря, оно, это соседство, привело ко многим встречам и разговорам, постепенно ставшим как бы в обычае у нас обоих. А эти, ставшие в обычае, встречи и разговоры, должно быть, позволили лучше узнать и понять друг друга и тем самым привели к большей близости.
Близость эта, когда речь заходила о литературе, не исключала споров и несогласий в оценке тех или других произведений и лиц. Но если говорить о моем отношении к Твардовскому в ту пору, то самым главным было мое, окончательно установившееся, понимание всей крупности и незаурядности этой личности и всего значения ее в нашей литературе.
Я мог в том или другом не сходиться с Твардовским, и это достаточно откровенно обнаруживалось в наших с ним разговорах. Но его понимание долга писателя, его понимание чести и достоинства литературы и ее предназначения в жизни общества, не раз высказанные им не только в разговорах, но и в статьях и выступлениях, в том числе с такой высокой трибуны, как съезд партии, — были для меня бесспорны.
А что до наших личных бесед, то я могу без обиняков сказать о том серьезном нравственном влиянии, которое имело на меня частое общение с Твардовским в последнее десятилетие его жизни.
В те годы, о которых я вспоминаю, Твардовский был, а потом перестал быть редактором «Нового мира». Все связанное и с долгими годами этой работы, и с последующим уходом из журнала, занимая огромное место в жизни Твардовского, естественно, занимало немалое место и во всех наших разговорах с ним, и в моей собственной душевной жизни… Было бы странно, если бы это было не так.
В заключение — одно воспоминание, связанное по времени с началом лета 1969 года. В небольшое приморское селение Гульрипши, где я всегда, когда это удавалось, уже в течение многих лет проводил по два — три месяца в году, приехал Твардовский вместе с женой, Марией Илларионовной, и устроился на жительство в двухстах шагах от меня, в домике местной жительницы тети Паши.
В Абхазии Твардовский был уже не впервые. Последние годы его связывали дружеские отношения с абхазским поэтом и прозаиком Багратом Васильевичем Шинкубой, и он, по совету и предложению Шинкубы, уже приезжал сюда, жил в домах отдыха и санаториях. На этот раз им с Марией Илларионовной захотелось пожить «дикарями» здесь, в Гульрипши, у самого моря, на еще нелюдном в начале лета берегу.
Твардовскому нравилось бывать в Абхазии. Он хорошо себя здесь чувствовал, отдыхал и, наверное, в ту меру, в какую это вообще было возможно, отрывался от тяготивших его мыслей о журнале. И мне казалось, что здесь это ему удавалось больше, чем где-нибудь в другом месте. Его интересовали поездки по селам Абхазии и неторопливые вечерние беседы с Багратом Васильевичем Шинкубой, который был знатоком истории и быта своего народа; Твардовский любил расспрашивать его об этом и подолгу внимательно и уважительно слушал его рассказы.
Квартируя в Гульрипши у тети Паши, Твардовский вставал рано и сразу, с палочкой в руках, шел к морю. Похаживал там, пошвыривая палочкой гальку, купался, сидел на берегу, глядел на море… Так бывало каждый день, но заставал я Твардовского на берегу всего два или три раза — в остальные дни обычно просыпал, потому что накануне допоздна работал над книгой «Последнее лето», с которой у меня что-то не ладилось. А что — я не мог понять.
Как-то, когда Твардовский заглянул ко мне, зашел разговор о моей работе и я признался, что она не клеится. Уже в третий раз переписываю, как мне кажется, ключевую в первой части романа главу, а она все не выходит.
— А ты дай мне почитать, — сказал Твардовский и усмехнулся: — Знаю, что для «Знамени», а не для нас. Прочту просто так, по-соседски, через два или три дня.
Он прочел и после завтрака зашел ко мне с рукописью. Положив рукопись на стол, отозвался о ней сдержанно — одобрительно, что-то вроде того, что «в общем получается, но многое еще сыровато, хотя, впрочем, ты, наверное, это и сам знаешь».
Что сыровато, я знал и сам и подтвердил это. Но меня мучило не это, а никак не выходившая глава. Это была глава о Сталине, следовавшая в рукописи романа сразу за той главой, в которой генерал — лейтенант Львов пишет свое письмо Сталину.
— А ты выкинь ее, — сказал мне Твардовский об этой главе, уверенно и просто, как о чем-то совершенно ясном для него самого. — Она потому у тебя и не получается, что ее надо выкинуть. А как только выкинешь — сразу без нее все и получится!
Он усмехнулся понравившейся ему самому формулировке и стал после этого серьезно объяснять мне, почему нужно исключить из романа эту, не удавшуюся мне, главу.
— Все, что ты хотел в ней выразить, ты уже выразил в той главе, в том романе. — Речь шла о романе «Солдатами не рождаются». — А тут он у тебя в роман, по сути дела, не введен. Появляется лишь потому, что ему нужно прочесть письмо, которое ему кто-то написал. Недостаточная причина для появления столь серьезной фигуры. С такой серьезной фигурой и обращаться надо по-серьезному. А что касается твоего Львова, то он гораздо отчетливее проявит себя в романе как раз без этой главы. Без нее он больше заставит думать над собой читателя.
Я поблагодарил Твардовского и без колебаний послушался его.
Глава вылетела из романа с той легкостью, с какой выскакивают только действительно лишние. Так, словно ее никогда и не было.
В день рождения Твардовского, когда ему исполнилось пятьдесят девять лет, он и Мария Илларионовна вместе с Багратом Шинкубой, Иваном Тарбой и другими нашими общими друзьями поехали за десять километров от Гульрипши в загородный ресторан. Мы ужинали там под открытым небом, пили легкое местное красное вино «Изабелла», вкусно и неторопливо ели, наслаждаясь прохладой после дневной жары.
Наши грузинские друзья Нодар Думбадзе и Гульда Каладзе специально приехали к этому вечеру из Кутаиси и привезли с собой в подарок Твардовскому, на день рождения, чудо кулинарного искусства — целиком приготовленного козленка, внутри которого оказался жареный поросенок, внутри поросенка жареный цыпленок, а внутри цыпленка, шутки ради, было положено вареное яичко. Сначала дружно смеялись над этим сюрпризом, а потом так же дружно взялись за работу над этим произведением кутаисской кулинарии.
Вечер этот был веселый, дружеский, без натяжек, без долгих тостов. За нашим разноплеменным столом сидели и люди, давно знавшие Твардовского, и люди, лишь недавно, здесь с ним познакомившиеся, но общая атмосфера доброжелательства и уважения к нему объединяла весь стол. И он в тот вечер, за этим согревшим ему сердце столом мне и сам показался каким-то немножко оттаявшим от забот и тревог; выглядел более молодым и менее усталым, чем обычно.
Это ощущение сохранилось у меня и на следующий день, когда уже поздно утром я вышел и застал Твардовского еще на берегу. Он стоял босой на теплой утренней гальке, глядел в море и о чем-то думал. То ли такое настроение у него было, то ли такое освещение, но лицо его показалось мне в то утро посвежевшим и помолодевшим.
Я подошел и заговорил с ним. Он отвечал мне приветливо, но односложно, и я почувствовал, что ему сейчас не хочется отвлекаться от чего-то занимавшего его ум. Я влез в воду и поплыл, а он продолжал стоять на берегу и глядеть на море, кажется, занятый все той же самой мыслью, от которой я своим появлением его только отвлек на минуту, но не оторвал.
В моей памяти, как, наверно, в памяти каждого человека о другом человеке, есть много Твардовских в разные часы его жизни. И сейчас у меня на памяти этот — босой, утренний, стоящий на морском берегу, на следующий день после того, как он встретил там, далеко от Москвы, в Грузии, шестидесятый год своей жизни…
1973
Глазами человека моего поколения
Прежде всего следует сказать, что рукопись, к работе над которой я сегодня приступаю, в ее полном виде не предназначается мною для печати, во всяком случае в ближайшем обозримом будущем. В полном виде я намерен сдать ее на государственное архивное хранение с долей надежды на то, что и такого рода частные свидетельства и размышления одного из людей моего поколения смогут когда-нибудь представить известный интерес для будущих историков нашего времени. Что же касается тех или иных частей этой будущей рукописи, то я заранее не исключаю того, что у меня может появиться и желание, и возможность самому успеть увидеть их опубликованными.
В прошлом году минуло четверть века со дня смерти Сталина, а между тем мне трудно вспомнить за все эти теперь уже почти двадцать шесть лет сколько-нибудь длительный отрезок времени, когда проблема оценки личности и деятельности Сталина, его места в истории страны и в психологии нескольких людских поколений так или иначе не занимала бы меня — или непосредственно, впрямую, в ходе собственной литературной работы, или косвенно в переписке с читателями, в разговорах с самыми разными людьми на самые разные темы, не так, так эдак приводивших нас к упоминаниям Сталина и к спорам о нем.
Из сказанного следует, что Сталин — личность такого масштаба, от которой просто-напросто невозможно избавиться никакими фигурами умолчания ни в истории нашего общества, ни в воспоминаниях о собственной своей жизни, которая пусть бесконечно малая, но все-таки частица жизни этого общества.
Я буду писать о Сталине как человек своего поколения. Поколения людей, которым к тому времени, когда Сталин на XVI съезде партии ясно и непоколебимо определился для любого из нас как первое лицо в стране, в партии и в мировом коммунистическом движении, было пятнадцать лет; когда Сталин умер, нам было тридцать восемь. В этом году, когда ему было бы сто, нам станет шестьдесят четыре.
Говоря о своем поколении, я говорю о людях, доживших до этих шестидесяти четырех лет: репрессии тридцать шестого — тридцать восьмого годов сделали в нашем поколении намного меньше необратимых вычерков из жизни, чем в поколениях, предшествовавших нам; зато война вычеркивала нас через одного, если не еще чаще.
Поэтому оговорка первая: говоря как человек своего поколения, я имею в виду ту меньшую часть его, которая пережила Сталина, и не могу иметь в виду ту большую часть своего поколения, которая и выросла, и погибла при Сталине, погибла если и не с его именем на устах, как это часто говорится в читательских письмах, которые я получаю, то, во всяком случае, в подавляющем большинстве с однозначной и некритической оценкой его действий, какими бы они ни были. И многое из того, о чем мне предстоит писать, они бы с порога не приняли — и за год, и за день, и за час до своей смерти.
Оговорка вторая: в своем поколении 1915 года рождения я принадлежу к очень неширокому, а точнее, наверное, даже к весьма узкому кругу людей, которых обстоятельства их служебной и общественной деятельности несколько раз довольно близко сводили со Сталиным. Я с двумя своими ныне покойными товарищами по работе на протяжении нескольких часов был на приеме у Сталина в связи с делами Союза писателей; один раз говорил с ним по телефону по вопросу, касавшемуся лично моей литературной работы; несколько раз присутствовал на заседаниях Политбюро, посвященных присуждению Сталинских премий и продолжавшихся каждый раз несколько часов. В этих обсуждениях участвовали и писатели, в том числе и я. Я слышал не только последнее выступление Сталина на XIX съезде партии, но и его, очевидно, самое последнее выступление на пленуме ЦК после этого съезда. Довелось мне потом много часов провести в Колонном зале, близко видя и мертвого Сталина в гробу, и людей, проходивших мимо этого гроба. В результате этого у меня отчасти были записаны, отчасти остались в памяти некоторые непосредственные впечатления, игравшие и продолжающие играть свою роль в моем восприятии личности и деятельности этого человека.
Оговорка третья. Как журналист и литератор, на протяжении сорока лет неизменно, почти без исключений работавший над темою войны, прежде всего Великой Отечественной, я по ходу своей работы постоянно соприкасался с теми или иными сторонами вопроса о роли Сталина в Великой Отечественной войне, о причинах наших поражений и источниках наших побед, о мере внезапности войны и о мере нашей готовности или неготовности к ней. Работа над трилогией «Живые и мертвые», а затем над комментариями к моим дневникам военных лет подвела меня к теме «Сталин и война» в упор, вплотную. Я не считал себя вправе писать во втором романе трилогии «Солдатами не рождаются» глав, связанных с прямым появлением Сталина, без того чтобы составить себе возможно более ясное представление и о восприятии Сталина, и об отношении к нему — прежде всего именно как к человеку, до войны занимавшемуся военными вопросами, а в ходе войны ставшему Верховным Главнокомандующим, — со стороны людей, сведущих в военном деле, знающих, чем была Великая Отечественная война, игравших в ней видную роль и в силу этого неоднократно или многократно имевших дело со Сталиным.
В течение нескольких лет работы над романом «Солдатами не рождаются» я разговаривал на эти темы со сведущими военными людьми, записывал после этих разговоров их воспоминания, их высказывания, а также в дополнение к этому иногда и собственные, возникавшие у меня соображения, — разумеется, четко отделяя одно от другого. Я продолжал заниматься этим и в дальнейшем, уже закончив роман «Солдатами не рождаются» и работая на протяжении десяти лет с некоторыми перерывами над комментариями к своим дневникам «Разные дни войны». И многие причины, и многие следствия происходивших в годы войны событий были связаны с личностью Сталина, с характером его руководства войною. Для того чтобы прийти к собственным выводам по целому ряду вопросов, которые я затрагивал в комментариях к дневникам, мне было необходимо, насколько я только мог, широко познакомиться с теми мнениями, которые сложились по этим вопросам у военных людей. Это были, разумеется, люди разных поколений, что я считаю необходимым оговорить, но выводы из всего услышанного и сопоставленного делаю я сам, человек своего поколения, само собой разумеется, всецело берущий собственные выводы на собственную ответственность.
И наконец, оговорка четвертая. Сколько бы я ни получал читательских писем за последние двадцать лет со времени начала публикации трилогии «Живые и мертвые» и по сей день от читателей многих моих книг о войне, если не каждое третье, то по крайней мере каждое четвертое письмо так или иначе, в том или ином повороте касалось темы «Сталин и война». На многие письма я отвечал, с одними соглашался, с другими спорил, но так или иначе я двадцать лет имел дело с непрекращающимся потоком информации о том, как самые разные люди — разных общественных положений, поколений, профессий — смотрят на эту тему — «Сталин и война». В данном случае поводом для их высказываний были мои книги, но они были только поводом, а не причиной для размышлений. Причиной для размышлений была реальная история нашего общества перед войной, во время войны и после нее. И этот двадцатилетний, непрекращающийся поток информации все на ту же самую тему оказывал и продолжает оказывать влияние на меня — было бы странно, если бы это было иначе, — и это найдет свое отражение в рукописи, к которой я приступаю.
По всем этим причинам, которые отмечены в моих четырех оговорках, содержание рукописи может оказаться, с одной стороны, уже, а с другой стороны, наоборот, шире ее названия «Глазами человека моего поколения».
Обращаясь к давнему прошлому, к своей юности и молодости, труднее всего совладать с соблазном привязать свои нынешние мысли к тогдашним, оказаться в результате прозорливее, чувствительнее к ударам времени, критичнее к происходящему — короче говоря, умнее, чем ты был на самом деле. Всеми силами постараюсь избежать этого соблазна. Чуркой в те молодые годы я, очевидно, не был, но вспомнить какие-нибудь свои заслуживающие внимания размышления о Сталине в те годы не могу. Политических разговоров, которые велись в семье в моем присутствии, почти не помню. Глухо помню в тот период, когда мой отчим был преподавателем тактики в Рязанской пехотной школе, оттенок недовольства деятельностью Троцкого в качестве наркомвоенмора. Помню, что в нашей семье он не нравился. Допускаю, что это было связано с его отношением к служившим в Красной Армии военспецам, к числу которых принадлежал и мой отчим. Помню, что приход Фрунзе на место Троцкого был встречен хорошо, помню, как были огорчены потом его смертью. Замена его Ворошиловым была воспринята с некоторым удивлением и недовольством — видимо, среди таких людей, как мой отчим, существовало мнение, что на опустевшее после смерти Фрунзе место наркомвоенмора следовало назначить более значительного и более военного, чем Ворошилов, человека. Кто имелся в виду — не знаю, но оттенок такой в домашних разговорах существовал.
Впечатление от смерти Ленина в семье было очень сильное, глубокое и горестное. Может быть, оно еще было усилено и тем обстоятельством, что в тот год мы были в Москве, отчим проходил переподготовку на высших педагогических курсах и в качестве курсанта этого военного учебного заведения стоял в караулах во время похорон Ленина. Помню, что в семье были слезы. Ощущения того, что на смену Ленину пришел Сталин, ни у меня, тогдашнего мальчишки, ни в нашей семье не было. Троцкого не любили, о борьбе с его сторонниками — троцкистами слышали и знали, тем более что борьба эта происходила и в армии, отзвуки ее наиболее непосредственно доходили до отчима. К троцкистам относились отрицательно, а к борьбе с ними как к чему-то само собой разумеющемуся. Но представления о Сталине как о главном борце с троцкизмом, сколько помню, тогда не возникало. Где-то до двадцать восьмого, даже до двадцать девятого года имена Рыкова, Сталина, Бухарина, Калинина, Чичерина, Луначарского существовали как-то в одном ряду. В предыдущие годы так же примерно звучали имена Зиновьева, Каменева, позже они исчезли из обихода. Понимание того, что Сталин во главе всего, что происходит, сложилось где-то между началом коллективизации, первой пятилетки и XVI съездом партии, который застал меня в седьмом классе школы, как тогда говорилось, в седьмой группе.
С той жестокой действительностью, которая много лет спустя была определена формулой «годы необоснованных массовых репрессий», я столкнулся очень рано, в двенадцатилетнем возрасте, в 1927 году, когда этих массовых репрессий еще не было. Мы с матерью и моей двоюродной сестрой гостили под Кременчугом в селе Потоки у жившей там двоюродной сестры моего отчима, фамилия ее была Каменская, звал я ее тетя Женя, отчества не помню. Тетя Женя была человеком добрым и деятельным, вполне практичным и в то же время, как показала ее дальнейшая судьба, благородным. Она жила там, в Потоках, в своем небольшом домике вместе с безнадежно больным мужем Евгением Николаевичем Лебедевым. Он был уволенным еще до Первой мировой войны в отставку генерал-лейтенантом царской армии и уже много лет лежал неподвижно с парализованными ногами, а тетя Женя ходила за ним. Она была уже немолода, но все-таки на много лет моложе его, и, очевидно, некогда в том, что она согласилась быть при нем, парализованном, в качестве не столько жены, сколько сиделки, имели место свои практические соображения. Но когда все переменилось, перевернулось, она не бросила бедного старика и продолжала нести свой крест. Старик, кажется, был из числа офицеров либерального толка, неподвижность свою переносил мужественно и с достоинством, на судьбу не жаловался и на советскую власть не ворчал. Был хорошо образован, и мне, двенадцатилетнему мальчишке, было интересно слушать его, о чем бы он ни брался рассказывать. Я это хорошо помню, хотя о чем он рассказывал, в памяти не сохранилось.
И вот однажды я, мама и моя двоюродная сестра отправились в лес за грибами; как водится, минут через пятнадцать выяснилось, что дома что-то забыли — не то какой-то мамин платок или кофточку, не то еще что-то, и, разумеется, как самого младшего за этим погнали обратно меня. Я постучал к тете Жене, но мне открыла не она, а какой-то незнакомый человек, пропустивший меня в комнату и закрывший за мной дверь. В комнате был еще другой человек — в тот момент, когда я вошел, он, приподняв матрас, на котором неподвижно лежали парализованные ноги старика, заглядывал куда-то между этим верхним матрасиком и пружинным матрасом — не то чего-то искал, не то хотел что-то там поправить — этого я не разобрал, только понял, что что-то случилось, и случилось необычное. Уже поняв это, я все-таки по инерции спросил у стоявшей тут же, около кровати, тети Жени про ту вещь, которую забыла мама, где она, и сказал, что мне нужно ее взять и бежать обратно, но прежде, чем она успела ответить, человек, который впустил меня в дом, показал мне на стул и сказал: «Ты посиди, мальчик, посиди и подожди». Я ответил что-то вроде того, что меня же будет ждать мама. «А будет ждать мама, она придет за тобой сюда. Посиди», — он показал мне стул не грубо, но властно, так, что я понял, что надо сесть, и послушался его. А еще несколькими минутами позже понял все, что происходило, потому что старик Лебедев, остановившийся на полуслове, когда я вошел (а я еще через дверь слышал, что он что-то громко говорит), поняв теперь, что меня оставили здесь, продолжал, не обращая внимания на мое присутствие, договаривать то, что он начал. Двое людей в штатском, пришедшие производить у него обыск, хотя и предъявили ему свои документы, но ордера на производство обыска не предъявили, и он ругательски ругал их за самоуправство, грозил, что будет жаловаться, стыдил, горячился, и тетя Женя, кажется довольно равнодушная к обыску, больше всего боялась, что у него от волнения будет удар, и успокаивала его как могла, но из этого ничего не выходило. Люди, пришедшие с обыском, продолжали делать свое дело, пересматривали одну за другой, лист за листом книжки, стоявшие на этажерке, лежавшие на столе, заглядывали под клеенки, под вышивки, лежавшие на полочках. Старик, прислонившись к стене, полулежа на кровати, продолжал ругать их, а я сидел на стуле и смотрел на все это.
Через час ко мне присоединилась моя двоюродная сестра, которую послала обеспокоенная моим отсутствием мама. Ее посадили на другой стул. Потом появилась мама, ее посадили на третий. Обыск в конце концов закончился, и, ровным счетом ничего так и не взяв с собой, производившие его люди ушли. Вели они себя сдержанно, не отругивались, может быть, потому, что имели дело со старым и парализованным человеком, но все вместе взятое осталось в памяти как что-то долгое и тягостное. Кто его знает, может быть, это была чья-то, как мы теперь говорим, самодеятельность. Евгений Николаевич, как он и обещал, написал и послал жалобу, но возымела ли она результат, я не слышал. Правда, в последующие годы его больше никто не беспокоил, и он через несколько лет умер там, в Потоках, о чем мы узнали из письма, потому что сами больше там не бывали.
Я записал случившееся таким, каким оно осталось в детской памяти, думаю, без преувеличений. В памяти это осталось не как встреча с чем-то ужасным, или трагическим, или потрясшим меня. В душе было не потрясение, а сильное удивление: я вдруг столкнулся с чем-то, казалось бы, совершенно не сочетавшимся с той жизнью, какой жила наша семья…
Годом позже в Саратов, где к этому времени служил мой отчим в школе переподготовки командиров запаса, до нас дошло известие, что сослан в Соловки один из дальних родственников отчима, из тех, что называют седьмая вода на киселе, муж сестры его шурина или что-то в этом роде, я всегда в таких случаях путаюсь. Отчим еще с мировой войны не любил и, пожалуй, даже презирал этого своего дальнего родственника. Будучи сам боевым офицером, пять раз раненным, отравленным газами и много раз награжденным за личную храбрость, отчим не мог простить, что тот — тоже офицер — ухитрился так и не попасть на фронт и всю войну прослужит где-то по провиантской части, и называл его за это «мучным кирасиром». «Мучной кирасир» был, в представлениях нашей семьи во всяком случае, довольно заядлым антисоветчиком, но, насколько я помню разговоры того времени, попал в Соловки он не только и не столько за это, сколько за участие в каких-то валютных делах вкупе с другими, более заметными лицами, посаженными по одному делу с ним. К происшедшему, как это ему было свойственно, отчим отнесся однозначно и бескомпромиссно. Жене сосланного посочувствовал как женщине, а о самом пострадавшем отозвался как о человеке, который получил то, что ему причиталось. Сказано это было другими словами, но смысл был именно таков.
Была в разгаре первая пятилетка, у нас в школе были кружки по изучению обоих вариантов — и основного, и оптимального — пятилетнего плана: я увлекался этим куда больше, чем школьными предметами. Недалеко от Саратова, на Волге, гремело строительство Сталинградского тракторного, в самом Саратове строили комбайновый завод и одновременно с этим быстро построили для нужд Сталинградского тракторного маленький завод тракторных деталей — все это вместе взятое сыграло свою роль в том, что, вопреки мнению отчима, через которое переступить мне было не так-то просто, и при нейтралитете матери, я после седьмой группы школы вместе с половиной своих одноклассников пошел в ФЗУ.
Принимали нас по тогдашней системе ЦИТа — Центрального института труда, — мы выполнили какие-то тесты, и по результатам этих тестов определялась наша будущая специальность. Мне выпало быть токарем, и с осени тридцатого года я начал учиться во 2–м механическом ФЗУ на токаря, а несколькими месяцами позже начал проходить практику как ученик токаря на расположенном тут же по соседству с ФЗУ небольшом заводе «Универсаль», изготовлявшем американские патроны для токарных станков. Одни ребята работали вместе со мной, другие — на других заводах, на «Двигателе Революции» — котельном заводе, на заводе тракторных деталей. Специальность токаря давалась мне с трудом, руки у меня оказались отнюдь не золотые. Некоторая дополнительная сложность заключалась еще и в том, что большую часть нашего курса ФЗУ составляли воспитанники детских домов, а нас, как называли нас — «домашних», было сравнительно немного. Успевать лучше их в теоретических дисциплинах не было доблестью, а вот отставать от них на производстве для меня как для «домашнего» мальчика значило попасть в число презираемых белоручек, а я этого не хотел и поэтому старался как мог.
Курс ФЗУ был тогда двухлетний, и весною тридцать первого года передо мной стояла уже довольно близкая перспектива — перейти на второй год обучения и начать получать зарплату уже не по первому, а по второму разряду, почти вдвое больше. Это было существенно для бюджета нашей семьи, жившей, как говорится, впритирку, без единой лишней копейки. Стремление не оплошать на производственной практике и получить второй разряд было связано и с затянувшимся взаимонепониманием с отчимом. Он считал — так я думаю, хотя не говорил с ним на эту тему, — что, женившись на моей матери, тем самым взял на себя обязательство довести до конца мое образование, чтоб я кончил девятилетку, кончил вуз и стал инженером. Он хотел этого и только этого, отчасти, может, еще и потому, что сам в свое время, окончив реальное училище, надеялся после него получить высшее техническое образование, но это у него не получилось, и он, совершенно не думавший раньше о военной профессии, из-за отсутствия денег на дальнейшее образование оказался в юнкерском училище. В общем, почти весь тот год, что я учился в ФЗУ, ничего, кроме «здравствуй» и «прощай», я от него не слышал. Он не мог мириться ни с моим непослушанием, ни с моим решением. При том, что он затаенно любил меня, а я так же затаенно любил его.
Мы жили в казенном военном доме в двух смежных комнатах, в квартире с общей кухней, где жили еще в двух комнатах двое соседей с женами, тоже военные. Однажды вечером, не очень поздно — но мы уже легли спать, свет в доме уже не горел, мы все, сколько помню себя, рано ложились спать, в десять часов, — к нам в дверь постучали. Мать была нездорова, болела, лежала с небольшой температурой. Отчим открыл дверь; услышав голоса, проснулся и я. Я спал за шкафами в первой, проходной, комнате. Мне никогда не приходило в голову, что это может быть у нас, но это было у нас дома, — происходил обыск. Я зажег свет, вскочил босиком с постели и увидел троих незнакомых мне людей и отчима — наспех, но одетого. Он, как уже потом сказала мне мать, не открывал дверь до тех пор, пока не оделся, так и сказал: «Пока не оденусь — не открою». И оделся — сапоги, бриджи, гимнастерка с ремнем, — оделся так, как ходил всегда. Тоже потом уже сказала мне мать — в дверь долго стучали, не желая ждать, пока отчим одевается, но я, очевидно, не сразу проснулся, спал крепким мальчишеским сном. Когда я вскочил, то увидел, что отчим, надев очки и вооружившись вдобавок лупой, — после отравления газами у него было плохо со зрением и он часто добавлял к очкам еще и лупу, — стоял и читал бумажку — ордер на обыск. Прочел — и отдал. Он был спокоен. Мать тоже. Надев халат, она стояла в дверях в соседнюю комнату.
— А ты ложись, — сказал отчим строго, как он обычно говорил с матерью. — Тебе тут нечего делать. Ты больна — и лежи.
Но мать так и не легла, только села на стул и так просидела много часов.
Обыск длился очень долго, вели его аккуратно, так тщательно, что смотрели все подряд в обеих комнатах, даже мои тетрадки ФЗУ по технологии металлов, школьные тетрадки, оставшиеся от седьмого класса, и бесконечные мамины письма — она любила много писать и любила, чтоб ей много писали все родные и знакомые. По-моему — но не поручусь за память, — это было где-то в апреле, светлело не так еще рано, а когда кончился обыск, было совсем светло, значит, он продолжался по крайней мере часов шесть, если не больше.
Когда обыск кончился и люди, которые производили его, забрав пачку бумаг и писем и, кажется — хотя, может быть, я и ошибаюсь, — составив какой-то список взятого, собрались уходить, мне показалось, что уже все кончилось, — один из них вынул из кармана бумагу и предъявил ее отцу. Теперь это был уже ордер не на обыск, а на арест. В тот момент я этого не подумал, но потом понял, что, значит, арест предполагался с самого начала, независимо от результатов обыска. На мать было тяжело смотреть, хотя она была женщина с сильным характером, — видимо, сказалось то, что она была больна, просидела всю эту ночь на стуле с температурой, — ее всю трясло. Отчим был спокоен. Прочитав — опять-таки с лупой — бумажку, которую ему предъявили, вынув для этого из кармана гимнастерки лупу, удостоверившись в том, что это действительно ордер на арест, он коротко поцеловал мать, сказал ей, что вернется, как только выяснится, что произошло недоразумение. Молча, но крепко пожал мне руку и ушел вместе с арестовавшими его людьми.
А мы с матерью остались. Ее продолжало трясти, она не любила выражения слабости ни в себе, ни в других и стыдилась того, что ее трясет и что она не может ничего с собой поделать. Потом легла в кровать и, посмотрев на часы, сказала: «Ты сам согрей себе там кашу и чай, тебе скоро надо идти, а то опоздаешь в ФЗУ». Я сказал, что не пойду, останусь с нею. Она сказала, что я должен пойти, она быстрее придет в себя, если останется одна, а мне нужно идти и нужно там, в ФЗУ, сразу же сказать о том, что произошло у нас дома, — иначе это будет трусостью с моей стороны, если я не скажу.
Недоразумение не выяснилось — ни в этот день, ни через неделю, ни через месяц. Я сказал о том, что произошло у меня дома, в ФЗУ и продолжал учиться и работать. Ко мне продолжали относиться так же, как относились, как будто ничего не произошло, только о заявлении в комсомол, о котором я как раз в те дни договорился и собирался подать, сказали, чтоб я подождал с этим, пока не освободят моего отчима. Сказали, как я сейчас понимаю, деликатно, тогда мне казалось, что именно так только и могли сказать. Я ни минуты не сомневался, что это недоразумение и что мой отчим вернется, хотя знал, что после процесса промпартии у нас в Саратове было арестовано какое-то количество людей из числа старой интеллигенции и вообще так называемых «бывших», в том числе, помнится, еще один бывший офицер той же военной школы, где служил отчим. Но это для меня не связывалось одно с другим: кого-то другого могли арестовать, кто-то другой мог быть в чем-то виноват так же, как те люди из промпартии, а с моим отчимом этого быть не могло, с ним могло быть только недоразумение.
Если в ФЗУ, где я учился, к тому, что произошло в нашей семье, отнеслись спокойно и по-доброму, то в военной школе, где преподавал и был на самом хорошем счету отчим, все произошло наоборот. Думаю, что при всей суровости и даже жестокости того и последующего времени в данном случае, как и во многих других, все-таки, наверное, многое или хотя бы что-то зависело и от людей, которым приходилось непосредственно решать такие вопросы. Командир и комиссар школы распорядились немедленно выселить семью арестованного комбата А. Г. Иванишева из занимаемого ею казенного помещения. На второй день, когда я пришел из ФЗУ, мать сказала, что ей показали подписанную ими бумажку о том, чтобы она к следующему дню освободила квартиру. Она хотела ехать к ним, порывалась, — соседи отговорили. Может быть, и не отговорили бы, но она еще продолжала болеть. Это сыграло свою роль.
На следующее утро явился, не помню уж, командир или младший командир с красноармейцами. Вещей из своих двух комнат мы никуда не забирали, и нам было сказано, что или мы их заберем, или их без нас вынесут, а комнаты опечатают. Помогли соседи: то, что можно было перенести к ним, перенесли к ним, что-то поставили по стенам в прихожей, то, что не влезло в прихожую, мешало ходить там, очевидно, оставалось выносить во двор. Мать махнула рукой и сказала, чтоб выносили во двор. Вещей у нас, по счастью, было немного: обеденный стол, несколько ломберных стульев, две этажерки для книг, два шкафа для одежды, кровать и так называемый гинтер, на котором спал я, — офицерский складной сундучок времен Первой мировой войны, соединявший в себе и маленький сундук, и узкую раскладную койку. Шкафы и обеденный стол вытащили на улицу, остальное как-то разместилось в передней и у соседей, которые приютили нас, пока мы не найдем какой-нибудь комнаты, где могли бы дальше жить.
Мать осталась лежать у соседей, а я пошел искать комнату, снабженный добрыми советами соседок. Пошел на так называемые Саратовские горы через Глебычев овраг в верхнюю часть города, на окраину его, тогда выглядевшую как взбиравшаяся в гору деревня. Там, по сведениям соседок, вдовы — хозяйки этих домиков — иногда сдавали комнаты. Да я и сам тоже знал это, потому что, когда учился в школе и у нас был бригадный метод, при котором мы помогали друг другу готовить уроки, ходил туда, на горы, помогать готовить уроки кому-то из нашей бригады — девочке, родители которой снимали комнату вот в таком частном доме. Мне повезло: походив там по улице, я через какой-нибудь час или два нашел хозяйку, которая была готова сдать нам одну из двух комнат своего домика, даже довольно большую, в которой могли поместиться наши немногочисленные вещи. Мы переночевали эту ночь у соседей, а утром опять-таки кто-то из соседей достал грузовик и помог нам погрузить на него вещи — большего сделать не мог, ему надо было идти на службу. У матери все еще была температура, я упросил ее остаться еще до следующего дня у соседей, обещав, что я все сделаю сам.
Так и поступили. Правда, мне не повезло, потому что в этот день пошел дождь, дорога раскисла. Там, где стояло наше нынешнее жилье, дорога поднималась круто в гору и начиная с какого-то места была уже немощеной, грузовик забуксовал и дальше ехать не мог. Шофер помог выгрузить вещи на землю и уехал, посочувствовав мне. У него вышло то казенное время, которое ему дали для этой поездки, и он ничего не мог сделать сверх того, что сделал. А я постепенно перетащил на себе на один квартал вверх весь наш скарб. Как ни странно, доволок на спине и пустые платяные шкафы. Было мне тогда, весной 31–го года, пятнадцать с половиной лет, был я худой и отнюдь не богатырского сложения малый, но, самому себе на удивление, оказался довольно жилистым и вещи перетащил, хотя и запомнил этот день надолго, пожалуй, на всю жизнь. Запомнил без злобы, даже с некоторым самодовольством, что вот справился с тем, с чем не приходилось справляться, и так, как не ожидал сам от себя. Обида была, но больше за мать. Она потом сколько ни вспоминала эту историю, никогда не могла простить выселения тем людям, от которых оно зависело. Наверное, поэтому из-за ее обиды так с юности и помню фамилии обоих этих людей, забыв сотни других имен и фамилий. Но называть их здесь не хочу. Судьба одного из них спустя шесть лет, в тридцать седьмом году, завершилась трагически, о чем я узнал еще на двадцать лет позже. Судьбы другого не знаю и не хочу брать греха на душу.
Если мне не изменяет память, почти все то лето я работал. В ФЗУ продолжались и занятия, и практика на заводе, каникул, как в школе, не было, был только недолгий отпуск. Помнится, после этого отпуска мне присвоили второй разряд, и я стал получать не семнадцать, как вначале, а не то тридцать два, не то тридцать четыре рубля, что было нам тогда с матерью очень кстати.
Тюрьма, в которой сидел отчим, была на одной из улиц где-то недалеко от центра города, свиданий с ним не давали, потому что он находился под следствием, но передачи принимали — два раза в неделю. Обычно передачи носила мать, но иногда носил и я. Как все это происходило, совершенно не запомнилось, видимо, потому, что все было просто и без проволочек, которые, наверное, запомнились бы.
Мать, поправившись, сразу и вполне взяла себя в руки и договорилась об устройстве с первого сентября на преподавательскую работу, преподавать не то французский, не то немецкий язык — она владела обоими. До этого год или два она по настоянию отчима не работала, у него на этот счет были свои, достаточно домостроевские взгляды. И хотя при одном его заработке мы жили в обрез, он предпочитал это: зарабатывать на жизнь считал всецело своей обязанностью, обязанностью матери — готовить, содержать в порядке дом и воспитывать сына, а моей — учиться.
Хотя мать и договорилась об устройстве на работу, это не значило, что она перестала верить в скорое возвращение отчима. Во всяком случае, вслух никаких сомнений на этот счет она не высказывала, наоборот, уверенно говорила, что, если он вернется до того, как она начнет работать, она все равно на работу поступит, на этот раз он ее не отговорит. А если он вернется после того, как она уже начнет работать, то работы не бросит, как бы он на нее за это ни сердился. Короче, его возвращение она под сомнение не ставила, хотя, может быть, оттенок излишней уверенности и отсутствие всяких сомнений предназначались для меня, но, кажется, она и на самом деле в глубине души не сомневалась, что раньше или позже недоразумение, как она продолжала все это называть, непременно выяснится.
Помню вечер, кажется, в самом конце августа. Лето кончалось, но было очень жарко и душно. После того как я пришел с работы и мы поужинали, мать сказала, чтоб я вынес коврик во двор под дерево около нашего домика, мы посидим там, а то в комнате чересчур душно.
Я сделал, как она велела, мы сидели во дворе и о чем-то разговаривали, как вдруг калитка открылась и во двор вошел отчим — такой же, как всегда, обычный — в фуражке, в форме, со шпалами на петлицах и с наганом на боку. Он обнял и поцеловал вскочившую ему навстречу мать, поцеловал меня, что бывало очень редко. Я не сразу понял, что было в нем непривычным, вроде все, абсолютно все было как всегда. Потом сообразил: у него было зимнее, белое, а не летнее, бурое от загара после постоянных выездов на занятия в поле, лицо.
Не помню, какие разговоры были в тот вечер, сразу после его возвращения, и какие потом. Твердо запомнились только два разговора, точнее, две темы, потому что подробностей, конечно, не помню. Узнав о том, как нас в срочном порядке вышвырнули из казенной квартиры, отчим глубоко оскорбился за мать и сказал о начальнике и комиссаре школы, что они поступили по-свински. Когда он говорил о ком-то или кому-то, что тот поступил по-свински, это было выражением его самого крайнего возмущения. Слов этих обратно он никогда не брал, о сказанном не жалел, наоборот, если приходилось возвращаться в воспоминаниях, даже спустя много лет, к чьему-то возмутившему его поступку, жестко, в тех же самых выражениях повторял свою оценку. Так это бывало и раньше, и так это было и потом — всю его жизнь.
О том, как он провел в тюрьме четыре месяца, в подробностях, во всяком случае при мне, не рассказывал. Может быть, что-нибудь и говорил без меня, отвечая на вопросы матери, а при мне не говорил. При мне рассказал только о допросах, сказав, что все выдвинутые против него нелепые, как он выразился, обвинения были одно за другим полностью сняты. Рассказал, что, вызывая его на допросы, очевидно, не всегда понимали, с кем имеют дело, и считали, что если в течение десятка часов не будут давать ему спать при очень ярком свете, от которого у него начинали болеть глаза, то в конце концов добьются от него той дурацкой лжи о себе и о других, которую, по так и оставшимся для него непонятным причинам, зачем-то хотели от него услышать. Но, разумеется, не дождались, заключил он.
Думаю, что, не рассказывая при мне ничего другого, это — о допросах — он рассказал при мне намеренно, в воспитательных целях, о которых он ни при каких случаях не забывал, считая их своим главным долгом по отношению к пасынку, ответственность за воспитание которого он взял на себя с четырех лет. Со мной в детстве, хотя и не слишком часто, случалось, что я лгал матери и ему. Он этого никогда не прощал и навсегда запоминал каждый такой случай. Очевидно, он и сейчас, даже когда речь шла о достаточно драматических для него обстоятельствах, не пренебрег возможностью преподать мне урок, что лгать не следует ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, как бы к этому ни вынуждали.
На следующий день или через день после возвращения он явился к начальнику школы, не знаю, какой там произошел разговор, но в том, что отчим высказал начальнику школы в соответствующих выражениях свою оскорбленность за то, как обошлись с матерью, нисколько не сомневаюсь. Тогда меня не посвящали в эти подробности, единственное, что я слышал от отчима насчет начальника школы, что с этим человеком или в подчинении у этого человека он далее служить не будет. Других подробностей я не знаю, очевидно, как я сейчас понимаю, была медицинская комиссия, а за ней — демобилизация из армии. Чисто медицинских оснований для этого было достаточно и раньше, учитывая и последствия ранения, и состояние зрения. Допускаю, что были и другие причины — может быть, столкновение с начальником школы. Во всяком случае, отчим принял решение — а решения его всегда были безапелляционными — оставить Саратов, переезжать в Москву. Жить временно у его родной сестры на Петровке — она обещала для этого временно перегородить свою комнату — и идти преподавать на военную кафедру в одном из московских вузов. Отчим об этом говорил с абсолютной уверенностью, так что остается предполагать, что последние аттестации перед демобилизацией открывали полную возможность для такой работы, а то, что произошло в предшествующие месяцы этой весны и лета, было положено считать небывшим, — очевидно, так.
Примерно через месяц после этого мы перебрались в Москву, я поступил доучиваться на второй курс ФЗУ точной механики имени Мандельштама, а отчим приступил к работе преподавателем военной кафедры Индустриального института имени Карла Либкнехта на Разгуляе — почему-то всегда вспоминаю об этом, когда езжу в находящееся теперь неподалеку, за два квартала, издательство «Художественная литература».
Спрашиваю сейчас себя: наложило ли какой-то след все происшедшее тогда, тем летом, в Саратове на мое общее восприятие жизни или, если угодно, на психологию пятнадцати-шестнадцатилетнего подростка? И да, и нет! Самое главное, с отчимом все в конце концов получилось так, как оно и должно было быть. Он — мерило ясности и честности для меня с первых детских лет — таким мерилом и остался, и люди, которые с ним имели дело, убедились в этом, то есть что-то самое главное оказалось правильным. И в трудные для нас месяцы почти все люди, с которыми мы сталкивались и имели дело, отнеслись к нам хорошо — и это все тоже оказалось правильным, таким, каким мы и могли ожидать. Рассказ отчима о допросах, кончившихся для него благополучно, потому что он был человеком очень сильным, цельным, оставил в душе осадок какого-то неблагополучия, ощущения, что с другим человеком в этих обстоятельствах могло выйти по-другому, другой человек мог не выдержать того, что выдержал он. Эта тревожная нота осталась в памяти, наверное, отчетливей и существенней, чем тот некрасивый поступок начальства, который отчим коротко назвал «свинским поведением».
А кроме всего другого, пришло еще ощущение некоторого, может быть неосознанного, возмужания, я оказался на что-то способным в критических обстоятельствах, хотя бы на то переселение, которое я совершил отчасти на собственном горбу. Отчим не хвалил меня за это, вообще не любил хвалить меня, но я, хотя он по-прежнему был недоволен тем, что я учусь и собираюсь продолжать учиться в ФЗУ, почувствовал, что он стал спокойнее относиться к этому. Видимо, после того как я провел с матерью четыре месяца без него, отчим признал мое право на самостоятельность решений, и это смягчило его недовольство моим выбором жизненного пути, хотя недовольство все равно осталось, еще долго оставалось. В общем, происшедшее немножко поглубже ткнуло меня носом в жизнь, и это было жестокое, но благо, если говорить о духовном развитии начинающего жизнь человека.
Таким же жестоким благом были для меня месяц или полтора, которые я два года спустя провел в больнице в Москве на Собачьей площадке, в больнице, превращенной в изолятор для больных брюшняком. Брюшняк этот — так запомнилось мне с тех времен — был занесен в Москву как одно из последствий голода 33–го года на Украине. В Москву тянулись спасавшиеся от голода люди, приезжали, скапливались на вокзалах — это было одной из причин эпидемии брюшняка; так я об этом слышал тогда в больнице.
Я лежал в палате для тяжелых, пятеро из нас умерли, трое выжили. В первые дни один из потом умерших рассказывал об этом голоде в полубреду, рассказывал горячечно, но понятно. Он был из подобранных на вокзале. Конечно, и в Саратове я жил не в безвоздушном пространстве, в городе не было и того, и другого, и третьего, к карточкам была уже привычка нескольких лет. Еда в той заводской столовой, где мы обедали, учась в ФЗУ, была странно запомнившейся: в тот год, когда не было многого другого, хорошо уродилась на Нижней Волге соя, которую там вдруг стали культивировать, и мы ели каждый день эту сою — и в виде супов, и в виде котлет, и в виде киселей. Но с прямым рассказом о том, что такое голод, с прямым видением его последствий я столкнулся лишь тогда, в 33–м году, в больнице, жизнь сунула меня носом в это только там. И это запомнилось и тоже было какою-то жестокою частицей возмужания.
Возвращаясь в воспоминаниях к саратовским годам — к тридцатому, к тридцать первому, — вспоминаю какие-то подробности, говорящие мне сейчас о том, что в воздухе витало разное. Запомнилась какая-то частушка того года: «Ой, калина-калина, шесть условий Сталина, остальные — Рыкова и Петра Великого». Я ее петь не пел, но слышать — слышал. Значит, кто-то ее пел, как-то она переносилась. Было в воздухе такое, было и другое. Помню кем-то, кажется, в ФЗУ показанную мне бумажку, вроде листовочки, — трудно сейчас сообразить, просто ли это было рисовано от руки, или переведено в нескольких экземплярах через копирку, или сделано на гектографе, — но ощущение какой-то размноженности этого листочка осталось, во всяком случае. На листке этом было нарисовано что-то вроде речки с высокими берегами. На одном стоят Троцкий, Зиновьев и Каменев, на другом — Сталин, Енукидзе и не то Микоян, не то Орджоникидзе — в общем, кто-то из кавказцев. Под этим текст: «И заспорили славяне, кому править на Руси». Впрочем, может быть, я и ошибаюсь, может, этот листок показывали мне не в ФЗУ, а еще раньше, в школе. Но было тогда и такое, тоже существовало в воздухе. Но запомнилось как смешное, а не как вошедшее в душу или заставившее задуматься.
Не знаю, как другие, а от меня в те годы такое отскакивало. Я был забронирован от этого мыслями о Красной Армии, которая в грядущих боях будет «всех сильнее», страстной любовью к ней, въевшейся с детских лет, и мыслями о пятилетке, открывавшей такое будущее, без которого жить дальше нельзя, надо сделать все, что написано в пятилетнем плане. Мысли о Красной Армии и о пятилетке связывались воедино капиталистическим окружением: если мы не построим всего, что решили, значит, будем беззащитны, погибнем, не сможем воевать, если на нас нападут, — это было совершенно несомненным. И, может быть, поэтому когда я слышал о борьбе с правым уклоном, кончившейся в тогдашнем моем представлении заменой Рыкова Молотовым, то казалось ясным, что с правым уклоном приходится бороться, потому что они против быстрой индустриализации, а если мы быстро не индустриализируемся, то нас сомнут и нечем будет защищаться, — это самое главное. Хотя в разговорах, которые я слышал, проскальзывали и ноты симпатии к Рыкову, к Бухарину, в особенности к последнему, как к людям, которые хотели, чтобы в стране полегче жилось, чтоб было побольше всего, как к радетелям за сытость человека, но это были только ноты, только какие-то отзвуки чужих мнений. Правота Сталина, который стоял за быструю индустриализацию страны и добивался ее, во имя этого спорил с другими и доказывал их неправоту, — его правота была для меня вне сомнений и в четырнадцать, и в пятнадцать, и в шестнадцать лет.
Не знаю, как для других моих сверстников, для меня 1934 год почти до самого его конца остался в памяти как год самых светлых надежд моей юности. Чувствовалось, что страна перешагнула через какие-то трудности, при всей напряженности продолжавшейся работы стало легче жить — и духовно, и материально. Я ощущал себя причастным к этой жизни, потому что у меня было ощущение, что я работал почти всю пятилетку, ведь ФЗУ — это были и занятия, и четыре часа ежедневной работы. Потом, окончив ФЗУ, я одно время работал на авиационном заводе, а после него токарем в механической мастерской тогдашней кинофабрики «Межрабпомфильм». Это была маленькая мастерская, восемь человек, один токарный станок, находившийся в моем распоряжении, разнообразная и поэтому интересная работа. Кроме того, я за год до этого начал всерьез писать стихи, очень плохие, но мною воспринимавшиеся уже как нечто серьезное, связанное со всей моей будущей жизнью.
Среди других стихов я под влиянием прошлогодних поездок писателей по Беломорско-Балтийскому каналу и вышедших после этого очерков, книг и пьес написал неумелую поэму «Беломорканал» — о перековке уголовного элемента. Несколько кусочков из этой поэмы у меня после того, как я ее долго носил в литконсультацию, взяли для сборника молодых, выпускавшегося этой консультацией в Гослитиздате. Вдобавок в свой очередной отпуск я получил командировку и некоторое количество денег от массового сектора работы с начинающими авторами, существовавшего в Гослитиздате, и поехал по этой командировке в качестве молодого рабочего автора — а у меня действительно уже был трехлетний рабочий стаж — на Беломорканал для того, чтобы посмотреть самому то, что там происходило, и, может быть, наново написать свою поэму, из которой сколько-нибудь удачными — я уже и сам понимал это — получились только отдельные кусочки.
И строительство Беломорканала, и строительство канала Москва — Волга, начавшееся сразу же после окончания первого строительства, были тогда в общем и в моем тоже восприятии не только строительством, но и гуманною школою перековки людей из плохих в хороших, из уголовников в строителей пятилеток. И через газетные статьи, и через ту книгу, которую создали писатели после большой коллективной поездки в 33–м году по только что построенному каналу, проходила главным образом как раз эта тема — перековки уголовников. О людях, сидевших за всякого рода бытовые преступления, писалось гораздо меньше, хотя их было много, но они как-то мало интересовали и журналистов, и писателей. Сравнительно мало писалось и о работавших на строительстве бывших кулаках, высланных из разных мест страны на канал, хотя их там тоже было много, не меньше, чем уголовников, а, наверное, больше. Чуть побольше — эта тема не обходилась — писали о бывших вредителях, которые занимали различные инженерные посты на стройке. По уделяемому им вниманию они занимали второе место после уголовников. Но как бы то ни было, все это подавалось как нечто — в масштабах общества — весьма оптимистическое, как сдвиги в сознании людей, как возможность забвения прошлого, перехода на новые пути. Старые грехи прощались, за трудовые подвиги сокращали сроки и досрочно освобождали и даже в иных случаях недавних заключенных награждали орденами. Таков был общий настрой происходящего, так все это подавалось, и я ехал на Беломорканал смотреть не как сидят люди в лагерях, а на то, как они перековываются на строительстве. Звучит наивно, но так оно и было.
Строительство канала уже было закончено, во всяком случае его первая очередь, достраивались различные дополнительные объекты — на них работали еще десятки тысяч людей. Достраивались дороги, разрастались подсобные хозяйства, убирались следы строительства, благоустраивалась местность. Я попал на канал именно в это время и большую часть месяца, который у меня был, провел на одном из лагерных пунктов, где работали главным образом люди, так или иначе причастные в прошлом к уголовщине. Меня пристроил на дополнительную койку в своей отгороженной от общего барака каморке начальник КВЧ — культурно-воспитательной части — лагерного пункта, москвич, заключенный, так же, как и все другие на этом лагерном пункте. Не знаю, какая у него была статья, скорее всего политическая, 58–я наверное, антисоветская агитация, — статья, по которой в то время попадали в лагеря люди, причастные или считающиеся причастными к троцкистской и вообще левой оппозиции. Про статью я его не спрашивал, что он заключенный, понял не сразу, потому что он вел себя как опытный партийный агитатор. Был это симпатичный тридцатилетний человек, судя по всему, имевший большое и благотворное влияние на тот уголовный и полууголовный элемент, который составлял рабочий класс этого лагпункта.
Мною особенно никто не интересовался, мне было без малого девятнадцать лет, по виду я мало чем отличался от других находившихся там людей — разве что был одним из самых молодых. Когда же случайно узнавали, что я молодой рабочий автор и пишу стихи, то относились ко мне сочувственно и даже отчасти покровительственно — мол, давай, давай, напиши о нас, — сроки у людей там были небольшие, работали они добросовестно, делая их еще короче, надеясь на скорое освобождение. Допускаю, что я был поглощен своим, поэмой, стихами, вообще был еще, как говорится, молод и глуп, но из этой странной, на нынешний взгляд, лагерной командировки я вернулся без ощущения тяжести на душе. Наоборот, с готовностью писать заново поэму о перековке людей трудом, с ощущением, что я пусть недолго, но своими глазами видел, как это реально происходит, и с верою в то, что, наверное, так оно и должно быть, — какой же другой путь, кроме работы, которая списывает с человека его прошлые грехи, может существовать в таком обществе, как наше?
С вредителями из инженерной элиты мне сталкиваться самому не доводилось, но я знал от одной из знакомых нашей семьи, что человек, за которого она несколько лет назад вышла замуж, в прошлом военный инженер и по стечению обстоятельств при Временном правительстве чуть ли не последний комендант Зимнего дворца, будучи арестован по 58–й статье и получив по ней не то восемь, не то десять лет, проработав два или три года на Беломорканале главным инженером одного из узлов канала и блестяще выполнив свои инженерные задачи, был освобожден и теперь как вольнонаемный поехал главным инженером на какой-то еще больший строительный узел канала Москва — Волга. Такого рода сведениями были дополнены мои личные впечатления от поездки.
То, что происходило на XVII съезде партии, как будто свидетельствовало о правильности моих юношеских радужных взглядов: бывшие оппозиционеры каялись, признавали свои ошибки, им предоставляли возможность для этого, публиковали их заявления, прощали, принимали обратно в партию — в общем, верили людям, и это создавало атмосферу и единства, и общей целеустремленности, и веры в будущее страны и свершение всех намеченных планов.
Тому, в чьей памяти не остался декабрь 34–го года, наверное, даже трудно представить себе, какой страшной силы и неожиданности ударом было убийство Кирова. Во всей атмосфере жизни что-то рухнуло, сломалось, произошло нечто зловещее. И это ощущение возникло сразу, хотя люди, подобные мне, даже не допускали в мыслях всего, что могло последовать и что последовало затем. Было что-то зловещее и страшное и в самом убийстве, и в том, что оно произошло в Смольном, и в том, что туда сорвался и поехал из Москвы Сталин, и в том, как обо всем этом писали, и как хоронили Кирова, и какое значение все это приобрело.
Я не представлял себе тогда реального места Кирова в партии, знал, что он член Политбюро, и только. Он для меня не стоял в ряду таких имен, как имена Калинина, Ворошилова или Молотова. Но когда его убили, это имя — Киров — вдруг стало для меня, как и для других, какой-то чертой, до которой было одно, а после стало другое. Словно в воздухе повисло что-то такое, что должно было разразиться, чем — неизвестно, но чем-то разразиться. Мы в силу возраста и опыта своего не были и не могли быть пророками, не могли предвидеть будущее, но факт остается фактом: с убийством Кирова в сознание нашего поколения вошел элемент чего-то трагического. Это трагическое не только произошло, но оно еще и нависло где-то в будущем. Думаю, что я не пишу сейчас неправды; думаю, что это, может быть тогда бы по-другому сформулированное, ощущение было, и, если говорить о моем поколении тогдашних девятнадцатилетних, было не только у меня.
А два или три месяца спустя вдруг началась совершенно непонятная для меня тогда, не до конца понятная по своей специфической направленности даже и сейчас высылка из Ленинграда всякого рода «бывших», в том числе таких «бывших», которые, собственно говоря, никакими «бывшими» никогда и не были, а просто-напросто носили аристократические и дворянские фамилии.
То, что произошло с так называемыми «бывшими» в Ленинграде, коснулось и нашей семьи: там жили почти все мои родственники со стороны матери — три ее родные сестры, два моих двоюродных брата и двоюродная сестра.
Мать была самой младшей в семье. Ее самая старшая сестра, старше ее на пятнадцать лет, Людмила Леонидовна, была замужем за артиллерийским полковником, происходившим из семьи обрусевших немцев, за Максимилианом Генриховичем Тидеманом. Помню по детским годам, как старшая тетка, склонная к юмору, в послереволюционные годы посмеивалась над своей немецкой фамилией, которую иногда запросто переделывали из Тидеман — в Тйдеман, в Ты-деман или в Ты-демон, и говорила про свое семейство: «Мы Ты-демоны» или просто: «Мы демоны». Юмора она не теряла до конца жизни (умерла она уже за восемьдесят лет, живя в Москве), но жизнь ей выпала нелегкая: у мужа ее, командовавшего артиллерийским полком, на фронте обострился давний туберкулез, и он умер в шестнадцатом году, в разгар войны. Полк, с которым он уходил на фронт, стоял до этого не то в Рязани, не то под Рязанью, и тетка с тремя детьми осталась там, в Рязани. И это, вероятно, во многом определило и мою собственную жизнь, потому что мать, оставшись одна, после того как мой родной отец пропал без вести на фронте, тут же переехала из Петрограда в Рязань, где жила тетка. Тетка потом вместе со своими детьми вернулась в Ленинград, где жили остальные сестры, а мать так и осталась в Рязани, выйдя замуж за моего отчима.
К 35–му году, о котором идет речь, уже не было в живых ни бабки моей, умершей в 1922 году, ни деда, который умер еще раньше, в 1911 году, — в Ленинграде жили три сестры матери. Людмила Леонидовна, имевшая педагогическое образование и работавшая на Петроградской стороне в здании, если мне не изменяет память, бывшего училища правоведения, где помещалась школа — интернат для дефективных детей; там же, при этом интернате, она и жила. В предыдущие годы, приезжая в Ленинград, я часто бывал у нее. У нее, как я говорил, было трое детей. Двоюродный брат Андрей был старше меня на три года, двоюродная сестра Маруся — на восемь, а старший двоюродный брат Леонид — на десять лет. К 35–му году все они были самостоятельные люди: Маруся работала учительницей, Андрей начинал как архитектор, работал в ленинградском Гипрогоре — Государственном институте проектирования городов, а Леонид, человек блестящих способностей, химик, был начальником одного из главных цехов на заводе «Красный треугольник».
Жили в Ленинграде еще две мои тетки — на двенадцать и на тринадцать лет старше матери — Софья Леонидовна и Дарья Леонидовна. Тетя Долли (в противоположность матери и остальным, вполне демократически настроенным теткам, она любила, чтобы ее звали не Дарья, а, как это было принято в таких семьях до революции, Долли) была старой девой и притом еще калекою: когда-то в детстве от испуга у нее отнялась одна сторона тела, было искривлено плечо, на ноге она носила ортопедический ботинок и сильно хромала. Все это в семейных анналах было записано как вина моего деда — человека, в гневе бывавшего невоздержанным и в приступе такого гнева вогнавшего в паралич чем-то взбесившую его девочку. Не знаю уж, как это было на самом деле, но примерно так, не очень ясно, рассказывала мне об этом мать, не оправдывая деда, которого сама она очень любила — может быть, и потому, что к ней, к самой младшей, моложе других на двенадцать лет, он относился совсем по-другому, чем к старшим, — любила, но не оправдывала, а говорила все это в объяснение характера тети Долли — желчного и язвительного. Советскую власть тетя Долли не любила, не скрывала этого и спорила об этом с сестрами. Она была догматически религиозна, по-моему, не столько из собственной веры в бога, сколько в пику и назло родственникам и окружающим; была религиозна не только догматически, но даже агрессивно. Она приезжала к нам в Рязань, когда мне было лет двенадцать, и богословские споры с ней окончательно выбили из меня веру в бога, и главным следствием ее религиозных поучений было то, что я перестал ходить в церковь, впрочем, одновременно с родителями. Процесс расставания с верой в бога происходил в семье параллельно у всех троих — у матери, отчима и у меня.
В общем, тетя Долли была человеком несчастным, озлобленным и, вопреки своей вере в бога, скептическим. Насколько я помню, в последние годы своей жизни в Ленинграде она вообще постриглась в монахини. Монастырей тогда не было, но были какие-то потайные религиозные общины вот таких одиноких монашек, общавшихся друг с другом.
Приезжая в Ленинград вдвоем ли с матерью или один — бывало и так, — я в те юношеские годы должен был обязательно хотя бы один раз зайти к тете Долли. Шел я туда с неохотой, но это считалось обязательным еще и потому, что именно тетя Долли до последнего дня жила вместе с умиравшей бабушкой и оставалась жить именно в той комнате, в которой та умерла. К тете Долли я заходил один раз или два — после приезда и перед отъездом, по обязанности. В дружной и насмешливой семье Тидеманов бывал с удовольствием, но больше всего времени проводил и обычно жил у третьей своей тетки, Софьи Леонидовны, на Суворовском проспекте; у нее была там большая светлая комната, много книг, и я спал у нее за книжными шкафами, отгораживавшими кушетку от ее стародевичьей узкой кровати.
Софья Леонидовна была не похожа ни на кого другого из Оболенских. Людмила Леонидовна и моя мать были очень красивы в молодости и остались по-своему красивыми и в старости, у тетки Долли было лицо калеки, но при этом сохранившее следы тонкой, как иногда об этом говорят, породистой красоты, а Софья Леонидовна, которой в тридцать пятом году было пятьдесят восемь лет, была пожилая, курносая, круглолицая, веселая и бесконечно обаятельная русская женщина с крепкими, прочными руками, ногами, широкими плечами, с доброй улыбкой, веселым смехом и открытой душою — не просто открытой, а распахнутой навстречу людям. Глядя на нее, так и казалось, что она должна была быть матерью многих детей и бабкой многих внуков, но неизвестно, как и почему она в молодости не вышла замуж, а потом привыкла быть старой девой. Почему не вышла замуж — об этом никогда не говорили ни с ней, ни о ней за глаза. Должно быть, ее внешность очень уж выбивалась из круга представлений о привлекательности, существовавших в том обществе, в котором она росла в юности, а приданого за нею в семье деда, человека с княжеским титулом, но всю жизнь служившего и щепетильного, дать не могли. Так это мне представлялось, когда думал о судьбе этой своей любимой тетки. Но в те годы, что я ее помню — а хорошо помню я ее, когда ей начало идти к пятидесяти, — несчастной она себя ни с какой стороны не чувствовала, наоборот, была самым веселым, жизнерадостным человеком среди своих сестер. Получив педагогическое образование, занялась библиотечным делом и долгие годы заведовала библиотекой где-то там у себя на Суворовском проспекте, неподалеку от дома. Увлекалась всякими нововведениями и вообще жила и дышала этим, общалась с читателями, советовала, составляла круг чтения, увлеченно рассказывала об этом — вообще очень любила людей, читавших книжки и ценивших книжки. Отчасти за это любила и меня. Самые последние годы, перед высылкой из Ленинграда, она перешла — не знаю уж по какой причине — работать в библиотеку Института растениеводства, работала там в институте у Вавилова на Невском и даже рассказывала мне о нем что-то интересное, но что, я не запомнил.
Когда у нее бывали отпуска, обычно приезжала гостить к нам. Если у нас не хватало денег на то, чтоб я поехал в Ленинград, добавляла на дорогу в одну сторону, чтоб я все-таки смог приехать и пожить у нее. Она, видимо, как-то удовлетворяла свои неосуществленные материнские чувства в отношении к своей племяннице и племянникам, последние годы в особенности ко мне. Может, потому, что она была ближе с матерью, чем с другими сестрами, а может, потому, что я был самый младший из всех ее племянников и дольше всех оставался для нее ребенком.
В тридцать четвертом году я ее не видел, последний раз видел в тридцать третьем, когда приезжал в Ленинград, жил у нее и именно там, у нее в комнате, сочинил первые казавшиеся мне серьезными стихи — сонеты о Ленинграде, написанные под влиянием книжки сонетов Жозе Мария Эредиа, вышедшей у нас в переводах Глушкова — Олерона и почему-то произведшей на меня сильное впечатление.
И вот зимой тридцать пятого года мы узнали из писем, полученных уже не из Ленинграда, а из Оренбурга, что все — за одним исключением — наши родные, жившие в Ленинграде, высланы в Оренбургскую область или край — не помню, как тогда это называлось. Выслали и тайную монашку, не любившую советскую власть тетю Долли; выслали любившую советскую власть и начиная с семнадцатого года преданно помогавшую ей на своей скромной библиотечной работе тетю Соню; выслали и крутую и властную, бестрепетно и преданно работавшую с дефективными детьми тетю Люлю; выслали молодую советскую учительницу, мою двоюродную сестру Марусю; начинающего одаренного архитектора Андрея. Оставили в Ленинграде только старшего сына Людмилы Леонидовны — Леонида Максимилиановича. Старший сын старшей из сестер, он по традиции был назван Леонидом в честь деда, а уж немецкое отчество ему досталось от отца. Его отстоял завод «Красный треугольник»: кто-то на заводе, а может быть, и не только на заводе, встал на дыбы, заявил, что такого блестящего специалиста, как он, завод терять не может, и мой самый старший двоюродный брат Леонид — при своем княжеском происхождении по матери и немецкой фамилии и отчестве по отцу — остался работать у себя на «Красном треугольнике» в Ленинграде. В начале войны Леонид пошел в ленинградское ополчение, как командир запаса был назначен командиром роты. Погиб в бою от смертельной раны в живот. Его младший брат Андрей работал в Оренбургской области, куда его выслали, по своей специальности, хотя не помню, сразу ли это произошло, но потом было именно так, — в сорок первом году попал в армию и всю войну прошел солдатом без единой царапины. Их мать, Людмилу Леонидовну, вместе с моей старшей двоюродной сестрой Марусей и с ее дочкой Наташей, которая уехала вместе с ней в ссылку ребенком, в разгар войны мне, к тому времени ставшему довольно известным писателем и военным корреспондентом, удалось после восьми лет высылки перетащить в Москву, где в 1955 году Людмила Леонидовна еще успела встретить свое восьмидесятилетие в кругу оставшихся в живых своих родичей.
А две другие мои тетки погибли там, куда их выслали, погибли не сразу, а в конце тридцать седьмого — в тридцать восьмом году, когда их, живших там в ссылке, кому-то понадобилось еще и посадить в тюрьму, где обе они умерли. Не знаю, могу только догадаться, как это вышло, — может быть, одна из сестер, не питавшая нежности к советской власти, что-то кому-то сказала, а вторую забрали потому, что она ее сестра, — не знаю, может быть, так, а может быть, и не так.
Но это все было потом. А тогда, в тридцать пятом году, мать, узнав из писем, что сестры высланы так же, как и многие другие уже старые люди, которых она с юных лет знала по Петербургу, опечаленно сидя вечером со мной и с отчимом, вдруг сказала, хорошо помню это: «Если бы я тогда, как Люля, вернулась из Рязани в Петроград, конечно, я сейчас была бы вместе с ними».
Я помню, как меня поразило тогда то, как она это сказала. Сказала с каким-то ощущением своей вины за то, что она не с ними, что ее миновала та чаша, которая не миновала их, ее сестер. Потом спросила отчима: «Может быть, и отсюда нас будут высылать?» — сказала «нас» не как о семье, а имея в виду себя, свое происхождение и свою девичью фамилию Оболенская.
— Ну что же, будут высылать — поедем! — сказал отчим, сразу отсекая то, что отторженно от него подумала мать о самой себе.
Когда мать что-то еще добавила на ту же тему, рассердился и стал, как это с ним бывало, сразу резок, почти груб, сказал что-то вроде того, что довольно болтать языком, придумывать то, чего пока нет. Если о чем-нибудь надо думать, то надо будет думать о том, чем мы сможем помогать им. Людмиле Леонидовне помогать — это дело ее сына, а вот Софье и Дарье Леонидовне придется помогать нам, больше некому, и надо подумать, чем мы сможем помогать, в каком размере, как это можно будет сделать и когда.
Помню этот разговор, но не помню своего собственного душевного состояния. Знаю, что я не мог быть к этому равнодушен, хотя бы потому, что одну из трех теток очень любил. Когда узнал, что ее там, в ссылке, посадили, а потом от нее перестали приходить всякие известия и через кого-то нам сообщили, что она умерла неизвестно где и как, без подробностей, помню, что у меня было очень сильное и очень острое чувство несправедливости совершенного с нею, именно с нею, больше всего с нею. Это чувство застряло в душе и — не боюсь этого сказать — осталось навсегда в памяти как главная несправедливость, совершенная государственной властью, советской властью по отношению лично ко мне, несправедливость горькая из-за своей непоправимости, потому что, будь тетя Соня жива, первой из всех людей, кому мне довелось помогать, когда я смог что-то сделать и чем-то помочь, была бы именно она, мне не пришло бы в голову помогать никому, прежде чем я не помог бы ей. Всё так. И в то же время не могу вспомнить, что же я думал тогда, как рассуждал, как объяснял для себя происшедшее. Лес рубят — щепки летят, так, что ли? Может быть, было отчасти что-то похожее на это самоуспокоение, сейчас кажущееся гораздо более циническим, чем оно ощущалось тогда, когда революция, переворот всей жизни общества, была еще не так далеко, на памяти, и когда без этого выражения вообще редко обходилось в разговорах на разные такого рода драматические темы.
Отчим был последователен. Разговаривать на эти темы он не желал, а помогать считал нашим общим долгом. Помню, как туда в тридцать пятом — тридцать шестом годах, уже не помню, в самый ли Оренбург или в какой-то из городов Оренбургской области, стали посылаться вещи, посылки и деньги.
Как раз тридцать пятый год был последним годом, когда я хорошо по тому времени зарабатывал. Я поступил в Вечерний рабочий литературный университет, созданный по инициативе Горького, по вечерам занимался, а днем работал в тот год на кинофабрике «Техфильм». Работа была сдельная, мы оборудовали лихтваген. Заработок, который я получал, позволял не только вносить свою долю в общий семейный котел, но выделять еще и какие-то деньги для посылки теткам вместе с теми деньгами, которые могли наскрести отец и мать. Так было до следующего года, когда я перешел на дневное отделение, работу оставил, печататься по-настоящему еще не начал, дела мои в материальном отношении стали намного хуже, и свою лепту в помощь теткам я вносил уже и меньше, и реже — когда что-то вдруг печатал и получал за это деньги.
Не могу утверждать с точностью, по-моему, мать ездила навещать теток два раза — и в тридцать шестом, и в тридцать седьмом годах, но, может быть, память меня подводит, и это было только один раз. Тогда, если так, то скорее это было, пожалуй, уже в тридцать седьмом году. Во всяком случае, сама эта поездка была уже после нескольких происходивших в Москве процессов, после того как уже началось то, что потом было названо «необоснованными массовыми репрессиями». Поездка эта воспринималась драматически отчимом, мною, очевидно, в глубине души и самой матерью, но она твердо решила поехать, увидеть сестер. В ответ на доводы отчима, который боялся за нее и говорил, что, может быть, правильнее продолжать делать то, что мы делаем, — писать, помогать, как можем, материально, — чем ехать с перспективой в дальнейшем лишиться этой возможности помогать, она сказала, что все-таки она поедет, потому что если не поедет, то перестанет быть самой собой, что она не может не поехать. Вот пишу это и не могу точно вспомнить, один или два раза она ездила. Если два, то первая поездка была в начале 36–го года, когда общая атмосфера еще не стала такой, какой она стала впоследствии, и к этой поездке не относились те драматические разговоры, которые я вспоминаю.
Помню, как мать вернулась из этой поездки тридцать седьмого года — измученная, печальная, усталая от дороги и жизни там, где она была, но при этом не потеряв надежд на будущее. Видимо, ей казалось, может быть именно потому, что сестры ее жили очень плохо и тяжело, что уже ничего худшего, чем случилось с ними, случиться не может. Но будущее показало, что может случиться и худшее. И случилось это, как я уже сказал, потом, позже, в разгар всего того, что было закручено в тридцать шестом году и раскрутилось с такой страшной силой в конце тридцать седьмого. Я помню только свои чувства, связанные с происшедшим с тетками, а никаких действий, поступков не помню, очевидно, никакие поступки и действия были в то время или невозможны, или казались невозможными, а точнее, и казались и на самом деле были невозможными и поэтому просто-напросто не очень-то приходили в голову, мне во всяком случае.
Что еще добавить связанного с атмосферой тех лет и с моим восприятием этой атмосферы, а может, точнее сказать, с отсутствием нормального, с нашей нынешней точки зрения, ее восприятия? Скажу только о том, что было как-то связано с моим собственным непосредственным жизненным опытом, если это можно назвать опытом для того времени.
Среди молодых, начинающих литераторов, к которым примыкала и среда Литературного института, были аресты, из них несколько запомнившихся, в особенности арест Смелякова, которого я чуть-чуть знал, больше через Долматовского, чем напрямую.
Было арестовано и несколько студентов в нашем Литературном институте. На старшем курсе считавшийся немножко странным и чуть-чуть юродствующим, но едва ли не самым способным Александр Шевцов, затем Поделков. На нашем — один парень, который не запомнился ничем — ни стихами, ни поведением своим в институте, не запомнился мне и фамилией, дальнейшей судьбы его так и не знаю, может быть, она впоследствии оказалась и не самой худшей из судеб, но, во всяком случае, не литературной. Был арестован и поэт с нашего курса Валентин Португалов, поклонник Багрицкого, ездивший к нему, еще когда тот жил в Кунцеве, совсем мальчик, — изящный, тонкий, красивый юноша, писавший тогда довольно вычурные, не нравившиеся мне стихи. С ним я встретился только двадцать с лишним лет спустя, когда он приехал в Москву с Колымы, где сначала отбыл срок, а потом остался работать, собирал там фольклор, переводил, писал, приехал в Москву с книгой стихов — очень крепкий на вид, квадратный, бывалый человек с кирпичным северным загаром. Он выпустил книгу стихов — мужественных, северных и по теме, и по звуку своему, и работал потом на Высших литературных курсах. Хотя на вид был очень крепок, умер рано, лет в пятьдесят. Видимо, все-таки прожитая жизнь сделала свое дело, хотя он никогда ни на что не жаловался в разговорах. Как-то однажды, когда мы с ним сидели, занимались подготовкой к печати его книги, вдруг назвал мне продолжавшего здравствовать человека, в свое время своим заявлением на его счет посодействовавшего его отъезду на Колыму. Сказал об этом человеке с полупрезрением, с полупониманием, что, наверное, тому действительно померещилось что-то неподходящее в том, что говорил он, Португалов, во время их разговоров между собою с глазу на глаз. Хотя ничего особенного Португалов не говорил и все это не стоило выеденного яйца и не заслуживало того, чтобы писать куда-то. А тот посчитал, что заслуживало, и написал. Мог не писать. Однако написал. Допускаю даже, что полагал, что делает доброе дело, что это его обязанность.
Как ни странно может это показаться, но сейчас, оглядываясь на те годы, я не помню, чтобы у меня возникало хотя бы подобие мыслей, что кто-то в том институте, где я учился, мог написать про кого-то — про меня или про другого — заявление. Вот не приходило тогда в голову это, да и всё тут. И спустя семь или восемь лет, в разгар войны, я, уже бывалый и опытный человек сравнительно с тем временем, о котором пишу сейчас, оглушенно слушал ничем, никакими обстоятельствами и внешними причинами не вызванную, просто вырвавшуюся из души отчаянную исповедь одного из бывших студентов Литинститута, у которого в те годы, оказывается, был посажен отец, чего я не знал, и которого «сговорили» сообщать о настроениях и разговорах в институте, то есть о наших разговорах. Этот человек был предельно искренним со мной, когда исповедовался, ничто не вынуждало на эту исповедь, просто в разгар войны у меня дома, куда он пришел, ему стало нестерпимо стыдно за какой-то кусок жизни, вот за этот, и он, говоря, конечно, правду — убежден в этом! — говорил мне, что он, наверное, просто что-то бы сделал с собой, если бы из-за того, что он записывал, сообщал, кто-то пострадал, но, к его счастью, никто не пострадал, может быть потому, что он ничего особенного не записывал и не мог записывать, но сам этот факт в его жизни для него остается ужасным. Но этот разговор был во время войны, а разговор с Португаловым уже после смерти Сталина, а тогда, в тридцать пятом и в тридцать шестом годах, мне не приходило в голову, что кого-то из нас могут сговаривать писать про то, о чем мы говорим друг другу, и про наши настроения. Не приходило в голову, да и всё.
Впервые жизнь меня с чем-то похожим столкнула и заставила думать об этом позже, летом тридцать седьмого года.
Летом тридцать седьмого года Владимир Петрович Ставский — в то время секретарь Союза, уделявший довольно значительное внимание нашему Литературному институту, поддержал идею нескольких прозаиков — наших студентов Льва Шапиро, Всеволода Саблина и Зиновия Фазина — поехать по местам событий Гражданской войны на Северном Кавказе и написать коллективную документальную книжку о Серго Орджоникидзе. Мои товарищи привлекли к этому делу и меня — уж не помню, то ли потому, что я хотел попробовать свои силы в прозе, то ли полагая, что в такой книжке могут оказаться уместными и стихи об Орджоникидзе, и, по их мнению, я мог их написать, — в общем, я вошел в эту тройку четвертым.
Ставский не только одобрял идею, но и помогал нам, сводил нас даже на московскую квартиру к тогдашнему секретарю — не то Северокавказского, не то Ростовского обкома — Евдокимову, с которым вместе участвовал когда-то в Гражданской войне. Мы несколько часов просидели у этого хмурого, мрачноватого человека, как мне казалось, думавшего о чем-то другом, далеком, не то угрюмого, не то подавленного чем-то, но при этом, откликаясь на воспоминания Ставского, тоже вспоминавшего какие-то интересные для нас подробности того времени.
Все было решено, и мы должны были уже ехать, когда вдруг меня после занятий вызвали к Ставскому, сказали, чтоб я немедленно шел к нему в Союз писателей. Членом Союза я тогда еще не был, был просто студентом, автором нескольких циклов стихов, напечатанных в разных журналах, и одной поэмы.
— Ну, рассказывай, что ты там за несоветские разговоры ведешь в Литинституте. Собираешься ехать писать об Орджоникидзе, а в разговорах восхваляешь белогвардейщину, — примерно так начал Ставский, а я буквально онемел от неожиданности, потому что никаких несоветских разговоров ни с кем не вел, никакой белогвардейщины не восхвалял и вообще не понимал, что произошло.
— Вот я имею такие сведения о тебе, — сказал Ставский, — давай выкладывай правду — это единственный способ разговора, который у тебя со мной возможен.
Но хотя я был совершенно огорошен этим началом, на самом деле единственный способ говорить правду значил начисто отрицать то, о чем меня спрашивал Ставский, то, что ему кто-то наговорил про меня, причем мне даже в голову не приходило кто.
Разговор продолжался минут десять, может быть пятнадцать, и кончился тем, что я так и не признал того, чего не мог признать, не рассказал того, чего не мог рассказать, потому что этого не было, а Ставский рассердился и сказал, что раз так, то те трое поедут, а ты не поедешь. Нечего тебе писать об Орджоникидзе, раз ты не хочешь даже здесь со мной начистоту разговаривать. Пропагандирует, понимаешь, контрреволюционные стихи, а собирается ехать по следам Орджоникидзе. Это он сказал уже под конец вслед мне.
Я вышел от него подавленный всем этим, чтобы в следующий раз увидеть его в Монголии, на Халхин-Голе, через два года, в роли человека, который впервые в моей жизни вывез меня, как говорится, под огонь, или, во всяком случае, в зону огня, и несколько дней там, на передовой, обращался со мной как грубоватая, но заботливая нянька.
Но это все было потом, а в тот день было именно так, как я вспоминаю, хотя, может быть, я вспоминаю и не совсем те слова, которые были сказаны, слова на самом деле были, может быть, немного другие, мягче или грубее. Гораздо точнее вспоминается душевное состояние. Оно было тяжелым, очень тяжелым, а в голове крутилась последняя фраза Ставского, наводившая на какую-то еще не пойманную мною мысль, фраза о том, что я хвалю контрреволюционных поэтов. Вдруг я вспомнил — меня осенило, — вспомнил два или три разговора, совсем недавние, в последние вечера с нашим новым руководителем семинара, недавно пришедшим и разговаривавшим по душам то с одним, то с другим из нас, очевидно, знакомясь с нами, так мы это понимали.
Я в то время увлекался Киплингом, напечатал в «Молодой гвардии» несколько своих переводов из Киплинга, считалось, что удавшихся мне. И вдруг я вспомнил, что последний, кажется второй по счету, разговор с этим нашим руководителем семинара где-то на скамейке, в скверике перед домом Герцена, начался со стихов Киплинга, с того, почему они мне нравятся. Мне они нравились своим мужественным стилем, своей солдатской строгостью, отточенностью и ясно выраженным мужским началом, мужским и солдатским. Когда я сказал, за что и почему мне нравится Киплинг, он стал меня спрашивать: а как я отношусь к Гумилеву? К Гумилеву я относился довольно равнодушно, из акмеистов любил Мандельштама. У Гумилева мне нравилось несколько стихотворений, а вообще его стихи казались мне по сравнению с Киплингом более эстетизированными, менее солдатскими и менее мужественными. В общем, Киплинг заслонил для меня Гумилева, хотя, казалось бы, по моим вкусам поэтика Гумилева должна была бы мне нравиться. Дальше, после этого разговора о Гумилеве («Ну, это напрасно, что вам не нравится, не привлек вас к себе Гумилев, хотя он и контрреволюционер, но поэт, и как поэт он вам не может не нравиться»), началось чтение стихов Гумилева, которые мой собеседник помнил наизусть. Что-то я знал, что-то я не знал, что-то мне понравилось, что-то я вспомнил из того, что мне нравилось и раньше — «Заблудившийся трамвай», «Леопард», еще что-то, уже не помню что, — и я сказал о том, что мне, конечно, нравятся эти стихи Гумилева, но я больше все-таки люблю Киплинга.
Вот примерно и весь разговор, который мог вызвать ту, последнюю фразу Ставского, брошенную мне вдогонку. Никакого другого разговора ни с кем другим не было. Просто-напросто не было. Значит, этот человек, новый руководитель семинара, совершил подлость, сказал не то, что было на самом деле. Ведь он сам пристал ко мне с Гумилевым, сам говорил мне, что он хотя и контрреволюционер, но хороший поэт, сам читал мне его стихи, сам меня вызвал на то, чтобы я сказал, что да, у Гумилева есть, конечно, хорошие стихи, хотя я все-таки больше люблю Киплинга.
Зачем же он все это рассказал Ставскому совсем не так, как это было на самом деле? Он, сам втянувший меня в этот разговор, рассказал о нем так, что Ставский вызвал меня, требовал, чтобы я признался в каких-то несоветских разговорах, и в результате не поверил мне и исключил меня из поездки с товарищами на Северный Кавказ, куда я так хотел ехать. Зачем ему это понадобилось? Выслужиться, что ли, он хотел, показать, какой он бдительный, или ему еще зачем-то понадобилось наговорить на меня, но почему, я ему ничего плохого не сделал, он ко мне как будто бы хорошо относился.
У нас после этого было, к счастью, всего одно семинарское занятие, но я не мог себя заставить смотреть на этого человека, мне было тяжело его видеть. Я поспешил поскорее уйти, чтобы он не успел заговорить со мной. Потом я, думая об этой хорошо и надолго запомнившейся мне истории, видел в ней провокацию, при помощи которой он, очевидно, укреплял или хотел укрепить свое собственное положение, в чем-то несчастный, очевидно, или в чем-то запутавшийся человек, вдобавок ко всему еще и тяжелобольной, еле передвигавшийся. Больше я его не видел. Когда мы вернулись к занятиям осенью, он исчез, был арестован и, наверное, умер где-то там. Я никогда больше не слыхал ни от кого его фамилии.
Вот так странно год от года чему-то учила, а в чем-то запутывала нам мозги жизнь.
Мы уже давно мыкались по разным снимаемым нашей семьей комнатам, снимали мы их у тех, кто уезжал куда-то работать по броне. В квартире сестры отчима и ее родственников, где мы жили первую зиму после переезда в Москву, был арестован брат ее мужа. Снова арестован, первый раз его арестовывали еще в тридцатом году, раньше, чем отчима, и через несколько месяцев так же, как и отчима, освободили, но он был довольно крупный военный, по званию комкор, первый советский атташе в Турции, профессор военной академии и однокашник Тухачевского по Пажескому корпусу — кажется, так.
В двадцатые годы, когда мы иногда наезжали в Москву на неделю или на полторы и примащивались на это время у тетки — других возможностей не было, — я видел пришедшего в гости к Ивану Александровичу (ее деверя звали Иван Александрович) высокого и красивого Тухачевского.
Тогда Ивана Александровича выпустили, но в армию он не вернулся, вел в каком-то высшем учебном заведении уже как штатский человек курс экономической географии. Человек он был весьма образованный. Вдруг его во второй раз посадили. Было это до начала процесса над Тухачевским, Уборевичем и другими или после, я не помню, но примерно в это время. Мать огорчилась, говор ила, что не может быть, чтоб Иван Александрович был в чем-то виноват, отчим угрюмо молчал, не желая вообще разговаривать на эти темы, а я, что думал я?
Так же, как большинство, наверное, людей, во всяком случае большинство молодых людей моего поколения, я думал тогда, что процесс над Тухачевским и другими военными, наверное, правильный процесс. Кому же могло понадобиться без вины осудить и расстрелять таких людей, как они, как маршалы Егоров и Тухачевский, заместитель наркома, начальник Генерального штаба, — о других я имел меньше представления, чем о них, но они в моем юношеском сознании были цветом нашей армии, ее командного состава, кто бы их арестовал и кто бы их приговорил к расстрелу, если бы они были не виноваты? Конечно же, не приходилось сомневаться в том, что это был какой-то страшный заговор против советской власти. Сомневаться просто не приходило в голову, потому что альтернативы не было — я говорю о том времени: или они виноваты, или это невозможно понять. Я считал, что они, наверное, виноваты, наверное, виноват и Иван Александрович, тогда, раньше, не был виноват и его выпустили, а теперь, когда не выпустили, значит, не выпустили потому, что он виноват. Отчима же тогда выпустили, раз он был ни в чем не виноват. Сейчас он работает на своей военной кафедре в институте, ничего с ним не происходит.
Впрочем, об этом было немножко страшно думать, страшно было приближаться к этой теме, потому что с кем-то, где-то все чаще и чаще происходило то, что с Иваном Александровичем, но это были только отзвуки, это были люди, которых я не знал, о которых не имел представления.
Вот так смутно — кое-что подробно, кое-что с провалами — вспоминается мне это время, которое, наверное, если быть честным, нельзя простить не только Сталину, но и никому, в том числе и самому себе. Не то что ты сделал что-то плохое сам, пусть ты ничего плохого не сделал, во всяком случае на первый взгляд, но плохо было уже то, что ты к этому привык. Для тебя, двадцатидвухлетнего-двадцатитрехлетнего человека, в тридцать седьмом — тридцать восьмом годах то, что происходило, и то, что кажется сейчас неимоверным и чудовищным, постепенно как бы входило в некую норму, становилось почти привычным. Ты жил среди всего этого как глухой, словно ты не слышал, что вокруг все время стреляют, убивают, вокруг исчезают люди. Как будто это могло быть объяснимо, хотя это было необъяснимым. Наверное, разбираясь в тогдашних представлениях людей моего поколения, вернее, пробуя в них разобраться, и прежде всего, конечно, в своих собственных представлениях, надо провести какие-то грани между — в одних случаях — полною верою в правильность происходившего, а в других — полуверою, инстинктивными сомнениями — большими и меньшими.
В военный процесс я верил, ничего другого, кроме того, что так оно и было в действительности, представить себе не мог. Публичные процессы вызывали чувство некоторой оторопи — от той готовности все рассказать о себе и все признать, которая переходила из показания в показание. Вроде бы странно и сомневаться в том, что говорят о себе эти люди, — все это, в общем, выстраивалось в казавшуюся по тем временам довольно стройной и последовательной картину. И в то же время почему же все-таки все они признавались, все считали себя виноватыми, никто не отрицал своей вины или, наоборот, никто не настаивал на том, что он считал себя вправе поступать так, как он поступал?
К одним людям — таким, как Зиновьев, — у меня, например, было чувство какой-то давней неприязни, может быть, это шло от моих ленинградских впечатлений и разговоров, потому что в Ленинграде он оставил о себе особенно плохую память. К Бухарину, в какой-то мере к Рыкову было, наоборот, какое-то застарелое чувство приязни, в особенности к первому из них. Я помнил его заключительное слово после обсуждения доклада о поэзии на Первом съезде писателей. Мы, будущие студенты Литинститута, получили входные билеты на хоры, каждый на какое-то заседание. Я получил на это. Сначала на Бухарина наскакивали наши поэты, и мне это нравилось; говорили хлестко, смело, задиристо — это было мне по душе. Но когда выступил с ответным словом Бухарин, он говорил хлестко, смело и задиристо, и мне это тоже было по-человечески по душе, мне понравилось, как заключал прения после доклада. Он был редактором «Известий» в бытность мою в Литинституте, он печатал там стихи некоторых литинститутских поэтов. Два раза печатал и мои стихи. Его самого я не видел, ходил в отдел литературы и искусства.
Один раз должен был увидеть — Бухарин прочитал какие-то новые, отданные мною в «Известия» стихи, заинтересовался ими, хотел со мной поговорить, и мне назначили час встречи, которая, конечно же, меня очень интересовала. Так как я перед этим условился с матерью, что приду к ней именно в этот час, то я забежал к ней заранее и оставил ей записочку. Но встреча не состоялась, Бухарин был чем-то занят или куда-то уехал, я его так больше и не видел. А эту свою записку я увидел у матери в сорок четвертом году, когда она вернулась из Молотова, куда увозила с собой часть моего юношеского литературного архива и все, что я ей писал когда бы то ни было. Я как-то зашел к ней, и она, перебирая мои старые письма, сказала вдруг: «Вот тут одна записочка, я хотела с тобой посоветоваться. Я ее берегла, но, может быть, это не нужно».
Записочка была самая простая, записка начинающего поэта, студента, который должен был увидеться с редактором большой газеты, заинтересовавшейся его стихами. Но в свете того, что потом произошло с Бухариным, записка выглядела страшновато. Тогда у матери, в сорок четвертом году, я даже вздрогнул, когда прочитал ее и подумал, что она вот так с тридцать пятого или с начала тридцать шестого года и лежала у матери, ездила с ней в Молотов. Я писал в записке, помню ее наизусть: «Милая мамочка, я не приду, меня вызывают ровно на пять часов к Николаю Ивановичу Бухарину. Зачем — пока не могу тебе сказать, пока это секрет, скажу потом. Сын». Вот и вся записка. Секрет же состоял в том, что я еще не говорил матери, что отдал в «Известия» новые стихи и их вроде бы собираются напечатать, как и два раза до этого. Хотел сделать ей сюрприз.
Записку эту я тогда, в сорок четвертом году, конечно, порвал. Я, к тому времени уже обстрелянный, побывавший на двух войнах — сначала на маленькой, потом на большой — человек, подполковник, награжденный орденом боевого Красного Знамени, военный корреспондент, писатель, написавший «Жди меня», «Русские люди» и «Дни и ночи», получивший две Сталинские премии, задним числом с ужасом думал: ну, а случись такие обстоятельства, что еще тогда, в тридцать шестом, тридцать седьмом, тридцать восьмом годах, кто-то бы заглянул в материнский архив и увидел эту записку, — пойди объясни по тому времени, что это у тебя за секреты насчет Бухарина. В те времена это могло бы кончиться плохо не только для печатавшего в «Известиях» свои стихи студента Литинститута, но и для его родителей. Да и не только тогда, но и в сорок четвертом году, когда происходил мой разговор с матерью, когда я порвал эту записку, сунь в нее нос какой-нибудь худой человек — хорошего тоже было бы мало. Я ничего не сказал матери, только покачал головой. Она в ответ тоже ничего не сказала, только пожала плечами, как бы говоря, что, наверное, она виновата, но привычка оставлять все целым, все, что я ей написал, для нее была сильнее всяких других мыслей или опасений.
Однако то, что я говорил только что о Зиновьеве, Бухарине, Рыкове, относится к каким-то очень индивидуальным оттенкам восприятия людей. Главные же сомнения стали возникать просто-напросто от массовости происходящего. Хотя надо учитывать, что это сейчас мы, вспоминая то время, говорим о массовых незаконных репрессиях, когда чем дальше, тем больше все происходило не в судах, а просто решалось где-то, в каких-то тройках, о которых кто-то и откуда-то слышал, и люди исчезали. И, конечно, я с моим кругозором, с тем, что я знал, с тем, кого знал, — я имел представление, может быть, о том, как исчезал один человек из очень, очень многих сотен, а про других я ничего не знал, так же, как другие не знали про других. Но даже при этом условии ощущение массовости происходящего возникало, возникало чувство, что все это быть не может правильным, происходят какие-то ошибки. Об этом иногда говорили между собой. Потом, когда Ежов стал из наркомвнудела наркомом водного транспорта, а затем и вовсе исчез, справедливость этих сомнений подтвердилась как бы в общегосударственном масштабе. Народное словечко «ежовщина» возникло не после XX съезда, как кажется иногда, наверное, людям других, куда более молодых поколений, оно возникло где-то между исчезновением Ежова и началом войны, возникло, когда часть исчезнувших стала возвращаться, возникло словно само собой, как из земли, и его не особенно боялись произносить и вслух, насколько мне помнится. Я думаю сейчас, что Сталин при той информации, которой он располагал, знал распространенность и обиходность этого слова, и за употребление его не было приказано взыскивать. Очевидно, так. Очевидно, Сталина с какого-то момента устраивало, чтобы все происшедшее в предыдущие годы связывалось поначалу с Ягодой, а потом главным образом с его преемником Ежовым. Его устраивало, что все это прикреплялось к слову «ежовщина».
Кстати говоря, вспоминая то время, нельзя обойти наших тогдашних представлений — издали, конечно, понаслышке — о Берии. Назначение Берии выглядело так, как будто Сталин призвал к исполнению суровых, связанных с такой должностью обязанностей человека из Грузии, которого он знал, которому он, очевидно, доверял и который должен был там, где не поздно, поправить сделанное Ежовым. Надо ведь помнить, что те, кто был выпущен между концом тридцать восьмого года и началом войны, были выпущены при Берии. Таких людей было много, я не знаю, каково процентное отношение в других сферах, но в «Истории Великой Отечественной войны» записано, что именно в эти годы, то есть при Берии, было выпущено более четверти военных, арестованных при Ежове. Так что почва для слухов о том, что Берия, восстанавливая справедливость, стремился поправить то, что наделано Ежовым, была. Почва была довольно основательная, и, наверное, большинству из нас, мне во всяком случае, и во сне бы не приснилась тогда будущая деятельность Берии. Что он делал в Грузии до приезда в Москву в период «ежовщины», об этом я, например, в сколько-нибудь близких к действительности масштабах не имел ни малейшего представления.
Итак, в нашем сознании Сталин исправлял ошибки, совершенные до этого Ежовым и другими, всеми теми, кто наломал дров. Для исправления этих ошибок назначен был Берия. Когда уже при нем, при Берии, в тридцать девятом году были арестованы и исчезли Мейерхольд и Бабель, то, скажу честно, несмотря на масштаб этих имен в литературе и в театре и на то потрясение, которое произвели эти внезапные — уже в это время — аресты, внезапные и, в общем, в этой среде уже единичные, именно потому, что они были единичные, и потому, что это было уже при Берии, который исправлял ошибки, совершенные при Ежове, — было острое недоумение: может быть, в самом деле вот эти люди, посаженные уже в тридцать девятом году, в чем-то виноваты? Вот другие, посаженные раньше, при Ежове, многие из них, наверное, были не виноваты, неизвестно, как все это было, но эти, которых при Ежове никто не трогал, а когда стали поправлять происшедшее, их вдруг арестовали, может, к этому были действительные причины?
Не знаю, как у других, у меня такие мысли были в то время, и я не вижу причин забывать о том, что они были. Это было бы упрощением сложности духовной обстановки того времени.
В конце лета тридцать восьмого года я стал членом Союза писателей. В этом году вышли сразу две, если не три, мои первые книжки, и вообще я почувствовал себя профессиональным литератором. Естественно, что к этому времени я больше знал, чем раньше, о том, что происходило в кругу литераторов, в том числе о событиях драматических.
Самым драматическим для меня лично из этих событий был совершенно неожиданный и как-то не лезший ни в какие ворота арест и исчезновение Михаила Кольцова. Он был арестован в самом конце тридцать восьмого года, когда арестов в писательском кругу уже не происходило, арестован после выступления в большой писательской аудитории, где его восторженно встречали. Прямо оттуда, как я уже потом узнал, он уехал в «Правду», членом редколлегии которой он был, и там его арестовали — чуть ли не в кабинете Мехлиса.
Мы все читали «Испанский дневник» Кольцова. Читали с гораздо большим интересом, чем что бы то ни было, кем бы то ни было написанное об Испании, в том числе даже чем корреспонденции Эренбурга. Об «Испанском дневнике» написали Фадеев и Алексей Толстой. Вторая книга готовилась к публикации в «Новом мире», была уже чуть ли не верстка ее, ее с нетерпением ждали. Кольцов был для нас в какой-то мере символом всего того, что советские люди делали в Испании. О том, что очень многие из наших военных, бывших в Испании, оказались потом арестованными — некоторые вышли на волю, а некоторые погибли, — я узнал значительно позже, а о Кольцове мы узнали тогда сразу же. Слух об этом, о его исчезновении распространился мгновенно. Ни понять этого, ни поверить в это — в то, что он в чем-то виноват, было невозможно или почти невозможно. И, в общем, в это не поверили, надо сказать это так же без преувеличений, как я без преуменьшений говорил о других случаях, когда верили, и легко верили.
Очень характерно, что с самого начала Великой Отечественной войны пошли слухи, что то на одном фронте, то на другом фронте, в том числе и на Карельском фронте, видели Кольцова, который освобожден, вернулся из лагерей и находится в действующей армии. Находились свидетели этого, вернее, якобы свидетели, которые кому-то говорили об этом, а кто-то говорил об этом еще кому-то, и эти слухи снова и снова возникали, доходили до нас, до меня например, на протяжении первых двух лет войны. У этих слухов была своя основа: возвращение в действующую армию ряда военных людей, которые затем отличались на фронте, о них было глухо известно, что они исчезли в предвоенные годы, о возвращении их в армию до войны не знали, а во время войны их имена появились сначала в списках награжденных, позже в приказах. Слухи о появлении на фронте Кольцова отличались особым упорством, связанным с особой симпатией к нему, к его личности, к его роли в испанских событиях, и к его «Испанскому дневнику», и к невозможности поверить в то, что этот человек в чем-то виноват.
В сорок девятом году, когда мы ездили с первой делегацией деятелей советской культуры в Китай, Фадеев руководителем делегации, а я его заместителем, как-то поздно вечером в Пекине в гостинице Фадеев в минуту откровенности — а надо сказать, что на такие темы, как эта, он редко говорил, очень редко, со мной, пожалуй, только трижды, — он после того, как я, не помню, по какому поводу, заговорил о Кольцове и о том, что так до сих пор и не верится, что с ним могло произойти то, что произошло, сказал мне, что он, Фадеев, тогда же, через неделю или две после ареста Кольцова, написал короткую записку Сталину о том, что многие писатели, коммунисты и беспартийные, не могут поверить в виновность Кольцова, и сам он, Фадеев, тоже не может в это поверить, считает нужным сообщить об этом широко распространенном впечатлении от происшедшего в литературных кругах Сталину и просит принять его.
Через некоторое время Сталин принял Фадеева.
— Значит, вы не верите в то, что Кольцов виноват? — спросил его Сталин.
Фадеев сказал, что ему не верится в это, не хочется в это верить.
— А я, думаете, верил, мне, думаете, хотелось верить? Не хотелось, но пришлось поверить.
После этих слов Сталин вызвал Поскребышева и приказал дать Фадееву почитать то, что для него отложено.
— Пойдите почитайте, потом зайдете ко мне, скажете о своем впечатлении, — так сказал ему Сталин, так это у меня осталось в памяти из разговора с Фадеевым.
Фадеев пошел вместе с Поскребышевым в другую комнату, сел за стол, перед ним положили две папки показаний Кольцова.
Показания, по словам Фадеева, были ужасные, с признаниями в связи с троцкистами, с поумовцами.
— И вообще, чего там только не было написано, — горько махнул рукой Фадеев, видимо, как я понял, не желая касаться каких-то персональных подробностей. — Читал и не верил своим глазам. Когда посмотрел все это, меня еще раз вызвали к Сталину и он спросил меня:
— Ну как, теперь приходится верить?
— Приходится, — сказал Фадеев.
— Если будут спрашивать люди, которым нужно дать ответ, можете сказать им о том, что вы знаете сами, — заключил Сталин и с этим отпустил Фадеева.
Этот мой разговор с Фадеевым происходил в сорок девятом году, за три с лишним года до смерти Сталина. Разговор свой со Сталиным Фадеев не комментировал, но рассказывал об этом с горечью, которую как хочешь, так и понимай. При одном направлении твоих собственных мыслей это могло ощущаться как горечь от того, что пришлось удостовериться в виновности такого человека, как Кольцов, а при другом — могло воспринятые как горечь от безвыходности тогдашнего положения самого Фадеева, в глубине души все-таки, видимо, не верившего в вину Кольцова и не питавшего доверия или, во всяком случае, полного доверия к тем папкам, которые он прочитал. Что-то в его интонации, когда он говорил слова «чего там только не было написано», толкало именно на эту мысль, что он все-таки где-то в глубине души не верит в вину Кольцова, но сказать это даже через одиннадцать лет не может, во всяком случае впрямую, потому что Кольцов — это ведь уже не «ежовщина». Ежов уже бесследно убран, это уже не Ежов, а сам Сталин.
Почему я так долго говорю обо всем этом, самом тяжелом, трудно объяснимом и трудно переносимом даже в воспоминаниях, когда обращаюсь к годам своей юности? Ведь было тогда много и всякого другого, совершенно не похожего на все это, далекого от этого. Вот именно! В этом, очевидно, все дело; хотя многие страницы, написанные мною до сих пор, как бы входят в противоречие с началом этой рукописи, заявкой на рассказ или, вернее, на попытку анализа отношения человека, или людей моего поколения, к Сталину, не могу обойтись без этих страниц, ибо отсюда, с этого пункта, и начинаются противоречия внутренней оценки Сталина. Противоречия, где-то заложенные еще тогда, приглушенные, задавленные в себе в результате где-то трусости, где-то упорного переубеждения самого себя, где-то насилия над собой, где-то желания не касаться того, чего ты не хочешь касаться даже в мыслях. И все же первые корни двойственного отношения к Сталину — там, в тридцатых годах. Осознанные, неосознанные, полуосознанные, но все-таки где-то в душе произраставшие. А в полный рост эти противоречия не пошли, не дали ростков тогда не потому, что, как теперь часто говорят, мы ведь тогда этого не знали, это мы потом, после XX съезда, всё узнали. Многое, конечно, узнали только после XX съезда, это верно. Но отнюдь не всё. Было и такое, о чем можно было и следовало думать до XX съезда, и оснований для этого было достаточно. Решимости не хватало куда больше, чем оснований.
Дело не в том, что ровно ничего не знали, а в том дело, что, ощущая и в какой-то мере зная о том дурном, что делается и только потом не полностью и запоздало исправляется, а иногда и не исправляется вообще, гораздо больше знали о хорошем. Я сознательно употребляю эти два очень общих, неконкретных слова — «дурное» и «хорошее», потому что в другие не вместишь то, что под этим подразумевалось в то время.
Что же хорошее было связано для нас, для меня в частности, с именем Сталина в те годы? А очень многое, почти все, хотя бы потому, что к тому времени уже почти все в нашем представлении шло от него и покрывалось его именем. Проводимой им неуклонно генеральной линией на индустриализацию страны объяснялось все, что происходило в этой сфере. А происходило, конечно, много удивительных вещей. Страна менялась на глазах. Когда что-то не выходило — значит, этому кто-то мешал. Сначала мешали вредители, промпартия, потом, как выяснилось на процессах, мешали левые и правые оппозиционеры. Но, сметая все с пути индустриализации, Сталин проводил ее железной рукой. Он мало говорил, много делал, много встречался по делам с людьми, редко давал интервью, редко выступал и достиг того, что каждое его слово взвешивалось и ценилось не только у нас, но и во всем мире. Говорил он ясно, просто, последовательно; мысли, которые хотел вдолбить в головы, вдалбливал прочно и в нашем представлении никогда не обещал того, что не делал впоследствии.
Мы были предвоенным поколением, мы знали, что нам предстоит война. Сначала она рисовалась как война вообще с капиталистическим миром — в какой форме, в форме какой коалиции, трудно было предсказать; нам угрожали даже непосредственные соседи — Польша, Румыния, Малая Антанта — это было до прихода Гитлера к власти, а на Дальнем Востоке — Япония. Мы знали, что находимся в капиталистическом окружении, так и было на самом деле, а постепенно, с оккупацией Японией Маньчжурии, с приходом к власти Гитлера, с созданием антикоминтерновского пакта, оси, будущее проявилось еще более отчетливо. Очевидно, придется воевать с Японией и Германией, может быть, присоединившейся к ним Италией. Враждебной нам продолжала оставаться и Польша, хотя было непонятно, как она может оказаться на стороне Германии, и тем не менее она осталась враждебной нам вопреки логике.
На КВЖД твердой рукой был дан отпор китайским милитаристам. Мы этому сочувствовали еще мальчишками. На Хасане произошло столкновение с японцами, в котором мы не отступили. Тогда ходили слухи, что там поначалу все было не так хорошо, как об этом писали, но тем не менее мы там не отступили. Потом был Халхин-Гол, где уже мне довелось быть самому и многое видеть своими глазами. Некоторые разочарования были, что-то не совпадало с тем, чего я ожидал, в частности, японцы сначала били нас в воздухе, пока не появились наши новые самолеты, а главное, наши летчики с опытом боев в Испании, в Китае; поначалу не очень удачно действовала пехота, были случаи паники — этого я не застал, но об этом слышал. Однако танки наши там, на Халхин-Голе, оказались на высоте, в итоге на высоте оказалась и авиация, и, хотя осталось внутреннее ощущение, что наша пехота воевала там не лучше японской, в общем, в масштабах всего халхин-гольского конфликта японцы были разбиты наголову. Это было неопровержимым фактом, а за этим стояло многое из того, что делал Сталин для армии. То, что он занимался армией, вооружением ее, снабжением, отдавал ей много времени и сил, придавал ей должное значение, готовил страну к борьбе, вооруженной борьбе в трудных условиях, было для нас несомненно. Поэтому в итоге, несмотря на некоторые неприятные для нашего сознания неожиданности, мы высоко ценили его деятельность в этом направлении.
Вдобавок мы в Монголии выполнили свой интернациональный долг: договор, подписанный нами с монголами, был выполнен, мы обещали им помочь и помогли полною мерою. Это вызывало чувство удовлетворения. По нашим тогдашним представлениям, Сталин как руководитель нашей страны, ее вождь сделал все, что мог, все, что было практически возможно. Мы были убеждены, что, если бы не комитет по невмешательству, если бы не блокада Испании, потворство вмешательству в ее дела немецких и итальянских военных контингентов, широкий ввоз из Германии и Италии артиллерии, танков, авиации, республика справилась бы с фашизмом. Мы, со своей стороны, были людьми с чистой совестью, мы сделали все, что могли. А персонифицируя все это, мы жили с ощущением, что Сталин сделал все, что мог, для спасения Испанской республики, для эвакуации испанских детей и сирот, — в общем, с его именем было связано представление о неукоснительном исполнении нашего интернационального долга.
К этому кругу «хорошего», связанного в нашей жизни с тогдашними представлениями о Сталине, относилась еще и Арктика — спасение экипажа «Челюскина», высадка на Северном полюсе Папанина с товарищами, перелеты Чкалова и Громова. За организацией всего этого, за всеми этими смелыми предприятиями в нашем ощущении стоял Сталин, к нему приезжали, ему докладывали об этом. А связанные с этим торжества приобретали характер всенародный, и это сближало всех нас, за редким исключением, с в общем-то далекой, отъединенной фигурой Сталина. Мы не представляли себе возможности, самой возможности обвинений, выдвинутых впоследствии против Сталина в связи со смертью Кирова. Я их потом вместе со многими другими людьми слышал своими ушами с трибуны как подозрения почти несомненные, хотя впоследствии несомненность их, насколько я знаю, никому доказать так и не удалось. Этого всего мы себе не представляли даже как возможность. Но как Сталин шел за гробом Кирова — знали. Мы не знали того, что в действительности произошло в семье Сталина, не знали трагического поворота отношений его с женой, до нас не доходили слухи о нем как о виновнике ее смерти, но мы знали, что он шел за ее гробом, и сочувствовали его потере.
В своих выступлениях Сталин был безапелляционен, но прост. С людьми — это мы иногда видели в кинохронике — держался просто. Одевался просто, одинаково. В нем не чувствовалось ничего показного, никаких внешних претензий на величие или избранность. И это соответствовало нашим представлениям о том, каким должен быть человек, стоящий во главе партии. В итоге Сталин был все это вкупе: все эти ощущения, все эти реальные и дорисованные нами положительные черты руководителя партии и государства.
Очень было трудно при этом удержаться от соблазна перевалить на кого-то другого ответственность за плохое. В этом смысле Сталин был особенно последователен. Перегибы с массовой коллективизацией повлекли за собой статью «Головокружение от успехов», а «Головокружение от успехов» не только расширяло число виноватых, не только переводило все случившееся на совершенно иной уровень причинности, чем это можно было себе представить по масштабам случившегося, но и подталкивало людей вроде меня, далеких от понимания всех происходивших в деревне процессов, всей их сложности, к однозначному и полезному для авторитета Сталина решению: именно на том уровне, о котором он писал, и происходили эти ошибки. И если бы он не остановил, не спас от дальнейших ошибок, то они нарастали бы. Он выступал для нас в роли спасителя от ошибок, так же, как впоследствии он выступал в этой же роли, когда Ежова сменил Берия. Ежов исчез, а Сталин, как об этом доходили слухи до таких людей, как я, слухи отдаленные, неясные, где-то, кажется, на пленуме ЦК, очень жестко критиковал людей, которые были виноваты в перегибах, для обозначения которых так кстати появилось это слово «ежовщина». До такой степени кстати, что пустить его в оборот впору бы самому Сталину. Хотя, конечно, это было не так, и скорей всего это обозначение тех двух или трех лет, которые сами по себе составили короткую, но страшную эпоху, родилось сразу у многих людей и распространилось, как огонь по сухой траве, благодаря своей безотказной точности и простоте, соответствующей предыдущему, бывшему в ходу словесному обозначению, связанному с Ежовым, — «ежовые рукавицы». Об этих рукавицах писали, их рисовали, и довольно часто.
Сейчас мне думается, когда я вспоминаю то время, что раздувание популярности Ежова, его «ежовых рукавиц», его «железного» наркомства, наверное, нисколько не придерживалось, наоборот, скорее поощрялось Сталиным в предвидении будущего, ибо, конечно, он знал, что должен когда-то наступить конец тому процессу чистки, которая ему как политику и человеку беспощадно жестокому казалась, очевидно, неизбежной; раз так, то для этого последующего периода наготове имелся и вполне естественный первый ответчик.
Но все это я думаю сейчас. Тогда не думал, даже не представлял себе, что когда-нибудь смогу это думать.
Пакт с немцами, приезд Риббентропа в Москву и все с этим связанное поначалу не внесли сколько-нибудь заметной трещины в мое представление о Сталине, хотя само это событие психологически, особенно после всего, что произошло в Испании, после открытой схватки с фашизмом, которая была там, тряхануло меня так же, как и моих сверстников, — многих, наверное, довольно сильно. Что-то тут невозможно было понять чувствами. Может быть, умом — да, а чувствами — нет. Что-то перевернулось и в окружающем нас мире, и в нас самих. Вроде бы мы стали кем-то не тем, чем были; вроде бы нам надо было продолжать жить с другим самоощущением после этого пакта.
Это первое ощущение и самоощущение, наверное, было бы для меня более резким, если бы в дни, когда все это происходило, я не оказался на Халхин-Голе в разгар нашего наступления и окружения японских войск. И дело не только в том, что душевные силы, интересы поглощало происходившее непосредственно там — это ведь было для меня как для начинающего военного корреспондента боевое крещение, связанное и с многократным видом смерти, достаточно ужасными картинами ее, и с моментами личной опасности. Но, кроме всего этого, было еще такое чувство — я потом о нем писал, стараясь точно выразить его, здесь хочу это повторить, — что вместе с этим пактом там, где-то далеко, отодвинулась опасность удара в спину. Обычное ощущение при жизни в Москве в эти годы, когда все нарастало ощущение предстоящей войны с фашистской Германией — мы как бы находились лицом к ней, она была перед нами, а Япония, маньчжурская граница, на которой беспрерывно происходили конфликты, Монголия, в которую японцы вторгались, вторглись в тридцать девятом году вовсе не в первый раз — до этого было несколько предыдущих проб, — все это там, за спиной. Нож в спину был там, угроза такого удара исходила от японцев. Когда мы были там, на Халхин-Голе, когда там шла война, эта возможность удара в спину ножом связывалась с Германией, этот удар ожидался с запада, уже это было у нас за спиной. И вот вдруг наступила странная, неожиданная, оглушающая своею новизной эра предстоящего относительного спокойствия: был заключен пакт о ненападении — с кем? — с фашистской Германией.
Когда началась война немцев с Польшей, все мое сочувствие, так же как и сочувствие моих товарищей по редакции военной газеты, где мы вместе работали, было на стороне поляков, потому что сильнейший напал на слабейшего и потому что пакт о ненападении пактом, а кто же из нас хотел победы фашистской Германии в начавшейся европейской войне, тем более легкой победы? Быстрота, с которой немцы ворвались и шли по Польше, огорошивала и тревожила.
Семнадцатого сентября тридцать девятого года заявление о вступлении наших войск в Западную Украину и Белоруссию в связи с развалом Польши как государства застало меня тоже еще на Халхин-Голе. За сутки до этого было, по-моему, самое крупное воздушное сражение над монгольской степью. В воздухе было несколько сотен самолетов. Впоследствии, в пятидесятом году, при встречах с Георгием Константиновичем Жуковым я, сам немножко стесняясь тогда того, что сейчас скажу, все-таки сказал ему правду, что после этих воздушных боев над Халхин-Голом я ни разу не видел в годы Великой Отечественной войны, чтоб в воздушном бою у меня над головой участвовало столько самолетов. А он усмехнулся и неожиданно для меня ответил: «А ты думаешь, я видел? И я не видел». Я вспомнил об этом к тому, что хотя мы окружили, разбили, в общем, разгромили, это не будет преувеличением сказать, японцев на монгольской территории, но, что будет дальше и начнется ли большая война с Японией, было неизвестно — как мне тогда казалось, можно было ждать и этого. А то, что там, в Европе, наши войска вступают в Западную Украину и Белоруссию, мною, например, было встречено с чувством безоговорочной радости. Надо представить себе атмосферу всех предыдущих лет, советско-польскую войну 1920 года, последующие десятилетия напряженных отношений с Польшей, осадничество, переселение польского кулачества в так называемые восточные коресы, попытки колонизации украинского и в особенности белорусского населения, белогвардейские банды, действовавшие с территории Польши в двадцатые годы, изучение польского языка среди военных как языка одного из наиболее возможных противников, процессы белорусских коммунистов. В общем, если вспомнить всю эту атмосферу, то почему же мне было тогда не радоваться тому, что мы идем освобождать Западную Украину и Западную Белоруссию? Идем к той линии национального размежевания, которую когда-то, в двадцатом году, считал справедливой, с точки зрения этнической, даже такой недруг нашей страны, как лорд Керзон, и о которой вспоминали как о линии Керзона, но от которой нам пришлось отступить тогда и пойти на мир, отдававший Польше в руки Западную Украину и Белоруссию, из-за военных поражений, за которыми стояли безграничное истощение сил в годы мировой и Гражданской войн, разруха, неприконченный Врангель, предстоящие Кронштадт и антоновщина, — в общем, двадцатый год.
То, что происходило, казалось мне справедливым, и я этому сочувствовал. Сочувствовал, находясь еще на Халхин-Голе и попав неделей позже, обмундированный по-прежнему в военную форму, с Халхин-Гола в уже освобожденную Западную Белоруссию. Я ездил по ней накануне выборов в Народное собрание, видел своими глазами народ, действительно освобожденный от ненавистного ему владычества, слышал разговоры, присутствовал в первый день на заседании Народного собрания. Я был молод и неопытен, но все-таки в том, как и чему хлопают люди в зале, и почему они встают, и какие у них при этом лица, кажется мне, разбирался и тогда. Для меня не было вопроса: в Западной Белоруссии, где я оказался, белорусское население — а его было огромное большинство — было радо нашему приходу, хотело его. И, разумеется, из головы не выходила еще и мысль, не чуждая тогда многим: ну а если бы мы не сделали своего заявления, не договорились о демаркационной линии с немцами, не дошли бы до нее, если бы не было всего этого, очевидно, связанного так или иначе — о чем приходилось догадываться — с договором о ненападении, то кто бы вступал в эти города и села, кто бы занял всю эту Западную Белоруссию, кто бы подошел на шестьдесят километров к Минску, почти к самому Минску? Немцы. Нет, тогда никаких вопросов такого свойства для меня не было, в моих глазах Сталин был прав, что сделал это. А то, что практически ни Англия, ни Франция, объявив войну немцам, так и не пришли полякам на помощь, подтверждало для меня то, что писалось о бесплодности и неискренности с их стороны тех военных переговоров о договоре, который мог бы удержать Германию от войны.
Вдобавок было на очень свежей памяти все давнее: и Мюнхен, и наша готовность вместе с Францией, если она тоже это сделает, оказать помощь Чехословакии, и оккупация немцами Чехословакии, — все это было на памяти, и все это подтверждало, что Сталин прав. Хотя все вроде было так, а все-таки что-то было и не так, какой-то червяк грыз и сосал душу. За этим стояло не до конца осознанное ощущение — очевидно, так, именно ощущение, а не концепция, — что мы из-за договора о ненападении в чем-то из кого-то одного стали кем-то другим. С точки зрения государства, самоощущения себя как человека этого государства, все вроде было правильно. С точки зрения самоощущения себя как человека той страны, которая была надеждой всего мира, вернее, не всего мира, а всех наших единомышленников в мире, главной надеждой в борьбе с мировым фашизмом — мы говорили тогда о мировом фашизме, он был для нас не только немецким, — было что-то не то. В этом прежнем самоощущении было что-то утрачено, потеряно. И я это чувствовал и знал, что это чувствуют другие.
Возвращаясь в мыслях к тому времени, к тогдашним психологическим ощущениям человека, в общем, сознательно поддерживавшего Сталина, а в то же время бессознательно что-то не принимавшего во всем этом, — думаю сейчас о самом Сталине. Как быть в этих обстоятельствах, когда, с одной стороны, Франция и Англия не хотели заключать к чему-то обязывающего не только нас, но и их серьезного военного договора, а с другой стороны, фашистская Германия предлагала пакт о ненападении и готова была при этом в случае войны с Польшей не переступать линии Керзона, не доходить до наших границ, а наоборот, дать нам возможность дойти до этой линии, некогда предполагавшейся как справедливая граница между нами и Польшей?
Сталин решал, как быть. Решал сам. Он мог советоваться, спрашивать мнения, запрашивать данные — не знаю этих обстоятельств и не вхожу в них, — знаю одно: он к этому времени обеспечил себе такое положение в партии и в государстве, что если он твердо решал нечто, то на прямое сопротивление ему рассчитывать не приходилось, отстаивать свою правоту ему было не перед кем, он заведомо был прав, раз он принимал решение. Так вот, я задаюсь теперь вопросом — психологическим, — было ли у него внутреннее противодействие этому решению, было ли у него, хотя бы частично, ощущение того, что где-то в глубине души чувствовали мы: с этим решением мы становимся в чем-то другими, чем были?
Когда я задумываюсь над этим сейчас, мне начинает казаться, что такого рода ощущения у него могли быть. У меня нет никаких сомнений в том, что конечный этап отношений с гитлеровской Германией он представлял себе как схватку не на жизнь, а на смерть, схватку, которая должна была принести нам победу. И в чем-то он смотрел на пакт о ненападении так же, как и наши, как их тогда между собой называли мы, «заклятые друзья» — немецкие фашисты: это был шаг по пути к той будущей схватке, в которой не будет среднего выхода, будет или — или, в которой мы обязаны победить.
Мне почему-то кажется, что он мог вспоминать период борьбы за заключение Брестского мира, период, в который Ленин должен был вести жесточайшую борьбу внутри партии для того, чтобы доказать свою правоту и заключить этот мир. Сталин в этом не нуждался, он успел поставить себя в такое положение, когда собирать голоса в поддержку своего решения ему не приходилось, — в этом была разница. Но, может быть, от этого и чувство собственной ответственности было еще тяжелее. Решения, принимаемые при общем молчании или при равнозначном этому общему молчанию механическом одобрении, куда тяжелее, чем могут показаться с первого взгляда. В конце концов, если вдуматься, окончательные решения, принимаемые одним за всех, — самое трудное и самое страшное. Военные это знают лучше всего. Правда, у них это бывает вызвано прямой и объективной необходимостью самих условий войны. Сталин создал для себя подобную необходимость сам, шел к ней долгим и кровавым путем. И все же, говоря все это, я думаю: а не ставил ли он себя тогда, перед заключением пакта, мысленно на место Ленина в период Брестского мира? Своих умозрительно предполагаемых оппонентов — на место Бухарина и левых коммунистов или на место Троцкого? Не поддерживал ли он своей решимости мыслью, что этот похабный пакт — он вполне мог мысленно так называть его, особенно если вспоминал Ленина при этом, — ничем не хуже похабного Брестского мира, — что этот похабный пакт в сложившейся международной обстановке не менее необходим, чем похабный Брестский мир, хотя связан с идеологическими утратами, но утраты эти потом, когда в конце концов все кончится победой над фашизмом, нашей победой, а не чьей-либо еще, — эти утраты окажутся обратимыми, а сейчас этот пакт даст ту передышку, которая необходима для решения будущих задач. Наивно, конечно, пробовать думать за такого человека, как Сталин, пробовать представлять себе ход его мыслей — эти домыслы, разумеется, ни на чем ином, кроме интуитивной уверенности или допустимости, не основаны, и все же не могу отказаться от мысли, что в них есть какая-то своя логика.
Если говорить о собственной жизни, то с моей стороны будет правильно именно здесь пропустить семь лет, переброситься из августа и сентября тридцать девятого года в август и сентябрь сорок шестого, в послевоенное время. Все те проблемы, связанные с личностью Сталина, которые вставали передо мной и другими людьми моего поколения в первый период войны, на протяжении ее и после нее, и сразу, и спустя много лет, и до, и после XX съезда партии, — все это и составит в конце концов основное содержание, главную часть этой рукописи и будет связано не только с личными ощущениями того времени, но гораздо более с последующими размышлениями, связанными с работой над моими послевоенными книгами, над дневником писателя «Разные дни войны» и со всеми теми многочисленными беседами, которые я вел с многими людьми, каждый из которых по-своему и несравненно ближе, чем я, сталкивался в своей жизни с темой «Сталин и война», «Сталин и подготовка к войне», «Сталин и начало войны». Это, собственно, и есть главный предмет и моего изучения, и моих размышлений. Он и будет главным содержанием рукописи.
Для того чтобы перейти к этому, мне кажется необходимым еще одно преддверие, кроме того первого преддверия, которое составил рассказ о моих юношеских представлениях о Сталине и обо всем связанном с ним.
Таким вторым преддверием будут некоторые, не слишком многочисленные, но все-таки имевшие в моей жизни впечатления о личном общении со Сталиным, о Сталине вблизи, увиденном собственными глазами в буквальном смысле этого слова. Все эти личные впечатления связаны не с войной, а с литературой, хотя случалось, что и Сталину, и нам как его собеседникам в том или ином случае приходила в связи с литературой на память война. Об этом я тоже расскажу.
Прежде чем перейти к этой части своих воспоминаний и связанных с ними мыслей, несколько слов о моей предвоенной жизни и предвоенных ощущениях между осенью тридцать девятого года и июнем сорок первого. Я, может, еще буду возвращаться к этой поре в связи с главной темой своей рукописи, а здесь хочу сказать именно о себе самом в то время.
В Белостоке — не то в первый, не то во второй день заседаний Народного собрания — я чуть было не повалился без сознания от внезапно вспыхнувшей высокой температуры — за сорок. Уже плохо соображавшего, меня доставил в госпиталь Евгений Долматовский и трогательно заботился обо мне, пока мог, пока сам находился в Белостоке. Госпиталь был на базе польского госпиталя, какой-то в моих смутных воспоминаниях наполовину наш, наполовину иностранный. Тогда, в тридцать девятом году, я во второй раз чуть не умер — такое сильное крупозное воспаление легких у меня было, температура сорок держалась недели три, если не больше. Через какое-то время, добившись командировки в «Красной звезде», до меня добралась мать — другая б, наверное, в той обстановке не добралась, но у нее был такой характер, что в подобных обстоятельствах она могла и стены прошибить. Когда я начал поправляться — температура наконец спала, оставалась только страшная слабость, — мать добилась, чтоб меня отправили долечиваться в Москву. Из Белостока до Минска мы летели с ней на санитарном самолете, по-моему, на Р-5, а от Минска ехали поездом. В Москве мне сначала резали руку, потому что на ней вздулась огромная флегмона после уколов камфары и кофеина, — наверное, занесли какую-то инфекцию. Потом я еще лежал дома, приходил в себя, а затем еще с ватными ногами перебрался на отдых в Дом творчества в Переделкине — был там тогда маленький домик, впоследствии сгоревший.
Я рассказываю обо всем этом еще к тому, что происходившее в тот период установление советской власти в республиках Прибалтики прошло как-то совершенно мимо меня и мимо моего сознания. Попал я в те края только после войны, в сорок седьмом году, и думал о том, как это все было там тогда, в тридцать девятом, уже задним числом, встречаясь с Вилисом Тенисовичем Лацисом, кое-что рассказывавшим мне о сложностях того времени с присущей ему строгой сдержанностью, соединенной с прямотой и органической нелюбовью к смягчению острых углов истории.
Психологически мимо меня прошло и начало финской войны. Скажу правду, было больше чувство неловкости перед уехавшими прямо оттуда, из Дома творчества, где мы вместе жили, на эту войну товарищами — Горбатовым, Долматовским, Хацревиным, чем собственное желание оказаться на этой войне. Отвлекаясь от всего — от государственных задач, стратегии, необходимости предвидеть всю опасность ситуации, которая может сложиться в случае войны с немцами, — отвлекаясь от всего этого, было нечто, мешавшее душевно стремиться на эту войну Советского Союза с Финляндией так, как я стремился, даже рвался попасть на Халхин-Гол в разгар событий, которые могли перерасти в войну с Японией. Стратегия стратегией, мысли о государственной необходимости и о будущей опасности ситуации не были чужды, как мне помнится, мне, во всяком случае, я стремился понять правильность происходящего или, точнее, его необходимость, а все-таки где-то в душе война с Японией была чем-то одним, а война с Финляндией — чем-то совсем другим.
В январе сорокового года были созданы двухмесячные курсы при академии Фрунзе по подготовке военных корреспондентов. Я был еще не совсем здоров, но на курсы эти пошел. Война с Финляндией к этому времени уже оказалась отнюдь не такой, какой, очевидно, многие поначалу ее себе представляли, в какой-то мере, наверное, и я, хотя к тому времени у меня, может быть, от отцовского воспитания плюс опыта Халхин-Гола уже укрепилось довольно стойкое противодействие шапкозакидательским настроениям и шапкозакидательским разговорам — они мне в ту пору претили, это я говорю не преувеличивая. В чем-то я был еще наивен, в этом, пожалуй, уже нет. Финская война затягивалась, и молчаливо предполагалось, что, окончив в середине марта двухмесячные курсы, на которых мы много и усердно занимались основами тактики и топографии и учились владеть оружием, мы поедем как военные корреспонденты на фронт. Очевидно, на смену тем, кто поехал раньше, в том числе заменяя тех, кто уже погиб там к тому времени. На Халхин-Голе всех, как говорится, бог миловал, а здесь, на финской, трое писателей, работавших военными корреспондентами, погибли. На эту войну меня, как я уже говорил, не тянуло, но после Халхин-Гола я внутренне ощущал себя уже военным или, во всяком случае, причастным к армии человеком, и если бы мир не был бы подписан как раз в день окончания нами курсов, конечно, оказался бы и на этой войне. Но она кончилась, кончилась в итоге удовлетворением именно тех государственных требований, которые были предъявлены Финляндии с самого начала, в этом смысле могла, казалось бы, считаться успешной, но внутренне все мы пребывали все-таки в состоянии пережитого страной позора, — с подобной прямотой об этом не говорилось вслух, но во многих разговорах такое отношение к происшедшему подразумевалось. Оказалось, что мы на многое не способны, многого не умеем, многое делаем очень и очень плохо. Слухи о том, что на сложившееся в армии положение вещей обращено самое пристальное внимание Сталина, что вообще делаются какие-то выводы из происшедшего, доходили и до таких людей, как я. А потом подтверждением этого стало снятие с поста наркома Ворошилова, назначение Тимошенко и очень быстро дошедшие слухи о крутом повороте в обучении армии, в характере ее подготовки к войне.
За этим последовало лето сорокового года, захват немцами Норвегии, Дании, Бельгии, Голландии, Дюнкерк, разгром и капитуляция Франции — все эти события просто не умещались сразу в сознании. Хотя французы и англичане не помогли Польше, хотя война в Европе была названа «странной», но того финала этой «странной» войны, который произошел, я думаю, у нас не ожидали ровно в такой же степени — а кто знает, может быть, даже и в большей, — чем там, на Западе, где все это случилось.
То, что мы когда-нибудь будем воевать с фашистской Германией, для меня не составляло ни малейших сомнений. Начиная с тридцать третьего года, с пожара рейхстага, процесса Димитрова, люди моего поколения жили с ощущением неизбежности столкновения с фашизмом. Испания еще более укрепила это ощущение, а пакт с немцами не разрушил его. Может быть, для кого-то и разрушил — не знаю. Для меня и для моих товарищей в тогдашней молодой литературе — нет, не разрушил. Просто казалось, что это будет довольно далеко от нас, что до этого будет долго идти война между Германией, Францией и Англией, и уже где-то потом, в финале, столкнемся с фашизмом мы. Такой ход нашим размышлениям придал пакт. В этом сначала было нечто успокоительное. Финская война, со всеми обнаружившимися на ней нашими военными слабостями, заставила задним числом думать о пакте как о большем благе для нас, чем это мне казалось вначале. Тревожно было представить себе после финской войны и всего, на ней обнаружившегося, что мы — вот такие, какими мы оказались на финской войне в тридцать девятом году, — не заключили бы пакта, а столкнулись бы один на один с немцами.
Естественно, что случившееся во Франции только обострило это чувство, и обострило многократно. То, что впереди война — рано или поздно, мы знали и раньше. Теперь почувствовали, что она будет не рано или поздно, а вот-вот.
На курсы военных корреспондентов при Военно-политической академии, занятия на которых начались осенью сорокового года, а закончились в середине июня сорок первого года, когда нам, вернувшимся из лагерей, присвоили воинские звания, я пошел с твердой уверенностью, что впереди у нас очень близкая война. В дальнейшем никакие перипетии отношений с немцами успокоения в мою душу не вносили — говорю о себе и говорю так, как оно было со мной. Сообщение ТАСС от 14 июня 1941 года, которое, как потом много об этом говорили, кого-то демобилизовало, а чью-то бдительность усыпило, на меня, наоборот, произвело странное, тревожное впечатление — акции, имеющей сразу несколько смыслов, в том числе и весьма грозный смысл для нас. А после вторжения немцев в Югославию у меня было ощущение войны, надвинувшейся совершенно вплотную. Я знал не больше других, никакими дополнительными сведениями я не располагал, но просто чувствовал, что иначе оно, наверное, не может быть теперь, после того, что случилось с Югославией.
Пьесу «Парень из нашего города», хотя она была о Монголии и о разгроме японцев, я абсолютно сознательно закончил тем, что ее герои уходят в бой. Кончил не апофеозом, который был на самом деле на Халхин-Голе, а тем моментом, когда самые ожесточенные бои еще продолжались и многое было впереди. Об этом же я говорил при обсуждении моей пьесы за несколько недель до войны, говорил о том, что при всех своих недостатках пьеса написана так, а не иначе, потому что не нынче — завтра нас ждет война. И когда война началась, в то утро ощущение потрясенности тем, что она действительно началась, у меня было, разумеется, как и у всех, но ощущение неожиданности происшедшего отсутствовало. Да, конечно, началась внезапно, — а как еще иначе ее могли начать немцы, которые именно так и действовали во всех других случаях прежде, именно так начали и в этот раз. Почему они, собственно говоря, могли начать как-то по-другому?
С такими мыслями и ощущениями, которые отнюдь не значили еще, что я ожидал того трагического поворота событий в первые же дни войны, какой произошел, — этого я, разумеется, никак не ожидал, не отличаясь от подавляющего большинства других людей, — я поехал через два дня после начала войны на Западный фронт в качестве военного корреспондента армейской газеты.
Все, что было потом на войне, присутствует в моей книге «Разные дни войны», и то, что я еще буду писать на тему «Сталин и война», не что иное, как, по сути дела, дополнительный комментарий к этой книге, связанный с дополнительным и многолетним изучением и обдумыванием этой проблемы.
Сейчас, как я уже сказал в начале этой части своей рукописи, мне остается перешагнуть через всю войну, прямо в сорок шестой год.
После конца войны я вернулся в Москву не сразу, уже где-то в июне, близко к Параду Победы. Потом дважды ездил в Чехословакию, а вернувшись из второй поездки, узнал, что есть решение послать меня в составе группы журналистов в Японию, с тем чтобы мы, прикомандировавшись там к штабу Макартура, познакомились с обстановкой, а впоследствии освещали имевший состояться в Японии процесс над японскими военными преступниками. Поездка, судя по всему, предполагалась долгая, и ехать не очень-то хотелось. Срок отъезда не был назначен, так же, как не был назначен, насколько я понимал тогда и понимаю сейчас, срок начала процесса, который мы обязаны были освещать. Группа наша состояла из Агапова, Горбатова, Кудреватых и меня, но в решении о нашей поездке не было записано, кто из нас должен возглавлять эту группу.
Я ждал, когда состоится премьера моей пьесы «Под каштанами Праги», появление которой мне казалось тогда важным — не только с личной, но и с политической точки зрения — и над которой я, вернувшись с войны, работал буквально как батрак — и пока ее писал, и когда ее репетировали. Спешить с поездкой в Японию очень не хотелось. Была такая усталость после войны, что даже не хотелось новых впечатлений, на которые я был очень жаден тогда.
В общем, как-то так вышло, что, поскольку мы ехали все от разных газет (я — от «Красной звезды», Горбатов — от «Правды», Кудреватых и Агапов — от «Известий»), среди нас не было ответственного за поездку, сроки были не обозначены, отъезд все оттягивался и оттягивался — то по просьбе одного, то по просьбе другого. В конце концов в ноябре месяце мы дооткладывали поездку до того, что это дошло до Сталина. Он был на юге в отпуску, за него оставался Молотов, и во время одного из его докладов по телефону Сталину тот вдруг спросил: «А как там писатели, уехали в Японию?» Молотов сказал, что выяснит, и, выяснив, сообщил, что нет, писатели пока еще не уехали в Японию. «А почему не уехали? — спросил Сталин. — Ведь решение Политбюро, если я не ошибаюсь, состоялось? Может быть, они не согласны с ним и собираются апеллировать к съезду партии?»
Так я впервые в своей личной судьбе столкнулся с той манерой шутить, которая была свойственна Сталину. О шутке его были немедленно поставлены в известность редактора всех трех газет, и ровно через неделю — за меньший срок в то время невозможно было успеть обеспечить намечавшуюся на полгода командировку достаточными запасами продуктов, а без продуктов в сложившейся тогда обстановке ехать в Японию было нельзя, — ровно через неделю мы сидели в прицепленном к поезду служебном вагоне и ехали во Владивосток.
Возвращались домой мы тоже поездом, шедшим из Владивостока, тоже в прицепленном к нему служебном вагоне, через четыре месяца, в апреле сорок шестого года. С нами во время командировки была стенографистка, и мои записи по Японии, большую половину которых составляли записи бесед, как выяснилось впоследствии, составили тысячу двести страниц на машинке. Но сам прочесть эти свои записи я сумел только через несколько месяцев, потому что где-то под Читой, на одной из станций, в вагон принесли телеграмму, подписанную тогдашним начальником Управления агитации и пропаганды ЦК Александровым. В телеграмме сообщалось, что я включен в делегацию советских журналистов на ежегодный съезд американских редакторов и издателей в Вашингтоне, состоящую из трех человек — Эренбурга, Галактионова и меня, и что мне следует пересесть с поезда — уже не помню сейчас, в Чите или в Иркутске, — на отправляющийся оттуда в Москву самолет, чтобы не опоздать к началу съезда. «Получение подтвердите», — говорилось в телеграмме. Я подтвердил получение прямо на бланке телеграммы, которую забрал с собой принесший ее товарищ, которому, видимо, было заранее поручено все сделать, и, вылезши, по-моему, все-таки в Чите, наскоро простившись с товарищами, попросив стенографистку в возможно более короткие сроки расшифровать мои японские записи, полетел в Москву на «Дугласе», или, точнее, на ЛИ-2, которые мы делали во время войны по лицензии фирмы «Дуглас». Не знаю, был ли это рейсовый или специальный самолет, но к тому времени, когда я приехал на аэродром, он уже стоял там и пассажиры, которым предстояло лететь на нем, ожидали посадки. Скорости были тогда не нынешние, и, хотя летели мы безостановочно, только заправлялись и где-то по дороге сменили экипаж, все-таки это заняло около суток.
Прилетел я в Москву на следующий день в четыре часа дня; в редакции, куда я явился прямо с аэродрома, мне сказали, чтобы я звонил Лозовскому, который был тогда заместителем наркома иностранных дел — впрочем, это оговорка, потому что к тому времени наркомы уже стали министрами. От Лозовского, к которому я поехал, я узнал, что мне предстоит в шесть утра лететь в Берлин, а после того, как закончится разговор с ним, с Лозовским, предстоит идти к Молотову.
С Лозовским разговор был о Японии, о наших впечатлениях и первых выводах, разговор довольно длинный и подробный, на него заранее было отведено два часа, потому что в конце этих двух часов Лозовский, посмотрев на часы, сказал:
— А теперь вам пора идти к Вячеславу Михайловичу, у него вы узнаете все, что вам нужно знать о вашей предстоящей поездке.
У Молотова я пробыл тоже довольно долго, дольше, чем думал. Знаком я с ним не был, если не считать того, что во второй половине войны два или три раза был на приемах, которые он как нарком иностранных дел давал в особняке наркомата на Гранатном переулке главным образом для наших союзников, но с участием некоторого количества представителей нашей литературы и искусства. Знакомство ограничивалось рукопожатиями и самое большее — двумя — тремя словами, сказанными при этом.
Правда, в памяти сидела одна зарубка, связанная с именем Молотова, — зарубка в сугубо личном плане. Как это мне рассказал тогдашний редактор «Красной звезды» Ортенберг, в сорок втором году меня собрались было послать на несколько месяцев корреспондентом «Красной звезды» в Соединенные Штаты. В сами ли Соединенные Штаты или в действующие войска Соединенных Штатов, поскольку я был корреспондентом именно «Красной звезды», я так и не выяснил, могло быть и то и другое, могло быть и то и другое вместе. О том, что меня намерены послать, Ортенбергу сказал по телефону Молотов. Ортенберг подтвердил, что как редактор считает мою кандидатуру подходящей. Но день или два спустя Молотов снова позвонил ему и сказал, что, видимо, посылать меня в Америку не будут, потому что есть сведения, что я пью. Ортенберг попытался оспорить это, сказал, что хотя я и не трезвенник, но, когда пью, ума не теряю, но Молотов остался при своем, я поехал не в Америку, а — не помню сейчас уже — не то на Карельский, не то на Брянский фронт, а вернувшись, узнал от Ортенберга о своем несостоявшемся путешествии в Америку. Ортенберг смеялся, говорил, что, пожалуй, это к лучшему, тем более что не только меня, но и вообще никого не послали, а для корреспондента «Красной звезды» здесь куда больше дела, чем там. У меня было двойственное чувство: не то чтобы я так уж расстроился, но, с одной стороны, среди других поездок на фронт было бы интересно съездить и к американцам, в особенности если бы удалось посмотреть, как они воюют, — у меня было большое молодое любопытство к этому; с другой стороны, было досадно слышать о причине, по которой я не поехал. В своем самоощущении я твердо считал себя человеком, не способным пропить порученное ему дело ни дома, ни за границей. А в общем, я отнесся к этому довольно равнодушно — нет так нет. Но мотивировку, по которой не поехал в Америку, конечно, запомнил. В дальнейшей моей жизни я сталкивался с разными, правда не слишком частыми, потому что ездил я много, мотивировками того, чтобы не посылать меня куда-то, куда первоначально намечалось. Один раз, весной пятьдесят третьего года, в связи с предстоящей поездкой в Стокгольм возникла даже такая мотивировка, как чрезмерное преклонение перед Сталиным, проявившееся в написанной наполовину мною передовой «Литературной газеты». Но мотивировки, что меня лучше куда-то не посылать, потому что я человек пьющий, не возникало ни до, ни после, поэтому, наверное, она особенно и запомнилась.
К Молотову я относился с уважением, цельной личностью он мне кажется по сей день, при всем резком политическом неприятии многих его позиций. Уважение это было связано больше всего с тем, что Молотов на нашей взрослой памяти, примерно с тридцатого года, был человеком, наиболее близко стоявшим к Сталину, наиболее очевидно и весомо в наших глазах разделявшим со Сталиным его государственные обязанности.
В разное время как ближайшие сподвижники Сталина на нашей памяти возникали и другие люди — какое-то время таким человеком казался Ворошилов, какое-то время Каганович, какое-то время даже Ежов. Молотов при этом существовал неизменно как постоянная величина, пользовавшаяся — боюсь употребить эти громкие, слишком значительные слова, хотя в данном случае они близки к истине, — в нашей среде, в среде моего поколения, наиболее твердым и постоянным уважением и приоритетом. Так это было, во всяком случае, примерно до сорок восьмого года. К этому у меня лично добавлялось впечатление о его полете в Соединенные Штаты в сорок втором году, записанные мною рассказы летчика и штурмана об этом довольно тяжелом и опасном перелете, в котором Молотов сохранял неизменное спокойствие и мужество, замеченное этими людьми и оцененное ими по достоинству в разговорах со мной. А мужество и спокойствие перед лицом опасности были чертами, пожалуй, наиболее уважаемыми мною в людях.
Размышляя о Сталине, я, разумеется, еще не раз вернусь к этой фигуре, но почему-то мне хочется сказать уже здесь, заглянув на семь лет вперед, что Молотов, с которым я впервые подробно разговаривал в сорок шестом году, в пятьдесят третьем, когда умер Сталин, был, по моему глубокому убеждению, единственным из членов тогдашнего Политбюро, глубоко и искренне пережившим смерть Сталина. Этот твердокаменный человек был единственным, у кого слышались в голосе слезы, когда он говорил речь над гробом Сталина, хотя, казалось бы, именно у него было больше причин, чем у всех остальных, испытывать после ухода из жизни Сталина чувство облегчения, освобождения и возможности установления справедливости по отношению к нему самому, к Молотову. Вообще, это мне только сейчас пришло в голову, может быть, под впечатлением недавнего чтения сочинений Робеспьера, что Молотов был чем-то похож на этого деятеля Великой французской революции — так же бескорыстен, неподкупен, прямолинеен и жесток.
Молотов встретил меня с суховатой приветливостью, спросил, как я долетел, и сразу заговорил о предстоящей поездке. Не хочу брать на себя греха, не помню, произносилось ли в этом разговоре Молотовым имя Сталина, но из того, что он говорил и как он это говорил, в безличной форме даже, ясно было, что Сталин осведомлен об этой поездке. Молотов говорил, что поездке придается большое значение, что для нее предоставляются все возможности, что необходимо, считается необходимым использовать эти возможности широко, что смысл поездки не в том, чтоб принять участие в съезде редакторов и издателей, хотя и это существенно, а в том, чтобы потом возможно дольше поездить по Соединенным Штатам, где мы, очевидно, станем гостями госдепартамента, при этом использовать все возможности для того, чтобы разъяснять всем людям, с которыми мы будем встречаться, а желательно, чтобы их было как можно больше, что мы не хотим войны, что слухи, распространяемые об обратном, нелепы и провокационны, что установление мира и все, что ведет к его укреплению, есть для нас аксиома, которую только клеветники могут подвергать сомнениям. Повторив, что мы, очевидно, будем гостями госдепартамента, Молотов добавил, что, хотя госдепартамент будет, наверное, соответствующим образом обеспечивать нашу поездку, мы должны иметь возможность сохранять полную независимость во всех отношениях, в том числе и в материальном, для чего вынесено решение обеспечить нас не просто командировочными, а каждого из троих — достаточной суммой для того, чтобы в течение трех месяцев — а поездку желательно не сокращать по сравнению с этой наметкой — мы имели бы достаточно средств на все расходы, включая гостиницы, разъезды, ответные частные приемы и оплату за свой счет переводчиков, которые нам могут понадобиться, или помимо тех, которые будут предоставлены госдепартаментом, или после того, как мы перестанем быть гостями госдепартамента и останемся на какое-то время в Соединенных Штатах по собственной инициативе как частные лица и будем нести все расходы. Сумма, которую назвал Молотов, не комментируя ее, даже поразила меня в первый момент своей величиной — она свидетельствовала о том, что полной независимости нашего положения и отсутствию всяких затруднений в материальных вопросах придано в данном случае действительно важное значение.
В ходе разговора я — не знаю, какое лучше употребить выражение, — понял или почувствовал, что общая установка поездки, широта постановки вопроса, очевидно, исходят от Сталина. Молотов здесь говорит не только от себя, но и выполняя соответствующее поручение. Так я подумал тогда и имел основания убедиться в этом впоследствии, когда услышал из уст Сталина, как одновременно и жестоко, и болезненно он относился ко всему тому, что в сумме вкладывал в понятие «низкопоклонство перед заграницей». После выигранной войны, в разоренной голодной стране — победительнице это была его болевая точка.
Сказав мне, что Эренбург и Галактионов уже в Париже и послезавтра вылетают оттуда в Нью-Йорк, Молотов добавил: я должен, догнав их, лететь сразу вместе с ними. В решении этого не указано, сказал Молотов, но для вашего собственного сведения сообщаю, что руководителем делегации являетесь вы. Могут там, в США, возникнуть вопросы, серьезные вопросы, которых вы не сможете решить сами. В этих случаях через посольство и генконсульство для разрешения этих вопросов обращайтесь непосредственно к нам.
Я думал, что это конец разговора, но не спешил подняться из-за стола, потому что с того момента, как Лозовский сказал, что я должен буду явиться к Молотову, у меня возникла идея — раз я оказался в Москве раньше своих товарищей и буду говорить с Молотовым, то непосредственно ему рассказать об одном остром и болезненном вопросе, о котором просил нас рассказать в Москве кому следует наш представитель в Контрольном Совете по Японии — генерал Деревянко. Но, оказывается, Молотов не собирался отпускать меня и стал сам расспрашивать меня о Японии. Вопросы, грубо говоря, были главным образом связаны с одной проблемой: мерой подлинной и мнимой демократизации и демилитаризации Японии, что преобладает в политике, проводимой в Японии штабом Макартура и вообще американцами. Как с этим обстоит, по нашим впечатлениям? Я рассказал то, о чем мы много между собой говорили, о той, говоря в общих словах, опять же двойственности впечатлений, которая у нас сложилась.
Молотов слушал меня внимательно и благожелательно. Все это было так до тех пор, пока я не заговорил о том, что у меня есть поручение — рассказать Молотову об одном факте.
— Чье? Какое поручение? — быстро спросил Молотов, и что-то в его лице мгновенно переменилось.
Я сказал, что это поручение генерала Деревянко и что вопрос, о котором идет речь, — изменение характера, сроков и норм снабжения того маленького контингента, батальона войск, который прибыл в распоряжение нашего члена Контрольного Совета, — требует неотложного решения, ибо та практика, которая существует, никуда не годится — не хочу здесь вдаваться в те подробности, которые я рассказал тогда Молотову, но говорил я об этом с горячностью, быть может, показавшейся излишней. Словом, я внес нечто личное в этот разговор, очевидно так.
— Это не его дело — ставить такие вопросы через третьих лиц и заниматься частными ходатайствами, — жестко сказал Молотов о Деревянко, сказал со злобой. Я вдруг почувствовал какую-то непреодолимую грань между только что, пять минут назад сидевшим передо мной человеком и этим — ожесточенным и готовым к немедленному наказанию виновных в чем-то, не до конца понятом мною, но, видимо, абсолютно непоколебимо неприемлемом для него. На этой жесткой ноте разговор оборвался; Молотов встал, пожелал мне успешного выполнения поручения и простился со мной.
Через восемь часов после этого я был уже в самолете, летевшем в Берлин.
Описание нашей поездки в Соединенные Штаты опущу. То, что я пишу, и так слишком часто превращается в автобиографию, хотя в какой-то мере это, очевидно, неизбежно. Постараюсь, как в других таких случаях, и в связи с поездкой в Соединенные Штаты, в Канаду, а затем во Францию — все это слилось в одну поездку — коснуться только тех моментов, которые в моем сознании так или иначе связаны с главной темой этой рукописи, посвященной месту и роли Сталина в нашей жизни, и прежде всего в жизни моего поколения — и при его жизни, и после его смерти. Может быть, затем я найду более точную формулировку, но покуда остановлюсь на этой.
Во время поездки на бесконечно сменявших друг друга митингах, обедах, собраниях различных обществ, на пресс-конференциях нам задавали самые разные вопросы. Не слишком часто откровенно злые, иногда трудные для нас, иронические, забавные — в том числе и такие, смысл которых был не в том, чтобы что-то действительно узнать, а чтобы посмотреть, как мы выкрутимся из того сложного положения, в которое, как считалось и как оно иногда и действительно бывало, нас поставили.
Началось это с того, что, встретив наше появление аплодисментами на уже начавшемся к нашему приезду заседании издателей и редакторов в Вашингтоне, буквально через несколько минут у русских коллег попросили разрешения задать им несколько интересовавших аудиторию вопросов. Первым из этих вопросов был такой: «Скажите, а возможно ли у вас, в Советском Союзе, чтобы после очередных выборов господина Сталина сменил на посту главы правительства кто-нибудь другой, например господин Молотов?» Я бы, тем более в ту минуту, наверное, не нашелся, что ответить. Эренбург нашелся. Чуть заметно кивнул мне, что отвечать будет он, усмехнулся и сказал: «Очевидно, у нас с вами разные политические взгляды на семейную жизнь: вы, как это свойственно ветреной молодости, каждые четыре года выбираете себе новую невесту, а мы, как люди зрелые и в годах, женаты всерьез и надолго». Ответ вызвал хохот и аплодисменты — американцы ценят находчивость, собственно, их и интересовало не то, что Эренбург ответит, а то, как он вывернется. Он сделал это с блеском. Дальнейшие вопросы мне не запомнились, видимо, в них не было ничего затруднительного для нас.
У меня, когда я был на западе Америки уже один, без Эренбурга, как-то спросили на пресс-конференции, читал ли я книгу Троцкого, в которой он излагает биографию Сталина. Я ответил, что нет, не читал. Тогда спросили, хотел бы я ее прочесть, эту книгу. Я сказал, что нет, не испытываю такого желания, потому что книги подобного сорта меня не интересуют. Тогда меня спросили, что я подразумеваю под «книгами подобного сорта». Я ответил, что это те неспортивные книги, в которых человек, получивший нокаут и проигравший матч на первенство, начинает подробно описывать, как именно он его проиграл, и жалуется на происшедшее с ним. Ответ удовлетворил аудиторию. Пожалуй, дело было не только в проявленной мною в данном случае известной доле находчивости, а в чем-то более существенном для американцев в сорок шестом году.
Сталин был для них фигурой достаточно далекой, достаточно загадочной, во многих отношениях неприемлемой, но в то же время для многих из них — я говорю о тех американцах, которых вообще в какой-либо мере интересовали проблемы, связанные с нами, — Сталин был человеком, в двадцатые годы пославшим в нокаут такого, куда более известного в те времена в Америке, чем он, политического лидера, как Троцкий, а в недавние годы нокаутировавшим и Гитлера. Разумеется, с помощью их, американцев, их ленд-лиза, их поставок оружия, их бомбардировок Германии, их вторжения в Европу, но тем не менее в нокаут Гитлера отправил все-таки Сталин, окончательно и бесповоротно загнав его в Берлин, в бункер имперской канцелярии, где Гитлер кончил самоубийством.
Американцы резвились, задавая нам подобные вопросы. Резвились, имея в виду нас, людей, которые связаны иными нормами политического поведения, чем они сами, и не могут себе позволить каких-нибудь вольностей в разговорах о своем политическом строе и своих политических лидерах. Все эти подковырки относились и к нам, персонифицированному в нас троих следствию политических порядков, установленных Сталиным у нас на родине. Что же касалось первопричины, то есть самого Сталина, или дяди Джо, как его иногда там именовали, — если на его счет иногда и шутили в нашем присутствии, то, сколько мне помнится, никогда не перешагивали за те пределы, когда шутка могла прозвучать как национальное оскорбление, нанесенное нам неприемлемыми для нас выражениями в адрес главы нашего государства. Над чем-то подшучивали, реже иронизировали, сами слова «дядя Джо» были не столько фамильярностью, сколько свидетельством популярности Сталина, а вообще к нему относились очень серьезно, с долей благодарности за недавнее военное прошлое и с долей опаски за будущее — кто знает, что он может захотеть и на что он может пойти в будущем. Какую-то роль во всем этом, наверное, играло и то, что из засевшей в мозгах не только одних американцев «большой тройки» Рузвельт умер, Черчилль оказался не у власти, и только один Сталин был на своем посту.
Думаю, что тогда, к лету сорок шестого года, несмотря на фултонскую речь Черчилля, несмотря на начавшуюся с этой речи «холодную войну», популярность Сталина была максимальной — не только у нас, но и во всем мире, по сравнению с любым другим моментом истории, через десятилетия которой проходило его имя. Сорок четвертый, сорок пятый, сорок шестой год — можно даже, пожалуй, считать с сорок третьего, с пленения Паулюса и сталинградской катастрофы немецкой армии, — это был пик популярности Сталина, носившей, разумеется, разные характеры, разные оттенки, но являвшейся политической и общественной реальностью, с которой нигде и никто не мог не считаться.
Печатая свои стихи после XX съезда и после того, как, встречаясь со многими военными людьми и работая над романом «Живые и мертвые», я в чем-то самом главном определил для себя свое понимание Сталина и свое отношение к нему, я больше не включал в книги тех нескольких стихотворений, в которых шла речь о Сталине или упоминалось его имя. Я очень любил свои стихи «Речь моего друга Самеда Вургуна на обеде в Лондоне». На мой взгляд, это были одни из лучших моих стихов, написанных за всю жизнь, но, зная уже о Сталине все, что я узнал после пятьдесят шестого года, я не мог читать вслух конца этого стихотворения, где Сталин вставал как символ и образец интернационализма. Этот конец противоречил сложившимся у меня к этому времени представлениям о Сталине, а поправлять стихотворение, точнее, отсекать его конец считал безнравственным и больше никогда его не печатал.
В начале ноября сорок первого года на Рыбачьем полуострове я, еще не зная о предстоящем параде на Красной площади, написал стихи «Суровая годовщина», начинавшиеся словами: «Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас? / Ты должен слышать нас, мы это знаем». Стихи эти целиком посвящены нашему тогдашнему отношению к Сталину и нашим связанным с ним надеждам. Стихи были написаны очень далеко от Москвы, полного представления о том, что там, под Москвой, происходит, у меня не было, — в стихотворении выразилась тревога и обостренность всех чувств. Я и сегодня не стыжусь этих стихов, не раскаиваюсь в том, что написал их тогда, потому что они абсолютно искренне выражали мои тогдашние чувства, но я их не печатаю больше, потому что то чувство к Сталину, которое было в этих стихах, во мне раз и навсегда умерло. То значение, которое имел для нас Сталин в тот момент, когда писались эти стихи, мне не кажется преувеличенным в них, оно исторически верно. Но я уже не могу читать эти стихи с тем чувством, с которым я их писал, потому что я давно по-другому отношусь к Сталину. Вижу и великое, и страшное, что было в нём, понимаю на свой лад меру содеянного им — и необходимого, и ужасного, но ничего похожего на чувство любви к нему у меня не сохранилось. А ведь такого рода порывы были у меня, так же как у других людей, и они были настолько искренними, что можно их осуждать, но не пристало в них каяться.
В двух или трех других стихотворениях, написанных в разные годы, упоминалось имя Сталина, но стихи эти я не печатаю, так же как и десятки других своих старых стихов, потому что они не стоят того, чтобы их перепечатывать. Их мне нисколько не жаль, в противоположность стихам о Самеде Вургуне.
Но одно стихотворение, где есть имя Сталина, я печатал и продолжаю печатать точно в таком виде, в каком оно было написано. Все в нем сохранилось для меня так, как звучало и тогда, когда я писал это стихотворение, и тогда, когда происходило то, о чем оно написано. Я говорю о стихотворении «Митинг в Канаде», открывавшем в сорок восьмом году мою книгу «Друзья и враги». Напомню, что речь идет о зале, в первых рядах которого сидят люди, пришедшие, чтобы сорвать митинг:
Я написал в этих стихах о том, что в действительности было, и о том, как это было. Я могу и сегодня читать эти стихи, и не раз читал их, потому что выраженная в них подлинная часть истории, все то значение, которое слово «Сталин» имело для меня тогда рядом со словами «Сталинград» и «Россия», остались и по сегодня частью моего ощущения войны. У меня теперь другое, чем было тогда, понимание всего хода войны, меры ее внезапности и масштаба ее неудач, масштаба ответственности Сталина за эти неудачи и так далее, и тому подобное, о чем уже приходилось и еще, наверное, придется спорить много и долго со стремящимися пригладить все эти проблемы некоторыми историками Великой Отечественной войны. При этом, когда я вспоминаю войну и свое самоощущение на ней, я вспоминаю и эти собственные строчки, брошенные как вызов врагам и протянутые как рука друзьям там, в Америке, в сорок шестом году: «Россия, Сталин, Сталинград!». И когда я произношу их мысленно, и когда я их произношу вслух, у меня не першит ни в душе, ни в горле. Может, это сейчас кому-то не нравится, но это так, как я говорю.
Кстати, если уже я повел об этом речь, хочется сказать, что люди, не читающие советскую литературу, в том числе статьи и очерки, написанные в годы жизни Сталина, склонны порой считать, что там были сплошные цитаты из Сталина, панегирики в его честь — к месту и не к месту. Но хочу заметить, что, во-первых, литература была большая и разная, люди писали по-разному, одни упоминали о Сталине некстати, другие — всуе, одни — чаще, другие — реже, и не из-за принципиально разного отношения к этой фигуре, а просто в силу собственного такта, собственной порядочности, собственного представления о должном и излишнем, о чести и лести. Что до меня, то о стихах я уже сказал. Перечитывая же свои военные корреспонденции, я даже с некоторым удивлением — мне задним числом казалось, что я упоминал имя Сталина чаще, — обнаружил, что за всю войну во всех очерках, корреспонденциях его имя возникает только три или четыре раза, и каждый раз к месту, если исходить из наших тогдашних взглядов на Сталина. А всуе — не грешен, не поминал, так же, как и в многочисленных своих статьях на политические и литературные темы цитировал его только тогда, когда казалось это необходимым, а не по соображениям — как бы чего не вышло, как же это — одна, вторая, третья, четвертая статья, и все без цитаты из Сталина. Не помню ни того, чтобы самому приходилось мучиться над тем, как бы присобачить ни к селу, ни к городу такую цитату, не сталкивался и с такими требованиями редакторов. И у меня в данном случае нет ощущения своей особости, это вообще было не очень принято в литературе.
После Соединенных Штатов, Канады и вновь Соединенных Штатов я до возвращения домой еще около месяца пробыл во Франции, так что вся моя поездка, начиная с Японии, растянулась на девять месяцев.
Во время пребывания в Париже, а потом и на юге Франции, я довольно много встречался с разными людьми из числа первой послереволюционной эмиграции. Правда, с наиболее оголтелыми представителями эмиграции мне не доводилось встречаться, для таких встреч не было ни причин, ни поводов — ни у них, ни у меня. Да и тогда, в сорок шестом году, фашиствующие эмигранты, поддерживавшие в годы оккупации Франции немцев, старались держаться подальше, залезали в углы и щели так, чтоб их было не слышно и не видно, — время не благоприятствовало какой бы то ни было публичности с их стороны. Но остальную русскую эмиграцию, которая в своем большинстве занимала антинемецкие позиции, и если не просоветские, то, во всяком случае, прорусские, — мне пришлось наблюдать довольно широко. Наша победа над фашизмом произвела в этой среде сильнейшее впечатление, это впечатление продолжало сохраняться, многие эмигранты участвовали в Сопротивлении, многие хотели ехать домой, на родину. Встречаясь даже с людьми, стоявшими, в общем, на правом фланге этой эмиграции, не понимавшими нас, непримиримо относившимися к нашему строю и к нашему образу жизни, не желавшими принимать советское гражданство, отказывавшимися от такой возможности, — я мог убедиться, что уважение к сделанному нашей страной в годы войны было в тот момент, пожалуй, почти всеобщим чувством.
В свое время я довольно подробно писал о наиболее интересных из этих встреч — о встречах с Буниным, с Тэффи и Адамовичем. И сейчас, заново вспоминая об этих встречах в связи с той темой, о которой я пишу, перебирая в памяти тогдашние разговоры, я не могу вспомнить ничего не только неуважительного, но сколько-нибудь двусмысленного, сказанного тогда такими людьми, как Бунин, в адрес Сталина. У Бунина, если попробовать коротко сформулировать мое ощущение его тогдашней позиции, несомненно, оставались счеты с советской властью, с советским строем, с советской литературой, счеты за прошлое, счеты, как впоследствии он подтвердил своими книгами, выпущенными в конце жизни, злые и непримиримые, но одновременно с этим в сорок шестом году Сталин был для него после победы над немцами национальным героем России, отстоявшим ее от немцев во всей ее единости и неделимости. Допускаю, что после этого национального подвига, совершенного Сталиным, Бунин смотрел на будущее выжидательно: не последует ли там, в России, при несомненном для Бунина единовластии Сталина, неких реформ, сближающих нынешнее с прошлым, — чем черт не шутит! Человеку, подряд более четверти века прожившему во Франции, как Бунин, размышления на тему о таком историческом примере, как Наполеон, могли быть отнюдь не чужды.
Я упомянул о впечатлениях, связанных с моими встречами во Франции, потому что они тоже что-то косвенно значили в моем восприятии личности Сталина к тому времени, когда я вернулся домой. По-моему, я не ошибаюсь, но почти сразу же после своего приезда из Франции домой я поехал на Смоленщину в избирательный округ, от которого я был заочно, находясь в то время в Японии, выбран депутатом Верховного Совета СССР. Почему именно от Смоленщины, не знал, быть может из-за стихотворения «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…». Но зато знал другое, что округ этот один из самых тяжелых, один из тех, где война останавливалась не единожды и подолгу. Это были Ярцево, Дорогобуж, Духовщина, Издешково, Сафоново — места, знакомые мне особенно по началу войны, ископанные окопами, избитые — перебитые бомбами и снарядами, — в общем, я ехал туда, в свой избирательный округ, с затаенной тревогою: что я увижу? Увидел действительно много тяжелого, горького, почти нестерпимого по контрасту со всем тем, что я видел в воевавшей, но при этом не разорявшейся, а богатевшей Америке.
Этот засевший в душу контраст и страстное желание противопоставить духовные силы нашего общества, душевную красоту людей его, их духовную стойкость мощи и богатству Соединенных Штатов заставили меня еще там, во время поездки, думать о том, как же написать об этом, искать первые приступы к будущему, главному для меня как для писателя после войны делу — к повести «Дым отечества». Это больше всего занимало мои мысли, и, может быть, поэтому я даже не помню в подробностях своей первой душевной реакции на доклад Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» и на все, развернувшееся в связи с этим и вокруг этого.
Что контраст между уровнем жизни в Европе и у нас, контраст, с которым столкнулись миллионы воевавших людей, был нравственным и психологическим ударом, который не так легко было перенести нашим людям, несмотря на то что они были победителями в этой войне, — я чувствовал, понимал. Еще до поездки в Америку не мог, по совести, причислить себя к людям, недооценивавшим этой психологической опасности, меры этого нравственного испытания. Сразу же после войны, летом сорок пятого года, я старался совладать с этой общей для многих из нас психологической трудностью и как умел искал из этой ситуации выхода. «Да, наши женщины сейчас ходят иногда бог знает в чем, — говорил один из героев пьесы «Под каштанами Праги», Петров, в последний день войны. — Они ходят в штопаных и перештопаных чулках. Землячка, не морщься, это так. Многого нет у нас и будет еще не так скоро, как бы нам этого хотелось. Видите ли, пани Вожена, в Европе много говорят о военных лишениях. А ведь тут не всегда знают, что такое лишения. Настоящие. Нам, спасшим Европу, ни перед кем на свете нечего стыдиться ни штопаных чулок наших жен, ни того, что в тылу у нас иногда голодали в эту войну, ни того, что у нас жили целыми семьями в каморках. Да, это так. Но наша армия была вооружена, одета, сыта. Да, мы пока еще не так богаты, чтобы быть богатыми во всем. Да, мы не построили особняков, мы построили заводы. И немцы прошли по улицам Парижа, но не прошли по улицам Москвы!» — «Вы не должны любить Европу, — подавала Петрову реплику его собеседница чешка Вожена. — Вас должны раздражать эти особняки, эти виллы, эти дома с железными крышами. Вы ведь отрицаете это?» — «Отрицать можно идеи, отрицать железную крышу нельзя. Коль она железная, так она железная», — отвечал ей Петров.
В моем представлении тогда, после войны, не укладывалось, что такую данность, как железные крыши, можно отрицать или замалчивать в стране, где несколько миллионов людей уже рассказали или расскажут многим миллионам других людей о том, что они, победители, увидели там, в Европе. Мне казалось, что выход из этого, психологически нелегкого для победителей, состояния заключается в откровенном признании нашей сравнительной бедности и вместе с тем в гордом сознании правильности избранного нами тяжелого пути многолетнего подтягивания поясов, пути, без которого, как я был убежден, мы бы не пришли к победе, не выстояли бы.
Ну, и конечно, имелось в виду, что придется много лет работать не покладая рук. «Нет, не для отдыха родилось наше поколение…» — говорил в той же пьесе «Под каштанами Праги» тот же Петров. Предваряя это утверждение размышлением о том, что и после войны работать придется отнюдь не в идиллической обстановке. «Господин Черчилль — я вчера по радио слышал — речь произнес, свои идеалы высказывал. Не должно быть, по его мнению, социализма на земле. Потому что это разврат и безобразие. А по моему мнению, должен быть на земле социализм, потому что это радость и счастье. Вот видишь, война кончилась, а взгляды на будущее-то у людей разные. Очень разные». Так довольно неуклюже, как мне сейчас кажется, но достаточно ясно формулировал мои тогдашние собственные послевоенные взгляды полковник Петров из пьесы «Под каштанами Праги».
С этими взглядами я уехал в Японию, а оттуда перекочевал в Америку, Канаду и Францию. Какому-то принципиальному изменению эти взгляды не подверглись ни в Америке, ни во время поездки по разоренной дотла Смоленщине, только сила контраста увеличилась чуть ли не в геометрической прогрессии. Ощущение, что действительно не для отдыха мы родились, тоже усилилось, стало даже каким-то остервенелым. И ощущение психологической опасности сравнения поистине несравнимых тогда уровней жизни за первый послевоенный год, почти целиком проведенный за границей, конечно, не ослабело, а усилилось, — но все равно я оставался при убеждении, что правды на этот счет скрывать не надо, а попытки ее скрыть были бы и бесполезны, и унизительны. С этими, отдававшими немалой горечью, ощущениями и намерениями, связанными с работой над будущей повестью, я вернулся в Москву из поездки на Смоленщину, к избирателям. И сразу уткнулся в нашу литературную жизнь, в которой бушевали страсти, вызванные докладом Жданова и постановлением ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград».
Я недавно перечел написанные мною осенью пятьдесят шестого года и направленные в ЦК мои мысли и соображения, связанные с этими постановлениями, и мне не хочется сейчас возвращаться к этим довольно последовательно изложенным критическим замечаниям, правильность которых и сегодня не вызывает у меня сомнений. Если же говорить о моих ощущениях сорок шестого года, попытавшись наиболее точно и достоверно их вспомнить, то главное ощущение было такое: что-то делать действительно нужно было, но совсем не то, что было сделано. О чем-то сказать было необходимо, но совсем не так, как это было сказано. И не так, и в большинстве случаев не о том.
Как я помню, и в конце войны, и сразу после нее, и в сорок шестом году довольно широким кругам интеллигенции, во всяком случае художественной интеллигенции, которую я знал ближе, казалось, что должно произойти нечто, двигающее нас в сторону либерализации, что ли, — не знаю, как это выразить не нынешними, а тогдашними словами, — послабления, большей простоты и легкости общения с интеллигенцией хотя бы тех стран, вместе с которыми мы воевали против общего противника. Кому-то казалось, что общение с иностранными корреспондентами, довольно широкое во время войны, будет непредосудительным и после войны, что будет много взаимных поездок, что будет много американских картин — и не тех трофейных, что привезены из Германии, а и новых, — в общем, существовала атмосфера некой идеологической радужности, в чем-то очень не совпадавшая с тем тяжким материальным положением, в котором оказалась страна, особенно в сорок шестом году, после неурожая.
Было и некое легкомыслие, и стремление подчеркнуть пиетет к тому, что ранее было недооценено с официальной точки зрения. Думаю, кстати, что выбор прицела для удара по Ахматовой и Зощенко был связан не столько с ними самими, сколько с тем головокружительным, отчасти демонстративным триумфом, в обстановке которого протекали выступления Ахматовой в Москве, вечера, в которых она участвовала, встречи с нею, и с тем подчеркнуто авторитетным положением, которое занял Зощенко после возвращения в Ленинград. Во всем этом присутствовала некая демонстративность, некая фронда, что ли, основанная и на неверной оценке обстановки, и на уверенности в молчаливо предполагавшихся расширении возможного и сужении запретного после войны. Видимо, Сталин, имевший достаточную и притом присылаемую с разных направлений и перекрывавшую друг друга, проверявшую друг друга информацию, почувствовал в воздухе нечто, потребовавшее, по его мнению, немедленного закручивания гаек и пресечения несостоятельных надежд на будущее.
К Ленинграду Сталин и раньше, и тогда, и потом относился с долей подозрений, сохранившихся с двадцатых годов и предполагавших, очевидно, наличие там каких-то попыток создания духовной автономии. Цель была ясна, выполнение же было поспешным, беспощадно небрежным в выборе адресатов и в характере обвинений. В общем, если попытаться сформулировать мое тогдашнее ощущение от постановлений (я все время пытаюсь и не могу до конца отделить тогдашнее от сегодняшнего) — особенно, конечно, меня волновало постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», — то об Ахматовой я, например, подумал тогда так: чего же мы, зачем ставим вопрос о возможности возвращения Бунина или Тэффи — а я с такой постановкой вопроса столкнулся во Франции, — если мы так, как в докладе Жданова, разговариваем — с кем? — с Ахматовой, которая не уехала в эмиграцию, которая так выступала во время войны. Было ощущение грубости, неоправданной, тяжелой, — хотя к Зощенко военных лет я не питал того пиетета, который питал к Ахматовой, но то, как о нем говорилось, читать тоже было неприятно, неловко.
В то же время в постановлении о ленинградских журналах не было, вернее, за ним, думаю, субъективно для Сталина не стояло призыва к лакировке, к облегченному изображению жизни, хотя многими оно воспринималось именно так. Почти одновременно, в этот же период, Сталин поддержал, собственно говоря, выдвинул вперед такие, принципиально далекие от облегченного изображения жизни, вещи, как «Спутники» Пановой или чуть позже «В окопах Сталинграда» Некрасова. Вслед за ними вскоре получили премию и трагическая «Звезда» Казакевича, изобиловавшая конфликтами «Кружилиха» Пановой. Нет, все это было не так просто и не так однозначно. Думается, исполнение, торопливое и какое-то, я бы сказал, озлобленное, во многом отличалось от замысла, в основном чисто политического, преследовавшего цель прочно взять в руки немножко выпущенную из рук интеллигенцию, пресечь в ней иллюзии, указать ей на ее место в обществе и напомнить, что задачи, поставленные перед ней, будут формулироваться так же ясно и определенно, как они формулировались и раньше, до войны, во время которой задрали хвосты не только некоторые генералы, но и некоторые интеллигенты, — словом, что-то на тему о сверчке и шестке.
До войны и первые три года войны я был членом Союза писателей, одним из относительно более известных поэтов младшего поколения, начинающим, а потом тоже пользовавшимся известностью драматургом, автором одной из первых сколько-нибудь крупных прозаических вещей, написанных о войне в годы войны. В тридцать девятом году, в числе других, по-моему, ста семидесяти или около того писателей я был награжден орденом «Знак Почета» и, как тогда говорили, стал писателем — орденоносцем. Это было первое широкое награждение писателей, и оно имело значение для награжденных. Я был награжден вместе с Долматовским и Алигер, хотя в нашем кругу и в нашем, в узком смысле этого слова, поколении были люди не менее способные, чем мы трое. Но выделили нас. Очевидно, это было определено литературными вкусами и симпатиями Александра Александровича Фадеева, который, если говорить в масштабах Союза писателей, думается мне, довольно полновластно готовил этот список награждений. Перед войной вышла моя пьеса «Парень из нашего города», которая очень широко пошла в годы войны и сделала мое имя намного более известным, чем до этого только по стихам. Потом была военная корреспондентская работа в «Красной звезде», привлекавшая к себе довольно широкое внимание. Потом появились «Русские люди», напечатанные в течение нескольких дней полосами в «Правде».
А незадолго до этого — читавшиеся тогда лирические стихи, напечатанные в журналах, и несколько стихотворений — «Жди меня», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» и «Убей его», напечатанные в газетах и утвердившие мою известность как поэта. «Дни и ночи» были опубликованы в журнале «Знамя», частично, кусками появлялись с продолжениями в «Красной звезде» и тоже добавили мне какую-то долю литературной популярности.
В сорок втором году мне была присуждена Сталинская премия за пьесу «Парень из нашего города», в сорок третьем — за пьесу «Русские люди». В сорок шестом, когда я был в Японии, совершенно неожиданно для меня — еще и за повесть «Дни и ночи», которую никто к премии — через два с лишним года после ее появления — не представлял, это произошло по инициативе Сталина.
Почему я упоминаю все это? Чтобы объяснить, что к концу лета сорок шестого года, когда после постановлений ЦК были предрешены перемены руководства в Союзе писателей и предполагалось изменение самой структуры этого руководства, я, хотя и был из молодых да ранних и оказался в роли — думаю, что не преувеличиваю, говоря это, самого известного из писателей моего поколения, к деятельности Союза писателей практически не имел никакого Отношения и оставался в этом смысле совершенно зеленым и неопытным человеком. В сорок четвертом году нескольких писателей — фронтовиков: Твардовского, Кожевникова, Горбатова, меня, кажется, еще кого-то — ввели, вернее, кооптировали в состав Президиума Союза писателей. Я имел тогда разговоры на эти темы с работавшим вместе с Тихоновым, который был тогда председателем Союза, в качестве ответственного секретаря Союза Дмитрием Алексеевичем Поликарповым. Кажется, один раз, может быть, два — между поездками на фронт — присутствовал на не запомнившихся мне заседаниях Президиума. Вот и всё. В остальном коллективом, в котором я работал, была до конца войны «Красная звезда», хотя ко мне пришло самоощущение популярного писателя, имя которого так или иначе, в общем, практически все знают. Но это самоощущение сочеталось с сохранившимся самоощущением журналиста, газетчика, причем газетчика — именно корреспондента, человека, не делающего газету — этого я толком не знал тогда, — а производящего материал для этой газеты, разъездного корреспондента. С таким двойным самоощущением я ездил и в Японию, и в Америку. И когда в конце августа или в сентябре сорок шестого года, после моего возвращения в Москву, нас всех, членов Президиума Союза писателей, собрали у Жданова для обсуждения вопроса о том, как дальше работать Союзу, я был, повторяю, человеком совершенно зеленым в этом смысле.
Первое из двух обсуждений было длительным, продолжалось несколько часов. Разные люди называли разные кандидатуры в состав секретариата, который, как предполагалось, практически будет руководить работою Союза. И когда Борис Горбатов вдруг как одну из возможных кандидатур в руководители Союза предложил мою, в неумеренных выражениях расхвалив перед этим меня как организатора и главу нашей писательской бригады в Японии, то все только улыбались этому предложению как весьма дружелюбному по отношению ко мне, но в то же время несерьезному. А я, когда кончилось заседание и мы двинулись домой, ругательски ругал Бориса, который после общей реакции на его предложение, кажется, чувствовал себя немножко смущенным, но по своей привычке ворчливо отругивался, говоря, что он был секретарем не то МАППа, не то ВАППа не в тридцать лет, а в девятнадцать — двадцать и делал эту работу так же плохо, как и все остальные, ничуть не хуже.
А через два или три дня нас собрали там же, у Жданова, и Жданов сказал, что о предыдущем обсуждении дел Союза писателей, которое происходило здесь, было рассказано товарищу Сталину, что состоялось решение поручить партийной группе правления Союза писателей рекомендовать организацию секретариата Союза писателей в следующем составе: генеральный секретарь правления Союза писателей Фадеев, заместители генерального секретаря Симонов, Вишневский, Тихонов, секретари Леонов и Горбатов, причем Горбатов утверждается секретарем партгруппы правления.
То, что Фадеев становился во главе Союза, неожиданностью не было. На предыдущем заседании он очень решительно отнекивался, говорил, что, только — только закончив «Молодую гвардию», после многих лет почувствовал вкус к действительной писательской работе и полушутя — полусерьезно просил его не губить. В общем, это было искренне, при властном характере Фадеева, при его политической хватке червь сомнения все-таки, наверное, у него где-то гнездился. Как писатель он не хотел руководить Союзом, это была правда, но как литературно — политический деятель искренне не видел, кто бы мог это делать вместо него. Это тоже было правдою — и не только субъективно, но для того времени и объективно. Так что Фадеев как глава Союза не был ни для кого из нас неожиданностью, сама формулировка «генеральный секретарь», несомненно, не могла прийти в голову никому, кроме Сталина. Автором этой формулировки был он. Очевидно, он же, по каким-то своим соображениям, расставил не по алфавиту, а по порядку заместительства трех заместителей генерального секретаря. Третьим из этих заместителей сделал Тихонова, подчеркнув этим свое уважительное отношение к нему, подчеркнув, что критика Союза в связи с постановлениями о журналах «Звезда» и «Ленинград», изменение структуры, ликвидация должности председателя Союза — все это одно, а имя Тихонова и значение его фигуры в новом, заною складывающемся руководстве Союза — дело другое. Так мы, во всяком случае, тогда поняли, что это явно исходило от Сталина, потому что разговоры на предыдущем заседании не предполагали мысли о том, что Тихонов окажется одним из руководителей вновь образованного секретариата Союза. Очевидно, и назначение Горбатова парторгом правления тоже шло от Сталина, допускаю, что он не хотел, чтобы Фадеев с его авторитетом, с его положением члена ЦК, с его властным характером в качестве генерального секретаря обладал бы своей властью безапелляционно. Видимо, по его мысли, в Горбатове как секретаре партгруппы предполагалось некое критическое начало. Это была инициатива Сталина, потому что обычно бывало, что руководитель организации, если он коммунист, созывал в случае необходимости партгруппу этой организации.
Добавлю, что и рекомендация выбрать секретарями писателей из союзных республик — одного от республик Средней Азии, по одному от Украины, Белоруссии, от каждой из закавказских и прибалтийских республик — была тоже Сталина. В общем, все было решено за нас, и мы были расставлены по своим местам Сталиным, и расставлены, насколько я могу судить по первым годам работы Союза, довольно разумно. Так, всего еще неделю назад не думая ни о чем близко похожем, я оказался одним из руководителей Союза писателей, и это на многие годы определило и характер моей жизни, и некоторые особенности моей работы как литератора.
Через неделю или полторы после того, как я вместе с другими приступил к работе в Союзе, меня назначили редактором «Нового мира». В противоположность тому, что произошло с Союзом, это не было для меня полной неожиданностью: когда-то о том, чтобы я стал редактором журнала, разговоры со мной уже велись, я даже излагал в ЦК некоторые соображения насчет того, каким я себе представляю журнал. Тут у меня все-таки был хотя и маленький и однобокий, но опыт: во второй половине войны я стал членом редколлегии журнала «Знамя», регулярно в редколлегии, разумеется, не работал, но в сорок четвертом — сорок пятом годах кое-что читал, когда это у меня получалось, и давал свои отзывы, главным образом и почти исключительно о стихах. При всей моей неопытности журнал мне вести хотелось; я не очень ясно представлял, как это делается, но какие-то силы для этого в себе ощущал.
Так в течение одного месяца я стал и первым заместителем Фадеева в Союзе, и редактором самого старого из выходивших в Москве послереволюционных толстых журналов. «Красная новь», созданная раньше, чем «Новый мир», прекратила свое существование еще в сорок третьем году, во время войны.
За работу в журнале я взялся с увлечением. Заместителем ко мне согласился пойти мой товарищ по «Красной звезде» Кривицкий, человек с опытом, блестящими журналистскими способностями и труднопереносимым, но твердым характером. Из старой редколлегии остались в журнале Шолохов и Федин, из них первый продолжал числиться так же, как он числился прежде, не принимая никакого участия в работе журнала, а второй, наоборот, участвовал в работе журнала — не буду об этом распространяться, потому что уже писал в своих воспоминаниях о Федине. Не отказались войти в редколлегию журнала и такой блестящий человек, как Валентин Катаев, и умница и кладезь знаний Борис Николаевич Агапов, в которого я влюбился во время нашей поездки в Японию и с которым мы впоследствии, после того как он пришел в «Новый мир», двенадцать лет работали бок о бок и в «Новом мире», и в «Литературной газете», и вновь в «Новом мире». Самым молодым членом редколлегии, ровесником тридцатилетнего редактора, стал Александр Михайлович Борщаговский, переехавший для этого в Москву, талантливый киевский театральный, и не только театральный, критик, на плечи которого пала обязанность организовать в журнале постоянньйи отдел братских литератур.
Я говорю об этом потому, что все это в какой-то мере будет иметь отношение к дальнейшему, поскольку, обращаясь к главной теме своего повествования, мне не миновать некоторых подробностей собственной работы разных лет и в «Новом мире», и в «Литературной газете».
В девятой книжке «Нового мира», подписанной предыдущим составом редколлегии, были опубликованы постановление ЦК и доклад Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Разумеется, я не имею в виду, что новая редколлегия во главе с новым редактором не перепечатала бы на страницах «Нового мира» постановление и доклад, — конечно, перепечатала бы, если бы это не было сделано раньше. Но так уж вышло, что девятый номер, где были опубликованы постановление ЦК и доклад Жданова, был последним аккордом в работе прежней редколлегии, им нечто завершилось, а мы начинали как бы с чистого листа. Перелистывая сейчас тот сдвоенный — десятый — одиннадцатый — номер «Нового мира» 1946 года, с которого мы начали свою работу, думаю, что в те очень короткие сроки, которые у нас были, он был сделан неплохо и даже широко. Открывался он — что до этого если не никогда, то во всяком случае долгие годы не делалось в толстых журналах — не романом и не стихами, а очерком Бориса Галина «В Донбассе». Были в нем стихи Наровчатова, Смелякова, Луконина, проза Паустовского, письмо в редакцию Эренбурга о внимании к памяти павших на войне, киноповесть Довженко «Жизнь в цвету», по которой он потом поставил своего «Мичурина», и рассказ Андрея Платонова «Семья Иванова» («Возвращение»). Публикация этих двух вещей была для того времени связана с известным риском: после жестокой проработки Довженко в сорок четвертом году за его киноповесть об Украине это была первая публикация его новой вещи; как всегда в таких случаях, не было недостатка в охотниках читать эту вещь через лупу. Что касается рассказа Платонова «Семья Иванова», он очень нравился нам с Кривицким. Мы хотели напечатать Платонова, своего товарища по «Красной звезде», в этом первом выпускаемом нами номере…
Очень хотелось, получив в свои руки эту возможность, продолжить этим рассказом о возвращении с войны то, что писал Платонов в годы войны в «Красной звезде» и что как-то помогло ему обрести снова более или менее нормальное положение в литературе после сокрушительной критики тридцатых годов. Мы с Кривицким не предвидели беды. Ее предвидел только Агапов. Присоединившись к нашему доброму мнению о рассказе и добавив даже, что рассказ не только хороший, а превосходный, мудрый Агапов добавил:
— В случае чего, будем считать, что я так же голосую за него, как и вы, но предупреждаю вас, что с этим рассказом у нас будет беда. Мне это подсказывает моя стариковская память. — Агапов, которому было тогда сорок семь лет, любил несколько кокетливо, учитывая его мощную, казавшуюся навек несокрушимой фигуру, говорить о своих стариковских памяти, привычках и слабостях. — В свое время, если не изменяет эта стариковская память, «Красную новь» чуть было не закрыли из-за опубликованной в ней вещи Платонова, был неимоверный скандал, в связи с чем досталось Ермилову, еще больше, кажется, Фадееву, которого вызывали и мылили шею на самом верхнем полке.
Что за Платонова мылил шею Фадееву именно Сталин, по интонации и по выражению лица Агапова, сомневаться не приходилось.
— В рассказе, — продолжал Агапов, — есть некоторые оттенки того особого, свойственного Платонову отношения к жизни и к людским поступкам, которое в былое время было очень не одобрено, о чем вас и предупреждаю, хотя рассказ, повторяю, прекрасный, и если быть беде, то будем считать, что я вас ни о чем не предупреждал.
Не знаю почему, но мы с Кривицким как-то очень легко отнеслись к этому предупреждению. Внутренне рассказ для нас продолжал то, что много раз печаталось в «Красной звезде», то же свое, платоновское, не вызывавшее ничьих нареканий, — нам верилось, что так будет и на этот раз. А вдобавок было у нас и еще одно соображение: как-то не принято, только что назначив нового редактора, утвердив новую редколлегию, начинать колотить их за что-нибудь по первому же выпущенному ими номеру. В таких случаях обычно для начала первые грехи было принято отпускать.
Однако, увы, Агапов оказался прав. Едва успел выйти номер журнала, как Ермилов тиснул в «Литературной газете» погромную статью «Клеветнический рассказ А. Платонова». В рассказе Платонова было всего четырнадцать журнальных страничек, а статья Ермилова была написана чуть ли не во всю длину рассказа, на целую газетную полосу. «Литературная газета», по распределению обязанностей, была в Союзе писателей под прямым наблюдением Фадеева, Ермилов был его давним, с рапповских времен, соратником, в те времена, в сорок шестом году, другом, в иных случаях — без раскаяния употреблю это слово — подручным, и статья эта могла появиться только как результат их коллективного мнения и решения. Статья была беспощадная, удар наносился человеку беззащитному и только — только ставшему на ноги. Эта история была для меня первой зарубкой в наших отношениях с Фадеевым, зарубкой, о которой я не забыл. Я высоко его ставил, знал ему цену, не безоговорочно, но любил его, но нескольких случаев не мог простить ему. Они у меня оставались в душе, как зазубрины, пока он был жив, остались и после того, как он решил уйти из жизни.
Зачем он это сделал? Почему? Меня волновало это. Ермилова я уже до этого устойчиво, прочно не любил и не уважал. Я не стал говорить с Фадеевым на эту тему, потому что, несмотря на всю свою неопытность, чувствовал, что разговора не выйдет или он будет неискренним. В чем дело? Почему он так поступил? Мне казалось, что как опытный политик он не должен был бояться того, что вслед за уже появившимися постановлениями последует довесок именно по рассказу Платонова. Это было не в стиле Сталина, не похоже на него. Или Фадеев все-таки так помнил рискованное положение, в котором когда-то оказался из-за Платонова, что не хотел даже и доли риска, даже самой малейшей, — потому что ведь не ему бы, случись что-нибудь, досталось в первую очередь. Или, как это было у него по отношению к некоторым людям, с которыми он столкнулся в более молодые годы, с которыми имел разногласия, которых тогда не любил или которым тогда не доверял, — он держал в памяти Платонова как человека, причинившего лично ему, Фадееву, зло? Как человека, которому вследствие этого ничего не следует прощать, ничего и никогда? Я знал несколько человек в литературе, к которым он именно так относился — без пощады, без отпущения грехов. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но в моем представлении дело было именно так.
А может быть, только вернувшись в Союз по инициативе Сталина, ему хотелось в эти первые месяцы показать себя на высоте задачи, одетым в броню твердости, непогрешимости и памятливости — политической памятливости, и пример этого был показан на Платонове? Не знаю. Во всяком случае, убежден, что никакой инспирации сверху для этой статьи о Платонове не требовалось и ее не было. Сужу по тому, что она при ее разгромной силе не получила никакого дальнейшего отклика. Меня не возили мордой об стол, не устраивали дальнейшей проработки журнала в связи с этой статьей Ермилова. Но обстановка тех месяцев не располагала к тому, чтобы пробовать куда-то жаловаться на эту статью. Рассказ Платонова был по настроениям того времени и по обстановке, сложившейся сразу после постановлений, в чем-то, конечно, уязвим. Можно было пройти мимо него, не вцепившись в него, но защищать его после того, как в него вцепились, да еще так громогласно, как это сделал Ермилов, имевший вдобавок пока что — повторяю, пока что — молчаливую поддержку Фадеева, было опасно — не столько даже для журнала и его редактора, сколько для автора. В общем, мы проглотили эту пилюлю: идти до конца, до самого верха, в этом случае не хватило духу и пороху.
Вскоре после этого в двенадцатом номере ленинградского журнала «Звезда» я напечатал свою очень быстро написанную пьесу «Русский вопрос». Мысли мои были заняты главным образом повестью, которая потом появилась под названием «Дым отечества». К ней я готовился, писал первые заметки, но поездка в Америку требовала и публицистической отдачи. Эренбург напечатал ряд статей, а у меня, кроме двух статей об американском театре, с публицистикой что-то не клеилось. Мне показалось, что рассказать о том, что я знал больше и лучше, ближе наблюдал — не столько даже в самой Америке, сколько перед этим в Японии, — о политических и нравственных проблемах, связанных с жизнью и деятельностью американской прессы, я смогу лучше в драматургической форме. Так я написал «Русский вопрос» — пьесу, действие которой было сосредоточено, в общем, вокруг проблемы, с которой была связана наша поездка в Соединенные Штаты, — хотят ли русские войны? Мы им там доказывали, как умели, доказывали и рассказывали, и это была истинная правда, — не хотят русские войны, не хотят, не могут хотеть. Говорить и доказывать это была главная наша цель — и душевная, и пропагандистская, и какая угодно, полностью соответствовавшая истине. Основные же нападки на Советский Союз, которые в той или иной форме адресовались нам, приехавшим в Соединенные Штаты, были основаны на обратной точке зрения: русские коммунисты хотят завоевать свободный мир. И Америка должна понять всю меру этой опасности. Эта песня сейчас, когда я пишу, вспоминая об этом, кажется уже очень старой; тогда она была сравнительно новой, и мы ее искренне ненавидели, всеми фибрами души.
Итак, вместо публицистики об Америке, которой от меня ждали в разных редакциях, я за три недели написал пьесу «Русский вопрос» и, как уже упомянул, напечатал ее в «Звезде». Она была предназначена к постановке в одном театре — Ленинского комсомола, а пошла в пяти московских театрах — в Художественном, Малом, Вахтангова, Моссовета, Ленинского комсомола, и в трех ленинградских — в Александринке, в Большом драматическом и в Театре комедии. Как выяснилось, Сталин, особенно внимательно следивший за журналом «Звезда» после постановления ЦК — в этом журнале редактором стал по совместительству московский работник агитпропа ЦК профессор Еголин, — прочел пьесу, она ему показалась то ли хорошей, то ли полезной, — последнее для него как для политика, в чем я потом не раз убеждался, играло, разумеется, первостепенную роль, а вкусовые впечатления только вторую, — и распорядился широко поставить «Русский вопрос». Пьеса, наверное, и так пошла бы по стране широко, но, разумеется, в пяти московских театрах сразу ее бы никто не ставил.
Уже не помню сейчас, что предшествовало чему — Сталинская премия за эту пьесу распоряжению о постановке ее в пяти театрах Москвы или постановка — премии. Но не в этом суть дела, а в том, насколько категоричным было указание. Когда я пришел в Комитет по делам искусств и попросил тогдашнего его председателя, чтобы — да простится мне это задним числом — пьесу не ставили хотя бы в пятом московском театре, в Вахтанговском, о чем я узнал в последнюю очередь, он в ответ только развел руками, сказал, что это вопрос решенный, решенный не им, и не в его возможностях что-либо тут менять.
Весной сорок седьмого года — уже состоялись премьеры «Русского вопроса» в Москве и Ленинграде — я узнал от ленинградских своих друзей, от Юрия Павловича Германа, с которым мы подружились на Севере, в Мурманске и Полярном, в годы войны, что у Михаила Зощенко есть несколько десятков написанных им в годы войны, но ненапечатанных партизанских рассказов. Рассказы эти Зощенко в свое время предполагал печатать, но потом вышло то, что вышло, и они у него лежат недвижимо и бесперспективно. А рассказы по сути своей не могут вызвать никаких возражений, просто они не все одинаково интересны — одни интереснее, другие менее интересны, но с точки зрения достоверности того, что в этих рассказах изложено, с точки зрения уважения автора к героям этих рассказов они безукоризненны. Дело не в самих рассказах, а в том, что их написал Зощенко, о котором сказано в докладе Жданова, что у него гнилая и растленная общественно — политическая и литературная физиономия, а в постановлении ЦК он назван пошляком и подонком. Но рассказы сами по себе можно напечатать и сделать этим первый шаг к тому, чтобы вывести Зощенко из того ужасающего положения, в котором он оказался, — и если бы ты вдруг взял и решился…
Так и кончился этот разговор, или примерно так. Я подумал, подумал и решился — сначала на то, чтобы вызвать Зощенко в Москву и прочесть его рассказы, а потом на то, чтобы отобрать около половины этих рассказов, которые мне показались лучшими, и, действуя уже на свой страх и риск, без обсуждения на редколлегии, перепечатав эти рассказы вместе с коротеньким предисловием Зощенко, отправить их Жданову, находившемуся тогда в Москве и руководившему вопросами идеологии, с моим письмом о том, что я считаю возможным напечатать эти рассказы на страницах «Нового мира», на что, в связи со всеми известными предшествующими событиями, прошу разрешения ЦК.
Привез я эти рассказы со своим письмом и отдал из рук в руки помощнику Жданова — Александру Николаевичу Кузнецову, человеку, на мой взгляд, хорошему, доброжелательно относившемуся к писателям, в том числе и ко мне.
Прошло какое-то время. Я стал звонить Кузнецову. «Нет, пока не прочтено». Снова: «Нет, пока у Андрея Александровича не было времени прочесть». «Да, напомнил, но пока не было времени прочесть».
Наконец после очередного звонка Кузнецов доверительно сказал мне, что, насколько он понял, Андрей Александрович познакомился с рассказами, но сейчас, как ему кажется, времени для встречи со мной у Андрея Александровича нет, и он советует мне позвонить ему самому, но не раньше, чем недели через две.
Я внял этому совету и стал ждать.
Тем временем Фадеев, подготовив вместе с нами, другими секретарями, соответствующие материалы, послал письмо Сталину с просьбой принять руководителей Союза писателей по тем двум вопросам, которые ставились в письме.
Главным из этих двух вопросов был вопрос об изменениях в авторском праве в связи со сложившимся после войны трудным материальным положением писателей. Вторым — вопрос о реорганизации Союза писателей, о его новых штатах и ставках в связи с гораздо большим объемом тех задач, которые перед ним теперь ставились.
И вот, не то утром 13 мая, не то накануне, теперь уже не помню, Фадееву, Горбатову и мне было сообщено, что Сталин примет нас 13 мая в шесть часов вечера, чтоб мы явились к этому времени в Кремль.
Далее мне предстоит привести запись продиктованного мною стенографистке на следующий день после этой встречи. Точно такие же записи, в тот же день или на следующий, я делал впоследствии и в остальных случаях, когда нас вызывали к Сталину. Все, что было записано мною тогда непосредственно, я приведу полностью, так, как оно было записано. Но записывал я по ряду обстоятельств не всё. Пропускал ряд вопросов, проблем, имен, которые считал невозможным записывать тогда. Встречи эти мне запомнились очень хорошо, что, впрочем, не исключает каких-то мелких неточностей, но именно мелких, и это дает мне возможность делать сейчас вставки там, где я в свое время делал пропуски. Для того чтобы понять эту систему записи, надо мысленно окунуться в то время и представить себе, что не только, само собой разумеется, делать какие бы то ни было записи во время встреч со Сталиным было не принято, и невозможно, и не приходило в голову, но и вряд ли считалось возможным делать записи такого рода и задним числом. В общем, я записывал то, что считал себя вправе записывать, и старался как можно крепче сохранить в памяти то, что считал себя не вправе записывать. По ходу дела я в каждом случае, вспоминая эти встречи, буду указывать, где приведен текст тогдашних записей и где мои нынешние дополнения к ним. Сами эти записи я буду приводить с небольшой правкой, не имеющей отношения к существу дела, а лишь к качеству изложения, потому что они делались так скоропалительно, что маленькая литературная правка просто необходима. От соблазна же казаться и другим, и себе самому умней и дальновидней, чем ты когда-то был, то есть от правки старых записей по существу, я себя предостерег уже давно, много лет назад, еще при начале работы над военными дневниками, сдав в ЦГАЛИ на закрытое хранение подлинники всех моих старых дневниковых записей, в том числе и тех, о которых сейчас идет речь.
Итак, запись, сделанная 14 мая 1947 года:
«Тринадцатого мая Фадеев, Горбатов и я были вызваны к шести часам вечера в Кремль к Сталину. Без пяти шесть мы собрались у него в приемной в очень теплый майский день, от накаленного солнцем окна в приемной было даже жарко. Посередине приемной стоял большой стол с разложенной на нем иностранной прессой — еженедельниками и газетами. Я так волновался, что пил воду.
В три или четыре минуты седьмого в приемную вошел Поскребышев и пригласил нас. Мы прошли еще через одну комнату и открыли дверь в третью. Это был большой кабинет, отделанный светлым деревом, с двумя дверями — той, в которую мы вошли, и второй дверью в самой глубине кабинета слева. Справа, тоже в глубине, вдали от двери стоял письменный стол, а слева вдоль стены еще один стол — довольно длинный, человек на двадцать — для заседаний.
Во главе этого стола, на дальнем конце его, сидел Сталин, рядом с ним Молотов, рядом с Молотовым Жданов. Они поднялись нам навстречу. Лицо у Сталина было серьезное, без улыбки. Он деловито протянул каждому из нас руку и пошел обратно к столу. Молотов приветливо поздоровался, поздравил нас с Фадеевым с приездом, очевидно из Англии, откуда мы не так давно вернулись, пробыв там около месяца в составе нашей парламентской делегации.
После этого мы все трое — Фадеев, Горбатов и я — сели рядом по одну сторону стола, Молотов и Жданов сели напротив нас, но не совсем напротив, а чуть поодаль, ближе к сидевшему во главе стола Сталину.
Все это, конечно, не столь существенно, но мне хочется запомнить эту встречу во всех подробностях.
Перед Ждановым лежала докладная красная папка, а перед Сталиным — тонкая папка, которую он сразу открыл. В ней лежали наши письма по писательским делам. Он вслух прочел заголовок: «В Совет Министров СССР» — и добавил что-то, что я не до конца расслышал, что-то вроде того, что вот получили от вас письмо, давайте поговорим.
Разговор начался с вопроса о гонораре.
— Вот вы ставите вопрос о пересмотре гонораров, — сказал Сталин. — Его уже рассматривали.
— Да, но решили неправильно, — сказал Фадеев и стал объяснять, что в сложившихся при нынешней системе гонораров условиях писатели за свои хорошие книги, которые переиздаются и переиздаются, вскоре перестают что-либо получать. С этого Фадеев перешел к вопросу о несоответствии в оплате малых и массовых тиражей, за которые тоже платят совершенно недостаточно. В заключение Фадеев еще раз повторил, что вопрос о гонорарах был решен неверно.
Выслушав его, Сталин сказал:
— Мы положительно смотрим на пересмотр этого вопроса. Когда мы устанавливали эти гонорары, мы хотели избежать такого явления, при котором писатель напишет одно хорошее произведение, а потом живет на него и ничего не делает. А то написали по хорошему произведению, настроили себе дач и перестали работать. Нам денег не жалко, — добавил он, улыбнувшись, — но надо, чтобы этого не было. В литературе установить четыре категории оценок, разряды. Первая категория — за отличное произведение, вторая — за хорошее и третья и четвертая категории, — установить шкалу, как вы думаете?
Мы ответили, что это будет правильно.
— Ну что ж, — сказал Сталин, — я думаю, что этот вопрос нельзя решать письмом или решением, а надо сначала поработать над ним, надо комиссию создать. Товарищ Жданов, — повернулся он к Жданову, — какое у вас предложение по составу комиссии?
— Я бы вошел в комиссию, — сказал Жданов.
Сталин засмеялся, сказал:
— Очень скромное с вашей стороны предложение.
Все расхохотались.
После этого Сталин сказал, что следовало бы включить в комиссию присутствующих здесь писателей.
— Зверева как министра финансов, — сказал Фадеев.
— Ну что же, — сказал Сталин, — он человек опытный. Если вы хотите, — Сталин подчеркнул слою «вы», — можно включить Зверева. И вот еще кого, — добавил он, — Мехлиса, — добавил и испытующе посмотрел на нас. — Только он всех вас там сразу же разгонит, а?
Все снова рассмеялись.
— Он все же как-никак старый литератор, — сказал Жданов».
Прервав свою тогдашнюю запись, забегу вперед и скажу, что когда впоследствии дважды или трижды собиралась комиссия, созданная в тот день, то Мехлис обманул действительно существовавшие у нас на его счет опасения, связанные с хорошо известной нам жесткостью его характера. По всем гонорарным вопросам он поддержал предложения писателей, а когда финансисты выдвинули проект — начиная с такого-то уровня годового заработка, выше него — взимать с писателей пятьдесят один процент подоходного налога, Мехлис буквально вскипел:
— Надо все-таки думать, прежде чем предлагать такие вещи. Вы что, хотите обложить литературу как частную торговлю? Или собираетесь рассматривать отдельно взятого писателя как кустаря без мотора? Вы что, собираетесь бороться с писателями, как с частным сектором, во имя какой-то другой формы организации литературы — писания книг не в одиночку, не у себя за столом?
Тирада Мехлиса на этой комиссии была из тех, что хорошо и надолго запоминаются. Этой желчной тирадой он сразу обрушил всю ту налоговую надстройку, которую предлагалось возвести над литературой. Ни к литературе, ни к писателям, насколько я успел заметить, Мехлис пристрастия не питал, но он был политик и считал литературу частью идеологии, а писателей — советскими служащими, а не кустарями — одиночками.
Сделав это отступление или, вернее, чуть забежав в будущее, возвращаюсь к своей записи от 14 мая сорок седьмого года:
«— Итак, кого же в комиссию? — спросил Сталин.
Жданов перечислил всех, кого намеревались включить в комиссию.
— Хорошо, — сказал Сталин. — Теперь второй вопрос: вы просите штат увеличить. Надо будет увеличить им штат.
Жданов возразил, что предлагаемые Союзом писателей штаты все-таки раздуты. Сто двадцать два человека вместо семидесяти.
— У них новый объем работы, — сказал Сталин, — надо увеличить штаты.
Жданов повторил, что проектируемые Союзом штаты нужно все-таки срезать.
— Нужно все-таки увеличить, — сказал Сталин. — Есть отрасли новые, где не только увеличивать приходится, но создавать штаты. А есть отрасли, где штаты разбухли, их нужно срезать. Надо увеличить им штаты.
На этом вопрос о штатах закончился.
Следующий вопрос касался писательских жилищных дел.
Фадеев стал объяснять, как плохо складывается сейчас жилищное положение у писателей и как они нуждаются в этом смысле в помощи, тем более что жилье писателя — это, в сущности, его рабочее место.
Сталин внимательно выслушал все объяснения Фадеева и сказал, чтобы в комиссию включили председателя Моссовета и разобрались с этим вопросом. Потом, помолчав, спросил:
— Ну, у вас, кажется, всё?
До этого момента наша встреча со Сталиным длилась так недолго, что мне вдруг стало страшно жаль: вот сейчас все это оборвется, кончится, да, собственно говоря, уже и кончилось.
— Если у вас все, тогда у меня есть к вам вопрос. Какие темы сейчас разрабатывают писатели?
Фадеев ответил, что для писателей по-прежнему центральной темой остается война, а современная жизнь, в том числе производство, промышленность, пока находит еще куда меньше отражения в литературе, причем когда находит, то чаще всего у писателей — середнячков.
— Правда, — сказал Фадеев, — мы посылали некоторых писателей в творческие командировки, послали около ста человек, но по большей части это тоже писатели — середняки.
— А почему не едут крупные писатели? — спросил Сталин. — Не хотят?
— Трудно их раскачать, — сказал Фадеев.
— Не хотят ехать, — сказал Сталин. — А как вы считаете, есть смысл в таких командировках?
Мы ответили, что смысл в командировках есть. Доказывая это, Фадеев сослался на первые пятилетки, на «Гидроцентраль» Шагинян, на «Время, вперед!» Катаева и на несколько других книг.
— А вот Толстой не ездил в командировки, — сказал Сталин.
Фадеев возразил, что Толстой писал как раз о той среде, в которой он жил, будучи в Ясной Поляне.
— Я считал, что, когда серьезный писатель серьезно работает, он сам поедет, если ему нужно, — сказал Сталин. — Как, Шолохов не ездит в командировки? — помолчав, спросил он.
— Он все время в командировке, — сказал о Шолохове Фадеев.
— И не хочет оттуда уезжать? — спросил Сталин.
— Нет, — сказал Фадеев, — не хочет переезжать в город.
— Боится города, — сказал Сталин.
Наступило молчание. Перед этим, рассказывая о командировках, Фадеев привел несколько примеров того, как трудно посылать в командировки крупных писателей. Среди других упомянул имя Катаева. Очевидно, вспомнив это, Сталин вдруг спросил:
— А что Катаев, не хочет ездить?
Фадеев ответил, что Катаев работает сейчас над романом, который будет продолжением его книги «Белеет парус одинокий», и что новая работа Катаева тоже связана с Одессой, с коренной темой Катаева.
— Так он над серьезной темой работает? — спросил Сталин.
— Над серьезной, над коренной для него, — подтвердили мы.
Опять наступило молчание.
— А вот есть такая тема, которая очень важна, — сказал Сталин, — которой нужно, чтобы заинтересовались писатели. Это тема нашего советского патриотизма. Если взять нашу среднюю интеллигенцию, научную интеллигенцию, профессоров, врачей, — сказал Сталин, строя фразы с той особенной, присущей ему интонацией, которую я так отчетливо запомнил, что, по-моему, мог бы буквально ее воспроизвести, — у них недостаточно воспитано чувство советского патриотизма. У них неоправданное преклонение перед заграничной культурой. Все чувствуют себя еще несовершеннолетними, нестопроцентными, привыкли считать себя на положении вечных учеников. Это традиция отсталая, она идет от Петра. У Петра были хорошие мысли, но вскоре налезло слишком много немцев, это был период преклонения перед немцами. Посмотрите, как было трудно дышать, как было трудно работать Ломоносову, например. Сначала немцы, потом французы, было преклонение перед иностранцами, — сказал Сталин и вдруг, лукаво прищурясь, чуть слышной скороговоркой прорифмовал: — засранцами, — усмехнулся и снова стал серьезным. — Простой крестьянин не пойдет из-за пустяков кланяться, не станет ломать шапку, а вот у таких людей не хватает достоинства, патриотизма, понимания той роли, которую играет Россия. У военных тоже было такое преклонение. Сейчас стало меньше. Теперь нет, теперь они и хвосты задрали.
Сталин остановился, усмехнулся и каким-то неуловимым жестом показал, как задрали хвосты военные. Потом спросил:
— Почему мы хуже? В чем дело? В эту точку надо долбить много лет, лет десять эту тему надо вдалбливать. Бывает так: человек делает великое дело и сам этого не понимает, — и он снова заговорил о профессоре, о котором уже упоминал. — Вот взять такого человека, не последний человек, — еще раз подчеркнуто повторил Сталин, — а перед каким-то подлецом — иностранцем, перед ученым, который на три головы ниже его, преклоняется, теряет свое достоинство. Так мне кажется. Надо бороться с духом самоуничижения у многих наших интеллигентов.
Сталин повернулся к Жданову.
— Дайте документ.
Жданов вынул из папки несколько скрепленных между собой листков с печатным текстом. Сталин перелистал их, в документе было четыре или пять страниц. Перелистав его, Сталин поднялся из-за стола и, передав документ Фадееву, сказал:
— Вот, возьмите и прочитайте сейчас вслух.
Фадеев прочитал вслух. Это был документ, связанный как раз со всем тем, о чем только что говорил Сталин. Пока не могу изложить здесь его содержание…»
Документ, содержание которого тогда, 14 мая 1947 года, я считал невозможным для себя излагать, был опубликованным затем в печати письмом о так называемом деле Клюевой и Роскина[2]. Появление этого письма в печати было началом той борьбы с самоуничижением, самоощущением нестопроцентности, с неоправданным преклонением перед заграничной культурой, о которой Сталин сказал, что в эту точку надо долбить много лет.
Борьба эта очень быстро стала просто и коротко формулироваться как борьба с низкопоклонством перед заграницей и так же быстро приняла разнообразные уродливые формы, которыми почти всегда отличается идейная борьба, превращаемая в шумную политическую кампанию, с одной стороны, подхлестываемую, а с другой, приобретающую опасные элементы саморазвития. Многое из написанного и напечатанного тогда стыдно читать сейчас, в том числе и появившееся из-под твоего пера или за твоей редакторской подписью. Однако при всем том, что впоследствии столь уродливо развернулось в кампанию, отмеченную в некоторых своих проявлениях печатью варварства, а порой и прямой подлости, в самой идее о необходимости борьбы с самоуничижением, с самоощущением нестопроцентности, с неоправданным преклонением перед чужим в сочетании с забвением собственного, здравое зерно тогда, весной сорок седьмого года, разумеется, было. Элементы всего этого реально существовали и проявлялись в обществе, возникшая духовная опасность не была выдумкой, и вопрос, очевидно, сводился не к тому, чтобы отказаться от духовной борьбы с подобными явлениями, в том числе и средствами литературы, а в том, как вести эту борьбу — пригодными для нее и соответствующими ее, по сути говоря, высоким общественным целям методами или методами грубыми и постыдными, запугивавшими, но не убеждавшими людей, то есть теми, которыми она чаще всего впоследствии и велась.
Фадеев начал читать письмо, которое передал ему Сталин. Сталин до этого, в начале беседы, больше стоял, чем сидел, или делал несколько шагов взад и вперед позади его же стула или кресла. Когда Фадеев стал читать письмо, Сталин продолжал ходить, но уже не там, а делая несколько шагов взад и вперед вдоль стола с нашей стороны и поглядывая на нас. Прошло много лет, но я очень точно помню свое не записанное тогда ощущение. Чтобы не сидеть спиной к ходившему Сталину, Фадеев инстинктивно полуобернулся к нему, продолжая читать письмо, и мы с Горбатовым тоже повернулись. Сталин ходил, слушал, как читает Фадеев, слушал очень внимательно, с серьезным и даже напряженным выражением лица. Он слушал, с какими интонациями Фадеев читает, он хотел знать, что чувствует Фадеев, читая это письмо, и что испытываем мы, слушая это чтение. Продолжая ходить, бросал на нас взгляды, следя за впечатлением, производимым на нас чтением.
До этого с самого начала встречи я чувствовал себя по-другому, довольно свободно в той атмосфере, которая зависела от Сталина и которую он создал. А тут почувствовал себя напряженно и неуютно. Он так смотрел на нас и так слушал фадеевское чтение, что за этим была какая-то нота опасности — и не вообще, а в частности для нас, сидевших там. Делал пробу, проверял на нас — очевидно, на первых людях из этой категории, на одном знаменитом и двух известных писателях, — какое впечатление производит на нас, интеллигентов, — коммунистов, но при этом интеллигентов, — то, что он продиктовал в этом письме о Клюевой и Роскине, тоже о двух интеллигентах. Продиктовал, может быть, или сам написал, вполне возможно. Во всяком случае, это письмо было продиктовано его волей — ничьей другой.
Когда Фадеев дочитал письмо до конца, Сталин, убедившись в том, что прочитанное произвело на нас впечатление, — а действительно так и было, — видимо, счел лишним или ненужным спрашивать наше мнение о прочитанном.
Сейчас, много лет спустя, вспоминая ту минуту, я признателен ему за это.
Как свидетельствует моя запись, сделанная 14 мая сорок седьмого года, когда письмо было прочитано, Сталин только повторил то, с чего начал:
— Надо уничтожить дух самоуничижения. — И добавил: — Надо на эту тему написать произведение. Роман.
Я сказал, что это скорее тема для пьесы.
Прежде чем приводить дальше свою старую запись, прерву себя тогдашнего и добавлю, что слова эти выскочили из меня совершенно непроизвольно, просто как профессиональное соображение, которое действительно подсказывало, что тема, о которой шла речь, скорей для сцены, чем для книги. В тот момент я совершенно не думал о себе, не думал о том, что я сам драматург, я сидел в самой середине повести «Дым отечества» и не думал и не в состоянии был думать ни о чем другом, считая, что, доведя до конца эту работу, как писатель выполню самый прямой свой партийный долг. Может быть, именно из-за забвения всяких других возможностей, кроме этой, у меня и выскочила эта проклятая фраза: «Скорей для пьесы», поставившая впоследствии передо мной очень тяжелую для меня проблему, чего я в тот момент ни в малой степени не предвидел, тем более что Сталин, казалось, не обратил никакого внимания на мою реплику.
Вернусь к записи того дня:
«— Надо противопоставить отношение к этому вопросу таких людей, как тут, — сказал Сталин, кивнув на лежащие на столе документы, — отношению простых бойцов, солдат, простых людей. Эта болезнь сидит, она прививалась очень долго, со времен Петра, и сидит в людях до сих пор.
— Бытие новое, а сознание старое, — сказал Жданов.
— Сознание, — усмехнулся Сталин. — Оно всегда отстает. Поздно приходит сознание, — и снова вернулся к тому же, о чем уже говорил. — Надо над этой темой работать.
Потом он перешел к вопросу, о котором я не могу здесь писать…»
Здесь мне придется остановить себя на середине фразы, записанной тогда, и рассказать, что это за вопрос — совершенно неожиданный для всех нас троих. Разумеется, было бы странно через столько лет претендовать на дословное изложение сказанного, но не записанного тогда, однако мне столько раз доводилось потом, особенно в пору моей работы редактором «Литературной газеты», вспоминать об этом — по внутренней, а также по служебной необходимости, — что от такого мысленного повторения происшедшего тогда разговора он застрял в памяти прочнее многого другого. В сущности, это был не столько разговор, сколько получасовой монолог Сталина, начавшийся со слов: «Мы здесь думаем», — Сталин вообще, и как мне помнится, и как это было мной записано тогда, редко говорил «я», предпочитал «мы».
— Мы здесь думаем, — сказал он, — что Союз писателей мог бы начать выпускать совсем другую «Литературную газету», чем он сейчас выпускает. Союз писателей мог бы выпускать своими силами такую «Литературную газету», которая одновременно была бы не только литературной, а политической, большой, массовой газетой. Союз писателей мог бы выпускать такую газету, которая остро, более остро, чем другие газеты, ставила бы вопросы международной жизни, а если понадобится, то и внутренней жизни. Все наши газеты так или иначе официальные газеты, а «Литературная газета» — газета Союза писателей, она может ставить вопросы неофициально, в том числе и такие, которые мы не можем или не хотим поставить официально. «Литературная газета» как неофициальная газета может быть в некоторых вопросах острее, левее нас, может расходиться в остроте постановки вопроса с официально выраженной точкой зрения. Вполне возможно, что мы иногда будем критиковать за это «Литературную газету», но она не должна бояться этого, она, несмотря на критику, должна продолжать делать свое дело.
Я очень хорошо помню, как Сталин ухмыльнулся при этих словах.
— Вы должны понять, что мы не всегда можем официально высказаться о том, о чем нам хотелось бы сказать, такие случаи бывают в политике, и «Литературная газета» должна нам помогать в этих случаях. И вообще, не должна слишком бояться, слишком оглядываться, не должна консультировать свои статьи по международным вопросам с Министерством иностранных дел, Министерство иностранных дел не должно читать эти статьи. Министерство иностранных дел занимается своими делами, «Литературная газета» — своими делами. Сколько у вас сейчас выпускают экземпляров газеты?
Фадеев ответил, что тираж газеты что-то около пятидесяти тысяч.
— Надо сделать его в десять раз больше. Сколько вы раз в месяц выпускаете газету?
— Четыре раза, раз в неделю, — ответил Фадеев.
— Надо будет новую «Литературную газету» выпускать два раза в неделю, чтобы ее читали не раз, а два раза в неделю, и в десять раз больше людей. Как ваше мнение, сможете вы в Союзе писателей выпускать такую газету?
Мы ответили, что, наверное, сможем.
— А когда можете начать это делать?
Не помню, кто из нас, может быть даже и я, вспомнив о том, как я впопыхах принимал журнал, ответил, что выпуск такой, совершенно нового типа, газеты потребует, наверное, нескольких месяцев подготовки и ее, очевидно, можно будет начать выпускать где-то с первого сентября, с начала осени.
— Правильно, — сказал Сталин, — подготовка, конечно, нужна. Слишком торопиться не надо. А то, что вам будет надо для того, чтобы выпустить такую газету, вы должны попросить, а мы должны вам помочь. И мы еще подумаем, когда вы начнете выпускать газету и справитесь с этим, мы, может быть, предложим вам, чтобы вы создали при «Литературной газете» свое собственное, неофициальное телеграфное агентство для получения и распространения неофициальной информации.
Таким примерно был этот монолог Сталина, занявший, как у меня было записано тогда, примерно полчаса.
Текст, который я сейчас записал, при чтении вслух, наверное, уложился бы в десять минут, но я не думаю, что я тогда ошибся, написав «полчаса». Сталин, как всегда, говорил очень неторопливо, иногда повторял сказанное, останавливался, молчал, думал, прохаживался. Видимо, вопрос был продуман им заранее, но какие-то подробности, повороты приходили в голову сейчас, по ходу разговора. Мне, например, показалось, что идея создания телеграфного агентства возникла вдруг и именно здесь после какой-то долгой паузы, во время которой он размышлял над этим, и он высказал ее с удовольствием, был доволен ею.
Вообще мне показалось, что идея создания другой, новой «Литературной газеты», дополнительная идея о создании неофициального телеграфного агентства — нравилась ему самому Он говорил об этом с удовольствием, ему нравилось, что эта идея нам нравится, чувствовалось, что он хочет внушить нам решимость смелей и свободней подходить ко всем вопросам, связанным с этой будущей газетой.
Закончил свой разговор о «Литгазете» Сталин тем, что сказал, что, очевидно, нам для новой газеты придется подумать и о новых людях, о новых работниках, о новой редколлегии, быть может, и о новом редакторе, но обо всем этом предстоит подумать нам самим, это уж наше дело.
Так — не по идее Союза писателей, как это чаще всего принято считать, а по идее Сталина — через несколько месяцев начала выходить совсем другая, чем раньше, «Литературная газета», правда, без своего неофициального телеграфного агентства. АПН, начальная идея создания которого была высказана тогда, 13 мая 1947 года, было создано через много лет после этого и уже после смерти Сталина.
Вернусь к записи сорок седьмого года:
«Когда вопрос с «Литературной газетой» был решен, Сталин спросил нас полуожидающе:
— Ну, кажется, все вопросы?
Я сказал:
— Товарищ Сталин, разрешите один вопрос?
— Пожалуйста, хоть два, — сказал Сталин.
Я сказал, что вот уже полгода редактирую журнал и столкнулся при этом с большими трудностями в постановке общественных вопросов. На то, чтобы действительно делать журнал не только литературно — художественным, но и общественно — политическим, мне не хватает объема, потому что если мы, скажем, печатаем в номере повесть, то при объеме журнала в двенадцать листов и при желании дать читателю прочесть эту повесть всю сразу мы можем напечатать на этих двенадцати листах только ее, несколько стихотворений, одну — две критические статьи и библиографию, из-за этого приходится отказываться от очерков, от интересных научных материалов, а хотелось бы делать журнал более широкого профиля.
Я, начав говорить, запамятовал сказать, какой журнал я редактирую, и Жданов счел нужным меня представить как редактора «Нового мира».
— Так, — сказал Сталин. — А не получится другая история, что на такой журнал у вас не хватит материала? По тому, что я наблюдал, у редакторов имелась обратная тенденция — сдваивать номера. И «Знамя», и «Октябрь», и «Новый мир» — все сдваивали номера.
Я ответил, что «Новый мир» в этом году у нас ни разу не сдвоен, что я не даю его сдваивать, что материал у меня есть и что, если представить себе среднего интеллигента в провинции, который не имеет возможности выписывать три — четыре журнала, получает один, то хотелось бы, чтобы он получал более энциклопедический журнал, чтобы чтение такого журнала более всесторонне расширяло его культурный горизонт. К этому я добавил, что, начиная редактировать журнал, я прочел ряд номеров «Современника» и убедился в широте и многообразии тех вопросов, которые там ставились.
Сталин сказал:
— Это верно. Вот, например, журнал «Современный мир», журнал «Мир божий» (Жданов сказал, что вначале «Мир божий», а потом «Современный мир») ставили вопросы науки очень широко, и это, конечно, очень интересно для читателя. Правда, в то время не было таких журналов, как «Знание — сила», как «Техника — молодежи», и других научных журналов».
Оторвавшись от своей тогдашней записи, скажу сейчас, что, когда Сталин после приведенного мною примера с «Современником» вдруг назвал не только «Современный мир», но и «Мир божий», я в первую секунду подумал, не ослышался ли я, настолько странным мне показалось сочетание названия журнала «Мир божий» с тем, что именно его вспомнил Сталин в связи с «Современником». Только на следующий день или через день, с помощью Ленинской библиотеки познакомившись с комплектами журнала «Божий мир», я вполне пришел в себя от первого чувства удивления. «Божий мир», если я не ошибаюсь, сейчас вспоминая это, редактировал Богданович, один из наиболее левых и прогрессивных русских редакторов начала века. В журнале действительно были широко представлены научные темы, а с точки зрения общего направления журнал велся в духе легального марксизма, и название его «Мир божий» было просто удобной и облегчавшей ведение дела вывеской. Вот о каком журнале вспомнил Сталин, а вслед за ним Жданов.
Возвращаюсь к тогдашней записи:
«— А вы будете обеспечены материалом, если мы вам увеличим объем? — снова спросил Сталин.
Я сказал, что мы не были свободны от ошибок и раньше, располагая двенадцатью листами на номер, случалось, что мы ошибались, что ошибки и промахи возможны и в будущем, но я думаю, что материала окажется достаточно, я приложу все силы к тому, чтобы делать полноценный журнал при восемнадцатилистном объеме. Я попросил, чтобы — удастся или не удастся сделать полноценный журнал такого объема — попробовали на мне, и если я справлюсь с этим в течение второго полугодия сорок седьмого года, то можно поставить вопрос и о дальнейшем выходе журнала в таком объеме, а если не справлюсь, объем всегда можно сократить, вновь довести его до нынешнего.
— Да, — сказал Сталин, — журнал стал лучше. Вот и «Звезда» печатает интересные статьи, часто интереснее, чем в «Большевике», философские статьи, научные. «Звезда» и «Новый мир» стали заметно лучше. А все-таки не получится так, что у вас не будет материала? — в третий раз настойчиво повторил Сталин.
Я еще раз сказал, что приложу все усилия.
— Ну, что же, надо дать, надо попробовать, — сказал Сталин. — Но если вам дать, то все другие журналы шум поднимут. Как с этим быть?
Я попросил, чтоб сначала попробовали с нами, с «Новым миром», а там уже будет видно на нашем опыте.
Фадеев поддержал меня, сказав, что действительно до конца этого года стоит попробовать с одним журналом, а там будет видно.
— Хорошо, — согласился Сталин. — Давайте. Давайте увеличим «Новый мир». Сколько вам надо листов?
Я повторил то, что уже сказал, — восемнадцать.
— Дадим семнадцать листов, — сказал Сталин.
Я сказал, что поскольку в журнале будут созданы научный и международный отделы, то нам нужно будет увеличить и штаты. Мне нужны будут два заведующих отделами.
Сталин улыбнулся:
— Ну, это тоже дайте в комиссию.
Жданов сказал, что у него есть мое ходатайство о ставках для работников журнала.
— Нам не жалко денег, — сказал Сталин и еще раз повторил: — Нам не жалко денег.
Я объяснил, что заведующий отделом у нас получает всего тысячу двести рублей (разумеется, тогдашними деньгами).
— Решить и этот вопрос на комиссии, — сказал Сталин и в третий раз повторил: — Нам не жалко денег.
После этого Фадеев заговорил об одном писателе, который находился в особенно тяжелом материальном положении.
— Надо ему помочь, — сказал Сталин и повторил: — Надо ему помочь. Дать денег. Только вы его возьмите и напечатайте и заплатите. Зачем подачки давать? Напечатайте — и заплатите.
Жданов сказал, что он получил недавно от этого писателя прочувствованное письмо. Сталин усмехнулся.
— Не верьте прочувствованным письмам, товарищ Жданов.
Все засмеялись».
«Потом, когда все будет в прошлом, это место я еще дополню» — так стоит у меня в моей тогдашней записи. Чем же я собирался ее дополнить, когда все будет в прошлом? А вот чем. После того как Сталин отнесся положительно ко всем моим предложениям как редактора «Нового мира», после этого вдобавок еще ответил Фадееву про того писателя, имя которого я тогда, видимо, из чувства такта опустил, а сейчас не могу вспомнить: «Напечатайте — и заплатите», — я вдруг решился на то, на что не решался до этого, хотя и держал в памяти, и сказал про Зощенко — про его «Партизанские рассказы», основанные на записях рассказов самих партизан, — что я отобрал часть этих рассказов, хотел бы напечатать их в «Новом мире» и прошу на это разрешения.
— А вы читали эти рассказы Зощенко? — повернулся Сталин к Жданову.
— Нет, — сказал Жданов, — не читал.
— А вы читали? — повернулся Сталин ко мне.
— Я читал, — сказал я и объяснил, что всего рассказов у Зощенко около двадцати, но я отобрал из них только десять, которые считаю лучшими.
— Значит, вы как редактор считаете, что это хорошие рассказы? Что их можно печатать?
Я ответил, что да.
— Ну, раз вы как редактор считаете, что их надо печатать, печатайте. А мы, когда напечатаете, почитаем.
Думаю сейчас, спустя много лет, что в последней фразе Сталина был какой-то оттенок присущего ему полускрытого, небезопасного для собеседника юмора, но, конечно, поручиться за это не могу. Это мои нынешние догадки, тогда я этого не подумал, слишком я был взволнован — сначала тем, что решился сам заговорить о Зощенко, потом тем, что неожиданно для меня Жданов, который, по моему представлению, читал рассказы, сказал, что он их не читал; потом тем, что Сталин разрешил печатать эти рассказы.
Все могло быть, конечно, и несколько иначе, чем я тогда подумал, надо допустить и такую возможность: хотя Жданов и читал эти рассказы, он не хотел говорить со мной о них, зная или предполагая, что вскоре должна состояться там, у Сталина, встреча с писателями, в том числе и со мной. Допускаю, что до этой встречи, когда Жданов получил от меня рассказы Зощенко, он мог предполагать, что я решусь заговорить о них, и, заранее прочитав их, обговорил тоже заранее этот вопрос со Сталиным и поэтому ответил, что он не читал эти рассказы, чтобы посмотреть, как я после этого выскажу свое собственное мнение там, у Сталина. Таков один ход моих нынешних размышлений в пользу Жданова. Но могло быть и иначе, могло и не быть никакого разговора, мог Сталин не поверить или не до конца поверить в то, что Жданов не читал эти рассказы, тогда скрытая ирония его последних слов относилась, видимо, не ко мне.
Мне остается теперь привести конец своей записи сорок седьмого года с единственным дополнением — восстанавливаю опущенную мной тогда при записи фамилию.
Итак, окончание записи:
«— Какое ваше мнение о Ванде Василевской как о писателе? — спросил Сталин в конце разговора. — В ваших внутриписательских кругах? Как они относятся к ее последнему роману?
— Неважно, — ответил Фадеев.
— Почему? — спросил Сталин.
— Считают, что он неважно написан.
— А как вообще вы расцениваете в своих кругах ее как писателя?
— Как среднего писателя, — сказал Фадеев.
— Как среднего писателя? — переспросил Сталин.
— Да, как среднего писателя, — повторил Фадеев.
Сталин посмотрел на него, помолчал, и мне показалось, что эта оценка как-то его огорчила. Но внешне он ничем это не выразил и ничего не возразил. Спросил нас, есть ли у нас еще какие-нибудь вопросы. Мы ответили, что нет.
— Ну, тогда всё.
Сталин встал. За ним встали Жданов и Молотов.
— До свиданья, — Сталин сделал нам приветственный жест, который я впервые видел, когда много лет назад в первый раз проходил по Красной площади на демонстрации, — полуотдание чести, полупомахивание.
Сталин был вчера одет в серого цвета китель, в серые брюки навыпуск. Китель просторный, с хлястиком сзади. Лицо у Сталина сейчас довольно худощавое. Большую часть беседы он стоял или делал несколько шагов взад и вперед перед столом. Курил кривую трубку. Впрочем, курил мало. Зажигал ее, затягивался один раз, потом через несколько минут опять зажигал, опять затягивался, и она снова гасла, но он почти все время держал ее в руке. Иногда он, подойдя к своему стулу, заложив за спинку большие пальцы, легонько барабанил по стулу остальными. Во время беседы он часто улыбался, но когда говорил о главной занимавшей его теме — о патриотизме и о самоуничижении, лицо его было суровым и говорил он об этом с горечью в голосе, а два или три раза в его вообще-то спокойном голосе в каких-то интонациях прорывалось волнение».
Этими словами кончается сделанная тогда, четырнадцатого мая сорок седьмого года, запись о первой в моей жизни встрече со Сталиным или, точнее, о первой встрече с ним, в которой мне довелось принимать участие. Продолжалась она, сколько я помню, что-то около трех часов. Возможно, и в записи, и в моих дополнениях к ней какие-то подробности остались упущенными из-за несовершенства памяти, но преднамеренно я ничего не пропустил и, как мне кажется сейчас, ничего не забыл.
Через несколько дней после нашей встречи со Сталиным мне позвонил помощник Жданова Кузнецов и сказал, что я могу заехать к нему и познакомиться с теми материалами, которые мне могут пригодиться для работы.
Когда я приехал к Кузнецову, он дал мне папку с разными бумагами и сказал, что знакомит меня с ними по поручению Андрея Александровича. Еще едучи туда, я смутно предполагал, о чем может идти речь; там я убедился, что догадка моя была правильной. Это были материалы, связанные все с тем же так называемым делом Клюевой и Роскина. Материалов было не очень много, я прочел их все за тридцать или сорок минут, пока сидел в кабинете у Кузнецова, и, поблагодарив, вернул ему их. Кажется, Кузнецов был чуть-чуть удивлен, как я быстро это прочел, и, когда я поднялся, спросил меня:
— Значит, могу я сказать Андрею Александровичу, что вы познакомились с материалами?
Я ответил утвердительно и, поблагодарив, поехал домой.
Материалы не произвели на меня особого впечатления просго — напросто потому, что они мало добавляли к тому ощущению не столько важности самой этой истории с Клюевой и Роскиным, сколько важности проблемы уничтожения духа самоуничижения, как выразился Сталин. Я был не настолько наивен, чтобы не понимать, какой смысл имело ознакомление с этими дополнительными документами, — очевидно, вырвавшееся у меня замечание, что это скорее тема для пьесы, чем для романа, внушило мысль, что я готов взяться за пьесу на эту тему. Но на самом деле я был нисколько не готов к этому, и такое понимание моего чисто профессионального замечания меня встревожило. Пьесу на эту тему, в принципе, как мне казалось, я мог бы написать, но не сейчас, когда я сидел над повестью «Дым отечества», которой я решал, как умел, проблемы противопоставления подлинного советского патриотизма патриотизму поверхностному, квасному, связанному с самохвальством и неприятием всего чужого только потому, что оно чужое. Слова Сталина об уничтожении духа самоуничижения с особенной силой запали мне в душу именно потому, что о чем-то близком я писал в своей повести, писал о людях, гордых своей бедной, израненной, исстрадавшейся страной перед лицом всей послевоенной американской мощи и благополучия.
Увлеченный этой работой, которую я делал вдобавок на лично пережитом, выстраданном материале, я меньше всего хотел прерывать ее посередине и браться за пьесу на в чем-то близкую мне тему — о вреде и духовной нищете низкопоклонства, но на очень далеком и пока совершенно чужом для меня материале.
Я понимал, что попал в двусмысленное положение, проклинал себя за свою неосторожную реплику, но успокаивал себя тем, что после повести могу взяться и за пьесу, — и в конце концов убедил себя, что все как-нибудь да обойдется. Прямого поручения я не получал, прямых обязательств на себя не брал, и надо, зажмурив на все это глаза, писать повесть, пока не допишешь до конца, а там будет видно. Очевидно, решение было правильным и единственно возможным для меня как для писателя, и я не раскаивался в нем потом, хотя оно мне на поверку и довольно дорого обошлось.
К концу того лета я дописал свой «Дым отечества», в котором в первом, журнальном, его варианте оказалось больше одиннадцати печатных листов. О тех материалах, которые мне показывали, никто не напоминал, мне казалось, что все обошлось и непосредственно на эту тему, связанную с делом Клюевой и Роскина, пьесу или что-то другое пишет кто-то другой. А там, где мне давали смотреть эти материалы, наоборот, как выяснилось впоследствии, считали, что я сижу и пишу именно эту пьесу.
В сентябрьской книжке «Нового мира» были благополучно напечатаны десять рассказов Зощенко с его предисловием, а в ноябрьский номер была поставлена моя повесть. Самому мне она очень нравилась, пожалуй, ни до, ни после я не относился так увлеченно и так несамокритично ни к одной своей вещи. Мне искренне казалось, что я, хотя и являюсь редактором «Нового мира», вправе такую повесть напечатать на его страницах к такой дате, как тридцатилетие советской власти.
Может быть, по теме, по внутреннему субъективному, духовному заряду, который был в повести, это было не так уж неверно, но при этом повесть в том виде, в каком она была тогда напечатана, была еще очень сырой, многословной, неотжатой. Все это я хорошо понял семь лет спустя, когда готовил повесть к отдельному изданию, — не меняя ни ее духа и направленности, ни ее сюжета, я без особого труда отжал из нее, как лишнюю воду, без малого четыре листа из одиннадцати. Но тогда, в сентябре сорок седьмого года, мне казалось, что я снес золотое яичко, и в какой-то мере в этом заблуждении меня поддержали при обсуждении повести в Союзе Фадеев, Федин, Эренбург, которым при всей разности их вкусов пришелся по душе дух моей повести, и они, не обращая внимания на ее огрехи, все трое щедро похвалили меня за то главное, что в повести было.
Что до меня, то я ходил счастливый сделанным, мне казалось, что, показав высоту духа и нравственной силы людей, поднимающих из праха дотла разоренную войной, истерзанную Смоленщину, и противопоставив все это американскому самодовольству своим образом и уровнем жизни, я выполнил главный свой партийный долг, который внутренне числил за собой после долгой зарубежной поездки и сразу же впритык после нее поездки на Смоленщину. Не «Русский вопрос», получивший к тому времени Сталинскую премию первой степени, но все-таки написанный не о нас, а об американцах, а именно «Дым отечества», написанный о нас и о нашей, полной лишений, бедной и гордой жизни в первую послевоенную пору, был для меня исполнением моего главного долга. С этим сознанием я дожил до выхода журнала и до одного отнюдь не прекрасного дня — сейчас не помню уж даты, для этого нужно перелистать подшивку газеты «Культура и жизнь» за сорок седьмой год, — когда в этой газете появилась статья о моем любимом «Дыме отечества» с заголовком «Вопреки правде жизни», не обещавшим ничего хорошего.
Историю этой статьи, очень злой и очень невразумительной, а местами просто не до конца понятной в самом элементарном смысле этого слова, впоследствии рассказал мне работавший в то время в ЦК, затем мой соратник по «Литературной газете», ныне покойный Борис Сергеевич Рюриков. Моя повесть ему нравилась, и, когда Жданов, которому повесть тоже нравилась, спросил, кто готов быть автором статьи о «Дыме отечества» в органе агитпропа — директивной по своему духу и предназначению газете «Культура и жизнь», — Рюриков вызвался написать статью, положительно оценивавшую мою повесть. И вызвался, и написал, и она уже стояла в полосе газеты, когда вдруг все перевернулось. Жданов вернулся от Сталина, статью Рюрикова сняли из номера, к Жданову был вызван другой автор, которому предстояло вместо этой написать другую статью, и он в пожарном порядке, выслушав соответствующие указания, написал в задержанный номер то самое, что я на следующий день, не веря своим глазам, прочел. Почему не веря своим глазам? Потому что я понял, что так же, как удар по «Молодой гвардии» Фадеева, который наносился в том же номере газеты, на том же листе, разгромная статья о «Дыме отечества» появилась только потому, что повесть резко не понравилась Сталину. Других объяснений я не искал и правильно делал. А не верил я своим глазам потому, что был глубочайшим образом убежден в том, что эта повесть как раз то, что нужно сейчас людям, то, что укрепляет их веру в свои силы, их гордость своей страной в это тяжелое для нас время после войны, — словом, то, что, как мне казалось, никак не может быть не по душе Сталину. А вот, оказывается, все наоборот.
Я несколько раз читал и перечитывал статью, некоторые, так и оставшиеся для меня непонятными, ее пассажи напоминали испорченный телефон. Мне вдруг пришло в голову, что рассерженный Сталин мог что-то недоброжелательное и злое говорить об этой повести, — а говорил он, особенно когда прохаживался, не очень заботясь о том, хорошо ли слышат его, это мы после беседы со Сталиным почувствовали по собственной усталости от напряжения тех трех часов, в которые мы старались не пропустить ни одного сказанного им слова. Говорил, то приближаясь, то удаляясь, то громче, то тише, иногда оказываясь почти спиной к слушателям, начинал и заканчивал фразу, не успев повернуться. Так вот я и представил себе, что он выражал свое неудовольствие в формулировках, часть которых расслышали, а часть нет. Он был очень недоволен, но чем именно, расслышали не все и не до конца, а переспрашивать его, очевидно, было не принято.
Жданов, приехав от Сталина и передавая автору статьи то, что говорил Сталин, видимо, сказал то, что он услышал, а услышал он, очевидно, не все. Ну, а дальнейший испорченный телефон был уже на совести автора статьи, который не мог упустить ничего из того, что ему сказали и что он записал, но и не мог это связать в нечто достаточно последовательное и стройное. С неделю я ходил и думал о том, что же не так в моей повести. Меня упрекали за то, что люди в ней только говорят, а ничего не делают. Вся повесть рассказывала только о первом дне пребывания моего героя на родной земле, о первой его встрече с близкими, все остальное давалось в отрывочных воспоминаниях о войне и об Америке. Что он мог сделать за эти сутки дома? Я очень старался понять, чем недоволен Сталин. Я не злился ни на статью, ни на ее автора — это было бы все равно, что злиться на стул, о который ты ушибся, наткнувшись на него. Я был огорчен и хотел понять, что же я сделал не так. Почему от меня хотят чего-то другого, чем я сам хотел и мог сделать как коммунист, как человек, уверенный в своей правоте, и в то же время как человек, не могущий и не желающий внутренне поставить под сомнение правоту Сталина как высшего для меня авторитета в тех идейных и политических вопросах, о которых шла речь в повести.
Через неделю я попросил, чтоб меня принял Жданов, и, придя к нему, прямо сказал, что, не раз перечитав статью, в которой, очевидно, меня правильно критикуют, я все-таки не могу понять многих ее мест и не могу понять, почему повесть считается написанной вопреки правде жизни, и, что еще важнее, не могу понять, что мне нужно сделать с ней при дальнейшей работе для того, чтобы она оказалась не вопреки правде жизни? Я не скрывал ни своей растерянности, ни меры своего огорчения и непонимания.
Жданов терпеливо около часа пробовал объяснить мне, что не так в моей повести. Он не выходил при этом за пределы статьи, напечатанной в «Культуре и жизни», и говорил о том же самом — умнее, тоньше и интеллигентней, чем это было написано. Но чем больше он мне объяснял, тем явственнее у меня возникало чувство, что он сам не знает, как мне объяснить то, что написано в статье; что он, как и я, не понимает, ни почему моя повесть так плоха, как об этом написано, ни того, что с ней дальше делать. Мне доводилось до этого видеть Жданова и резким, и желчным, правда, не по отношению лично ко мне. На этот раз я шел к нему, вполне готовый к резкому разговору с его стороны. Но он, наоборот, был терпелив, доброжелателен и, как мне почудилось, внутренне не убежден в том, что мне говорил, и поэтому чуть-чуть растерян. Тогда я не знал, что ему самому понравилась моя повесть и что он вынужден был говорить мне о ней то, что расходилось с его первоначальным собственным восприятием ее. Не знал, но что-то, удивившее меня, в этом разговоре ощутил.
Я поблагодарил за беседу, ушел, так ничего нового для себя и не вынеся из нее, так и не поняв, что в ней не так и что мне с ней надо делать.
Еще какое-то время я думал над переработкой повести, над тем, что же поправить в ней, сформулировал даже на случай разных, несомненно, предстоявших объяснений на этот счет какую-то более или менее связную, во всяком случае более связную, чем в статье, цепь критических замечаний, над которыми мне предстоит думать, но на самом деле думать больше над этим не мог. Твердо для себя решив и дав себе слово по крайней мере пять лет не заглядывать в повесть, не мучиться этим, написал в издательство, где она должна была выходить, что прошу расторгнуть со мной договор, так как печатать «Дым отечества» не буду.
Через некоторое время после беседы со Ждановым меня пригласил к себе его помощник Кузнецов и спросил меня, как у меня обстоят дела с тою пьесою, с материалами для которой он меня ознакомил весной после нашей встречи с товарищем Сталиным. Нуждаюсь ли я еще в какой-нибудь помощи, кроме той, которая мне была уже предоставлена, когда меня познакомили с материалами.
До этого я был так оглушен всем, происшедшим с «Дымом отечества» и фадеевской «Молодой гвардией» — это тоже было тогда немалое потрясение, — что мне не приходило в голову ставить в связь напечатанный мною «Дым отечества» с не написанной мною пьесой. Только тут, сидя у Кузнецова, я понял, что, наверное, такая связь существует, что, помимо всего прочего, от меня вовсе не ждали этой повести, а ждали той пьесы, написание которой числилось как бы за мною с того самого дня, когда мы были у Сталина. Настроение после «Дыма отечества» у меня было отвратительное, тяжелое — хуже не бывает, а в таких случаях — я это уже знал за собой — меня привести в равновесие и поставить на ноги могло только одно — работа, чем немедленней, тем лучше. И я вдруг, ни минуты не размышляя, сказал Кузнецову, что пьесу я писать буду, что сажусь за нее в ближайшие дни и что помощь мне нужна, нужен серьезный консультант, крупный ученый, который мог бы ввести меня в курс некоторых микробиологических проблем, с которыми связано будет действие пьесы.
Короче говоря, на следующий день я был у министра здравоохранения Ефима Ивановича Смирнова, еще через два дня встретился с академиком Здродовским, который и стал моим консультантом при работе над пьесою «Чужая тень».
Академик медицинских наук, профессор Павел Феликсович Здродовский был одним из крупнейших наших микробиологов старшего поколения. Среди его заслуг перед наукой и людьми была выработка вакцины против брюшного тифа, применение которой сыграло большую роль в годы Великой Отечественной войны, да и после нее. Здродовский, разумеется, не несет ни малейшей ответственности за сочиненную мною пьесу, за ее всецело авторскую, не имеющую к нему отношения концепцию. Предмет, по которому я с ним консультировался, был совершенно иного рода. По замыслу, возникшему у меня, как только я стал думать о пьесе, главный герой ее, человек субъективно абсолютно честный, но при этом честолюбивый и склонный придавать немалое значение паблисити своих научных достижений за границей, работает над микробиологической проблемой, которая как палка о двух концах: с одной стороны, должна привести к гуманнейшим результатам, которые он и имеет в виду, а с другой стороны, может быть использована в опасных и человеконенавистнических целях. И именно этого, давая данные о своем открытии за границу, он и не учитывает. Это ему просто не приходит в голову — возможность такого использования его открытия.
Идея эта была целиком умозрительная, и родилась она не от знания или понимания каких-либо проблем микробиологии, а просто от того, что я хотел написать пьесу не о негодяе или о предателе, а о субъективно честном человеке, который под влиянием всего того, что мы вкупе называли тогда низкопоклонством перед заграницей, неожиданно ставит себя в положение потенциального предателя интересов своей страны. Так выглядела умозрительная концепция. Изложив ее Здродовскому, я стал допытываться у него, может ли в микробиологической науке, в какой-то ее отрасли, практически сложиться такой ход исследования проблемы, при котором она в разных аспектах решения может приносить и обнадеживающие человечество результаты, и результаты угрожающие.
После нескольких дней размышлений и двух или трех разговоров Здродовский подсказал мне с чисто научной точки зрения ту реально возможную основу, на которой я в принципе мог строить пьесу. Речь шла о двух этапах исследовательской работы над надежной вакциной для таких почти неизлечимых болезней, как, скажем, чума. На первом этапе исследования — выработка такой силы препарата, который концентрировал бы в себе всю мощь этой болезни, был бы, так сказать, производным ее в геометрической прогрессии. И только на следующем, втором этапе — на основе этого убийственной силы препарата его обратное ослабление, тоже в геометрической прогрессии, в итоге доводимое до производства вакцины, предохраняющей от заболевания, скажем, чумою. Если отделить первую часть исследования от второй, методику создания пика воздействия препарата от методики ее последующего ослабления и множественного превращения в запасы вакцины, то данные, полученные в результате этого первого этапа работы, в принципе могли быть использованы людьми, заботящимися не о создании вакцины, а о создании оружия бактериологической войны. Вот, собственно, и вся та теоретическая подоснова конфликта, который мог возникнуть в пьесе и который меня интересовал.
Выяснив для себя эту чисто теоретическую сторону дела, я спустя еще несколько дней поехал в Саратов, в микробиологический институт, уже давно занимавшийся работой над созданием и совершенствованием вакцин против туляремии и чумы. Поехал уже не для того, чтобы обсуждать там проблемы, которые я собирался поставить в пьесе, а для того, чтобы хоть немножко представить себе тот мир людей, ту институтскую научную обстановку, в которой должно было происходить действие туманной мною пьесы. Учитывая ее тему, разумеется, я и не помышлял искать тут каких-нибудь прототипов или запасаться наблюдениями непосредственно для пьесы. Я просто хотел почувствовать атмосферу примерно такого научного учреждения, о котором должна была идти речь в пьесе.
Поездка оказалась интересной, я встретился там, в институте, с несколькими превосходными людьми, подлинные рассказы которых о своей, порой носившей и опасные, и драматические черты, работе могли бы стать основой для реальной пьесы о реальных людях нашей науки, а не для того дурного и печально для меня памятного сочинения, которым в итоге оказалась написанная мною в начале сорок восьмого года драма «Чужая тень».
Писал я ее без дурных намерений, писал мучительно, насильственно, заставляя себя верить в необходимость того, что я делаю. А особенно мучился потому, что зерно правды, которое воистину присутствовало в словах Сталина о необходимости уничтожить в себе дух самоуничижения, уже в полной мере присутствовало в написанной вольно, от души, может быть, в чем-то неумело, но с абсолютной искренностью и раскованностью повести «Дым отечества». В «Чужую тень» это зерно правды было притащено мною искусственно, окружено искусственно созданными обстоятельствами и в итоге забито такими сорняками, что я сейчас только с большим насилием над собою заставил себя перечесть эту стыдную для меня как для писателя конъюнктурную пьесу, которую я не должен был тогда, несмотря ни на что, писать, что бы ни было, не должен был. И в конце концов мог не написать, могло хватить характера воспротивиться этому самоизнасилованию. Сейчас, через тридцать с лишним лет, стыдно, что не хватило. За то, что в сорок первом году написал стихи «Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?», нисколько не стыдно, потому что это был крик души, пусть крик души человека, в чем-то тогда зрячего, а в чем-то слепого, если говорить об адресате стихотворения, но все-таки крик души. А за «Чужую тень» стыдно. И нисколько не жаль себя за свои тогдашние самомучения, связанные с нею. Так мне и надо было.
Чтоб уже не возвращаться к этой невеселой для меня теме «Чужой тени», несколько забегая вперед, скажу тут о ее последующей трагикомической истории.
Написав эту пьесу весной сорок восьмого года, я сделал то, что не делал никогда ни до, ни после этого. Не отдавая ее ни в печать, ни в театры, послал экземпляр пьесы Жданову и написал короткую записку помощнику Сталина Поскребышеву, что я закончил пьесу, о возможности написания которой шла речь в мае прошлого года во время встречи писателей с товарищем Сталиным, и экземпляр ее направил Жданову.
Поступил я именно так, вопреки своему обыкновению никуда ничего не посылать, потому что после своего разговора с Кузнецовым знал, что написание мною этой пьесы воспринимается как выполнение взятого на себя поручения или задания — не знаю уж, как лучше сказать, что будет ближе к тогдашней моей мысленной терминологии, — и, стало быть, то, что я сделал, следует представить на прочтение туда, где мне поручили это сделать. Такова была логика этого поступка, расходившаяся с моей обычной логикой: написал — неси в редакцию. Куда же еще?
Пьеса была послана Жданову не то в апреле, не то в мае сорок восьмого года. Месяцев восемь о ней не было ни слуху ни духу.
Я не напоминал о ней, не хотел, да и не считал возможным. Жданов заболел, потом умер. Я бросил думать о пьесе, обрубил все связанное с нею в памяти еще раньше, еще летом. Все время, остававшееся у меня свободным от работы в Союзе писателей и в «Новом мире», занимался новой книгой стихов «Друзья и враги», которую писал с таким же или почти с таким же увлечением, как «Дым отечества». Чем дальше, тем сильнее было ощущение, что я как бы перешагнул через эту пьесу. Шагнул прямо из «Дыма отечества» в книгу стихов, и бог с ней, с этой «Чужой тенью».
Но в один из январских дней сорок девятого года, когда я вечером сидел и работал в «Новом мире», неожиданно вошел помощник редактора «Известий» — «Новый мир» тогда помещался во флигеле, примыкавшем к редакции «Известий», — и сказал, что к ним в редакцию звонил Поскребышев и передал, чтоб я сейчас же позвонил товарищу Сталину. Вот номер, по которому я должен позвонить. Я было взялся за телефон, но, сообразив, что это номер «вертушки», которой у меня в «Новом мире» не было, пошел в «Известия». Редактора «Известий» то ли не было в кабинете, то ли из деликатности он вышел — я оказался один на один с «вертушкой». Я снял трубку и набрал номер — не помню уже сейчас, что сказал Сталин: «Сталин слушает» или «Слушаю», что-то одно из двух. Я поздоровался и сказал, что это звонит Симонов.
Дальнейший разговор с одним пропуском, который я дополню, я записал, вернувшись в редакцию «Нового мира». Записал, думаю, абсолютно точно. Вернее, это был не разговор, а просто то, что считал нужным сообщить мне Сталин, прочитавший «Чужую тень». Вот она, эта запись:
«Я прочел вашу пьесу «Чужая тень». По моему мнению, пьеса хорошая, но есть один вопрос, который освещен неправильно и который надо решить и исправить. Трубников считает, что лаборатория — это его личная собственность. Это неверная точка зрения. Работники лаборатории считают, что по праву вложенного ими труда лаборатория является их собственностью. Это тоже неверная точка зрения. Лаборатория является собственностью народа и правительства. А у вас правительство не принимает в пьесе никакого участия, действуют только научные работники. А ведь вопрос идет о секрете большой государственной важности. Я думаю, что после того, как Макеев едет в Москву, после того, как карьерист Окунев кончает самоубийством, правительство не может не вмешаться в этот вопрос, а оно у вас не вмешивается. Это неправильно. По-моему, в конце надо сделать так, чтобы Макеев, приехав из Москвы в лабораторию и разговаривая в присутствии всех с Трубниковым, сказал, что был у министра здравоохранения, что министр докладывал вопрос правительству и правительство обязало его, несмотря на все ошибки Трубникова, сохранить Трубникова в лаборатории и обязало передать Трубникову, что правительство, несмотря на все совершенное им, не сомневается в его порядочности и не сомневается в способности его довести до конца начатое им дело. Так, я думаю, вам нужно это исправить. Как это практически сделать, вы знаете сами. Когда исправите, то пьесу надо будет пустить».
После этого, помнится, было не записанное мною «До свидания», и разговор на этом кончился.
Пропуск в начале этой записи сделан был мною тогда из соображений такта. С записью разговора все могло случиться, вдруг мне придется ее кому-то показать, хотя в принципе я этого не собирался делать, но все-таки могло случиться. А Сталин в начале разговора, сказав, что он прочел мою пьесу, довольно раздраженно добавил:
— Только вчера получил и прочел, полгода не сообщали, что она там у них лежит, и вообще… — тут он остановился, видимо, решив не продолжать эту тему, вернувшись к разговору о самой пьесе, записанному мною.
Я подумал тогда и думаю так и сейчас, что Жданов или по каким-то причинам, ему ведомым, или по не ведомым мне сложившимся обстоятельствам — а обстоятельства в последние месяцы жизни у него, кажется, были сложные — не говорил или не имел случая сказать Сталину о том, что получил на прочтение мою пьесу, или не считал нужным это делать. Надо полагать, что пьеса попала к Сталину после того, как ему доложили об оставшемся после смерти Жданова архиве и представили опись этого архива. И в тех словах, которые я слышал по телефону, присутствовало раздражение — не знаю, на покойного ли Жданова, может, и на Поскребышева, который знал о моей пьесе, но тоже не счел нужным сказать о том, что она была мною послана.
Я привел эту незаписанную часть разговора, потому что в ней присутствуют тоже некоторые черточки для характеристики Сталина — и в его раздражении на то, что ему сразу не доложили о чем-то, к чему он когда-то имел прямое касательство, и в его словах: «Вчера получил и прочел». Записав сразу содержание разговора и перечитав его два или три раза, я понял, что, во-первых, в нем изложено не просто мнение о пьесе, а почти текстуальная программа переделки ее финала и, во-вторых, именно это, не откладывая в долгий ящик, мне предстоит сделать.
Надо сказать, что при той жесткости постановки вопроса о низкопоклонстве и преклонении перед заграницей, которая тогда существовала, я сам бы не решился закончить пьесу тем, что предложил Сталин. Кончалась она у меня по-другому, гораздо хуже для героя пьесы профессора Трубникова, который, по своему честолюбию, соединенному с доверчивостью, чуть было не сделал достоянием тех, кому это вовсе не следовало знать, научный секрет государственной важности. Над ним в конце пьесы висел дамоклов меч, и оставалось неизвестным, чем все это для него кончится. Предложение Сталина, видимо, отражало какие-то складывавшиеся у него в тот момент настроения; говоря «правительство», он в третьем лице разумел себя и таким образом выносил по отношению к Трубникову то мягкое и полное доверия решение, которого, казалось бы, трудно было ожидать от Сталина, тем более в связи с этой проблемой.
Откровенно говоря, такой поворот в финале пьесы был мне по душе. Раз сам Сталин прощал Трубникова в пьесе за то, о чем он говорил, когда дело касалось реальной жизни, с такой нетерпимостью, я тем более готов был изменить к лучшему судьбу своего героя. Мне даже почудилось за этим предложением Сталина, за этим разговором с ним какое-то предстоящее смягчение крайностей в том вопросе, который рассматривался в пьесе. Крайностей, которые чем дальше, тем больше беспокоили совесть многих людей нашего поколения, в том числе и мою совесть.
Увы, почти в те же самые дни мы получили наглядное подтверждение, что это не так. Но обо всем этом я расскажу позже, а сейчас о том трагикомическом аккорде, которым закончилась история с моей пьесой «Чужая тень».
Я сделал в финале пьесы исходившие от Сталина поправки, которые, повторяю, были мне по душе, сделал их буквально за один день, пьесу успели напечатать в первом, январском номере журнала «Знамя», после чего она была вместе с другими пьесами выдвинута, уже не помню кем — комиссией по драматургии или журналом, — на Сталинскую премию. Этого, будучи в отлучке, я не знал и попал прямо на секретариат Союза писателей, на котором предварительно, до начала заседания Комитета по Сталинским премиям, обсуждались произведения, выдвинутые теми или другими литературными организациями на Сталинскую премию.
Среди других выдвинутых вещей я увидел и название своей пьесы. Не мое дело было что бы то ни было говорить на эту тему.
В дальнейшем я иногда набирался решимости и писал, как это было, скажем, с романом «Товарищи по оружию», что прошу снять роман с обсуждения. Но в данном случае при сложившихся обстоятельствах я не мог говорить ни за свою пьесу, ни против нее, мне оставалось только молчать. А между тем некоторые из присутствовавших на секретариате моих коллег стали довольно резко выступать не столько против пьесы в целом, сколько против ее неправильного, слишком мягкого, слишком либерального, по чьему-то выражению, даже чуть ли не капитулянтского конца. Одни говорили, что Трубников непременно должен быть наказан на глазах у зрителя; другие предлагали сделать так, как у меня и было вначале, — чтобы над ним в финале продолжал висеть дамоклов меч будущего возмездия. Но с тем, чтоб правительство его простило, выступавшие были решительно не согласны и считали, что такой конец пьесы никак не позволяет выдвигать ее на Сталинскую премию. Я сидел и молчал, чувствуя всю глупость и собственного, и чужого положения. О своем разговоре по телефону со Сталиным по поводу пьесы я никому до тех пор не говорил, считал для себя неловким ссылаться на это и даже не видел за собой такого права. В журнале и в театре, куда я передал пьесу для постановки, я сказал только, что если возникнут какие-либо препятствия, то пусть обратятся по этому вопросу в ЦК и поступят соответственно тому, что там будет сказано. Но препятствий не возникло, и в ЦК никому обращаться не пришлось. Затруднительное положение возникло лишь в этот момент на секретариате. Затруднительное и даже, называя вещи своими именами, довольно глупое. Я сидел и молча слушал, как мои коллеги бичевали либерализм Сталина, проявившийся в финале моей пьесы. Очевидно, ждали моих возражений, но их не последовало. Удивленный моим молчанием, Фадеев даже спросил меня: «Ну, а что ты скажешь?» Я сказал, что, поскольку речь идет о моей пьесе, мне, наверное, ничего говорить не следует и я ничего говорить не буду.
Тем дело и закончилось. На том этапе, который представлял собой секретариат Союза писателей, пьеса была отведена с обсуждения. Но впереди были другие этапы, и Фадееву предстояло этим заниматься еще и как председателю Комитета по Сталинским премиям. Было бы неправильным и некрасивым с моей стороны не рассказать доверительно хотя бы ему одному, с глазу на глаз, о парадоксальности сложившейся ситуации. В тот же день, через несколько часов, поймав его одного, я это и сделал. Первой реакцией Фадеева был безудержный хохот, он долго и заливисто хохотал и сразу после этого, без малейшей паузы, стал совершенно серьезен.
— Почему ты заранее не сказал, почему поставил нас всех в такое глупое положение?
Я довольно резонно ответил на это, что, во-первых, Сталин не поручал мне рассказывать об этом телефонном разговоре и о том, что финал пьесы переделан именно так, как он предложил, в нескольких репликах даже текстуально точно; во-вторых, распространяться об этом и даже намекать на это мне казалось некрасивым с моей стороны и даже не очень приличным; а в — третьих, откуда я мог заранее знать, что на секретариате в несколько голосов сразу так кинутся на этот финал. Я никак не ожидал этого, наоборот, он нравился мне самому, и мне казалось, что он понравится и другим.
— Да, посадил ты нас в лужу, — снова заливисто расхохотался Фадеев и снова, сразу став серьезным, сказал: — Другой раз ты должен хотя бы мне сразу говорить о таких вещах. А я, в свою очередь, — тебе.
На этом и кончился наш тогдашний разговор с то хохотавшим, то злившимся на меня Фадеевым.
В Москве «Чужую тень» поставил МХАТ, в Ленинграде — Большой драматический. Несмотря на все отрицательные стороны пьесы — ее грубую прямолинейность, ложную патетику, фальшивые ноты в рассуждениях о науке и низкопоклонстве в одних местах, ряд психологических натяжек в других, Ливанов и Болдуман силой своих незаурядных актерских дарований как-то вытащили свои роли, сыграли их, совершив почти невозможное. То же самое можно сказать и о Полицеймако в Большом драматическом театре.
Пьесу и спектакли густо хвалили в печати, ей была присуждена Сталинская премия, но все это среди многих происходивших в том сорок девятом году тяжелых событий было уже для меня как-то безрадостно или почти безрадостно.
А теперь, закончив эту историю, вернусь примерно на год назад, к 31 марта 1948 года, когда происходила вторая, хотя и не полно, с пропусками, но все-таки записанная мною встреча со Сталиным. Но прежде чем привести свои записи, несколько слов еще об одном заседании, на котором я присутствовал. Было это заседание в июне сорок седьмого года, недели через две после того, как Сталин принимал нас по литературным вопросам. Записи об этом заседании у меня не осталось, очевидно потому, что оно происходило вскоре после разговора Сталина с нами и ничего существенного к этому разговору не добавило. Как я сейчас вспоминаю, о литературе на этом заседании почти не говорилось, во всяком случае, ничего из говорившегося не запомнилось. Заседание было более официальное, более многолюдное, пожалуй, более короткое, чем все другое, на которых я присутствовал. На этом заседании одновременно обсуждались и премии по науке и технике, и премии по литературе и искусству. Впоследствии они всегда обсуждались отдельно. Докладчиком от ЦК по литературе и искусству был Жданов, по науке и технике — Вознесенский.
Одно из воспоминаний, связанных у меня с этим заседанием, как раз о Вознесенском. Это было бы неправдой, если б я сказал, что этот человек, которого я видел впервые, мне понравился, как говорится, лег на душу. Было другое: он запомнился мне не потому, что понравился, а потому, что чем-то удивил меня, видимо тем, как резковато и вольно он говорил, с какой твердостью объяснял, отвечая на вопросы Сталина, разные изменения, по тем или иным причинам внесенные в первоначальные решения Комитета по премиям в области науки и техники, как несколько раз настаивал на своей точке зрения — решительно и резковато. Словом, в том, как он себя вел там, был некий диссонанс с тональностями того, что произносилось другими, — и это мне запомнилось.
Что же до литературы и искусства, то запомнилась история, внешне вполне юмористическая, но, если можно так выразиться, обоюдно, с двух сторон оперенная некоторой циничностью. Обсуждался фильм «Адмирал Нахимов». Когда Жданов как председатель комиссии доложил о присуждении этому фильму первой премии и перечислил всех, кому предполагалось дать премию за фильм, Сталин спросил его, всё ли по этому фильму. Допускаю, что спросил, уже заранее зная, что нет, не всё, и заранее забавляясь тем, чему предстояло произойти.
— Нет, не всё, — сказал Жданов.
— Что?
— Вот есть письмо, товарищ Сталин.
— От кого?
Жданов назвал имя очень известного и очень хорошего актера.
— Что он пишет?
Он пишет, сказал Жданов, что будет политически не совсем правильно, если его не включат в число актеров, премированных по этому фильму, поскольку он играет роль турецкого паши, нашего главного противника, и если ему не дадут премии, то это может выглядеть как неправильная оценка роли нашего противника в фильме, искажение соотношения сил.
Не поручусь за точность слов, но примерно так изложил это письмо Жданов.
Сталин усмехнулся и, продолжая усмехаться, спросил:
— Хочет получить премию, товарищ Жданов?
— Хочет, товарищ Сталин.
— Очень хочет?
— Очень хочет.
— Очень просит?
— Очень просит.
— Ну раз так хочет, так просит, надо дать человеку премию, — все еще продолжая усмехаться, сказал Сталин. И, став вдруг серьезным, добавил: — А вот тот актер, который играет матроса Кошку, не просил премии?
— Не просил, товарищ Сталин.
— Но он тоже хорошо играет, только не просит. Ну человек не просит, а мы дадим и ему, как вы думаете?
За исключением изложения той просьбы, которую пересказал Жданов, в дальнейшем помню все слово в слово и готов поручиться за точность сказанного, но комментировать это охоты нет.
Пожалуй, следует, поскольку я упомянул здесь Вознесенского, как известно, погибшего два с лишним года спустя — ни за что ни про что по так называемому «Ленинградскому делу», привести здесь одно связанное с Вознесенским воспоминание — не мое.
Тридцатью годами позже того заседания, на котором поведение Вознесенского привлекло мое внимание, один из тогдашних министров — Иван Владимирович Ковалев, с которым мы оказались в одной больнице между чахлыми, недавно посаженными деревцами, вспомнил, как, в качестве министра железнодорожного транспорта сопровождая Сталина в одну из его первых послевоенных поездок, по времени относившуюся примерно к тем же годам, о которых у меня шла речь, услышал от Сталина одобрительные слова о Вознесенском:
— Вот Вознесенский, чем он отличается в положительную сторону от других заведующих, — как объяснил мне Ковалев, Сталин иногда так иронически «заведующими» называл членов Политбюро, курировавших деятельность нескольких подведомственных им министерств. — Другие заведующие, если у них есть между собой разногласия, стараются сначала согласовать между собой разногласия, а потом уже в согласованном виде довести до моего сведения. Даже если остаются несогласными друг с другом, все равно согласовывают на бумаге и приносят согласованное. А Вознесенский, если не согласен, не соглашается согласовывать на бумаге. Входит ко мне с возражениями, с разногласиями. Они понимают, что я не могу все знать, и хотят сделать из меня факсимиле. Я не могу все знать. Я обращаю внимание на разногласия, на возражения, разбираюсь, почему они возникли, в чем дело. А они прячут это от меня. Проголосуют и спрячут, чтоб я поставил факсимиле. Хотят сделать из меня факсимиле. Вот почему я предпочитаю их согласованиям возражения Вознесенского.
Так, по воспоминаниям Ковалева, говорил тогда, где-то за год или за два до того, как уничтожить его, Сталин о Вознесенском и о стиле работы Вознесенского, который ему, Сталину, тогда нравился.
Слушать это спустя тридцать лет было страшновато.
А сейчас о той встрече, которая записана первого апреля сорок восьмого года, на следующий день после того, как она произошла. Вот эта запись с некоторыми сделанными мною тогда же комментариями, а все дополнения, которые сейчас мне кажутся необходимыми, я сделаю после того, как приведу всю тогдашнюю запись со всеми тогдашними комментариями.
Вот она, эта запись:
«Хочу по горячим следам записать основное, что говорилось по вопросам литературы в связи со вчерашним, 31 марта 1948 года, обсуждением Сталинских премий.
К Сталину на этот раз был вызван Фадеев и редакторы толстых журналов — Панферов, Вишневский, я и Друзин. В ходе обсуждения выдвинутых на премии вещей Сталин заговорил о том, что количество премий — элемент формальный и если появилось достойных премии произведений больше, чем установлено премий, то можно число премий и увеличить. Это и было тут же практически сделано, в том числе за счет введения не существовавших ранее премий третьей степени.
Свою мысль о том, что формальные соображения не должны быть решающими, Сталин несколько раз повторил и потом, в ходе заседания, и вообще в том, как он вел обсуждение, совершенно ясно проявилась тенденция — расширить и круг обсуждавшихся произведений, и круг обсуждаемых авторов, и если окажется достаточное количество заслуживающих внимания вещей, то премировать их пошире. Думаю, что, наверное, в связи с расширением этого круга и были впервые на такое заседание вызваны редакторы всех толстых журналов.
При обсуждении ряда вещей Сталин высказывал соображения, — имеющие для нас общелитературное значение. Когда обсуждали «Бурю» Эренбурга, один из присутствовавших (докладывавший от комиссии ЦК по премиям в области литературы и искусства Д. Т. Шепилов), объясняя, почему комиссия предложила изменить решение Комитета и дать роману премию не первой, а второй степени, стал говорить о недостатках «Бури», считая главным недостатком книги то, что французы изображены в ней лучше русских.
Сталин возразил:
— А разве это так? Разве французы изображены в романе лучше русских? Верно ли это?
Тут он остановился, ожидая, когда выскажутся другие присутствовавшие на заседании. Мнения говоривших, расходясь друг с другом в других пунктах, в большинстве случаев совпали в том, что русские выведены в романе сильно и что когда изображается заграница, Франция, то там показаны и любовь французских партизан и коммунистов к Советскому Союзу, показана и роль побед Советского Союза и в сознании этих людей, и в их работе, а также в образе Медведя показана активная роль русских советских людей, попавших в условия борьбы с фашистами в рядах французского Сопротивления. Подождав, пока все выскажутся, Сталин, в общем, поддержал эти соображения, сказав:
— Нет, по-моему, тоже неверно было бы сказать, что французы изображены в романе Эренбурга сильнее русских, — потом, помолчав, задумчиво добавил: — Может быть, Эренбург лучше знает Францию, это может быть. У него есть, конечно, недостатки, он пишет неровно, иногда торопится, но «Буря» — большая вещь. А люди, что ж, люди у него показаны средние. Есть писатели, которые не показывают больших людей, показывают средних, рядовых людей. К таким писателям принадлежит Эренбург. — Сталин снова помолчал и снова добавил: — У него хорошо показано в романе, как люди с недостатками, люди мелкие, порой даже дурные люди в ходе войны нашли себя, изменились, стали другими. И хорошо, что это показано».
Далее в моей записи стоит пробел и заголовок: «Несколько слов примечаний». Привожу их, напоминая еще раз, что примечания тогдашние:
«Это не было достаточно прямо сказано, но лично у меня было ощущение двух разных пониманий недостатков Эренбурга, которые выявились в этом разговоре. В речи того, кто первым говорил при обсуждении романа, получила свое отражение критика, уже прозвучавшая в нашей печати. Указывая на недостатки романа Эренбурга в изображении советских людей, она взяла крен в сторону эстетическую и морально — психологическую. Говорилось о том, что эти люди показаны хуже, слабее французов, во-первых, с точки зрения того, как они показаны, и во-вторых, с точки зрения того, как изображены их душевные изгибы, психологические нюансы, тонкости и так далее. Именно с этой точки зрения критики пришли к выводу, что французы в романе Эренбурга показаны сильнее, а русские — слабее.
Сталин (как я по крайней мере его понял) подошел к этому вопросу с другой, главной стороны — что советские люди показаны в романе сильнее французов в буквальном смысле этого слова. Они сильней, на их стороне сила строя, который стоит за ними, сила их морали, сила воли, сила убежденности, сила правды, сила их советского воспитания. Со всех этих точек зрения они в романе сильней французов. И, несмотря на все недостатки «Бури», а эти недостатки абсолютно точно сформулированы простым замечанием: «Может быть, он лучше знает Францию», сделанным с выделением слова «знает», — они, эти недостатки, не перевешивают положительного эффекта понятия «сильнее» в буквальном смысле этого слова».
На этом заканчиваются мои тогдашние примечания и продолжается запись происходившего на заседании:
«В связи с Эренбургом заговорив о писателях, изображающих рядовых людей, Сталин вспомнил Горького. Вспомнил его вообще и роман «Мать» в частности:
— Вот «Мать» Горького. В ней не изображено ни одного крупного человека, все — рядовые люди.
Еще более подробный разговор, чем о «Буре», возник, когда стали обсуждать роман Веры Пановой «Кружилиха». Фадеев, объясняя причины, по которым на Комитете по Сталинским премиям отвели этот первоначально выдвинутый на премию роман, стал говорить о присущем автору объективизме в изображении действующих лиц и о том, что этот объективизм подвергался критике в печати.
Вишневский, защищая роман, долго говорил, что критика просто-напросто набросилась на эту вещь, только и делали, что ругали ее.
— По-моему, и хвалили! — возразил Сталин. — Я читал и положительные статьи.
(Скажу в скобках, что по всем вопросам литературы, даже самым незначительным, Сталин проявлял совершенно потрясшую меня осведомленность.)
— Что это — плохо? — возразив Вишневскому, спросил Сталин у Фадеева. — Объективистский подход?
Фадеев сказал, что объективистский подход, по его мнению, это безусловно плохо.
— А скажите, — спросил Сталин, — вот «Городок Окуров», как вы его оцениваете?
Фадеев сказал, что в «Городке Окурове» за всем происходящим там стоит Горький с его субъективными взглядами. И в общем-то ясно, кому он отдает свои симпатии и кому — свои антипатии…
— Но, — добавил Фадеев, — мне лично кажется, что в этой вещи слишком многое изображено слишком черными красками и авторская тенденция Горького, его субъективный взгляд не везде достаточно прощупываются.
Выслушав это, Сталин спросил:
— Ну, а в «Деле Артамоновых» как? На чьей стороне там Горький? Ясно вам?
Фадеев сказал, что ему ясно, на чьей стороне там Горький.
Сталин немножко развел в стороны руки, усмехнулся и полуповторил-полуспросил, обращаясь и ко всем, и ни к кому в особенности:
— Ясно? — И перед тем, как вернуться к обсуждению «Кружилихи», сделал руками неопределенно насмешливый жест, который, как мне показалось, означал: а мне, например, не так уж ясно, на чьей стороне Горький в «Деле Артамоновых».
Кто-то из присутствующих стал критиковать «Кружилиху» за то, как выведен в ней предзавкома Уздечкин.
— Ну, что ж, — сказал Сталин. — Уздечкины у нас еще есть.
Жданов подал реплику, что Уздечкин — один из тех, в ком особенно явен разлад между бытием и сознанием.
— Один из многих и многих, — сказал Сталин. — Вот все критикуют Панову за то, что у людей в ее романе нет единства между личным и общественным, критикуют за этот конфликт. А разве это так просто в жизни решается, так просто сочетается? Бывает, что и не сочетается. — Сталин помолчал и, ставя точку в споре о «Кружилихе», сказал про Панову: — Люди у нее показаны правдиво.
Потом перешли к обсуждению других произведений. Вдруг в ходе этого обсуждения Сталин спросил:
— А вот последние рассказы Полевого — как они, по вашему мнению?
Ему ответили на это, что рассказы Полевого неплохи, но значительно слабее, чем его же «Повесть о настоящем человеке».
— Да, вот послушайте, — сказал Сталин, — что это такое? Почему под этим рассказом стоит «литературная редактура Лукина»? Редакция должна редактировать рукописи авторов… Это ее обязанность. Зачем специально ставить «литературная редактура Лукина»?
Панферов в ответ на это стал объяснять, что во всех изданиях книжного типа всегда ставится, кто редактор книги. А когда вещь печатается в журнале — кто именно ее редактировал, обычно не ставится, а если при публикации указывается ее литературный редактор, то это имеет особый смысл — как форма благодарности за большую редакторскую работу.
Сталин не согласился.
— В каждом журнале есть редакция. Если у автора большие недостатки и если он молод, редакция обязана помогать ему, обязана редактировать его произведения. Это и так ее обязанность, — жестко подчеркнул Сталин, — зачем же эти слова «литературная редактура»? Вот, например, в третьем номере «Знамени» напечатано: «Записки Покрышкина при участии Денисова». Тоже литературная редакция Денисова и благодарность за помощь Денисову?
Вишневский стал объяснять Сталину, как родилась эта книга, что Покрышкин хотел рассказать эпизоды из своей жизни, но что всю книгу от начала и до конца написал полковник Денисов, и они вместе избрали наиболее деликатную форму: Покрышкин благодарит Денисова за помощь.
— Если написал Денисов, — сказал Сталин, — так пусть и будет написано: Денисов о Покрышкине. А то так много писателей у нас появится.
На эту тему говорили еще довольно долго и подробно. А общий смысл того, к чему вел этот разговор Сталин, и смысл тех реплик, которые он подавал в ходе этого разговора, заключается, насколько я понимаю, в следующем. Редактура, даже самая большая и глубокая, есть дело редакции, дело общественное, за которое нет оснований требовать особой благодарности, почета и публичности. А что касается вещи, которую пишет один человек, а подписывает другой, и всяческих «спасательных» форм вроде «литературная редакция» или «литературная запись», благодарность за помощь и прочее, — все это вызвало у Сталина категорические возражения. Это вопрос сложный, и нам, конечно, предстоит его продумать, ибо выходы из него безусловно есть — и такой, как соавторство, и такой, как честное предисловие, описывающее метод работы. Наконец, возможна и такая форма, как «книга такого — то о таком-то, написанная по его собственным рассказам», причем в этом случае предисловие может принадлежать или тому, кто писал книгу, или тому, кому принадлежит устный рассказ, положенный в ее основу.
После разговора, связанного с рассказами Полевого, зашла речь о книге Василия Смирнова «Сыновья». Фадеев характеризовал ее и объяснил, почему она была отведена на Комитете, — в связи с ее не особенно актуальной сейчас тематикой, изображением деревни начала этого века.
Сталин сказал задумчиво:
— Да, он хорошо пишет, способный человек, — потом помолчал и добавил полувопросительно-полуутвердительно: — Но нужна ли эта книга нам сейчас?!
Панферов заговорил о книгах Бабаевского и Семушкина, настаивая на том, что их можно было бы включить в список премированных произведений, сделав исключение, премировав только первые, вышедшие части романов и таким образом поощрив молодых авторов.
Сталин не согласился.
— Молодой автор, — сказал он. — Что значит молодой автор? Зачем такой аргумент? Вопрос в том, какая книга — хорошая ли книга? А что же, что молодой автор?
Эти его слова не были отрицательной оценкой названных Панферовым книг. Наоборот, об этих книгах он отозвался, в общем, положительно. А его замечание — что значит молодой автор? — носило в данном случае принципиальный характер».
Вот то, что было записано тогда, включая соображения, возникшие у меня после заседания и перед записью.
А теперь несколько дополнений, связанных с тем заседанием, которые я, по понятным причинам, не мог тогда записать, и некоторые мои нынешние воспоминания и размышления.
Первое дополнение связано с тем, что Сталин имел обыкновение — я видел это на нескольких заседаниях, не только на том, о котором сейчас пишу, — брать с собой на заседание небольшую пачку книг и журналов. Она лежала слева от него под рукой, что там было, оставалось неизвестным до поры до времени, но пачка эта не только внушала присутствующим интерес, но и вызывала известную тревогу — что там могло быть. А были там вышедшие книгами и напечатанные в журналах литературные произведения, не входившие ни в какие списки представленных на премию Комитетом. То, о чем шла, точнее, могла пойти речь на заседании в связи с представлениями Комитета по Сталинским премиям, Сталин, как правило, читал. Не могу утверждать, что он всегда читал все. Могу допустить, что он какие-то произведения и не читал, хотя это на моей памяти ни разу прямо не обнаружилось. Все, что во время заседания попадало в поле общего внимания, в том числе все, по поводу чего были расхождения в Союзе писателей, в Комитете, в комиссии ЦК, — давать, не давать премию, перенести с первой степени на вторую или наоборот, — все, что в какой-то мере было спорно и вызывало разногласия, он читал. И я всякий раз, присутствуя на этих заседаниях, убеждался в этом.
Когда ему приходила в голову мысль премировать еще что-то сверх представленного, в таких случаях он не очень считался со статусом премий, мог выдвинуть книгу, вышедшую два года назад, как это в мое отсутствие было с моими «Днями и ночами», даже напечатанную четыре года назад, как это произошло в моем присутствии, в сорок восьмом году. В тот раз я сидел рядом с редактором «Звезды» Друзиным, сидел довольно далеко от Сталина, в конце стола. Уже прошли и поэзия, и проза, и драматургия, как вдруг Сталин, взяв из лежавшей слева от него пачки какой-то журнал, перегнутый пополам, очевидно открытый на интересовавшей его странице, спросил присутствующих:
— Кто читал пьесу «Вороний камень», авторы Груздев и Четвериков?
Все молчали, никто из нас пьесы «Вороний камень» не читал.
— Она была напечатана в сорок четвертом году в журнале «Звезда», — сказал Сталин. — Я думаю, что это хорошая пьеса. В свое время на нее не обратили внимания, но я думаю, следует дать премию товарищам Груздеву и Четверикову за эту хорошую пьесу. Какие будут еще мнения?
По духу, который сопутствовал этим обсуждениям на Политбюро, вопрос Сталина «Какие будут еще мнения?» не предполагал, что иных мнений быть не может, но в данном случае их действительно не предполагалось, поскольку стало ясно, что никто, кроме него самого, пьесу не читал.
Последовала пауза. В это время Друзин, лихорадочно тряхнув меня за локоть, прошептал мне в ухо:
— Что делать? Она была напечатана у нас в «Звезде», но Четвериков арестован, сидит. Как, сказать или промолчать?
— Конечно, сказать, — прошептал я в ответ Друзину, подумав про себя, что если Друзин скажет, то Сталин, наверное, освободит автора понравившейся ему пьесы. Чего ему стоит это сделать? А если Друзин промолчит сейчас, ему дорого это обойдется потом — то, что он знал и не сказал.
— Остается решить, какую премию дать за пьесу, какой степени? — выдержав паузу, неторопливо сказал Сталин. — Я думаю…
Тут Друзин, решившись, наконец решившись, выпалил почти с отчаянием, очень громко:
— Он сидит, товарищ Сталин.
— Кто сидит? — не понял Сталин.
— Один из двух авторов пьесы, Четвериков сидит, товарищ Сталин.
Сталин помолчал, повертел в руках журнал, закрыл и положил его обратно, продолжая молчать. Мне показалось, что он несколько секунд колебался, как поступить, и, решив это для себя совсем не так, как я надеялся, заглянул в список премий и сказал:
— Переходим к литературной критике. За книгу «Глинка»…
После критики перешли к кино, тут хорошо помню, как я испытал некую мстительную радость, когда среди других фильмов была дана премия и фильму «Русский вопрос», к которому я имел отношение только как автор первоисточника сценария — пьесы. Все остальное было сделано Михаилом Ильичом Роммом, он был не только режиссером, но и автором сценария, для которого я написал всего несколько фраз, показавшихся Ромму необходимыми для последнего монолога героя пьесы Смита. Я получил премию за «Русский вопрос» годом раньше и, разумеется, в числе премированных на этот раз не фигурировал. А некоторая мстительная радость возникла у меня вот почему. Еще в последние годы войны при руководителе кинематографии был создан независимый от него художественный совет. Туда входили различные известные деятели искусства, литературы, журналисты, философы, председателем его был Леонид Федорович Ильичев, человек, уму и незаурядным способностям которого я отдавал должное, но при этом стойко и однообразно не любил его на всех тех постах, на которых он в разное время находился. Не любил за тот способ употребления своего ума и способностей, который он избирал в различных конфликтных ситуациях.
Я не бывал на художественном совете чуть ли не с первого послевоенного лета — не то два, не то три года, и явился на него, когда обсуждался фильм «Русский вопрос». Характер этого обсуждения после долгого перерыва поразил меня и по сути, и по форме. По форме тон, который задавал председатель, был желчным и грубым, а по сути от Ромма требовали того, чего не было в пьесе «Русский вопрос»: отношения с Америкой за время, пока делалась картина, сильно обострились, ужесточились, и от Ромма хотели, что бы эту новую ситуацию сильно ожесточившихся отношений он механически перенес в фильм, действие которого, как и пьесы, разворачивалось сразу же после окончания войны в той атмосфере, которая тогда существовала, а не в той, которая сложилась к сорок восьмому году. В сущности, от него требовали, чтобы он сделал другой фильм, этот к выпуску на экран не рекомендовали, причем все это еще сопровождалось грубыми высказываниями по адресу актеров и актрис — а надо добавить, главную роль в «Русском вопросе» играла жена Ромма, превосходная актриса Кузьмина, — что усугубляло и грубость высказываний.
Я там, на этом художественном совете, не согласился ни с существом упреков, адресованных Ромму, ни с формой. А по поводу формы в заключение сказал, что не узнаю художественного совета. Видимо, за то время, что я не был на его заседаниях, здесь успели привыкнуть к грубости и даже к хамству, не украшающим наше собрание. Примерно так. Некоторые из моих коллег сочли себя оскорбленными, на следующем собрании художественного совета постановили осудить мое непозволительное поведение.
Вот почему присуждение Ромму за его фильм Сталинской премии первой степени было для меня связано с некоей долей мстительной личной радости или, если угодно, удовлетворения. А в принципиальном плане, что было, конечно, куда важнее, давало, как мне тогда показалось, некоторую почву для борьбы со сверхконъюнктурщиками, подчинившись которым нам пришлось бы в связи то с теми, то с другими общественными изменениями и веяниями чуть не каждый год заново черкать и дописывать раньше написанные вещи.
Я вспомнил всю эту, в общем, не столь значительную историю, имевшую отношение ко мне и к Ромму, потому что она весьма характерна для тех, во многих отношениях очень трудных ситуаций, когда отнюдь не всегда дело кончалось таким образом, как у нас с Роммом, порою как раз наоборот к немалому, а порою просто-напросто стыдному ущербу для нашего искусства и нашей литературы.
Обсуждение всех премий было уже закончено, но Сталин, к концу обсуждения присевший за стол, не вставал из-за стола, похоже было, что он собирался сказать нам нечто, припасенное к концу встречи. Да мы в общем-то и ждали этого, потому что существовал один вопрос, оставленный без ответа. Список премий по поэзии открывался книгой Николая Семеновича Тихонова «Югославская тетрадь», книгой, в которой было много хороших стихов. О «Югославской тетради» немало писали и вполне единодушно выдвигали ее на премию. Так вот эту премию как корова языком слизала, обсуждение велось так, как будто никто этой книги не выдвигал, как будто она не существовала в природе. Это значило, что произошло что-то чрезвычайное. Но что? Я и другие мои товарищи не задавали вопросов на этот счет, думая, что если в такой ситуации спрашивать, то это должен сделать Фадеев — как старший среди нас, как член ЦК. Но Фадеев тоже до самого конца так и не задал этого вопроса про «Югославскую тетрадь» Тихонова — или не считал возможным задавать, или знал что-то, чего не знали мы, чем не счел нужным или не счел себя вправе с нами делиться.
Просидев несколько секунд в молчании, Сталин, обращаясь на этот раз не к нам, как он это делал обычно, а к сидевшим за столом членам Политбюро, сказал:
— Я думаю, нам все-таки следует объяснить товарищам, почему мы сняли с обсуждения вопрос о книге товарища Тихонова «Югославская тетрадь». Я думаю, им надо это знать, и у них, и у товарища Тихонова не должно быть недоумений.
В ответ на этот полувопрос-полуутверждение кто-то сказал, что да, конечно, надо объяснить. В общем, согласились со Сталиным.
Должен в связи с этим заметить, что, как мне показалось, в тех случаях, когда какой-то вопрос заранее, без нашего присутствия, обговаривался Сталиным с кем-то из членов Политбюро или со всеми ними, Сталин не пренебрегал возможностью подчеркнуть нам, что он высказывает общее мнение, а не только свое. Другой вопрос, насколько это было намеренно и насколько естественно, что шло тут от привычки и давнего навыка, что от сиюминутного желания произвести определенное впечатление на тех представителей интеллигенции, которыми мы являлись для Сталина на этих заседаниях.
— Дело в том, — сказал Сталин, — товарищ Тихонов тут ни при чем, у нас нет претензий к нему за его стихи, но мы не можем дать ему за них премию, потому что в последнее время Тито плохо себя ведет.
Сталин встал и прошелся. Прошелся и повторил:
— Плохо себя ведет. Очень плохо.
Потом Сталин походил еще, не то подыскивая формулировку специально для нас, не то еще раз взвешивая, употребить ли ту, что у него была наготове.
— Я бы сказал, враждебно себя ведет, — заключил Сталин и снова подошел к столу. — Товарища Тихонова мы не обидим и не забудем, мы дадим ему премию в следующем году за его новое произведение. Ну, а почему мы не могли сделать это сейчас, надо ему разъяснить, чтоб у него не возникло недоумения. Кто из вас это сделает?
Сделать это вызвался я. Примерно на этом и кончилось заседание. Никаких более подробных объяснений, связанных с Тито, Сталин давать не счел нужным.
Задаю себе сейчас вопрос: почему я сам вызвался тогда идти к Тихонову и рассказывать ему о том, что произошло с его «Югославской тетрадью»? Может быть, помимо дружбы с Тихоновым, желания по-дружески взять на себя этот нерадостный для него разговор играло роль и то, что я, пожалуй, острее других моих товарищей чувствовал какое-то назревшее неблагополучие в наших отношениях с Тито.
Осенью сорок седьмого года как глава маленькой делегации, в которую входили один из секретарей ЦК комсомола Шелепин и заведующая московским парткабинетом, в прошлом секретарь партийной организации Союза писателей Хвалебнова, я был в Югославии на конгрессе Народного фронта, — это был последний конгресс, на котором присутствовали в те годы представители Советского Союза. Когда мы прилетели в Белград, на аэродроме никого из нашего посольства не было, нас встречал один из членов тогдашнего Политбюро Югославии, председатель их Госплана Андрия Хебранг. Мы поехали прямо на конгресс, потому что мы, как почти всегда в те годы, опаздывали или прибывали к самому началу, — так и не заехав в посольство.
На конгрессе Народного фронта мы сидели, как и все другие делегации, на сцене, в первом из нескольких, косо спускавшихся вниз рядов. Председательствовавший на конгрессе Сретен Жуйович вел заседание сверху, из-за наших спин, а перед нами был зал, и в его широком центральном проходе на двух отдельно поставленных прямо перед сценой креслах на протяжении нескольких дней заседаний сидели Тито и Ранкович. Прямо перед нами, в нескольких метрах от нас, глаза в глаза.
Я не видел Тито три года, с осени сорок четвертого, и он, особенно рядом с одетым в пиджачную пару Ранковичем, показался мне каким-то холеным и броско нарядным. Некоторая барственная повадка была ему свойственна и тогда, в сорок четвертом году. За эти три года она стала куда заметней, так же, как и его забота о своей внешности и костюме.
Было и что-то странное в этом сидении в креслах — вроде и со всеми, но отдельно от всех, вроде и демократично, но как-то афишированно. Особенно это меня поразило, зацепило мое внимание в первый день; потом, в следующие дни — а конгресс продолжался три или четыре дня — я уже стал привыкать к этому, потому что Тито вместе с Ранковичем бывал на конгрессе каждый день.
В посольстве нашем, куда мы приехали в первый вечер, была какая-то странная сумятица. Посол Лаврентьев, которому Шелепин со свойственной ему прямотой высказал все, что думал о том, что нас не встретили и не позаботились проинформировать, и пообещал об этом безобразии рассказать в Москве, в ответ говорил что-то невнятное. Мол, ни о чем особенно информировать ему нас нет необходимости, о своих наблюдениях и выводах он информирует Москву, а нам предстоит сделать то же самое на основании наших наблюдений. Он явно не хотел входить с нами ни в какие подробности обстановки, предоставив нас самим себе.
Из последующих впечатлений этой поездки в мою память запали два.
Во-первых, прием у Тито в каком-то загородном или пригородном дворце. Прием этот происходил в самом дворце и — благо, погода была еще хорошая, стояла золотая осень — в парке и на открытой площадке около дворца. Тито был необыкновенно нарядно одет, в каком-то весьма шедшем ему мундире, с перстнями на пальцах. Он был гостеприимен и, я бы сказал, обаятелен, если бы это обаяние не было каким-то подчеркнутым, осознанным и умело эксплуатируемым. Он был радушен со всеми, с нами тоже, и вообще в его обращении с нами не чувствовалось ничего, что бы говорило о грядущем изменении отношений. Но сам он был не таким, как в сорок четвертом году. Другим, чем в первый ноябрьский праздник в освобожденном Белграде. Там он был первым среди своих товарищей, неоспоримо первым, а здесь была встреча вождя с народом, встреча, требовавшая если не кликов, то шепота восхищения.
Сейчас, думая о том, что это мне напоминает, я вдруг вспомнил по ассоциации завершающую или одну из завершающих сцен в фильме «Падение Берлина». Сцену, которая была вставлена туда по предложению самого Сталина: Сталин, величественно сыгранный Геловани, нарядный, непохожий на себя самого, среди встречающих его на аэродроме в Берлине ликующих людей. Кто знает, почему Сталин при его уме и иронии заставил вкатить в фильм эту чудовищную по безвкусице сцену, кстати, не имевшую ничего общего ни с исторической действительностью, потому что ничего этого не было, ни с его личностью, ибо он был в этом фильме, в этой его сцене совершенно не похож на самого себя? У меня есть только одно объяснение: Сталин считал, что главное лицо победившей страны — Верховный Главнокомандующий ее армии, он должен остаться в памяти народа этакой выбитой на бронзе медалью, этаким помпезным победителем, нисколько не похожим на него самого в жизни. Если это так, то за этим стояло высокомерие, презрение к простым людям, якобы неспособным понять его роль в истории без этой пышной и дешевой сцены апофеоза.
Я вспомнил сейчас именно эту резавшую мне и тогда глаз сцену из фильма «Падение Берлина» по ассоциации с тем явлением Тито народу, которое мы наблюдали в Белграде с чувством внутренней неловкости и неодобрения.
То, как вел себя Тито на этом приеме, не понравилось всем нам троим. А то, как вел себя Жуйович, провожавший нас на аэродром, встревожило нас, меня уж во всяком случае. Мы сидели и говорили с ним на аэродроме так долго, как только можно было, пили вино, снова говорили. Он был очень взволнован чем-то, ему явно не хотелось нас отпускать. Задерживалась раза два посадка на самолет, может быть, даже был задержан на сколько-то минут и сам отлет. Было такое ощущение, как будто этот человек в последнюю минуту что-то хочет нам сказать или хотя бы что-то дать понять. Но что? За этим чувствовалось какое-то непонятное еще нам неблагополучие.
И Хебранг, встречавший нас, и Жуйович, провожавший нас, были людьми, о которых я потом слышал — сначала много хорошего, потом много плохого. Но так или иначе оба они впоследствии погибли там, в Югославии, в ходе того конфликта, который возник у Сталина с Тито. В сочетании с их драматическим финалом все это с большой остротой запечатлелось в моей памяти.
Тогда, когда я ехал к Николаю Семеновичу Тихонову рассказывать ему о происшедшем на заседании, предстоящая трагедия еще только разворачивалась, но слова Сталина о Тито, хотя и были для меня в его устах абсолютной неожиданностью, все-таки упали на почву какого-то моего собственного недоумения и ощущения неблагополучия или, во всяком случае, не полного благополучия.
Раз я уж затронул эту тему, надо в том, что касается лично меня, договорить все до конца, тем более что, как я уже убедился за то время, пока пишу этот черновик, тема «Сталин глазами человека моего поколения» во многих случаях почти неотделима от темы, порой еще более внутренне трудной: «Ты сам своими собственными глазами много лет спустя».
Как-то, дело было уже после заседания Коминформа и полного разрыва отношений с Тито, меня вызвали и, познакомив с рядом материалов ТАСС, связанных с выступлениями Тито и с выступлениями председателя Союзной Скупщины Моше Пиаде, предложили мне откликнуться на эти выступления политическим памфлетом и добавили, что я должен рассматривать это как прямое поручение товарища Сталина.
Что теперь сказать об этом вышедшем из-под моего пера так называемом политическом памфлете. Мне стоило немалого труда заставить себя перечесть это сочинение, написанное с постыдной грубостью и, самое главное, ложное по своим предпосылкам и по своему материалу. Тогда меня вызвал по поводу этой статьи Молотов. Усадив меня у себя в кабинете за стол для заседаний и сев рядом со мной, он показал мне мою статью, лист за листом, не передавая ее мне в руки. Оказывается, статью правил Сталин и поручил Молотову прежде, чем передать статью в печать, познакомить меня, автора, с этой правкой. Не буду повторяться, я уже сказал то, что думаю сейчас об этой статье, она была хороша и без правки, но правка, и довольно значительная, еще больше усугубляла грубость статьи. Финальный абзац, целиком написанный Сталиным, и название, им же придуманное, доводили эту грубость до геркулесовых столбов. Спросив для проформы, согласен ли я с той правкой, которая сделана в статье, Молотов, так и не дав мне в руки ни одной страницы, оставил ее у себя, простился со мной, а на следующий день я имел возможность прочесть ее именно в этом виде. Так выглядело все, связанное с этой статьей, не украсившей ни моего жизненного, ни моего журналистского пути.
Если вспомнить наши тогдашние ощущения, то во мне, например, в связи с югославскими делами боролись разные чувства. Чему-то из писавшегося про Югославию в статьях и документах я верил, чему-то не верил; на душе была тяжесть от всего происшедшего между нами и югославами. Было хорошо понятное мне сейчас стремление уверить себя в том, что югославское руководство больше, чем наше, виновато в том, что произошло. Но самое главное противоречие состояло в том, что я ведь помнил Югославию сорок четвертого года, помнил по тем временам не только Тито, а и других людей, многих и разных, в частности Кочу Поповича, с которым мы не один день и не одну ночь провели бок о бок в Южной Сербии и который стал затем начальником Генерального штаба, а после этого государственным секретарем и, стало быть, разделял политику и позицию Тито. А облик Кочи Поповича, все воспоминания о нем не могли связаться для меня с понятием предательства. И вообще все вместе не укладывалось в нечто единое. Вспоминая Югославию сорок четвертого года, я не мог мысленно совместить это с тем, что, если верить всему, что писалось и говорилось, происходило там теперь.
Поездка в пятьдесят пятом году нашей правительственной делегации во главе с Хрущевым в Югославию, возрождение отношений и та откровенность, с которой при обсуждении итогов этой поездки на пленуме ЦК говорилось о мере нашей ответственности, — все это было мне не просто по душе, а снимало тот камень, который на ней лежал. Тогда же, в пятьдесят пятом году, готовясь к выступлению на московском городском партийном активе, я решил, что с моей стороны будет непорядочным умолчать о собственной доле ответственности. Повторяться на такие темы довольно мучительно, поэтому приведу здесь сказанное тогда:
«Мне было, например, горько, что в годы разрыва с Югославией и я как журналист вложил свою лепту в тот хор, прямо скажем, брани по адресу руководителей Югославии, в тот хор, который не один год звучал со страниц наших газет. Я думаю о том, что, конечно, можно сейчас сослаться на ту чудовищную дезинформацию, которую преступно стремилась поставлять шайка Берии — Абакумова; можно сослаться на очень авторитетные документы, которые появились в результате ошибочного доверия к этой чудовищной дезинформации, но я вот сейчас спрашиваю себя не в порядке бития в грудь — это никому из нас не нужно, — а вот так, просто по-человечески: ну, безусловно, можно было поверить в то, что кто-то в той же Югославии не оправдал доверия народа, оказался не тем, кем его считали, это бывает в истории, мы знаем. Но как все-таки можно было до конца поверить в то, что почти все буквально люди, которые в годы войны руководили югославской компартией, были во главе правительства, командовали партизанскими бригадами, дивизиями и корпусами, что все они якобы оказались не теми, за кого их считал народ. Нельзя было в это верить, такая доверчивость не делает чести никому, так, говоря просто по-человечески, быть не могло и не было».
Остается добавить, что и после пятьдесят пятого года в течение ряда лет я не находил в себе сил поехать в Югославию даже тогда, когда возникла прямая необходимость побывать в тех местах, где я был во время своего пребывания у партизан. Мне было стыдно ехать, все из-за той же проклятой статьи. Многое из происходившего за последующее десятилетие там, в Югославии, не привлекало моих симпатий к личности Тито, скорее наоборот, он все чаще вспоминался мне в своем дворце при том явлении вождя народу, о котором я уже упоминал, и все реже вспоминался поющим вместе с командирами партизанских корпусов «Эй, комроты, даешь пулеметы!» в сорок четвертом году на празднике Седьмого ноября. Все так, но та давнишняя статья моя про этого человека оставалась ложью, и мне продолжало быть стыдно за нее.
Когда я наконец все-таки решился, придравшись к случаю — к какой-то международной туристической конференции, которая происходила в Сплите и на которую меня пригласили, — взял и поехал в Югославию, побывал не только в Сплите, но и в местах, знакомых мне по военному времени, при всем радушии и добром отношении всех югославов, с которыми я встречался, при их явно выраженном нежелании вспоминать тяжелые страницы прошлого, для меня оставался очень важным и болезненным вопрос: захочет ли теперь встретиться со мной Коча Попович? Захочет ли он этого после той, несомненно читанной им в бытность не то начальником Генерального штаба, не то государственным секретарем, моей статьи?
В то время, когда я приехал в Югославию, он был не то что не удел, но занимал пост скорее весьма почетный, чем сопряженный с реальной властью. Я через третьих лиц сообщил ему, что хотел бы с ним встретиться, если у него есть на то желание. Он подтвердил, что готов встретиться, назначил час и заехал за мной в гостиницу, чтобы, как выяснилось, вместе пойти пообедать в какой-то любимый рыбный ресторанчик. Был он все такой же легкий, худощавый, как раньше, очень похожий на себя самого, каким был двадцать с лишним лет назад. В разговоре с этим человеком, который, по первому моему впечатлению, остался таким же, каким был, и к которому я продолжал чувствовать прежнюю симпатию, я не уклонился от тяготившего меня воспоминания о моей статье. Он задумался, помолчал, потом сказал, что время было очень плохое, что вы, конечно, были во многом виноваты. «Но и мы тоже были виноваты», — добавил он с грустью. Мне вообще показалось, что он был грустен. Было нечто в обстановке, сложившейся к тому времени в Югославии, тяготившее его, было что-то не то или не совсем то, о чем он мечтал в сорок четвертом году, когда мы ездили с ним на одном «джипе», и, может быть, воспоминания об этом даже обострили его нынешнюю грусть.
Мы довольно долго просидели вместе, потом он меня завез обратно в гостиницу, и мы расстались. Его все узнавали в лицо — на улице, в ресторане, в гостинице, но он вел себя, совершенно не замечая этого. Накинув плащ, он быстрой походкой вышел на улицу. Было что-то в этом человеке, во всей его худощавой легкости, во всем его спартанстве, в его одновременной скромности и резкости, в его смешанной с иронией грусти, никак не сочетавшееся с обликом другого человека, с обликом Тито. Наверное, облик того и другого был частью их человеческой сути. Это были два очень разных человека, и у меня тогда осталось ощущение, хотя на эту тему между нами не было сказано ни единого слова, что им, кажется, уже давно, уже не первый, далеко не первый год в чем-то не по дороге.
Однако хочу вернуться к своим размышлениям, связанным с тем заседанием Политбюро в сорок восьмом году. Хотя о нем сказано и так уже много, а все же что-то остается недосказанным. Во-первых, о присутствующих. Заседания эти — и в сорок восьмом, и в последующие годы, вплоть до пятьдесят второго, скажу обо всех сразу, в одном месте, — никогда не были многолюдными. Были там обычно члены Политбюро и начальник или заместитель начальника управления агитации и пропаганды ЦК, на заседаниях бывали министр кинематографии, председатель Комитета по делам искусств и трое-четверо писателей — секретарей Союза. Однажды к ним добавились еще два редактора толстых журналов и редакторы, совмещавшие свои должности с секретарством в Союзе, как это было у нас с Вишневским. Вот и все. По-моему, бывал на этих заседаниях от композиторов еще и Тихон Хренников. Чтобы хоть когда-нибудь были актеры, или художники, или театральные и кинорежиссеры, я что-то не могу вспомнить. Словом, все это было очень немноголюдно. От этого и доверительная тональность — не столько заседаний, сколько разговоров с нами, — с которой Сталин вел эти встречи. Члены Политбюро высказывались мало, особенно на литературные темы. Видимо, литература, особенно после смерти Жданова, воспринималась всецело как епархия самого Сталина, и только его.
Иногда высказывались о живописи, о которой судили по репродукциям, представленным Комитетом по делам искусств. Иногда о спектаклях, чаще о кино. Это, пожалуй, понятно: ощущения, что кто-нибудь, кроме Сталина, следит за литературой, у меня не было. Каждый, конечно, что-то читал, один — одно, другой — другое, а кино смотрели все вместе и зачастую не единожды. Должно быть, поэтому и возникал общий разговор на тему, премию какой степени дать той или иной кинокартине. И когда возникали разные мнения в этой единственной области, в кино, Сталин прибегал к голосованию:
— Давайте проголосуем, кто за первую премию, кто за вторую.
Сам он руки не поднимал, смотрел на поднятые руки и мысленно, очевидно, присоединял себя к тем или к другим и говорил результат:
— Значит, даем первую.
Или:
— Значит, даем вторую.
Ничего похожего при обсуждении всех других сфер искусства на моей памяти не происходило. Когда дело касалось кино, Сталин больше общался с членами Политбюро, чем с нами, приглашенными, интересовался их мнением, а не нашим. Не могу припомнить, чтобы он во время этих заседаний когда-нибудь спросил наше мнение о кинофильмах. С литературой же все было наоборот. Он ничьего мнения, кроме нашего, о произведениях литературы, на моей памяти, не спрашивал.
Помню, как на последнем заседании, на котором я присутствовал — оно происходило уже в пятьдесят втором году не в кабинете Сталина, а в небольшом зале заседаний со столиками-пюпитрами, когда мы пришли и стали садиться подальше, ожидая, что поближе к Сталину сядут вошедшие вместе с ним члены Политбюро, — он полушутя-полусерьезно сказал:
— Давайте вы садитесь поближе, они-то тут каждый день бывают, а с вами мы редко видимся. (Или: вы редкие гости здесь — что-то в этом духе было сказано.)
Но я тогда не понимал до конца того значения, которое придавал Сталин этим встречам, происходившим раз в год. Только уже после его смерти, узнав, как редко в последние годы он принимал людей, — его по многу месяцев не видели даже и некоторые члены Политбюро, все общение его с миром происходило преимущественно через посредство нескольких людей, никаких сколько-нибудь широких встреч не бывало, — только тогда я задним числом сообразил, что в последние годы жизни Сталин, приглашая нас к себе, на эти заседания, и проводя их неторопливо и, я бы сказал, весьма терпимо к высказыванию и повторению разных мнений, — он как бы раз в год пробовал прощупать пульс интеллигенции через нас самих и через разговор с нами о тех книгах, которые пишутся и издаются. С этим был связан, по-моему, не только характер обсуждений, но и манера поведения Сталина. Мне много раз доводилось читать и слышать о том, как он бывал жесток, груб с людьми, в том числе с теми военными людьми, с которыми он повседневно работал и на которых опирался в годы войны. Так вот, такого Сталина я на этих заседаниях ни разу не видел. С нами он ни разу не был груб — это не значит, что другие люди рассказывали о нем неправду, смешно было бы так думать, люди рассказывали о нем правду, и их рассказы заслуживают полного доверия, а просто раз в год, кладя руку на пульс интеллигенции в нашем лице, он считал нужным создавать у нас последовательно именно такое представление о себе, какое он хотел создать. В этом представлении о нем грубости не было места.
Перечитывая сейчас свою запись сорок восьмого года, обратил внимание на одну фразу Сталина, на которую раньше, перечитывая эту запись не раз, не обращал внимания. Подумал о том, какая позиция стояла за его фразой «Нужна ли эта книга нам сейчас?», сказанной Сталиным о хорошо написанной, по его же собственному мнению, книге Василия Смирнова о русской деревне начала века. Что значила эта фраза, лишившая премии хорошо написанную, по мнению самого Сталина, книгу? То, что Сталин был прежде всего политик, а потом уже ценитель художественных достоинств литературы? Разумеется, и это. Но не только это. Говоря о Сталине как о политике, в связи с этим конкретным примером стоит, как мне кажется, подумать о его в высшей степени утилитарном подходе к истории.
Добавлю, что в принципе утилитарное отношение к истории в некоторых случаях сочеталось у Сталина с личным отношением к тем или иным историческим личностям, в действиях которых он таким образом получал дополнительную опору в истории. Я еще вернусь к этому, сначала же хочу сказать об историческом утилитаризме Сталина шире, как об общей концепции, включавшей в себя и личный момент.
Начну с того, что Сталин никогда не высказывался против увлечения исторической тематикой вообще и никогда не призывал писателей к непременному изображению современности как самого главного и неотложного для них дела. Таких высказываний у него я не помню. Но, анализируя книги, которые он в разные годы поддерживал, вижу существовавшую у него концепцию современного звучания произведения, концепцию, в конечном счете связанную с ответом на вопрос: «Нужна ли эта книга нам сейчас?» Да или нет?
Если начать не с литературы, а с истории, то для меня несомненно, что замечания Сталина, Жданова и Кирова к конспектам учебников новой истории и истории СССР, появившиеся в январе тридцать шестого года, отнюдь не были свидетельством вдруг возникшей у Сталина симпатии к царям и иным государственным деятелям царской России. Покровский отвергался, а на его место ставился учебник истории Шестакова не потому, что вдруг возникли сомнения в тех или иных классовых категориях истории России, а потому, что потребовалось подчеркнуть силу и значение национального чувства в истории и тем самым в современности, — в этом и был корень вопроса. Сила национально-исторических традиций, в особенности военных, была подчеркнута в интересах современной задачи. Задача эта, главная в то время, требовала мобилизовать все, в том числе и традиционные, национальные, патриотические, чувства для борьбы с германским нацизмом, его претензиями на восточное пространство и с его теориями о расовой неполноценности славянства.
Если говорить о литературе, то Сталин за те годы, когда существовали Сталинские премии, делавшие более очевидными его оценки, поддержал или сам выдвинул на премии целый ряд произведений исторических. А если говорить о кино, то даже составил программу — о каких исторических событиях и о каких исторических личностях следует сделать фильмы.
И всякий раз — и за произведениями, получившими премии, и за идеями о создании произведений о чем-то или о ком-то, произведений, которые впоследствии были обречены, как правило, на премию, стояли сугубо современные политические задачи. В свое время Сталин сначала поддержал «Чапаева», а вслед за тем выдвинул идею фильма о Щорсе. И Чапаев, и Щорс были подлинными героями Гражданской войны, но при этом с точки зрения общих масштабов были, конечно, фигурами второго плана. И поддержка Сталиным фильма «Чапаев», и его идея фильма о Щорсе пришлись на ту пору, когда фигуры первого плана, занимавшие высокие посты в современной армии, такие, как Егоров, как Тухачевский или Уборевич, бывшие командующие Юго-Западным, Западным, Дальневосточным фронтами, были предназначены к исчезновению из истории Гражданской войны — не просто к исчезновению из жизни, а к исчезновению из истории. Троцкий был прямым политическим врагом, и не о нем и его сторонниках в данном случае речь, но, разумеется, не случайно, что по идее Сталина делался фильм о Щорсе, а не о таких, как и Щорс, уже ушедших в небытие, но куда более крупных, притом политически никак не запятнанных, фигурах, как, скажем, Фрунзе или Гусев.
С выходом «Щорса» кино обогатилось еще одной хорошей картиной, в целом хорошей, а местами потрясающей, но одновременно с этим закрепилась важная тогда для Сталина концепция истории Гражданской войны, современная схема: Ленин — Сталин — Щорс — Чапаев — Лазо. После великого «Чапаева» братья Васильевы делают очень хорошую картину «Волочаевские дни», закрепляющую все ту же концепцию, при которой из поля зрения исчезают фигуры людей, руководивших борьбой на Дальнем Востоке, Уборевича и Постышева.
В первом списке Сталинских премий, опубликованном уже в войну, в самый разгар ее, в сорок втором году, фигурировали рядом два исторических романа: «Чингиз-хан» Яна и «Дмитрий Донской» Бородина. Повествование о событиях, отдаленных от сорок второго года семью с лишним и без малого шестью веками, видимо, по соображениям Сталина, имело сугубо современное значение. Роман «Чингиз-хан» предупреждал о том, что происходит с народами, не сумевшими сопротивляться нашествию, покоренными победителем. Роман «Дмитрий Донской» рассказывал о начале конца татарского ига, о том, как можно побеждать тех, кто считал себя до этого непобедимыми. Эти романы были для Сталина современными, потому что история в них и предупреждала о том, что горе побежденным, и учила побеждать, да притом вдобавок на материале одного из самых всенародно известных событий русской истории.
Эти исторические романы, вышедшие перед войной, были премированы сразу же, в сорок втором. Но в сороковом или в сорок первом году вышел еще один исторический роман, который по его выходе был читан Сталиным, но премирован через несколько лет. Этот очень интересный факт подтверждает утилитарность сталинского взгляда на исторические произведения. Я говорю о романе Степанова «Порт-Артур», который был премирован не раньше, не позже, а в 1946 году, после того как Япония была разбита, поставленная Сталиным задача — рассчитаться за 1905 год и, в частности, вернуть себе Порт-Артур — была выполнена. В сорок втором или в сорок третьем году Сталин мог вполне сказать об этой нравившейся ему книге: нужна ли она нам сейчас? Нужно ли было, особенно до начала сорок третьего года, до капитуляции Паулюса в Сталинграде, напоминание о падении Порт-Артура? А в сорок шестом Сталин счел, что эта книга нужна как нечто крайне современное, напоминавшее о том, как царь, царская Россия потеряли сорок лет назад то, что Сталин и возглавляемая им страна вернули себе сейчас; напоминавшее о том, что и тогда были офицеры и солдаты, воевавшие столь же мужественно, как советские офицеры и солдаты в эту войну, но находившиеся под другим командованием, под другим руководством, неспособным добиться победы.
Быть может, я несколько огрубляю и упрощаю, но в сути написанного мною сейчас я уверен.
Из довольно большого потока исторических сочинений Сталин выделял то, что, по его мнению, служило интересам современности. История падения ныне возвращенного Порт-Артура служила современности, а история русской деревни — примерно в те же самые годы начала века, — по его представлениям, интересам современности не служила, и на вопрос: «Нужна ли эта книга нам сейчас?» — Сталин отвечал отрицательно.
Думаю, что премия Костылеву за роман об Иване IV, присужденная в первые послевоенные годы, тоже была связана с мыслью о современном звучании этого романа, о перекличке времен. Иван IV вчерне завершил двухвековое объединение Руси вокруг Москвы. Видимо, у Сталина именно в те годы могло быть схожее представление о собственной роли в истории России — и на западе, и на востоке было возвращено все ранее отнятое и все ранее отданное и вдобавок была решена и задача целых столетий о соединении Восточной и Западной Украины, включая даже Буковину и Закарпатье.
Фигура Ивана Грозного была важна для Сталина как отражение личной для него темы — борьбы с внутренними противниками, с боярским своеволием, борьбы, соединенной со стремлением к централизации власти. Здесь был элемент исторического самооправдания, вернее, не столько самооправдания, сколько самоутверждения. Кто знает, как это было в глубинах его души, но внешне это выглядело в исторической теме Ивана Грозного не столько самооправданием за происшедшее в современности, сколько утверждением своего права и исторической необходимости для себя сделать то же, что в свое время сделал Грозный.
Надо сказать, что если в оценке событий войны в речи Сталина перед участниками Парада Победы прозвучала нота самокритического отношения к событиям первого периода войны, то по отношению к тридцать седьмому — тридцать восьмому годам самооборонительной позиции, как я понимаю, он никогда не занимал. Те, кого не тронули, должны были быть благодарны ему за то, что остались целы, те, кто вернулся и был оправдан, должны были быть благодарны ему за то, что они вернулись и оправданы; а те, что не вернулись, так и оставались до конца его жизни в виноватых.
То, что сделанный козлом отпущения Ежов был покаран, никогда и нигде публично не фигурировало, об этом никогда и нигде не писалось. Официально это не было признано именно потому, что он был не чем иным, как козлом отпущения. Хотя, казалось бы, фигура Ивана Грозного требовала к себе по всем своим историческим особенностям диалектического подхода, Сталин в данном случае был далек от диалектики. Для него Грозный был безоговорочно прав, и этой правотою его и удовлетворяла, может быть, гениальная в своих художественных частностях и находках, но исторически безнравственная первая серия эйзенштейновского «Ивана Грозного». Со второй серией, делавшейся после войны, Эйзенштейна постигла катастрофа. Сталин не принял этого фильма. Почему? Тут были и еще могут быть разные объяснения, в той или иной мере справедливые.
Мне же кажется весьма существенным то, что сама история царствования Грозного сопротивлялась продолжению этой картины. После первых, еще до опричнины, внешнеполитических успехов, прежде всего взятия Казани, Грозный терпит в военных походах неудачу за неудачей. Если какую-то фигуру в русской истории можно связывать с борьбой России за выход к морю, то не Грозного, а Петра, не того, кто неудачно пытался, а того, кто достиг своей цели. Грозный закончил свои дни в обстановке военных поражений и резкого ослабления военной мощи России. Мне думается, что сначала Сталин в восприятии этой фигуры обошелся без диалектики. Если не ошибаюсь, сценарий, охватывавший собою не только первую серию, а и дальнейшее, заканчивался одним из победоносных эпизодов в первой половине ливонской войны, выходом к морю и гибелью в бою Малюты Скуратова, народная память о коем связывала его имя, ставшее нарицательным в смысле жестокости, с чем угодно, но только не с военными подвигами. Фильм кончался в тот момент, когда его можно было кончить чем-то наподобие апофеоза. Дальнейшее царствование Грозного, ставшее прологом к последующим бедствиям России, включая Смутное время, в фильм не влезало, отбрасывалось и оставалось за бортом. Так это проектировалось перед войной. Думаю, что в первой серии, в сущности, уже было исчерпано то, что по аналогии укрепляло позиции Сталина, подтверждало его правоту в борьбе с тем, условно говоря, боярством, которое он искоренял.
Первая серия вышла на экран в конце войны, а вторая делалась уже после нее, и военные успехи, которые венчали в конце второй серии обрубленную на этом месте биографию Грозного, после Великой Отечественной войны могли показаться очень уж мизерными, а тема борьбы с боярством исчерпанной в первой серии. По-моему, вторая серия попала к Сталину в такое время, когда интерес его к аналогиям с Грозным ослабел, это стало не очень актуальным для него — может быть, временно. Но фильм попал к нему именно в такой момент, и какие-то раздражившие Сталина частности или эпизоды фильма, которые в других случаях не обрубали судьбу картин, а только вели к обязательным переделкам, в данном случае при утрате прежнего острого интереса к самой теме обернулись для судьбы фильма трагическим образом.
Думаю, что, рассуждая так, я в принципе не слишком далек от политической сути происшедшего. В наибольшей степени Сталин был склонен программировать именно кино. И как вид искусства, более государственный, чем другие, то есть требовавший с самого начала работы государственного разрешения на нее и государственных затрат, и потому еще, что он в своих представлениях об искусстве относился к режиссерам не как к самостоятельным художникам, а как к толкователям, осуществителям написанного. Я никогда не забуду, как Столпер мне в лицах рассказывал историю резко не понравившегося Сталину в сороковом году, перед войной, фильма «Закон жизни», который они делали вдвоем с режиссером Ивановым по сценарию Авдеенко. Весь огонь резкой, можно сказать, почти беспощадной критики был обрушен Сталиным на автора сценария, на Авдеенко, а Столпер и Иванов как бы при сем присутствовали. И когда кто-то на этом разгроме обратил внимание Сталина на двух сидевших тут же режиссеров: дескать, что же делать с ними, надо, мол, покарать и их, а не только одного Авдеенко, — Сталин не поддержал этого. Небрежно покрутил пальцем в воздухе, показывая, как крутится в аппарате лента, и сказал: «А что они? Они только крутили то, что он им написал». И, сказав это, возвратился к разговору об Авдеенко.
Разумеется, я не свожу к этому случаю представления Сталина о режиссуре вообще. Он любил кино, много смотрел его, сам давал задания некоторым из режиссеров, в числе которых были Чиаурели, Довженко, Эйзенштейн, причем последние два писали сценарии для своих фильмов и сами, без чужой помощи. Конечно, он смотрел на создание фильмов шире, чем это проявилось в разговоре с молодым Столпером и Ивановым, но какой-то оттенок подобного свойства в его суждениях о видах и родах искусства все же был. Во всяком случае, он ничего так не программировал — последовательно и планомерно, — как будущие кинофильмы, и программа эта была связана с современными политическими задачами, хотя фильмы, которые он программировал, были почти всегда, если не всегда, историческими. Он не фантазировал на темы о том, как и каким надо изображать современного человека. Он брал готовую фигуру в истории, которая могла быть утилитарно полезна с точки зрения современной политической ситуации и современной идейной борьбы. Это можно проследить по выдвинутым им для кино фигурам: Александр Невский, Суворов, Кутузов, Ушаков, Нахимов. Причем показательно, что в разгар войны при учреждении орденов Суворова, Кутузова, Ушакова и Нахимова как орденов полководческих на первое место были поставлены не те, кто больше остался в народной памяти — Кутузов и Нахимов, а те, кто вел войну и одерживал блистательные победы на рубежах и за рубежами России. И если Суворов и Кутузов были в смысле популярности фигурами примерно равновеликими, то в другом случае, с Нахимовым или Ушаковым, всенародно известной фигурой был, конечно, Нахимов, а не Ушаков. Но с Ушаковым была связана мысль о выходе в Средиземное море, о победах там, о наступательных действиях флота, и полагаю, что именно по этой причине ему при решении вопроса о том, какой из морских флотоводческих орденов будет высшим, была отдана пальма первенства перед Нахимовым, всего-навсего защищавшим Севастополь.
Разумеется, все это могло быть и так, и иначе, но, мне кажется, все же не случайно, что у Сталина получилось именно так: полководческие ордена, введенные после победы под Сталинградом, были именно в такой последовательности: Суворов, Кутузов, Ушаков и Нахимов.
О Глинке — не без связи с восстановлением на сцене «Ивана Сусанина» — было поставлено один за другим два фильма. Программа борьбы с низкопоклонством предопределила создание целого ряда фильмов, утверждавших наш приоритет в той или иной сфере: полевая хирургия — Пирогов, радио — Попов, Мичурин — биология, Павлов — физиология. Я далек от мысли, что работа над этими фильмами была для их создателей вынужденной, — по большей части эти фильмы делались с увлечением. Но во всем этом, вместе взятом, в последовательности, с которой эти фильмы делались, и в требованиях, которые к ним предъявлялись, несомненно, присутствовало исходившее непосредственно от Сталина волевое начало, связанное с его утилитарным отношением к истории, в том числе и к истории культуры и искусства, с поддержкой того и только того в истории, что могло послужить прямым интересам современности.
В сорок девятом году на заседании Политбюро по присуждению Сталинских премий я не был, находился в это время в зарубежной поездке. Следующее обсуждение Сталинских премий, на котором я присутствовал, происходило шестого марта пятидесятого года. Между записанным, уже приведенным и прокомментированным мною в этой рукописи обсуждением премий в сорок восьмом году и этим, пятидесятого года, прошло около двух лет. Многое изменилось и ужесточилось. Произошло много арестов, в том числе и в среде литераторов. Возникло и приобрело страшный оттенок «Ленинградское дело», связанное с целой цепью арестов и смещений с должностей. Борьба с низкопоклонством, о котором шла речь в сорок седьмом году, приобрела новые и тягчайшие формы. Рубежом в этом смысле оказалась напечатанная в «Правде» редакционная статья «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». Статья эта имела тяжелейшие последствия для литературы, а инициатива ее появления в «Правде» принадлежала непосредственно Сталину.
Я не могу в данный момент входить в то, что происходило в литературе в конце сорок восьмого и на протяжении сорок девятого года. Изложение всего этого должно включать целый ряд моих старых записей, которых у меня сейчас нет перед собой, и, чтоб два раза не возвращаться к одному и тому же, будем считать, что между написанным в этой рукописи раньше и тем, к чему я перехожу сейчас, пропущено по крайней мере несколько десятков страниц, которые мне предстоит восполнить. Оговорив это, перехожу в пятидесятый год.
За несколько дней до заседания Политбюро по присуждению Сталинских премий, происходившего шестого марта пятидесятого года, я стал редактором «Литературной газеты», сменив на этой должности Ермилова. Уходить из «Нового мира» или желать для себя этого ухода у меня не было ровно никаких причин. Причины для того, чтобы перебросить меня с «Нового мира» на «Литгазету», были у Александра Александровича Фадеева, и причины для него, очевидно, достаточно веские, если говорить о том литературном политиканстве, которое иногда, как лихорадка, судорожно овладевало Фадеевым, вопреки всему тому главному, здоровому и честному по отношению к литературе, что составляло его истинную сущность. В истории с критиками-антипатриотами, начало которой, не предвидя ужаснувших его потом последствий, положил он сам, Фадеев, я был человеком, с самого начала не разделявшим фадеевского ожесточения против этих критиков. Из Софронова, оценив его недюжинную энергию, но не разобравшись нисколько в сути этого человека, Фадеев сделал поначалу послушного подручного, при первой же возможности превратившегося во вполне самостоятельного литературного палача.
После всей этой истории, которой хочешь не хочешь придется коснуться более подробно, Фадеев, с одной стороны, не хотел иметь дела с Софроновым как с ответственным секретарем Союза, своим главным практическим помощником. А тут вдобавок еще Владимир Владимирович Ермилов стал проявлять излишнюю самостоятельность и публично и неблагодарно кусать столько лет во всех перипетиях поддерживавшую его руку.
В итоге Фадееву с великим трудом удалось уговорить впоследствии многократно жалевшего об этом Алексея Александровича Суркова уйти из полюбившегося ему журнала «Огонек» в первые заместители к Фадееву, Софронова спровадить в «Огонек», Ермилова снять с газеты и перекантовать на творческую работу, а меня, оставив одним из своих заместителей, рокировать в редакторы «Литературной газеты», на что я не сразу согласился. В том, что я согласился на это, большую роль сыграл Твардовский. Фадееву, который очень любил Твардовского как поэта, ценил его строгость, самостоятельность суждений, внутренне даже сверялся с ними, давно искренне хотелось поближе втянуть Твардовского в какую-то большую общественно-литературную работу. Именно Фадеев уговорил Твардовского, если возникнет такой вариант, согласиться пойти редактировать «Новый мир» вместо меня. И решительный разговор по поводу «Литературной газеты» произошел у нас втроем — с Фадеевым и Твардовским. Мне было жалко оставлять «Новый мир», и я не знал, на кого его оставить. Но после уговоров Фадеева Твардовский вдруг неожиданно для меня сказал, что, если я соглашусь тянуть на себе такой воз, как «Литературная газета», он, если предложат, не откажется и возьмется за мой гуж в «Новом мире». Дело решил этот разговор и плюс к нему, пожалуй, мое молодое самоуверенное стремление к неизведанному. Редактором газеты я еще никогда не был, в том, как Ермилов вел газету, мне далеко не все нравилось, и мне казалось, что, если я пойду туда, многое переделаю в ней по-своему и к лучшему. Так, в итоге за несколько дней до заседания, о котором пойдет речь, я стал редактором «Литературной газеты» и уже подписал три ее номера.
Записи за шестое марта, поначалу лаконичные, связаны с отдельными короткими замечаниями Сталина, чаще всего ироническими или с оттенком иронии.
«По поводу выдвинутого на премию батального полотна под названием «Курская дуга» Сталин заметил: «Никакой дуги тут нет. Если не будет написано, что это Курская дуга, никто этого не узнает». При обсуждении вопроса, можно ли присуждать премию исполнителям и режиссеру за спектакль, сделанный по пьесе не получающего премии драматурга, Сталин выразил сомнение: «Как же так? Без драмы спектакль — не может этого быть».
Затем возник вопрос о премиях артистам цирка. Кто-то сослался на то, что это зрелище любит народ. И тут же последовало замечание Сталина:
— Ну и что, народ смотрит и балаган. Что ж, и балаган тоже включить в искусство? Нет, я не возражаю по поводу цирка, над этим следует подумать. В данном случае я возражаю только против вашего довода насчет народа.
Вслед за этим разговор перешел на то, следует или не следует премировать первые книги произведений, авторам которых предстоит написать еще вторые, а может быть, и третьи книги.
— Ну что же, он хитро поступил, — сказал Сталин об одном из писателей. — У него на самом-то деле тоже первая часть, но он не стал называть ее первой частью романа, а назвал романом. А другой человек поступил честно: у него первая часть романа — он так и назвал ее первой частью романа. Так почему же, спрашивается, ему не дать премии?
После этого рассматривался вопрос о премировании романа Константина Седых «Даурия».
— Я читал критику романа Седых, — сказал Сталин, — и, по-моему, она во многом неверная. Говорят про него, что там плохо показана роль партии, а по-моему, роль партии у Седых показана хорошо. Центральная фигура Улыбина прекрасно показана, отличная фигура. Упрекают Седых за то, что у него Лазо не показан. Но Лазо туда позже приехал, поэтому он и мало показан. Но там, где он показан, он показан хорошо. Седых критикует в романе казачество, показывает его расслоение. Но душа движения — комиссар — у него как раз человек из казачества. Есть в романе недостатки: растянутая вещь. Есть места очень растянутые. Есть места, где просто-напросто нехудожественно рассказано. Вот тут говорили, что Седых переделывает свой роман, вставляет в него новые публицистические места. А я бы не советовал ему исправлять роман, вставлять в него публицистику, этим можно только испортить роман.
После романа Седых обсуждалась повесть Веры Пановой «Ясный берег».
— Из женщин Панова самая способная, — сказал Сталин. — Я всегда поддерживаю ее как самую способную. Она хорошо пишет. Но если оценивать эту новую ее вещь, то она слабее предыдущих. Пять лет назад за такую вещь, как эта, можно было дать и большую премию, чем сейчас, а сейчас нельзя. У Пановой немного странная манера подготовки к тому, чтобы написать произведение. Вот она взяла один колхоз и тщательно его изучила. А это неверно. Надо иначе изучать. Надо изучать несколько колхозов, много колхозов, потом обобщить. Взять вместе и обобщить. И потом уже изобразить. А то, как она поступает, это неверно по манере изучения.
После Пановой дошла очередь до обсуждения романа Коптяевой «Иван Иванович». Сталин счел нужным вступиться за этот роман:
— Вот тут нам говорят, что в романе неверные отношения между Иваном Ивановичем и его женой. Но ведь что получается там у нее в романе? Получается так, как бывает в жизни. Он большой человек, у него своя большая работа. Он ей говорит: «Мне некогда». Он относится к ней не как к человеку и товарищу, а только как к украшению жизни. А ей встречается другой человек, который задевает эту слабую струнку, это слабое место, и она идет туда, к нему, к этому человеку. Так бывает и в жизни, так и у нас, больших людей, бывает. И это верно изображено в романе. И быт Якутии хорошо, правдиво описан. Всё говорят о треугольниках, что тут в романе много треугольников. Ну и что же? Так бывает».
Здесь мне придется оторваться от своих записей, чтобы сказать несколько слов о Фадееве. Как мне помнится, заседание это происходило уже не в кабинете Сталина, а в небольшом зале заседаний. В сущности, это был не зал, а довольно большая комната, в которой стояло несколько рядов кресел с пюпитрами, перед ними небольшой стол для председательствующего, слева от него (если смотреть от нас) маленькая трибунка для выступающих. Не помню, чтобы когда-нибудь в другой раз кто-то пользовался этой трибункой, выступал с нее. Но на этот раз Сталин пригласил Фадеева как докладчика от Комитета по Сталинским премиям на эту трибунку. Фадеев докладывал, стоя за нею. Продолжая еще в это время работу над переделками и новыми главами второго варианта «Молодой гвардии», Фадеев, как мне помнится, одновременно с этим начал собирать материалы для своего, впоследствии так и оставшегося ненаписанным, романа «Черная металлургия». Он ездил на Урал, его срочно накануне этого заседания вытащили из поездки, он полдня летел оттуда в Москву, там, в Магнитогорске, он, как выражался на этот счет Твардовский, похоже, основательно водил медведя, плюс к этому минимум времени на то, чтобы прийти в себя, час или два на подготовку к докладу — и вот он здесь, на заседании Политбюро, перед Сталиным, за этой шаткой, не по росту ему, трибункой. Он стоит за ней, прихватил ее как-то неловко руками, перед ним листы доклада или заметок к докладу, пиджак на нем какой-то коротковатый, куцый, тесный; лицо кирпично-бурое, а голос в диапазоне его физического состояния — от хрипотцы до дисканта, прорывающегося сквозь эту хрипотцу недавней опохмелки.
Сталин, сидящий за столом, как мне кажется, все это прекрасно видит, понимает, да наверняка к тому же и знает все, как оно есть, и наблюдает за Фадеевым со смешанным чувством любопытства (как-то он выйдет из этого положения) и некоторого даже любования Фадеевым (смотри-ка, оказывается, выходит из положения, да еще как выходит). Стоять там, за этой трибункой, под наблюдающим взглядом Сталина Фадееву было, наверное, физически тошно и нравственно мучительно, но он, как он умел это делать, собрал в кулак всю свою волю, сделал доклад по всем правилам, сказал все, что собирался сказать, и даже ввязался в спор со Сталиным по поводу романа Коптяевой, который ему, Фадееву, решительно не нравился.
Что говорил по поводу романа Коптяевой Сталин, у меня записано, но в диалоге с Фадеевым все это выглядело несколько иначе. Сталин перечислял достоинства романа, главным образом упирая на то, что так бывает в жизни. Фадеев, не споря с ним, гнул свое, говоря, что, конечно, так бывает, но это все плохо написано. И треугольники бывают, но тут он плохо написан, этот треугольник. И быт Якутии верно дан, правдиво, но и это тоже с художественной стороны написано плохо, худо написано.
— И все-таки я считаю, что премию роману надо дать, — сказал в заключение Сталин, относившийся к возражениям Фадеева терпеливо и с долей любопытства.
Услышав это, Фадеев впервые, кажется, за все время оторвал от трибунки свои вцепившиеся в нее руки, беспомощно развел ими в стороны и упрямо, не желая согласиться с тем, что роману Коптяевой надо дать премию, сказал: «А это уж ваша воля». И, немножко подержав свои, беспомощно и удивленно раскинутые руки в воздухе, опять вцепился ими в трибунку.
Вспоминая об этом сейчас, ловлю себя на том, что мог бы перепутать день и год, в который это было, да и не помнил, пока не взглянул в своих святцах на даты происходившего, а то мне даже казалось, что это было на два года позже, в последний раз, когда присуждались там, на Политбюро, Сталинские премии. Но то, как говорил Фадеев, как он держался за эту трибунку, как ни за что не хотел соглашаться со Сталиным по поводу книги Коптяевой, а вернее, по поводу значения художественного качества литературы, и так и не согласился, а развел руками, — все это стоит у меня по сей день перед глазами и сидит в ушах, существует и в лицах, и в голосах.
А теперь снова вернусь к своим записям, к двум наиболее подробным, сделанным мною в связи с этой встречей шестого марта пятидесятого года. Обе эти записи связаны с вещами принципиально важными и выходящими за пределы оценки самих произведений, о которых шла речь.
Первая из этих записей связана с романом Эммануила Казакевича «Весна на Одере», которому была присуждена в тот год Сталинская премия второй степени.
«— В романе есть недостатки, — сказал Сталин, заключая обсуждение «Весны на Одере». — Не все там верно изображено: показан Рокоссовский, показан Конев, но главным фронтом там, на Одере, командовал Жуков. У Жукова есть недостатки, некоторые его свойства не любили на фронте, но надо сказать, что он воевал лучше Конева и не хуже Рокоссовского. Вот эта сторона в романе товарища Казакевича неверная. Есть в романе член Военного совета Сизокрылов, который делает там то, что должен делать командующий, заменяет его по всем вопросам. И получается пропуск, нет Жукова, как будто его и не было. Это неправильно. А роман «Весна на Одере» талантливый. Казакевич писать может и пишет хорошо. Как же тут решать вопрос? Давать или не давать ему премию? Если решить этот вопрос положительно, то надо сказать товарищу Казакевичу, чтобы он потом это учел и исправил, неправильно так делать. Во всяком случае так пропускать, как он пропустил, — значит, делать неправильно».
На этом стоит точка в моей записи разговора по поводу романа Казакевича. После этих размышлений Сталина премия за роман Казакевичу все-таки была дана. А на следующий день я встретился с ним самим в фадеевском кабинете в Союзе писателей. Почему именно на меня выпала эта обязанность говорить с Казакевичем, в точности вспомнить не могу. Остается предположить, что Фадеев, которому и по службе, и по дружбе куда больше с руки, чем мне, было говорить с Казакевичем, на следующий день по каким-то причинам отсутствовал, а поручение Сталина — разговор с Казакевичем по поводу «Весны на Одере» был именно поручением — не принято было откладывать исполнением.
Я встретился с Казакевичем и рассказал ему от слова до слова все, как было. Он был в бешенстве и в досаде — и на других, и на самого себя, и, взад и вперед расхаживая по фадеевскому кабинету, скрипел зубами, охал и матерился, вспоминая редакционную работу над своей «Весной на Одере», как на него жали, как не только заставляли убрать фамилию Жукова, но и саму должность командующего фронтом. «Конечно, — с досадой говорил он, — Сталин правильно почувствовал, совершенно правильно. Половину того, что делает Сизокрылов, делал у меня командующий фронтом, а потом меня просто вынудили все это передать Сизокрылову. Как я согласился, как поддался? А как было не поддаться — никто бы не напечатал, даже и думать не желали о том, чтобы напечатать до тех пор, пока я это не переделаю. А как теперь переделывать обратно? Как вставлять командующего фронтом, когда роман уже вышел в журнале, уже вышел двумя изданиями, уже переведен на другие языки, как я могу теперь его исправлять, заменять одного другим?»
Казакевичем владели хорошо мне понятные смешанные чувства. Разумеется, он был рад, что все-таки роман его получил премию, но ощущение того тупика, в который его загнали, из которого теперь неизвестно как вылезать даже с помощью Сталина, угнетало его.
Последнее, записанное мною со всей возможной точностью высказывание Сталина на этом заседании пятидесятого года было хотя и привязанным непосредственно к пьесе Бориса Лавренева «Голос Америки», но имело заведомо программное значение и могло иметь далеко идущие последствия во всей нашей критике и литературоведении, во всяком случае, вызвать изменения ее терминологии. Последствий этих не произошло. Почему, сказать не берусь, скорее всего потому, что в эти годы Сталин, как я не раз впоследствии слышал об этом, нередко забывал собственные предложения и не возвращался к выдвинутым им идеям. Ему, разумеется, никто об этом не напоминал, и они уходили в песок. Иногда это бывало к лучшему, а иногда, быть может, и к худшему. В данном случае, по-моему, к худшему. При всех обстоятельствах мне остается привести дословно свою запись, сделанную в тот день, а потом уже рассказать обо всем последующем.
«— Ну что же, что его критикуют, — сказал Сталин о Лавреневе. — А вы помните его старую пьесу «Разлом»? Хорошая была пьеса. А теперь вот его берут и критикуют всё с той же позиции, что он недостаточно партийный, что он беспартийный. Правильно ли критикуют? Неправильно. Все время используют цитату: «Долой литераторов беспартийных». А смысла ее не понимают. Когда это сказал Ленин? Он сказал это, когда мы были в оппозиции, когда нам нужно было привлечь к себе людей. Когда люди были — одни там, другие тут. Когда людей ловили к себе эсеры и меньшевики. Ленин хотел сказать, что литература — это вещь общественная. Мы искали людей, мы их привлекали к себе. Мы, когда мы были в оппозиции, выступали против беспартийности, объявляли войну беспартийности, создавая свой лагерь. А придя к власти, мы уже отвечаем за все общество, за блок коммунистов и беспартийных, — этого нельзя забывать. Мы, когда находились в оппозиции, были против преувеличения роли национальной культуры. Мы были против, когда этими словами о национальной культуре прикрывались кадеты и всякие там иже с ними, когда они пользовались этими словами. А сейчас мы за национальную культуру. Надо понимать две разные позиции: когда мы были в оппозиции и когда находимся у власти. Вот тут этот был — как его? — Авербах, да. Сначала он был необходим, а потом стал проклятьем литературы.
Недавно выступал и писал в журнале Велик. Кто это? Этот тоже пользуется словами «Долой литераторов беспартийных». Неверно пользуется. Рапповец нашего времени. Новорапповская теория. Хотят, чтобы все герои были положительные, чтобы все стали идеалами. Но это же глупо, просто глупо. Ну, а Гоголь? Ну, а Толстой? Где у них положительные или целиком положительные герои? Что же, надо махнуть рукой и на Гоголя, и на Толстого? Это и есть новорапповская точка зрения в литературе. Берут цитаты и сами не знают, зачем берут их. Берут писателя и едят его: почему ты беспартийный? Почему ты беспартийный? А что, разве Бубеннов был партийным, когда он написал первую часть своей «Белой березы»? Нет. Потом вступил в партию. А спросите этого критика, как он сам-то понимает партийность? Э-эх!»
На этом кончается сделанная мною тогда запись слов Сталина.
Записывая их, я счел необходимым там же, вслед за этой записью, изложить свое понимание сути того, о чем шел разговор. Вот что я написал тогда: «Насколько я уловил смысл разговора, он шел о каком-то более правильном объединении сил литературы; об отношении к ней как к общему хозяйству, позиции хозяев этой литературы, хозяев всего ее общественного богатства и, в конечном счете, хозяев всего общества. Было подчеркнуто, что цитатами пользуются неверно, вне времени и пространства, не сообразуясь с обстановкой, очень ограниченно подходят к лозунгу партийности литературы, понимая его неправильно, не по существу. При этом требуют изображения не реальной жизни, а каких-то идеальных и сверхположительных героев, и всем этим, вместе взятым, отрывают от литературы беспартийных писателей».
Что добавить теперь к записанному мною тогда?
Через несколько дней после этого заседания Фадеев собрал маленькое совещание, в котором участвовал и я, но главным образом на совещании этом были не писатели, а критики — коммунисты по его персональному подбору. Придав тому, что сказал Сталин по поводу понимания термина партийности в литературе и по поводу появившихся в критике новорапповских тенденций, еще большее значение, чем я, в силу своего политического опыта, вдобавок, наверное, и в силу того, что Сталин употребил этот термин «новорапповская критика», вспомнитв при этом Авербаха, и стало быть, вообще РАПП, в числе вождей которого некогда был сам Фадеев, — Фадеев оценил существенность сказанного и решил принять свои меры, а именно — коллективно подготовить представление в ЦК, а в дальнейшем для печати недлинную статью, по первой его мысли, сделанную в виде ответов на вопросы. В статье объяснялся бы вред бездумного и неконкретного применения лозунга «Долой литераторов беспартийных», предлагалась иная критическая терминология, при которой принцип партийности литературы включался в более широкое понятие идейности литературы. Тем самым исключалась бы возможность нанесения напрасных обид беспартийным писателям, употребление по делу и не по делу, кстати и некстати слов «партийность литературы». Я участвовал тогда в обсуждении этого вопроса, был всецело на стороне Фадеева, поддерживал сделанные им первоначальные предложения, потому что мне казалось, что Фадеев правильно понял самую суть высказываний Сталина на этот счет и причины, вызвавшие эти высказывания, и потому что термин «идейность литературы» мне самому казался более правильным и справедливым по отношению ко всей нашей литературе, включавшей и партийных, и беспартийных писателей.
Добавлю, что именно так мне кажется и по сей день, хотя история с составлением этого теоретического документа, протянувшись некоторое время, ушла в песок. Каким образом ушла в песок — не знаю. Напоминал ли об этом Фадеев или не напоминал — тоже не знаю. Скорей всего, однажды высказавшись по этому поводу, Сталин посчитал это достаточным и сам больше об этом не вспоминал. Напоминать же ему о том, о чем он или забыл, или не считал нужным вновь повторять, никто не брался. Наверное, для опасения напоминать Сталину о том, к чему Сталин по собственной инициативе не возвращался, у людей, близко имевших с ним дело, были основания. Должно быть, это было связано с той или иной долей риска, что подтверждалось немалым предыдущим опытом.
На заседании, когда присуждались Сталинские премии за 1950 год, я не был: лежал с высокой температурой. Если мне не изменяет память, с очередным воспалением легких. Но в середине марта 1952 года, когда последний раз присуждались Сталинские премии, я на этом заседании присутствовал. Не могу назвать точно дату, когда оно происходило, — она оказалась у меня незаписанной. Но обычно сообщение о присуждении премий публиковалось двумя, самое большее тремя днями позже заседания; я держу сейчас перед собой «Литературную газету» за 15 марта 1952 года и думаю, что недалек от истины, говоря, что заседание это было где-то в середине марта.
Заседание это отличалось от всех предыдущих тем, что Сталин не стал сам вести его, а с самого начала передал председательство Маленкову, который, надо сказать, чувствовал себя не в своей тарелке. Он сидел за председательским столом, остальные — неподалеку от него. Ближайшим к этому председательскому столу в кресле с пюпитром, таком, как и для всех остальных участников заседания, сидел Сталин. Впрочем, сидел он мало, больше прохаживался взад и вперед по тому ряду, в котором сидел, взглядывал на присутствующих, высказываясь и задавая вопросы. Председательствование же Маленкова практически сводилось к тому, что он называл те или другие обсуждавшиеся вещи в том порядке, в каком они стояли по разделам проекта постановления.
Я приведу свои тогдашние записи не в той последовательности, в которой они у меня сохранились, а в той, в которой мне сейчас хочется их прокомментировать, идя от более частного к более общему и существенному.
«При обсуждении произведений, выдвинутых на премию третьей степени, впервые на моей памяти выяснилось, что Сталин не все эти книги читал. Когда зашла речь о премировании романа Турсуна «Учитель» и повести Баялинова «На берегах Иссык-Куля», Сталин вдруг спросил:
— За что даете им премию? За то, что это хорошие книги, или за то, что это представители национальных республик?
Такая постановка вопроса заставила несколько замяться тех, кто докладывал об этих вещах. Сразу же заметив эту заминку, Сталин сказал:
— Вы лишаете людей перспективы. Они же решат, что это хорошо. А людям надо иметь перспективу. Если вы будете давать премии из жалости, то вы убьете этим творчество. Им надо еще работать, а они уже решат, что это хорошо. Раз это заслужило премию, то куда же дальше им стремиться? Воспитать умение работать можно только строгостью, только при помощи строгости в оценках можно создать перспективу.
Когда после этого речь зашла о повести Янки Брыля «В Заболотье светает», которую хвалили и говорили, что повесть хорошая, Сталин недоверчиво спросил:
— А почему хорошая? Что, там все крестьяне хорошие? Все колхозы передовые? Никто ни с кем не спорит? Все в полном согласии? Классовой борьбы нет? Все вообще хорошо, поэтому и повесть хорошая. Да? А как художественно-то, хорошая это книга?
И только когда ему горячо подтвердили, что книга Янки Брыля действительно хорошая с художественной точки зрения книга, он согласился с ее выдвижением на премию, отведя при этом предыдущие вещи, о которых шел разговор».
А теперь, оторвавшись от записей, скажу о своих нынешних мыслях по этому поводу. Было некое противоречие в том, как Сталин сам же расширял круг присуждаемых премий, относясь к этому с неким циничным добродушием, терпимостью. Достаточно вспомнить: «Очень хочет. Очень просит», и все с этим связанное. По его собственной инициативе возникли все эти премии третьей степени, расширившие сразу вдвое, если не больше, круг премированных каждый год вещей. И он же сам, причем главным образом это относилось к литературе, вдруг начинал проявлять требовательность, отводил слабые вещи, говорил о необходимости высокого художественного качества, вдавался в подробности — что вышло, что не вышло у автора, высказывался в том духе, что избыток публицистичности может испортить книгу, что надо держаться поближе к жизни, что литература не создается из одних положительных, идеальных героев, и так далее, и тому подобное.
Чем объяснить это противоречие в его суждениях и даже в поступках? Сменой настроений и душевных состояний? Вряд ли только этим. Думаю, как это ни странно звучит, что в Сталине было некое сходство с Фадеевым — в оценках литературы. Прежде всего он действительно любил литературу, считал ее самым важным среди других искусств, самым решающим и в конечном итоге определяющим все или почти все остальное. Он любил читать и любил говорить о прочитанном с полным знанием предмета. Он помнил книги в подробностях. Где-то у него была — для меня это несомненно — некая собственная художественная жилка, может быть, шедшая от юношеского занятия поэзией, от пристрастия к ней, хотя в общем-то он рассматривал присуждение премий как политик, как дело прежде всего политическое, и многочисленные его высказывания, которые я слышал, подтверждают это. В то же время некоторые из этих книг он любил как читатель, а другие нет. Вкус его отнюдь не был безошибочен. Но у него был свой вкус. Не буду строить домыслов насчет того, насколько он любил Маяковского или Пастернака или насколько серьезным художником считал Булгакова. Есть известные основания считать: и в том, и в другом, и в третьем случае вкус не изменял ему. В других случаях изменял. Резкая, нервная манера письма, полная преувеличений, гиперболических подробностей, свойственная, скажем, Василевской, была ему по душе. Он любил эту писательницу и огорчался, когда она кому-то не нравилась. В то же время ему нравились вещи совершенно другого рода: книги Казакевича, «В окопах Сталинграда» Некрасова.
Наверное, у него внутри происходила невидимая для постороннего глаза борьба между личными, внутренними оценками книг и оценками их политического, сиюминутного значения, оценками, которых он нисколько не стеснялся и не таил их. Для него, например, тогда, в пятьдесят втором году, не составляло проблемы дать одновременно премии первой степени по прозе роману Степана Злобина «Степан Разин», который ему очень нравился именно как художественное произведение, и роману Вилиса Лациса «К новому берегу», который ему совсем не нравился как художественное произведение, но который он считал настолько важным, что определил ему именно премию первой степени. Так он и высказался о романе Лациса на том заседании, о котором идет речь: «Этот роман имеет художественные недостатки, он ниже романа Василевской, но он будет иметь большое значение для Прибалтики и, кроме того, для заграницы».
В итоге трилогия Василевской, которую он как читатель любил, но которая, по его мнению, в тот момент не имела максимального политического значения, получила вторую премию, а роман Лациса «К новому берегу», который был, как он полагал, ниже романа Василевской, получил первую премию.
Усомнившись на этот раз в количестве книг, заслуживающих премию третьей степени, Сталин тут же предложил — совершенно неожиданно для всех присутствующих — дать премию Дмитрию Еремину за его роман «Гроза над Римом» и привел следующие мотивы: «У нас писатели пишут все об одном и том же, все об одном и том же. Очень редко берутся за новое, неизвестное. У всех одни и те же темы. А вот человек взял и написал о незнакомой нам жизни. Я прочел и узнал, кто он такой. Оказывается, он сценарист, был там, в Италии, недолгое время, написал о положении в Италии, о назревании там революционной ситуации. Есть недостатки, есть, может быть, и промахи, но роман будет с интересом прочтен читателями. Он сыграет полезную роль».
После этой совершенно неожиданной для меня оценки романа «Гроза над Римом», который никто не предполагал премировать, было довольно трудно поднять руку и говорить на эту тему, тем более что Сталин высказался достаточно определенно.
Автор романа, Дмитрий Иванович Еремин, был добрый знакомый по Литинституту и по сценарной студии. Беда была только в том, что роман его был очень уж слаб и беспомощен. Впрочем, одно это, по правде говоря, не заставило бы меня поднять руку. За тем спором, в который вступил со Сталиным Фадеев по поводу романа Коптяевой «Иван Иванович», было тогда его принципиальное неприятие художественных достоинств литературы этого рода, и он не мог или не хотел переломить себя и назвать хорошим то, что считал плохим. В данном случае — с романом Еремина — у меня такого чувства не было, да и, наверное, у меня духу не хватило бы, как у Фадеева, после высказывания Сталина вступать с ним в препирательства о художественных достоинствах романа Еремина. Но было тут одно привходящее обстоятельство: буквально за день или за два до этого в «Литературную газету» пришло письмо не то одного, не то двух специалистов по Италии, в котором было выписано несколько страниц всякого рода ошибок, неточностей, нелепостей, свидетельствовавших о полном незнании автором романа «Гроза над Римом» того материала, на котором он писал свою книгу. Это письмо и заставило меня поднять руку. Мне казалось, что о нем я был обязан сказать.
Когда я сказал об этом письме и о его содержании, Маленков немедленно спросил меня: «А где оно? С вами?» За этим вопросом было молчаливое предположение, что сейчас я выну это письмо из кармана и положу на стол. Но у меня, разумеется, не было его с собой, потому что появление романа «Гроза над Римом» в числе произведений, которым предполагалось присудить Сталинскую премию, было для меня полной неожиданностью. Я сказал, что письма у меня с собой нет, но я могу его, если потребуется, предоставить завтра.
— Когда ставите здесь такие вопросы, надо иметь при себе все материалы, — сказал Маленков.
Я сел на свое место, а «Грозе над Римом» была присуждена Сталинская премия третьей степени.
Чтобы уже не возвращаться к этой теме, не оставившей никакого следа в моих тогдашних записях, добавлю, что мне после закончившегося неудачей выступления, как выяснилось, предстояло еще одно испытание. В самом конце заседания, когда прошлись уже, казалось, по всем премиям, Сталин потрогал лежавшую перед ним пачку книг и журналов — чаще всего, как я уже успел заметить, там лежали номера журнала «Звезда», потому что он по-прежнему неотрывно следил за этим ленинградским журналом, а через него и за Ленинградом, — и сказал:
— Вот тут напечатана неплохая повесть известного нашего подводника Иосселиани в переводе с грузинского Кремлева. Не стоило бы нам дать премию этой вещи? Какие будут мнения?
Мнения были положительные.
«Надо дать», «Надо, надо», «Хорошая книга». Примерно такие реплики я услышал из первых рядов, где сидели члены Политбюро.
И тут я снова поднял руку. На этот раз я нисколько не колебался и считал себя просто-напросто не вправе промолчать. Я знал эту историю с книгой «Записки подводника», книгой действительно неплохой, написанной литератором Ильей Кремлевым по рассказам подводника Иосселиани. К тому времени, когда была написана эта книга, возникло уже в литературе несколько историй не слишком красивого свойства, когда соавторы — авторы воспоминаний и авторы их литературного текста — препирались между собой относительно гонораров. Причем так называемые литературные обработчики обычно в итоге терпели в этих препирательствах поражения: при первом издании они и авторы делили между собой гонорар так, как было договорено, а при последующих в ряде случаев автора литературной записи просто-напросто лишали его части гонорара. По букве авторского права в последующих изданиях это можно было сделать. Очевидно, опасаясь этого, Кремлев и придумал форму перевода с грузинского на русский, с таким обозначением и появилась повесть Иосселиани в «Звезде», хотя на самом деле перевода не было и быть не могло, потому что Иосселиани (по национальности сван, а по обстоятельствам жизни с малых лет воспитанник русского детского дома) грузинского языка вообще не знал. Говорил только по-русски, и переводить его с грузинского было физически невозможно. Но после того, как повесть в журнале имела успех и хорошие отзывы, была издана отдельной книгой, Кремлев в мыслях о возможности присуждения ей в будущем Сталинской премии заставил не слишком разбиравшегося в литературных делах Иосселиани подписать с ним, с Кремлевым, договор, что в случае присуждения книге Сталинской премии они эту Сталинскую премию разделят пополам. Договор до того времени, насколько мне известно, беспрецедентный в литературном быту. Через какое-то время после этого у Иосселиани и Кремлева возникло очередное сомнение во взаимной добропорядочности, и Иосселиани, проявивший во время войны незаурядное мужество, а тут запутавшийся в литературных джунглях, пришел ко мне в «Литературную газету» и, изложив свои опасения, в частности, рассказал и об этом превентивном договоре насчет Сталинской премии. Такого мне еще слышать не приходилось, и я сначала ушам своим не поверил, и это, должно быть, отразилось на моем лице. Тогда Иосселиани сказал, что он сейчас сядет и напишет все как есть, и пусть это лежит у меня как доказательство. У меня не было оснований возражать против этого, Иосселиани написал все, что рассказал мне, и я положил эту бумагу в сейф.
Прошло с месяц, Илья Кремлев, очевидно, прослышав о недружественных акциях со стороны Иосселиани, тоже явился в «Литературную газету» с довольно кляузным письмом, в котором излагались разные прегрешения его соавтора Иосселиани. Я и это письмо положил в сейф вместе с первым. Что проблема со Сталинской премией, уже договорно поделенной соавторами, на самом деле когда-нибудь возникнет, мне в голову не приходило. Но как редактору газеты, уже столкнувшемуся с несколькими подобными, хотя и не столь вопиющими историями, мне казалось, что эти материалы в числе других помогут нам приготовить статью о ненормальном положении в этой сфере литературной деятельности и выдвинуть предложения о том, как ввести это дело в строгие рамки, чтоб больше не позорить ни литераторов, ни бывалых людей.
Так вот, услышав возгласы «Надо дать», «Надо, надо», «Хорошая книга», я поднялся и попросил слова. Мне его дали. Я сказал, что книга в самом деле интересная, но давать ей Сталинскую премию нельзя, хотя бы потому, что публикация этой книги началась с обмана: это не перевод с грузинского, сделанный Кремлевым, а литературная запись, переводом с грузинского это сочинение не может быть, потому что Иосселиани грузинского языка не знает.
Хорошо помню, как, грузно поворотясь ко мне со скрипнувшего под ним кресла, Берия резко оборвал меня:
— Как так не знает? Как так — Иосселиани не знает грузинского языка? Он знает грузинский язык.
— Нет, — сказал я, — он не знает грузинского языка. Это знают моряки, его сослуживцы, да и он сам этого не скрывает, в письме в «Литературную газету» поминает об этом.
— Где у вас это письмо? Имеется у вас это письмо?
— Имеется в «Литературной газете», — сказал я.
Как мне показалось, Берия хотел сказать что-то еще, но в этот момент Сталин спросил:
— Так. Какие теперь будут мнения, давать или не давать за эту книгу премию? — Он сказал это спокойно, возможно, даже решив пренебречь не столь уж существенной, с его точки зрения, историей с переводом, которого не было.
— Товарищ Сталин, — сказал я. — Вы должны знать, что Кремлев заранее подписал с Иосселиани бумагу о том, что если они получат Сталинскую премию, то поделят ее пополам. Мне кажется, что когда так делают, то нельзя давать премию.
— А где у вас доказательства, что это так? — опять повернулся ко мне Берия. — Имеете ли вы их или так просто болтаете? — На этот раз он был еще более груб и агрессивен.
Я не успел ответить на этот вопрос, потому что вдруг установилась тишина. Очевидно, за криком Берии я не расслышал начала фразы, сказанной Сталиным, и в тишине услышал только ее конец.
— Снимем этот вопрос, — сказал он.
На лице его было брезгливо-недовольное выражение.
Активное вмешательство Берии в это дело встревожило меня: здесь могла таиться опасность, и опасность серьезная. Кто знает, что он мог сделать? Мы не знали тогда о Берии того, что узнали потом, но то, что он человек достаточно страшный, некоторое представление уже имели и, как говорится, носили это представление при себе. Поэтому, как только кончилось заседание Политбюро, я немедленно рванулся в «Литгазету», по дороге думая о том, что все может случиться: пока продолжалось заседание, пока я сюда еду, кто-то мог явиться без меня, открыть сейф и к моему приезду в нем могло уже не оказаться тех бумаг, на которые я ссылался. Что тогда? Однако все было на месте, бумаги лежали там. Я забрал их и, не теряя времени, поехал к своему старому другу, стенографистке Музе Николаевне Кузько, дождался у нее, пока она перепечатает мне две копии с обоих писем, одну из них отвез обратно и положил в сейф в «Литгазете», вторую положил к себе в карман, а подлинник завез в Союз писателей и положил в сейф там. Наверное, действия мои были наивными. Впрочем, в них была своя логика: я понимал, что со мной в той ситуации при благожелательном отношении ко мне Сталина Берия вряд ли что-нибудь сделает, а вот с письмами могло случиться что угодно, о них надо было думать. Так мне во всяком случае тогда казалось.
На следующее утро я приехал в Союз с самого утра и правильно сделал: в девять с минутами мне позвонили по «вертушке», но не от Берии, а из секретариата Булганина, бывшего тогда министром вооруженных сил, и спросили меня, могу ли я сейчас предоставить те документы, связанные с книгой «Записки подводника», о которых я вчера упоминал. Я сказал, что да, что можно прислать за ними. Пригласив заведующую нашей канцелярией Союза писателей, вынул из кармана копии, вынул из своего сейфа в Союзе подлинники, дал ей сличить то и другое, после чего на копиях были поставлены соответствующие надписи и печати. Едва это было сделано, как из Министерства вооруженных сил явился фельдъегерь забирать материал.
Сейчас я пишу обо всем этом с некоторым сомнением и даже усмешкой над самим собой, над той мелочностью, которая отчетливо видится с большого расстояния во времени. Сейчас все это отдает даже чем-то смехотворным, но тогда мне было вовсе не до смеху, и, рассказывая о том времени, наверное, я все-таки прав, когда не миную вещи и такого рода.
Возвращаюсь к записям:
«После того как были отведены некоторые другие книги, один из присутствовавших на заседании внес предложение дополнить список премированных произведений романом Ольги Зив «Горячий час». Как выяснилось, Сталин читал этот не выдвинутый ранее на премию роман. В ответ на предложение дать роману премию он сказал, что роман интересный, но у нас почему-то в романах почти никогда не описывается быт рабочих. Плохо описан быт рабочих. Во всех романах нет быта, только одно соревнование, а быт рабочих не описан, повторил Сталин. Исключение составляет книга Кочетова «Журбины», там есть жизнь и быт рабочих. Но эта книга — единственное исключение, когда рассказано, как человек живет, что он получает, какие у него культурные интересы, какая у него жизнь, какой у него быт. А у Зив нет этого быта рабочих, а раз нет быта, значит, нет рабочих. Хотя книга написана хорошо, написана с большим знанием дела.
Отклонив книгу, Сталин еще несколько минут продолжал говорить о том, как мало у нас занимаются жизнью и бытом людей и какой это большой недостаток нашей литературы».
А весь разговор в тот день начался с обсуждения романа Степана Злобина «Степан Разин». Я хочу выделить эту запись и особо рассказать о том, как происходило это обсуждение, потому что оно произвело на меня сильное и вместе с тем гнетущее впечатление.
Сначала — запись:
«— Злобин хорошо вскрыл разницу между крестьянской и казачьей основой движения Разина, — сказал Сталин. — Злобин это вскрыл впервые в литературе и сделал это хорошо. Вообще, из трех движений — Разина, Пугачева и Болотникова — только одно движение Болотникова было собственно крестьянской революцией. А движение Разина и движение Пугачева были движениями с сильным казачьим оттенком. И Разин, и Пугачев лишь терпели союз с крестьянами, лишь мирились с ним, они не понимали всей силы, всей мощи крестьянского движения».
Вот вся тогдашняя запись.
Хорошо помню, что Сталин, сказав о политической стороне романа и его исторической правдивости, перешел к его художественным достоинствам и несколько минут хвалил роман Злобина в таких выражениях, которые он не часто употреблял. Он называл роман очень талантливым, говорил, что автор талантливый человек и что он написал выдающееся историческое сочинение. Судя по всему, что говорил Сталин о романе, ему очень нравилось, как он был написан Злобиным.
Казалось бы, на этом все должно было и закончиться, но в тот момент, когда я так же, как и все другие, посчитал, что обсуждение переходит к следующему произведению, что со Злобиным все ясно и кончено, уже не помню кто, может быть, это был председательствовавший на Политбюро Маленков, перелистнув какую-то папку, сказал:
— Товарищ Сталин, тут вот проверяли и сообщают: во время пребывания в плену, в немецком концлагере, Злобин плохо себя вел, к нему есть серьезные претензии.
Это было как гром среди ясного неба, такого я еще не слышал ни на одном заседании, хотя понимал, конечно, что, готовя материалы для присуждения Сталинских премий, кто-то по долгу своей службы представлял соответствующие сведения в существовавшие где-то досье на авторов. Но об этом никогда, ни разу до сих пор не говорилось, а если что-то и обсуждалось, связанное с этим, то, очевидно, где-то в другое время и без нас, грешных.
Услышав сказанное, Сталин остановился — он в это время ходил — и долго молчал. Потом пошел между рядами мимо нас — один раз вперед и назад, другой раз вперед и назад, третий — и только тогда, прервав молчание, вдруг задал негромкий, но в полной тишине прозвучавший достаточно громко вопрос, адресованный не нам, а самому себе.
— Простить… — прошел дальше, развернулся и, опять приостановившись, докончил: — …или не простить?
И опять пошел. Не знаю, сколько это заняло времени, может быть и совсем немного, но от возникшего напряжения все это казалось нестерпимо долгим.
— Простить или не простить? — снова повторил Сталин, теперь уже не разделяя двух половинок фразы.
Опять пошел, опять вернулся. Опять с той же самой интонацией повторил:
— Простить или не простить?
Два или три раза прошелся взад и вперед и, отвечая сам себе, сказал:
— Простить.
Так на наших глазах, при нас, впервые Сталиным единолично решалась судьба человека, которого мы знали, книгу которого читали. Я знал Злобина меньше, чем другие, к книге его был равнодушен, к нему самому не питал ни симпатии, ни антипатии, но само это ощущение, что вот тут, на твоих глазах, решается судьба человека — быть или не быть ему, потому что «простить или не простить» произносилось с такой интонацией, за которой стояла, как мне тогда казалось, с одной стороны, Сталинская премия, а с другой — лагерь, а может быть, и смерть. Во всем этом было нечто угнетающе — страшное, тягостное — и это не последующее мое ощущение, а тогдашнее.
Если ж говорить о последующем, то, в сущности, речь шла не о том, чтобы простить или не простить человека, виноватого перед страной, но написавшего выдающуюся книгу, посвященную истории этой страны. Злобин, как это было доказано впоследствии, был не только ни в чем не виноват перед своей страной, но, наоборот, проявил в лагере незаурядное мужество, играл важную роль в советском лагерном подполье. Таким образом, на наших глазах шла речь не о том, чтобы простить или не простить виноватого, а о том, поверить или не поверить клевете на ни в чем не повинного, клевете, соответствующим образом оформленной в духе того времени со всеми необходимыми атрибутами мнимой неопровержимости.
Думая об этом сейчас, задним числом, видишь сцену, на которой Сталин играет свою роль верховного судьи, обладающего безапелляционным правом и казнить, и миловать, еще более тягостной, чем она представилась моим глазам тогда. Но вдобавок ко всему вот ведь еще какое неожиданное соображение возникает. Здравый смысл задним числом подсказывает мне, что вряд ли в этом единственном случае могло вдруг неожиданно всплыть со Злобиным то, что не всплывало ни в каких других случаях, то, что, очевидно, обсуждалось всегда заранее. Рассказанная мною история с Четвериковым не опровергает этого — там речь шла о журнале, который вдруг прочел и вспомнил Сталин и неожиданно для всех назвал фамилии авторов пьесы, один из которых оказался сидящим в лагере. Такое вполне могло быть, ибо никто не знал заранее, что Сталин назовет эту пьесу. А с личностью Злобина, с его романом, который возглавлял весь список Сталинских премий, был предложен на премию первой степени, такого не могло быть.
Сейчас я почти убежден в том, что Сталин заранее, еще до заседания, и прекрасно знал о том досье, которое в соответствующем месте заготовили на Злобина, и уже принял решение, не посчитавшись с этим досье, дать Злобину за «Степана Разина» премию первой степени, даже не снизив премии до второй или третьей — так и оставив ее первой. Если так, то, стало быть, сцена — «простить или не простить» — была сыграна для нас, присутствовавших при этом представителей интеллигенции. Чтобы мы знали, как это бывает, кто окончательно решает такие вопросы. Кто, несмотря на прегрешения человека, принимает решение простить его и дать ему премию. За кем остается право на эту высшую справедливость, даже перед лицом вины человека. Какие-то другие люди помнят только о вине и считают, что нельзя простить, а Сталин считает, что вину можно простить, если этот же человек сделал нечто выдающееся.
С достоверностью утверждать, что все это было именно так, не смею, но почти убежден, что догадка моя справедлива и что способность в некоторых обстоятельствах быть большим, а может быть, даже великим актером была присуща Сталину и составляла неотъемлемую часть его политического дарования. Что это так, меня укрепляет еще одна подробность той же самой последней встречи пятьдесят второго года. Сейчас мне кажется, что на этой встрече Сталин дважды сыграл перед нами, как перед специально предназначенной для этою аудиторией, — в первом случае это было с романом Злобина, а во втором — с романом Мальцева «Югославская трагедия».
Сначала текст записи — такой, каким он у меня сохранился:
«Когда начали обсуждать роман Ореста Мальцева «Югославская трагедия», Сталин задал вопрос:
— Почему Мальцев, а в скобках стоит Ровинский? В чем дело? До каких пор это будет продолжаться? В прошлом году уже говорили на эту тему, запретили представлять на премию, указывая двойные фамилии. Зачем это делается? Зачем пишется двойная фамилия? Если человек избрал себе литературный псевдоним — это его право, не будем уже говорить ни о чем другом, просто об элементарном приличии. Человек имеет право писать под тем псевдонимом, который он себе избрал. Но, видимо, кому-то приятно подчеркнуть, что у этого человека двойная фамилия, подчеркнуть, что это еврей. Зачем это подчеркивать? Зачем это делать? Зачем насаждать антисемитизм? Кому это надо? Человека надо писать под той фамилией, под которой он себя пишет сам. Человек хочет иметь псевдоним. Он себя ощущает так, как это для него самого естественно. Зачем же его тянуть, тащить назад?»
Вот и вся запись по этому поводу. Добавлю, что Сталин говорил очень сердито, раздраженно, даже, я бы сказал, с оттенком непримиримости к происшедшему, хотя как раз в данном случае он попал пальцем в небо.
Дело в том, что автор романа «Югославская трагедия» Орест Михайлович Мальцев, вслед за фамилией которого стояло так раздражившее Сталина — Ровинский, на самом деле по происхождению был русский, уроженец деревни Скародная Курской области, а еврейскую фамилию Ровинский, кстати, совпадавшую с фамилией тогдашнего редактора «Известий», поставил вслед за собственным звучным именем Орест на своей предыдущей книжке рассказов, называвшейся тоже достаточно звучно — «Венгерская рапсодия». Причины всего этого мне были неведомы, но, хочешь не хочешь, пришлось подняться и сказать, что в данном случае при постановке в скобках фамилии Ровинский антисемитизм места не имел. Задаю себе сейчас вопрос: почему именно меня тогда потянуло подняться и дать эту справку? Скорее всего потому, что примерно за год до этого на страницах «Литературной газеты» и «Комсомольской правды» происходила не прошедшая ни мимо внимания читателей, ни мимо внимания писателей дискуссия о псевдонимах между Бубенновым, Шолоховым и мною. Самый болезненный характер этот вопрос приобрел в сорок девятом году, во время печально памятной кампании против критиков — космополитов, когда находились люди, стремившиеся как можно чаще, вслед за давно и привычно уже звучащим в литературе псевдонимом непременно поставить действительную еврейскую фамилию автора.
За некоторые вещи из происходивших тогда на мне лежит горькая доля моей личной ответственности, о которой я и говорил, и писал потом в печати и о которой скажу еще и в этих записках, когда буду писать главу о сорок девятом годе. Но антисемитом я, разумеется, не был и, когда я выступал и писал в те мрачные времена, скобок вслед за псевдонимами не ставил. Хорошо помню, как больно, прямо по сердцу, меня хлестнуло возмущенное письмо, присланное мне писательницей Фридой Абрамовной Вигдоровой, человеком чистым и строгим, которого я уважал. В этом письме она возмущалась: как же я мог, как я позволил себе в одном из своих выступлений поставить эти проклятые скобки вслед за псевдонимами. На самом деле я был тут ни при чем, просто, излагая мое без того достаточно дурное выступление на каком-то обсуждении, составитель отчета сам понаставлял скобки всюду, где ему это вздумалось.
Прошло некоторое время, острота этого вопроса, к счастью, как будто бы уменьшилась, кое-какие из самых очевидных перехлестов и несправедливостей хоть и со скрипом, но были исправлены, когда в феврале пятьдесят первого года «Комсомольская правда», не знаю уж по чьей инициативе и под чьим давлением, вдруг вылезла со статьей Михаила Бубеннова «Нужны ли сейчас литературные псевдонимы?». Видимо, кому-то понадобилось, готовя почву к чему-то новому в том же духе, что и кампания против критиков-космополитов, пустить такого рода пробный шар. В статье присутствовала известная доля мимикрии, но антисемитские уши торчали из нее достаточно явно.
Мы в «Литературной газете» решили не оставить эту статью безнаказанной, и я коротко ответил на нее. Тогда против нас была двинута тяжелая артиллерия. Каким образом и кто организовал, что ответную, поддерживавшую Бубеннова статью в «Комсомольской правде» подписал Шолохов, — я так и не знаю. Моей первой реакцией было, когда я прочитал ее, позвонить ему и спросить его, человека, с которым до тех пор у нас не бывало никаких личных столкновений: «Миша, неужели ты сам это писал?» Это был глупый порыв, потому что на такого рода вопрос, хочешь не хочешь, человеку отвечать приходится только утвердительно, но я как-то и до сих пор не до конца верю в его авторство.
Однако ничего не поделаешь, пришлось отвечать еще раз, на этот раз Шолохову. На моем ответе дискуссия и кончилась. Очевидно, пробный шар, инспирированный кем-то в «Комсомолке», был выпущен преждевременно и попытка разоблачения псевдонимов, их искоренения не была поддержана теми или тем, от кого ждали этой поддержки.
Пожалуй, поставив здесь звездочки, я прерву свое повествование и приведу как примечание к нему текст той дискуссии о псевдонимах, которая занимала немногим больше десятка страниц на машинке, но при этом, как мне кажется, имела известное отношение и к тому высказыванию Сталина насчет скобок, которое я уже привел, и к некоторым из наиболее мрачных событий, развернувшихся в последние месяцы жизни Сталина.
«Комсомольская правда»,
27 февраля 1951 года
Употребление псевдонимов, то есть вымышленных имен, как явление общественного порядка имеет довольно большую историю. В царской России это явление вызывалось главным образом условиями общественного строя, основанного на насилии и унижении. Очень многие революционеры, общественные деятели, писатели и журналисты демократического направления, боровшиеся против царизма, зачастую работавшие в подполье, были вынуждены самой жизнью, всей обстановкой своей деятельности скрываться за псевдонимами и кличками. У некоторых писателей и деятелей искусства псевдонимы служили или маскировкой от «светского» общества, пренебрегавшего их «недостойной» деятельностью, или выражением их идейной сущности и политической направленности, или несли в себе своеобразный протест против существовавшего строя, а иногда — и мечту о будущем. Наконец, псевдонимами были вынуждены пользоваться представители угнетенных национальностей, которые нередко могли выступать только на русском языке и поэтому брали для себя русские имена и фамилии.
После социалистической революции, установившей новый общественный строй в нашей стране, положение резко изменилось. Основные причины, побуждавшие ранее скрываться за псевдонимами, были уничтожены. Конечно, вполне естественно и вполне оправдано, что некоторые товарищи, долгие годы пользовавшиеся псевдонимами, и после победы социалистической революции продолжали ими пользоваться, но это только потому, что их псевдонимы давно стали фамилиями, известными широким слоям народа. Но не было ни одного случая, чтобы какой-нибудь партийный или государственный деятель, вступивший на общественную арену после революции, заменил свою фамилию псевдонимом. Не было и нет! Псевдонимами, как правило, и то в отдельных случаях, некоторое время пользовались только селькоры, но это и понятно — они боролись за дело социализма в условиях ожесточенной классовой борьбы. И только работники литературы оказались ярыми приверженцами старой традиции.
Социализм, построенный в нашей стране, окончательно устранил все причины, побуждавшие людей брать псевдонимы. Любая общественная и культурная деятельность, направленная на построение коммунизма, получает в нашей стране всяческое поощрение. Люди, занимающиеся такой деятельностью, старающиеся с помощью большевистской критики двинуть вперед общее дело, находятся у нас в большом почете. Им ничто не мешает выступать открыто, не прячась от общества за псевдонимы. Наоборот, наше общество хочет знать настоящие, подлинные имена таких людей и овевает их большой славой.
Несмотря на все это, некоторые литераторы с поразительной настойчивостью, достойной лучшего применения, поддерживают старую, давно отжившую традицию. Причем многие из этих литераторов — молодые люди, только начинающие свою литературную деятельность.
Приведем примеры.
Молодой и способный русский писатель Ференчук вдруг ни с того ни с сего выбрал псевдоним Ференс. Зачем это? Чем фамилия Ференчук хуже псевдонима Ференс?
Марийский поэт А. И. Бикмурзин взял псевдоним Анатолий Бик. В чем же дело? Первая треть фамилии поэту нравится, а две остальные — нет?
Удмуртский писатель И. Т. Дядюков решил стать Иваном Кудо. Почему же ему не нравится его настоящая фамилия?
Белорусская поэтесса Ю. Каган выбрала псевдоним Эди Огнецвет. А какая необходимость заставила ее сделать это?
Украинский поэт Е. Бондаренко, видимо, глядя на других, не вытерпел и хотя только две буквы, но все же изменил в своей фамилии и теперь подписывается псевдонимом Бандуренко.
Чувашский поэт Н. Васянка подписывается Шаланка, молодой московский поэт Лидес стал Л. Лиходеевым, С. Файнберг — С. Северцевым, Н. Рамбах — Н. Гребневым.
Любители псевдонимов всегда пытаются подыскать оправдание своей странной склонности.
Одни говорят: «Я не могу подписывать своей фамилией, у меня много однофамильцев». Однако всем нам известно, что в русской литературе трое Толстых, и их всех знают и не путают!
Другой восклицает: «Помилуйте, но я беру псевдоним только потому, что моя фамилия трудно произносится и плохо запоминается читателями». Однако всем понятно: создавай хорошие произведения — и читатели запомнят твое имя! (Конечно, у нас еще встречаются неблагозвучные и даже оскорбительные фамилии — когда-то бары давали их своим рабам. Такие фамилии просто надо менять в установленном порядке.)
Словом, оправданий много.
Но всем, кто не уважает свои фамилии, мне хочется привести здесь строки известного стихотворения Сергея Смирнова «Всем товарищам Смирновым». С гордостью рассказав о том, как много у него однофамильцев по всей стране, Сергей Смирнов пишет далее, что из газет он узнал о своем однофамильце — разоблаченном враге народа:
Но здесь С. Смирнов вспомнил о всех своих родных и однофамильцах, о труженике деде своем, который оставил по себе светлые воспоминания…
Как видно, у поэта Сергея Смирнова, не в пример многим упомянутым и не упомянутым в этой статье, были очень серьезные основания взять себе не только псевдоним, но даже сменить фамилию. Однако он не сделал этого — таким сильным оказалось у него чувство гордости за свой род, издавна носящий фамилию Смирновых!
Почему мы ставим вопрос о том, нужны ли сейчас литературные псевдонимы?
Не только потому, что эта литературная традиция, как и многие подобные ей, отжила свой век. В советских условиях она иногда наносит нам даже серьезный вред. Нередко за псевдонимами прячутся люди, которые антиобщественно смотрят на литературное дело и не хотят, чтобы народ знал их подлинные имена. Не секрет, что псевдонимами очень охотно пользовались космополиты в литературе. Не секрет, что и сейчас для отдельных окололитературных типов и халтурщиков псевдонимы служат средством маскировки и помогают им заниматься всевозможными злоупотреблениями и махинациями в печати. Они зачастую выступают одновременно под разными псевдонимами или часто меняют их, всячески запутывая свои грязные следы. Есть случаи, когда такие темные личности в одной газете хвалят какое-нибудь произведение, а в другой через неделю охаивают его.
Кстати, несколько слов о роли редакций газет и журналов в этом деле. Нередко редакции смотрят сквозь пальцы на то, как некоторые литераторы и журналисты прячутся за псевдонимами, а иногда и сами потакают им в этом своеобразном хамелеонстве. Напишет какой-нибудь журналист маленькую заметку, скажем о начале уборки хлебов в колхозе, и под ней обязательно ставит свой псевдоним, а редакторы считают, что так и должно быть. И зря так считают!
Нам кажется, что настало время навсегда покончить с псевдонимами. Любое имя советского литератора, честно работающего в литературе, считается в нашей стране красивым и с большим уважением произносится нашим многонациональным народом. Несомненно, что борьба с псевдонимами имеет весьма важное значение в повышении личной ответственности каждого, кто работает на литературном поприще.
«Литературная газета»,
6 марта 1951 года
В советском авторском праве узаконено, что «только автор вправе решить, будет ли произведение опубликовано под действительным именем автора, под псевдонимом или анонимно» (БСЭ, изд. 2–е, т. 1, с. 281). Однако ныне решение этого вопроса, ранее решавшегося каждым литератором самостоятельно, взял на себя единолично писатель Михаил Бубеннов и, решив его один за всех, положил считать отныне литературные псевдонимы «своеобразным хамелеонством», с которым «настало время навсегда покончить».
В своей заметке «Нужны ли сейчас литературные псевдонимы?» («Комсомольская правда», № 47) Михаил Бубеннов привел список ряда молодых литераторов, литературные псевдонимы которых пришлись ему, Бубеннову, не по вкусу.
На мой взгляд, было бы разумней, если бы Бубеннов обратился со своими соображениями к этим товарищам лично и порознь, а не в печати и чохом, так как вопрос о том, нравится или не нравится ему литературный псевдоним того или иного товарища, — вопрос личный, а не общественный.
Однако если Михаил Бубеннов решил начать публикацию списков писателей, имеющих литературные псевдонимы, то непонятно, почему он в первом же таком списке обошел ряд видных наших писателей, избравших себе такие, например, литературные имена, как: Полевой, Погодин, Мальцев, Яшин, Самед Вургун, Остап Вишня, Галин, Айбек, Крапива, Ян, Максим Танк, М. Ильин, Киачели, бр. Тур, Медынский, Иван Лe, Баширов?
Мне лично кажется, что Бубеннов сознательно назвал псевдонимы нескольких молодых литераторов и обошел этот (а он мог бы быть расширен) список псевдонимов известных писателей, ибо, приведи Бубеннов его, сразу бы стала во сто крат наглядней (явная, впрочем, и сейчас) нелепость бесцеремонного и развязного обвинения в «хамелеонстве», по существу, брошенного в его заметке всем литераторам, по тем или иным причинам (касающимся только их самих и больше никого) избравшим себе литературные псевдонимы.
Мне остается добавить, что аргументы, приводимые Бубенновым против литературных псевдонимов, в большинстве смехотворны. «Наше общество, — пишет Бубеннов, — хочет знать настоящие, подлинные имена таких людей и овевает их большой славой». Непонятно, почему наше общество хочет знать и овевать славой фамилию Кампов и почему оно не должно овевать славой литературное имя Борис Полевой?
«Всем понятно, — пишет Михаил Бубеннов, — создавай хорошие произведения, и читатель запомнит твое имя». Непонятно, почему читатели должны обязательно запомнить фамилию Рогалин и что им мешает запомнить литературное имя Борис Галин?
Говоря о неблагозвучных фамилиях, Бубеннов пишет, что «такие фамилии просто надо менять в установленном порядке». Во-первых, благозвучие фамилий — дело вкуса, а во-вторых, непонятно, зачем, скажем, драматургу Погодину, фамилия которого по паспорту Стукалов, вдруг менять эту фамилию в установленном порядке, когда он, не спросясь у Бубеннова, ограничился тем, что избрал себе псевдоним Погодин, и это положение более двадцати лет вполне устраивает читателей и зрителей. «Любители псевдонимов, — пишет Бубеннов, — всегда пытаются подыскать оправдание своей странной склонности». Непонятно, о каких оправданиях говорит здесь Бубеннов, ибо никто и ни в чем вовсе и не собирается перед ним оправдываться.
А если уж кому и надо теперь подыскивать оправдания, то разве только самому Михаилу Бубеннову, напечатавшему неверную по существу и крикливую по форме заметку, в которой есть оттенок зазнайского стремления поучать всех и вся, не дав себе труда разобраться самому в существе вопроса. Жаль, когда такой оттенок появляется у молодого, талантливого писателя.
Что же касается вопроса о халтурщиках, который Бубеннов попутно затронул в своей заметке, то и тут, вопреки мнению Бубеннова, литературные псевдонимы ни при чем. Халтурность той или иной проникшей в печать статьи или заметки определяется не тем, как она подписана — псевдонимом или фамилией, — а тем, как она написана, и появляются халтурные статьи и заметки не в результате существования псевдонимов, а в результате нетребовательности редакций.
Константин СИМОНОВ (Кирилл Михайлович Симонов)
«Комсомольская правда»,
8 марта 1951 года
Внимательно прочитав в «Комсомольской правде» статью М. Бубеннова «Нужны ли сейчас литературные псевдонимы?» и, как ответ на эту статью, заметку К. Симонова в «Литературной газете» — «Об одной заметке», по совести говоря, удивлен непонятной запальчивостью, которую проявил Симонов, полемизируя с Бубенновым, и необоснованностью доводов, приведенных Симоновым, яростно отстаивающим существование в литературе псевдонимов.
Подводя «юридический базис» под свои доводы в защиту псевдонимов, Симонов начинает со ссылки на советское авторское право, в котором сказано, что «только автор вправе решить, будет ли произведение опубликовано под действительным именем автора, под псевдонимом или анонимно». Но Симонов не упоминает о том, что авторское право узаконено было двадцать пять лет назад, что оно устарело и едва ли стоит его канонизировать. Примером «дряхлости» авторского права, появившегося на свет в 1925 году, служит хотя бы тот факт, что ни одного анонимного произведения за истекшие четверть века в нашей литературе не появилось да и едва ли могло появиться по причинам вполне понятным.
Некоей загадочностью веет от полемического задора и критической прыти К. Симонова. Иначе чем же объяснить хотя бы то обстоятельство, что Симонов сознательно путает карты, утверждая, будто вопрос о псевдонимах — личное дело, а не общественное? Нет, это вопрос общественной значимости, а будь он личным делом, не стоило бы редактору «Литературной газеты» Симонову печатать в этой газете заметку «Об одной заметке», достаточно было бы телефонного разговора между Симоновым и Бубенновым.
Симонов пишет: «…Михаил Бубеннов привел список ряда молодых литераторов, литературные псевдонимы которых пришлись ему, Бубеннову, не по вкусу». Но дело вовсе не во вкусовых ощущениях и не в том, что кому нравится и что не нравится. Разговор идет не о сливочном мороженом, а о литературе, о литературном быте, — стало быть, глагол «нравиться» в данном споре неуместен и в аргументации Симонова позиций его отнюдь не укрепляет.
С неоправданной резкостью обвиняя Бубеннова в бесцеремонности, крикливости, зазнайстве, развязности, нелепости и прочем, Симонов не видит всех этих качеств в своей собственной заметке, а качества эти прут у него из каждой строки и достаточно дурно пахнут. К примеру, чего стоит такой «разумный», по мнению Симонова, совет: «На мой взгляд, было бы разумней, если бы Бубеннов обратился со своими соображениями к этим товарищам (т. е. к тем, кто носит литературные псевдонимы. — М. Ш.) лично и порознь, а не в печати и чохом…» Кому-кому, а Симонову должно быть известно, что так много у нас литераторов, имеющих литературные псевдонимы, что Бубеннов, пожалуй, дожил бы до седин, если бы отважился на то, чтобы каждому «лично и порознь» высказывать свои соображения о псевдонимах.
Желая сознательно увести читателя подальше от существа вопроса, Симонов как бы обвиняет Бубеннова в том, что тот не приводит в своем списке известных писателей, носящих псевдонимы. Но в статье Бубеннова речь идет не о тех, кто издавна избрал себе ту или иную вымышленную фамилию и под этой фамилией широко известен советскому читателю, не посягает Бубеннов на изничтожение их псевдонимов. Речь идет о том, что молодежи наших дней, вступающей на литературное поприще, не нужна эта отжившая свой век «традиция». И думается мне, что правильно ставит вопрос Бубеннов, когда говорит о том, что не к лицу молодым литераторам стыдиться даже неблагозвучных фамилий своих отцов и праотцов и взамен их подыскивать себе надуманные звонкие фамилии.
В конце концов, правильно сказано в статье Бубеннова и о том, что известное наличие свежеиспеченных обладателей псевдонимов порождает в литературной среде безответственность и безнаказанность. Окололитературные деляги и «жучки», легко меняющие в год по пять псевдонимов и с такой же поразительной легкостью, в случае неудачи, меняющие профессию литератора на профессию скорняка или часовых дел мастера, наносят литературе огромный вред, развращая нашу здоровую молодежь, широким потоком вливающуюся в русло могучей советской литературы.
Никого Бубеннов не поучает и не хочет поучать. Сам заголовок его статьи целиком снимает обвинение, которое пытается приписать ему Симонов. А что касается зазнайства и кичливости, то желающие могут с успехом научиться этому у Симонова. Чего стоит одна его фраза в конце заметки, адресованная Бубеннову: «Жаль, когда такой оттенок появляется у молодого, талантливого писателя». Этакое барски — пренебрежительное и покровительственное похлопывание по плечу! Любопытно было бы знать, когда же и от кого получил Симонов паспорт на маститость и бессмертие? И стоит ли ему раньше времени записываться в литературные «старички»?
Кого защищает Симонов? Что он защищает? Сразу и не поймешь…
Спорить надо, честно и прямо глядя противнику в глаза. Но Симонов косит глазами. Он опустил забрало и наглухо затянул на подбородке ремни. Потому и невнятна его речь, потому и не найдет она сочувственного отклика среди читателей.
«Литературная газета»,
10 марта 1951 года
Писатель Михаил Шолохов в «Комсомольской правде» (№ 55) выступил в защиту заметки Михаила Бубеннова «Нужны ли сейчас литературные псевдонимы?» («Комсомольская правда», № 47), подвергнутой с моей стороны критике в «Литературной газете» (№ 27).
Несколько кратких замечаний по этому поводу.
Первое. Дискутировать в газетах о правомерности или неправомерности литературных псевдонимов, по-моему, нет нужды, ибо избирать или не избирать себе литературное имя — это личное дело писателя. Подчеркнуть именно это обстоятельство и было целью моего краткого ответа Бубеннову.
Второе. Шолохов спрашивает: «Кого защищает Симонов? Что он защищает? Сразу и не поймешь…» Я думаю, что это понятно, но, уважая имя Шолохова, могу объяснить еще раз. Я выступил в защиту писателей, пожелавших избрать себе литературные имена, от облыжных обвинений в хамелеонстве. Шолохов пишет, что Бубеннов говорит лишь о «молодежи наших дней, вступающей на литературное поприще» и не «посягает на изничтожение псевдонимов» известных писателей. Шолохов невнимательно прочел Бубеннова. Бубеннов связывает все вообще литературные псевдонимы с попытками «прятаться от общества» и со «своеобразным хамелеонством». Он пишет, что «настало время навсегда покончить с псевдонимами». На мой же взгляд, и маститый Погодин, избравший себе литературное имя двадцать лет назад, и молодой Мальцев, избравший его пять лет назад, одинаково не заслуживают нелепых попреков в хамелеонстве.
Третье. Считаю неверным и оскорбительным для нашей литературы соединение и в заметке Бубеннова, и в заметке Шолохова вопроса о литературных псевдонимах писателей с вопросом о борьбе с «отдельными халтурщиками», «окололитературными делягами и жучками».
Четвертое. Шолохов видит «барское пренебрежение» в моей фразе, адресованной Бубеннову: «Жаль, когда такой оттенок появляется у молодого, талантливого писателя». Остаюсь при убеждении, что Бубеннов талантлив и как писатель молод. Не видя в том ничего обидного, причисляю себя вместе с Бубенновым к молодым писателям, которым предстоит еще учиться многому и у многих, в том числе и у такого мастера литературы, как Михаил Шолохов. Не хотел бы учиться у Шолохова только одному — той грубости, тем странным попыткам ошельмовать другого писателя, которые обнаружились в этой его вдруг написанной по частному поводу заметке после пяти лет его полного молчания при обсуждении всех самых насущных проблем литературы. Мое глубокое уважение к таланту Шолохова таково, что, признаюсь, я в первую минуту усомнился в его подписи под этой неверной по существу и оскорбительно грубой по форме заметкой. Мне глубоко жаль, что эта подпись там стоит.
Наконец, последнее. Я убежден, что вся поднятая Бубенновым мнимая проблема литературных псевдонимов высосана из пальца в поисках дешевой сенсационности и не представляет серьезного интереса для широкого читателя. Именно поэтому я стремился быть кратким в обеих своих заметках и не намерен больше ни слова писать на эту тему, даже если «Комсомольская правда» вновь пожелает предоставить свои страницы для недостойных нападок по моему адресу.
К. Симонов
Раздраженная тирада Сталина против двойных фамилий: «Зачем это подчеркивать? Зачем это делать? Зачем насаждать антисемитизм? Кому это надо?» — на меня лично произвела сильное впечатление. По разным поводам я сталкивался в разговорах с людьми разных поколений с мнением, что Сталин не любит или, во всяком случае, недолюбливает евреев; сталкивался и с попытками объяснить это многими причинами, начиная с его отношения к Бунду и кончая приведением списка его основных политических противников, с которыми он в разное время покончил разными способами, списка, во главе которого стояли Троцкий, Зиновьев, Каменев и многие другие сторонники Троцкого и левые оппозиционеры. Это звучало, с одной стороны, вроде бы убедительно, а с другой — нет, потому что во главе правой оппозиции, с которой Сталин так же беспощадно расправился, были как на подбор люди с русскими фамилиями и с русским происхождением. С третьей же стороны, Каганович в нашем представлении большой период времени числился ближайшим соратником Сталина и чуть ли не так и назывался, до самого конца оставался членом Политбюро; Мехлис был долгие годы помощником Сталина, в годы войны, несмотря на керченский провал, за который можно было не сносить головы, оставался членом Военного совета разных фронтов, а потом стал министром государственного контроля; Литвинов полтора десятилетия фактически, а потом и официально руководил Наркоматом иностранных дел. В кинематографии, где с самого начала ее у нас так сложилось, что среди самых крупных ее дарований большинство составляли люди еврейского происхождения, в самые жестокие годы — тридцать седьмой и тридцать восьмой — было затронуто репрессиями людей куда меньше, чем в любой другой сфере искусства.
Правда, что-то смещалось и начинало происходить в последние годы, после войны. Внезапная гибель Михоэлса, которая сразу же тогда вызвала чувство недоверия к ее официальной версии; исчезновение московского еврейского театра; послевоенные аресты среди писавших на еврейском языке писателей; появление вслед за псевдонимами скобок, в которых сообщались фамилии; подбор людей, попавших в статью «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», по тому же признаку; различного рода попущения действующим в этом направлении доброхотам, иногда делавшим или пытавшимся делать на антисемитизме собственную карьеру, — все это, однако, не складывалось в нечто планомерное и идущее от Сталина. Мне, например, в его антисемитизм верить не хотелось: это не совпадало с моими представлениями о нем, со всем тем, что я читал у него, и вообще казалось чем-то нелепым, несовместимым с личностью человека, оказавшегося во главе мирового коммунистического движения.
А все-таки чувствовалось, что происходит нечто ненормальное, после войны что-то переменилось в этом смысле. Проблемы ассимиляции или неассимиляции евреев, которые просто-напросто не существовали в нашем юношеском быту, в школе, в институте до войны, эти проблемы начали существовать. Евреи стали делиться на тех, кто считает свою постепенную ассимиляцию в социалистическом обществе закономерной, и на тех, кто не считает этого и сопротивляется ей. В этих послевоенных катаклизмах, кроме нагло проявлявшегося антисемитизма, появился и скрытый, но упорный ответный еврейский национализм, который иногда в некоторых разговорах квалифицировался как своего рода национализм в области подбора кадров, — все это наличествовало и в жизни, и в сознании.
Но при том отношении к Сталину, которое у подобных мне людей продолжало в те годы оставаться почти некритическим, мы в разговорах между собою не раз возвращались к тому, кто же закоперщик этих все новых и новых проявлений антисемитизма. Кто тут играет первую скрипку, от кого это идет, распространяется? Кто, используя те или иные неблагоприятные для евреев настроения и высказывания Сталина, существование которых мы допускали, стремится все это гиперболизировать и утилизировать? Разные люди строили разные предположения, подразумевая при этом то одного, то другого, то третьего, то сразу нескольких членов тогдашнего Политбюро.
И вот, высказываясь по поводу книги Ореста Мальцева и двойных фамилий, сам Сталин, может быть, к чьему-то неудовольствию, но к радости большинства из нас, недвусмысленно заявил, что если есть люди, которые уже второй год не желают принимать к исполнению, казалось бы, ясно выраженное им, Сталиным, отрицательное отношение к этим двойным фамилиям, к этому насаждению антисемитизма, то сам он, Сталин, не только далек от того, чтоб поддерживать нечто похожее, но счел нужным при нас с полной ясностью высказаться на этот счет и поставить все точки над «и», объяснив, что это идет не от него, что он этим недоволен, что он это намерен пресечь.
Так я думал тогда и продолжал думать еще почти целый год, до тех пор, пока уже после смерти Сталина не познакомился с несколькими документами, не оставлявшими никаких сомнений в том, что в самые последние годы жизни Сталин стоял в еврейском вопросе на точке зрения, прямо противоположной той, которую он нам публично высказал. Вполне можно допустить, что ему не понравились какие-то, в определенный момент показавшиеся ему глупыми или неудачными мелочи вроде этих скобок после псевдонимов, но это не имело отношения к существу дела. Просто Сталин сыграл в тот вечер перед нами, интеллигентами, о чьих разговорах, сомнениях и недоумениях он, очевидно, был по своим каналам достаточно осведомлен, спектакль на тему «держи вора», дав нам понять, что то, что нам не нравится, исходит от кого угодно, но только не от него самого. Этот маленький спектакль был сыгран мимоходом. Сколько-нибудь долго объясняться с нами на эту тему он не считал нужным и был прав, потому что мы привыкли верить ему с первого слова.
Вернусь, однако, к тексту давно отложенной мною в сторону записи. Кстати, как я выяснил, посмотрев сейчас копию своего сопроводительного письма к замечаниям специалистов по Италии о романе Еремина, заседание Политбюро, о котором идет речь, происходило не в марте пятьдесят второго года, а примерно за неделю до публикации списка премий — двадцать шестого февраля.
«В заключение заседания Сталин заговорил о нашей драматургии, выразил свое недовольство ею.
— Плохо с драматургией у нас, — сказал он. — Вот говорят, что нравится пьеса Первенцева, потому что там конфликт есть. Берут заграничную жизнь, потому что там есть конфликты. Как будто у нас в жизни нет конфликтов. Как будто у нас в жизни нет сволочей. И получается, что драматурги считают, что им запрещено писать об отрицательных явлениях. Критики все требуют от них идеалов, идеальной жизни. А если у кого-нибудь появляется что-нибудь отрицательное в его произведении, то сразу же на него нападают. Вот у Бабаевского в одной из его книг сказано про какую-то бабу, про обыкновенную отсталую бабу, или про людей, которые были в колхозе, а потом вышли, оказались отсталыми людьми. И сразу же напали на него, говорят, что этого быть не может, требуют, чтоб у нас все было идеальным; говорят, что мы не должны показывать неказовую сторону жизни, — а на самом деле мы должны показывать неказовую сторону жизни. Говорят так, словно у нас нет сволочей. Говорят, что у нас нет плохих людей, а у нас есть плохие и скверные люди. У нас есть еще немало фальшивых людей, немало плохих людей, и с ними надо бороться, и не показывать их — значит, совершать грех против правды. Раз есть зло, значит, надо его лечить. Нам нужны Гоголи. Нам нужны Щедрины. У нас немало еще зла. Немало еще недостатков. Далеко не все еще хорошо. Вот Софронов высказывал такую теорию, что нельзя писать хороших пьес: конфликтов нет. Как пьесы без конфликтов писать? Но у нас есть конфликты. Есть конфликты в жизни. Эти конфликты должны получить свое отражение в драматургии — иначе драматургии не будет. А то нападают на все отрицательное, показанное драматургами, в результате они пугаются и вообще перестают создавать конфликты. А без конфликтов не получается глубины, не получается драматургии. Драматургия страдает от этого. Это надо объяснить, чтоб у нас была драматургия. У нас есть злые люди, плохие люди — это надо сказать драматургам. А критики им говорят, что этого у нас нет. Поэтому у нас и такая нищета в драматургии».
На этом заканчивается моя тогдашняя запись. Это были последние слова, что я услышал из уст Сталина в том сравнительно нешироком кругу, в котором проходили эти заседания.
Перечитывая это сейчас, думаю, что жили мы тогда в поистине трудное время для человека, занимающегося литературой, пишущего или, как я, редактирующего в те годы «Литературную газету». На протяжении года, двух, трех все буквально по нескольку раз могло перевернуться с головы на ноги, с ног на голову: достаточно сравнить хотя бы то, что говорилось в статье о критиках-антипатриотах и в бесчисленных последующих статьях того времени о наших театральных критиках, с тем, что говорил Сталин о них же три года спустя, в феврале пятьдесят второго года. Всякий раз он был прав, не мог не быть прав, но чем дальше, тем труднее выстраивалась ложная логика этой правоты. Чем дальше, тем труднее было приводить у себя в голове в какую-то систему, сколько-нибудь похожую на единую систему, то, что он требовал от критики, от литературы: то, что он говорил о необходимости правды жизни, — с тем, что сплошь и рядом тут же происходило вокруг попыток сказать об этой правде жизни. Не укладывалось в систему и то, что он иногда по собственной инициативе отбирал для присуждения премий действительно правдивые произведения, как это было с Пановой, или Некрасовым, или с Казакевичем, с тем, что при его поддержке проходили на премию произведения, вопиюще далекие от чего-либо похожего на правду жизни, такие, как «Борьба за мир» Панферова и его же «В стране поверженных», да и многое другое в том же духе.
Думал ли я об этом тогда? В последние годы жизни Сталина думал. Не с той, конечно, категоричностью в суждениях, наоборот, с внутренними искренними попытками понять его логику, объяснить его суждения той или иной политической необходимостью. Но мозги иногда лопались от этих по-своему честных стараний совместить несовместимое.
Моя следующая запись о Сталине датирована 16 марта 1953 года, то есть уже через какое-то количество дней после его смерти. Через какое именно, если быть до конца честным, сказать затрудняюсь. Возможно, на этом лежит печать государственной тайны, допускаю, что Сталин умер сразу, а не боролся еще несколько дней за жизнь, находясь без сознания. Бюллетени с первого же дня рисовали картину с медицинской точки зрения безнадежную. Могу допустить, что было признано необходимым растянуть на несколько дней в сознании большинства людей потрясающую новость, что Сталина нет. Допускаю, что нас приучали несколько дней к тому, что его вот-вот не будет. Может быть, я не прав и все было именно так, как писалось в бюллетенях, но мысль о том, что могло быть и так, как я сейчас думаю, из головы не выходит. Не до конца уверен и в том, как именно умер Сталин. Действительно ли его хватил удар в том одиночестве, на которое он себя обрек, и лишь через несколько часов обнаружили его лежащим на полу без сознания? Или его конец своими руками ускорил Берия?
Это можно допустить по нескольким причинам сразу.
Последнее полугодие своей жизни, в частности в связи с так называемым «Мингрельским делом», Сталин заметно отодвинул Берию от себя, хотя и сделал это, видимо, непоследовательно, не до конца, может быть, преувеличивая в тот момент свои возможности, часть которых была уже блокирована Берией. В этой ситуации Берия, конечно, был заинтересован в скорейшем конце Сталина.
Второе основание для таких размышлений связано с тем, что на протяжении рада лет все-таки именно Берия больше, чем кто-либо другой, способен был проникнуть к Сталину не только по его воле, но и, очевидно, помимо ее.
Третье основание. Все то, что мы узнали о Берии, выяснившаяся в июне пятьдесят третьего года его попытка захватить власть в свои руки, подсказывают и такую возможность, что первым шагом к этому могло быть и устранение Сталина — или прямое устранение, или под видом прихода ему на помощь.
Все эти допущения — результат многолетних размышлений, не столько над самими этими тайнами, в гораздо большей степени вообще над тем коротким отрезком нашей истории.
А тогда, в марте пятьдесят третьего года, как свидетельствуют мои записи, все это еще не приходило мне в голову.
«Последний день заседания XIX съезда партии. Уже объявлены результаты выборов в ЦК и в ревизионную комиссию, и после этого Ворошилов снова предоставляет слово одному за другим нескольким иностранным делегатам, приветствующим съезд. После нескольких дней отсутствия Сталин в этот последний день с самого начала заседания сидит в президиуме. Все в зале напряженно ждут того, о чем уже говорили между собою и вчера, и сегодня перед началом заседаний, — будет ли выступать Сталин? Если будет выступать, то как и по какому вопросу? Может быть, он закроет съезд?
Между тем заседание идет своим ходом, и оттого, что оно все продолжается и продолжается, возникают сомнения: а вдруг Сталин все-таки так и не выступит? Ворошилов предоставляет слово Копленигу; потом, когда тот, под аплодисменты сойдя с трибуны, садится на свое место, Ворошилов выдерживает небольшую паузу и говорит: «Приветствия делегаций коммунистических братских партий закончены». И уже без паузы объявляет: «Слово предоставляется товарищу Сталину».
Зал поднимается и рукоплещет. Сталин встает из-за стола президиума, обходит этот стол и бодрой, чуть-чуть переваливающейся походкой не сходит, а почти сбегает к кафедре. Кладет перед собой листки, которые, как мне кажется, он держал в руке, когда шел к трибуне, и начинает говорить — спокойно и неторопливо. Также спокойно и неторопливо он пережидает аплодисменты, которыми зал встречает каждый абзац его речи. В одном месте зал прерывает его речь так, что если продолжить ее с того слова, на котором она была прервана аплодисментами, то форма одного из строго построенных абзацев речи будет нарушена. Сталин останавливается, дожидается конца аплодисментов и начинает снова не с того места, с какого его прервали аплодисменты, а выше, с первого слова той фразы, которая кончается словами о знамени: «Больше некому его поднять».
В самом конце своей речи Сталин впервые чуть-чуть повышает голос, говоря: «Да здравствуют наши братские партии! Пусть живут и здравствуют руководители братских партий! Да здравствует мир между народами!» После этого он делает долгую паузу и произносит последнюю фразу: «Долой поджигателей войны!» Он произносит ее не так, как произнесли бы, наверное, другие ораторы — повысив голос на этой последней фразе. Наоборот, на этой фразе он понижает голос и произносит ее тихо и презрительно, сделав при этом левой рукой такой жест спокойного презрения, как будто отгребает, смахивает куда-то в сторону этих поджигателей войны, о которых он вспомнил, потом поворачивается и, медленно поднявшись по ступенькам, возвращается на свое место.
После этого мне довелось видеть Сталина еще два раза: на обеде, который давал Центральный Комитет членам иностранных делегаций коммунистических братских партий, и на последнем пленуме Центрального Комитета, в работе которого принимал участие Сталин».
На этом месте оторвусь от записи для того, чтобы и объяснить, и рассказать некоторые обстоятельства, связанные лично для меня с ее последним абзацем.
На XIX съезде партии я был в числе гостей с билетом на все заседания, за исключением, разумеется, того закрытого, на котором избирался новый состав ЦК. Вечером этого дня мне позвонил домой писатель Бабаевский и абсолютно неожиданно для меня поздравил меня с тем, что я выбран кандидатом в члены ЦК. Если бы мне позвонил кто-то другой, я, может быть, вообще не поверил бы в это, счел за розыгрыш и обругал бы говорившего, но Бабаевский был делегатом съезда, человеком, с которым мы были весьма далеки, и у меня не было оснований не поверить ему. Я поблагодарил его за поздравление, позвонил одному из своих знакомых делегатов съезда и проверил еще и у него, так ли это в действительности, и, убедившись, что так, подумал, что, очевидно, оказался в числе кандидатов в члены ЦК как главный редактор «Литературной газеты». Догадка была верной, так оно впоследствии и оказалось. Одновременно со мной, тоже впервые в своей жизни, были выбраны в ревизионную комиссию ЦК Твардовский — в то время редактор «Нового мира» и Сурков — в то время редактор «Огонька».
Мне почему-то кажется, что во всех трех случаях это была инициатива Сталина, хотя, может быть, я и ошибаюсь.
На обеде, который давал ЦК в честь делегаций коммунистических партий и который происходил чуть ли не в тот же вечер, когда закрылся съезд, я оказался сидящим рядом с Георгием Константиновичем Жуковым, выбранным так же, как и я, в кандидаты в члены ЦК. Тут уж не приходилось сомневаться, что это произошло по инициативе Сталина — никаких иных причин в то время быть не могло. Многих эта перемена в судьбе Жукова обрадовала и в то же время удивила. Меня удивила, наверное, меньше, чем других, потому что я помнил то, что говорил еще два года назад Сталин о Жукове в связи с обсуждением романа Казакевича «Весна на Одере». Теперь, во время этого ужина, сидя рядом с Жуковым, я не только вспомнил тот разговор о нем, который происходил на Политбюро, но и счел себя вправе рассказать о нем Георгию Константиновичу. Я чувствовал сквозь не изменявшую ему сдержанность, что он в тот вечер был в очень хорошем настроении. Думаю, что избрание в ЦК было для него неожиданностью. Тем сильнее, наверное, было впечатление, которое это произвело на него. Однако чувство собственного достоинства не позволило ему ни разу, ни словом коснуться этой, несомненно больше всего волновавшей его, темы за те несколько часов, что мы просидели с ним рядом.
Вел ужин и произносил тосты на нем Ворошилов. А Сталин, сидевший во главе стола, но чуть подальше от центра его, почти весь ужин общался с сидевшими — один совсем рядом с ним, а другой близко от него — (неразборчиво. — Л. Л.) и Торезом. Внимание его к ним обоим ощущалось даже как подчеркнутое, и, очевидно, это было не случайным, — так, во всяком случае, мне тогда показалось.
Пленум ЦК — первый, на котором я присутствовал в своей жизни, и единственный, на котором я видел Сталина, — состоялся днем позже, шестнадцатого октября. В мартовской 1953 года записи о пленуме этом по многим причинам я не распространялся. Но все же сначала приведу — такой, какая она есть, — тогдашнюю краткую запись, а потом по памяти расшифрую некоторые моменты ее, которые теперь, спустя двадцать семь лет, расшифровать, пожалуй, будет меньшим грехом, чем вовсе предать забвению.
Вот эта запись в первозданном виде:
«Естественно, я не вправе записывать все то, что происходило на пленуме ЦК, но, не касаясь вопросов, которые там стояли, я все-таки хочу записать некоторые подробности.
Когда ровно в назначенную минуту начался пленум, все уже сидели на местах и Сталин вместе с остальными членами Политбюро, выйдя из задней двери, стал подходить к столу президиума, собравшиеся в Свердловском зале захлопали ему. Сталин вошел с очень деловым, серьезным, сосредоточенным лицом и, быстро взглянув в зал, сделал очень короткий, но властный жест рукой — от груди в нашу сторону. И было в этом жесте выражено и то, что он понимает наши чувства к себе, и то, что мы должны понять, что этого сейчас не надо, что это пленум ЦК, где следует заняться делами.
Один из членов ЦК, выступая на пленуме, стоя на трибуне, сказал в заключение своей речи, что он преданный ученик товарища Сталина. Сталин, очень внимательно слушавший эту речь, сидя сзади ораторов в президиуме, коротко подал реплику: «Мы все ученики Ленина».
Выступая сам, Сталин, говоря о необходимости твердости и бесстрашия, заговорил о Ленине, о том, какое бесстрашие проявил Ленин в 1918 году, какая неимоверно тяжелая обстановка тогда была и как сильны были враги.
— А что же Ленин? — спросил Сталин. — А Ленин — перечитайте, что он говорил и что он писал тогда. Он гремел тогда в этой неимоверно тяжелой обстановке, гремел, никого не боялся. Гремел.
Сталин дважды или трижды, раз за разом повторил это слово: «Гремел!»
Затем в связи с одним из возникших на пленуме вопросов, говоря про свои обязанности, Сталин сказал:
— Раз мне это поручено, значит, я это делаю. А не так, чтобы это было только записано за мною. Я не так воспитан, — последнее он сказал очень резко».
Что же происходило и что стояло за этой краткой, сделанной мною в пятьдесят третьем году, записью? Попробую вспомнить и объяснить в меру своего разумения.
Не хочу брать грех на душу и пытаться восстанавливать те подробности происходившего на пленуме, которые я помнил, но тогда не записал. Скажу только о том, что действительно врезалось в память и осталось в ней как воспоминание тяжелое и даже трагическое.
Весь пленум продолжался, как мне показалось, два или два с небольшим часа, из которых примерно полтора часа заняла речь Сталина, а остальное время речи Молотова и Микояна и завершившие пленум выборы исполнительных органов ЦК. Сколько помнится, пока говорил Сталин, пленум вел Маленков, остальное время — сам Сталин. Почти сразу же после начала Маленков предоставил слово Сталину, и тот, обойдя сзади стол президиума, спустился к стоявшей на несколько ступенек ниже стола президиума, по центру его кафедре. Говорил он от начала и до конца все время сурово, без юмора, никаких листков или бумажек перед ним на кафедре не лежало, и во время своей речи он внимательно, цепко и как-то тяжело вглядывался в зал, так, словно пытался проникнуть в то, что думают эти люди, сидящие перед ним и сзади. И тон его речи, и то, как он говорил, вцепившись глазами в зал, — все это привело всех сидевших к какому-то оцепенению, частицу этого оцепенения я испытал на себе. Главное в его речи сводилось к тому (если не текстуально, то по ходу мысли), что он стар, приближается время, когда другим придется продолжать делать то, что он делал, что обстановка в мире сложная и борьба с капиталистическим лагерем предстоит тяжелая и что самое опасное в этой борьбе дрогнуть, испугаться, отступить, капитулировать. Это и было самым главным, что он хотел не просто сказать, а внедрить в присутствующих, что, в свою очередь, было связано с темою собственной старости и возможного ухода из жизни.
Говорилось все это жестко, а местами более чем жестко, почти свирепо. Может быть, в каких-то моментах его речи и были как составные части элементы игры и расчета, но за всем этим чувствовалась тревога истинная и не лишенная трагической подоплеки. Именно в связи с опасностью уступок, испуга, капитуляции Сталин и апеллировал к Ленину в тех фразах, которые я уже приводил в тогдашней своей записи. Сейчас, в сущности, речь шла о нем самом, о Сталине, который может уйти, и о тех, кто может после него остаться. Но о себе он не говорил, вместо себя говорил о Ленине, о его бесстрашии перед лицом любых обстоятельств.
Главной особенностью речи Сталина было то, что он не счел нужным говорить вообще о мужестве или страхе, решимости и капитулянтстве. Все, что он говорил об этом, он привязал конкретно к двум членам Политбюро, сидевшим здесь же, в этом зале, за его спиною, в двух метрах от него, к людям, о которых я, например, меньше всего ожидал услышать то, что говорил о них Сталин.
Сначала со всем этим синодиком обвинений и подозрений, обвинений в нестойкости, в нетвердости, подозрений в трусости, капитулянтстве он обрушился на Молотова. Это было настолько неожиданно, что я сначала не поверил своим ушам, подумал, что ослышался или не понял. Оказалось, что это именно так. Из речи Сталина следовало, что человеком, наиболее подозреваемым им в способности к капитулянтству, человеком самым в этом смысле опасным был для него в этот вечер, на этом пленуме Молотов, не кто-нибудь другой, а Молотов. Он говорил о Молотове долго и беспощадно, приводил какие-то не запомнившиеся мне примеры неправильных действий Молотова, связанных главным образом с теми периодами, когда он, Сталин, бывал в отпусках, а Молотов оставался за него и неправильно решал какие-то вопросы, которые надо было решить иначе. Какие, не помню, это не запомнилось, наверное, отчасти потому, что Сталин говорил для аудитории, которая была более осведомлена в политических тонкостях, связанных с этими вопросами, чем я. Я не всегда понимал, о чем идет речь. И, во-вторых, наверное, потому, что обвинения, которые он излагал, были какими-то недоговоренными, неясными и неопределенными, во всяком случае, в моем восприятии это осталось так.
Я так и не понял, в чем был виноват Молотов, понял только то, что Сталин обвиняет его за ряд действий в послевоенный период, обвиняет с гневом такого накала, который, казалось, был связан с прямой опасностью для Молотова, с прямой угрозой сделать те окончательные выводы, которых, памятуя прошлое, можно было ожидать от Сталина. В сущности, главное содержание своей речи, всю систему и обвинений в трусости и капитулянтстве, и призывов к ленинскому мужеству и несгибаемости Сталин конкретно прикрепил к фигуре Молотова: он обвинялся во всех тех грехах, которые не должны иметь места в партии, если время возьмет свое и во главе партии перестанет стоять Сталин.
При всем гневе Сталина, иногда отдававшем даже невоздержанностью, в том, что он говорил, была свойственная ему железная конструкция. Такая же конструкция была и у следующей части его речи, посвященной Микояну, более короткой, но по каким-то своим оттенкам, пожалуй, еще более злой и неуважительной.
В зале стояла страшная тишина. На соседей я не оглядывался, но четырех членов Политбюро, сидевших сзади Сталина за трибуной, с которой он говорил, я видел: у них у всех были окаменевшие, напряженные, неподвижные лица. Они не знали, так же как и мы, где, и когда, и на чем остановится Сталин, не шагнет ли он после Молотова, Микояна еще на кого-то. Они не знали, что еще предстоит услышать о других, а может быть, и о себе. Лица Молотова и Микояна были белыми и мертвыми. Такими же белыми и мертвыми эти лица остались тогда, когда Сталин кончил, вернулся, сел за стол, а они — сначала Молотов, потом Микоян — спустились один за другим на трибуну, где только что стоял Сталин, и там — Молотов дольше, Микоян короче — пытались объяснить Сталину свои действия и поступки, оправдаться, сказать ему, что это не так, что они никогда не были ни трусами, ни капитулянтами и не убоятся новых столкновений с лагерем капитализма и не капитулируют перед ним.
После той жестокости, с которой говорил о них обоих Сталин, после той ярости, которая звучала во многих местах его речи, оба выступавшие казались произносившими последнее слово подсудимыми, которые хотя и отрицают все взваленные на них вины, но вряд ли могут надеяться на перемену в своей, уже решенной Сталиным, судьбе. Странное чувство, запомнившееся мне тогда: они выступали, а мне казалось, что это не люди, которых я довольно много раз и довольно близко от себя видел, а белые маски, надетые на эти лица, очень похожие на сами лица и в то же время какие-то совершенно не похожие, уже неживые. Не знаю, достаточно ли я точно выразился, но ощущение у меня было такое, и я его не преувеличиваю задним числом.
Не знаю, почему Сталин выбрал в своей последней речи на пленуме ЦК как два главных объекта недоверия именно Молотова и Микояна. То, что он явно хотел скомпрометировать их обоих, принизить, лишить ореола одних из первых после него самого исторических фигур, было несомненно. Он хотел их принизить, особенно Молотова, свести на нет тот ореол, который был у Молотова, был, несмотря на то что, в сущности, в последние годы он был в значительной мере отстранен от дел, несмотря на то что Министерством иностранных дел уже несколько лет непосредственно руководил Вышинский, несмотря на то что у него сидела в тюрьме жена, — несмотря на все это, многими и многими людьми — и чем шире круг брать, тем их будет больше и больше, — имя Молотова называлось или припоминалось непосредственно вслед за именем Сталина. Вот этого Сталин, видимо, и не желал. Это он стремился дать понять и почувствовать всем, кто собрался на пленум, всем старым и новым членам и кандидатам ЦК, всем старым и новым членам исполнительных органов ЦК, которые еще предстояло избрать. Почему-то он не желал, чтобы Молотов после него, случись что-то с ним, остался первой фигурой в государстве и в партии. И речь его окончательно исключала такую возможность.
Допускаю, что, зная Молотова, он считал, что тот не способен выполнять первую роль в партии и в государстве. Но бил он Молотова как раз в ту точку, как раз в тот пункт, который в сознании людей был самым сильным «за» при оценке Молотова. Бил ниже пояса, бил по представлению, сложившемуся у многих, что как бы там ни было, а Молотов все-таки самый ближайший его соратник. Бил по представлению о том, что Молотов самый твердый, самый несгибаемый последователь Сталина. Бил, обвинял в капитулянтстве, в возможности трусости и капитулянтства, то есть как раз в том, в чем Молотова никогда никто не подозревал. Бил предательски и целенаправленно, бил, вышибая из строя своих возможных преемников. Вот то главное, что сохранилось в моем сознании в связи с этой речью.
И еще одно. Не помню, в этой же речи, еще до того, как дать выступить Молотову и Микояну, или после этого, в другой, короткой речи, предшествовавшей избранию исполнительных органов ЦК, — боюсь даже утверждать, что такая вторая речь была, возможно, все было сказано в разных пунктах первой речи, — Сталин, стоя на трибуне и глядя в зал, заговорил о своей старости и о том, что он не в состоянии исполнять все те обязанности, которые ему поручены. Он может продолжать нести свои обязанности Председателя Совета Министров, может исполнять свои обязанности, ведя, как и прежде, заседания Политбюро, но он больше не в состоянии в качестве Генерального секретаря вести еще и заседания Секретариата ЦК. Поэтому от этой последней своей должности он просит его освободить, уважить его просьбу. Примерно в таких словах, передаю почти текстуально, это было высказано. Но дело не в самих словах. Сталин, говоря эти слова, смотрел на зал, а сзади него сидело Политбюро и стоял за столом Маленков, который, пока Сталин говорил, вел заседание. И на лице Маленкова я увидел ужасное выражение — не то чтоб испуга, нет, не испуга, а выражение, которое может быть у человека, яснее всех других или яснее, во всяком случае, многих других осознавшего ту смертельную опасность, которая нависла у всех над головами и которую еще не осознали другие: нельзя соглашаться на эту просьбу товарища Сталина, нельзя соглашаться, чтобы он сложил с себя вот это одно, последнее из трех своих полномочий, нельзя. Лицо Маленкова, его жесты, его выразительно воздетые руки были прямой мольбой ко всем присутствующим немедленно и решительно отказать Сталину в его просьбе. И тогда, заглушая раздавшиеся уже и из-за спины Сталина слова: «Нет, просим остаться!» или что-то в этом духе, зал загудел словами: «Нет! Нельзя! Просим остаться! Просим взять свою просьбу обратно!» Не берусь приводить всех слов, выкриков, которые в этот момент были, но, в общем, зал что-то понял и, может быть, в большинстве понял раньше, чем я. Мне в первую секунду показалось, что это все естественно: Сталин будет председательствовать в Политбюро, будет Председателем Совета Министров, а Генеральным секретарем ЦК будет кто-то другой, как это было при Ленине. Но то, чего я не сразу понял, сразу или почти сразу поняли многие, а Маленков, на котором как на председательствующем в этот момент лежала наибольшая часть ответственности, а в случае чего и вины, понял сразу, что Сталин вовсе не собирался отказываться от поста Генерального секретаря, что это проба, прощупывание отношения пленума к поставленному им вопросу — как, готовы они, сидящие сзади него в президиуме и сидящие впереди него в зале, отпустить его, Сталина, с поста Генерального секретаря, потому что он стар, устал и не может нести еще эту, третью свою обязанность.
Когда зал загудел и закричал, что Сталин должен остаться на посту Генерального секретаря и вести Секретариат ЦК, лицо Маленкова, я хорошо помню это, было лицом человека, которого только что миновала прямая, реальная смертельная опасность, потому что именно он, делавший отчетный доклад на съезде партии и ведший практически большинство заседаний Секретариата ЦК, председательствующий сейчас на этом заседании пленума, именно он в случае другого решения вопроса был естественной кандидатурой на третий пост товарища Сталина, который тот якобы хотел оставить из-за старости и усталости. И почувствуй Сталин, что там сзади, за его спиной, или впереди, перед его глазами, есть сторонники того, чтобы удовлетворить его просьбу, думаю, первый, кто ответил бы за это головой, был бы Маленков; во что бы это обошлось вообще, трудно себе представить.
Уже не помню, кто оглашал под конец пленума состав исполнительных органов, за которые предстояло проголосовать членам ЦК, — сам Сталин или Маленков. Помню только реплику Сталина по поводу Андреева, который не вошел в состав членов и кандидатов в члены Президиума ЦК, что он отошел от дел и практически не может больше активно работать. Что-то в этом духе. Состав Президиума, который был выбран вместо Политбюро, для многих явился неожиданностью, для меня, конечно, тоже. То, что вместо Политбюро будет избран Президиум, было уже известно из утвержденного нового Устава. То, что в этом Президиуме будет двадцать пять человек и таким образом прежнее Политбюро составит даже меньше половины Президиума, было неожиданностью.
В отчете о первом дне съезда было написано так: «Семь часов вечера. Появление на трибуне товарища Сталина и его верных соратников тт. Молотова, Маленкова, Ворошилова, Булганина, Берии, Кагановича, Хрущева, Андреева, Микояна, Косыгина делегаты встречают долгими аплодисментами. Все встают… По поручению Центрального Комитета Коммунистической партии съезд открывает вступительной речью тов. В. М. Молотов».
Теперь в Президиуме из прежних членов Политбюро отсутствовал Андреев, а Косыгин оказался кандидатом в члены Президиума. Секретариат ЦК тоже был составлен небывало широкий: из десяти человек. Тогда мне это не приходило в голову, но потом я не раз думал, что, очевидно, Сталин хотел создать себе свободу маневрирования внутри Президиума и Секретариата. Может быть, у него были и более далеко идущие планы, которые, ему казалось, проще выполнить с расширенным составом Президиума и Секретариата. Но тогда я об этом не думал, а просто удивлялся некоторым персональным переменам. Главное же удивление мое было связано с тем, что, несмотря на яростную по отношению к Молотову и Микояну речь Сталина, они оба оказались в составе Президиума, — у меня это вызвало вздох облегчения. Но вслед за этим произошло то, что впоследствии не стало известным сколько-нибудь широко: Сталин, хотя этого не было в новом Уставе партии, предложил выделить из состава Президиума Бюро Президиума, то есть, в сущности, Политбюро под другим наименованием. И вот в это Бюро из числа старых членов Политбюро, вошедших в новый состав Президиума, не вошли ни Молотов, ни Микоян.
Приехав после пленума в «Литературную газету», я рассказал о создании Бюро Президиума своему заместителю — Борису Сергеевичу Рюрикову. Мы оба думали, что все это будет в печати. Но пришедшие в редакцию «тассовки» о создании Бюро Президиума не сообщили. Так это и осталось неизвестным, а в день смерти Сталина, когда мы явились на пленум ЦК, на котором сформировались за полтора — два часа до смерти Сталина новые органы власти, за столом президиума сидело Бюро, выбранное при Сталине, плюс Молотов и Микоян и минус сам Сталин. Таким образом, это его решение, очевидно самоличное, принятое на том пленуме, впоследствии как бы просто игнорировалось. И только в постановлении совместного заседания пленума ЦК КПСС, Совета Министров и Президиума Верховного Совета СССР был пункт, вскользь напоминавший о том, что некоторое время такое Бюро существовало, — в разделе о Президиуме Центрального Комитета КПСС и секретарях ЦК КПСС первый пункт выглядел так: «Признать необходимым иметь в Центральном Комитете КПСС вместо двух органов ЦК — Президиум и Бюро Президиума, один орган — Президиум Центрального Комитета КПСС, как это определено Уставом партии». Следующим же пунктом шло сокращение Президиума до прежнего состава Политбюро. Выглядело это так: «В целях большей оперативности в руководстве определить состав Президиума в количестве десяти членов и четырех кандидатов». Вместо двадцати пяти и одиннадцати, как это было после XIX съезда, — это я уже добавляю от себя.
Четыре с половиной месяца, прошедшие между последним пленумом ЦК с участием Сталина и его смертью, были месяцами тяжелыми и странными. Все как будто шло своим чередом: присуждались Международные Сталинские премии защитникам мира, проходил пленум Советского комитета защиты мира, обсуждались проблемы изучения Маяковского; продолжалась в «Литературной газете» своя газетная жизнь. А в это время в Чехословакии происходил процесс над Сланским и другими. Сланского я знал, он при мне выходил через фронт после словацкого восстания из Татр в места, занятые 4–м Украинским фронтом, где я тогда был, и я его видел в этот первый день. Был он вместе с будущим министром промышленности социал-демократом Лаушманом. Они рассказывали, как во время этого выхода из окружения у них на руках умер Ян Шверма, не выдержавший тяжести похода. Это было зимой сорок пятого года. Теперь, в ноябре пятьдесят второго, Сланскому было предъявлено обвинение в смерти Швермы и в связях с еврейской националистической организацией «Джойнт», агентом которой он якобы являлся. Среди проходивших по этому процессу был бывший политработник корпуса Свободы, а впоследствии заместитель министра обороны Чехословакии в бытность Свободы министром. С этим человеком — Бедржихом Райнцином — я довольно жестоко спорил по поводу своей пьесы «Под каштанами Праги», которая ему не нравилась; его позиция казалась мне слишком дидактической. Зная отношение к нему Свободы, зная, как высоко оценивал Свобода его участие в боях корпуса, я никак не представлял себе, что этот человек может оказаться шпионом. В декабре, летя через Прагу в Лондон, я встретил на аэродроме растерянного Яна Дрду, который сказал мне, что сам Свобода находится не то в тюрьме, не то под домашним арестом. Это меня буквально потрясло, потому что Свобода принадлежал к числу людей, которым я верил и продолжал верить безоговорочно во все времена.
В Прагу, оттуда через Париж в Лондон мы летели с Фединым. За несколько дней, если не накануне отлета работавший тогда в аппарате ЦК Владимир Семенович Лебедев, ныне покойный, сказал мне при встрече, что состоялось решение о назначении меня одним из двух главных редакторов «Правды». Я не сразу даже понял, о чем он говорит, но оказалось, что возникла идея, надо полагать у Сталина, иметь двух главных редакторов «Правды», и вот я должен был стать одним из них. Лебедев сказал, что это решено и оформляется, к тому времени, когда я вернусь, уже состоится назначение. Я не имел никаких оснований ему не верить, хотя все это было очень странно. Я не мог понять: как же так, для чего два главных редактора в «Правде»? Это мне льстило и пугало меня. Кстати, после возвращения из Англии никто к этому проекту и к этому разговору не возвращался, как будто его и не было. Видимо, это была одна из тех внезапных идей Сталина, о которых он потом забывал и которые уходили в песок, — и слава богу, что уходили.
В Англии мы встречались с рядом английских писателей, побывавших незадолго до этого у нас. На приеме у либерально настроенной английской писательницы Наоми Митчисон к нам с Фединым, разводя руками, подошел Александр Верт. Видеть его здесь после чехословацкого процесса, где он упоминался как один из связных между «Джойнтом» и Сланским, было уже само по себе некоторым потрясением. Но он, подойдя к нам, во всеуслышание заговорил, почти закричал: «Федин! Симонов! Вы меня знаете, я был военным корреспондентом у вас, вы это прекрасно знаете. Вы знаете, что я пишу книги, в которых не соглашаюсь со многим из того, с чем соглашаетесь вы. Но я клянусь вам, что я не знал никакого Сланского, во сне не видел никакого Сланского, не имел никогда с ним никакого дела, не имею о нем никакого представления. Скажите это там, в Москве. Пусть я плохой, пусть я никуда не годный, пусть как журналиста объявляют меня кем угодно, но скажите им там, чтоб они не считали меня тем, чем я никогда не был».
Ситуация, надо сказать, была не из легких, тем более что все в Верте в этот момент вызывало чувство доверия к его словам, а то, что происходило на процессе в Чехословакии, вызывало чувство обратное.
Мы к Новому году вернулись в Москву, а тринадцатого января в газетах было напечатано сообщение ТАСС о врачах — убийцах, сообщение ужасное, напоминавшее худшие времена тридцать седьмого — тридцать восьмого годов и такого же рода обвинения Плетнева и других в убийстве или в содействии убийству Орджоникидзе, Горького и Куйбышева. Теперь в роли жертв были Жданов и Щербаков, врачи-убийцы оказывались агентами все того же «Джойнта», у всех у них были еврейские фамилии, правда, к ним потом присоединили нескольких врачей с русскими фамилиями. Среди этих врачей с еврейскими фамилиями был человек, которого я прекрасно знал лично, — профессор Вовси. Он меня лечил во время войны и после нее, будучи главным терапевтом Красной Армии. В виновность его я просто не мог поверить. Да и вообще все это не вызывало веры, казалось чем-то чудовищным, странным. Когда неделю спустя появилось сообщение о награждении орденом Ленина врача Лидии Тимашук, которой правительство выражало благодарность за помощь в разоблачении врачей-убийц, вся эта история выглядела еще страшней, еще подозрительней. Накатывалась волна антисемитизма, во многих случаях не чуждая прямому сведёнию всякого рода личных счетов — недавних и давних.
Вторую половину января, февраль и первую половину марта, включая недели полторы после смерти Сталина, — вокруг дела врачей-убийц создавалась гнетущая атмосфера. Казалось, что нависает что-то страшное, повторение тридцать седьмого — тридцать восьмого годов. Даже смерть Сталина не сразу разрядила эту атмосферу, могу это сказать, опираясь на собственные ощущения.
В голове была полная сумятица. С одной стороны, я хорошо помнил, как совсем недавно в моем присутствии Сталин выступал против антисемитизма, я слышал это своими ушами. И вдруг эти врачи — убийцы, этот список с преимущественно еврейскими фамилиями, эти обличения в связи с «Джойнтом», вся та муть, которая поднялась со дна вокруг этого.
Врачи-убийцы — страшнее, кажется, придумать было невозможно. Все, начиная от самой формулировки, было намеренно рассчитано на огромный резонанс, на то, что люди, хоть немного поддавшиеся на это, хоть в какой-то степени этому поверившие, станут людьми со сдвинутыми мозгами, людьми, боящимися повседневно за собственную жизнь, за собственное здоровье и, что еще страшнее, за здоровье своих детей. В общем, было ощущение, что последствия всего этого могут оказаться поистине невообразимыми. Я мысленно спрашивал себя: что же произошло? Что Сталин? Что, он сознательно обманывал нас тогда, когда говорил совершенно обратное тому, что делалось (тут не приходилось сомневаться) по его прямому указанию и разрешению теперь, или он был искренен и тогда, и теперь? И верны те страшные, робко просачивавшиеся слухи о каких-то смещениях в его психике? В это и не хотелось верить, и страшно было поверить. Да и мысль о нарушениях в психике не сочеталась с теми впечатлениями, которые остались у меня от встреч, все это не укладывалось в голове. Не укладывалось в голове ни то, ни другое.
А сколько всяческой мути всплыло за это время на поверхность! Но, пожалуй, чтоб не заходить слишком далеко, начну от собственной печки, у нее же закончу.
На протяжении этих первых месяцев пятьдесят третьего года Алексей Александрович Сурков, который сидел в Союзе писателей, как в былые времена я, заменяя длительное или довольно длительное время отсутствовавшего Фадеева, дважды рассказывал мне о разговорах с работниками аппарата ЦК в связи с имевшими ко мне касательство письмами. Надо сказать, что Сурков глубоко, органически презирал и ненавидел и антисемитизм как явление, и антисемитов как его персональных носителей, не скрывал этого и в своем резком отпоре всему, с этим связанному, был последовательнее и смелее меня и Фадеева.
В первом случае он в ярости рассказывал мне о содержании письма, которое ему как исполняющему обязанности руководителя Союза писателей показали в аппарате ЦК. Это письмо, адресованное в ЦК, было не анонимным, его подписал один из тех бывалых людей, которые, имея немалые заслуги в годы войны, воспользовались сделанной чужими руками литературной записью своих подвигов для того, чтобы пробиться в Союз писателей. Не буду называть здесь фамилию этого человека, которую я узнал от Суркова, не посчитавшего нужным скрывать ее от меня. Он погиб через год или два после этого — случайной и злой в своей предельной нелепости смертью, — так что бог с ним. Но само письмо заслуживает краткого пересказа даже сейчас, через столько лет, поскольку оно характеризует какую-то частицу атмосферы того времени, когда не аноним, а человек, носивший известное имя, решил заняться антисемитского характера раскопками такой глубины, до которой додумывались, пожалуй, только фашисты.
В своем письме он хотел обратить внимание отдела агитации и пропаганды ЦК, что то потворство евреям и то засилье евреев, с которым связана деятельность руководимой мною «Литературной газеты», объясняются моим собственным еврейским происхождением. Как он выяснил, я был на самом деле не Симоновым, а Симановичем, родился в еврейской семье и являлся сыном шинкаря в имении графини Оболенской, впоследствии взявшей меня на воспитание и усыновившей. Эти сведения он, видимо, считал достаточно серьезными для того, чтобы, подписавшись собственной фамилией, направить их в ЦК. Сурков, как я уже упомянул, говорил об этом с яростью, а я, услышав это, в первую минуту расхохотался. Расхохотался потому, что моей первой реакцией была мысль о том, как я расскажу про это своей маме, которая не имела имения с шинкарем по фамилии Симанович, и вообще имения не имела, и не была графиней Оболенской, потому что графов Оболенских не было, были только князья Оболенские. Но что правда, то правда, была урожденной княжной Оболенской, вышедшей перед Первой мировой войной замуж за полковника Симонова и именно от него имевшей ею рожденного сына Кирилла, к ее большому, кстати, неудовольствию подписывавшего свои сочинения как Константин Симонов. И мама потом действительно ужасно смеялась над всем этим. Но Сурков первой моей реакции тогда не разделил.
— Напрасно смеешься, — сказал он мне. — Лучше подумай над тем, до чего надо докатиться, чтобы писать такие письма в ЦК, что это за обстановка, в которой человек решается на писание таких писем.
И он был, конечно, прав — несмотря на смехотворную форму, как знак времени это письмо имело и свою серьезную сторону Наконец Сурков тоже все-таки рассмеялся, когда я ему рассказал, почему я в первый момент расхохотался. Я поблагодарил его за информацию, а он только сердито и грустно махнул рукой.
— Хорош бы я был, если б я не стал рассказывать тебе этого. — По выражению его лица я понял, что кто-то, с кем он говорил, видимо, не рекомендовал ему рассказывать мне этого и Сурков сделал это вопреки чьему-то совету.
В самом конце января, когда в «Литературной газете» печатался не то последний, не то предпоследний материал о происходившей среди писателей дискуссии «Об основных вопросах изучения творчества В. В. Маяковского», Суркова снова вызвали туда же, куда и в первый раз, в связи с тем, что что-то кому-то в этих отчетах не понравилось. И в связи с этими, обращенными ко мне как к редактору газеты да и практическому руководителю этой дискуссии, недовольствами работавший тогда в отделе агитации и пропаганды Владимир Семенович Кружков, которого я хотя и знал довольно много лет, но не мог бы, положа руку на сердце, сказать о нем ничего ни плохого, ни хорошего, с некоторой оторопью, наверное от неожиданности того, что он узнал и чем собирался поделиться с Сурковым, сказал Суркову, что у них имеются серьезные, хотя еще и не до конца проверенные сигналы о том, что в Москве существует в писательских кругах непосредственно связанная с «Джойнтом» группа лиц, возглавляет которую не кто иной, как Константин Симонов. На этот раз Кружков никаких писем Суркову не показывал, хотя надо думать, что серьезными сигналами, о которых говорил Кружков, были именно письма, и на этот раз скорее всего анонимные, но та оторопь, с которой рассказывал ему обо всем этом Кружков, запала Суркову в память. Не знаю, что уж он там сказал Кружкову, наверное, со своей обычной в таких случаях резкостью не полез за словом в карман и рубанул то, что думал, а мне в заключение разговора сказал горько и серьезно:
— Разумеется, предполагалось, что я тебе всего этого не скажу, да и не хотелось, по правде говоря, говорить все эти пакости, но тебе нужно это знать. Нужно знать, что какие-то сволочи копают под тебя, хотят во что бы то ни стало вырыть тебе могилу. И учти, что при всей нелепости все это говорилось с таким серьезным видом, что я ушам своим не поверил.
Так закончился наш второй разговор с Сурковым в эти месяцы, важный для меня. Был потом еще и третий, но это уже после смерти Сталина, и о нем отдельно.
Как ни странно, вернее, каким бы странным это ни казалось мне сейчас, но в памяти у меня не осталось, когда именно, где, при каких обстоятельствах, из газеты, или по радио, или каким-то другим образом я узнал о правительственном сообщении о болезни Сталина. Все дальнейшее, происходившее в те дни, и коротко записано почти тогда же, и сохранилось в памяти. А это и не сохранилось, и не записано. Рассказ об этих днях начну прямо со своей записи, сделанной 16 марта 1953 года.
«Несколько слов о скорбных днях марта этого года. Записывать это трудно, потому что до конца не вошло еще в сознание, что Сталина нет, что он умер. То есть чувство такое, что, конечно, так, это случилось, и это знаю я, и это знают все, а в то же время до сознания все еще не доходит, что Сталина уже нет. Мне кажется, что я ничего не забуду, не в состоянии буду забыть. Кажется, что все подробности, связанные с этими днями, останутся в моей памяти навсегда. И поэтому трудно заставить себя записывать, трудно писать о том, чего, как тебе кажется, ты все равно никогда не забудешь. Но память обманчивая вещь. Подробности могут уплыть или могут когда-нибудь впоследствии выстроиться в памяти не в том порядке, в каком они друг за другом следовали, и поэтому хотя бы некоторые из них все-таки надо, даже пересилив себя, записать сейчас.
Одним из первых чувств, владевших мной с самого начала, было какое-то очень упорное нежелание вникать в подробности бюллетеней, нежелание знать и понимать, что они означают на медицинском языке. Казалось бессмысленным рассуждать о том, что такое пульс, давление, температура и всякие другие подробности бюллетеней, что они значат для состояния здоровья человека, которому семьдесят три года. Не хотелось об этом думать самому и не хотелось разговаривать об этом с другими, потому что казалось, что нельзя говорить о Сталине просто как о старом человеке, который вдруг тяжело заболел. Казалось, что самое главное не все эти медицинские термины, не все эти подробности о болезни Сталина, самое главное — другое: придет он в сознание или не придет. Пугало больше всего то, что он без сознания и, значит, его воля не участвует в борьбе с болезнью. Казалось, если только он придет в сознание, то у него такая воля, что он выживет.
Четвертого числа вечером я пришел в Кремль, в комнату, где помещался секретариат Сталина. Другие люди, вызванные туда, так же как и я, по одному короткому делу, молча приходили, молча раздевались, молча пятнадцать-двадцать минут занимались тем делом, по которому были вызваны, и так же молча, не обменявшись ни одним словом, уходили».
Здесь я оторвусь от текста тогдашней записи. Не знаю, почему я тогда счел нужным, записывая, обойти молчанием дело, по которому нас вызвали. В Кремль, в секретариат Сталина в тот вечер, на протяжении нескольких часов, вызывались находившиеся в Москве, а может быть, и уже вызванные в Москву члены и кандидаты в члены ЦК, а возможно, и еще какой-то круг лиц — этого я не знаю, — для того чтобы познакомиться с бюллетенями о состоянии здоровья Сталина. Мотивы, по которым это делалось, как мне сейчас думается, могли быть двоякими. Во-первых, могли хотеть познакомить определенный круг лиц с подлинниками бюллетеней, и во-вторых, эти бюллетени-подлинники могли быть и более подробными, чем тот текст, который передавался для печати. Скорей всего так оно и было, бюллетени были или более подробные, или почасовые, потому что если — как я записал тогда — «для того, чтобы сделать то, для чего нас вызывали, требовалось пятнадцать-двадцать минут», значит, это было связано с чтением по крайней мере нескольких страниц.
Возвращаюсь к тексту записи от шестнадцатого марта пятьдесят третьего года:
«Меня не оставляло чувство, что все как будто остается таким же, каким и было: тот же путь вдоль кремлевской стены, изнутри ее, и тот же офицер, проверяющий документы у входа, и та же дверь, и та же лестница, по которой мне раньше приходилось подниматься шесть раз за последние годы. Но в молчании людей, в тишине лестницы, в тишине коридоров, тихих и прежде, но сейчас как-то вдруг особенно тихих, было ощущение того, что в этом доме несчастье.
Когда я поднялся по лестнице и прошел по коридору, сначала попал не в ту из комнат секретариата Сталина, в которую мне следовало пройти, а зашел в другую, в ту самую, где когда-то, в сорок седьмом году, вместе с Фадеевым и Горбатовым мы сидели и ждали десять минут, когда нас примет Сталин, — в тот первый раз, когда я его увидел.
В комнате все так же, как и прежде, стояли столы, один из них — посередине комнаты. Поднялся человек и сказал: «Нет, сейчас налево и в следующую дверь». Я вышел и, пройдя в следующую дверь в соседнюю комнату, вспомнил, что и здесь мы сидели и поджидали — два или три раза — перед обсуждением Сталинских премий. Тогда сидели и разговаривали. А сейчас в этой комнате было абсолютное молчание, хотя в ней находилось много людей. Молчание было полное, глубокое. За этим молчанием стояло чувство, что вот где-то здесь, через несколько комнат, еще коридор, еще комната, потом еще комната и где-то в какой-то комнате у себя на квартире лежит умирающий Сталин. И нас, молчаливо сидящих здесь, отделяет от него всего-навсего кусок коридора и несколько дверей. И Сталин лежит и никак не может прийти в сознание очень близко от нас, именно в этом самом доме, в котором мы сидим».
Здесь снова оторвусь от своей записи пятьдесят третьего года. Сейчас уже давно общеизвестно, что Сталин умер не у себя в квартире, в Кремле, как это было сказано в правительственном сообщении, а за городом, на своей так называемой ближней даче. Сетовать, тем более возмущаться этим уклонением от истины, содержавшимся в первом правительственном сообщении, мне как-то сейчас, спустя много лет, не приходит в голову. Очевидно, люди, выпускавшие тогда это сообщение, имели или считали, что имеют, некие государственные резоны для такого уклонения от истины. Думаю, что, мысленно поставив себя на место этих людей тогда, можно без особого труда представить себе и их резоны в обоих возможных случаях: и в том случае, если Сталин лишился сознания и оказался при смерти второго марта, а умер вечером пятого, в соответствии с сообщениями и медицинскими бюллетенями; и в том случае, если допустить, что он был мертв тогда же, сразу, второго, и после этого в течение трех дней медицинскими бюллетенями, в сущности, не оставлявшими никакой надежды на выздоровление, людей подготавливали к этому событию, которое, как бы ни относиться к самому Сталину, объективно означало конец длительного периода нашей истории, связанного с его именем.
И по правде говоря, меня и сейчас, спустя четверть века, не терзает любопытство, как это умирание происходило на самом деле. Я не сталкивался с людьми, которые бы с убедившей меня достоверностью рассказали мне о том, как было на самом деле, и не домогался узнать это от людей, которые должны были это знать, но не проявляли желания говорить со мной на эту тему. Могло быть и так, и эдак, но и в том, и в другом случае все это было второстепенным рядом с такими понятиями, как конец одной эпохи и начало другой.
Снова возвращаюсь к записи пятьдесят третьего года:
«Пятое марта, вечер. В Свердловском зале должно начаться совместное заседание ЦК, Совета Министров и Верховного Совета, о котором было потом сообщено в газетах и по радио. Я пришел задолго до назначенного времени, минут за сорок, но в зале собралось уже больше половины участников, а спустя десять минут пришли все. Может быть, только два или три человека появились меньше, чем за полчаса до начала. И вот несколько сот людей, среди которых почти все были знакомы друг с другом, знали друг друга по работе, знали в лицо, по многим встречам, — несколько сот людей сорок минут, а пришедшие раньше меня еще дольше, сидели совершенно молча, ожидая начала. Сидели рядом, касаясь друг друга плечами, видели друг друга, но никто никому не говорил ни одного слова. Никто ни у кого ничего не спрашивал. И мне казалось, что никто из присутствующих даже и не испытывает потребности заговорить. До самого начала в зале стояла такая тишина, что, не пробыв сорок минут сам в этой тишине, я бы никогда не поверил, что могут так молчать триста тесно сидящих рядом друг с другом людей. Никогда по гроб жизни не забуду этого молчания».
Так я записал тогда. И действительно, если не по гроб жизни, то по сей день, когда с тех пор минуло уже двадцать шесть лет, этого молчания я не забыл.
А теперь несколько слов в дополнение к записанному тогда.
Первое впечатление: из задних дверей Свердловского зала вошли и сели за стол президиума не двадцать пять человек, выбранных в Президиум при Сталине, а только те, кто вошел при Сталине в Бюро Президиума, — Маленков, Берия, Каганович, Булганин, Хрущев, Ворошилов, Сабуров, Первухин. Кроме них, Молотов и Микоян, которых Сталин в это Бюро не включал. Таким образом, воля Сталина, с одной стороны, с самого начала была как бы соблюдена тем, что за столом президиума сидели Сабуров и Первухин, — с другой стороны, отвергнута, потому что за столом президиума девятым и десятым сидели Молотов и Микоян, при жизни Сталина не включенные им в состав Бюро Президиума. Так я формулирую это сейчас. А тогда чувство было, пожалуй, проще: вышло и село за стол прежнее Политбюро, к которому добавились Первухин и Сабуров.
Вступительную речь, если мне не изменяет память, сказал Маленков. Она — не текстуально, а по сути — сводилась к тому, что товарищ Сталин продолжает бороться со смертью, но состояние его настолько тяжелое, что даже если он возобладает над смертью, то не сможет работать очень длительное время. А на такое время невозможно оставлять страну без полноправного руководства. Нельзя пребывать в неопределенном положении, этого не позволяет и международная обстановка. Поэтому необходимо теперь же, не откладывая, сформировать правительство и произвести все необходимые назначения, связанные с этим.
После этого Маленков предоставил слово Берии. Берия, спустившись к трибуне, коротко предложил назначить Председателем Совета Министров Маленкова. Когда это предложение было проголосовано, он пошел обратно — стал подниматься к столу президиума, а Маленков стал спускаться к кафедре. Оказавшись лицом друг к другу, они с трудом разминулись в узком пространстве животами. Добавлю, что тогда я подумал об этом без усмешки, даже без намека на нее, просто, как это иногда бывает, засек глазами, а оказалось, что навсегда.
Спустившись к кафедре, Маленков стал вносить те предложения, которые на следующий день все прочли в газетах и услышали, кажется, еще раньше, по радио — уже после сообщения о смерти Сталина. Среди четырех первых заместителей Председателя Совета Министров Маленков назвал первым Берию и уже после него Молотова, Булганина и Кагановича. Дальнейшие предложения сводились к тому, чтобы сосредоточить власть и связанные с властью основные министерства в возможно меньшем количестве рук. «В целях большей оперативности в руководстве» состав членов Президиума ЦК и кандидатов в члены Президиума ЦК сокращался в два с половиной раза, членами Президиума оставались те, кто с самого начала заседания вошел и сел за стол президиума. В сущности, появилась тенденция сосредоточить власть в руках Президиума Совета Министров, в который вошло пять, то есть половина, членов Президиума ЦК. В Секретариате ЦК с указанием на то, что он должен сосредоточиться на этой работе, остался только один член Президиума — Хрущев. Еще один член Президиума ЦК — Ворошилов — стал Председателем Президиума Верховного Совета, а трое других членов Президиума ЦК — Микоян, Сабуров и Первухин — стали министрами, но не входящими в Президиум Совета Министров. Наверное, за таким распределением сил стояла мысль об изменении соотношения меры власти ЦК и Совета Министров. Возможно, эта инициатива исходила от Берии, во всяком случае, и впоследствии он активно действовал именно в этом направлении, стремясь и в республиках ставить главных, первых лиц на посты Председателей Советов Министров, а на посты секретарей ЦК — лиц второстепенных.
Эти мои размышления не тогдашние, а, разумеется, нынешние.
После окончания, сговорившись с Шепиловым, редактировавшим тогда «Правду», мы, писатели, — твердо помню, что это были Фадеев, Корнейчук, я не помню точно, были ли вместе с нами Сурков и Твардовский, — поехали в редакцию «Правды». Помимо всего, что, казалось бы, полностью забило голову в эти часы, тех событий и перемен; помимо того, что и сам характер заседания, и назначения, произведенные на нем, говорили о том, что Сталин вот-вот умрет, у меня было еще одно чувство, от которого я пробовал избавиться и не мог: у меня было ощущение, что появившиеся оттуда, из задней комнаты, в президиуме люди, старые члены Политбюро, вышли с каким-то затаенным, не выраженным внешне, но чувствовавшимся в них ощущением облегчения. Это как-то прорывалось в их лицах — пожалуй, за исключением лица Молотова — неподвижного, словно окаменевшего. Что же до Маленкова и Берии, которые выступали с трибуны, то оба они говорили живо, энергично, по-деловому. Что-то в их голосах, в их поведении не соответствовало преамбулам, предшествовавшим тексту их выступлений, и таким же скорбным концовкам этих выступлений, связанным с болезнью Сталина. Было такое ощущение, что вот там, в президиуме, люди освободились от чего-то давившего на них, связывавшего их. Они были какие-то распеленатые, что ли. Может быть, я думал не теми словами, которыми я сейчас пишу об этом, даже наверное. Я думал осторожней и неувереннее. Но несомненно, что я об этом думал. В основе своей это не сегодняшние, а тогдашние чувства, запомнившиеся потом на всю жизнь.
Минут через двадцать мы были в «Правде» и сидели в кабинете у Шепилова. Разговор шел какой-то приглушенный, особенно говорить никому из нас не хотелось. Говорили о том, что надо подумать над тем, чтобы известные писатели выступили с рядом статей в «Правде» на различные темы, что это необходимо, что надо составить план таких статей и так далее, и тому подобное. Но говорилось все это так, словно необходимо было об этом говорить, но говорится это немножко раньше, чем нужно, потому что хотя определен новый состав Президиума ЦК и Секретариата, хотя сформирован Совет Министров с Маленковым во главе, хотя Ворошилов стал Председателем Президиума Верховного Совета — все это так, но для того, чтобы писать, нужна какая-то определенность в том, что должны написать писатели, и в том, что хотят от них. Определенности не было, потому что Сталин был еще жив или считалось, что он еще жив. Так за этим разговором прошло минут сорок, и не знаю, сколько бы тянулся он еще — вялый и неопределенный, когда зазвонила «вертушка». Шепилов взял трубку, сказал в нее несколько раз: «Да, да», — и, вернувшись к столу, за которым мы сидели, сказал: «Позвонили, что товарищ Сталин умер».
И, несмотря на все предыдущее — на заседание, после которого мы приехали сюда, на решения, которые были приняты, все равно что-то в нас, во всяком случае во мне, содрогнулось в эту минуту. Что-то в жизни кончилось. Что-то другое, неизвестное еще, началось. Началось не тогда, когда в связи с тем-то и тем-то оказалось необходимым назначить Маленкова Председателем Совета Министров еще при жизни Сталина и он был им назначен, — не тогда, а вот сейчас, после этого звонка.
Не помню, кто что взял на себя, что собрался делать и написать, — я сказал, что напишу стихи, я не знал, сумею ли написать эти стихи, но знал, что ни на что другое в этот момент не способен.
Не задерживаясь в «Правде», я поехал домой. «Литературная газета» выходила только послезавтра, седьмого, и я, вернувшись домой, позвонил своему заместителю Борису Сергеевичу Рюрикову, что приеду часа через два, заперся у себя в комнате и стал писать стихи. Написал первые две строфы и вдруг неожиданно для себя, сидя за столом, разрыдался. Мог бы не признаваться в этом сейчас, потому что не люблю ничьих слез — ни чужих, ни собственных, но, наверное, без этого трудно даже самому себе объяснить меру потрясения. Я плакал не от горя, не от жалости к умершему, это не были сентиментальные слезы, это были слезы потрясения. В жизни что-то так перевернулось, потрясение от этого переворота было таким огромным, что оно должно было проявиться как-то и физически, в данном случае судорогой рыданий, которые несколько минут колотили меня. Потом я дописал стихи, отвез их в «Правду» и поехал в «Литературную газету», чтобы рассказать Рюрикову о том, что было в Кремле. Завтра нам предстояло делать номер газеты, и ему надо было это знать — чем раньше, тем лучше.
Передо мной лежит сейчас пачка сложенных тогда, в пятьдесят третьем году, материалов и документов тех мартовских дней. Все засунуто в одну, много лет пролежавшую папку: траурная повязка, с которой стоял в почетном карауле, и пропуск на Красную площадь с надпечаткой «проход всюду»; стенограмма одного из двух писательских траурных собраний, на котором я выступал вместе со многими другими, и вырезка газетного отчета о другом писательском собрании, где я читал свои, плохие, несмотря на рыдания, стихи; пачка газет за те дни — «Правды», «Известий», «Литературки» и других.
Потом, спустя годы, разные писатели разное и по-разному писали о Сталине. Тогда же говорили, в общем, близко друг к другу — Тихонов, Сурков, Эренбург. Все сказанное тогда очень похоже. Может быть, некоторое различие в лексиконе, да и то не слишком заметное. В стихах тоже поражающе похожие ноты. Лучше всех — это неудивительно, учитывая меру таланта, — написал все-таки Твардовский: сдержаннее, точнее. Почти все до удивления сходились на одном:
Это Твардовский.
А это Симонов.
Это Берггольц.
А это Исаковский.
Похоже, очень похоже написали мы тогда эти стихи о Сталине. Ольга Берггольц, сидевшая в тридцать седьмом, Твардовский — сын раскулаченного, Симонов — дворянский отпрыск и старый сельский коммунист Михаил Исаковский. Можно бы к этому добавить и другие строки из других стихов людей с такими же разнообразными биографиями, связанными с разными поворотами судеб личности в сталинскую эпоху. Тем не менее схожесть стихов была рождена не обязанностью их написать — их можно было не писать, а глубоким внутренним чувством огромности потери, огромности случившегося. У нас были впереди потом еще долгие годы для того, чтобы попробовать разобраться в том, что это была за потеря, и лучше или хуже было бы я не боюсь задавать себе этот достаточно жестокий вопрос — для всех нас и для страны, если бы эта потеря произошла не тогда, а еще позже. Во всем этом предстояло разбираться, особенно после XX съезда, но и до него тоже.
Однако сама огромность происшедшего не подлежала сомнению, и сила влияния личности Сталина и всего порядка вещей, связанного с этой личностью, для того круга людей, к которому я принадлежал, тоже не подлежала сомнению. И слово «потеря» уживалось со словом «печаль» без насилия авторов над собою в тех стихах, которые мы тогда написали. «Так это было на земле», — скажет немногим позже Твардовский, одним из самых первых и много глубже других начавший думать об этом.
Сейчас, еще раз перелистав газеты тех дней, хочу вернуться к своим размышлениям о том, когда же все-таки умер Сталин — сразу, и нас готовили к этому, или он умер до того, как собралось совместное заседание, произведшее новые назначения, или он умер действительно тогда, когда при нас раздался звонок в «Правду» Шепилову, около десяти часов вечера пятого марта. Не хочу строить догадок на материале, недоступном другим людям, но вот читаю постановление совместного заседания Центрального Комитета, Совета Министров и Президиума Верховного Совета, появившееся на следующий день после сообщения о смерти Сталина, вижу, что в преамбуле о смерти Сталина не говорится, о смерти его говорилось накануне в обращении ко всем членам партии и всем трудящимся Советского Союза, а преамбула постановления составлена так, что неизвестно, в какой день произошло это совместное заседание — предшествовало оно смерти Сталина или состоялось после его смерти. Процитирую эту преамбулу, она очень интересна с этой точки зрения:
«Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет Министров Союза ССР, Президиум Верховного Совета СССР в это трудное для нашей партии и страны время считают важнейшей задачей партии и правительства обеспечение бесперебойного и правильного руководства всей жизнью страны, что в свою очередь требует величайшей сплоченности руководства, недопущения какого-либо разброда и паники, с тем чтобы таким образом безусловно обеспечить успешное проведение в жизнь выработанной нашей партией и правительством политики — как во внутренних делах нашей страны, так и в международных делах. Исходя из этого и в целях недопущения каких-либо перебоев по руководству деятельностью государственных и партийных органов, Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет Министров Союза ССР и Президиум Верховного Совета признают необходимым осуществить рад мероприятий по организации партийного и государственного руководства».
На обратной стороне этой страницы «Правды», где это напечатано, опубликовано постановление об установлении саркофага Сталина рядом с саркофагом Ленина, постановление о сооружении пантеона, постановление о трауре — шестого, седьмого, восьмого и девятого марта. Там же извещение комиссии по организации похорон о доступе в Колонный зал и времени похорон, первый репортаж из Колонного зала «У гроба И. В. Сталина». Но в преамбуле постановления о мероприятиях «по организации партийного и государственного руководства» ни упоминания имени Сталина, ни упоминания о том, жив он еще или умер, нет.
Логика заставляет предполагать, что все было так, как и было нам преподано, то есть совместное заседание было собрано, когда Сталин находился в абсолютно безнадежном состоянии, его смерти ждали с минуты на минуту. Постановление было выработано и готово до последней запятой и точки, публикацию его, видимо, не собирались откладывать в том случае, если бы Сталин еще один, два или несколько дней находился при смерти. И может быть, опубликовали бы его даже не седьмого, а шестого, сразу после пленума рядом с безнадежным бюллетенем. Но Сталин умер почти сразу же после окончания заседания, и поэтому было принято решение сначала опубликовать обращение к партии и народу о смерти Сталина, а на следующий день — постановление о персональном составе органов власти и о частичной их реорганизации. Логика допускает такую возможность, хотя и не исключает до конца разных иных предположений.
А теперь вернусь к своим записям пятьдесят третьего года, вернее, к той последней записи, где идет речь о Колонном зале и похоронах Сталина:
«Хотя мне сообщили по телефону, что надо прийти в Колонный зал около трех часов дня, я с большим трудом добрался туда только около пяти. Подойти к Колонному залу пешком было уже почти невозможно…»
Добавлю к тогдашней записи, что жил в ту пору на углу Пушкинской площади, но пройти вниз ни по улице Горького, ни по Дмитровке, ни по Петровке так и не удалось. На Трубной площади мы столкнулись в толпе с тогдашним министром лесной промышленности Георгием Михайловичем Орловым, с которым знали друг друга, потому что воевали на страницах «Литературной газеты» по проблемам бумаги. Дальше пошли вместе вниз по Неглинной и, несмотря на наши цековские удостоверения, едва продрались через ту молчаливую сумятицу, которая царила на улицах Москвы: пролезали под грузовиками, перегораживавшими Неглинную, потом перелезали через грузовики, снова ее перегораживавшие, оказывались так стиснутыми со всех сторон, что не могли вынуть из карманов документы, подавались с толпой людей то вперед, то назад и выбрались из давки и толкучки только под самый конец где-то у задов Малого театра. Не знаю, как в другие часы, а в те два часа, что мы пробирались, толпа была не обозленная толкучкой, не злая, но горько — молчаливая, хотя при этом такая мощная в едином упорстве своего движения туда, поближе к Колонному залу, что милиция растерянно себя вела перед молчаливым и единым упорством этого движения.
Возвращаюсь к записи:
«В комнате позади президиума людям накалывали на рукав повязки. Одни уходили в почетный караул, другие возвращались из него. Так прошло, наверное, около часа. Наконец очередь дошла и до нас. Я стоял рядом с незнакомыми мне людьми, с какими-то двумя женщинами. Мы с ними вышли и стали справа у изголовья. Я повернул голову и, только уже стоя там, увидел лицо лежавшего в гробу Сталина. Лицо его было очень спокойное, нисколько не похудевшее и не изменившееся. Волосы в последнее время начали у него немножко редеть (это бывало видно, когда он ходил во время заседаний и, проходя близко от тебя, поворачивался боком). Но сейчас это было незаметно, волосы спокойно лежали, откинутые назад, и уходили в подушку. Потом, когда мы, сменяясь, стали обходить гроб кругом, я увидел лицо Сталина справа, с другой стороны, и снова подумал, что лицо это совсем не переменилось, не похудело и что оно очень спокойное, совсем не стариковское, еще молодое. Уже позже, вернувшись из Колонного зала, я подумал, что людям, не видевшим в последние годы Сталина или видевшим его только издали и знавшим его по портретам главным образом военных и предвоенных лет, теперь там, в Колонном зале, когда они вдруг увидели его близко, могло показаться, что он постарел, что болезнь изменила его лицо. Но на самом деле это было не так, болезнь ничего не переменила в его лице. Руки спокойно лежали поверх серого френча.
Я еще несколько раз за этот день стоял в почетном карауле и, наверное, часа два провел у двери, в которую входили люди. Очередь людей, пришедших прощаться со Сталиным. Я стоял справа в самых дверях, прижавшись к притолоке, и все это время видел лицо Сталина. Люди входили и становились плечом к плечу со мной, в тот самый момент, когда они, войдя, сразу видели зал, гроб и лежавшего в нем Сталина. Не знаю, как это записать, чтобы быть совершенно точным, — не все плакали, не все вздрагивали, но все выражали свои чувства в эту секунду как-то заметно, как-то очевидно. А в то же время я испытывал какой-то внутренний тон душевного потрясения каждой пары проходивших мимо меня людей в ту секунду, когда они видели Сталина в гробу. Не знаю, может быть, я просто не могу выразить прочувствованного там мною, но что-то очень похожее на то чувство, про которое я сказал, было, многократно повторялось во мне самом.
Девятого марта, в день похорон, мы пришли в Колонный зал в девять часов. Сначала стояли в почетном карауле, потом прошли в зал. (Скажу в скобках — в записи этого нет, — что сказанное там «мы», очевидно, означает «писатели»; кажется, в этот последний день мы пришли в Колонный зал вместе с жившими рядом со мною Сурковым и Фадеевым.) Сменялись последние почетные караулы — то играла музыка, то пел женский хор. Когда я стоял один из самых последних караулов, вдруг по помосту, на котором стоял гроб, на две-три ступеньки вверх поднялась дочь Сталина Светлана и долго смотрела на отца, на его лицо. Повернулась, отошла и снова села в кресло, стоявшее справа от головы Сталина. Продолжали сменяться последние караулы. Из задней двери вышли руководители партии и правительства и подошли к гробу. В эту же минуту маршалы начали брать подушки с орденами и медалями Сталина. И только тут я заметил, хотя несколько раз за эти дни стоял в карауле, лежавшие перед гробом в ногах эти подушки. Первую подушку взял Буденный, за ним стали брать другие. Гроб накрыли крышкой с полукруглым стеклянным или плексигласовым фонарем над лицом Сталина, подняли и понесли. Процессия двигалась медленно, мы шли в последних рядах ее, позади нас, еще через один или два ряда шли дипломаты. Оглянувшись, я увидел, что некоторые из них идут в странно и даже нелепо выглядевших в этой процессии цилиндрах.
Впереди у лафета были видны покачивавшиеся на головах лошадей султаны и четыре тонких солдатских штыка по четырем сторонам гроба. Напротив гостиницы «Москва», когда мы шли мимо нее, стало видно, как, поднимаясь в гору Красной площади, уже движется впереди процессия с венками.
Траурный митинг начался, когда гроб поставили около Мавзолея. Когда митинг кончился и гроб внесли на руках в Мавзолей, все по очереди стали спускаться туда. Еще стоя в Колонном зале, я несколько раз думал, почему именно так положены руки у Сталина, и вдруг, когда вошли в Мавзолей, понял, что руки у него положены точно так же, как поверх френча были положены руки у Ленина.
Сначала внутри Мавзолея, поднимаясь по его ступеням, мы проходили рядом с саркофагом, в котором лежал Ленин, а потом, повернувшись, проходили рядом с гробом Сталина, поставленным на черный узкий мраморный камень, рядом с саркофагом Ленина, и, проходя тут, впервые совсем уже близко, меньше, чем на расстоянии вытянутой руки, я еще раз увидел лицо Сталина. Оно было до такой степени живое, если это можно сказать о мертвом лице, что с какой-то особенной страшной силой потрясения именно в эту секунду я подумал, что он умер. А потом пошли ступеньки лестницы, все это осталось позади, и мы вышли из Мавзолея».
На этом кончается сделанная шестнадцатого марта пятьдесят третьего года запись о Сталине, его смерти и похоронах. После этого я ничего больше не записывал, все остальное, запомнившееся с тех дней, оставалось только в памяти. Наверное, сначала оставалось больше, а потом все меньше и меньше. Остальное выветривалось. Из невыветрившегося, оставшегося сильнее всего другого запали в память два впечатления.
Одно было связано с тем, что я увидел в Мавзолее. Может быть, я не записал это тогда из-за чувства какой-то душевной неловкости, чувства, которого сейчас у меня нет. Возникшее там при виде такого близкого к тебе, буквально в полуметре от твоих глаз, такого до ужаса живого лица Сталина, оно было связано еще и с контрастом между его лицом и лицом Ленина в саркофаге. Я много раз до этого бывал в Мавзолее и привык к этому давнему восковому, десятилетиями отделенному от нас лицу Ленина. А лицо Сталина здесь, рядом, было не только непривычным, но и до ужаса живым, именно от контраста с давно ушедшим куда-то в века лицом Ленина. В том саркофаге лежал как бы образ Ленина, а здесь — закрытый стеклянною крышкою живой человек, живой и грозный, потому что последнее ощущение, испытанное мною тогда, на пленуме, где он выступал, было именно ощущение грозности, опасности происходящего.
И второе, что я вполне сознательно не записал тогда, в пятьдесят третьем году, но что запомнил навсегда как представшую моим глазам несомненную очевидность. На траурном митинге выступали три разных человека. Всех троих я слушал с одинаковым вниманием. Первым был Маленков, вторым — Берия, третьим — Молотов. Различие в тексте речей мне и тогда не бросалось в глаза, да и сейчас, когда я перечел их в старой газете, они не слишком отличаются друг от друга, разве только тем, что в речи Молотова, в первом ее абзаце, о Сталине сказано несколько более человечно, чуть-чуть менее казенно, чем в других речах. Однако та разница, которую сейчас по тексту этих речей не уловишь, но которая была тогда для меня совершенно очевидна, состояла в том, что Маленков, а вслед за ним Берия произносили над гробом Сталина чисто политические речи, которые было необходимо произнести по данному поводу. Но в том, как произносились эти речи, как они говорили, отсутствовал даже намек на собственное отношение этих людей к мертвому, отсутствовала хотя бы тень личной скорби, сожаления, или волнения, или чувства утраты, — в этом смысле обе речи были абсолютно одинаково холодными. Речь Маленкова, произнесенная его довольно округлым голосом, чуть меньше обнажала отсутствие всякого чувства скорби. Речь Берии с его акцентом, с его резкими, иногда каркающими интонациями в голосе, обнажала отсутствие этой скорби более явно. А в общем, душевное состояние обоих ораторов было состоянием людей, пришедших к власти и довольных этим фактом.
Речь Молотова, как я уже сказал, мало разнилась по тексту от других, но ее говорил человек, прощавшийся с другим человеком, которого он, несмотря ни на что, любил, и эта любовь вместе с горечью потери прорывалась даже каким-то содроганием в голосе этого твердокаменнейшего человека. Я вспомнил, и не мог не вспомнить, пленум, на котором Сталин с такой жестокостью говорил о Молотове, еще и по этому контрасту не мог не оценить глубины чего-то, продолжавшего существовать для Молотова, не оборванного у него до конца со смертью Сталина, связывавшего этих двоих людей — мертвого и живого. Говорю это нынешними словами, потому что тогда не записывал этого. Какими словами думал тогда об этом — а думают ведь именно словами, — восстановить не могу, но думал это и потом вспоминал это не один раз в жизни, чаще всего в связи с дальнейшей судьбой и дальнейшим поведением Молотова.
Очевидно, — это я думаю уже сейчас, — есть очень большая разница в оттенках между словами «ученик», «ближайший ученик», даже «лучший ученик», «соратник», «верный соратник», «ближайший соратник» — и словом «единомышленник». Мне думается, что среди людей, долгие годы работавших вместе со Сталиным, под его руководством, в разное время награждаемых эпитетами «лучший ученик», «ближайший соратник», — понятие «единомышленник» в наибольшей степени может быть отнесено именно к Молотову.
Листая сейчас номера мартовских, апрельских газет пятьдесят третьего года, сверяя все это с личными своими воспоминаниями, я не мог не обратить внимание на календарную последовательность некоторых газетных сообщений того времени и на некоторые снимки, тогда не обратившие на себя внимания, а сейчас бросающиеся в глаза. «Правда» за десятое марта пятьдесят третьего года. Первая полоса ее. Трибуна Мавзолея, под обрезом которой впервые не одно, а два слова: «Ленин. Сталин». Уже в мраморе, одно под другим. У микрофона Маленков в ушанке, а справа от него, между Хрущевым в папахе пирожком и Чжоу Эньлаем в мохнатой китайской меховой шапке, Берия, грузно распирающий широкими плечами стоящих с ним рядом, в пальто, закутанный в какой-то шарф, закрывающий подбородок, в шляпе, надвинутой по самое пенсне, шляпа широкополая, вид мрачно целеустремленный, не похож ни на кого другого из стоящих на Мавзолее. Больше всего похож на главаря какой-нибудь тайной мафии из не существовавших тогда, появившихся намного позже кинокартин. И на второй полосе он же снова между Чжоу Эньлаем и Хрущевым, в том же пальто с шарфом, в той же широкополой шляпе, надвинутой на самое пенсне, идущий за гробом Сталина. Как показало дальнейшее, он надеялся прийти к власти самым кратчайшим путем. Эти надежды были связаны и с его долголетним особым положением при жизни Сталина, и с заранее приготовленными им для этого, лично преданными ему кадрами людей, от него зависящих, так или иначе всецело находившихся в его руках, и с его собственной натурой решительного и дерзкого авантюриста, сумевшего на какое-то время повернуть в свою пользу возникшую ситуацию коллективного руководства. При общей решимости коллективно заменить Сталина, вырабатывать решения компромиссные, для всех приемлемые, по возможности избегая всяких внутренних столкновений, — такой человек, как Берия, наверное, ухватился за выгодное ему в этой ситуации звено. Чем инициативнее он вел себя, чем больше выдвигал предложений, чем больше спекулировал на общем нежелании возникновения внутренних конфликтов, тем успешнее он добивался того, что укрепляло его позиции и расширяло его возможности захвата власти, к которому он готовился. За исключением одного факта, все остальное попробую проследить по газетам того времени, доступным каждому.
Пользуясь тем, что делавший всего несколько месяцев назад на XIX съезде партии отчетный доклад от имени ЦК Маленков теперь, когда Сталин умирал или уже умер, мог рассматриваться как преемник Сталина на первом посту в стране, Берия ухватывается за Маленкова, очевидно, вместе с ним набрасывает первоначальный проект будущих перемен и на пленуме публично выдвигает его на пост Председателя Совета Министров.
В то время это могло казаться само собой разумеющимся, хотя само собой разумеющимся не было. Была и другая альтернатива: среди старших членов Политбюро был Молотов, за спиной у которого стояло десять лет работы в качестве Председателя Совета Министров; в случае разделения постов, если бы Маленков пошел в ЦК на — названный так или по-иному — пост Генерального секретаря, заместив на этом посту Сталина, Молотов мог бы заместить Сталина на посту Председателя Совета Министров. Молотов был популярен, в широких массах такое назначение, очевидно, встретило бы положительное отношение. Но Берии помог сам Сталин, в последнем выступлении по каким-то своим причинам — может быть, и не совсем по своим, а по ставшим его чужим инсинуациям, — обрушившийся на Молотова с такой силой, что назначение Молотова на один из двух постов, занимавшихся Сталиным, людьми, слышавшими выступление Сталина, было бы воспринято как нечто прямо противоположное его воле. Почему же Берия был заинтересован, чтобы Маленков стал наследником Сталина именно на посту Председателя Совета Министров, а пост Сталина в Секретариате ЦК занял бы человек, с точки зрения Берии, второстепенного масштаба — Хрущев, в личности и характере которого Берия так и не разобрался до самого дня своего падения? А очень просто. Идея Берии сводилась к тому, чтобы главную роль в руководстве страной играл Председатель Совета Министров и его заместители, они же почти целиком составляли и предложенный в том же проекте им и Маленковым состав Президиума. Таким образом, в руках членов Президиума, составлявших одновременно руководство Совета Министров, сосредоточивалась вся власть в стране. Берия, первый назвавший Маленкова будущим Председателем Совета Министров, был сейчас же вслед за этим назван Маленковым как первый из четырех первых заместителей. Порядок, в котором в таких случаях назывались люди, традиционно имел значение и порядка преемственности, то есть в случае отсутствия или болезни Маленкова этот порядок предполагал, что исполнять обязанности Председателя Совета Министров будет первый из названных его заместителей — Берия.
Начав с этого, пойдем дальше. Какое-то время перед смертью Сталина Берия не находился на посту министра государственной безопасности, хотя и продолжал практически в той или иной мере курировать Министерства государственной безопасности и внутренних дел. Последние месяцы на пост министра государственной безопасности был назначен Сталиным старый партийный работник Игнатьев.
В принятом на совместном заседании решении укрупнялся целый ряд министерств, одни сливались с другими, в том числе ликвидировалось и сливалось с Министерством внутренних дел Министерство государственной безопасности, и Берия, как первый из первых заместителей Маленкова, одновременно становился главой этого нового Министерства внутренних дел, вобравшего в себя и Министерство государственной безопасности. А недавний министр государственной безопасности Игнатьев стал секретарем ЦК, как мы потом увидим, ненадолго.
Итак, Берия создал заранее позицию, наиболее удобную для захвата власти и последующих действий, масштабы и характер которых, учитывая личность Берии, очевидно, носили бы достаточно мрачный и глобальный характер.
После того как власть была сосредоточена в руководстве Совета Министров, а Секретариату ЦК отводились второстепенные функции, Берия старается добиться перенесения центра тяжести власти и на местах, в республиках, из ЦК в Советы Министров, и в нескольких случаях, в частности в Баку, добивается этого. Засим, в качестве министра внутренних дел, он выдвигает идею амнистии. В свое время, в конце тридцать восьмого года, Сталин назначил его вместо Ежова, и начало деятельности Берии в Москве было связано с многочисленными реабилитациями, прекращением дел и возвращением из лагерей и тюрем десятков, если не сотен тысяч людей, — именно такую роль определил ему тогда Сталин, и он ее по всем правилам игры сыграл в предвоенное время. Берия помнил об этом и рассчитывал, что об этом помнят и другие, — во всяком случае, намеревался оживить это в памяти людей. Он надеялся, что ему, министру внутренних дел, его усилиям будет приписан указ Президиума Верховного Совета об амнистии, по которому не только освобождались из заключения осужденные на срок до пяти лет включительно, но и прекращались те дела, которые рассматривались и по которым была предусмотрена мера наказания не свыше пяти лет; также освобождались осужденные за хозяйственные, должностные и за ряд категорий воинских преступлений. Это мероприятие, само по себе гуманное, проводилось необыкновенно поспешно, — возникает впечатление, что впоследствии, при определенных обстоятельствах и при определенной пропагандистской работе в этом направлении, часть освобожденных или ненаказанных могла образовать питательную среду для поддержки его, Берии.
Через шесть дней после этого указа, четвертого апреля, в газетах появляется сообщение Министерства внутренних дел СССР, возглавляемого Берией, о том, что Министерство внутренних дел СССР провело тщательную проверку по делу так называемых врачей-убийц: «В результате проверки установлено, что привлеченные к этому делу врачи… — дальше идет длинный список, — были арестованы бывшим Министерством государственной безопасности СССР неправильно, без каких-либо законных оснований. Установлено, что показания арестованных, якобы подтверждающие выдвинутые против них обвинения, получены работниками следственной части бывшего Министерства государственной безопасности путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия». Итак, бывшее Министерство государственной безопасности оказалось повинным во всех этих грехах, а нынешнее Министерство внутренних дел разоблачило темные методы бывшего министерства. Еще через два дня в передовой «Правды» разъясняется, что произошло это прежде всего потому, что бывший министр государственной безопасности С. Д. Игнатьев проявил политическую слепоту и ротозейство и оказался на поводу у преступных авантюристов. Берия же как глава нового Министерства внутренних дел разоблачил все эти беззакония. В тот же день опубликовано сообщение, что Игнатьев освобожден от обязанностей секретаря ЦК.
Так вся эта серия мероприятий проходит через газеты, лишь потом обнаруживая внутренний смысл как подготовительные шаги по дороге к захвату власти, которые поспешно, один за другим, делал Берия.
Один из этих шагов в газеты не попал, но я принадлежу к числу людей, знающих о нем. Не могу точно вспомнить, в какие дни это было, но, наверное, при старании можно числа восстановить, потому что именно в это время Фадеев и Корнейчук, бывшие членами ЦК, оба ездили в заграничные поездки по делам Совета мира. Вскоре после сообщения о фальсификации дела врачей членов и кандидатов в члены ЦК знакомили в Кремле, в двух или трех отведенных для этого комнатах, с документами, свидетельствующими о непосредственном участии Сталина во всей истории с «врачами-убийцами», с показаниями арестованного начальника следственной части бывшего Министерства государственной безопасности Рюмина о его разговорах со Сталиным, о требованиях Сталина ужесточить допросы — и так далее, и тому подобное. Были там показания и других лиц, всякий раз связанные непосредственно с ролью Сталина в этом деле. Были записи разговоров со Сталиным на эту же тему. Не убежден, но, кажется, первоначально записанных на аппаратуру, а потом уже перенесенных на бумагу.
Я в три или четыре приема читал эти бумаги на протяжении недели примерно. Потом чтение это было прекращено, разом оборвано. Идея предоставить членам и кандидатам в члены ЦК эти документы для прочтения принадлежала, несомненно, Берии, именно он располагал этими документами, и впоследствии выяснилось, что так все и было. Он хотел приобрести дополнительную популярность, показав себя человеком беспристрастным, человеком, не случайно отодвинутым несколько в сторону в последние месяцы жизни Сталина, человеком, которому Сталин не доверял или перестал доверять, человеком, который был никак не склонен продолжать те жестокости, возмутительные беззакония, которые, судя по предъявленным нам для чтения документам, были связаны непосредственно со Сталиным, с его инициативой, с его требованиями. Выставляя документы на обозрение, Берия как бы утверждал, что он и далек, и категорически против всего этого, что он не собирается покрывать грехов Сталина, наоборот, хочет представить его в истинном виде.
Чтение было тяжкое, записи были похожи на правду и свидетельствовали о болезненном психическом состоянии Сталина, о его подозрительности и жестокости, граничащих с психозом. Документы были сгруппированы таким образом, чтобы представить Сталина именно и только с этой стороны.
Вот он вам, ваш Сталин, как бы говорил Берия, не знаю, как вы, а я от него отрекаюсь. Не знаю, как вы, а я намерен сказать о нем всю правду. Разумеется, при этом он представлял в документах только ту правду, которая ему была нужна и выгодна, оставляя за скобками все остальное.
Около недели эти документы были в ходу. После этого с ними никого уже не знакомили. Когда вернулись Корнейчук и Фадеев и я им рассказал об этих документах, у них глаза полезли на лоб, но прочесть их сами они уже не могли.
Надо сказать, что, хотя цель Берии была достаточно подлой и она вскоре стала совершенно ясна мне, документы эти, пусть и специфически подобранные, не являлись фальшивыми. Поэтому к тому нравственному удару, который я пережил во время речи Хрущева на XX съезде, я был, наверное, больше готов, чем многие другие люди.
Через четыре месяца после смерти Сталина, третьего июля пятьдесят третьего года, когда я сидел в редакции «Литературной газеты» над очередным номером, мне позвонил бывший ответственный секретарь, а потом редактор «Красной звезды» Василий Петрович Московский, работавший тогда, в 1953 году, заместителем начальника управления агитации и пропаганды ЦК, и спросил, как у меня идут дела с газетой. Звонок был довольно поздний, в одиннадцатом часу вечера. Я сказал, что одна полоса пошла на барабан, а остальные еще читаются и мною, и «свежими головами».
— Останови, — сказал мне Василий Петрович. — Пока не печатайте ни одной полосы.
— Пока что? — спросил я.
— Надо поговорить с тобой.
— Хорошо, остановлю, — сказал я. — Сейчас приеду к тебе.
— Не надо ко мне приезжать, я сам к тебе сейчас приеду. А печать останови.
Я остановил печатание полос, сказав, что, возможно, поступит официальный, обычно необязательный, но в данном случае, может быть, и обязательный для нас материал, надо будет еще разобраться, будем мы его печатать или нет. Поэтому пусть «свежие головы» дочитывают остальные полосы, а потом уже будем печатать все подряд. В более подробные объяснения я не вдавался.
Через каких-нибудь пятнадцать минут Московский уже вошел ко мне в кабинет и попросил сделать так, чтобы, пока он у меня будет, никто не заходил. Я предупредил удивленную секретаршу свою Татьяну Александровну, чтоб она никого без исключений не пускала.
— Никого? — переспросила она, потому что это не было принято у нас в газете.
— Никого.
Я зашел в кабинет, закрыл дверь, сел в кресло напротив Московского и стал ждать, что же чрезвычайное он мне имеет сообщить. Несомненно, было что-то чрезвычайное. Самым простым, еще до появления Московского пришедшим мне в голову объяснением была мысль о том, что вдруг, как уже один раз до этого было, меня решили снять с газеты и в выходящем номере уже не должно стоять моей подписи. Но зачем держать все полосы? Можно было задержать только последнюю. Нет, очевидно, что-то действительно очень важное, куда более важное, чем мое освобождение от редакторства, от которого я не заплакал бы.
— Слушай меня внимательно, — сказал Московский и перешел на официальный тон. — Мне поручено ЦК сообщить тебе как редактору «Литературной газеты» для твоего личного, только личного, сведения, что товарищ Берия сегодня выведен из состава Президиума ЦК, выведен из состава ЦК, исключен из партии, освобожден от должности заместителя Председателя Совета Министров и министра внутренних дел и за свою преступную деятельность арестован, — официальным голосом, но одним дыхом выпалил мне все это Московский, даже не заметив, что по въевшейся привычке в начале этого сообщения забыл убрать перед фамилией Берии механически произнесенное слово «товарищ».
— Ясно, — сказал я. — А что случилось-то? Что произошло?
— Все, что случилось, узнаешь завтра в десять утра на пленуме ЦК, а пока с учетом того, что я тебе сообщил, лично перечитай все полосы, чтобы там ничего не было о Берии.
— Там ничего нет о Берии, откуда он там, — сказал я, вспоминая все четыре полосы сегодняшней газеты. — Специальных материалов у нас не идет никаких, а так откуда же он?
— Не знаю откуда, — сказал Московский. — Я тебя официально предупредил, больше у меня времени нет, надо ехать дальше, а ты перечитай все полосы лично. И никому ничего не сообщай. Ясно?
— Ясно.
Так никому ничего не сообщив, я как дурак стоял еще два часа за своей конторкой, перечитывая все четыре полосы, на которых фамилия Берии могла оказаться разве что в какой-нибудь заметке о сельском хозяйстве, где фигурировал бы колхоз или совхоз его имени. Но и такого тоже не обнаружилось, и я к середине ночи подписал все полосы.
Пробую сейчас вспомнить, какое тогда, в тот вечер и ночь, на меня произвело впечатление это событие, полный переворот в судьбе Берии. Главным было чувство облегчения, что уже не произойдет чего-то, что могло бы произойти, оставайся все по-прежнему. То, что Берия был близок к Сталину, то, что так или иначе, во все времена пребывания в Москве, занимаясь отнюдь не только Министерством внутренних дел, или Министерством государственной безопасности, или промышленными, строительными министерствами, входя в Государственный Комитет Обороны во время войны, он всегда при этом имел некую дополнительную власть как человек или руководящий, или наблюдающий за органами разведки и контрразведки, — все это было известно. И очевидно, часть авторитета, созданного им себе при своевременном срочном выполнении тех или иных государственных заданий в области промышленности, была замешена на том страхе и трепете, которые людям вселяло такое его совместительство, — это принадлежало к числу обстоятельств, о которых нетрудно было догадываться, и мы догадывались о них.
При том положении, которое Берия занимал при Сталине, то, что он окажется среди первых лиц государства после смерти Сталина, казалось само собой разумеющимся. Но то, что он сразу же сделался вторым лицом, и очень активным, то, что никто другой, а именно он предлагал кандидатуру Маленкова, — от этого возникало ощущение некой опасности. Это ощущение испытывали многие. Время, особенно в первые месяцы после смерти Сталина, продолжало оставаться жестким, и первое осязаемое изменение в нем появилось только после разоблачения сфальсифицированного дела «врачей-убийц» и освобождения этих людей. Время не предрасполагало к слишком откровенным разговорам на такие темы, но помню, что с оговорками, с недоговоренностями у разных людей все-таки проявлялась тревога, связанная с тем положением, которое после смерти Сталина занял Берия. Были среди разнообразно выраженных тревог этих и такие оттенки: а не попробует ли Берия занять по наследству место Сталина в полном смысле этого слова?
Что до меня, то, проводя между сорок восьмым и пятьдесят третьим годами все свои так называемые творческие двух-трехмесячные отпуска за работой сначала в Сухуми, а потом под Сухуми, в поселке Гульрипши, и познакомившись там и со многими абхазцами, и со многими грузинами, я знал о деятельности Берии в бытность его на Кавказе, о том, каким влиянием он располагал там, на Кавказе, прежде всего в Грузии, и после того, как уехал в Москву, — знал обо всем этом намного больше других, не живших там людей. То тут, то там приходилось сталкиваться с воспоминаниями об исчезнувших семьях, о людях, погибших, выбитых из жизни в Грузии, среди партийных работников и среди интеллигенции — это было до того, как Берию перевели в Москву на роль человека, исправляющего ошибки Ежова.
Мои собеседники отнюдь не были болтливы, да и время не располагало к такой болтливости, но все-таки то одно, то другое у них прорывалось. И я постепенно составил себе довольно полное представление о том, что, прежде чем облагодетельствовать оставшихся в живых и выпускать их после Ежова из лагерей и тюрем, Берия выкосил Грузию почище, чем Ежов Россию, причем в каких-то подробностях рассказов о событиях тридцать шестого — тридцать седьмого и более ранних годов мелькало нечто страшное, связанное с местью и со сведением им личных счетов. Двое или трое из моих друзей абхазцев, очевидно, вполне доверяя мне, рассказывали мне ужасные вещи, связанные с произволом Берии в Абхазии, с гибелью там многих людей. Чему-то из этого верилось, чему-то не верилось, настолько диким это казалось тогда, в те годы, задолго до разбирательства дела Берии на пленуме ЦК, до процесса над ним и до XX съезда. Иногда не верилось или не до конца верилось в то, во что потом, несколько лет спустя, было бы странным не поверить с первых же слов. С этим уроженцем мингрельского села Мерхеули, расположенного всего в десятке километров от поселка Гульрипши, где я жил, было связано столько слухов, намеков в разговорах, вдруг прорывавшихся давних и не столь давних подробностей, что ощущение, что он человек не только страшный в прошлом, но и опасный в будущем, сложилось у меня довольно стойкое. И новость, которую принес мне Василий Петрович Московский, была сразу воспринята мною как некое, еще не до конца обдуманное, инстинктивное облегчение, как нечто избавлявшее нас от висевшей в воздухе опасности… Воспоминания о прямых разговорах, о намеках, полунамеках — все это прокручивалось в памяти, когда я заново читал ночью полосы газеты. Но это было только дополнением к первому чувству, как вскоре выяснилось, достаточно широко распространенному среди необозримой массы людей.
А утром я пошел на пленум ЦК, который продолжался, по-моему, пять или шесть дней и на котором о Берии было сказано все, что только можно было сказать о нем, по возможности при этом выгораживая Сталина, далеко не всегда убежденно и далеко не всегда удачно.
О том, как поймали Берию буквально накануне подготовленного им захвата власти, на пленуме рассказывал Хрущев. Слово «поймали» наиболее точно соответствует характеру рассказа Хрущева, его темпераменту и тому страстному удовольствию, с которым он рассказывал обо всем этом.
Из его рассказа — что никто на пленуме не отвергал и не оспаривал, никому это просто не приходило в голову — самым естественным образом следовало, что именно он, Хрущев, сыграл главную роль в поимке и обезоруживании этого крупного зверя. Для меня было совершенно очевидным, когда я слушал его, что Хрущев был инициатором этой поимки с поличным, потому что он оказался проницательнее, талантливей, энергичней и решительней, чем все остальные. А с другой стороны, этому способствовало то, что Берия недооценил Хрущева, его качеств, его глубокой природной, чисто мужицкой, цепкой хитрости, его здравого смысла, да и силы его характера, и, наоборот, счел его тем круглорожим сиволапым дурачком, которого ему, Берии, мастеру интриги, проще простого удастся обвести вокруг пальца. Хрущев в своей речи не без торжества говорил о том, за какого дурачка считал его Берия.
Не буду больше писать об этом пленуме, на котором, кроме речи Хрущева, на меня, пожалуй, наиболее сильное впечатление произвели особенно умные, жесткие, последовательные и аргументированные речи Завенягина и Косыгина. Это увело бы меня от главной темы моих записей.
Падение Берии, если угодно, было похоже на последний, самый последний, после долгой паузы разорвавшийся снаряд. А говоря не фигурально, все, что произошло, все, что хотел и пробовал сделать Берия, и все, что, поймав его за руку, ему предъявили разом за много лет, — все это было пусть не последняя, но самая явная, самая уродливая, самая дурно пахнущая отрыжка всей той эпохи, которая связана в нашем сознании с именем Сталина.
Если попытаться собрать, спрессовать в нечто единое все самое отвратительное для человеческого сознания, самое жестокое, трагическое, свирепое и грязное, что было в той эпохе, отделив, вырвав его из всего остального, из всего другого, которое тоже было, то именно Берия, его дела, сама возможность его долголетнего существования при Сталине были тем комком блевотины, политической и нравственной, который оказался исторгнутым и до конца очевидным уже после того, как сама эпоха была обрублена смертью Сталина.
Написав все это, хочу попробовать разобраться в своем отношении к Сталину в период между его смертью и XX съездом, в эти три года.
Сложность моего душевного состояния в те годы заключалась в том, что в общем-то я вырос и воспитался при Сталине. При нем кончил школу, при нем пошел в ФЗУ, при нем был рабочим, при нем стал студентом Литературного института, при нем начал писать, при нем стал профессиональным писателем, при нем перед войной вступил в кандидаты партии, а потом в члены, при нем был военным корреспондентом, при нем получил шесть Сталинских премий, одну из которых считал незаслуженной, а остальные — заслуженными, при нем стал редактором «Нового мира» и «Литературной газеты», заместителем генерального секретаря Союза писателей, кандидатом в члены ЦК, несколько раз мог убедиться в том, что пользовался его доверием. При нем посадили, а потом выпустили моего отчима, при нем отправились в ссылку моя тетка и мои двоюродные сестра и брат, при нем где-то в ссылке погибли две другие тетки мои, любимая и нелюбимая, при нем посадили и, несмотря на мои письма, не выпустили и не послали на фронт моего первого руководителя творческого семинара, человека, которого я очень любил, при нем по моему ходатайству вернули в Москву одну мою оставшуюся в живых тетку. При нем были процессы, в которых мне было далеко не все понятно. При нем была Испания, куда я готов был ехать, Халхин-Гол, куда я поехал, при нем была Великая Отечественная война, на которой я видел много страшного, много неправильного, много возмущавшего меня, но которую мы все-таки выиграли. При нем я слушал его казавшиеся мне умными и правильными разговоры о литературе, при нем была расходившаяся с этими правильными разговорами кампания по искоренению космополитизма. При нем мы не согнули головы перед обожравшейся во время войны Америкой в те годы, когда у нас над головой висела их атомная бомба, а мы еще не имели своей. При нем были новые, напоминавшие тридцать седьмой и тридцать восьмой годы аресты в послевоенные годы, при нем в эти же послевоенные годы было движение борьбы за мир, в котором я участвовал. Все это было при нем, я перечисляю в том беспорядке, в каком это вспоминается. Все было при нем.
Было очень страшно прочесть те документы, свидетельствовавшие о начинавшемся распаде личности, о жестокости, о полубезумной подозрительности, те документы, которые на неделю сунул нам под нос пресеченный кем-то потом Берия. То, что было связано с разоблачением Берии, с обнаружившейся вокруг этого политической и нравственной блевотиной, несмотря на попытки разных людей вывести из-под удара Сталина, все-таки ложилось и на него. Но того, что было узнано сразу после смерти Сталина, и накопившихся за годы его жизни недоумений, не до конца осознанных несогласий, сомнений в справедливости того или иного сделанного им, — всего этого оказалось недостаточно для того, чтобы за три года после смерти Сталина увидеть его в новом свете. Мое сегодняшнее отношение к Сталину складывалось постепенно, четверть века. Оно почти сложилось — почти, потому что окончательно оно сложится, наверное, лишь в результате этой работы, первую часть которой я заканчиваю. А своего отношения к Сталину в те три года я не могу точно сформулировать: оно было очень неустойчивым. Меня метало между разными чувствами и разными точками зрения по разным поводам.
Первым, главным чувством было то, что мы лишились великого человека. Только потом возникло чувство, что лучше бы лишиться его пораньше, тогда, может быть, не было бы многих страшных вещей, связанных с последними годами его жизни. Но что было, то было, в истории нет вариантов. Варианты возможны только в будущем, в прошлом их не существует. Первое чувство грандиозности потери меня не покидало долго, в первые месяцы оно было особенно сильным. Очевидно, под влиянием этого чувства я вместе с еще одним литератором, любившим демонстрировать всю жизнь решимость своего характера, но в данном случае при возникновении опасности немедленно скрывшимся в кустах, сочинил передовую статью, опубликованную в «Литературной газете» девятнадцатого марта пятьдесят третьего года, в которой среди иного прочего было сказано следующее: «Самая важная, самая высокая задача, со всею настоятельностью поставленная перед советской литературой, заключается в том, чтобы во всем величии и во всей полноте запечатлеть для своих современников и для грядущих поколений образ величайшего гения всех времен и народов — бессмертного Сталина». В дальнейшем, правда, в передовой разъяснялось, что, рисуя образ Сталина, писатели создадут образ связанной с его деятельностью эпохи, свершений этой эпохи и так далее, и тому подобное, но исходная формулировка была именно такая. Передовая называлась «Священный долг писателя», и в приведенном мною абзаце первое, что вменялось писателям как их священный долг, было создание в литературе образа Сталина. Никто ровным счетом не заставлял меня это писать, я мог написать все это и по-другому, но написал именно так, и пассаж этот принадлежал не чьему-либо иному, а именно моему перу. Мною же был задан и общий тон этой передовой, в которой как священный долг писателей прежде всего рассматривались мемориальные задачи, а не обращение к нынешнему и будущему дню.
На мой тогдашний взгляд, передовая была как передовая, я не ждал от нее ни добра, ни худа, в основу ее легло мое выступление на происходившем перед этим митинге писателей, смысл которого в основном совпадал со смыслом передовой. Однако реакция на эту передовую внезапно оказалась очень бурной. Я к тому времени после долгой борьбы с разными людьми, не желавшими понимать, что я хочу продолжать хоть что-то писать, выговорил себе право еженедельно выпускать два из трех номеров газеты, а третий только вчерне подготавливать вместе с заместителем; этот третий, субботний, номер подписывал заместитель. Номер с передовой «Священный долг писателя» вышел в четверг. Четверг после его выхода я провел в редакции, готовя следующий номер, и, глядя на ночь, в пятницу уехал за город, на дачу, чтобы пятницу, субботу и воскресенье писать там, а утром в понедельник приехать в редакцию и с самого утра делать вторничный номер. Телефона на даче не было, и я вернулся в понедельник утром в Москву, ничего ровным счетом не ведая.
— Тут такое было, — встретил меня мой заместитель Косолапое, едва я успел взять в руки субботний номер, которого еще не читал. — А лучше вам расскажет об этом Сурков, вы ему позвоните, он просил позвонить, как только вы появитесь.
Я позвонил Суркову, мы встретились, и выяснилось следующее: Никита Сергеевич Хрущев, руководивший в это время работой Секретариата ЦК, прочитавши не то в четверг вечером, не то в пятницу утром номер с моей передовой «Священный долг писателя», позвонил в редакцию, где меня не было, потом в Союз писателей и заявил, что считает необходимым отстранить меня от руководства «Литературной газетой», не считает возможным, чтобы я выпускал следующий номер. Впредь, до окончательного решения вопроса — надо полагать, в Политбюро, это уж я додумал сам, — пусть следующий номер, а может быть, и следующие номера читает и подписывает Сурков как исполняющий обязанности генерального секретаря Союза писателей.
Из дальнейшего разговора Сурков выяснил, что все дело в передовой «Священный долг писателя», в которой я призывал писателей не идти вперед, не заниматься делом и думать о будущем, а смотреть только назад, только и делать, что воспевать Сталина, — при такой позиции не может быть и речи, чтобы я редактировал газету. По словам Суркова — не помню, прямо говорившего с Хрущевым или через вторых лиц, — Хрущев был крайне разгорячен и зол.
— Я лично, — сказал Сурков, — ничего такого в этой передовой не увидел и не вижу. Ну, неудачная, ну действительно там слишком много отведено места тому, чтобы создавать произведения о Сталине, что это самое главное. В конце концов, что тут такого. Можно в других передовых статьях снять этот ненужный акцент на прошлом. Сначала хотел послать к тебе гонца, вызвать тебя, а потом решил не расстраивать, может, за это время все обойдется. Номер, как мне сказал Косолапов, был готов, я приехал, посмотрел его и подписал. Фамилию твою не требовали снимать, требовали только, чтоб я прочитал и подписал номер. Вот и подумал, стоит ли выбивать тебя из колеи, ты сидишь там, пишешь. Вернешься в понедельник, может, к этому времени все утрясется.
Так оно в результате и вышло. На каком-то этапе, не знаю где, в Секретариате или в Политбюро, все, в общем, утряслось. Когда Сурков при мне позвонил в агитпроп, ему сказали, чтобы я ехал к себе в редакцию и выпускал очередной номер. Тем дело на сей раз и кончилось. Видимо, это был личный взрыв чувств Хрущева, которому тогда, в пятьдесят третьем году, наверное, была уже не чужда мысль через какое-то время попробовать поставить точки над «и» и рассказать о Сталине то, что он счел нужным рассказать на XX съезде. Естественно, что при таком настроении передовая под названием «Священный долг писателя» с призывом создать эпохальный образ Сталина попала ему, как говорится, поперек души. И хотя, видимо, его склонили к тому, чтобы мер, в горячке предложенных им, не принимать, невзлюбил он меня надолго, на годы, вплоть до появления в печати «Живых и мертвых», считая меня одним из наиболее заядлых сталинистов в литературе. Видимо, так. Кстати, перечитывая сейчас газеты того времени, я увидел то, что давно забылось: именно Никита Сергеевич Хрущев по иронии судьбы был председателем комиссии по похоронам Иосифа Виссарионовича Сталина, открывал и закрывал траурный митинг на Красной площади. Это не имеет никакого отношения к делу, но раз это попалось на глаза, не хочется проходить мимо.
Я не был заядлым сталинистом ни в пятьдесят третьем, ни в пятьдесят четвертом году, ни при жизни Сталина. Но в пятьдесят четвертом году, после смерти Сталина, у меня в кабинете дома появилась понравившаяся мне фотография Сталина, снятая со скульптуры Вучетича на Волго-Донском канале, — сильное и умное лицо старого типа. При жизни Сталина никогда его портретов у меня не висело и не стояло, а здесь взял и повесил. Это был не сталинизм, а скорей нечто вроде дворянско-интеллигентского гонора: вот когда у вас висели, у меня не висел, а теперь, когда у вас не висят, у меня висит. Кроме того, эта фотография нравилась мне.
В пятьдесят пятом году, издавая книгу стихотворений и поэм, я включил в нее очень плохие стихи, написанные в сорок третьем году, вскоре после Сталинграда. Стихи о том, как Сталин звонит Ленину из Царицына, как это повторяется уже в Великую Отечественную войну, когда безымянный генерал или командующий звонит из Сталинграда Сталину, как когда-то тот звонил Ленину. Стихотворение, не богатое ни по мысли, ни по исполнению, в свое время не напечатанное, так и оставшееся лежать у меня в архиве. А в пятьдесят пятом году я вдруг взял да и напечатал его. Зачем?
Тоже, видимо, из чувства противоречия, в какой-то мере демонстративно. Приходить же к критическому отношению к деятельности Сталина я стал тогда, когда решился наконец писать роман о войне и начинать его первыми днями войны. Первую часть романа «Живые и мертвые», которая потом не вошла в него по чисто конструктивным и художественным причинам, я писал в конце декабря пятьдесят пятого года, весь январь и начало февраля пятьдесят шестого года. Это было до XX съезда, накануне его, еще не было ни речи Хрущева, ни всего, что за ней последовало и в жизни, и в наших душах. Эту часть своего романа я в пятьдесят седьмом году напечатал как две отдельные повести — «Пантелеев» и «Левашов». В них уже было то, что мне не пришлось после XX съезда ни менять, ни переписывать. Они были сразу именно так и написаны. Секрет тут был в том, что, откладывая и откладывая срок начала этой работы над романом о войне, о сорок первом годе, я делал это не случайно. Мои воспоминания о том времени, мои дневники, на которые я прежде всего опирался, были неизбежно связаны с внутренней переоценкой очень многих вещей, касавшихся Сталина: готовности к войне, роли арестов тридцать седьмого — тридцать восьмого годов в наших поражениях, еще многого и многого другого. Дневники писались во время войны. Роман отделяло от них тринадцать или четырнадцать лет. Обдумываемые для романа дневники для меня самого становились чем-то иным, чем были до этого в памяти, они становились обличительным документом по отношению к привычным, сложившимся оценкам непререкаемых заслуг Сталина во все времена, в том числе накануне и в начале войны. Влезая в роман, я все больше и больше переоценивал для себя Сталина, его роль, все то, что шло от него. Без этого писать о сорок первом годе я не мог, и не хотел, и не был в состоянии — всё вместе.
Очевидно, здесь мне и следует поставить точку в этой части моей рукописи, прежде чем перейти к тому, что пока назову условно «Сталин и война», что будет попыткой разобраться в своих собственных чувствах и мыслях и в чувствах и мыслях многих других людей, с которыми я говорил на эту тему.