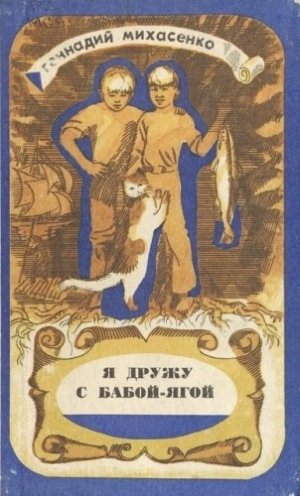
Геннадий Павлович Михасенко родился в 1936 году на Алтае. Детство его прошло в Новосибирске, там же закончил он строительный институт, и там же в 1959 году, одновременно с защитой диплома, вышла его первая повесть для детей «Кандаурские мальчишки».
Молодой инженер приезжает в Братск на строительство знаменитой ГЭС и в последующем, совмещая работу с литературным творчеством, выпускает книга: «В союзе с Аристотелем», «Пятая четверть», «Неугомонные бездельники», «Милый Эп» и повесть-сказку «Тирлямы в подземном королевстве».
Новая повесть создана в результате наблюдений за жизнью мальчишеского военно-морского лагеря «Варяг», созданного на Братском море, где автор несколько лет был комиссаром. В книге рассказывается о сложности ребячьих отношений, о развитии под влиянием этих отношений устойчивых характеров и об открытии новых ценностей в жизни, из которых главная — любовь к Родине.
1
Купаться меня отпускали только с братьями Лехтиными, с Димкой и Федей. Восемь лет мы жили с ними в одном подъезде пятиэтажного крупнопанельного дома, а потом врачи посоветовали хворой тете Ире сменить каменные стены на деревянные, и Лехтины купили себе недалеко от поселка, в лесу, на подстанции, насыпной домик. Трехкилометровое расстояние не ослабило нашей дружбы, тем более, что братья продолжали бегать в нашу школу. С Димкой мы были одногодки, но он окончил третий класс, а я — четвертый, потому что я родился до сентября, а он — после, и когда тетя Ира хотела все же пристроить Димку в первый класс вместе со мной, учителя, вроде бы о пустяках побеседовав с ним, сказали, что пусть мальчик еще немножко побегает. И Димка охотно пробегал целый год. А Федя перешел уже в восьмой.
Я сунул Лехтиным в сумку колбасный бутерброд и бутылку лимонада, мы вышли, и я сразу давай сообщать свои новости, которых со вчерашнего вечера накопилось предостаточно: я достал жилку, перетянул лук и загнул из консервной жести два наконечника для стрел. Один наконечник я тут же показал Димке. Чем-то удрученный, он рассеянно оглядел его и вернул со словами:
— А Федяй в военный лагерь едет.
— В военный? В какой это?.. A-а, в «Ермак»! — воскликнул я радостно, потому что в мартовские каникулы провел с папой три дня на строительстве этого морского лагеря, в тайге, на берегу глухого залива нашего моря, и получалось забавно — я как бы строил его, а Федя пойдет туда служить.
Но Федя ответил:
— Нет, в «Зарницу».
— У-у!— разочаровался я.— Лучше бы в «Ермак».
— Его запретили,— брякнул Димка.
— Как запретили?
— Поставили крест,— важно пояснил Федя и дважды рубанул рукой воздух.— Рискованно, говорят,— от жилья далеко и дороги нет. А вдруг ЧП?
— И медведи. Ты же сам видел,— напомнил Димка.
— Я не видел, но...
— В общем, запретили, мама узнавала. Я на море хотел... Кстати, «Зарница» тоже у воды — на острове. Правда, ниже ГЭС, там холодно, но ничего, хорошо хоть туда попал — чуть не опоздали с заявлением! А теперь порядок — путевочка в кармане! Через день еду! На второй сезон!—победно заключил Федя.
— Ну и не задавайся!—буркнул Димка.
— А ты не зуди, зудило! — пристрожился брат.— Вчера зудел, зудел и опять? Хватит!
— Ага.
— Ага — Баба-Яга!
Братья были один задириха, второй неспустиха. Они часто ссорились, но быстро мирились и были неразлучны, а тут вдруг Федя уезжает — конечно, Димке обидно.
— Раззадавался — лагерь-магерь! — проворчал Димка.— Зато мы с Семкой на свободе, и никаких лагерей нам не надо, да ведь, Семк? Кам-мудто...
Не «кам-мудто», а «как будто»! — поправил Федя.
Кам-мудто мы лето ждали, чтобы нас загородили и заперли! Мы вольные птицы, да ведь, Семк?
— Мда-а,— неопределенно протянул я.
Дома кончились. Прошмыгнув лабиринт мотоциклетных гаражиков, мы очутились у спуска к заливу. Димка затрубил «у-у», раскинул руки и понесся вниз. Перепорхнув железную дорогу, огибавшую поселок по лесистому косогору, он тормознул и поманил меня, но я отмахнулся.
— Федь, а точно «Ермак» запретили?—спросил я, вдруг почувствовав к лагерю жалость, как к живому существу, которому не разрешают жить.
— Конечно, точно.
— И насовсем?
— Наверно.
— Ну и дураки!
Не дождавшись нас, Димка сдернул с себя рубаху и, что-то крича на бегу, припустил к морю, откуда уже доносилось ребячье ликованье.
К нашему морю ни ехать не надо, ни лететь, а только сбежать с пригорка. Оно у нас самодельное, море! Слишком уж умные люди и приезжие называют его водохранилищем, а мы — морем. Чайник или ванна — это водохранилище, а если глубина в семь пятиэтажных домов, а длина — сутки плыть на «Ракете», да если еще туманно и не видно другого берега, то простите! А какие бури у нас бывают! Хоть раз попал бы один из тех, слишком умных, в такую бурю, понял бы, ванна это или море!.. Вон сколько рассказывают об утонувших рыбаках — стоят они, бедные, как часовые, на дне по всем заливам и не могут всплыть из-за тяжелых резиновых сапог. Даже в нашем, пригэсовском, заливе всплыл однажды утопленник. Кто-то занырнул подальше, задел его, он и всплыл. Нас как будто кто выдернул из воды, и потом с неделю мы боялись купаться. Вот вам и чайник!
Берег обрывался круто, подточенный осенними штормами, но сейчас море, убывшее за зиму, отступило метров на пятнадцать, образовав каменисто-галечный пляж с редкими проплешинами крупного и колючего песка.
Мы спрыгнули.
Димка уже бултыхался, кинув одежонку на голый, добела высушенный пень, так подмытый водой, что между корнями под ним можно было улечься. Мы с Федей разделись, набрали по урезу подсохших коряжек, ежедневно приносимых морем, попросили у соседей головешку и раздули свой костерок. Такие костерки дымились по всему берегу, и возле каждого ежились, дрожали и прыгали закупавшиеся до синевы пацаны. Было воскресенье, тихое и теплое, и люду к воде высыпало тьма: семьями и поодиночке, кто приютился на траве под кустами, кто лежал на одеялах, кто сидел на бревнах, оставшихся после зимнего спада, кто просто глазел, кто читал, кто играл в волейбол, а кто внимательно и не спеша бродил по пляжной полосе, ища приятных знакомств. Народ почти не купался, а так, слегка окунался или ошлепывался мокрыми ладонями — и все, потому что наше холодное море прогревалось лишь к середине лета. Редкий парень бухался от души, заплывал метров на пятнадцать и, шумно повернув назад, ошпарено вылетал на сушу. И только наш брат бесстрашно булькался в своем взбаламученно-парном «лягушатнике», отрезанном от залива лодочной станцией.
Сперва Федя, потом я сиганули с плахи-трамплина в глубину. Димка выловил пустую бутылку, и мы начали перекидываться ею. Я вдруг не рассчитал броска, бутылка стукнулась о бон, дзинькнула и пустила пузыри. С досады Димка чуть сам не пустил пузыри, но ухватился за бревно.
— Ну, Семен! — В сердцах Димка всегда называл меня Семеном.— Ну, криворукий черт!
— Случайно, Димк!
— Какая бутылка пропала!
— Еще найдем!
— Нет уж, раз первая с браком или разбилась — все, не повезет, тьфу — тьфу — тьфу!
Я знал, что ему и вправду жалко бутылку, не двенадцать копеек, а именно бутылку. Копейки появятся потом, как вторая ступень радости, а сначала — сами бутылки, охота за ними, их торжественное мытье и сутолочная сдача. С деньгами у Лехтиных в семье было стесненно. Отец по алкогольному слабоумию работал сторожем, мать — точковщицей на бетонном заводе, но больше болела, чем работала, и постоянно, часто при мне, внушала ребятишкам, что они несчастные и в жизни своей должны рассчитывать только на себя, если не хотят пропасть ни за грош ни за копейку, поскольку, мол, видите, какая я никудышная, и видите, мол, какой отец — не человек, а чурка с глазами, а ни бабушек, ни дядюшек нету — так что учитесь, мол, жить самостоятельно, пока мы еще рядом. И братья начали эту учебу с заработка денег на бутылках. Стеклотару у дошестнадцатилетних не принимали, но тетя Ира сумела договориться, и теперь на конфеты, значки и даже на кое-что покрупнее у братьев имелись сбережения.
Как боны ни отгораживали нас от моря, а низом все же тянул холод, и минут через десять мы продрогли. Выскочив и отряхнувшись по-собачьи, мы окружили свой уже разгоревшийся костерок, и Димка, еле попадая зуб на зуб, проклацал:
— Здорово!
— Да-а! — подхватил Федя.
— А у вас там, в «Зарнице», не будет такого. Там вон лед в падях не тает.
— А я вперед накупаюсь.
— Вперед не накупаешься, да ведь, Семк?
— Пожалуй, — согласился я, но видя, что Димка все завидует брату и все хочет как-то ущемить его и этим взбодрить себя, решил не поддерживать ни того, ни другого, а болтовней сбить их со скользкого разговора. — Вчера мы вон как нахлюпались, до ку-ка-ре-ку, а сегодня опять охота. Это как еда — ешь-ешь, ну, кажется, все уже, кажется, что пузо трещит, на месяц нажрался, а потом глянь — снова давай.
— Точно.
— Значит, потерплю, — спокойно сказал Федя.
— Ну и терпи! А мы с Семкой без всякого терпения — бултых — каждый день! Или в день раза по два — бултых! А надоест — в лес! С луками! Новый штаб делать! Ого-го, вольные птицы! — воскликнул Димка, неловко, потому что был ниже ростом, обняв меня за шею одной рукой и, как крылом, размахивая второй.
Если бы не давнишний уговор провести вместе все лето, мне бы не понравились Димкины слова и объяснения, потому что обидно, когда тебе навязывают вечную дружбу для того, чтобы только насолить кому-то, а не ради тебя самого, но мы договорились об этом сразу после школы, так что Димкин порыв был лишь новым подтверждением нашей неразлучности, поэтому я с ответной горячностью обхватил его плечо одной рукой и замахал второй.
Федя, на корточках гревший ладони, медленно выпрямился и с прищуром спросил:
— А чего тебе надо, птица?
— Ничего.
— Нет, скажи, чего тебе от меня надо? Что ты весь день ноешь и гнусишь, а?.. Чтобы я тебе путевку отдал?.. Пожалуйста, бери и поезжай!
— Нужна мне твоя путевка.
— Нот, ты бери и поезжай, а мы с Семкой полюбуемся, как тебя, пистончика, вышибут оттуда!
— А ты-то кто, бонба? — резко отцепившись от меня и головой подавшись к брату, выпалил Димка.
— Или хочешь, чтобы я остался делать с тобой штабы и гнуть луки? — запальчиво продолжал Федя, не обратив внимания на выпад брата. — Хватит! Я наделался этих сопливых штабов и настрелялся из лука. Мне теперь серьезнее давай: если штаб, то настоящий, если стрелять, то из винтовки! — рубя воздух, азартно говорил Федя. — И все это есть в лагере!
Озадаченный Димка некоторое время размышлял, хлопая глазами, потом спросил задиристо:
— И скажешь, каждому дадут по винтовке?
— Не знаю.
— То-то!
— А если не каждому, то на посту который — обязательно, винтовку или автомат!
— Незаряженный.
— Зарядить недолго, научат. Зато автомат, а не лук со стрелами, кур пугать!
— Ку-ур! — передразнил Димка.
— Или бурундуков.
— Да если я тебе пущу стрелу в одно место, ты сам, как бурундук, на дерево взлетишь!
— А уж если я тебя чесану из автомата, то у тебя этого места вообще не останется, понял?
— Ага.
— Вот тебе и ага, Баба-Яга.
Чувствуя, что загнанный в тупик Димка начнет сейчас психовать, злиться и сыпать всякие странно-забавные угрозы, я лихорадочно думал, чем бы отвлечь друзей от перепалки, как вдруг пацаны вокруг засвистели и закричали:
— Поезд!
— По-оезд! — подхватил и я, увидев вынесшийся на косогор электровоз с цистернами.
В такие моменты мы застывали, задрав головы и считая про себя вагоны — кто точнее. Димка еще дулся и пыхтел, но, не доведенный до кипения, тоже скосил глаза, и губы его как бы нехотя зашевелились.
— Пятьдесят девять, — закончил Федя.
— Шестьдесят одна, — сказал я.
— Шестьдесят, — буркнул Димка.
Не успел исчезнуть за поворотом хвост состава, как на плотину выползла голова, и мы давай пересчитывать. У всех вышло шестьдесят — по — Димкиному. Он сразу просиял, добрея, и мы обрадовались.
— На БАМ, — заметил я, провожая глазами поезд.
Подпрыгивая то на левой, то на правой ноге и вытряхивая из ушей воду, Димка отчеканил:
— Бензин, — проговорил Федя. — Опасная штука! Чуть какая искра — и рванет!
— И нету плотины! И начисто смоет ваш лагерь вместе с островом! — злорадно ввернул Димка.
А я вспомнил, как нынче в январе у нас гостила бабушка, по маминой линии. После двух дней отдыха мы повели ее на плотину. Как увидела она замерзшее море справа и пропасть с кипящей водой слева, да как представила, наверно, какую тяжесть удерживает плотина, так охнула и остановилась, замахав руками и с испугом отнекиваясь:
— Нет-нет, и не уговаривайте, и не пойду. Даже ногой не ступлю! С ума сойти! А вдруг как раз в это время и прорвет? Нет-нет! Сделали! Себе и людям на страх!.. А это что, неужели живут? — ужаснулась она, вдруг разглядев ниже плотины на том берегу низкий поселок.
— Конечно, живут!
— Батюшки! И не боятся?
— Чего бояться-то? Сами же построили, на совесть, — успокаивала мама. — Не прорвется.
— Не прорвется, так прорвут!
Точно услышав этот разговор, Федя возразил:
— Цистерной ГЭС не сметешь!
— А возьмут и бросят бонбу!
— Кто?
— Кто-нибудь.
— Не бросят! Не дадим! — с генеральской уверенностью сказал Федя. — А если уж на то пошло, то от бомбы не только наш лагерь смоет, но и вас в вашем лесном штабе изжарит, как цыплят!
— Ну да! — усомнился Димка.
— Вот-те и ну да!.. В радиусе триста километров все вокруг уничтожится! Даже Усть-Илимскую ГЭС прихватит! — грозно заключил Федя, махнув рукой.
Димка на какой-то миг задумался, а потом привстал на цыпочки, настороженно всматриваясь вдаль поверх Братской плотины, как будто- желая убедиться, жива ли еще Усть-Илимская. Я же поднял глаза к небу, точно взмывая туда, чтобы сверху разглядеть катастрофу, и вот почти что с высоты спутника увидел гигантскую воронку в центре нашей Сибири.
— Ого! — вырвалось у меня.
— Да-да, — подтвердил Федя, — нам в школе рассказывали... Но в общем-то дело не в бомбе. Бомба — еще не победа. Победа — это когда после бомбы приходят люди и захватывают чужую землю. А вот тут-то мы как раз и встанем с автоматами. И в «Зарнице», и в «Ермаке» — везде!
— «Ермак» же запретили, — напомнил я.
— Может, есть другой «Ермак»... И тогда посмотрим, кто кого. А ты, балда, хочешь, чтобы нас смыло!
— Да не хочу я, это просто так, — спасовал вдруг Димка.
— То-то.
— А вообще интересно, что на дне осталось бы, если море слить? Рыбы, наверно,— куча! — повернувшись к заливу, воскликнул Димка и аж за голову схватился, словно за толщей воды уже различил серебристые вороха.
— Рыба с водой уйдет, — сказал Федя.
— Бутылки останутся, — догадался я.
— Во! — воскликнул Димка.
— Да уж, бутылочек тут — будь здоров! — согласился Федя. — Так что жми-ка, Дементий, к начальнику, пусть на минутку сольет море, мы их соберем!
— А-а! — рассмеялся тот.
Наконец-то, а то все туча тучей! Димка смеялся не обычным смехом, как все люди, а каким-то веселым криком, словно его одновременно душили и щекотали, и был в веселье, как и в злости, неудержим.
Над нами просвистела пущенная из кустов над обрывчиком пустая бутылка и плюхнулась возле бон. Димка — к воде, бульк — с трамплина, и через минуту добыча уже лежала в сумке.
— Порядочек! — прошептал Димка.
— А ты говорил — не повезет!
— Это я нарочно, чтобы повезло!.. Надо последить за теми мужиками — у них, кажется, еще есть! Могут не бросить в воду, а в кустах оставить — для размножения! Мол, пусть вырастет еще. А мы ее — чик-чирик! Баба-Яга — санитар леса! — гордо заключил Димка. — Кстати, я заметил, что где валяются бутылки, там поганки растут! Так что я — двойной санитар! Ну-ка, где они там? — Он забрался на пень, старательно вглядываясь в кусты.
— Ну, ты последи там, а мы тут перекусим, — сказал Федя, заползая с сумкой под пенек.
— Э-э! И я!
Мы сошлись головами подо пнем, образовав трехконечную звезду, и, стиснутые корнями, как осьминожьими щупальцами, стали делить припасы.
2
В тот же день за ужином я вдруг вспомнил про «Ермак» и на всякий случай спросил у папы, правда ли, что лагерь запретили. Папа в свою очередь поинтересовался :
— А что?
— Да непонятно и глупо, — ответил я, пожимая плечами. — Ездили-ездили, строили-строили и хлоп — запретили. Пацаны уже собирались туда, а им — фигу!
— Кто собирался?
— Федя, например.
— Это он тебе сказал о запрете?
— Он.
— Ох, и шустрые Лехтинские, — заметила мама.
— Это тетя Ира узнала.
— Тетя Ира еще шустрей... Ведь есть, кажется, один военно-спортивный лагерь для ребятишек.
— «Зарница», но он сухопутный, — уточнил я.— А надо, чтобы и с моря охранять.
— Кого? — не понял папа.
— Как кого?.. И нас, и вас, и ГЭС.
— Хм, красивая картинка: отцы и матери вкалывают, а малышня воюет.
— Ну, уж если воевать, то пусть лучше малышня, — рассудила мама. — Со взрослых хватит, да они и воевать-то ладом не умеют, им обязательно чтобы смерть была и ужасы, а малышня бескровно воюет, по-человечески. И пусть.
— Значит, пап, правда?
— Позавчера было правдой, а вчера — уже нет.
— То есть как?
— Запрет сняли.
— Ура-а!.. А почему?
— Как раз потому, о чем ты сам говорил: ездили-ездили, строили-строили — зачем же бросать? Это раз! А второе, этот флотский оказался пробойным мужиком! — сказал папа, обращаясь к маме, и пояснил мне: —Я о том дяденьке, который, помнишь, приезжал к нам в лагерь зимой? Давлет Филипп Андреевич!.. Поднял весь проф- и партактив! И нас, плотников, вызвали. Что такое, говорит? Создали море, а моряков — кишка тонка? Позор! Чего, говорит, испугались? Природы? Парадокс! И пошел, и пошел! Дайте мне, говорит, ваших тепличных гавриков, я из них людей сделаю!.. В общем, опять разрешили! И его начальником назначили!.. А что, хорошая идея! Надо же чем-то настоящим заниматься пацанам! Пусть немного рискованно! Но вон один поляк говорил, что дети имеют право на риск! А уж юнгам-то маленький риск совсем не повредит!
— Даже большой не повредит, — уверенно сказал я. — Военный же лагерь, а не тру-ля-ля!
— Вот именно! И еще потому лагерь открывают, что едет пушка! — сказал папа.
— Пушка? — не понял я. — Какая пушка?
— Настоящая, с корабля. Филипп Андреевич как знал, что с «Ермаком» будут хлопоты. Едва лагерь заложили, он связался с Владивостоком — так, мол, и так, помогите юным морякам! И вот подарочек! Вчера пришла телеграмма: встречайте таким-то поездом такого-то числа, с приветом — тетя пушка! Нашим, понятно, деваться некуда! Не ставить же ее возле управления!
— Вот здорово! — воскликнул я.
— Всех обхитрил Давлет! Морская душа — жаждет моря! Даже для детей! Так что скажи Феде, заключил деловито папа, — пусть подает заявление в «Ермак».
— Поздно, — огорчился я. — У него уже путевка в «Зарницу». Послезавтра едет!
— Жаль! А мы завтра едем, всей бригадой, на неделю — срочно достраивать «Ермак». Там пустяк остался: поставить забор, подновить дебаркадер, обшить командный пункт да кое-какие мелочи в столовой, или как она по-морскому?
— Камбуз.
— Во-во, камбуз! — И папа обернулся к маме. — Если ты не против, я Семку опять возьму с собой!
— Ой, да хоть на все четыре стороны!
Внешне мама была суровато-безразлична ко мне, но за этим, как за плотиной, держались, я чувствовал, мягкость и доброта, которые в случае чего могли спасительно хлынуть из-под в миг приподнятых затворов. Отец же, на первый взгляд, вроде бы наоборот — купал меня в своем внимании и заботе, как в прогретых верхних слоях нашего моря, но я, бултыхаясь, постоянно ощущал суровость стометровой глубины, куда и мысленно занырнуть страшновато. Но в этом разнобое родители так ловко уравновешивались и согласовывались, что я никак не мог понять, кто же меня больше любит и кого больше люблю я. Вот и теперь они, порознь придя к одной мысли, вдруг умолкли и принялись швыркать чай, даже не глядя друг на друга, словно разговор на этом окончился.
Но разговор не окончился.
Дело в том, что зимой в «Ермаке» со мной случилась страшная вещь!.. Туда мы добрались по льду на машинах — перед этим прошел бульдозер и пробил в снегу дорогу. Если бы не вмерзший в заливчик дебаркадер, я бы решил, что до нас тут и не пахло человеком — тайга-тайгой и глухомань. На барже нашлась каюта с кирпичной печью, и в этой каюте мы с папой безвыездно прожили два дня. А на третий ему понадобилось отлучиться, и я до ночи согласился побыть один. Я не боялся, нет, и если бы не этот зверь, я бы спокойненько дождался папу. Но зверь, почуявший мое одиночество, явился. Я натерпелся столько страху, что расплакался, когда папа приехал, а утром, несмотря на уговоры, укатил домой... И сейчас родители испытывали меня — решусь ли я во второй раз подвергнуться опасности. Но именно потому, что тогда я напугался до смерти, и потому именно, что то место осталось для меня самым жутким, какие я только знал, теперь, когда я стал на три месяца старше, мне вдруг щемяще захотелось снова побывать там.
И я выпалил:
— А что? И поеду!
— Об этом и речь, — сказал папа.
— Нет, вы говорите так, как будто я не поеду, как будто я это... А я не трушу!
— Ну и правильно. Собирайся!
— Прямо сейчас?
— А чего же?.. Прикинь, что надо взять. Наверно, удочку, ножик, книжку, плавки. Купаться — посмотрим, а загорать будешь. Автомат возьми или саблю — для надежности. Какое у вас там оружие сейчас в моде?
Я вспомнил Федины слова о настоящем автомате, но все же ответил:
— Лук.
— Ну вот, лук и бери. Есть он у тебя?
— Есть.
— Покажи-ка.
Я принес короткий лук, сделанный из кривой и уже полувысохшей сосновой ветки. Папа оглядел его,ощупал, попружинил, пощипал тетиву — вовремя я сменил веревочку на жилку! — и заключил, щелкнув языком:
— Жидковат.
— Знаю. Это я наскоро, чтобы хоть какой-нибудь да был. А потом новый сделаю, как у Димки: во весь рост, из березы или из черемухи, если найду.
— Черемухи не обещаю, а вот берез в лагере — сколько хочешь. Несколько штук мы повалим — на всякие заготовки, а ветки — твои. Так что запасайся жилкой, и мы такой там лучище отгрохаем, что у Димки твоего от зависти уши распухнут! А уж о медведе том и говорить нечего — и носа не сунет, особенно если учесть, что его там и нет, медведя-то, — мягко намекнул папа на мое сомнительное, по их уму, зимнее приключение.
Я не стерпел:
— Зато был!
— Да не был же, говорю! — азартно подхватил папа. — Я потом все вокруг облазил — хоть бы след какой серьезный! Чисто и гладко, одни мышиные строчки.
— А кто лесины валил?
— И лесин поваленных не было.
— Опять не верите!.. А раз не верите, значит, я сумасшедший! И везите меня в больницу! И нечего со мной как с нормальным разговаривать! — возмутился я, вскочил со стула, обошел его и сел опять. — Я вон даже сочинение про это писал, и Ольга Максимовна поставила мне четверку.
— Да верим, не кипятись, — сказала мама, уже кончившая есть и с улыбкой наблюдавшая за нами. — И в сочинении очень правдоподобно и даже страшно. Только непонятно, кто же это все-таки был: медведь, лось или кто?
— Если бы я хоть капельку подождал, а не удрапал, я бы увидел!.. По-моему, морда уже показалась!
— Я как-то читал об одном французе, который исследовал подземные пещеры. И вот однажды он услышал там звон колоколов. Представляете? Глубоко под землей, гробовая тишина, одиночество и — колокола! Откуда, как, что за нечистая сила? Ему бы повернуть да — деру, а он — нет, не может быть и — вперед! И что вы думаете? Нашел три пустых консервных банки, в которые с потолка пещеры капала вода, и вот это-то бульканье из-за хитрой акустики превращалось в грозный колокольный звон. Вот ведь какая штука! Из-за пустой консервной банки можно с ума сойти, если остановиться на полпути.
— Да-а, — протянул я.
— И еще я читал про одного парнишку, — не дав мне напереживаться, продолжил папа, пошвыркивая чаем. — У них бабушка умерла. Ну, ее положили на стол, руки на груди, и накрыли простыней — все, как надо. А парнишка боялся. Боялся, боялся, а потом осмелел и подошел. А в горнице никого как раз не было. Ну, подошел и смотрит. И вдруг бабушкины руки под простыней шевельнулись, — таинственным шепотом протянул папа и, скрестив свои руки на груди, показал, как они шевельнулись.
— Страх-то! — охнула мама, а моим глазам стало аж холодно — до того я их выпучил.
— Парнишка как заорет и — деру!.. А подумай он, что это, мол, за чертовщина: бабушка мертвая, а руки шевелятся, да задержись — увидел бы, как из-под простыни вылез котенок. Вот такой! — внезапно добавил папа, кивнув в кухонный проход, где из темного коридора появилась, блестя глазами, наша Шкилдесса, как будто у нас в комнате лежал покойник, и она действительно шла от него к нам, живым.
Я обомлел.
— Брысь! — испуганно фыркнула мама, и кошка озадаченно остановилась в дверях. — Страсть-то какая!
— Страсть, если не доглядеть. А доглядишь — там всего на всего котенок. Привык с бабушкой спать, вот и пристроился, а потом замерз, видно.
— Да ну тебя! — отмахнулась мама.
Опомнившись, я чуть не спросил, уж не с нашей ли первой бабушкой произошел этот случай и уж не он ли сам был тем парнишкой — папа любил всякие были и небылицы приписывать книгам, чтобы лучше верили, — но вспомнил, что та бабушка погибла на фронте, а вторая жива и здорова.
— Чудес, братцы, нет! — заключил папа.
— А медведи есть, — сказал я.
— Медведи есть, — охотно согласился он, поднимаясь и глуша ладонью зевок.— Так что да здравствует настоящая встреча с настоящим медведем! Собирайся! И Шкилду вон сунь в рюкзак, для компании, пусть помышкует на природе.
Я осторожно, точно все еще подозревая в ней какого-то оборотня, дружащего с мертвецами, склонился к кошке и погладил ее. Заурчав, она мигом опрокинулась на спину, схватила мою руку передними лапами и, отбрыкиваясь задними, давай бешено кусать ее... Весной я натолкнулся у магазина на маленькую девчонку, которая предлагала всем хилого котенка, плача и объясняя, что папка хочет отнести его в лес. Никто котенка не брал. А я вспомнил, как мама однажды заикнулась о кошке, которую надо бы хоть на недельку попросить у кого-нибудь — погонять мышей, и взял беднягу, жалея и его и девочку. Мама охнула, но оставила котенка, окрестив его Шкилдой. Кто-то заметил, что правильнее — «шкидла», но мама отмахнулась, дескать, стоит ли тратить правильное слово на этакое создание. Помаленьку Шкилда выправилась и превратилась в настоящую Шкилдесса, боевую и хитрую кошечку. Это мы с Димкой воспитали ее по-боевому: я дразнил пятерней, а он придушивал и зажимал хвост, приговаривая «лови мышей, лови мышей»... И вдруг я спохватился — что же это получается: Федя укатывает, я укатываю, а Димка один кукарекай тут целую неделю? Если бы даже не та договоренность не разлучаться, все равно подло бросать человека на съедение скуке, а уж если договорились да еще так бурно и картинно подчеркнули сегодня это перед Федей, то тут совсем!..
— Пап, — сказал я, выпуская кошку, — а если для компании не Шкилдессу, а Димку взять?
Я и зимой так хотел, но тетя Ира не отпустила Димку к черту на кулички, и теперь он не очень-то верил моему страшному рассказу, хотя и не подсмеивался. А вот показать бы ему место, где полыхал костер и откуда раздался треск, он бы присвистнул!
— Димку? — размышляюще переспросил папа. — Он же тогда лучше твоего лук сделает!
— И пусть! Он все равно сделает лучше. Увидит — и сделает! Он полберезы согнет!
— Это конечно, но я вот боюсь, что вы мне работать не дадите. За одним тобой-то я угляжу, а за двумя?.. Вода кругом, бревна, а вас туда и понесет.
— Не-ет, пап!
— Знаю я ваше «нет».
— А может, вдвоем то надежнее, — вставила мама.
— Конечно, надежнее! — подхватил я. — Один булькнет — второй закричит.
— Тьфу, тьфу, тьфу! — по-Димкиному поплевала мама.
— Он хорошо плавает?
— Еще как!
— Ну, если тебе с отцом скучно...
— Да не скучно мне с тобой, пап, а просто ты будешь работать. Да и после работы не станешь ведь играть со мной в чижика или в войну!
— Стану.
— Да, станешь! — хмыкнул я. — Ударишь разок — и все, перекур. А с Димкой мы бы весь день!
— Ладно, уговорил, — сказал папа и потрепал мою шевелюру. — Бери свою ненаглядную Бабу-Ягу.
— Ура-а! — крикнул я, и Шкилдесса, решив, наверное, что это я готовлюсь к новой атаке на нее, панически буксанув на гладком полу, прыснула в коридор.
3
Отправляясь на работу, папа дал мне две десятки, листочек, на котором написал, чего и сколько купить, пояснил, как упаковать еду вместе с вещами в рюкзаки, и в двенадцать велел ждать — он заедет за мной. Сделав два рейса в магазин, я заметался по комнатам, как горящий человек, который хочет ветром сбить с себя пламя: схватив одно, я вспоминал второе, а на глаза попадалось третье. Я боялся не успеть к Лехтиным, а сам Димка может сегодня вообще не прийти, потому что по понедельникам они с Федей сдавали накопленную за неделю посуду.
И я спешил.
Обычно же мы встречались часов в десять. Димка поднимался по-стариковски рано, что-нибудь делал, потом не торопясь брел через лес и все равно заставал меня в постели, спящего или с книжкой. Я не был засоней, а просто не досыпал положенного. Мы жили на первом этаже, и утрами меня всегда будили хлопки подъездных дверей. Очнусь и, не открывая глаз, начинаю в полудреме прислушиваться и рассчитывать: вот затопали сверху, ниже, ближе, вот наша площадка, а вот — бух! Иногда так сильно, что вскочил бы, догнал этого негодяя и трахнул бы его чем-нибудь по башке с таким же дверным громом. А иногда простучат каблуки мимо, а хлопка нет, точно духом сквозь двери прошли,— вот люди! И тоже хочется догнать и узнать, кто же это!.. А когда отбухает, сон опять наваливается на меня, но уже вялый и зыбкий. Вскоре является и Димка. Если срочно — свистит под окном, а нет — усаживается там на камень и, строгая деревяшку, начинает петь, на лету подбирая слова, вроде таких:
Я, улыбаясь, слушаю эти деловые серенады, которым Димка, как глухарь копалуху, выманивал меня на свидание. Словно убаюканный, я иногда так долго не отзывался, что он, наконец, спохватившись, строго выкрикивал:
— Семка!
— Оу!
— Ты где там пропал?
Я вскакивал, открывал окно и выбрасывал наружу привязанную к батарее веревочную лестницу с пятью поперечинами, по которым Димка, сопя, забирался ко мне, как пират, и мы намечали планы на сегодня, а то и на завтра.
К половине одиннадцатого я набил оба рюкзака, запер квартиру и вылетел из подъезда.
В приплотинной части поселка все давно прибрали, вылизали и заасфальтировали, а в нашей, отдаленной, было грязно и неустроенно. Лежали кучи чернозема и груды бордюрных камней, с ними ежедневно возились только два-три человека — и дело шло по-черепашьи. Зато рядом с нами был лес: миг — и ты там, кувыркайся, пеки картошку да играй в войну. Не приучи меня этот лес к себе, я бы той ночью в «Ермаке» не просто дрожал, а помер бы!
Я мчался по узкой дорожке, на бегу дергая кусты за ветки, как девчонок за косички. Везде блекло синели подснежники. Они уже отходили — чашечки их расслабленно развернулись, подсыхая, и только в низинах и в тени, где таился холодок, они еще геройски не сдавались. На смену им из земли лезли тугие бутоны огоньков. Все это я замечал мельком, а ноги несли и несли меня. Солнце за соснами летело со мной наперегонки, щупая лучами, не опережаю ли я его... Интересная штука — бежишь вот, бежишь, лес все гуще, прохладней и тревожней, и чудится, что почти заблудился, и вдруг — прибегаешь к друзьям. Как хорошо, что друзья есть всюду, куда бы ты ни попал!
Еще недавно я боялся один добираться до Лехтиных, и лесной глуши боялся, и самой подстанции, даже названия — не станция, а подстанция, как подполье или подземелье, где водится нечистая сила, а сейчас — хоть бы хны, но к подстанции я относился с прежней почтительной настороженностью.
Вон она показалась между сосен, поверх кустарника. Высокая решетка, за какой в зоопарках держат львов, толстые кирпичные столбы, а внутри — жабристые, сердито надутые трансформаторы, брызгающие, говорят, кипящим маслом, и провода, провода — как будто в паучьем логове, а сами пауки как будто таятся вон в тех будках, с черепами на дверях, или прискальзывают по лэповским паутинам из-за лесного поворота, когда в их сеть кто-нибудь попадает. А вокруг валяются размозженные головы коричневатых изоляторов, как чьи-то обглоданные кости, а вон полузарылся в землю и полузарос травой ржавый бульдозерный отвал, похожий на челюсть гиганта. Казалось, что это дотлевали останки тех, кто пытался осадить подстанцию и пал, испепеленный.
Вот в этом-то странном тридевятом царстве и жили Лехтины. Их насыпной домишко, один из полутора десятков, стоял метрах в двадцати от решетки, а огород вообще упирался в прутья, так что малина даже западала туда.
На завалинке, в солнечном потоке, застыло сидел костлявый дядя Степа, в майке и с папиросой в зубах, рядом с ним, из опилок, жутко торчал дырявый валенок, словно дядя Степа только что закопал тут кого-то. Димка с Федей посреди двора мыли в поросячьем корыте «пушнину» —так они называли свою добычу — бутылки. Вокруг них, кококая и косоглазя, бродили куры. Поросенок Васька повизгивал в сторонке, возмущаясь, что его не подпускают к собственной посуде.
Мне нравился двор Лехтиных тем, что тут всегда кипела жизнь: кричали, бегали и дрались.
— Пошел! — шикнул Федя на поросенка и увидел меня. — Семка! Заходи!.. Раненько ты сегодня.
— Дела! Здрасте, дядя Степа!
— Здравствуй, — безразлично пыхнул тот дымком.
— A-а, стой-ка! — воскликнул вдруг Димка и стремительно умчался в дом.
— Э-э! — только и успел я протянуть. — Куда это он? Как будто я его бить хочу!
— Не ты его, а он тебя!
— Как это?
— Сейчас увидишь, — улыбнулся Федя.
— Фокус какой-нибудь?
— Почти.
Федя осторожно и даже морщась отделил, как бинт от раны, этикетку от бутылки, смыл тряпкой полоски клея, прополоскал нутро, заткнув горлышко указательным пальцем, потом глянул ее против солнца и поставил на фанерный лист рядом с корытом, где уже сушилось их десятка два — сегодняшний урожай. Каждый понедельник спозаранку Лехтины прочесывали лес между подстанцией и поселком, подчищая следы субботних и воскресных гулянок. Случайные бутылки попадались редко, но у братьев было на учете около десятка «капканов», так они окрестили те уютные пятачки с костерками, которые мужики постоянно облюбовывали для своих тайных увеселений, и эти «капканы» надежно приносили добычу. А бутылочных соперников у Лехтиных, кажется, не было.
Димка выскочил, гремя шахматной доской, и с ходу высыпал фигуры у поленницы, прямо на щепки.
— Семка, иди, я тебе детский мат поставлю!
Я хотел сказать, что некогда, что нас ждет ого-го какое дело, но Димка возбужденно-суетливо начал расставлять фигуры и весь горел таким нестерпимым азартом, что я, чувствуя, что время еще есть, заинтересованно подсел к нему. В шахматы мы играли плохо, через пень колоду, зная лишь, что в конце концов над поставить королю мат, а вот этого-то у нас и не получалось — срубалось все, что можно, и жестокий бой кончался обычно ничьей. А тут, видите ли, он матом грозит!
— Вчера его научили, — сказал Федя. — Он ту всех уже заматовал. Ты остался да вон Васька.
— Так, мои белые. Пошел, — крякнул он и двину центральную пешку, а я, не раздумывая, махнул конем через пешечный забор. — Куда! — возмутился Димка, водворяя моего коня на место. — Кто же так ходит! Надо вот этой пешкой. Хорошие игроки, которые понимают, всегда с нее начинают.
— Ладно, — согласился я, не желая отставать от хороших игроков, и пошел пешкой.
Димка скакнул офицером и заегозил. Я помедлил. Это показалось ему опасным, и он опять подсказал:
— Теперь защищай ее вот этим конем.
— Зачем защищать?
— Потому что я сейчас нападу на нее!
— Тогда и защищу, — сказал я и .выставил ферзя
— Куда! — опять рявкнул Димка и хотел схватить ферзя, но я отбил его руку.
— Не лапай, а за себя давай ходи!
— А ты убери ферзя!
— Не уберу!
— Ну и мата не получишь!
— И не надо!
— Балда! Ему как доброму мат ставят, а он!.. — Димка изловчился и цапнул-таки ферзя.
— Поставь! — вспылил я.
— А уберешь или нет?
— Нет!
— Ну, и вот тебе! — И Димка, вскочив на ноги, пульнул ферзя через забор на улицу.
Куры, собравшиеся возле нас в ожидании, не будет ли от нашей игры каких-нибудь съедобных отбросов, разлетелись с кудахтаньем. Федя, все время, наверное, крепившийся, прыснул наконец и разразился смехом на всю подстанцию. Гоготнул и дядя Степа, Опешивший было, я тоже разулыбался. А Димка, нервно оглядывая нас, засопел, засопел и вдруг обрушился на брата:
— А ты, Федяй, чего? Тебе-то я мат поставил!
— Я поддался.
— Поддался! Сейчас как рассыплю поленницу, узнаешь!
— Сам и соберешь.
— Или Ваську выпущу!
— Сам же пойдешь искать.
— Ага, сам!
Васька, услышав свое имя, решил, видно, что пора действовать и ему. Он улучил момент, сунулся к фанерке и поддел ее своим пятачком — бутылки со звоном посыпались в пыль.
— Ах ты, чмырина хвостатый! — всполошился Федя, схватил лежавшую у ног хворостину и дважды успел огреть поросенка, прежде чем тот, визжа на одной ноте, улепетнул. — Что ты наделал, черт лысый? Я тебе! — еще раз пригрозил он, и Васька издали понимающе хрюкнул.
Димка воскрес.
— Что, досмеялся, Федяй? Так тебе и надо! — возликовал он. — Васька за меня отомстил! Молодец, Вася! Хрю-хрю-хрю, иди сюда, я тебя почешу!
— Раз молодец — иди перемывать!
— Сам прозевал! — отрезал Димка.
— Из-за твоих шахмат.
— Давай-давай! — крикнул дядя Степа с завалинки.
Почувствовав, что огонь перепалки приближается ко мне, виновнику ссоры, я вмешался:
— Ладно, Димка! Вечером дашь мне мат!
— Ну вас!
— И не здесь, и не у нас, а в лагере «Ермак» — заявил я, сдерживая радостную дрожь в голосе, но приятно ощущая, как она все же пробивается.
— Где-где? — переспросил Федя.
— В «Ермаке»! — гордо повторил я и передал весь разговор с отцом, упомянув, конечно, и пушку и закончив главным — что нас с Димкой берут с собой. — И тебя, Федь! — добавил я. — Но мы же на неделю, а тебе завтра уже ехать.
— На неделю? — воскликнул Димка.
— А может, и больше! — поддал я.
— А-а! — залился он.
— А что ты радуешься, интересно? Тебя же еще никто не отпустил,— охладил братишку Федя.— Мамы-то нет.
— Ты отпустишь.
— А возьму и не отпущу!
— Отпустишь! — заверил весело Димка. — Ты же брат! Старший брат, умный брат, хороший брат!
— Заподлизывался?
— Это я чтобы добром, — хитро пояснил Димка. — А могу и не подлизываться. Если не пустишь — так удеру!
Димка присел, чтобы собрать шахматы, но замер без движений, ожидая окончательного ответа брага. Чувствуя это, Федя не спеша собрал в корыто все испачканные бутылки, тоже присел и лишь тогда ответил:
— Ладно, отправляйтесь!
— Ур-ра-а! — гремя фигурами, закричал Димка.
— Только быстрей, — подстегнул я. — В двенадцать часов за нами придет машина.
Захлопнув доску и зажав ее под мышкой, Димка кинулся вон со двора искать заброшенного ферзя и тотчас вернулся, зажав его в кулаке и торжествуя:
— Мы вперед тебя в лагерь попадем! И не в какую-нибудь «Зарницу», а в «Ермак»!
— Зато я — служить, а вы — так себе, цветочки нюхать!
— И мы с Семкой службу наладим! — не сдавался Димка. — За неделю знаешь как можно наслужиться!.. Э, Семк, значит, еду надо брать, если на неделю?
— Конечно!
— А тебе и на час надо еду, — заметил Федя, опять составляя ополоснутые бутылки на фанерку. — Ты ведь обжора, каждые пятнадцать минут что-нибудь да жуешь!
— А-а! — рассмеялся Димка и нырнул в дом.
— Давай-давай! — сказал дядя Степа.
Отец Лехтиных раньше был жутким пьяницей. Потом его насильно положили в больницу и долго лечили. Тягу к водке выгнали, но вместе с этой тягой ушло из него что-то человеческое — он стал как бы ненормальным. Не таким, которые на стены кидаются или бегают голыми по улице, а наоборот, — он затих намертво. Пустым — вот каким стал дядя Степа. Из электриков его перевели в сторожа, а дома он делал единственное — курил, курил так, что иногда из нетопленной печи струился дым. Для домашних он был ноль без палочки. Раньше, когда дядя Стела пил, братья ненавидели его, а сейчас просто не замечали.
Федя кончил с бутылками, достал из карманов две сетки, красную и зеленую. Красную протянул мне, и мы принялись складывать в них «пушнину». На крыльцо вылетел Димка и ликующе крикнул:
— Вот что я возьму! — Подбежал и поставил на чурбак банку с тушеной говядиной. — О-о!
— Хорошо! — сказал я.
— Еще надо?
— Хватит! Я накупил всего!
— Еще-еще! Нечего нахлебничать! Этот обжора объест вас, как миленьких! — Федя усмехнулся, связал шпагатом сетки, отнес их к крыльцу, выкатил из сеней велосипед и, перевесив сетки через раму, прислонил его к завалинке. — Пошли, горе-турист, я тебя соберу! Неси свою банку!
Было что-то сказочно-колдовское в том, что лехтинская насыпушка, такая неказистая и маленькая, почти нищая снаружи, оказывалась вдруг опрятной и просторной внутри, даже с перегородкой, отделявшей ребячью комнатку от главной, которая служила и кухней, и столовой, и спальней родителей, и тут же стоял телевизор. Но самым интересным были полати. Они шли над головой от двери до середины комнаты, справа упираясь в стену, а слева обрываясь в метре от печи; тут вздымалась крутая лесенка, за которой держались дрова. Свободный угол полатей, против ребячьих дверей, висел на толстой двойной цепи. Что-то дремуче-средневековое таилось во всем этом. Когда я оставался ночевать у Лехтиных, мы с Димкой спали на полатях и допоздна смотрели оттуда телевизор, хотя лица на экране сильно сплющивались.
Отправив Димку в подполье за картошкой, Федя открыл холодильник и давай опустошать его. Кругляк колбасы, начатый брикет масла, копченая селедка, около десятка яиц, три золотистых луковицы — все это мигом выросло на столе. Потом Федя отсыпал в полиэтиленовый мешочек сахару, достал из шкафа миску, кружку и ложку с вилкой, сходил в свою комнату и вернулся с рюкзаком и Димкиной телогрейкой. Выбравшись из подполья с ведерком картошки и увидев на столе груду пищи, Димка схватился за голову.
— А-а!.. Все мне?
— Тебе. А хлеб и чай там купим.
— А-а! Я столько не съем!
— За неделю-то? Съешь и облизнешься!.. Да, сухари забыли! Хочешь сухарей?
— Хе-хе! — ухмыльнулся Димка, довольно потирая ладони, как паут лапки перед тем, как впиться, хотя недавно объяснял мне, что злость в его характере пошла от сухарей, которые в детстве давали ему вместо игрушки, чтобы легче прорезались зубы, но сухари кололи десны, Димка злился и ревел, и так это осталось.
Со шкафа Федя достал большое сито, наполненное кубиками сухарей, отсыпал половину, и Димка тут же нетерпеливо сунул себе и мне в рот по сухарику.
— Ну, тащи старое одеяло с полатей и начнем укладываться, — отдал Федя последнее распоряжение.
Через десять минут все было готово, и мы вышли во двор. У корыта с невкусным хлебовом жалостливо повизгивал Васька, не подпуская однако кур. На завалинке так же оцепенело сидел дядя Степа. Федя взвалил рюкзак на багажник, зацепил лямки за седло, и мы тронулись. Проходя мимо отца, Димка наказал:
— Скажешь маме, что Федя меня отпустил.
— Ладно.
— До свидания, дядя Степа! — крикнул я, но он, прикуривая новую папиросу, не отозвался.
— Брось ты с ним здороваться да прощаться! — как то болезненно выговорил Федя за калиткой.
— Как же — человек ведь! — возразил я.
— Какой человек?!.
— Ты что на отца так? — ужаснулся я.
— Кабы он отцом был! — буркнул Димка.
— Все, отнянчились, хватит! — отрезал Федя, напряженно ведя за руль тяжелый велосипед. — Сколько лет просили, умоляли, плакали: папочка, миленький, родненький, не пей!.. Нет — дул, как лошадь! Вот и додулся!..
Начался лес.
Мы придержали велосипед, навьюченный так, что крутить педали было невозможно, Димка вспорхнул на седло и, легонько притормаживая, покатился по тропе, которая петляла и шла с заметным уклоном до самого поселка. А мы с Федей, придерживая с обеих сторон рюкзак, в котором бренькали шахматы, побежали, отмахиваясь от кустов и все более оживляясь.
4
В кузове, наполовину закрытом низкой будочкой, ехало шестеро плотников во главе с папой и мы с Димкой да Шкилдесса, которую я сунул в карман рюкзака и так застегнул клапан, что наружи осталась одна голова. Сперва кошка мяукала и рвалась, но, когда миновали плотину и начало трясти, она умолкла и только медленно закрывала и быстро открывала глаза, борясь, видно, с морской болезнью. Звякали инструменты в четырех плотницких ящиках. Плотники сидели у переднего борта на брусе, который подпрыгивал вместе с седоками, и они, беззлобно поругиваясь, все время сдерживали его прыть. Мы с Димкой, заложив рюкзаки между колен, устроились на запасном колесе, которое тоже подпрыгивало.
— Кого везешь? — весело кричали плотники, когда поддавало сильнее. — Дрова везешь?
Миновав правобережный поселок, машина углубилась в лес, затем запылила в гору. Прыгая, наше колесо выдвинулось из будочки, и мы с Димкой видели по сторонам и позади бескрайнюю зелень леса, в одном лишь месте запачканную дымом — там горела свалка древесных отходов. Дорога ползла вверх змеей, а ее напрямик перерезал нахрапистый след бульдозера. От плотников мы услышали, что эту «серпантину» еще давно проложили к карьеру, который был на макушке горы и который уже давно забросили, а вот что ниже — черт его знает. Значит, интересно.Когда черт примешивается, всегда бывает интересно!
Лес поредел, дорога стала выравниваться, машина газанула и вдруг остановилась. Шофер хлопнул дверцей и сказал, что проверит спуск впереди. Ехавший с ним в кабине парень-бурят в штормовке и кедах высунулся и крикнул, что спуск хороший, но шофер все равно пошел. Я потрогал Шкилдессу — жива ли, на мое прикосновение она беззвучно мяукнула. Мы с Димкой поднялись, разминая затекшие ноги. Слева, метрах в ста, я увидел телевизионный ретранслятор — высоченную мачту. Зимой я четко видел ее с дебаркадера. На мачте изредка выла какая-то сирена, а ночью зажигались красные огни — для того, наверное, чтобы ее не задевали самолеты, как раз отсюда заходящие на посадку. Встав на запаску, я глянул поверх будки и в глубине распадка поймал сверканье.
— Залив! — сказал я.
— Да? — отозвался Димка и, приподнявшись на цыпочки, завертел своей мышино-маленькой головой.
Он обратил внимание на опрокинутый в стороне от дороги автобус. По ржавым язвам, по тому, как он зарос и пророс зеленью, было ясно, что завалился он тут давненько. Димка заметил, что неплохо было бы в нем штаб устроить.
Нас объехали двое пацанов на велосипедах, которых мы обогнали на подъеме. На одном была пляжная шапочка с прозрачным зеленым козырьком, а с головы второго, старшего на вид, спускалось что-то похожее на капроновый чулок. К багажнику его велосипеда был приторочен желто-оранжевый тюк — палатка, наверно. Водитель наш вернулся, крикнул, что до первого дождя дорога сносная, и мы покатили вниз.
Наше колесо упрыгало опять в будку, и мир снова сузился до будочной рамы, напоминавшей, правда, огромный экран телевизора, и именно голубой из-за неба, на котором плыли, мотались и дергались махровые вершины сосен. Дорога шла круче, чем на подъеме, но петляла так же. Кузов дрожал, и в моем животе начало что-то холодеть и свертываться. Опасаясь, что это подступает морская болезнь, я нащупал голову Шкилдессы, сочувственно погладил ее и, глубоко задышав стал по ее способу медленно закрывать и резко открывать глаза, отпугивая тошноту... Не знаю, чем бы закончились мои упражнения, если бы машина, стрельнув глушителем, не замерла.
— Вот и приехали! — объявил папа.
— Обед! — крикнул кто-то из плотников, и они с гвалтом посыпались через борт, принимая друг у друга сумки, сетки, ящики с инструментами и наши рюкзаки.
Мы стояли на верхней дороге, между камбузом и каркасами палаток, которые ступенчато шли вниз. Зимой лагерь выглядел прозрачнее и беднее. А тут откуда что взялось — прорва зелени, густющей и яркой! Поставленный на столбы камбуз казался подвешанным к веткам сосен, а осинник так оплел палатки, как будто пожирал их, рассасывал, и потому-то от них остались одни скелеты.
Димка маханул на ворох свежих досок и брусьев, кувыркнулся оттуда в траву и, укатившись под куст, закуковал — в лесу он был как дома. Я же тихонько спустился по колесу и первым делом освободил размяукавшуюся Шкилдессу. Она потянулась и как ни в чем не бывало давай обнюхивать травинки. Окликнув Димку, я поспешил вниз, между палаток, мимо застекленного павильона ГКП[1] поставленного на деревянные столбы, наполовину обшитые уже досками.
«Ермак» прятался в глубине одного из боковых заливчиков большого Зябского залива. Этот заливчик делился маленьким мыском еще на две бухточки. Кто-то правильно заметил, что мысок похож на нос корабля, и с учетом этого возводились все береговые постройки. Как летчик, или птица, или даже ведьма, летающая на помеле, я почему-то умел смотреть с высоты, хотя ни на чем пока не летал, кроме как во сне, и отчетливо видел этот корабль, который, едва врезавшись в море, вдруг по чьему-то велению застыл. Лес не мешал мне, наоборот, маскировка обостряла мое зрение.
Я спустился к правой бухточке. Здесь у берега стоял дебаркадер, а посредине торчала из воды сухая и почти оголенная лиственница с надломленной вершиной.
— Вот она! — сказал я подоспевшему Димке.
— Которая горела?
— Да.
— А где гарь?
— Там немного, кольцом выгорело.
— А!.. А где кольцо?
— У самой воды. Блестит — не видно.
— Все видно. Нет там никакого кольца, — сказал Димка таким тоном, в котором так и чувствовалось, что, мол, не зря мы тебе не верили.
— Да как это никакого? — возмутился я, до рези вглядываясь в пограничье лиственницы с водой и действительно не находя там следов костра! — Хм, здорово!
— Может, в другом месте?
— Нет.
— Или другое дерево, которое потом рухнуло, — предположил Димка, намекая на возможную увертку.
— Нет, нет!
Какие могли быть увертки! Стой вокруг еще десяток подтопленных деревьев, я бы все равно узнал эту листвяшку, верхушка которой обвисла журавлиным клювом. Но устоявших больше не было, все попадали, сплелись ветками и вместе с блуждающими бревнами плотно закрыли почти полбухты, хоть перебегай на ту сторону, что и делали трясогузки, гоняясь за мошками.
— Смыло, — заключил Димка.
— Гарь не смывает! — чуть не со слезами возразил я зло. — Говоришь — смыло, а думаешь — врет!
— Да нет же, Семк, верю! Честное слово! Лагерь есть, баржа есть, значит, и зверь был! — рассудил он без тени легкомыслия на этот раз. — Откуда он ломился?
— Вон оттуда! — И я указал на тот берег.
— Ну и все, потом сходим, расследуем!
Нет, не будет мне покоя, пока не пойму этой чертовщины, как говорил папа в истории о мертвой бабушке и котенке!.. В мои ноги кто-то сунулся. Это была Шкилдесса. Аккуратно, будто на цыпочках, она спустилась к урезу и принялась лакать. Я тоже захотел пить, присел и разогнал пальцами соринки. Вода была холодной и прозрачной. На дне, придавая воде еще большую прозрачность своей зеленью, росла трава, вернее, она с берега уходила прямо в воду, а вода, поднимаясь, наползала на траву, как и возле нашего поселка — ведь море-то одно, и то убывает, то прибывает. И бревен, осевших на берегу, здесь полным-полно.
Я вдруг выпрямился.
— Слушай, Бабка-Агапка! — воскликнул я, на радостях смягчив Димкино прозвище. — Кольцо-то под водой!.. Понимаешь!.. Его не смыло, а затопило!
— А-а! — сообразив, залился Димка.
— Вот то-то!
— Конечно, затопило!
— И наверно, еще не глубоко. Наверно, можно увидеть. Надо плот построить и сплавать!
— Эй, шилобрейцы! — окликнул нас папа, появляясь у дебаркадера со всеми тремя рюкзаками. — А я вас ищу!.. Хорошо, что Димка засмеялся! Пошли обедать!
Подлетел испуганный бурят в штормовке.
— Что случилось? Кто кричал?
— Не волнуйтесь, это один из моих так смеется, — сказал папа, кивнув на нас.
— Уф, а я уж думал — беда! — вздохнул парень.— Вы на забор поставлены?
— Да.
— Начните, пожалуйста, со шлагбаума. А то дорогу пробили — все полезут, кому не лень.
— Ладно. А вы из начальства «Ермака»?
— Да, я физрук. А вы что, хотите узнать насчет этих смехунов? — спросил парень, глядя на нас. — Нет, малы. Мы только после седьмого принимаем.
— А если за геройство? — выпалил вдруг Димка.
— За какое геройство?
— А вот кам-мудто что-нибудь загорит, а мы потушим! Или кам-мудто кто украдет, а мы поймаем!
— Ну, за это можно!
— Хм! — с надеждой хмыкнул Димка.
— Да нет, я не об этом, — встрял папа. — Я хочу с недельку пожить тут с ребятишками. Можно ли на дебаркадере поселиться? Зимой мне Давлет разрешал.
— Поселяйтесь, конечно! — даже обрадовался парень.— Хоть за лагерем присмотрите, а то все брошено. Некогда. Сезон открывать через неделю, а ничего нет. Ну, пока! Завтра Давлет прикатит. Значит, —| шлагбаум! — напомнил он.
— Понятно.
Физрук убежал, а мы по бревнам забрались на| дебаркадер.
Вся палуба была густо уляпана ошметками засохшей грязи, нанесенной сюда чьими-то огромными сапогами. В каюте, закрытой всего на палочку, виднелись следы тех же сапожищ. На нарах валялась прожженная телогрейка, на столе стояла разорванная пачка соли, возле которой был воткнут самодельный нож с изолентой на ручке, на печке — черный чайник с куском коры вместо крышки, на полу — полиэтиленовые кульки, газеты, одеревяневшие горбушки хлеба и бутылки. Ночевал тут, и, видать, частенько, какой-то немытый и нечесанный рыбак-отшельник. Это лишь на миг опечалило меня, а в следующий миг я уже улыбался — это была та самая каюта, где мы с папой прожили зимой два дня, а на третий... И меня пронзило вдруг новое и странное чувство, как будто я нашел здесь что-то крайне важное для своей жизни, но случайно потерянное, хотя я вроде ничего не терял и ничего не искал.
— Э-э, — протянул папа, выставляя рюкзаки за порог. — Вот что, шилобрейцы! Пока я готовлю обед...
— Мы приберемся! — опередил я.
— Именно! — подтвердил папа.
— Ну, Димка!..
— Абрам! Свистать всех наверх! Киты на горизонте! — закричал Димка и первым делом кинулся выуживать из мусора бутылки, по-докторски привычно осматривая горлышки и пробуя на свет — нет ли трещин. — Справа акулы! Абрам!
— Абрам! — подхватил я.
— Что это за «абрам»? — спросил папа.
— А когда на корабле бегают, — пояснил Димка.
— Это аврал.
— Ну, аврал. Аврал! — поддал он и снова сорвался с места, распинывая кульки и газеты, которые я живо ловил и проворно засовывал в печку.
Когда-то на дебаркадере было электричество, но сейчас розетки, выключатели, патроны — все обрезали, а проводка пугающе болталась и топырилась в разные стороны. Я оторвал один шнур, привязал к помятому ведру из-под рукомойника и принес воды. Димка ножом отхватил от телогрейки оба рукава, остальное вышвырнул за порог под ноги, и мы принялись драить пол.
Когда, раз пять сменив воду, кончили, я объявил:
— Готово!
— Дядя Миша, чем не геройство? — воскликнул Димка. — Вы там скажите начальнику, что мы уже начали службу!
— Ладно, — пообещал папа.
— А ты и правда хочешь в лагерь? — спросил я.
— Еще бы! Чем с курами да поросенком сидеть! А то «Ермак»! Мы бы напали на «Зарницу», и я бы Федяя взял в плен! Я бы его скрутил и пытал!.. А ты разве не хочешь?
Я пожал плечами. Я даже не думал об этом, но тут вспомнил слова физрука о том, что мы еще малы и нам нельзя в лагерь, и они отозвались во мне неприятным эхом. Я нахмурился. Подумаешь — малы! Как это — малы?
— Три с плюсом! — оценил папа нашу работу.
После обеда папа отправился ставить шлагбаум, а мы, оставив орущую Шкилдессу на палубе, откуда она не решалась спрыгнуть на мокрые бревна, двинулись вокруг залива знакомиться с миром, в котором нам предстояло жить целых семь дней.
5
Я не запомнил в точности, о чем был сон, но снилось мне что-то приятное, как будто я и во сне нашел давно потерянное, поэтому-то неожиданный крик боли так не вписался в мой сон, что я на некоторое время вообще отключился ото всего. Но тут Димка разбудил меня и тревожно шепнул:
— Кто-то тонет!
Мы слетели с нар и, как попало натянув сапоги, выскочили на палубу. По берегу, в незаправленной и незастегнутой рубахе, прыгал с бревна на бревно папа, а перед ним скакал один из тех пацанов, которые вчера обогнали нас на велосипедах, — в пляжной шапочке с зеленым козырьком.
Не сговариваясь, мы припустили следом.
Пацан обогнул бухту, свернул направо и исчез в зарослях. Мы — туда же. Мой череп сразу стянуло холодным обручем — это было именно то место, откуда зимой на костер выбирался зверь, под которым валежины трещали точно так, как затрещал сушняк под ногами папы. Одолев крутой подъем, с колдобинами и сплошным осинником, мы устремились вниз по более пологому и чистому склону к соседнему заливу и вскоре очутились возле желто-оранжевой палатки.
— Где? — переспросил папа, еле переводя дух.
Едва пацан успел показать на небольшой плот
метрах в пятнадцати от берега, как слева из-за куста раздался хрипловато-бессильный голос:
— Я тут!
На сухом прибрежном мусоре сидел, отплевываясь, бледный и мокрый пацан, в рубашке и в закатанных до колен штанах. Наш проводник бросился к нему, упал рядом и, тряся его за ногу, разрыдался, выкрикивая сквозь слезы:
— Вадька!.. Вадька!..
Пострадавший с трудом погладил его по плечу, тяжело покосился на нас и, уронив голову на грудь, опять стал отплевываться.
— Выплыл, значит? — спросил папа с каким-то злым облегчением, пацан не ответил ни словом, ни жестом. — Это хорошо, что выплыл!..
— С плота сорвался, что ли? — спросил Димка. ’
— Нырнул. И ударился обо что-то, — ответил тот, болезненно ощупывая голову.
— И начал тонуть, — добавил младший, садясь, переставая плакать и все еще с удивлением разглядывая старшего. t
— Тут же сплошь топляки! — сказал папа, кивая на море. — Купаться — ни в коем случае! И вообще, шилобрейцы, сматывайте-ка удочки! — Папа вздохнул, помолчал и указал на палатку. — Приходите в себя и катитесь!
В лагерь мы вернулись в тот момент, когда к камбузу из распадка выбирались, ведя в руках велосипеды, еще два пацана, на плечах — рюкзачки, у рам — удочки.
— Новые кандидаты в утопленники! — хмуро проговорил папа. — А ну-ка марш отсюда!
Те остановились.
— А что?
— Видели шлагбаум?
— Видели. Но он поднят, а знака нет.
— Какой вам нужен знак? Труп в кружочке?.. Шлагбаум — значит, нельзя! Запрет! Ясно?.. Только что один чуть не утонул! На сегодня хватит!
— Тут военная база! — сказал Димка.
Пацаны озадаченно шевельнули плечами, поправляя рюкзачки, неохотно развернули свои велосипеды, неохотно сели и покатили обратно. А тут из распадка выползла наша будка, и когда плотники выгрузились, папа сказал нам с Димкой:
— Садитесь!
— Что? — не понял я. — Зачем?
— Домой? — ужаснулся Димка. — Дядя Миша, если вы думаете, кам-мудто мы утонем, то зря — мы нетонучие! Мы в огне не горим и в воде не тонем, да ведь, Семк?
— Не домой, а к шлагбауму! Покараулить надо, пока все не наладим, а то поползут сейчас шилобрейцы по новой дороге!.. И к воде чтоб — ни-ни, а то!..
Мы забрались в кабину и доехали до шлагбаума.
С двумя чурбаками пригруза, свежевыструганное бревно шлагбаума торчало круто. Веревки на нем не было. Димка скинул сапоги и полез. Выше, выше... Лесина качнулась и пошла вниз.
— Лови! — крикнул Димка.
Я подскочил ко второму столбу, чтобы принять конец, но он так разогнался, что прихлопнул бы меня, если бы я в последний миг не отпрыгнул. Шлагбаум стукнулся о столб, стряхнул Димку на дорогу и вздыбился снова.
— Ты чего не ловил? — возмутился Димка.
— А ты чего не удержался?
— Удержись тут! — проворчал Димка, поднимаясь и отряхиваясь. — Лезь-ка сам и удержись!
— И полезу! А ты лови!
— И поймаю!
Я направился к опоре, но Димка опередил меня и полез сам, буркнув, что он теперь знает, до какого места нужно доползать, чтобы жердь наклонялась не очень быстро. Да и я сообразил, что лучше не спереди ловить, а стоять сзади и в нужный момент повиснуть на противовесе. Расчет наш получился правильным, и шлагбаум на этот раз опустился плавно. Мы завели конец его под скобу, и Димка прокричал:
— Служба продолжается! Абрам! Свистать всех наверх! Киты на горизонте!
И словно дождавшись этого крика, с горы запылил мопед. Димка живо обулся, зыркнул по сторонам, сбегал в кусты и вернулся с толстенькой метровой палкой. Глядя на него, и я вооружился увесистым сучком, и мы встали посреди дороги.
На мопеде был простоволосый парень в расстегнутой клетчатой рубашке, завязанной на голом животе узлом. Спускался он на тормозах. Еле-еле дотянув до нас, мопед остановился, сунувшись передним колесом между мной и Димкой.
— Это «Ермак»? — спросил парень.
— «Ермак», — враз ответили мы.
— Угадал! — обрадовался он.— Вчера по телевизору объявили, что на днях открывается военно-морской лагерь «Ермак» и чтобы срочно подавали заявления. Я сразу понял, что это он! А ну-ка, салаги, брысь, я гляну — стоит ли сюда забуриваться! — И он шевельнул колесом, стиснутым нашими бедрами.
— Нельзя, — сказал Димка.
— Как это нельзя?
— А вот так!
— А кто вы, собственно, такие?
— Охрана!
— Та самая охрана, которая встает, ох, рано?
— Даже еще раньше! — ответил Димка. — И которая, ох, никого не пропускает!
— А вы когда-нибудь видели, как бегает собака с пустой консервной банкой на хвосте? — загадочно и доверительно понизив голос, спросил парень.
— Ну, видели, — сказал я.
— Так вот вы сейчас так же побежите, если не расступитесь!
— Посмотрим! — насупившись, прогундосил Димка, сильнее притискивая ко мне мопедное колесо.
Удивленно распахнув большие и вроде бы добрые глаза, парень вдруг так дернул рулем, что мы оба плюхнулись на землю, а он крутанул педали. Но тотчас наши две палки пронзили заднее колесо, мопед, щелкнув спицами, замер. Живо положив его набок, мопедист шагнул к нам и дал мне, уже поднявшемуся, такого пинка, что я опять шлепнулся, отлетев к обочине. Схватив ком засохшей глины, я вскочил и замахнулся, но Димка опередил меня — свернувшись ежиком, он врезался головой парню в живот, и они упали.
И тут перед нами, бибикая, выросла машина. Из машины выпрыгнул низенький дяденька и закричал:
— Что здесь такое?.. Лагерь еще не открыт! Еще засекречен, а у шлагбаума уже свалка?
— Это вон, на мопеде! — сказал я. — Нельзя, говорим, а он лезет! Да еще пинается!
— Ты, ухарь, откуда тут? — накинулся дяденька на пацана.
— А вам какое дело?
— Нет, вы посмотрите на этого нахала! — воскликнул толстячок, обращаясь к высунувшимся из кабины старику и девушке. — Рвется в мой лагерь! Ломает мой шлагбаум! Лупит моих сторожей! И спрашивает, какое мне дело!
И вдруг в толстячке я узнал начальника «Ермака», имевшего странную фамилию —Давлет. С ним я встречался лишь раз, тут же, когда он приезжал зимой дать указания плотникам. Паренек смутился, выдернул из колес палки и, подняв мопед, объяснил:
— Я на разведку приехал.
— На какую разведку?
— А стоит ли сюда заявление подавать.
— Ну и как?
— Да вот, ваши сторожа не пустили!
— Это уже говорит в пользу лагеря, что в него не так просто попасть! — смягчился Давлет.
— Без формы, без всего. Думал — два каких-то обормота. Откуда я знал, что они настоящие! — оправдывался мопедист, приглядываясь к уцелевшим, но погнутым спицам.
— Кстати, я их тоже не знаю, — заметил начальник и вопросительно уставился на нас.
— Мы с плотниками, — сказал Димка.
— А я зимой тут с папой жил, — добавил я. — И вы приезжали. Помните, я вам пить из проруби приносил?
— А-а! — воскликнул Давлет, подняв кустистые брови. — Сын Полыгина Михаила Иваныча? Как тебя звать?
— Семка.
— А прозвище?
— Полыга.
— По фамилии — это не прозвище А тебя?
— Димка.
— А прозвище?
— М-м... Баба-Яга! — нашелся он.
— Вот это прозвище! — удовлетворился Давлет. — Внимание! За проявленное мужество при охране границы военно-морского лагеря «Ермак» юнгам Полыге и Бабе-Яге объявляю благодарность! Начальник лагеря Давлет, Филипп Андреевич!
Я вытянулся, чувствуя, как спину обжигают мурашки, а Димка, метнув ладонь к уху, гаркнул:
— Есть!
— Не «есть», а «Служу Советскому Союзу».
— Служу Советскому Союзу! — с еще большим вдохновением поддал Димка, не опуская руки.
— Молодец! — похвалил Филипп Андреевич.— Только честь без головного убора не отдают.
— Есть! — Димка убрал руку.
— Ну, братцы, тут и без меня служба наладилась! — удивился начальник.— Вы что, и ночуете здесь?
— Да, на дебаркадере, — ответил я. — Мы на всю неделю приехали, пока не кончат строительство.
— Прекрасно! — одобрил Давлет. — Продолжайте охрану. Запомните номер этой машины и шофера. Рая, выгляни! Вон! Наша Раечка! Тетя Рая! Пропускать беззвучно. Ясно?
— Ясно! — враз пальнули мы.
— Вот так! Егор Семенович, — обратился Давлет к старику, — выдай им пилотки с якорями, чтоб их зря не лупили!.. А ты, ухарь, жми в лагерь! Если понравится — поговорим. Есть одна идея. Ну, полный вперед!.. Да, кстати, вы это сами придумали — охранять? — спросил нас Филипп Андреевич,
— Сами! — ответил Димка.
— С папой, — добавил я. — Тут пацан чуть не утонул сегодня. И вот, чтобы другие не лезли, мы...
— Как утонул? — ужаснулся Давлет.
— В соседнем заливе. Нахлебался уже, еле выбрался на берег.
Филипп Андреевич стоял не шевелясь и не моргая с минуту, потом кинулся к кабине, крикнув:
— Шлагбаум!
Мы отцепили шлагбаум, и машина, шурша чем-то в будке, покатила в распадок. За ней, беззлобно погрозив нам кулаком, запылил на своей тарахтелке Ухарь.
Какое-то время мы застывше смотрели вслед. Затем пошли закрывать шлагбаум.
— Слушай, Баба-Яга, откуда у тебя прозвище? — завистливо возмутился я, потому что даже в такой ерунде Димка перещеголял меня. — Это же не прозвище! Это тебя так Федя иногда зовет, а больше никто. У тебя же нет прозвища!
— А теперь будет!
— Теперь. Надо, чтобы раньше было! Теперь-то и я бы мог придумать! — запоздало спохватился я.
— Ну и придумал бы!
— Придумал!.. А что тут придумаешь?
— Ляпнул бы какой-нибудь «ридикюль»!
— А что это?
— А черт его знает! Просто «ридикюль».
— Сам ты ридикюль!
— Нет, теперь я Баба-Яга! Зако-онно! — горделиво протянул Димка. — Мне бы теперь ступу и метлу, я бы — вж-ж-ж! — И покрутившись на месте, как бы набирая скорость, он опять полез на шлагбаум запирать границу.
6
Следующим утром мы заступили на пост уже в пилотках. На шлагбауме висела веревка, к столбам примыкал забор, который, белея свеженапиленными планками, уныривал в кусты вверх и вниз по склону. Сверху доносился стук молотка — папа наращивал забор.
Сперва прикатила будка с плотниками. Потом провезли на прицепе большущий бак для питьевой воды, и следом прополз тяжелый автокран. Мы запрыгивали на подножку каждой машины и, выяснив у водителя, куда он едет и зачем, поднимали шлагбаум. Видя наши пилотки, никто не ослушивался.
Мы сидели у костерка.
Шкилдесса лежала тут же, сквозь дрему бдительно следя за нами. Сперва и она выскакивала на дорогу, когда выскакивали мы, но затем, сообразив, что это мы не от нее сбегаем, а так работаем, успокоилась, настораживаясь, однако, при всяком тарахтении.
Я думал о подгоревшей лиственнице, сплавать к которой нам так и не удалось. Мы с папой обшарили вчера обе бухты, но подходящего плотика не нашли. Плоты были, но громоздкие и наполовину лежавшие на берегу. Самим сбивать папа не разрешил. Я вдруг вспомнил про тот плотик с тремя удочками, с которого рыбачил Вадька. Не перегнать ли его сюда? Всего-то дел — мыс обогнуть. Это же не мыс Горн, где Магеллана трепало, а маленький мысок! Да и на море — ни складочки. Я высказал предложение.
— Давай! — подхватил Димка.
— Чш-ш!..
Вчерашний запрет не приближаться к воде относился, можно считать, лишь ко вчера. А сегодня запрета пока не было, и важно — не получить его. Нельзя сказать, чтобы я был идеально послушным сыном, нет, — я, например, мог сделать больше, чем разрешено, но неразрешенного я сделать не мог — хоть убей меня. А поскольку совсем без ограничений родители не могут обойтись, то надо напроситься на ложный запрет, который бы запрещал то, что мы и не собираемся делать.
Нужен отвлекающий маневр.
И я придумал.
Оставив шлагбаум поднятым, мы направились к папе. Забор уже тянулся метров на тридцать, а столбики с прожилинами еще выше. Папа, голый по пояс, прибивал штакетник, то и дело отхлестываясь березовой веткой от комаров.
— Пап, сколько времени? — спросил я.
— Десять.
— О, как раз! Утренняя смена закончилась! Мы идем на сопку, в лес. Поищем местечко для штаба.
— Вы же вчера нашли!
— Сырое.
— Нам бы корень полувывернутый! — возмечтал Димка.
— Или завал!
— Нет, лучше корень!
— Нет, завал!
— Дуйте! — разрешил папа, почесал спинную ложбинку о сосну, крякнул, попил воды из бутылки, стоявшей в ящике с гвоздями, и махнул рукой. — Только за перевал не ходите. Черт знает, что там — может, действительно медведь!
Есть ложный запрет!
А сразу два умный родитель не дает, зная, что один из них, причем более серьезный, в конце концов забудется. Кому много запрещается, тот делает все, что хочет.
— Ладно, пап! — весело пообещал я.
— Свистать всех наверх! Да здравствует новый штаб! — затрубил Димка. — Абрам!
— Абрам! — подхватил я.
И мы, громогласно заспорив, какой все-таки штаб лучше: под вывороченным корнем или под завалом — а оба хороши! — двинулись в гору, вдоль заборных столбиков. Спохватившись, кошка припустила за нами. Мне пришлось взять ее на руки, чтобы не терять времени, потому что по лесу Шкилдесса ходила медленно, не ходила, а вышагивала, замирая через каждые десять-пятнадцать шажков, принюхиваясь, прислушиваясь и приглядываясь, а потеряв нас из виду, взмяукивала с таким утробно-диким рыком, как будто вдруг вспоминала, что она родственница тигра.
Скрывшись за кустами, мы прервали галдеж и стали забирать влево, и чем выше поднимались, тем загибали сильнее, потом пошли под уклон и наконец, словно по циркулю описав вокруг лагеря огромный полукруг, оказались у соседнего залива. Приостановившись возле старой лиственницы, Димка наковырял серы, часть сунул себе в рот, а часть протянул мне.
— Жуй! Сера хороша от покойников!
— От кого?
— От покойников! Жуй!
Я не понял, как это сера может быть хорошей от
покойников, но рьяно зажевал, сплевывая первую горечь.
Потом мы спрыгнули на берег.
Пригвожденный ко дну длинным шестом, словно жук в коллекции, плот стоял метрах в полуторах от уреза. На какие-то секунды я замешкался. Как никак, а вчера тут чуть не утонул человек! Выпустив кошку, я все же шагнул в воду и, начерпав полные сапоги, взобрался на плот. Почти квадратный, из пяти толстых бревен, метра по три длиной, с дощатым настилом и с низеньким чурбаком посредине, он сидел в воде высоко и сразу ожил подо мной, как, наверно, оживает под всадником застоявшийся в безделии конь. Плоты не были для нас диковинкой — их часто заносило в наш лягушатник, но, едва наживуленные, они мигом расползались под натиском десятков тел. А тут не плот был, а игрушка! И кроме того, здесь было море и глушь, а не лягушатник под носом у поселка!
— А ну, качнись! — попросил Димка.
— Пожалуйста!
— Сильнее!
— Есть сильнее!
— Попляши!
— Оп-ля! — Я трижды подпрыгнул. — Что еще делать? Сальто-мортале крутануть?
— Это шест держит, — придрался Димка.
— Могу выдернуть!.. Во, без шеста!
— Или в дно упирается.
— Да ты что, боишься что ли? — удивился наконец я, впервые видя бесшабашного Димку таким нерешительно-озабоченным. — Тогда иди берегом, а я поплыву!
— Я те поплыву!.. Поплывет он! — рассердился Димка. — Человек чуть не утонул с него! И может, неспроста! Может, он с фокусом — переворачивается!.. Я-то не боюсь, не бойся, а вот ты, гляжу, хочешь раз-два — и рыбам на корм!
— К каким рыбам?! — возмутился я, шагнув к самому краю, так что плот накренился, но не опасно — вода лизнула только подошвы сапог. — Вишь — держит!.. Лезь давай! Мы же нетонучие!
— Нетонучие! — буркнул Димка, разулся и засучил штанины так, что над коленными чашечками образовались толстые, как спасательные круги, кольца. — А куда Шкилдессу?
— С собой, конечно.
— «С собой!..» Кошки плавать не умеют.
— Спасем, если что.
— «Спасем!» — продолжал поварчивать Димка, обиженный моим подозрением в трусости. — А ну, Шкилда-Милда, иди сюда! — Он сунул кошку в голенище и побрел к плоту, осторожно щупая дно. — Бр-р!.. Сам будешь нырять за ней. — Поставив сапоги у края, Димка вернулся на берег.
Коротко мяукнув, что наверняка означало «спасибо», Шкилдесса ничуть не испугалась, а принялась тщательно обнюхивать и даже полизывать настил, местами обрызганный чешуей и покрытый бурыми пятнами — там, похоже, когда-то потрошили рыбу.
Среди берегового мусора Димка нашел надтреснутую доску, трахнул ее о бревно, и получилось два хороших, правда, занозистых весла. Я тем временем тоже разулся и закатил штанины, и мы торжественно отпихнулись.
Зигзагами выбравшись из плена бревен на чистоту, мы не спеша поплыли метрах в семи-восьми от берега. В прозрачной воде до жути преувеличенно виднелись топляки да пни, пни и пни... То целиком под водой, то чуть торчащие наружу, то почти выползшие на сушу. А выше, у обрывчика, докуда поднималось осеннее море, пни тянулись непрерывной грядой. Волны так выхлестали из-под них почву, что главные, паукообразные корни висели в воздухе, и пни как бы парили, удерживаясь только на тонких вертикальных отростках, которых, казалось, у деревьев и не было и которые чудом пустили уже сами эти мертвые култышки.
Зимой, когда мы тут жили с папой, меня заинтересовали загадочные бугры-опухоли на пологом льду вдоль берега, местами треснутые, а местами словно взорванные. Папа объяснил, что море опускается, и лед садится на подводные пни, которые выгибают его, взламывают, образуя что-то вроде огромных ледяных цветков, и возносят порой ледяные береты на два-три метра в высоту. Это поразило меня, тем более что я, Дорисовывая картину, добавил к пням утонувших ры» баков, которые, стоя на дне в своих тяжелых резиновых сапогах, окоченевшими черепами пропарывают лед, Обходя потом эти «цветы», я с замиранием сердца заглядывал в их нутро, боясь увидеть там человеческую голову.
Не берег, а музей пней!
Димка вдруг загорланил:
И он затараракал, мысленно сочиняя дальше, как внезапно откуда-то раздался грохочущий бас:
— Юнги Полыга и Баба-Яга, срочно гребите к катеру!.. Срочно гребите к катеру!
Я чуть не подавился серой.
На выходе из залива, на уровне оконечности мыса, полузатертый бревнами, неподвижно белел катерок, и кто-то с рупором, высунувшись из рулевой рубки, энергично махал белым флагом. Мы не различили его физиономии и не узнали искаженного голоса, но сразу поняли, что это Давлет — только он мог нас так окликнуть. Откуда он там, как и почему — эти вопросы нам и в голову не пришли, главное — там Филипп Андреевич, и он зовет нас. Кинув шест поперек плота, мы ухватились за доски.
— Отставить! — донеслось из рупора. — Раздеться и бросить одежду на берегу!
Мудро — и для облегчения плота, и для нашей безопасности! Лихорадочно посрывав с себя все и оставшись в плавках, мы так налегли на весла, что за кормой, кажется, забурлило. Шкилдесса, опасаясь брызг, прыгнула на чурбак и, словно капитанша, устремила глаза вперед. Но тут опять громыхнуло:
— Отставить! Высадить кошку!
Тоже мудро — для облегчения плота, и для кошачьей безопасности! Давлет учитывает все!
— Во, зрение! — поразился Димка.
— У них там бинокль, — догадался я, и на катере что-то сверкнуло. — Ну, точно!
— Ух и мощный, наверно!
— Да уж наверно!
Мы дали задний ход.
Шкилдесса возмутилась было, когда мы не очень вежливо «списали» ее на сушу, но, обнюхав нашу одежду, успокоилась, решив, очевидно, что голыми мы далеко не уйдем. Но мы уходили далеко. До катера было с полкилометра, если не больше — вода скрадывала расстояние. Опять заработав «веслом», я почему-то подумал, что Давлет сейчас скомандует: отставить, выплюнуть серу — для облегчения плота, но он лишь гаркнул удовлетворенно:
— Так держать!
— Есть! — рявкнул Димка.
Гребли мы заполошно. Тяжеленький наш плот почти не юлил из стороны в сторону, а шел прямиком на катер. Встречные бревна мы таранили, и они, нехотя разворачиваясь, пропускали нас. Ветра не было совершенно. Освежаемые только своими движениями, мы скоро вспотели и стали задыхаться.
— Не выкладываться, — распорядился Филипп Андреевич, следя, видно, за нами в бинокль, — но и не сачковать!
— Есть! — отозвался Димка.
За плот с моей стороны каким-то чудом зацепилось бревнышко, я хотел оттолкнуть его «веслом», но оно повернулось, и я чуть не булькнул в воду. Сердце мое обмерло — ведь под нами сейчас метров двадцать, а для такой глубины я, наверно, пловец никудышный. И чем дальше мы отходили, тем мне больше казалось, что плаваю я совсем худо, если вообще умею. Да и плот, хорошо ли мы проверили его прочность? Не рассыпется ли — вон он как лупится о бревна!.. А вдруг здесь все заколдовано: и залив, и плот, и невесть откуда взявшийся катер с неизвестно кем там на борту, говорящим голосом Филиппа Андреевича?.. Не ловушка ли это, и не управляет ли ею та же нечистая сила, которая устроила мне зимой жуткое испытание и от которой я тогда благополучно отделался?.. Вспомнив, что сера сильно помогает от покойников, я зажевал так, что застучали зубы, однако на лице выразился, видно, страх, потому что Давлет прокричал, как начальник с первомайской трибуны:
— Да здравствует морской волк Полыга! Ура-а!.. Да здравствует сказочный юнга Баба-Яга! Ура-а!.. Да здравствуют славные потомки Нансена, Папанина и Хейердала! Ура-а! — При слове «ура» Давлет поводил рупором на сто восемьдесят градусов, оглашая весь залив, и многократное эхо, мечась между берегами, создавало такое ощущение, что это деревья, как толпы демонстрантов, подхватывали клич, ободряя нас.
Вся заколдованность мигом разлетелась вместе с моими страхами, и я лихо поддал:
— Ура-а!..
— Ура-а! — поддержал Димка.
— Юнга Полыга, у тебя все еще нет настоящего прозвища? — спросил Филипп Андреевич.
— Не-ету!
— Сейчас придумаем! — Все головы исчезли и спустя некоторое время появились опять — Просим прощения — ничего не вышло!.. Волей разума прозвища не рождаются!..Прозвища — плоды импровизации!.. Зато Рэкс придумал рифмы: Полыга — ханыга — прощелыга!.. Но мы его побили!.. Передых!
Мы с Димкой враз, как подрубленные, плюхнулись на чурбак и склеились спинами. И сразу все во мне задрожало и загудело. К груди мгновенно прилипло, как горчичник, солнце. Перестав жевать, я закрыл глаза и словно растворился, словно дрожь, гудение и жжение — все это не во мне, а вокруг меня, а я, бесплотный, в уютной серединочке... Боясь свалиться, я открыл глаза. Плот, как магнит, успел притянуть к себе несколько бревен. Катер был уже близко, но чьи головы торчали над бортом, в фуражках и простоволосые, — пока не различалось. И что там, интересно, за Рэкс-пекс-кекс, умеющий так смачно рифмовать?,
— От имени пострадавших слово просит командир рабочего десанта Ухарь! — объявил Давлет.
— Тот! — напомнил Димка.
— Наверно! — отозвался я.
— Эй, вы, на плоту! — крикнул Ухарь. — Забортную воду не пить! Вас тут поджидает жидкая награда!
— Ого! — обрадовался Димка. — Поехали!
Но мы еще долго шлепали досками, прежде чем ткнулись в катер и нас затащили в каюту под тент. В морских фуражках были остролицый и долговязый капитан и Давлет, круглолицый коротышка, а простоволосыми — Ухарь и еще двое пацанов, один, ровесник Ухаря, а второй помладше года на два. В ровеснике я мигом почуял Рэкса — только он, с такими крохотно-злыми и напряженно-недопрорезанными глазками, мог зарифмовать меня с ханыгой и прощелыгой. Давлет познакомил нас. Так и вышло. А третьего звали Митькой. Левый глаз он сильно прищуривал, словно хотел походить глазами сразу на обоих своих друзей. А что они составляли одну компанию — я уловил мигом. Это и был рабочий десант, который спешил в лагерь, чтобы провернуть некоторые срочные работы к открытию. Но перед последним поворотом катер налетел на топляк, и заклинило вал. Куковать бы им тут до вечера, когда после работы сюда пригоняют на моторках рыбаки, если бы мы случайно не подвернулись.
— Смир-рно! — вдруг скомандовал Филипп Андреевич и взял под козырек. — За своевременную помощь рабочему десанту юнгам Полыге и Бабе-Яге объявляю благодарность!
— Служу Советскому Союзу! — отбухал Димка, а я, забыв слова, только подрявкивал.
— Вольно!.. Юнга Ухарь, выдать нашим спасителям награду из общественных припасов!
Ухарь достал из рюкзака две бутылки вишневого напитка и с ухмылкой вручил нам. Обалделые, мы откинулись на прохладные спинки сидений и давай пить, пить, пить...
— Ну, друзья, если вы каждый день будете так нам служить, то у меня не хватит благодарностей! — с одобрением проговорил Филипп Андреевич, снимая жаркую фуражку. — Придется на алюминиевом заводе медали заказывать! Как ты думаешь, Григорий Иванович? — спросил он капитана.
— Придется, — согласился тот.
— А мы за так служим, — сказал Димка.
— Вот за это «так» и награждают!
— Тогда лучше не медалями, а возьмите нас в юнги насовсем, — брякнул Димка, и душа моя замерла.
После разговора с физруком и с папой ни я, ни Димка не заводили об этом и речи, но по тому, как мы все больше втягивались в лагерную жизнь и как она нам все больше нравилась, я чувствовал, что продолжение того разговора зреет, потому что просто так теперь сдать пилотки и укатить домой мы не сможем.
И вот Димка выдал себя.
— А что, это идея! — Филипп Андреевич задумался, вобрал в рот свои мясистые губы и с пробочным хлопком отпустил их. — Как вы, ребята, считаете? — обратился он к пацанам, но те отчужденно промолчали.— Тогда вот что — включите-ка их в свой рабочий десант! — неожиданно предложил Давлет.— А там — как вы решите: да — да, нет — нет. Договорились?
Ухарь пожал плечами и вяло согласился:
— Давайте.
— А вы не против? — обернулся к нам Давлет.
— Нет, — растерянно сказал я.
— Ну и прекрасно! — снова оживился Давлет.
Для нас же ничего прекрасного в этом обороте не было — Ухарь припомнит нам и палки в колесе, и погнутые спицы, и Димкин удар головой в живот, и мой замах глиной — всю ту, позорную для него, сцену, а заодно припомнит и вот эти две бутылки вишневого напитка, который они, конечно, собирались выдуть сами. Что ж, не выйдет — так не выйдет, а ислы-ток — не убыток.
Решив с капитаном, что трех солидных человек плот верняком удержит, Давлет оставил Митьку, который был помладше и пощуплее, с нами для второго рейса, а Ухарю и Рэксу велел раздеваться. Разделся Филипп Андреевич и сам. В плавках он оказался еще ниже ростом и еще круглее. Каждый скатал одежду в плотный комок, затянул его ремнем, и команда спустилась на плот. Вода угрожающе хлюпала под самым настилом, выскакивая в щели и подмачивая пятки. Парни гоготали и по-собачьи дрыгали ногами, кособоча плот и еще сильнее заливая его. Давлет сел на чурбак с такой опаской, так стиснул на коленях свой узелок, с фуражкой поверх, и сам, как узелок, так весь сжался, что я понял — он опасается. Я хотел взбодрить его, как он взбадривал нас, но тут капитан, тоже, видно, понявший это, кивнул на висевший возле рубки спасательный круг и спросил Филиппа Андреевича :
— Может, прихватишь?
— Ни-ни! — нахмурился тот.— Ну, братва, готова?
— Готова! — гаркнули парни.
— Филипп Андреевич, нате серу! — внезапно вырвалось у меня.
— Серу?.. Зачем?
— Она от покойников помогает!
— От покойников? — бледнея, переспросил Давлет. — То есть как, от каких покойников?
— От всяких: кого утопили, кто сам утонул, а кто может утонуть, — разъяснил Димка.
— Это что, научно?
— Да-а! — заверил Димка. — Нате и мою.
— Хм! Ну, давайте, если научно! — с деланной веселостью согласился Давлет, косясь в глубину.
Разделив серу между членами экипажа, Филипп Андреевич раза три-четыре жевнул с осторожностью,, потом замолол вовсю, нахлобучил по самые глаза морскую фуражку и, подбоченившись, как пират на бочонке рома, скомандовал:
— Полный вперед!
7
На отутюженной глади залива то там, то тут стала вспыхивать рябь — нарождался ветерок, который как будто еще и не знал куда ему дуть, однако вскоре катер вместе с осадившими его бревнами заметно потянуло вдоль залива в сторону лагеря. И к тому времени, когда Рэкс, измученный и злой, пригнал плот назад, мы были прямо против мыса, раза в два ближе к берегу, чем прежде, да и лагерь уже завиднелся, с полускрытыми в зелени каркасами палаток, с черной проплешиной футбольного поля и с дебаркадером.
— Уф! — выдохнул Рэкс, бросая доску и мотая кистями. — Из-за вас, локшадины!
— И мы пыхтели, — напомнил Димка.
— Вы! Вы награду получили, а я что? Куда? — рявкнул он на меня, видя, что я готовлюсь спрыгнуть на плот. — Невежа Полыга-ханыга-прощелыга! Будьте джентельменами! Сначала женщины и дети! Митька, давай сюда рюкзак с харчами! Да, Григорий Иванович, возьмите там булку хлеба и банку консервов — Давлет наказал.
— Обойдусь, — с улыбкой отмахнулся Григорий Иванович. — Скорей вызволят, а то будут думать, что я тут с хлебом а консервами, и пойдет волынка. Так и передайте Филиппу Андреевичу, что, мол, дядя Гриша объявил голодовку.
Капитан помог нам погрузиться и без лишних слов шмякнул на мокрый настил спасательный круг, потому что вода заплескалась под досками с не меньшей угрозой, чем у первого экипажа, а серы, помогающей от покойников, у нас больше не было. Рэкс с рюкзаком на коленях занял чурбак, Митька уселся впереди на спасательный круг, грести пришлось нам.
Только первые взмахи мы сделали энергично, а затем как-то сразу в натруженных мышцах возникло отупение и немощь, руки стали ватными, и перегруженный плот задвигался еле-еле. Дважды подхлестнув нас окриком «газу» и не ощутив пользы, Рэкс заполошно объявил:
— Стоп, машина, кочегар лопнул! Обед! Ну-ка, локшадин! — толкнул он ногой в спину Митьку, Митька вскочил, Рэкс пяткой подтянул к себе спасательный круг, опустил на него рюкзак и дернул бечевку горловины. — Оставаться на местах, я подам. — Он извлек из рюкзака большой золотистый батон в косых пухлых насечках, разломил его по насечкам на четыре части и обе горбушки отдал нам с Димкой. — Хлеб и вода — солдатская еда! — От одной середки откусил сам, а вторую пронес над протянутой Митькиной рукой и снова пихнул в рюкзак.— А ты пробьешься!
— Ну, Рэкс! — притворно хмыкнул Митька.
— Получишь, когда заработаешь. А то хитер! Я напахался, мальцы вкалывают, а он — хоть бы хны.
Митька отдернул руку, глаза его, расширившись, вспыхнули, он отвернулся и фыркнул:
— Фу, и не надо!
— Пофукай мне, локшадин!
Я хотел сказать Рэксу, чтобы он пощадил Митьку, но вдруг сообразил, что между ними, наверное, существуют какие-то свои, особые отношения, вмешиваться в которые чужакам неприлично да и рискованно. К тому же Рэкс, может, и прав — нечего сачковать, хотя я бы у друга не вырвал кусок изо рта...
Ели, прихлебывая из ладоней забортную воду, и наш обед прошел вполне по-человечески, если не считать, что один остался голодным и сердитым.
— Ну что, Митьша, перекурим? — подобревшим голосом сказал Рэкс, вынул из рюкзака измятую пачку сигарет и закурил.— Посмотрим, в какую дыру заманил нас Ухарь Лалаев и что из нее можно извлечь. Издали-то не светит, — оценил он лагерь, щуря и без того сведенные на нет глаза, но Митька никак не реагировал на его слова, сидел сутуло, неподвижно глядя на берег — Не дуйся, а то дуну!.. На вот, — протянул он окурок, — и за весла!
Я был уверен, что Митька откажется от сигареты, выдерживая характер, — мол, не заслужил и курева! — но он взял ее, торопливо прикончил несколькими затяжками подряд и, ущелкнув в воду, поднялся.
Ветерок, так и не разыгравшись, утих, полуденное солнце било точно в спину, но холод моря смягчал жару. Мыс приближался, и едва ткнулись в песок, Митька с Рэксом маханули на берег и пошли прочь.
— А рюкзак-то! — напомнил Димка.
— А вы на что? — бросил Митька.
— Да-да, на палочку и топ-топ за старшими, — пояснил Рэкс, обернувшись, и даже изобразил, дергая локтями, с какой угодливостью нам следует спешить за ними.
— Держи карман шире! — крикнул Димка.
Рэкс остановился.
— Ты что-то много болтаешь, Баба-Яга! Мне это не нравится! Отвыкай, а то придется отучивать! Вы теперь в наших лапках, локшадины! И не думайте, что если напоили вас лимонадом, то все, вы неприкосновенные! Так вломлю, что весь лимонад из ваших сопел вылетит! — И Рэкс с лениво-насмешливым пренебрежением покосился своими недопрорезанными глазками на Митьку.
Димка начал было пыжиться, но я, не желая осложнений, деловито вмешался:
— Мы дальше плывем, в лагерь!
— Вот и плывите! Лично ты, Полыга-ханыга-прощелыга, отвечаешь за рюкзак, ясно?
— Ясно, Рэкс-пэкс-тэкс! — храбро отчеканил я.
— Но-но у меня! Локшадины!
— Чмырь! — ругнулся Димка, отчаливая.
Митька вдруг спохватился:
— Э, а батон-то!
— Пробьешься! — отрезал Димка.
— Я-те пробьюсь!.. — взвинтился тот.
— Кинь! — разрешил Рэкс.
Булка взвилась в воздух. Митька поймал ее с собачьей проворностью и с такой же проворностью начал уминать. Рэкс расхохотался, схватил его за шею, и так и повел его, и так они и скрылись в кустах над обрывчиком. Однажды я видел одну парочку, которая прогуливалась именно таким образом: он держал ее не за руку, не за талию, а за шею. Они ворковали и посмеивались, значит, им было хорошо, значит, есть в этом странном жесте что-то любовно-простецки-приятельское, хоть и с туманом, потому что возьми, например, я Димку за шею — будет нелепо, а возьми меня Федя — самое то. Какое-то манящее равенство-неравенство таится тут.
Взведенный Димка так налегал на весло, что плот все время поворачивало в мою сторону, и я с трудом выравнивал его. Ох, и кусучим был мой друг, ох, и ершистым! Не знаю, что с ним было бы без меня — пропал бы, но я всегда сглаживал, загибал и ломал его колючки! А возьми я однажды и тоже заострись — вот уж наколем мы дров так наколем!
Мы приближались к лагерю, беря левее дебаркадера, к подтопленной лиственнице. Я ужасно волновался. По всем законам этого света обгорелое кольцо должно быть на ней, а если нету, то не знаю — чертовщина какая-то, и все!.. Последние метры я уже не стоял, а сидел на корточках, а потом упал на четвереньки и вытянул вперед голову. От напряжения я не различил под водой продолжения дерева во время сближения, и только когда плот уперся в ствол, и я потом чуть отвел его руками, подводная часть лиственницы открылась передо мной с невероятной ясностью. Метра на четыре виднелась она, а там растворялась в зеленоватой мути, а в метре от поверхности темнело мое обгорелое кольцо.
— Вон оно! — крикнул я и ухнул в воду рукой, но не достал и до половины. — Димка, вот оно!
— Где?
— Да сядь ты!.. Вон. Видишь?
— Ага, вижу.
— Точно видишь?
— Точно.
— Или не видишь, а говоришь «вижу»?
— Да вижу!
— Ну то-то! А признайся, что ты не верил, а?
— Маленько.
— Эх, ты! Трудно, а я доказал! Самую трудную правду можно доказать, а вот вранье — никогда! — заключил я. — Дай мне слово вот на этом самом месте, что ты всегда-всегда будешь мне верить!
— Даю! — не моргнув глазом, отозвался Димка.
— А ты у меня возьми слово, что я ни разу не обману тебя! — в каком-то порыве продолжал я.
— Беру.
— Нет, ты повтори!
— Дай мне слово, что я ни разу, то есть тьфу, черт, что ты ни разу не обманешь меня!
— Даю! И пусть мы будем связаны вон тем подводным кольцом! — указал я в глубину.
— Пусть!
Мне хотелось еще и еще давать Димке какие-то заверения и клятвы, и чтобы он мне клялся в ответ — до того захватила меня необычность этого момента, но тут с берега раздалось:
— Эй, шилобрейцы! Чего вы там раскричались?
— Папа! — обрадовался я.
— А ну-ка подплывайте! Интересно, как это вы оказались в соседнем заливе?
— Случайно, — отозвался Димка.
— Вот я и хочу уточнить.
Я досадливо поморщился — неловко было после таких обещаний не врать друг другу сразу же врать кому бы то ни было, тем более близкому человеку, но как-то выкручиваться предстояло. По голосу отца я определил, что он, может, и был недавно сердит, но сейчас отошел и только разыгрывает строгость. К тому же Филипп Андреевич должен заступиться за нас, если уже не заступился. Да и вообще нам сегодня не запрещалось приближаться к воде! За перевал ходить — да, нельзя, а к воде — извините! И взбодренный такими рассуждениями, я скомандовал:
— Абрам! Полный вперед!
Мы причалили к громоздкому и корявому, одним концом сонно уткнувшемуся в берег бревну, которое еще вчера прозвали «Крокодилом». Оставив Димку закреплять плот, я просеменил по «Крокодилу» и, вытянувшись перед отцом, доложил:
— Товарищ папа! Твой сын благополучно вернулся из спасательной экспедиции! Спасен начальник лагеря и рабочий десант! Никаких ЧП не произошло! Юнга Полыга!
— Может быть, юнга.
— Ну, может быть.
— Я в курсе. Что ж, будем надеяться, а пока молодцы. Кое-какие вопросы потом, а сейчас хватай Димку и — за стол. Я такой суп сварил! Такой суп! — зажмурившись и тряся головой, воскликнул папа. — Всем супам суп! Только не знаю, кто его есть будет!
Он был в хорошем настроении, и я, вдруг подхлестнутый чем-то необъяснимым, счастливо завопил и прыгнул на отца, обвивая его руками и ногами.
8
Мои смутные подозрения насчет этой гоп-компании начали подтверждаться в тот же день после обеда.. Филипп Андреевич распорядился выдавать всему рабочему десанту робу, и мы радостно и шумно ввалились к Егору Семеновичу на склад. Склад был набит тюками тельняшек, белых форменок, гюйсов, ящиками пилоток, связками ремней, аквалангами, водными лыжами, воздушными винтовками и десятками других редких вещей. Хоть все это мы с Димкой вчера уже видели, но снова завертели головами и обалдело захлопали глазами. И вдруг я мимолетом поймал пронзительный взгляд Рэкса и как бы очнулся. Тыча друг друга локтями, кратко перешептываясь и куце кивая туда-сюда, троица была вся внимание и напряжение. Они не только запоминали, где что лежит, но одновременно изучали стены, двери и пластиковую крышу, прикидывая, наверно, что можно отогнуть, подпилить или раздвинуть, чтобы вернее сюда забраться. Мне аж лопатки свело от дурных предчувствий.
На Ухаря, Рэкса и Митьку роба — штаны и верхонка из грубой темно-синей материи — нашлась сразу, а на меня с Димкой — увы, как Егор Семенович ни рылся в ящиках. «Не бывает таких мозглявых матросов»,— сказал кладовщик. Пришлось взять какие есть.
Ох, и посмеялись над нами десантники, когда мы примерили нашу робу — прямо утонули, скрылись в ней, как в скафандре. Но Семеныч засучил нам рукава, подтянул ремни и заверил, что сойдет.
В этот вечер пришлось потрудиться! Сначала под руководством Филиппа Андреевича и с помощью физрука Ринчина и папы мы натягивали на каркасы двадцатиместные солдатские палатки, а потом устраивали себе новое жилье в мичманском кубрике хозяйственного корпуса, потому что дебаркадер плотники принялись переделывать сегодня под штаб, классные комнаты и библиотеку. Мы носили кровати, матрацы, получали постельное белье, и хотя это было не легко, но суматошно и весело.
Уже в сумерках, когда готовились ко сну, прикатила Рая, посланная еще в обед за помощью Григорию Ивановичу, катерок которого весь день телепался у мыса, то скрываясь за ним, то появляясь снова. Рая виновато доложила, что промоталась без пользы — нет свободных катеров, разве что к утру что-нибудь сообразят.
— А если ночью заштормит? — воскликнул Давлет и щелкнул подтяжками. — Лень им — вот и все! — Он вышел на балкон, пощелкал и там подтяжками, вглядываясь в еще светлый и пустынный залив, и вернулся.— Черт!.. Море ведь!.. Он что, в шутку объявил голодовку, Григорий Иванович, а, Рэкс?
— Не знаю.
— Хоть сколько-то еды взял?
— Нисколько.
— Или вы не предложили?
— Предлагали.
— Пижонство!.. Рая, извини, что не даем тебе толком отдохнуть, но придется ехать.
— Пожалуйста!
— Посейдон за нас!.. Михаил Иванович, — обратился Давлет к папе, — а тебе не надо в город?
— Вроде нет.
— А ты хотел в контору, насчет каких-то бумаг выяснить. Поехали, а то когда завтра доберешься!
— А-а, верно, — вспомнил папа.
— И мне ведь надо, за секундомерами, — спохватился физрук.
— Вот и айда скопом! — обрадовался Давлет.
Папа шепнул мне, что с такой гвардией, какая здесь остается, я могу ничего не опасаться, все живо собрались и уехали.
И тут у меня екнуло внутри — быть беде, склад обчистят наверняка!
Украдкой я поделился своими опасениями с Димкой. Он горячо согласился, что да, что и он почуял неладное и сам хотел меня предостеречь, мало того, Митька уже пытался подменить ему ремень, потому что Митькина пряжка оказалась с царапиной, а его, Димкина, без царапин. И мы договорились следить в оба.
Улеглись.
Слева от меня, у двери, стояла кровать Димки, справа — Ухаря, Рэкса и Митьки. Егор Семенович устроился в углу кубрика, подальше от окон и дверей, и, кашлянув раза два, мигом захрапел. А я так насторожился, что если бы вдруг превратился в ружье, то обязательно бы в пятикурковое — на каждое чувство по курку, и все были бы взведены.
Справа зашептали:
— Рэкс, выйдем?
— Куда?
— Да хоть в гальюн.
— А, пошли.
— И я, — присоединился Митька.
— Ой, и я хочу! — неожиданно для себя воскликнул я.
— Лежать! — пресек Рэкс.
— Да пусть, только чш-ш! — сказал Ухарь.
— Схожу-ка в гальюнчик и я! —спохватился Димка, которого я тряхнул за руку в темноте.
— Ну, локшадины, приспичило! — проворчал Рэкс.
— Айдате! — скомандовал Ухарь и заширкал по полу нацепленными на носок кедами.
Начинается! А то, что навязались мы, для них даже удобнее — сейчас тюкнут нас чем-нибудь по затылку — и до утра без памяти, а сами делай, что хочешь. Я так это ясно вообразил, что мой затылок заломило заранее, но отступать было нельзя.
Пройдя весь длинный затененный балкон и свернув за угол, где из-за деревьев светила низкая и слабая луна, остановились. Здесь, в торце корпуса, была складская дверь. Чиркнув спичками, десантники закурили, а мы с Димкой, хочешь не хочешь, перебежали дорогу и — в гальюн. Минут десять, наверно, мы без нужды продрожали там в одних плавках и сапогах, наблюдая за курящими и прислушиваясь к их четким в тишине леса репликам, которые они так замаскированно строили, что даже намека на заговор в них не проскользнуло. Поняв, что нас не переждать и от нас не отделаться, Ухарь окликнул, живы ли мы и не надо ли в чем-нибудь помочь, и мы бодрой рысцой вернулись в кубрик.
Обменявшись с Димкой многозначительными толчками в бок — ага, мол, сорвалось у них! — я нырнул под одеяло и, сместив Шкилдессу, долго унимал дрожь, отогревая ледяные колени в теплой кошачьей лунке; к этой дрожи примешивался еще радостный озноб от мысли, что нас-таки не тюкнули — побоялись, видно.
— Э, как тебя, Семка! — шепнул Ухарь.
— А!
— Вчера тут, говорят, пацан утонул! Правда?
— Чуть не утонул!
— А почему?
— Стукнулся!
— А может, хотели утянуть,— предположил Димка.
— Кто хотел утянуть?— не понял Ухарь.
— Ну, кто — кто-нибудь, кто там, под водой. Может, те же утопленники хотели себе нового дружка завести,— рассудил Димка.— А мы помешали. Теперь они будут мстить нам. Чуть чего — хвать за ногу! — и буль-буль!
— Слышь, Рэкс, не спи, тут покойнички водятся! — окликнул дружка Ухарь.
— Кончай пугать детей, Баба-Яга! — просипел Рэкс.
— А звери не пошаливают? — опять спросил Ухарь.
— Пошаливают! — с радостью подтвердил я.
— То есть?
— Зимой меня один чуть не того!..
— Кто, мишка?
— Да вроде.
— Весело живем,— подытожил Ухарь.— А что, запросто примет лагерь за пасеку и слопает нас вместо пчел. Рэкс, слышь, вставай, медведи тут!
— Я в середке,— буркнул Рэкс.
— Мама! — пискнул Митька у окна.
— А бичи не забредают? — не унимался Ухарь.
— Тоже есть,— ответил я, вспомнив следы обитания на дебаркадере какой-то не от мира сего личности.
— Ого, местечко! Слышь, Рэкс, тут и бичи есть! Крышка нам! — без особой однако паники заключил Ухарь, скрипнув койкой — плотнее, наверное, укутываясь.
От этих расспросов мне стало как-то спокойнее — я почувствовал, что Ухарь, да и вся гоп-компания, поигрывая в трусливость и посмеиваясь над возможными опасностями, побаивается и в самом деле. И мне вдруг захотелось показать им, что а я вот ничего не боюсь, и я нарочно, с протяжным подвыванием, изобразил бесстрашный зевок, да такой, что под конец поманило зевнуть по-настоящему, но рот шире уже не открывался, и я, простонав от боли, чуть не вывихнул челюсти.
— Во дает кто-то! — удивился Митька.
— Кто же, конечно, Баба-Яга,— сказал Рэкс.— Видит сон, как Иванушку-дурачка в печке жарит.
— Это Семка,— возразил Димка.
— Ха-ха, уметь надо! — улыбнулся я.
— Слышь, Семк! — Димка потянул меня за руку, и мы сошлись головами.— Ты ведь только половину доказал.
— Чего доказал! Какую половину?
— А того, что рассказывал. Ты рассказывал, что жег костер — раз, и что вышел зверь — два, так?
— Чуть не вышел.
— Ну, чуть. Что костер жег доказал, а как со зверем?
— Опять, значит, не веришь?
— Верю, но ведь... хм...
— А еще слово давал! — и я обиженно отодвинулся.
— Это же было до слова, твоя история.
Димка прав, что случай тот был до слова. Прав он
был и в том, что доказана лишь половина правды, причем более легкая половина, а вот поди докажи, что тут ломился на меня сквозь кусты зверь!.. Следы найти? Ищи зимние следы летом, если вон папа говорит, что даже тогда не нашел их — одни мышиные строчки. Ну, это уж чересчур, не святой же дух трещал валежником! Папа ведь не сразу проверил, прошла ночь, потом я уехал, потом он работал — значит, не раньше обеда следующего дня. А за это время может столько снега навалить, что не только следы, а самого черта лысого упрячет!.. И я стал усиленно вспоминать, был ли в то утро снегопад... Волнистая пластиковая крыша, едва освещенная луной, была до того чуткой, что отзывалась на падение каждой хвоинки и коринки, которые сыпались и сыпались. Иногда сухо ударялись легкие прошлогодние шишки и, скакнув раз-другой, замирали. Мне стало мерещиться, что где-то погромыхивает гром и накрапывает дождик, нет, падает снег — значит, все же был снегопад и скрыл те следы... Но чьи они, чьи?..
Когда я проснулся, кубрик наш ломился от солнечного света. Гоп-компания была на месте. Все спали, разметавшись от духоты. Димка лежал на животе, сбив одеяло к ногам и забурившись головой под подушку. Ремень, который он для большей сохранности нацепил на себя, расстегнулся, и блестящая пряжка без царапин болталась у самого пола. Егор Семенович уже чем-то погромыхивал за стенкой в складе. Я достал из-под матраца пилотку и ремень — мои, не подменили! И то, что ничего страшного не случилось, и солнце, и спящее полуголое царство, которое хоть само разворовывай, — все это успокоило меня. Я вдруг понял, что ничего и не должно было случиться, что все мои подозрения — из-за краткости знакомства и таежной заброшенности, и мне даже стало смешно.
По светло-зеленому пластику бегали трясогузки — слышался их писк и топоток, видны были снующие комочки теней и даже крестики лапок. Внезапно — бух! — как в барабан. Я подумал — это сук, но он свистнул и побежал.
Рэкс поднял лохматую голову и уставился на меня.
— Ты что ли?
— Бурундук.
— Локшадин! — буркнул он, опять роняя голову.
Митька потянулся и застыл в раскоряченной, но, видно, приятной ему позе. Ухарь, спавший ко мне лицом, глубоко вздохнул, и, не открывая глаз, спросил:
— Сколько времени?
— Девять тридцать, — ответил я, глянув на его часы.
— Да но-о? — поразился он, садясь. — Подъем!.. Авангард! Засони! Только жрать!
— Замри, — бессильно промямлил Рэкс.
— Э-э, парни, без шуток! Давлет в час примчится проверять работу, а у нас?.. Рэкс! — Он огрел приятеля подушкой, Рэкс этой же подушкой хлопнул Митьку, который только крякнул, но остался недвижим, как бутерброд, между двумя подушками. — Семка, буди Ба-бу-Ягу!
Но Рэкс удержал меня:
— Стой-ка! Мы ему велосипед заделаем!
Достав из брюк спички, он отхватил от газетной подстилки на столе клочок, разорвал его на несколько тонких полосок, осторожно, как хирург, впилил их меж пальцев Димкиной ноги, торчавшей с кровати, и поджег.
Я сжался весь, сощурившись, словно ожидая взрывника. Язычки еще не доползли до кожи, а Димка уже ворохнулся и вдруг задергал обеими ногами именно так, как крутят педали. Рэкс от хохота свалился на пол и потом жабой запрыгал посреди кубрика, смеялся Ухарь, бессильно трясся Митька, приподнявшись на локтях. Наверно, это было смешно, но я почему-то не смеялся. Димка выдернул обгоревшие бумажки и, полусонно-обиженно улыбаясь, проворчал:
— Ладно, черти! Я вам тоже устрою!
— Во жал! — гоготал Рэкс.
— Больно? — виновато спросил я.
— He-а! Чешется только!
— Ну, все, эй! Развлеклись для зарядки — и амба! — сказал Ухарь. — Строем в гальюн — марш!..
Умывались мы с «Крокодила». Вода была ознобной даже у берега. Над стынью залива солнце казалось еще раскаленнее, небо — еще голубее, холмы на той стороне — еще зеленее. И все это манило взгляд. Плеснешь на лицо — глянешь, плеснешь на уши — глянешь, плеснешь на шею — глянешь. Оттуда, издали, еле-еле дышало ветерком, но за ночь натянуло столько бревен, что они забили почти всю бухту вместе с дебаркадером и с лиственницей — прямо сплошной настил.
Рэкс прибежал последним, когда мы уже намутили поблизости. Сунувшись дальше, он сорвался, ухнул по грудь в воду, ошпаренно взвыл, но вытерпел мгновенную пытку, затем окунулся с головой и важно затрепыхался, как селезень.
— Хорошо ведь, ага? — сразу у всех спросил Димка — словно был тут хозяином, а мы у него в гостях.
— Особенно мне-е! — проблеял Рэкс.
— А вот хапнет тебя утопленник за ноги — с приветом! — припугнул Митька.
— Это точно! — поддержал Ухарь.
— А вот и бревнышко за тобой шевельнулось!
— И чьи-то пальцы мелькнули!
— Ну, сейчас!..
Обхватив узкие плечи руками, Рэкс тревожно обернулся и замер, приглядываясь и прислушиваясь, потом, точно вдруг уловив ногами что-то неладное в глубине, вскрикнул и таким молниеносным рывком вынес себя на «Крокодила», что после него, как после морковки в земле, осталась, кажется, скважина в воде. Заходясь кашлем от смеха, мы цепочкой сбежали на берег, продолжая потешаться над Рэксом, который, оставшись на бревне, сперва хмурился, а потом разулыбался тоже, как бы говоря, что всю эту сцену он разыграл чисто для нашего удовольствия.
— Уф, чайку бы теперь! — вздохнул Ухарь.
— Это мигом! — сказал Димка и умчался наверх.
И правда, пока мы одевались и заправляли кровати, и пока Ухарь делал огромные, поперек всей буханки, бутерброды с маслом, Димка развел костер и вскипятил чай. Но в заварке его почему-то оказалась манка, поэтому получилось что-то мутновато-густоватое — то ли кашечай, то ли чаекаша, однако с голодухи все сошло, и Ухарь даже похвалил:
— Молодец, Баба-Яга!
— М-м! — гордо стукнув себя по груди, мыкнул с набитым ртом Димка, не забыв снова нацепить на голое пузо ремень.
Сдув с края стола хлебные крошки, Ухарь облокотился на него левой рукой и произнес:
— Повторим наши задачи: натянуть палатки — раз! — И он стал не загибать пальцы открытой ладони, а разгибать их из кулака. — Вычистить и промыть питьевой бак — два! Расставить кровати в кубриках — три!.. Что еще?
— Все! — сказал Рэкс.
— Нет, еще что-то.
— А, этот... для флага на плацу! — вспомнил Димка.
— Правильно! Врыть флагшток — четыре!
— Если успеем! — уточнил я наказ Давлета.
— Не успеем, — заметил Рэкс.
— Должны успеть, — подчеркнул Ухарь. — Давлет рассчитал, наверное, а не тяп-ляп! Правда, он думал, что мы встанем в семь часов, а не в десять. Но этот пересып на нашей совести, так что надо выкручиваться.
— Выкрутимся! — заверил Димка. — Да, плюс эта... всякая срочная помощь по лагерю!
— О, верно! Итого — пять! — Ухарь потряс левой пятерней и растопырил правую. — И нас пятеро. Значит, мы должны вот так! — И он сцепил обе руки в мертвый замок.
Димка зачарованно повторил этот жест, словно на молнию застегнув свои ладони.
И мы направились в склад.
Палатки лежали в углу. Одну мы выволокли на середину пола, раскатили для удобства захвата и по команде Ухаря «три-четыре» разом вскинули на горбушки. Нам с Димкой, стоявшим последними, помог Егор Семенович. Сгорбившись в три погибели и ничего не видя, кроме своих сапог, я в то же время, точно мигом раздвоившись и послав своего двойника на крышу гальюна, видел все: кругло скрученная, толстая и длинная, как анаконда, тяжело, словно налитая ртутью, провисая между носильщиками, палатка выбралась из склада, будто из логова, и поползла к каркасам, изгибаясь от разнобойных шагов и шевеля хвостом, потому что меня с Димкой мотало из стороны в сторону.
Семенивший передо мной Митька вдруг запнулся и упал. Избыток тяжести хлынул на меня, и я растянулся, прижулькнутый к земле палаткой, как огуречным деревом король из «Приключений Мюн-хаузена». По закону доминушек, поставленных на попа, следом рухнул и Димка. Он охнул и притворился мертвым.
— Ну, локшадины!— натужно ругнулся Рэкс, которому тоже добавилось тяжести.
— Подъем! — скомандовал Ухарь, заламывая шею. — Митяй, подайся ближе к мальцам!
— У них и так один хвост!
— Подайся-подайся!
— Брандахлысты!— буркнул Митька.
С трудом приподняв «анаконду», мы двинулись дальше. У камбуза проурчала машина, и плотники, увидев нас, завосклицали наперебой:
— Ого, ребятня!
— Вкалывают!
— Давай-давай!
Среди них был, наверно, и папа. Я обрадовался и поднатужился изо всей мочи. Но тут внезапно восхищенные голоса плотников перекрыл возмущенный голос начальника лагеря:
— Это вы что, только начали? Ну, десантнички! — «Анаконда» наша замерла. — Пошли, пошли! Ухарь, шагу! А ну! — Филипп Андреевич почти на коленях подполз под «змею» между мной и Димкой и выпрямился, облегчая наши плечи.
— Стоп! — крикнул Ухарь. — Вправо. Три-четы-ре!.. — И палатка шмякнулась в траву вдоль каркаса.
— Ну, морячки! — продолжил Давлет, поправляя плотную и волнистую, с проседью, шевелюру — Ну...
— Десант, смирно! — внезапно скомандовал Ухарь, и мы вытянулись, кто где стоял, а он взял под козырек: — Товарищ начальник лагеря, разрешите доложить!
Филипп Андреевич, явно не ожидавший этого, на какой-то миг косорото замер, потом сказал:
— Докладывай.
— Проспали!
— Прекрасно! Прекрасно не то, что проспали, а что по форме доложили. Меня устраивает такая компенсация, — как-то по-новому озирая нас, заключил Давлет. — Соколы! Перепелятники!.. Баба-Яга, почему ремень на заднице?
— Сполз!
— Поправь.
— Служу Советскому Союзу!
— В этом случае надо отвечать «есть»
— Есть!
— То то!.. Вольно!
— Вольно! — срикошетил Ухарь.
— Впредь не просыпать!
— А мне за то, что дольше всех спал, лесописед сделали! — с восторгом объявил Димка, ввернув одно из тех словечек, которые он еще недавно перевирал и которыми сейчас иногда дурашливо поигрывал: псисабо, лесописед, плаксобуксы.
— И правильно! — одобрил Давлет. — В следующий раз я лично всем засоням сделаю бакалайки!
— А что это? — насторожились мы.
— На языке Бабы-Яги это балалайка.
— А-а! — заверещал польщенный Димка.
— А делается она так же, как и велосипед, только на руках! Забренькаете, как в филармонии! — И Филипп Андреевич заболтал вроде бы подпаленной кистью.
— А-а! — поддал Димка.
— Вот это смех! — восхитился Филипп Андреевич, сам хихикнув, и Димка зажал было рот. — Нет-нет, хохочи на здоровье! Отрабатывай! Утрами будешь хохотать подъем!.. А у меня две новости, и обе важные. Завтра приезжают мичманы из Владивостока, которые будут у нас командирами экипажей, — раз! И лагерь .открываем досрочно, послезавтра — два!
— Ура-а! — взревели мы.
— Ура-то ура, а дел-то гора.
— Успеем!
— Сейчас как!..
— А пушка где? — спросил Димка.
— Пушка пока едет.
— Э! — призвал Ухарь.— Живо за второй палаткой!
— Палатки пока отставить! — распорядился Дав-лет- — Немедленно мыть бак — в двенадцать часов придет водовозка. Возьмите на складе с десяток ведер, Щетки, тряпки, разденьтесь и — полный вперед! Стойте, стойте! Есть идея. А ну-ка, в одну шеренгу становись! — вдруг скомандовал он, и мы быстро и почти без суеты — благо, что всего пятеро! — выстроились. — Имелось в виду, конечно, по росту, — заметил Филипп Андреевич и переставил нас. — Вот так, запомните! Р-равняйсь! Рэкс, не на меня смотри, а на соседа!.. Баба-Яга, ты что, бога ищещь в небе?.. Смирно!.. Напра-а-во! — Мы повернулись кто направо, кто налево, и каждый, видя этот разнобой и считая виновным себя, тут же повернулся в обратную сторону, и все расхохотались. — М-да, морячки, семь футов под килем! Как в потемках, ощупью ищут где право, где лево! — проворчал Давлет. — Так вот, вам дается еще одно задание, сверхплановое и, считайте, главнейшее: за сегодня и завтра научиться безукоризненно ходить строем и безукоризненно выполнять все строевые команды! Нос в лепешку, глаза на лоб, еще не знаю что, но чтобы послезавтра — вас хоть на сцену Большого театра, ясно? — Мы недоуменно мыкнули. — Ясно, я спрашиваю?
— Я-ясно, — протянули мы.
— Я-ясно, — гнусаво передразнил Филипп Андреевич, скособочив физиономию и дрябло обвиснув телом. — Мокрые курицы! Амебы!.. Ринчин!— окликнул он пробегавшего поодаль физрука.—Поди сюда!.. Я уже за ту мысль взялся, Ринчин. Материал очень сырой, — кивнув на нас, сказал Давлет. — Ну, то есть, хоть выжимай, как я, собственно, и ожидал. Делать нечего, надо выжимать. Давай так: через каждые три часа — полчаса строевой!
— О-о! — загудели мы.
— Разрешите ваш дружный вой принять за одобрение! — с улыбкой конферансье раскланялся Филипп Андреевич.
— О-о-о! — поддали мы.
— Чтоб вы так маршировали, как вы воете!
— А не часто через три часа? — усомнился Ринчин.
— Нет! — жестко возразил Давлет.— Три часа — полчаса. И никаких поблажек! Знай, что у них сразу животы разболятся, зубы зашатаются, чирьи выскочат — подымай!
— Даже ночью? — спросил Ухарь.
— Даже ночью!
— У-у! — взвыли опять мы, полусмеясь, полуужасаясь.
— Ладно, ночь отставить, — ухмыльнувшись, смилостивился Филипп Андреевич. — Но днем чтоб!.. Засекай время, Ринчин, и начинай прямо сейчас! — Давлет как-то враз шевельнул всем, что было на лице, и стал грустным. — Ребята, не подкачайте, я вас очень прошу! — И как-то умоляюще-озабоченно оглядев нас всех по очереди, задержался на последнем, на Димке.
Я вдруг испугался — не скажет ли он, что, мол, а те, кто пока еще не юнги, от строевой освобождаются. Но Филипп Андреевич ничего больше не сказал. А тут на плац вырулил самосвал с гравием, начальник наш свистнул, делая шоферу какие-то знаки руками, и ринулся было туда, но Димка поймал его за локоть.
— Филипп Андреевич, пошлите меня!
— Куда? — не понял Давлет.
— А куда вы побежали. Чего вы все сами бегаете? А мы на что, рабочий десант?
— В самом деле! — удивился Филипп Андреевич. — Ну, мыслитель Баба-Яга! Дуй живо к шоферу и скажи, чтобы не на плац валил гравий, а ниже, к воде. Отсыпем почетную дорожку Посейдона! Скажи, что я велел.
— Есть! — Димка обрадованно подпрыгнул и, на лету развернувшись, стреканул вниз.
А я между тем, приглядываясь и прислушиваясь к неторопливо разбредавшимся по лагерю плотникам; не обнаружил среди них папы и у одного из них узнал, что он сегодня и не приедет—в конторе нашлись срочные дела. Это меня немного опечалило, но ненадолго. Ринчин кхекнул и сухо произнес:
— Слышали начальника? Все так и будет. Внимание! Равняйсь!.. Смирно!.. На месте шагом — марш!
И мы дернули коленками.
9
Егор Семенович, дальнозорко отводя голову, как дятел при ударе, вычитывал что-то в большой, похожей на классный журнал, книге и сверялся с тем, что лежало на полках. Сухонький, подвижный и низкорослый, завхоз был до того кривоног, что сапоги его сходились внизу, словно кусачки, и только при широко расставленных ногах делались параллельными. Такие вот поджарые и живые старички, с такими кавалерийскими ногами, чаще всего оказываются бывшими чапаевцами или буденновцами.
— Егор Семенович, нам бы десять ведер, щетки и тряпки — бак чистить, — сказал Ухарь.
— Пожалуйста — любезно отозвался тот, подошел к своему столику, отложил большую книгу и открыл тетрадку. — Ведра — пожалуйста, щетки — пожалуйста! Что угодно! Завези живую воду — дам живую воду!.. Так, на кого записывать?
— Что записывать? — не понял Ухарь.
— Что берете.
— А зачем?
— Чтобы отвечать: потерял — найди, не нашел — плати! — Ухарь присвистнул под наш хохоток и поскреб затылок.— А как же! Не у мамки с папкой!
— На меня пишите, на кого же!
— Остальных прошу за дверь! — турнул нас Егор Семенович, и мы столпились в проеме. — Как тебя?
— Ухарь.
— Это что, фамилия такая?
— Прозвище.
— На прозвище не записываю, — жестко заявил завхоз.— Сбежишь, а потом ищи тебя, ухаря, свищи!
— Тогда пишите на Рэкса, — вдруг лукаво нашелся Ухарь и жестом подозвал приятеля.
— И на Рэксов не записываю.
— Но это же фамилия!
— Вы мне бросьте! — пристрожился старик, откладывая ручку. — Или дело делать, или!..
— Митька, дуй за Давлетом! Пусть подтвердит, раз нам не верят! — обиделся Ухарь.
Но Митька не успел сорваться. Егор Семенович взял ручку и стал писать, поварчивая:
— Рэкс так Рэкс — мне все равно, прости господи!.. Ты что ли? Распишись вот тут. Ведер — десять, щеток металлических — три... Хорошо. Я ведь и так запомнил, не думайте!.. А тряпки вон в мешке, без записи. И веревки метров пять отрежьте от бухты, тоже без записи. Как зачем? А чем будете воду затягивать наверх?.. Ну, то-то, голова!.. Берите, десять ведер. Да не малированные, а цинковые! Буду я вам, Рэксам, малированные давать!
Минут через десять, в плавках и ремнях, мы были у залива. Наказав черпать по полведра и особо не спешить, чтобы не выдохнуться преждевременно, Ухарь выстроил нас цепочкой: Рэкс — у воды, потом Митька — где покруче, потом мы с Димкой — где положе, а сам он по лестнице забрался на подмости, к баку. Опередив Димку, я занял крайний пост, возле Ухаря, надеясь как-то привлечь к себе его внимание, а Димка и так уже привлек: и в драке, и с «велосипедом», и с чаем, и даже тем, что имеет забавное прозвище. А тут — ничего! Я пока даже не обратился к Ухарю ни разу, понимая, что если пятиклассник назовет десятиклассника вот так панибратски — Ухарем, то наверняка получит по шее, поэтому я, помня еще тот пинок у шлагбаума, не рисковал и никак не называл Ухаря.
Вода не поступала.
— Чего они там? — заволновался Ухарь.
— Ямку, наверно, ищут.
Ко мне подрулила Шкилдесса, и я опустился на корточки, поглаживая ее. Кошка была не чисто белой, а чуть пепельной, с несколькими угольными подпалинами, как будто однажды прыгнула сквозь огненный обруч. Главное пятно сидело на голове, кособоко, словно берет, охватив правое ухо и глаз. Окоем этого глаза был темным, а другого — бледно-розовым, и при глобусно круглой голове это как бы означало, что там ночь, а тут день.
— Твоя? — спросил Ухарь.
— Моя.
— Как звать?
— Шкилдесса.
— Хм!.. Пакостливая, небось?
— Не-ет, — протянул я. — Наоборот, она, например, когда пить хочет, прыгает на раковину и мяукает, чтобы кран открыли, и подставляет язык, как ладошку. И в бильярд умеет играть, в маленький, с железными шариками, — все разгонит по лузам и даже назад пробует вытащить, но пока не получается. Ей бы пальцы вместо когтей! — говорил я радостно, гладя и гладя кошку, словно ей самой все это рассказывал, а потом поднял голову — слушает ли Ухарь. Он не только слушал, но и глядел на нас, приоткрыв рот, что означало почти улыбку. — А спит она в картонной коробке, у батареи, — продолжил я. — Как мы ее котенком положили туда, так и спит. Уже тесно, уже вон какая дуреха, а привыкла. Издали видно— если коробка расперта, значит, там Шкилдесса!.. И драчливая! Однажды мне чуть глаз не выкусила! Лежали мы на кровати и смотрели друг на друга. Я прищурился и давай вращать глазами, а она вдруг — прыг! Я аж на пол слетел! Думала, наверное, что мыши! Веко поцарапала!
— Да-a, артистка! — заключил Ухарь. — У нас дома тоже кошка есть, но дура дурой!
— А что такое «локшадин»? — спросил я.
— Это Рэкс изобрел.
— А как Рэкса звать?
— Рэкса?.. Женька, — не сразу припомнил Ухарь. — Но для нас он всю жизнь Рэкс. Мы ведь не обманули старика, Рэкс — это действительно его фамилия.
— Странная. А как нам его звать?
— Тоже Рэксом.
— А он не того?..
— Не должен. Фамилия же. Конечно, собачкой тут попахивает, но ведь Пушкин тоже пахнет пушкой, а Гоголь — вообще смех, если вдуматься, а привыкли. Кстати, Рэкс по-латыни — король, так что ничего смертельного.
— Тогда, может, Королем и звать? — не унимался я.
— Ну, какой он король, он Рэкс.
— А тебя как звать?
— Ухарь.
— А по-настоящему?
— Олег.
— А мы как должны звать?
— Ухарем, наверно.
— А ты не того?..
— Не должен.
— А может, Олегом лучше?
— Да зови хоть горшком, только в печку не ставь!
— А как тебе приятнее?
— Хм! — усмехнулся Олег. — Мне приятнее, когда меня оставляют в покое. Я не сейчас имею в виду, а вообще. О, наконец-то! — воскликнул он.
На откосе появилось первое-ведро.
Бак был здоровым, по плечи Олегу, с танковым люком и с двумя кранами: один у самого днища, а второй чуть выше. Отвинтив нижний, Олег лил воду сперва так, чтобы смыть главную грязь — и правда, потекла темная жижа, — потом закрутил его и открыл второй, сказав, что будет наполнять бак до тех пор, пока не побежит из этого, верхнего крана.
И ведра пошли, поехали как по щучьему велению.
Из задней двери камбуза вышел Давлет, покружил вокруг колесной электростанции, которую привезли вчера, так как прокладка ЛЭП затягивалась, и крикнул нам:
— Ну, пустили насос?
— Пустили, — ответил Олег, натужно перебирая веревку — ему досталась самая тяжелая точка.
— Прекрасно! — и Давлет исчез.
Передав Димке пустое ведро и подхватив полуна-полненное, я семенил к подмостям, когда Шкилдесса, с фырканьем вылетев из кустов, бешено взметнулась на столб под самый настил, треугольно взъерошив спину и утробно урча. Кого-то испугалась.
Я глянул подальше и вдруг прямо, метрах в десяти, увидел в траве черную собаку, которая, вывалив на сторону парной язык, то приседала нетерпеливо, то вскакивала, ища пропавшую кошку. Поймав мой взгляд, она со сдержанной досадой гавкнула и бочком-бочком отступила к кустам. А там, почти слившись с зеленью, стоял высокий и тощий мужчина. Приподняв кепку, он почесывал мизинцем макушку и, щурясь, озадаченно изучал камбуз, точно давно не ел и теперь прикидывает, как бы поесть.
Я так и застыл, согнувшись и не смея опустить ведро на землю. Перед глазами что-то мелькнуло.
— Лей! — сказал Олег.
— Бич! — прохрипел я, кивая в лес.
Ухарь живо обернулся, прячась, как от выстрела, за бак, и тут же, пронзительно-коротко свистнув два раза подряд, быстро спустился по лестнице. Вдоль цепной водокачки прозвенели брошенные ведра, и Митька с Рэксом, которым был, видно, понятен этот сигнал, мигом очутились у подмостей. Димка — тоже. Не сводя взгляда с мужика, Ухарь шепнул углами губ:
— Тихо, парни! Пошли!
И мы впятером направились в осинник.
Пес зарычал и кинулся было на нас, но, пораженный нашей невозмутимостью, отпрянул и, скуля, улепетнул за хозяина. А тот не спеша надел кепку и приветливо-невинно сморщил нам навстречу свою небритую и худую физиономию. Ни ружья, ни топора при нем не замечалось, одна лишь котомка в опущенной руке.
Метрах в трех мы остановились.
— Вы кто? — спросил Ухарь.
— Я, тых-тых-тых, человек.
— Пройдемте с нами.
— Тых-ты-тых-куда? — прокудахтал незнакомец, напрягая шею и губы и даже кособоча при этом голову,— Я лучше, тых-тых-тых, обойду вас!
— Надо было раньше обходить! А теперь мы обойдем вас и проводим к своему начальнику.
Ухарь мотнул нам головой, и мы подковой обступили пришельца с тыла, оставив свободным путь к камбузу. Но это не произвело на чужака особого впечатления. Обернувшись к нам, он собрался было снова пуститься в объяснения, но Ухарь вдруг расстегнул морской ремень, обмотнул его вокруг правой руки, а в левой занянчил тяжелую пряжку. То же самое сделали и мы. Какое-то время поразмыслив, дядька заикасто просифонил:
— Н-н-ну, пошли!
И покорно двинулся к камбузу, кинув за плечо котомку. Пес, путаясь в его ногах, лаял на триста шестьдесят градусов, как в круговой обороне. Пропустив пленника в заднюю дверь, мы ввалились следом и, миновав всякие полутемные кухонные закутки и зигзаги, вышли в яркий, с трех сторон застекленный зал под желтой, в отличие от хозкорпуса, пластиковой крышей. У парадных дверей Филипп Андреевич что-то обсуждал с плотниками, поглаживая березу, которая проходила прямо сквозь настил лестничной площадки. Увидев нас, он сбился и тревожно спросил:
— Что случилось?
— Да вот, за камбузом взяли, — сказал Ухарь.
— Кто вы такой? — спросил Да влет бродягу.
Словно разрядившись в коротком разговоре с нами, дядька долго щерился и фыркал, заводясь, как мотор со слабым аккумулятором, наконец выпалил:
— Тых-тых, тых, я рыбак.
— Рыбак? А что, разве за камбузом у нас щуки завелись?
— Я только иду на рыбалку, — пояснил незнакомец, тыча Филиппа Андреевича в плечо, чтобы тот смотрел на него. — Сверху иду, через гору. Там тропа есть, прямо от поселка. Ну и слышу, тых-тых-тых, — стук и бряк. Остановился. Интересно же! Триста лет глушь была, а тут — на тебе, трах-бах! Посмотрю, думаю, и вкруговую на мыс. А ваша братва, тых-тых-тых, возьми меня да и защучь, как американского шпиона!
— И правильно сделала! — одобрил Давлет.
— Правильно! — согласился мужик, продолжая тычками в плечо требовать у начальника внимания к себе. — Если бы не правильно, я бы не дался! А раз порядок — я, тых-тых-тых, не возражаю! Хотите обыскать — вот мой сидор, в нем кусок сала, полбулки хлебала две луковицы! — И дядька поболтал котомкой.— Из оружия — только складешок, не зубами же рвать рыбу!
— Ясно! — удовлетворенно сказал Давлет. — Что ж, рыбачьте, но поищите другой залив!
— Н-н-не могу! — вдруг уперся заика.
— Как это не можете?
— Я тут привык! Двадцать лет рыбачу! Еще до ГЭС и до моря рыбачил! Меня тут вся рыба знает! Как иду — она, тых-тых-тых, пляшет! — горячо заговорил дядька, кивая в сторону залива, куда мы невольно повернулись, словно желая убедиться, правда ли, что рыба пляшет.
— И что нам теперь, лагерь сносить?
— Тых-тых-тых! — запротестовал рыбак. — Уживемся. Вы тут, а я вон на том мысочке.
— Нельзя. Там маяк будет.
— Когда?
— В будущем году.
— Тых-тых-тых, согласен! — деловито-примирительно сказал дядька. — В будущем году я как раз, тых-тых-тых, иду на пенсию и буду сторожить ваш маяк. А пока порыбачу! — Его тых-тыханье не считалось бы, наверно, заиканьем, если бы остальная речь была нормальной, но он спотыкался почти на каждом слове, а то вдруг так начнет буксовать на одной букве, что его хотелось подтолкнуть или хлопнуть по спине, редкие фразы выходили гладкими. — Вы, тых-тых, не бойтесь! Я не вор, не бродяга и не дурак, кстати, хоть и похож на всех их вместе взятых! Я, тых-тых, компрессорщик. У меня три сына, как вы, и десять, внуков, как ваша братва. И все ждут, когда дед им рыбы принесет. Да и вам на уху будет! Много не обещаю, но пяток окушков всегда ваши!
— Пяток? — переспросил Давлет, задумавшись,
— Ну, тых-тых-тых, с десяток!
— А что, это идея!
— Ык, конечно!
— Как вас звать?
— Иван, тых-тых-тых, Копылков. Я в АТУ на правом берегу работаю. Можете проверить.
— А кто там начальником эксплуатации? — спросил вдруг Рэкс.
— Рэкс, — ответил дядя Ваня.
— Правильно! — просиял Рэкс.
— Это его сын, — пояснил Филипп Андреевич.
— Ну-у! — воскликнул дядя Ваня и затыкал Рэкса в плечо, словно без взгляда собеседника у него не срабатывало какое-то зажигание. — Почти родня, а вы меня — пряжками!
— Служба! — сказал Ухарь.
— А ну-ка надеть ремни! — пристрожился Давлет, видя, что мы все еще поигрываем ими. — И учтите, десантнички, что морская пряжка — это холодное оружие! Она не раз выручала моряков в критические моменты рукопашных! Так что не очень-то размахивайте, а то заменю на обычные!
— Не-ет! — враз возразили мы, застегиваясь.
— Вот так!.. Так сколько ты нам окушков обещаешь? — вернулся к прерванной мысли Филипп Андреевич. — С десяток?
— От силы — полтора.
— Мало. Сотню!
— Тых-тых-тых, это грабеж! — воинственно протарахтел рыбак. — Я всего-то штук пятьдесят окушков достаю да одну-две щуки! Да налим-другой когда влетит! И если все вам, то что же, тых-тых-тых, внукам?
— Все внукам, батя! — успокоил заику Давлет. — Твоего нам ни чешуйки не надо! Только руководство. Мы создадим свою рыболовецкую бригаду! Как, ребята?
— Хм, — сказал Ухарь.
— Выделим четырех весельный ял, достанем пару сетей, удочки — и чтобы раз в неделю весь лагерь ел уху! — размечтался Давлет. — По рукам, дядя Ваня?
— Тых-тых-тых! — И они пожали друг другу руки.
— Ну, и прекрасно! Очень кстати тебя поймали: и сторож, и рыбак! Обрастаем помаленьку кадрами! Забрел бы сюда комиссар какой-нибудь! А то не могу найти комиссара. А ну-ка, ребята, прочешите лес, может, он где-нибудь прячется, увиливает от работы, как салтыков-щедринский мужик! — рассмеялся Филипп Андреевич. — Вот так нужен комиссар!
— Комиссар? — переспросил Димка.
— Да.
— Хм, — хмыкнул он и задумался.
О какой бы потребности ни зашла речь, Димка всегда участливо задумывался, делал обнадеживающий вид и даже лез в карман, словно там у него был мировой запас всего-превсего, и лишь потом с грустью пожимал плечами, мол, извините, нету. Он и сейчас занес было руку, но на полпути спохватился, что чего-чего, а уж комиссара в кармане никак не вышаришь.
— Может, попробуешь, Баба-Яга? — спросил Давлет.
— М-м, — мыкнул тот улыбаясь.
— Куда с его прозвищем в комиссары! — усмехнулся Рэкс.
— А с твоим-то? — взъерошился Димка, подаваясь к Рэксу. — У меня хоть прозвище, а у тебя фамилия такая, что тебе вон Егор Семеныч даже ведра не хотел давать!
— Ну и замолкни!
— Рэксина!
— А не возьмешься ли ты, дядя Ваня, еще и комиссарить по совместительству? — улыбнулся Филипп Андреевич.
— Н-н-навара не будет. Сторож-то оно, тых-тых-тых, вернее, — слукавил дядя Ваня. — А по секрету, я ваш дебаркадер сторожу уже с мая месяца!
Так вон это чьи огромные сапоги наследили в каюте, вон чьи прожженная телогрейка и чайник с корой вместо крышки! Я чуть не признался, что телогрейку мы извели, но в этот момент оставленная наружи собака ворвалась через парадные двери и обрадованно сунулась к ногам хозяина.
— М-м-мой Буран! Сивка-Бурка! Не обижайте, тых-тых-тых, если вдруг один прибежит. Он добрый. Ну ладно, Бурка, пошли, нам еще снасти готовить да плот искать.
— Это какой, с чурбачком? — спросил Димка.
— Ык, да.
— Значит, это ваш? Он тут, у дебаркадера, — с сожалением сказал я. — Мы его за мысом нашли.
— Уг-уг-гоняют!
— Это на котором мы кругосветное плавание совершили? — уточнил Филипп Андреевич. — Послушай, дядя Ваня, ты, оказывается, уже столько для нас сделал, что слов нету! Уж не ты ли нам и этот милый заливчик выкопал?
— Ну если и не выкопал, то обжил! Ишь, какая красота! — И, оборотясь к Ухарю, прочихпыхал ему прямо в лицо: —А разведчики из вас никудышные — в трех шагах не заметили моего главного рюкзака, а пушка-то, тых-тых-тых, как раз там и есть!
— Исправимся, — заверил Олег.
— То-то! Ну, братва, приходите к вечеру на мысок, уха будет! Бурка, айда, сынок, а то заждались нас окушки!
А минут через десять, когда по нашей цепочке опять засновали ведра от залива к баку, я увидел по-над дебаркадером, как дядя Ваня и Буран плыли к мысу.
— Вон они! — крикнул я.
— Ага! — отозвался сверху Олег. — Смешной, тых-тых, мужик!
— Смешной! — согласился я, провожая плот взглядом и думая о том, что вечерком хорошо бы, действительно, сбегать на мыс — уха-то ухой, а надо бы порасспрашивать дядю Ваню, местного человека, не встречал ли он тут каких-нибудь крупных зверей.
— Принимай! — еще за десять шагов закричал Димка, спеша ко мне с очередным ведром.
10
Ринчин не давал нам пощады.
Он был точек до чертиков: через три часа — полчаса. Мы даже нарочно засекали время: вот минута осталась до строевой — Ринчина нет и, похоже, не будет — тишина, вот полминуты — Ринчина нет и, похоже, не будет — тишина, все — и Ринчин будто из воздуха выявлялся с лицом бесчувственным, как машинный капот. Наши просьбы, жалобы и хныканья он не воспринимал вообще.
Круг — верхняя палуба — шлагбаум — плац — склад — верхняя палуба — занимал двадцать минут, остальные десять шли на отработку поворотов. Мы изматывались, но и постигали кое-что, только с Митькой был какой-то анекдот: маршируя, он поднимал враз одноименные руку и ногу. Так нарочно-то не пройдешь, а ему — хоть бы хны. Сам он не мог правильно включиться — Ринчин руками, насильно, задавал ему начальный замах, словно запуская расхлябанную машину, но она работала нормально до первой остановки, а там сбивалась опять. Митька этого не понимал и не чувствовал — какой-то врожденный ущерб был в координации его движений.
— Ну, опять задоил козу! — воскликнул Ринчин и остановил нас у склада. — Не могу я больше смотреть на этого дояра! Ухарь покомандуй, а я спортинвентарем займусь! — И, впервые спасовав, физрук отправился к Егору Семеновичу.
Ухарь вывел нас на верхнюю палубу, разбил на пары, а сам уселся на пенек в тени палатки.
— Чур, я командую! — опередил меня Димка и сразу выпучил глаза. — Смир-рно!.. Ты что выполняешь: «смирно» или «приготовиться к обеду»? Убрать живот! Я тебе покажу, обжора нечесаная! — орал Димка, с восторгом разыгрывая роль какого-то царско-хамского унтера, а меня превращая, стало быть, в затурканного солдатика. — Нале-ево! Прямо шагом-марш! — Не рассчитав немного, «унтер» направил меня на сосну, на которую я, не долго размышляя, и полез, как и положено затурканному солдатику. — Куда, образина? Бунтовать?.. В Сибирь! На каторгу!
— Полегче, Баба-Яга! — осадил его Ухарь.
— Пусть-пусть! — с терпеливой мстительностью заметил я. — Я тоже потом дам ему разгона!
— Отставить! В одну шеренгу становись! — приказал вдруг Олег, поднимаясь. — В гальюн ать-два! — Мы потопали. — Мимо гальюна в лес бегом-марш!
Эх, как мы припустили! А через десяток метров, скрывшись за молодым осинником, перешли на шаг. Тропа вилась по косогору в густой и высокой траве, местами армированной валежником, жердями и упавшими деревьями. Справа, на подъеме, было светлей и чище, а слева, в низине, — сумрачней и ералашней — там чувствовалась заболоченность.
Рэкс мягко завалился набок возле толстой полусгнившей лесины. Тропа дальше не шла. По уютно примятой траве и остаткам маленького костерка посредине я понял, что это — курилка десантников. Ухарь опустился на колени, вынул пачку, тряхнул ее, и куряки, нетерпеливо разобрав выскочившие ступеньками сигареты, затянулись с таким удовольствием, что даже и я глубже вздохнул. А мне и было хорошо, и потому что мы так играючи кончили строевую, и потому что старшие взяли нас с собой, и как-то вообще... Я готов был сделать для друзей что угодно, и закурить, наверно, угости они меня, хотя табачный дым, медленно рассасывавшийся в застоялом лесном воздухе, бил в ноздри жуткой вонью. Словно уловив мою готовность к подвигу, Олег сказал:
— Щепочек бы!
— Сейчас! — живо отозвался я и, скользнув ящерицей вдоль лесины, тут же вернулся обратно с охапкой прутьев и куском бересты у груди. — Во!
Ухарь запалил сушняк и приглушил его сверху пучком свежей травы, сквозь которую вязко повалил обильный дым, не очень-то распугивая комаров, но вполне утешая нас.
— И еще попить бы! — вздохнул Ухарь.
И я принес бы, сбегал — подумаешь, метров семьдесят! — но внезапно Рэкс, как тот раз Митька на мысу, ляпнул пренебрежительно, кивая на нас:
— А эти-то на что?
— Вот именно! — поддакнул Митька.
— А ну-ка, служба, покажите себя! Кстати, Давлет вот-вот спросит у нас, как они?
— Ты уверен, что спросит? — усомнился Ухарь,
— А ты нет?
— Игрушечки. Хотя почему бы и нет.
— Спросит, раз поручил! — заверил и Митька, злой, как всегда, после строевых занятий.
— Так вот, — продолжил Рэкс, — я предлагаю предварительное открытое голосование. Кто против принятия Полыги и Бабы-Яги в юнги, прошу! — И первым поднял руку, за ним Митька, Олег задумчиво курил, словно уже отключившись от этого разговора. — О, локшадины! Большинством вы не проходите! Выкручивайтесь, пока не поздно! Дуй-ка, ханыга, за водичкой! Да при побольше, литра три. Банку у старика попроси, мы тут заначим! — говорил Рэкс как бы мне вдогонку, словно я уже летел за водой сломя голову.
А я был еще тут и никуда не собирался лететь, тем более сломя голову. Рэкс своими словами приглушил мою радость и охоту, как только что Ухарь приглушил сырой травой костерок, — остался лишь дым, дым обиды и не понимания. Ну зачем, зачем нас унижать? Чтобы возвыситься самим? Да наоборот же, дураки, бестолочи, слюнтяи!.. Растерянно и сердито я рванул пучок травы, кинул его в поредевший дымок и огрызнулся:
— А ты не обзывайся!
— Это же прозвище, дурачок! — усмехнулся Рэкс.
— Давлет забраковал его.
— Много он понимает в прозвищах!
— И мне не нравится! — смелее заявил я, оглядываясь за одобрением на Димку и втайне надеясь даже на покровительство Ухаря, который все же не голосовал против нас, но ни тот, ни другой, судя по их виду, не помышляли вступаться за меня — Ухарь сосредоточенно докуривал сигарету, а разжаренный Димка посапывал, колыша на животе освобожденную от ремня верхонку. Поддержка явилась с неожиданной стороны — на наше лежбище прибрела Шкилдесса. Я подхватил ее, радостно замяукавшую, на руки и закончил мысль, обращаясь как бы к кошке: — Я уже не обзываю тебя Рэкс-Пэкс-Тэксом, раз тебе не нравится, вот и меня нечего обзывать!
— Еще бы ты обзывал! — отрезал Рэкс.
— А чем я хуже?
Это я выпалил прямо в крохотные Рэксовы глазки, которые, внезапно сузившись до зрачков, перестали быть глазами, а превратились в какие-то угрожающие приборы, для которых сам Рэкс был всего лишь монтажной этажеркой.
— Слушай, умная голова, дураку доставшаяся, ты знаешь, что твое тело на восемьдесят процентов состоит из воды, а? — спросил вдруг Рэкс с каким-то подвохом.
Я промолчал, а Димка ответил:
— Знаем, знаем!
— Так вот смотрите, как бы я вас однажды не отжал! — заключил он с видом факира, которому удался хитрый фокус, хотя фокус этот он явно сдул у Олега — тот еще у шлагбаума показал нам подобный же, с вопросом и ответом, только про собаку с консервной банкой на хвосте, но после того, как Димка врезался ему в живот, Ухарь не задавал нам больше двусмысленных вопросов, теперь, стало быть, очередь за Рэксом.
— Как бы мы тебя самого не отжали! — вспыхнул Димка, видя, что попался на приманку, и Рэкс лишь устало прикрыл глаза на эту надоевшую ему дерзость.
— Да что с ними базарить! А ну жми за водой! — И Митька изо всех сил двинул меня каблуком по колену.
На миг я ослеп от боли, но в следующий миг, когда уже брызнуть слезам, увидел, как мелькнул Димкин ремень и как блестящая, без царапин, пряжка припечатала Митькину ногу чуть выше туфли. Не зря Димка снял ремень и посапывал — он был начеку, мой друг. Если я защищал его как-то изнутри, от него самого, дипломатически, то он защищал меня снаружи, от других, физически, как вот сейчас. Митька взвыл и, свернувшись в комок, катался по земле. Плач мой как-то сдержался, но слезы выступили. Я их вытер о кошачью голову и замер в ожидании неизвестного.
Ухарь вдруг расхохотался.
Это остановило Митьку, и вой его, и метания. Он сел, задрал штанину, отогнул носок, и мы увидели на шарнирной кости фиолетовую здоровую шишку.
— Ну, гады! Ну, я вам сейчас! — завопил Митька, вскакивая, но тут же со стоном приседая.
— Ладно, я займусь, — Рзкс неохотно привстал на колени, на коленях подширыкал к нам с Димкой и, больше уже не угрожая ни глазами, ни видом своим, равнодушно сказал: — Я предупреждал вас, а теперь все, тушите свет.
— Дави их! — подстегнул Митька.
— Только тронь! Я тебя, Рэксина, не по ноге, а по башке трахну, да так, что ты, локшадин, заржешь! — с ремнем наготове припугнул Димка, теребя меня за плечо, чтобы я отступал, но страх и любопытство сковали меня.
— Посмотрим, кто заржет! — сказал Рэкс.
Я почему-то понял, что расправу Рэкс начнет с меня, и сильнее стиснул кошку. И вдруг захотел, как это ни жестоко, чтобы он ударил сперва не прямо меня, а Шкилдессу, потому что себя я не стал бы защищать, а за кошку я ему глаза выцарапаю! Вцеплюсь всей десятерней в эти тошнотные, поросячьи гляделки и не отпущусь, а там будь что будет!
Лениво-презрительный взгляд Рэкса остановился на моей переносице, губы его поджались, прыщи вспучились, и он небрежно вскинул руку. Димка у моего плеча крякнул и сделал что-то непонятное, от чего Рэкс внезапно отпрянул и, неуклюже вывернув ноги, сел прямо в костер. Через секунды недоумения он схватился за ягодицы и так спортивно маханул в сторону, что, перелетев Митьку, оказался верхом на поваленной лесине. Пришпоривая бедное дерево, лет сто, наверное, жившее и года три уже гниющее, Рэкс с каким-то действительно ржанием заподпрыгивал на нем, гася тлеющие брюки и ублажая подпаленный зад.
Ухарь от смеха заметался по траве так же, как только что Митька метался от боли.
— Чешем! — прохрипел Димка, и я, держась за онемевшее колено, с трудом поднялся и поковылял за ним. В устье тропы Димка обернулся и крикнул: — Ну, Рэксина, кто заржал! И еще получишь! Чихали мы на вас! Филипп Андреевич сам рассудит! И неизвестно, кто еще попадет в юнги, куряки вы нечесанные! А уж Митьку точно теперь спишут! — И мы врезали по тропе, как по коридору.
— Эй, Баба-Яга! Полыга! Стойте!.. Да вернитесь же! — кричал нам вслед Ухарь.
Но мы чесали без оглядки. Прискоками, не выпуская Шкилдессу, я едва поспевал за Димкой. Мы убегали не только от расправы, но и от рабства, в которое отдались было с восторгом, но которое стало выходить нам боком. А теперь конец этому, мы свободны! И вдруг я умерил свой бег, запоздало сообразив, что ведь это не таинственные Димкины жесты отшвырнули от меня Рэкса, а это Ухарь, невидимый за Рэксом, в самый последний момент отдернул его! Я остановился, чувствуя, что погони не будет, — там заварилась теперь своя каша, потому что Ухарь, собственно, предал Рэкса, а это просто так не проходит. Значит, Ухарь — за нас, а точнее — за справедливость! В голове моей что-то вспыхнуло от чувства признательности Олегу, выдавились остатки тех, так и не выплаканных ладом слез, я глубоко и освежающе вздохнул. Беспокойно поприслушивавшись, не раздаются ли позади крики спора или ссоры, и ничего не уловив — плотный кустарник и высокая трава глушили все низовые звуки, — я окликнул Димку и поковылял дальше.
На балконе хозкорпуса, на углу, у дверей склада, толпился люд: Филипп Андреевич, Егор Семенович, Ринчин, Рая, еще кто-то и среди них — три моряка.
— Вон они! — сразу увидев нас, воскликнул Давлет. — А ну-ка сюда, рабочий десант! — Мы взбежали на балкон. — О, вояки! На вызов начальника с кошкой являются! Почему хромаешь?
— Запнулся.
— Не вовремя. А где остальные?
— Там. — Димка махнул рукой на лес.
— Докуривают?
— Кто? Не-ет!
— Понятно. Почему ремень в руке?
— Жарко.
— Подпоясаться.
— Есть! — И Димка живо щелкнул крючком.
— То-то! А теперь знакомьтесь! Это наши мичманы! Наши первые мичманы! — прямо тая в широченной улыбке, говорил Филипп Андреевич, представляя нам моряков, которые при этом надели фуражки и вытянулись, оказавшись стоящими по росту, точно строем ходили постоянно. —А это наши абитуриенты! Наши первые абитуриенты! Дима Лехтин, или Баба-Яга, ловко бьющий головой в живот, и Семен Полыгин, наш первый сторож! Как вы без пяти минут офицеры, так он-^без пяти минут юнги! Ну, без десяти, — поправился Давлет, что-то вспомнив, а потом, вспомнив еще что-то, вывернул все наизнанку: — А могут, к сожалению, вообще не стать юнгами — зависит от некоторых уточнений. Но будем оптимистами! Посейдон за нас!
— Салажата! Родня! — проговорил кто-то из мичманов, и к нам потянулись руки.
Сбитый с толку пояснениями Давлета, но сразу поняв, о каких уточнениях идет речь, я как-то не прочувствовал рукопожатий моряков и даже забыл посмотреть им в лица. Передо мной возникали только цепкие кисти и надраенные пряжки ремней, а сверху поочередно раздалось:
— Мичман Фабианский!
— Мичман Чиж!
— Мичман Кротов!
Последним стоял пацан класса седьмого, худой и серьезный, в красной рубахе и желтых джинсах. Ему я по инерции тоже подал руку, и он пожал ее холодными пальцами быстро и крепко, со взрослой солидностью, назвавшись:
— Алька!
— Наш художник! Наш первый художник! Микеланджело Буаноротти! Давид Альфаро Сикейрос! Он же Альберт Гурьев, по прозвищу Берта-у-мольберта! — одним дыхом нагородил восторженно Филипп Андреевич и, аж пошатнувшись, оперся о мое плечо.— Уф!.. А вот у Семена нет прозвища, хоть умри! Он обещает плитку шоколада тому, кто придумает ему полноценную кличку!
— Я предлагал «Ридикюль» — не хочет, — ввернул Димка.
— Иди ты со своим ридикюлем! — прошипел я.
— Ридикюль? — переспросил Давлет. — Нет, не пойдет!
— Конечно, не пойдет! — обрадовался я.
— Нет соли! Алик, думай!
Алька с улыбкой ответил:
- Приглядимся.
— Правильно — приглядимся! — Филипп Андреевич крутанулся на каблуке и замер с поднятым вверх лицом, потом медленно обратил его к нам, и на нем уже значилась какая-то мысль, точно похищенная у неба. — A знаете, ребята, в чем неповторимость данного момента? В том, что все мы тут — первые! Понимаете? — Филипп Андреевич сильно оттянул себе нижнюю губу и со шлепком отпустил ее, а я, усмехнувшись про себя, понял внезапно, что мне больше всего нравится в нашем начальнике — его неначальственность, его почти наши, мальчишеские жесты и выходки. — Лагерь «Ермак» родится только завтра, а сколько уже первых! Первый шофер Рая! Перрый кладовщик Егор Семенович. Первый физрук Ринчин!
— Первый начальник Филипп Андреевич! — ввернул Димка.
— Именно! И вот тоже первые! — кивнул Давлег на гуськом выбредавшую из-за гальюна троицу.
— О! — шепнул я Димке.
Они шли вяло и вразнобой, но вместе — значит, Ухарю как-то удалось замять разлад. А какой, собственно, разлад? Откуда я взял, что у них должен быть разлад? Из-за предательства Ухаря?.. И вдруг с новой четкостью я рассудил, что никакого предательства не было, потому что Ухарь спас не столько меня, сколько самого Рэкса — ведь тронь тот меня, и Димка звезданул бы его пряжкой по башке, это точно. Олег, уже зная Димкины способности, понял, видно, это и отвлек Рэкса, а чуть-чуть поджаренный зад — ерунда по сравнению с клеймом якоря на лбу. Будет Ухарь из-за какого-то Семки Полыгина предавать старых дружков! А жаль!.. Митька плелся в хвосте, опираясь на палку. Спохватившись, что в рассеянности оказались центром внимания, десантники остановились.
— Милости прошу к нашему шалашу! — с театральным поклоном пригласил их Филипп Андреевич.
Ухарь шоркнул пальцем под носом, дав при этом какую-то команду, Рэкс украдкой пощупал штаны, и они поднялись на балкон, на ходу застегивая ремни и надевая пилотки. Большие и ясные глаза Ухаря смущала тревога. Едва заметным кивком спросив меня, мол, что известно начальству, и увидев в ответ приставленный мимолетом ко рту палец, он успокоенно сунул в зубы травинку и шепеляво-безмятежно сказал:
— Здрасте!
— Ну вот! — разочарованно вздохнул Давлет. — Я расхваливал их, расписал, как богов, а они!.. Один с кошкой пришел, второй сено ест, а третий ползет почти на карачках! — Олег выплюнул травинку. — Что ж, знакомьтесь: Олег Лалаев, по прозвищу Ухарь, — командир десанта, а это два его помощника — Женя Рэкс и Митя Оспин, сердитый, как сирдар. Кстати, у него тоже нет прозвища.
— По-моему, уже есть, — сказал Алька-художник.
— Какое это? — насторожился Митька.
— Сирдар.
— Сам ты сирдар!
— Сир-дар, — повторил Давлет. — А что, тут есть соль! Браво! Митя, записывай художника в крестные!
— Не буду я Сирдаром! — возмутился Митька. — Подумаешь, мимо уборной прошел и сразу — Сирдар!
— Причем тут уборная? Сирдар — это английский наместник в Египте! Шишка! — пояснил Филипп Андреевич.
— Не буду!
— А то хуже придумаем!
— Все равно не буду!
— Будешь! — заверил Димка.
— А ты, Баба-Яга, не суйся, куда не просят, а то сунешься! — пригрозил битый не битому.— И вообще прозвища ни к чему! В школе с ними борются, вы придумываете: Сирдар, Ухарь, Баба-Яга! — вдруг обрушился он на Давлета, глазами прося поддержки у Рэкса, Олега и даже у Димки — мол, сплотимся против общего врага, но никто и не подумал сплачиваться.
— Что-то я не замечал в школах особой борьбы с прозвищами, — спокойно возразил Филипп Андреевич. — А вот с чем школа действительно борется, так это с куревом! А ты?.. Провонял, как пепельница! За девчонками, небось, уже бегаешь, а с тобой рядом стоять тошно — несет, как из мусоропровода! Окурки съедаешь, что ли? Куряки несчастные! — выругался Давлет, негодующе оглядывая и остальных десантников, даже меня с Димкой. — Дайте вот лагерь запустить — я вам устрою варфоломеевскую ночь! Карболкой буду посыпать! Уксусом опрыскивать!.. Моралист! — насел он опять на Митьку. — Прежде чем другим читать мораль, прочти ее своим прокуренным потрохам! И раз я даю вам прозвища, значит, так надо для пользы лагеря! Ясно, Сирдар?.. Все у меня будете с прозвищами! Изобретайте и мне, спасибо скажу, за хорошее, конечно. Ну, ладно! Что с ногой? — миролюбиво закончил Давлет.
— Запнулся,— покорно ответил Митька-Сирдар.
— Вы случайно не друг о друга запнулись! — сводя нас глазами, спросил Филипп Андреевич. — Или это саботаж? Ринчин, как строевая?
— По часам, — ответил физрук.
— С такими-то ногами?
— Были целые! — удивился Ринчин.
— До свадьбы заживет! — заверил Димка.
— Мне чтобы до завтра зажило, ясно! Чтоб завтра вы мне орлами были, а не божьими коровками! — пристрожился Давлет. — Егор Семеныч, баян завезли?
— Завезли.
— Выдай его мичману Чижу.
— Можно. Даже с удовольствием, — сказал завхоз, обрадованный, что и ему в этом оживлении досталась роль. — Завезли — значит, выдам! — зафилософствовал он, доставая связку ключей. — Мне завези фортепьян — выдам фортепьян!
— Первый баянист! Обрастаем кадрами! — возликовал Филипп Андреевич, больше всего, казалось, любивший обрастать кадрами. — Сейчас посмотрим, как десант не под ать-два, а под музыку марширует! Всем — на верхнюю палубу! Оценим, какие они юнги! — Я испугался, что Давлет тут и проконсультируется с шефами, а те, конечно, с удовольствием провалят нас, добавив к нашим грехам и то, что мы наябедничали про их курево, гори оно синим огнем, но Филипп Андреевич подался ко мне и тихонько сказал: — Да, Сема, там батя твой прикатил, с гостинцами. Сбегай-ка!
— Батя? Ура-а!
— На свидание — десять минут!
— Есть! Димка, жмем! Алик, айда с нами! — вдруг пригласил я новичка, который мне чем-то понравился
— может быть, тем, что был нам почти ровня, а может быть, тем, что не мне дал с ходу прозвище, а Митьке.
Он чуть подумал, откачнулся от перил и пошел. Шаг за шагом мы набрали скорость и с балкона в другой от склада стороне уже сбегали так, что гремел весь хозкорпус.
На краю плаца, возле ГКП, разгрузили продолговатые щиты из свежих сосновых досок, над которыми пьяно и бессмысленно дергались бабочки, клубилась мошкара и, пожирая их, порхали трясогузки, думая наверно, что это для них открыли столовую. Тут работали двое плотников: один этими щитами устилал балкон, а второй доколачивал перила лестницы. На вопрос, где папа, они мотнули головами к заливу, и мы нырнули в кусты.
У дебаркадера, на плаву, папа в броднях собирал длинный плот, багром подтягивая к себе бревна.
— Папа!
— А-а, шилобрейцы!
Он перебрался на берег, и мы обнялись.
Я сказал, что у нас с Димкой все в порядке, он — что дома все в порядке, что была у нас тетя Ира и прислала целую кастрюлю пирожков с печенкой, да мама еще кое-что сообразила, так что мы можем недурно подзаправиться,— и достал из кустов угощение-Мы принялись за него тут же, на травянистом обрывчике, а папа, сказав, что сегодня они работают в «Ермаке» последний день, а успеть надо многое, перебрался опять на плот.
— М-м, а-а! — крякал Димка, жуя одну половинку пирожка и нюхая другую. — Наши с Федей любимые!.. Наверно, Федя был в увольнении, раз мамка стряпала.
— И на папу угодила!
— Они чуят!.. Альк, ты бери, не стесняйся! Мы уже по третьему, а ты с одним возишься!
— Спасибо! — Алик взял второй.
— А как это ты художник, как это? — спросил Димка, вглядываясь в лицо Алика с придирчивой тщательностью.
— Я не художник. Филипп Андреевич шутит, — сказал Алька, поперхнувшись и получив от Димки хлопок по спине. — Спасибо!.. Он вообще великий хохмач, Филипп Андреевич. Сроду я не слыхивал никаких прозвищ, а тут на тебе — Берта-у-мольберта вдруг! Прямо на глазах придумал!
— По-моему, он тебе не одно прозвище дал, а полдесятка, да, Димк? — заметил я.
— Одно. Остальные художники.
— Художники?
— Да. Отец у меня художник. Он обещал Филиппу Андреевичу помочь с оформлением, ко слег — сердце. Вот я за него и приехал. А папа отлежится — возьмется сам.
— Ну, раз за него — значит, умеешь, — сказал я.
— Кое-что.
— Хм, — уважительно хмыкнул Димка, теперь уже из ума я рубаху Алика и джинсы.— И ать-два с нами не будешь?
— Нет.
— И неохота?
— Нет.
— А нам с Семкой только подавай, да, Сем?
— Э, парни, время! — вспомнил я.
Мы нашли в сумке несколько бутылок кваса — это уже мамина продукция! — выпили одну втроем, убрали хозяйство в кусты и припустили к камбузу, где как раз в это время баян грянул песенку-марш «Антошка». У крайнего кубрика мы с Димкой взяли шаг и четко вышли на дорогу, прямо на Филиппа Андреевича, который от удивления скособочил рот и замер.
Давлет с мичманами пробыли в лагере часа два. Я все ждал, что Филипп Андреевич вот-вот скажет нам те торжественные слова, от которых зависела наша с Димкой судьба — ведь дальше откладывать некуда, завтра открытие. Он говорил много, как всегда, но о нас — ни слова. Морячки искупались, попили чайку и уехали, а мы остались со своими десантными заботами. У меня была надежда, что Давлет все же перемолвился насчет нас с Ухарем, но спрашивать об этом Олега после стычки в «курилке» я не решался — мы не столько разговаривали друг с другом, сколько огрызались.
А дело шло.
К вечеру мы выполнили третье задание: расставили в кубриках кровати. Сто двадцать штук! Сто двадцать сеток и двести сорок спинок! Таскали мы их из тира, из длинного полутемного чулана под хозяйственным корпусом: Рэкс с Ухарем — сетки, мы с Димкой — спинки. Ринчин и папа, задержавшийся на субботу, собирали их, так стуча молотками, будто не собирали, а делали заново, потому что ушки с дырками не совпадали. Митьке, который не мог ступить на распухшую ногу, поручили испытывать крепость собранных кроватей, и он радостно заваливался на сетки и качался. Мы с Димкой долго маялись со спинками, пока не нашли, что самый удобный способ — это носить их на спине. Присядешь, навалишь ее на горбушку, подхватишь за нижнюю поперечину и, полусогнутый, — полный вперед! Тебя несет самого, только не дай бог запнуться о корень или нога за ногу — так и пришибет. Дуга и без того тюкала по затылку при неловких шагах, правда, не сильно, но если из пятидесяти шагов каждый второй неловкий, а дуг — за сотню, то тогда впору и черепу размягчиться.
Ужинали на берегу, у костра. Костер сгущал начинавшиеся сумерки и так усиливал мою усталость, что я казался себе сосудом, наполненным, как жидкостью, этой самой усталостью. Алька, полдня бродивший по урезу, насобирал целый рюкзак замысловатых коряжек и тщательно сортировал их, одни откладывая в сторонку, другие бросая в огонь. Пацаны разглядывали его находки, гмыкали и шумно швыркали чаем. Мне тоже хотелось поразглядывать, но не было сил подняться. Еда, покой и жаркое пламя совсем доконали меня. Припав плечом к отцу, я тихонько спросил:
— Пап, пап, а Филипп Андреевич ничего тебе не говорил?
— О чем?
— О нас с Димкой.
— А что можно о вас говорить? — не понял папа.
— Ну, примет он нас в лагерь или нет?
— Не говорил. А разве он вас еще не принял?
— В том-то и дело, что нет! — плаксиво буркнул я. — А сам ты не спрашивал?
— Вы мне не поручали.
— Мог бы догадаться!
— Ну, здрасте!
С трудом добравшись до кровати, я лег, не раздеваясь. Лег на живот и какое-то время тупо, с непонятной тоской смотрел через распахнутое окно с низким подоконником на рыжий костер, на шевелящиеся около него фигуры, на темную воду за ними, на лес, черным клином уходящий к мысу, где еще светлело небо, с одиноким облаком, пронзенным свежим серебристым следом реактивного самолета, — как шашлык, подумал я, и все пропало...
11
Эта же картина после какой-то сложной и утомительной борьбы выявилась опять, но уже во сне. Уже без небесного шашлыка, без сумерек и без костра. День. Яркий, сверкающий день! Я один. Я радостной припрыжкой спускаюсь к заливу купаться. Вот и «Крокодил»! Хочу разбежаться по нему и нырнуть щучкой, но что-то удерживает мой порыв. Настороженный, я несмело шагаю в воду, и вода вдруг отступает от меня. Я делаю еще шаг — она дальше, я быстрее — она быстрее, вот я бегу, и весь залив, сжимаясь и оседая, стремительно убывает, оставляя на вязком дне пляшущую рыбу, которая намыленно выскальзывает из-под моих ног. Я с ужасом останавливаюсь и оглядываюсь на лагерь, а лагеря-то и нет...
От страха я проснулся.
Было уже светло. Папа не раздел меня, а лишь снял ботинки да накрыл одеялом. Я сел и повернулся к окну — тут ли залив. Все было на месте: и залив, и дебаркадер, и подтопленная лиственница, и «Крокодил». У лиственницы даже появилось лишнее — плотик с рыбаком в тельняшке. Я подумал, что это, наверно, Алька обновляет форму, но увидел, что кровать Ухаря пуста — значит, он. А художник, небось, хыр-хором обновляет свою мастерскую.
Я было прилег опять, но тут же сел — мне вдруг почудился особый смысл в том, что мое раннее пробуждение совпало с рыбалкой Ухаря, который до этого не рыбачил по утрам. Минута — и я был на берегу. Олег заметил меня и сделал губами «чш-ш», таинственно указывая на воду. Я осторожно прошел к морде «Крокодила», опустился на его холодный шишкастый лоб и сразу задрожал.
— Ак! — выдохнул Ухарь, дернул короткое удилище, перехватил леску руками и давай выматывать ее — на крючке оказался маленький окунишка. — У, сопляк, шпана, двоечник! — напустился на него рыбак. — А клевал как порядочный! Веди отца! — сказал он окуньку и через плечо швырнул его в воду.
— А вообще поймал? — поинтересовался я.
— Есть маленько.
— Сколько?
Олег не ответил, поправил червяка, закинул удочку снова, покосился на солнце и, зевнув так, что от плотика пошли волны, устало спросил:
— А ты чего рано?
— Сон увидел, страшный.
— Еще снов боимся?
— Как будто наш залив сел.
— Чего же тут страшного? Дадут вон на плотине хороший сброс — и пожалуйста, сядет! Помнишь, в прошлом году киношники приезжали водослив снимать? Им как подняли затворы да как пустили воду — мигом все заливы сели!
— А тут без плотины сел — от меня! Я хотел искупаться, а он, как живой, — фьють — и сел! Хорошо еще, что я потихоньку входил! А если бы с разбегу да щучкой, как положено, — так бы головой в грязь и воткнулся! — горячо и даже с некоторой обидой возмутился я и, видя, что Олег не протестует, охотно продолжил: — Во сне, конечно, всякое может быть, но у меня и наяву с этим заливом получается какая-то чертовщина! Посмотри-ка под воду на эту листвяшку! Там на ней черное кольцо!
— Ну!
— Нет, ты посмотри!
Ухарь наклонился и, приглядевшись, хмыкнул:
— Хм, правда!
— Это я там зимой костер жег. Не под водой, конечно, а на льду. Лед низко был. Вот я на нем и развел костер, вокруг листвяшки, чтобы ярче. Поздно уже было, темно. Я один на всю эту тайгу. Папку жду. И вот когда разгорелось, загудело, застреляло, вдруг слышу — треск на берегу! — Олег, слушавший рассеянно, уставился на меня. Я перевел дух. — Помнишь, ты спрашивал, есть ли тут звери, а я сказал, что есть?
— Ну.
— Вот тогда-то он как раз и попер на меня! Вон из тех кустов! — указал я, привставая.
Ухарь с минуту изучал противоположную сторону бухточки, сплошь забитую зеленью, потом снова покосился на обгорелое кольцо в глубине, шевельнул плечами и заметил:
— Тайга!.. А ты его видел?
— Почти. Он бы вот-вот на лед выскочил, да я драпанул. С дебаркадера, правда, оглянулся — никого. А треск стоит — жуть! Обратно, видно, подался. Не на огонь же ему кидаться, раз я удрапал! Умный зверюга!
— Н-да-а! — протянул Олег, прикидывая расстояние до опасного берега. — Значит, он и летом где-то тут отирается. Особенно ночами. И утрами! Ведь он, подлец, мастак плавать! Для него наш залив — лужа! Все, клев кончился! — заключил он неожиданно, быстро выбрал леску, отвязался и погреб доской ко мне, то и дело оглядываясь, но вдруг резко тормознул, так что плот стало разворачивать, и воскликнул: — Семка! А этот-то ушел, Берта-у-мольберта!
— Куда ушел?
— По берегу! — Ухарь махнул рукой на мыс. — Встал вместе со мной, опять взял рюкзак и потопал. Коряжек, говорит, там — пропасть. Покажет ему мишка коряжки!
Какое-то время мы размышляли.
— Да ничего, поди, — кашлянув, сказал я. — Он и не знает про мишку, значит, не боится. А раз не боится — не встретит. Да и вчера ходил! Да и мы с Димкой тут все облазили! — успокаивал я себя и Олега, шаря однако глазами по зарослям.
— Дались ему эти коряжки!
— Так художник ведь!
Ухарь что-то пробурчал и погнал развернувшийся на триста шестьдесят градусов плот к «Крокодилу». Я принял конец и закрепил его за подводный сучок. Коротко хохотнув, Олег кивнул на дебаркадер и как бы по секрету спросил:
— Ты-то спасся, а штаны твои как?
— В порядке! А вот будь я дядькой, я бы, наверно, поседел — волосы аж под шапкой шевелились!
— Еще бы!
Он отыскал крючок, сорвал побледневшего червяка и принялся аккуратно сматывать леску на рогульку. Я же, все еще поеживаясь, запальчиво продолжил:
— А за день до зверя из проруби вода хлынула. Наружу! Тоже кино было! Плотники как раз обедали на дебаркадере. Кто-то вышел да как заорет! Мы — на палубу! А из проруби хлещет! Бежит по нашим дорожкам, как по каналам! Кто богу верит, тот помер бы — конец, мол, света! Даже мужики сперва всполошились, а потом раскусили — это, говорят, на ГЭС воду придержали, вот она и поднялась. Где простор, там и лед поднялся с нею, а тут тесно, лед припаялся к берегу — и никак. Вода и пошла верхом!
— Правильно, — кивнул Ухарь.
— Хитрый — правильно! Это сейчас правильно, а тогда — черт его знает! Или будь я один? Э-э, брат! — важно пропел я. — А за день опять же до этого, в первое наше утро на дебаркадере, папа решил порыбачить. Он не любитель, а так для пробы, для разведки. Ну это, пробурил дыру, спустил блесенку с красным поролончиком и сидит, подергивает. Я еще сплю. Вдруг — «Семка», зовет! Прибегаю, а он глаза выпучил, леску внатяг держит, загляни, говорит, в лунку. Я заглянул и обмер! В самом низу, подо льдом, — рыбья морда, вот такая. В лунку не лезет! Мамочка! А тут машина с плотниками приехала. Все обступили нас, ахают и матерятся от радости! А что делать-то? Вырубать? Так лед почти метровый! Все равно — вырубать! Из такой рыбины на всю бригаду ухи хватит! И давай они попеременки ломом ухать! Наполовину уже заглубились, и тут дядя Осип не рассчитал и — тюк! — по леске! Папа так и сел с обрубышем! Ох, мужики и напали на дядю Осипа! Ох, и насели! Бракодел, кричат! Расширяй, кричат, дыру — сунем его под лед! Еле-еле унялись!
— Н-да, житуха у тебя тут была!
Мы помолчали.
Я думал, какой бы еще историей, именно о заливе, заинтересовать Олега, но ничего путного больше не приходило в голову. Правда, можно было рассказать, как однажды к будке плотников присоединился газик из телестудии, который при въезде в наш залив свернул вправо, к леспромхозу, и где-то там у берега угодил в полынью; телевизионщики выскочили, а шофер с машиной утонули. Хоть это и касалось залива, но я тут был ни при чем, к тому же Олег и без меня мог слышать про этот случай. Или можно было бы припомнить, как ночами пушечно трескался лед и каким громом отзывался даже на отдаленный треск пустой, как барабан, дебаркадер, а если трещина проскакивала рядом или, не дай бог, попадала в сам дебаркадер, то он прямо взрывался и разламывался вроде на куски — проснешься и ждешь, что нары под тобой вот-вот накренятся, и ты провалишься в тар-тарары. Можно было бы добавить про вой сирены с ретранслятора, но она выла и сейчас, без той, конечно, волчьей тоски и жути, что зимой, в студеном и безмолвном мире. Однако это уже не события, а лишь обстановка той трех дневной, но такой, казалось теперь, долгой жизни тут с папой.
Солнце поднялось выше, и тепло стало явно перебарывать прохладу. Дрожь моя незаметно унялась, стало даже душновато в робе. Я снял верхонку и остался, как Олег, в тельняшке. Но это приятное родство тотчас напомнило мне, что оно не законно, потому что я еще не юнга, и я тревожно уставился на Олега. Он спрятал рогульку в карман, метнул удилище к лиственнице и хлопнул себя по коленям, как бы подытоживая свои дела.
— Выходит, ты уже давненько служишь в «Ермаке», — проговорил он, поднимаясь.
— С марта. А сегодня все может кончиться.
— Почему?
— А потому, что Филипп Андреевич молчит, вы молчите, а сегодня открытие! — прискорбно-обиженно пояснил я. — Может, он с вами советовался?
— Пока нет.
— Пока! А где «потом»? Нету «потома»!
— Должен посоветоваться, по идее-то.
— И что вы скажете? — прямо спросил я.
— Конечно — за!
Ожидая от Ухаря если не уверток и отнекиваний, то хотя бы раздумий, я не сразу осознал его быстрый и уверенный ответ, а когда осознал, то плясать и горланить от радости было уже поздно, поэтому я нахмурился и буркнул:
— Как жэ «за», когда большинство против? Вчера же голосовали! И Сирдар с Рэксом...
— Сема,— ласково перебил меня Ухарь,— у нас своя демократия! Понимаешь? Своя! У нас большинство — это я! А я — за! И кончай волноваться! Давай-ка лучше... — Он скрутил с гвоздя в бревне проволоку и вытянул из воды увесистый кукан с десятком крупных окуней, которые сразу зашлепали друг друга хвостами, сверкая на солнце зелено-красно-белым, словно какая-то волшебная игрушка. — О, бурбончики! Давай-ка лучше займемся ухой! Народ встанет, а у нас ушица! Сюрприз!
— Давай!
— Жаль, что Баба-Яга спит! Он бы живо!
— Сами с усами!
После вчерашнего ужина у костра остались грязные чашки, кружки, ложки, закопченое ведро, пачка соли — все это стояло в ряд на двух бревнах, словно мишени в специальном тире для поваров, если таковой вообразить. Тут же лежал рюкзак с картошкой и консервами. Унесли только хлеб и масло, не надеясь на порядочность бурундуков и прочих лесных блюдолизов.
Мы с Олегом договорились так: я мою ведро и чищу картошку, он потрошит окуней, а с костром займется первый освободившийся. У меня так и замелькало, так и заиграло все в руках! Только сейчас во мне очнулась оглоушенная было радость, а многодневная, уже надоевшая озабоченность куда-то отступила. Я прямо летал по берегу вместе с трясогузками и, может быть, даже чвиркал! И конечно, освободился первым! Сложить костер у нас — раз плюнуть! На осеннем урезе моря бесконечно тянулся по берегу, то и дело теряясь в бревнах, рыхлый полуметровый вал сухого древесного крошева. Сучки, щепки, кора, берестяные кольца, обломки досок, огрызки головешек — все это, перетертое, обкатанное, промытое морем и прожаренное солнцем, было именно для костра, хоть сыпь в коробки, пиши «костровый набор» и продавай, как продают в магазинах «суповой набор» из мяса, костей и чего-то, кажется, несъедобного. А тут — сплошь «съедобное»! Раскинь только руки пошире да гребани помощней, чтобы образовался ворох, — вот и костер! Но сейчас это простенькое крошево меня не устраивало. Хотелось каких-то праздничных дров! Не щадя босых ног, я пробрался к завалу старых деревьев, метрах в двадцати, выбрал здоровую сосну и наломал с нее беремя извилистых звонких веток, полопавшихся от жажды гореть.
— Один ушел, стервец! — весело и почти одобрительно сообщил Ухарь, неся тот же кукан, но уже выпотрошенных окуней, которые как-то потеряли вид новогодней игрушки, тем более волшебной, хотя вроде так же блестели и даже дергались. — Ого! — поразился он, увидев, что все готово: и костер, и ведро над ним. — Ну, Семен! Ну, молния!
Я просиял.
Вынув из кармана полсигаретки, Олег стрельнул глазами на хозкорпус, закурил и, опустившись на корточки, этой же спичкой поджег бересту. Я присел рядом. Мне хотелось еще поговорить с ним, о чем угодно чувствуя наперед, что ерунды и глупости он не скажет, но не зная, с чего и как начать, я стал следить за огнем костра. Он разрастался, от него с обезьянье ловкостью скакали вверх по сучочкам маленькие огоньки и обессиленно гасли, а он все разбухал, уползал вглубь, ворочаясь там и потрескивая, и вот уж дым просочился с другой стороны, вот от жара свернулась и отпала прилипшая к ведру травинка... И я опять вспомнил март и залив, и двух примчавшихся на мотоциклах по нашей дороге рыбаков, которые варил уху без костра и дров, вдали от берега. Я как раз по просьбе папы добрался до них узнать про клев и прямо остолбенел, увидев на расчищенном от снега льду черный котелок и бьющую ему пламенем в бок паяльную лампу, наполовину заглубленную в лед, чтобы снизить пламя. Странными были и однобоко кипящая вода с мелькающей картошкой, и отсутствие дыма, без которого огонь казался каким-то сухим и безжалостным, и болезненно-белесое пятно на котелке, куда било пламя, — я даже ощутил страдания котелка от непривычного обращения с ним, — и с полдесятка окуней, торчавших головами вверх из снега вокруг при ямка и готовых, чудилось, самостоятельно сигануть кипяток по чьей-то команде, и главное, что поразил меня, это малость, крохотность всей этой кухни и ее чистота, тогда как приготовление еды требует многого и оставляет много мусора. А рыбаки преспокойнехонько сидели себе в шубах чуть в сторонке и подергивали над лунками свои коротенькие удочки... Я пожалел, что не вспомнил об этом пораньше, а сейчас возвращаться к своим зимним переживаниям было уже поздно. Но мне все сильнее, словно я разгорался вместе с костром, хотелось заговорить с Олегом, и вот когда первый огненный язык лизнул ведро, я вдруг выпалил :
— А мы вас в первый день за жуликов приняли!
— За жуликов?—переспросил он, усмехнувшись.— За кого только нас не принимают! И правильно! Вон Берту-у-мольберта не приняли, небось, за жулика, потому что он — уже художник. А когда сам не знаешь, кто ты, другие — тем более!
Олег умолк и затянулся.
— А курить вредно, — заметил я.
— Жить вообще вредно.
— Как это?
— А так. Можно умереть.
— Хм, — хмыкнул я, ничего не поняв, и тема на этом бы исчерпалась, потому что я не собирался всерьез говорить о куреве, но тут мне припомнилось вчерашнее. — Олег, ты не думай, мы ведь — ни-ни Давлету, что вы курите!
— А я и не думаю.
— Чего ж ты тогда сердился на нас?
— На вас? Ни капельки. Если сердился, то не на вас. Да я и не сердился, а думал, — проговорил он, отодвигаясь от жара и прислоняясь спиной к бревну. — Я и сейчас думаю. У меня свои проблемы. Например, уйти из лагеря или нет?
— Как это? — опять не понял я.
— А вот так. Мы ведь с тобой, Сема, в одинаковом положении — оба не юнги, хоть и оба в тельняшках. Да, да, не удивляйся! Ты не юнга, потому что хочешь, но не можешь, а я — потому что могу, но не хочу. Я же сюда на время зарулил — помочь, присмотреться. Помог, присмотрелся. В целом нравится. Но вот вчера Давлет сказал, что, к сожалению, здесь нынче будет много мелкоты, пацанья. Посолидней вас, конечно, но все равно — возня будет, а не служба. В общем-то я ничего не имею против вашего брата, — Олег тряхнул мое плечо, — у меня самого дома две таких сестренки, как вы! Но последнее вольное лето хочется провести без возни, понимаешь?.. Вот я и думаю: не драпануть ли, как ты от зверя?
— Нет, Олег, оставайся! — протянул я.
— Хочешь?
— Хочу!
— Хм! А вот Рэкс не хочет!
— Ну и пусть уматывает!
— Э, нет, брат! Между друзей так не делается!
— Какие же вы друзья! — воскликнул я. — Рэкс вон Сирдару булки не дал, когда мы плыли голодные на плоту! Ты вчера Рэкса на костер посадил! А завтра Сирдар тебе свинью какую-нибудь подложит! — высказал я мысль, уже не раз приходившую мне на ум.
С прищуром посмотрев на меня сквозь медленно выпускаемый изо рта вверх дым и мельком покосившись на балкон хозкорпуса, Ухарь тихо и как-то неохотно произнес:
— Ну, уж раз ты это заметил и понял, то признаюсь, что дружба наша того, конечно, с душком! А что делать? Другой у меня просто нету, не получилось!
— Не дружить совсем!
— Нельзя! Совсем одному плохо. А тут какой ни на есть, а друг. Рэкс умный парень. Он, кстати, учится лучше, чем я. Но какой-то черт сидит в нем непонятный! А Митька — это так, сбоку-припеку! И вообще, Сема, все тут сложно. Дружба — это дважды два не четыре, а пять или шесть!
— Как это?
— А вот так!
— Дважды два всегда четыре!
— Но не в человеческих отношениях!.. Ты вот, например, дружишь с Бабой-Ягой, да?
— Да!
— И что у вас, все в порядке?
— Все!
— Ой ли? — усомнился Олег.
— Конечно, все!
— А хочешь, я укажу на трещину между вами, а? Со стороны ее видно невооруженным глазом!.. Хотя чур — молчу! Если подумаешь — сам найдешь. Маленькую — да найдешь! — заверил Олег и, увидев, что я сразу нахмурился, добавил: — Правда, маленькая — еще не опасно! Сквозь маленькую трещину большая дружба не вытечет! Но надо следить, чтобы она не расширялась.
Уставившись в костер, я задумался. Я захотел тут же обнаружить между собой и Димкой эти самые трещинки, но как пламя металось и дергалось, образуя летучие темноватые прорехи, так и в нашей с Димкой дружбе все было живым и подвижным, а если и мелькало, что-то темноватое, то почти неуловимо.
— Мяу! — раздалось вдруг.
И возле меня оказалась Шкилдесса. Вздыбив хвост л выгнув спину, она ныряющим движением торкнулась мордочкой о мою ногу, с прижимом прошлась всем телом, повернулась, чтобы повторить ласку, но вдруг замерла, запринюхивалась, засуетилась и замяукала, не зная, куда и на кого смотреть.
— Рыбу учуяла! — сказал я.
— Что ж, угостим! — Пустив последний дым под ноги, Ухарь бросил окурок в огонь, встал и заглянул в ведро. — Кипит!.. Ну, кыса, иди сюда! — Он отрезал хвостовую часть окуня, дал кошке нюхнуть, растравливая ее, и поднял угощение, но не успел поднять до куда хотел — Шкилдесса молниеносно взвилась, ударом лапы выбила хвост из его руки, цапнула и с урчанием скрылась за бревном. — Чистая работа!.. Ну, спускаем! — сказал Ухарь, беря кукан. — Раз кошка встала, значит, и наши вот-вот проснутся. Надо, чтобы уха ждала их, а не они уху — вот тогда будет настоящий сюрприз!
— Давай! — обрадовался я, уже чувствуя голод.— Только ты не уходи из лагеря, ладно?
— Хм! — ответил Олег.
12
Флагшток нужно было поставить к двенадцати часам, к моменту прибытия теплохода с юнгами. Прикинув, что времени хватит, мы без особой спешки, разминая еще от вчерашнего понывавшие кости, взялись за дело: Рэкс, Димка и я отправились в лес с топорами, а Ухарь принялся копать яму в конце плаца, перед палатками. Охромевшего Сирдара оставили мыть посуду и прибираться в каюте. Папа ушел доколачивать мостики.
Перебрав с десяток сосенок, мы наткнулись, наконец, на тоненькую, прямую, высотой метров шесть-семь, свалили ее и старательно ошкурили. Рэкс покрикивал на нас, но по делу, а не нагло-задиристо, как обычно, — или опасался своего одиночества, или понял, что мы не из податливых. Вроде и недолго возились с лесиной, но на плац принесли ее уже в двенадцатом часу. Заглубившись по пояс, в клетчатых плавках, весь потный и чумазый, Ухарь ругнул нас за проволочку, вылез, опрокинул на себя приготовленное для этого ведро воды и велел Рэксу доуглубить яму еще штыка на полтора.
В лесу было прохладно, но ели комары, а тут комаров было меньше, но стояла такая духотища, что мы сразу скинули робы, сбегали к заливу с ведрами и раза по два окатили друг друга. А Ухарь тем временем привязал к вершине сосенки вымпел — узенький длинный флажок с синей полоской внизу.
Рэкс с ленивой гримасой сполз в яму, а мы, отдыхая и загорая, расселись вокруг на разбросанном суглинке, словно зрители. Но едва землекоп ударил лопатой плотный грунт, в тесноте чуть не заехав себе по ноге и поэтому ойкнув, как из кустов, от моря, выбрался запыхавшийся и взмыленный Алька.
— Там! — выдохнул он, тараща глаза и рукой показывая назад, за мыс и за лес, неузнаваемо странный в темно-синей робе после красной рубахи и желтых джинсов, в которых он, казалось, и глаза-то не умел выпучивать. — Там!..
Я вздрогнул.
— Медведь?
— Нет! — он мотнул головой, давясь от нехватки воздуха. — Корабль!.. Теплоход!..
— Теплоход? — удивился Ухарь.
— Да!.. Я как увидел его из соседнего залива... так бросил рюкзак с коряжками... и сюда — может, у вас что не доделано, — пояснил Алька, растирая грудь.
— Может, не наш, — заметил Рэкс. — Нашему рано.
— С музыкой!
— Тут все с музыкой, — ввернул Димка. — Буксиры вон плоты таскают и тоже с музыкой.
— Большой! — Не в силах толком возразить, Алька только помотал головой. — Очень большой! И белый!.. И с ним еще какие-то.. Минут через десять будут тут!
— Значит, он! — заключил Ухарь и вскочил. — Рэкс, вылазь! Живо ставим! Баба-Яга, бегом к Ринчину на склад, доложи! Подъем, десант! Сирдар, и ты берись!
Видя, что весть его подействовала и что не зря, выходит, он продирался сквозь тайгу, Алька ослаблению упал к ведру на колени и ухнул в воду голову по уши. Какие-то секунды он блаженно охлаждался, потом шумно выхватил голову из ведра и, отфыркиваясь, принялся помогать нам.
Навесив комель над ямой, мы стали приподнимать сосенку, сперва — за макушку, потом — перебирая руками ниже, и лесина, зацепившись за край ямы, за диралась все круче и, наконец, скользнув по стенке, встала на дно и выпрямилась. Упершись с двух сторон, мы с Алькой удерживали ее вертикально, Ухарь забрасывал землей, а Рэкс трамбовал пятками; они действовали без перерыва, так что земля сыпалась прямо на ноги Рэкса, а он, приплясывая, поднимался все выше и выше.
Когда примчался Ринчин, флагшток был готов. Качнув его и недовольно щелкнув языком, Ринчин сам запрыгал, уплотняя грунт. И тут из-за мыса донеслась музыка. Это не был «Арлекино», гремевший со всех катеришек и буксиров, это был марш!
— Одеваться! — крикнул Ринчин.
И под эту команду из-за темной зелени мыса жужжа вылетел беленький катерок Григория Ивановича, почти скрытый за пеной и брызгами, которые сам и поднимал, а потом появился огромный белоснежный теплоход, без пены, брызг и суеты, даже двигателей его не было слышно, только музыка гремела там, словно она-то и служила ему каким-то волшебным двигателем. Катерок казался всего лишь стружкой с этого теплохода.
Описывая размашистую дугу, суда направились к «Ермаку». Григорий Иванович уверенно целил на плац.
— Живей! — подхлестнул Ринчин. — В цепочку!
Мы разбежались по заранее намеченным местам между плацем и урезом воды: Димка внизу, а Ухарь наверху — тот же строй, только разреженный, метра по четыре друг от друга. Мы как бы играли роль почетного забора, вернее, почетных столбов, вдоль которых предстояло пройти свежеиспеченным юнгам, чтобы они сразу же ощутили особый привкус тутошней жизни. Вон они, салаги, чернеют, как мошкара, по бортам теплохода! И чем торжественнее разворачивалось зрелище, тем обиднее становилось мне. Эти пацаны, еще не ступившие на твердь «Ермака», — уже юнги; а я, уже, можно сказать, понюхавший пороху и начавший свою службу в лагере, как правильно заметил Олег, три месяца назад, — еще не юнга! Это же смешно, глупо и нечестно! И даже можно жаловаться!..
Нанесенные два дня назад бревна так и остались у нашего берега и только сами собой расплылись по заливчику, испещрив его беспорядочными черточками, словно тут прошел великан и рассыпал свои великаньи спички. Катерок, зная, чем кончаются неосторожные стычки с бревнами, погасил скорость и пошел тихонько, не подминая бревна, а расталкивая их. Не доходя до берега, он свернул к дебаркадеру, давая место теплоходу, и тот плавно остановился метрах в пяти от уреза, чуть наползя на глинистое дно и взбаламутив воду. Подали трап. Первым спорхнул с него долговязый фотограф с двумя аппаратами. Примостив один из них к носу, он попятился и замер, больно наступив мне на ногу.
— Дядя! — просипел я.
— Ой, мальчик, то есть, юнга, извини! — пролепетал он, улыбаясь и гладя меня по плечу, как будто наступил на плечо, а не на ногу. — Таня, Маня, Лизавета — вот тебе за это!
Он щелкнул в меня аппаратом, дернув губами в какой-то мгновенной, фотографической улыбке, попятился дальше, к Митьке, наводя резкость на трап, с которого легко, не держась за поручни, сбегал Филипп Андреевич, в кителе и в морской фуражке, весь потный и красный, весь довольный и встревоженный. В руке у него был портфель, на плече — мегафон. Следом, цепляясь каблуками за поперечины, ойкая, дрожа и нервно посмеиваясь, скреблась полная тетенька. Давлет помог ей сойти на землю. За ними хлынули юнги.
— Смирно! — крикнул Ринчин.
Я выструнился.
Мне хотелось выглядеть молодцом и читать это в чужих глазах! И я прочел — во взглядах пацанов. Не зная, можно ли открыто глазеть на «почетных», они косились на нас украдкой, и тем четче я улавливал их любопытство и удивление. То-то!.. Чемоданы, сумки, сетки, рюкзаки — на плечах, спинах и в руках. Взъерошенные, пестро одетые, все нараспашку, что-то жующие и сосущие — отряд анархистов, и только. А с теплохода все наяривал и наяривал какой-то бравурный марш, под который никто и не думал шагать... Когда ребячий поток иссяк, замкнутый мичманами, мы, как было условлено, пристроились сзади и тоже поднялись на плац.
Филипп Андреевич стоял за откуда-то взявшимся у флагштока столом и раскладывал бумаги. Рядом — полная тетенька. На столе, в литровой стеклянной банке, полыхал букет жарков. У палаток сидели на траве папа со Шкилдессой на руках, Егор Семенович и Алька. Ринчин сновал туда-сюда, клином выстраивая растерянных новобранцев по краю плаца. Мичманы встали по правую сторону от стола, а наш рабочий десант — по левую.
Музыка на теплоходе оборвалась.
— Опустить вещи! — распорядился Ринчин. — Равняйсь!.. Смир-рно!.. Равнение на середину! — И взметнув руку к пилотке, физрук зашлепал к столу, разбрызгивая неукатанный гравий. — Товарищ начальник, личный состав военно-морского лагеря «Ермак» к формированию экипажей готов! Физрук Ринчин!
— Вольно!
— Вольно! — срикошетил Ринчин.
Стоявший у берега теплоход чем-то смущал меня, и лишь когда он убрал трап и, коротко просигналив, отчалил, я обрадованно понял чем — мне думалось, что он ждет меня с Димкой, чтобы везти нас домой, потому что лагерь заработал, и посторонним тут не место. Правда, нас можно в любой момент отправить машиной, как скорее всего и будет, но это не так позорно, как теплоходом. Походило бы на то, что учительница не просто тебя выставляет за дверь, а с почетом выносит на руках и там швыряет на пол.
Давлет поднял мегафон.
— Внимание!.. Кру-угом!.. Проститься с кораблем.— Все замахали, и с теплохода им дружно ответила платками и руками толпа родичей, которых не пустили на сушу. — Кру-угом!.. Все, вы отрезаны от дома!
С этого дня, с этого часа, с этой минуты для вас начинается новая, необычная, увлекательная и не-про-стая, — подчеркнул Филипп Андреевич, — жизнь, жизнь юного моряка, а в сущности, правильная мальчишеская жизнь! И ваш дом теперь — лагерь! Давайте познакомимся с ним. — Давлет вышел на середину плаца, представился сам, представил полную тетеньку— врача Татьяну Александровну, потом Ринчина, Егора Семеныча и мичманов, а потом рассказал о том, что в лагере есть и чем юнги будут заниматься. — А сейчас, перед тем, как разбиться на экипажи, сделаем поверку — не уплыл ли кто назад, увидев наш дикий берег! — заключил начальник, возвращаясь к столу и пододвигая к себе стопу желтеньких путевок.
Это была процедура затяжная и неинтересная. Некоторое время я следил за ней, а лотом появился исчезнувший было фотограф, и я переключился на него. Он стремительно, легко, с красивой поспешностью, как танцор, летал по плацу и щелкал, не стесняясь тыкать своим аппаратом почти в нос людям. Двух пацанов, стоявших рядом, очень высокого и очень маленького, он снял несколько раз: сверху, подняв аппарат над головой и не целясь, с колена и снизу, замысловато изогнувшись прижатым к земле деревом. Он даже попросил их подыграть ему и подсказал — как, но они, и без того смущенные, сконфузились окончательно, и фотограф, кажется, извинившись, пошел прочь, но шага через три резко повернулся к ним и — щелк! И разулыбавшись, неслышно поаплодировал кончиками пальцев.
Маленький толстячок привлек и мое внимание, и я шепнул:
— Димк, вон младше нас!
— Где?
— А вон! Видишь, сосна, а против нее — дылдас-тый с открытым ртом, а рядом...
— Ага. Думаешь, младше?
— Конечно. И ростом даже меньше тебя.
— Да?
— Смотри, он только до пояса дылде, а ты Ухарю почти до подмышек. А была бы у тебя шея, ты вообще был бы... — Димка задрал подбородок и почесал то, что у него было намеком на шею. — Массаж делай — может, вырастет.
— Меня повесить надо. Говорят, у повешенных шея вытягивается, — вздохнул Димка и кивнул на малыша. — Подожди, его еще могут не принять.
— Все, кто приехал, юнги уже. Их еще там, при посадке, проверили, — заверил я грустно.
— Вот чмырь! — позавидовал Димка.
— Лехтин! — раздалось вдруг.
— О, Димк, твой однофамилец!
— Ну-ка!
Филипп Андреевич, шевеля бровями, рассматривал строй, но никто не отзывался.
— Что, нету? — спросил Давлет. — Дима Лехтин!
— Я, — оторопело выговорил Димка.
— Нашелся! Слава богу! — обрадовался Филипп Андреевич, повернувшись к нам с некоторым удивлением, словно и не подозревал о соседстве нашего маленького строя. Я подтолкнул Димку, и он вышагнул. — Ты что, Дима, забыл свою фамилию?
— Нет, но я думал, кто-то другой.
— Кто же другой?.. А может, действительно другой? — усомнился вдруг Давлет и поднес путевку ближе к глазам. — Сейчас выясним. Год рождения — шестьдесят четвертый. Правильно?
— Правильно.
— Отец — Степан Фомич, сторож подстанции, мать — Ирина Федоровна, точковщица бетонного завода. Так?
— Так.
— Школа номер два, класс четвертый. Все совпадает?
— Все.
— А в чем дело? — строго спросил начальник.
— Так я...
— Встать в строй, Лехтин! Хотя стоп!
Димка поднял плечи до самой пилотки да так и застыл шалашиком. А меня вдруг пронзила острая уверенность, что следующая путевка — моя, потом-у что разделять нас с Димкой было бы преступлением! Как и откуда ей взяться — меня не интересовало, моя — и все! И если не моя, то я умру!
Не выпуская Димкиной путевки, Филипп Андреевич взял из стопки очередную и открыл ее.
— Полы...
— Я! — само собой вырвалось у меня, и я, вроде не двинув ногами, очутился рядом с Димкой.
— ...гин! — договорил Давлет и глянул на меня. — А ты не думаешь, что это другой Полыгин?
— Нет! Раз Лехтин этот, значит, и Полыгин этот!
— Четко! — одобрил Филипп Андреевич и обратился к остальным: — По возрасту Лехтин и Полыгин не подходят для службы в «Ермаке», но... Внимание!.. Сми-ирно!.. За особые заслуги перед лагерем, и в порядке исключения, Дима Лехтин и Сема Полыгин приказом номер один зачисляются в юнги!
— Служу Советскому Союзу! — отчеканил Димка, отдавая честь.
Я хотел ответить тем же, но внезапно в глаза, нос и горло мне ударили слезы, все затуманилось, я поперхнулся, опустил голову и стиснул зубы, чтобы не всхлипнуть, но слезы все-таки закапали на гравий, как я ни промаргивался.
— Встаньте на место!
Лишь минуты через две я продышался и осмелился поднять глаза. Перекличка продолжалась, и никто, к счастью, не пялился на меня. Вздохнув еще свободнее, я вытер лицо рукавом и радостно подтолкнул Димку локтем.
— Чуешь?
— Федю бы сюда! — шепнул он.
— Поздравляю! — тихо проговорил Ухарь, мимо Рэкса и Сирдара протягивая мне руку.
— Тебя тоже! — пожимая ее, смущенно ответил я, вспомнив, что Олега уже выкликали.
— Меня еще рано.
— А путевка-то!
— Она ничего не значит.
— Только вы нас и видели! — разрубая ладонью наши руки, заметил Рэкс. — Служить с такими локша-динами!
— Чего это? — вмешался Димка.
— Тихо, вы, салаги! — пристрожился Митька.
— Сам ты Сирдар-салага! — отпарировал Димка.
— А во! — выставил тот кулак.
— А во! — показал этот пряжку.
Угрозы их вдруг показались мне такими пустяковыми по сравнению с тем, что сейчас с нами произошло, что я решительно одернул сразу обоих петухов, тем более, что фотограф опять появился перед нашим строем, ища какой-то сногсшибательный сикурс-ракурс. Фотографируй, фотографируй, дядя, счастливых людей! Правда, полное счастье мое длилось не долго, потому что тут же я задумался — откуда взялись наши путевки? Не фокусник же Филипп Андреевич, и не колдун! Их же оформлять надо: давать сведения, платить... A-а, неожиданно догадался я, — это же папа! Вот почему он отсутствовал и вот откуда тети Ирины пирожки — они вместе, наверно, бегали по всяким кабинетам! Я оглянулся и с хода попал в отца взглядом — он, поздравляя меня, потряхивал над головой сцепленными руками, точно знал, что я оглянусь. Он, конечно! Ну, папа! Я, понятно, не против таких сюрпризов, но какую надо иметь выдержку, чтобы умолчать об этом!.. И потом, кто ему разрешил оформлять путевки, если еще неизвестно было, примут ли нас вообще? Давлет?.. Он-то как раз и колебался!.. В пещере гудели колокола, но я не мог найти консервных банок! Вот жизнь — ни минуты ясности и покоя!
13
— Ну-с, а теперь приступим к основному делу сегодняшнего дня — к формированию экипажей, — сказал Давлет. — Есть одна идея, и если она пройдет, будет просто чудесно!.. Внимание! Кто родился на дне Братского моря, три шага вперед — марш! — Никто не вышел. — Что, никто на дне не родился?.. Не думайте, что я сошел с ума и путаю вас с лягушками. Нет, я хочу знать, кто родился в старом Братске, или в Зеленом Городке, или еще где-то, что потом затопило. Сообразили? Итак, кто со дна морского, с вещами три шага вперед — марш! — Выступило человек тридцать, а из нашего строя — Ухарь, которого Давлет жестом вернул на место и заодно погрозил нам. — Так, складно пока. Это будет экипаж «Подводник».
Кто-то из подводников спросил:
— А можно к нам Ваську?
— Какого Ваську?
— Меня, меня! — заполошно-радостно заорал мальчишка, вырываясь из строя и кубарем летя через свой рюкзак.
— Мы дружим, — пояснил первый.
— И меня можно к подводникам, к Андрею! Мы тоже дружим! — подхватил третий голос.
— И меня!..
— Стоп! — прервал Давлет. — Вопрос ясен. Отвечаю: мы собрались сюда не только для того, чтобы заводить новую дружбу, но чтобы и старую укреплять, поэтому все можно будет сделать: и Ваську к Петьке, и Вовку к Юрке, и Бабу-Ягу к Кощею Бессмертному — но позже, в рабочем порядке. Ясно?
— Я-ясно, — протянули недовольно.
— Итак, экипаж «Подводник». Гордое имя! Мичман Фабианский, прими командование!
— Есть!
Мичман Фабианский, самый рослый и серьезный, тяжело потопал к своим. Гравий под ним не похрустывал, а скрежетал. Такому не по рыхлому гравию шествовать, а по бетонным плитам, и то, наверно, будут лететь осколки. Уверенно сомкнув строй, мичман стал во главе и отвел его в сторону.
— Кто родился в Братске же, но на суше, три шага вперед с вещами — марш! — Еще человек тридцать отделилось, к которым относились и мы с Димкой. — Очень хорошо!
— Эх, Федю бы сюда! — опять шепнул Димка.
— Это экипаж «Абориген»! — Объявил Давлет. — Мужественное название! Мичман Чиж, пожалуйста!
Если бы у мичмана Чижа и не было птичьей фамилии, то все равно в нем бы угадывалась птичья натура. В его легком шаге чувствовался еле сдерживаемый прискок, и руки он как-то раскрыливал, и не прямо прошел, а какой-то вилюшкой, и скомандовал с петушиной прерывистостью в голосе. Нет, мичман Чиж никак не увязывался с мужественным «Аборигеном»!
— И наконец, родившиеся вне Братска, три шага вперед — марш! — Тут было человек под сорок. — Это экипаж «Варяг»! Воинственный титл! Мичман Кротов!
— Есть!
И лицо, и походка, и голос, и рост мичмана Кротова были обычными, и всем своим видом он как бы говорил, что мол, не обращайте на меня внимания, я занят делом.
— Итак, почти поровну! Идея прошла! Эх, ребята, не жизнь у нас будет, а сон в летнюю ночь! — возликовал Филипп Андреевич, поднеся ко рту мегафон.
— А-а! — раскатился Димка своим верещащим смехом, но этого ему показалось мало для выражения восторга, и он обратился к Давлету: — А ура крикнуть можно?
— Можно! — сказал Давлет.
— Ура-а! — заорал Димка во всю мочь, не смущаясь тем, что его никто не поддерживает.
— Молодец, Баба-Яга! — улыбаясь, сказал Филипп Андреевич и тут же удивленно свел брови, увидев, что на краю плаца, вразброс, осталось еще юнг десять. — А это что за экземпляры? — спросил он, оглядывая их и направляясь к ним. — Вы что, нигде не родились? Или с луны свалились? — Те помалкивали, переминаясь и косясь друг на друга, среди них был и тот пацанчик против сосны, в одиночестве казавшийся более солидным. — Я вас спрашиваю!.. Вот ты, юнга, — кивнул Давлет коротышке, — как твоя фамилия?
— Протченко.
— А звать?
— Миша.
— А прозвище? Хотя прозвища пока не надо. Так где же все-таки ты, Миша, родился?
— В Братске.
Здрасте! А почему не вышел?
— Я не знаю, в воде или на суше.
— Ах, вон в чем дело! Этого я, признаться, не предусмотрел. Земноводный, значит. И что, все тут беспамятные? А ну-ка сюда! Бегом! Еще бегее!.. Вот так. Постройтесь. Раз вы не знаете, где родились, я вам назначу. — И Давлет рукой разделил строй пополам. — Вот вы родились в воде и ступайте к подводникам, а вы — на суше, и жмите к аборигенам. Бегом! Еще бегее! — Обрадованные остатки разбежались, провожаемые добродушным взглядом Филиппа Андреевича. — Товарищи мичманы, вывести экипажи на плац.
Пока личный состав выстраивался, уже не клином, а четкой буквой «П», в две шеренги, к Давлету прокралась Рая и что-то шепнула ему. Он кивнул и взял мегафон. И по тому, как Филипп Андреевич опустил углы губ, а потом искоса глянул в небо, я понял, что сейчас будет что-то веселое. И действительно, он вдруг зацокал в микрофончик, требуя внимания.
— Отвечайте да или нет. Есть хотите?
— Да! — ответил лагерь.
— Не слышу эхо, — огорчился Давлет, приставив к уху ладонь. — Есть хотите?
— Да! — от души гаркнул плац ста двадцатью грудями, и в наступившей тишине мигом отозвалось эхо с правого заливчика, потом — с левого, и третье эхо скатилось откуда-то сверху.
— Вот это по-флотски!.. Я тоже хочу есть, вернее только что захотел, после вашего ответа. Сейчас будет праздничный обед, с мороженым и вареньем. — Какая-то восторженная судорога прошлась по рядам. — Сегодня дежурит «Подводник». Мичман Фабианский, выделить десять человек на камбуз! — И тотчас отсеченная рукой мичмана десятка рванула с вещами наверх. — А пока накрывают столы, я отвечу на два вопроса, которые у многих, очевидно, вертятся на языке. Первый: кто эти пятеро, — Филипп Андреевич кивнул на нас, — и что им оказана за честь быть в форме и стоять особо? Интересно?
— Интересно!
— Это рабочий десант. Пока вы дома нежились до полдня в кроватях, а потом весь день не знали куда себя девать, эти пятеро уже работали здесь! — Давлет перечислил все сделанное нами и добавил немного того, о чем мы не имели понятия, но что, наверно, придется нам еще сделать. — Вот почему им такая честь... И второй вопрос: когда выдадут форму? Так?
— Так.
— После обеда!
— Ура-а-а! — прогремело над плацем.
— Но учтите, от человека в форме требуется многое! И мы будем требовать!.. Посмотрите, что висит на флагштоке?.. Вымпел! Вместо военно-морского флага! И он будет висеть до тех пор, пока вы хоть чуть-чуть не станете похожими на истинных юнг, потому что стыдно поднимать военно-морской флаг перед вашей разболтанной толпой, которая даже не знает, где лево, а где право!
— Знаем!
— Кто знает, шаг вперед — марш! — живо скомандовал Филипп Андреевич, но никто не вышел, и тогда начальник, уловив, что больше всех возмутились варяги, приказал: — Мичман Кротов, пять человек ко мне! Срочно!
— Есть! С вещами?
— Без.
Пятеро лениво-смущенно, почти волоком таща ноги, приблизились к столу, — кто руки за спину, кто в карман, а кто даже подбоченясь. Филипп Андреевич, долго разглядывал их, склоняя голову так и этак, сперва насмешливо, потом сурово, рассчитывая, наверно, что под его взглядом те как-то подтянутся, но — хоть бы хны, и Давлет обратился к остальным:
— И это, по-вашему, юнги?.. Это кенгуру! Причем не дрессированные! Руки!—неожиданно крикнул он.— Ноги!.. Грудь не назад выгибают, а вперед!.. Рав-няйсь!.. Смирно!.. Напра-аво! — Повторилась в точности наша комедия, только у нас смеяться со стороны было некому, а тут покатывался весь лагерь. — Сейчас это смешно, но когда они будут в форме, это будет позорно! А позорить военно-морской флаг мы никому и никогда не позволим!.. Марш на место! — отпустил бедняг Филипп Андреевич и обернулся к нам. Я вздрогнул и напрягся, лихорадочно повторяя про себя «тут право, а тут лево». — Настоящие юнги делают вот как!.. Внимание!
— У меня нога! — напомнил испуганно Митька, и хоть было мне сейчас совершенно не до Митьки, я все же подумал, что пусть он спасибо скажет Димке за то, что тот его треснул пряжкой, — нашлась уважительная причина выбыть из строя, а то бы просто вытурили с треском, как бездаря.
— Выйди пока! — Филипп Андреевич дернул головой. — Равняйсь!.. Смирно!.. Напра-аво!.. Нале-ево! Кру-угом! — При полной тишине и ревностном внимании, когда всем хотелось, кажется, чтобы мы сбились и этим уравнялись с ними, Давлет крутил и крутил нас на месте, и лишь когда ботинки наши наполовину зарылись в рыхлый грунт, он дал команду «вперед». С трудом удерживая равновесие на предательском гравии, который с хрумканьем выдавливался из-под ног, мы сперва описали прямоугольник на плацу, потом прострочили его по диагоналям, точно запечатав письмо, — и все это без задоринки, и лишь после этого Давлет пробил отбой. Мы взмокли. — Молодцы! По двойной порции мороженого! — хрипловато и с видом заговорщика шепнул он нам, отведя мегафон, и торжественно заключил, для всех: — Вот как надо ходить в форме!.. Вы думаете, что они гениальные? Ничуть! Два дня назад они были такими же, как вы. А сейчас — любо посмотреть! И это — за два дня! А я вам даю неделю. За неделю лошадь можно научить танцам! Все. На остальные вопросы, которых, я знаю, у вас масса, отвечу потом. А сейчас подводники занимают верхние кубрики, аборигены — средние, варяги — нижние. Прошу мичманов развести экипажи, а через десять минут — обед!
Поднялся шум и гвалт.
— А нам куда? — спросил Ухарь.
— Туда, где родились, — устало ответил Филипп Андреевич, сдвинул бумаги и сел на край стола, снимая фуражку и зарываясь лицом в платок.
— Тогда я — к подводникам, — заявил нам Ухарь.
— А я — к варягам, — вздохнул Рэкс.
— Я с тобой, — поймал его за руку Митька.
— А мы к этим, к рыбококам, — сказал Димка,
— К уркаганам, — поправил я.
— К аборигенам! — прыснул Филипп Андреевич.
— Ну, пока, рыбококи! — Ухарь потрепал меня по плечу.
— Слушай, Олег! — спохватился я, отводя его в сторону. — Давлет, значит, спрашивал про нас?
— Спрашивал.
— Когда?
— Вчера.
— Вчера?.. А чего же ты?..
— Сюрприз, Сема! — не дал договорить мне Ухарь. — Ты же знаешь, я люблю сюрпризы! Ну, не уживетесь там — приползайте ко мне, устрою по блату!
— Ладно!
И с особой отчетливостью я вдруг понял, что Олег недосягаемо взрослый, почти как папа, раз умеет готовить, хранить и преподносить такие сюрпризы.
Как ни приятно было стать юнгой, но становиться юнгой было, по-моему, еще приятнее — там было больше тайн, больше неожиданностей, больше сюрпризов... И поддавшись мгновению грусти, я сообразил вдруг, что мы пятеро расходимся не по тем делам, после которых сойдемся опять, а что наш рабочий десант распадется навсегда — и мне стало очень жалко расставаться с Олегом и даже с Рэксом и Митькой, вражда с которыми представилась мне теперь ерундовой, и даже не враждой, а чуть перекошенной дружбой, с трещинами, которые можно было залепить и замазать.
Давлет спохватился:
— Да, Баба-Яга и Сема, вы будете моими адъютантами, при штабе, пока телефоны не поставим. А то мне действительно не набегаться. Твоя идея, Бабушка-Ягушка!
— Есть! — козырнул Димка.
— Есть! — наконец-то по всем правилам отчеканил и я, и мы галопом помчались за вещами.
Вскоре личный состав двойной шеренгой выстроился на верхней палубе, перед камбузом.
Во главе нас, аборигенов, стоял Юра Задоля, тот самый дылда, который на плацу обворожил фотографа. В своем росте Задоля словно уперся в какой-то потолок и теперь вынужденно искривлялся, так что в профиль походил на знак параграфа, с таким же округлым животиком посредине изогнутости и худобы. Мы с Димкой попали в конец строя, на шкентель, как выразился мичман Чиж. Тут же оказался и Миша Протченко. Он шумно дышал через не закрывающийся даже при команде «смирно» рот и был прямо раздут, будто лягушка, — Филипп Андреевич в точку попал, окрестив его «земноводным». Голова Миши напоминала букву «ф», но не из-за ушей, как это иногда бывает у тощих, а из-за щек, готовых вот-вот лопнуть. Только глаза не поддавались общей раздутости, не лезли на лоб, а были как бы заякорены в глубине, серьезные и печальные, точно они ожидали скорого и неизбежного затопления, как озера близ поднимающегося водохранилища. Именно глаза спасали Протченко от явной уродливости, намекая на то, что в нем живет еще и нормальный человек.
— А вы хорошо маршировали, — позавидовал он, когда мы познакомились. — Я тоже так научусь! Но мне сперва надо сбросить лишний вес! Буду просить, чтобы меня побольше гоняли и посылали на тяжелые работы!
— Ну, этого можешь не просить — и так достанется! — авторитетно заверил Димка.
— А я еще сверх того! — добавил Земноводный с решительным жестом, шумнее задышав от этого усилия. — Цель моя — похудеть килограммов на десять, а то дома невозможно — весь день жую, а тут режим — не пожуешь! А у вас какая цель?
— У нас? — переспросил я. — Да никакой.
— Без цели — не то!
— А вообще-то мне тут одного зверя надо выследить!
— Зверя — это хорошо, — одобрил толстяк. — А мне вот — голодать. Можешь съедать за меня второе.
— Куда мне! Со своим бы справиться!
— Я съем, ладно? — предложил свою помощь Димка.
— Ладно.
— Только сегодня?
— Хоть каждый день. Прямо отбирайте, если я разъемся и не буду отдавать!
— Договорились! — И Димка быстро, чтобы Земноводный не передумал, схватил его пухлую кисть. — Разними!
Я разнял — договор принял силу.
На лестничную площадку камбуза выскочил какой-то шалопай из наших, одетый поваренком, в белом фартуке и колпаке, и, крутя над головой черпак так, будто хотел ушвырнуть его через кубрики в море, забазлал:
— Руба-ать!
— Отставить крик! — осадил его Филипп Андреевич, и поваренок, замерев с открытым ртом, тут же исчез. — Справа по двое на камбуз шагом-марш!.. Салаги!
14
Четвертый день в лагере кипела работа.
Мы с Димкой поочередно, через два часа, дежурили при штабе, на дебаркадере. Его оттянули метров на десять от берега, соединив с сушей длинным плотом, который сделал папа, и он сразу превратился в морскую крепость.
Я стоял у трапа, близ кнехта, от которого к береговому пню тянулся канат, и махал красными флажками, разучивая флажной семафор и сверяясь по бумажке. Штабная дверь была распахнута. Тот неряшливый закуток, с горбыльными нарами, с облупившейся штукатуркой и с обрывками проводов, где мы недавно обитали с папой, превратился прямо в аквариум, на зеленоватых стенах которого шевелились и дрожали, изгибаясь, световые струи, отражаемые белым потолком от залива, и сидевший за столом Давлет казался в этих струях, как в водорослях, Посейдоном. Правда, бог морей не шлепал, наверно, у себя там на пишущей машинке, как это делал Филипп Андреевич, доставая ее из сейфа всякую свободную минуту. Он и сейчас, выпростав ноги из туфель, что-то увлеченно отстукивал двумя пальцами, покрякивая при опечатках.
От мыса, где полузатопленно отмокали четыре шлюпки, направился к дебаркадеру Олег, и я объявил:
— Ухарь. Пустить?
— Пусти.
На трапе Олег выдул из зубов травинку, подмигнул мне, спокойно шагнул в штаб и приложился к пилотке.
— Разрешите обратиться!
— Слушаю.
— Я остаюсь в лагере!
— А!.. Очень рад!
— Поэтому мне...
— Поздравляю! — перебил Давлет. — Такие ребята...
— Я не за поздравлениями пришел, — в свою очередь перебил Ухарь, — а мне нужно домой, сказать нашим, чтобы они без меня готовились в отпуск. Желательно сегодня.
— Сегодня ваш экипаж дежурит.
— Додежуривает. Я уже договорился с мичманом Фабианским.
— Олег, давай лучше завтра!
— Филипп Андреевич, давайте лучше сегодня, — не уступал Ухарь. — Я так настроился. — Давлет задумался — следует ли настрой Олега считать уважительной причиной, и тот добавил: — Я пообещал пригнать завтра мопед — мотокружок откроем.
— А! — оживился начальник. — Для всех, надеюсь?
— Ну, кто захочет.
— Тогда прекрасно! — Он вынул из стола бумажку, заложил в машинку, что-то напечатал и, расписавшись, вручил Ухарю. — Документ! Первое увольнение! Робу не снимать! Надо бы парадную, но... Сейчас Рая за обедом поедет — беги!
— Спасибо!
Олег отдал честь у вышел.
— И я рад, что остаешься! — сказал я, улыбаясь.
— Твоя агитация! — заметил Олег, сдвигая мне пилотку на глаза и тут же поправляя ее.
— Это хорошо! А Рэкс?
— Тоже остается.
— Это плохо!
— Это нормально! Надо следить, чтобы трещина не расширялась, помнишь? Ну, бывай! — Он полукозырнул мне, сбежал по трапу и легкой рысцой вынесся на берег.
Проводив Олега до кустов, я перевел взгляд на травинку, брошенную им, которая, не намокая, так и лежала на воде, как на пленке. Под ней, в тени дебаркадера, повисла стайка мальков, мягко подсвеченная снизу растворенным в воде солнцем. С другой стороны о борт терлись бревна, с ласковой надоедливостью, как, наверно, трутся китята о свою китиху, если у них это водится. Низко над мачтой ретранслятора прошел на посадку «окурок», как называли мы Як-40. Чуть выше на одном уровне плыли редкие плоские облака — воздушные льдины. Откуда-то от них падали на меня все звуки лагеря, полуспрятавшегося за кустами и деревьями.
Лишь берег был открыт.
В правой бухте кружил катер Григория Ивановича, очищая дно от топляков, которые обнаруживал и цеплял ему Ринчин, в желтом водолазном костюме и с аквалангом. Юнги на двух спаренных шлюпках помогали им буксировать выуженные коряги к берегу, где их подхватывал тросом бульдозер.
В глубине левой бухты, в самом первобытном углу «Ермака», трещала бензопила, и мои аборигены таскали оттуда сучья и коротыши на чистую площадку у «Крокодила», где возводил из них пирамиду наш взводный Мальчик Билл, как прозвал нашего Юру Задолю Филипп Андреевич, и кличка сразу прилипла. Давлет, по-моему, знал какой-то секрет прозвищ, он уже окрестил пол-лагеря, и все удачно, только я оставался ему не по зубам. Сначала мне это льстило, что вот, мол, я какой хороший, что даже не обзовешь меня никак, но потом вдруг сообразил, что наоборот — я хуже всякого, ни рыба ни мясо, раз во мне нет даже зацепки для прозвища! Плитка шоколада, обещанная в награду, и та не помогала! Я уж и сам перебрал сотню вариантов — нету, хоть тресни!
Обогнув кусты, от плаца, где варяги с мичманом Кротовым готовились к поднятию мачты, примчался Сирдар, в плавках. Тормознув у мостика, он крикнул, по старой злой памяти не желая иметь со мной никакого дела:
— Филипп Андреевич!
— Пусть не орет, а обратится по форме, — не отрываясь от писанины, сказал Давлет.
Обратиться по форме было для всех — нож острый, но Филипп Андреевич приказал мичманам нарочно посылать и посылать к нему юнг со всякими сообщениями и рапортами, чтобы они вживались в службу, которая, подчеркивал он, немыслима без «формы». Я бы тоже горел сейчас синим огнем, если бы не привык к обращениям в рабочем десанте, и теперь играючи козырял и выпаливал нужные слова. А юнги — о, бедные! — как только ни заикались они, чего только ни плели и каких только трюков ни проделывали перед начальником — разве что ногой честь не отдавали! Один, ополоумев от счастья, что с грехом пополам спихнул доклад, шагнул прямо за борт, в другую от трапа сторону. Порог штаба лишал их памяти, сплошь и рядом прибегавшие посланники только пучили глаза, наглатывались по-рыбьи воздуха и ни с чем уносились восвояси. Поэтому-то я с ухмылкой передал Сирдару:
— Обратись по форме.
— Какая форма, я голый!
— Он голый.
— В штаб голыми не ходят, это не гальюн.
— Жми-ка лучше в гальюн, — посоветовал я, научившись, чтобы не попугайничать, на лету переиначивать реплики Филиппа Андреевича. — А это штаб!
— Какой гальюн, когда мне веревку надо!
— Ему веревку надо.
— Голому веревка? Странно.
— Зачем тебе веревка? — спросил я.
— Не мне, локшадин, а мачте! — сердито ввернул Сирдар Рэксово словечко.
— Он вас локшадином обозвал, Филипп Андреевич, — прикидываясь недотепой, сказал я.
— Не его, а тебя! — уточнил Митька.
— Сам ты локшадин! — оставив шуточки, крикнул я. — Только локшадины в штаб за веревками бегают! В штабе идеи, а не веревки! Чеши к Егору Семенычу!
— А где он? — примирительно спросил тот.
— Вон, с «дружбой».
— Тоже мне, штабисты! — проворчал Сирдар, однако припустил вдоль уреза, петляя по бревнам.
— Правильно, Сема! Так их! Учи мыслить! — похвалил Филипп Андреевич, откидываясь со стулом к стене, на которой почему-то висела подробная карта Внутреннего Японского моря, словно лагерь планировал туда поход. Потянувшись и на миг замерев в позе распятого, Давлет снова обрушился на стол.
У адъютанта была дерганная служба. Если остальные жили плавно, по распорядку, то нас с Димкой швыряло во все стороны — сбегай туда, спроси о том, передай это! — зато уж мы подробно знали про все, что делается в лагере.
У мостика появился робкий юнга Швов, худой и бледный. Купание еще не началось в лагере, а он уже умудрился получить россыпь чирьев себе на шею, которая поэтому была забинтована от ключиц до челюстей, — какой-то полузадушенный вид был у Швова, и жалкий, и одновременно — противный.
— Чего тебе? — спросил я.
— Филиппа Андреевича.
— Кто там? — отозвался Давлет.
— Швов.
— Что случилось?
— Что случилось? — переспросил я.
— Меня дразнят, — тихо сказал Швов.
— Его дразнят.
— Как?
— Как?
— Нехорошо.
— Нехорошо, говорит.
— Пусть не сачкует — будут дразнить хорошо!
— Не сачкуй, и не будут дразнить, — на более утешительный лад перестроил я фразу.
Чуть выждав, не покажется ли сам Давлет и не посочувствует ли ему, такому больному и такому обиженному, Швов удалился, сцепив за спиной руки, точно сам себя беря в плен. Едва он скрылся в кустах, как из этого же места, словно в цирковом фокусе с переодеванием, выскочил другой юнга. Ступив на мостик, он судорожно взял под козырек, хоть и был простоволос, поднялся на палубу, бледный и сосредоточенно-бездыханный, шагнул в штаб, опустил руку и, мертвой хваткой вцепившись ею в штанину, выдохнул, глядя под стол, на туфли Давлета:
— Уважаемый директор!.. — Я сразу понял, что докладу крышка. — То есть начальник!.. То есть не уважаемый, а этот... — Все, юнга отключился, во всем мире его интересовали теперь лишь туфли Филиппа Андреевича, тупоносые, с широким, как у лыжных ботинок, рантом, словно именно их он пришел выпрашивать у начальника.
— Ладно, иди вспоминай, — вздохнул Давлет.
Юнга сорвался с места, как хоккеист со скамейки штрафников, когда истекло время наказания, и на мостике чуть не снес плечом фотоаппараты с посторонившегося дяди Геры, фотографа. Дядя Гера продолжал жить в лагере, щедро изводя пленку. И хоть Филипп Андреевич и дядя Гера, судя по их отношениям, были старыми приятелями, я предупредил:
— Фотограф. Пустить?
— Конечно.
— Адъютанту его превосходительства салютик! — с безмерным счастьем приветствовал меня дядя Гера, щуря на солнце свои несколько оттянутые к вискам глаза, что придавало ему шустровато-зверьковатый вид. — Шеф дома?
— И готов принять вас.
— У-у, как славно! — пропел фотограф, двумя скачками осилил трап и, легонько опершись о меня, как о продолжение кнехта, скользнул, пригнувшись, в штаб, откуда сразу же полилось: — Ну, адмирал, я отстрелялся! Оставил кадров десять на подъем мачты — и все! Дело за текстом.
— Пиши.
— Пока не о чем.
— Вот тебе раз! Сделал полтыщи снимков и — не о чем!
— Видишь ли, старина, снимок многозначительнее слова. Если на снимке юнга, положим, несет чурку, то это еще не значит, что — в костер, а может — в машину и — в детсад — шефская помощь. А если писать, то лишь — в костер. Вот какая штука. Ведь, откровенно говоря, твои юнги пока заняты ерундой!
— То есть, как ерундой?
— А так!
— Благоустраивать свой лагерь — ерунда?
— Конечно.
— Иди-ка ты!..
— Вот почему бы вам, например, не ловить браконьеров в этом заливе? — предложил дядя Гера.
Филипп Андреевич рассмеялся:
— Какое совпадение! Мы сами собираемся браконьерничать, если сети не разрешат!
— На здоровье! Тогда бревна вылавливайте! Смотри, сколько их тут! И вид портят, и мешают. Вылавливайте, сплачивайте и отправляйте на целлюлозный комбинат. Это идея! Тут и девиз шикарный Haпрашивается: «Сплачивая бревна, сплачиваемся сами!» — захлебнулся восторгом фотограф.
— Девиз, конечно, шикарный, — согласился Давлет задумчиво, — но пусть под него пляшут лесозаготовители! А мы попробуем сплотиться без бревен!
— Или живицу, а?
— Ну, знаешь ли! — воскликнул Филипп Андреевич вскакивая. — Юнга Лехтин, сбегай-ка в это... м-м... на плац! Нет, мичмана Чижа ко мне! Срочно!
— Есть! Я ему отсюда просемафорю!
— Нет, ты лучше ногами просемафорь туда!
— Есть! — ответил я, поняв, что от меня хотят отделаться, и, сунув флажки за ремень, припустил.
Мичмана Чижа я нашел в центре завала — топором он сносил сучья, чтобы Егору Семеновичу было удобнее пилить. Несмотря на завал, я обратился по форме:
— Товарищ мичман, вас начальник зовет!
— Угу.
— Срочно!
— Лечу!
— А-а! — проверещал Димка и облапил меня сзади.— Тебе час осталось адъютантить!
— Знаю.
— Как там, порядок?
— Полный!
— Смотри, не обижай Филиппа Андреевича! А то будешь иметь дело лично со мной!
Мы выбрали по чурбачку и пошли обратно. Мальчик Билл, в соответствии с каким-то своим замыслом, Димкин чурбачок пристроил внизу, а мой швырнул на самый верх пирамиды. Напившись с «Крокодила» и благодарно похлопав его по боку, я поспешил в штаб. На крыше его стояли пять метровых букв из белого пенопласта — ЕРМАК — Алькина работа. Вырезанные с былинным фасоном, незаметно раскрепленные тонкой алюминиевой проволокой, буквы эти почти парили в воздухе, омолаживая старый дебаркадер. Вообще Алька успел сделать много: около десятка щитов вдоль дороги от шлагбаума к камбузу, на которых сияли юнги то с шваброй, то с штурвалом, то с ложкой в руках; загнул из фанеры трехметровое туловище Посейдона на подмостях у плаца и еще что-то и еще — трудягой и талантом оказался этот тихий мальчишка.
Мичман Чиж вроде и не обгонял меня, но когда я вернулся, он уже был в штабе — действительно, чиж. Филипп Андреевич продолжал в чем-то убеждать мичмана:
— Я понимаю, что мало времени, но надо!
— Не знаю.
— О, у меня даже припев есть:
Так и бродит Посейдон
По сей день!
Игра слов, так сказать! Но это не обязательно, пиши другие! Ну, Валера, рискнешь?
— Надо подумать, Филипп Андреич.
— Подумай.
— Разрешите идти?
— Иди. И думать начинай уже за порогом!
Мичман Чиж выпорхнул из штаба, минуя, мне показалось, трап, сразу на мостик, невесомо прошествовал по нему и стал удаляться какими-то танцевальными приступками.
Дядя Гера молча сидел у печки. На его зверковатость легла тень прирученности — разговор с Давлетом, ради которого меня отослали, вышел, похоже, не в его пользу. И очень хорошо. А то ишь — бревна сплачивать!
— Ну, айда! — сказал Филипп Андреевич. — Вот-вот подъем мачты! Сейчас как вдарю большой сбор! Народ как хлынет на плац! Люблю этот момент! — С палубы он прислушался к рабочему гомону на берегу и удовлетворенно дернул губами. — Трудятся, как пчелки!.. А ведь не все трудятся! Смотри! — Он приставил ко рту ладони рупором и грозно затрубил: — А ну, сачки-и!.. — И тотчас там и тут в кустах сорвались испуганные воскликй, там и тут кусты дернулись и зашуршали. — Держи их! — подстегнул Давлет и, убрав ладони, коротко хохотнул. — Видишь — тут собрались все доблести и пороки мира, а ты — писать не о чем! Прокисшие у тебя мозги и волосатое сердце, товарищ фотокор! — И, победоносно глянув снизу на дядю Геру, Филипп Андреевич щелкнул по носу его аппарат и проворно сбежал по отбившему чечетку трапу.
Я — за ним.
Мы свернули направо, к шлюпкам, и в одной из них заметили голову с забинтованной шеей. Это был юнга Швов. Сидя на одной банке и опершись ногами в другую, он палочкой задумчиво мутил воду под собой. Ни крика Давлета с дебаркадера, ни нашего приближения он не расслышал — он отсутствовал в этом мире.
— Швов, ты почему здесь? — спросил Филипп Андреевич. — Тебе что, волны пасти поручили?
— Нет.
— А что тебе поручили?
— Бетонировать.
— Что?
— Крюки для турника.
— А ты почему не бетонируешь? — Швов молчал, отвернувшись. — Тебе трудно?.. Или больно?.. Ты почему не работаешь? — созревшим криком оглушил нас Давлет, и лицо его, сразу потеряв обычную подвижность и летучую игру черт, налилось твердостью и нездоровой синью, еще чуть-чуть — и оно, кажется, необратимо закаменеет, но гнев, словно зная свою меру, быстро пошел на убыль. — Все заняты, все копошатся, так почему же один ты ждешь криков и понуканий?.. Кстати, как тебя дразнят? Знаю, что нехорошо, но как?.. Не стесняйся, тут все свои, По-матерному, что-ли?
— Нет.
— А как?
— Клизма.
— Клизма?.. Хм, действительно нехорошо!
— И говорят, что это вы велели обзываться.
— Да, я велел, но не обзываться! А ты подумай, нет ли в тебе чего-нибудь такого, клизменного! А сейчас ступай и доложи своему мичману — кто у тебя, Кротов? — вот, доложи ему, что я дал тебе наряд вне очереди! Ясно?
— Ясно.
— Шагом-марш!
Швов поплелся наверх по дорожке Посейдона, снова каторжно сцепив за спиной руки. Филипп Андреевич позаглядывал в шлюпки, похлопал по их крутым бокам, поднял с земли коряжку, изогнутую бумерангом, и запустил в воду.
— А ты говоришь, бревна надо вылавливать! — зло заметил он дяде Гере. — Души вот их надо вылавливать!
— Мда-а, — взгрустнул дядя Гера.
— Что бы ты с ним сделал?
— А часто он так?
— Ежедневно, а то и по два раза на день!
— Отправил бы домой.
— Пожалуй. Но попробую еще шок.
— То есть?
— Встряску. Знаешь, как заикастых лечат? — спросил Давлет. — Полыгин, ты свободен!
Я был бы не против послушать, как лечат заикастых, Чтобы при случае просветить дядю Ваню, но пришлось откозырять — в самые интересные моменты от адъютанта всегда отделываются.
И я рванул к Посейдону, который представлял собой пока лишь круглую пятнисто-желтую тумбу, без трезубца и головы — ее Алька доводил до ума в своей мастерской.
15
Состыкованная внахлестку из трех небольших сосен — в семь, шесть и пять метров, — с постепенным падением толщины, ошкуренная и казавшаяся налитой каким-то восковым светом, мачта огромным зигзагом пересекала по диагонали весь плац, как упавшая с неба молния, которую предстояло как бы вернуть небу. От обоих стыков ее и от макушки, с короткой доперечиной, струились в стороны многочисленные веревки.
Мичман Кротов, сам полуголый, не различался бы в полуголой толпе, если бы не его уверенно-энергичные жесты, которыми он объяснял что-то своим варягам.
Верхом на мачте сидело несколько человек, подчищая топорами грубо ободранные места. Среди них я вдруг увидел Земноводного и, радостно подсев к нему, спросил:
— Миш, ты чего не с нашими?
— Отпросился. Тяжело там.
— Ты этого и хотел.
— Не рассчитал. А теперь понял, что к большим нагрузкам надо переходить постепенно.
— Так не похудеешь.
— Похудею. Уже чувствую слабость, — значительно, словно вплотную приблизясь к великому открытию, сообщил Мишка. — Сегодня надо второе съесть!
— Димка не даст.
— Подумаешь — Димка!
— Но вы же договорились. А он любит и сам держать слово, и чтобы другие держали. Однажды братишка Федя его обманул, так Димка ему стакан компота в лицо выплеснул.
Земноводный озабоченно поджал губы. Трудно давалась ему мимика, потому что вспученные щеки, из которых в основном состояло его лицо, не поддавались легким, игривым движениям, а усилия вырубали карикатурность.
— Скажу, что в обморок могу упасть.
— Ты-то?
— А что? Я уже падал. Мой организм — загадка, даже для меня. Видишь: хочу тяжестей — шиш, хочу не есть — шиш. Кругом шиши, а что надо — черт знает.
— Ладно, я поговорю с Димкой, — пообещал я.
Мичман Кротов объявил аврал, велел всем распределиться по длине мачты, скомандовал «три-четыре», и мачта, подхваченная почти сотней рук, в том числе и моими, оторвалась от подкладок, поплыла, выдвинулась за пределы плаца, повернулась к морю и, упершись основанием в плаху, вставленную в яму, где недавно торчал наш «хлыстик», снова легла на перемещенные прокладки. Задним ходом от хозкорпуса подошел автокран.
— Рэкс, доложить начальнику о готовности! — распорядился мичман Кротов.
— Сирдар, доложить начальнику! — отфутболил Рэкс Митьке, назначенному командиром взвода, — то, что полученный приказ не обязательно выполнять самому, а можно, и даже нужно, передавать подчиненным, — это младшие командиры усекли сразу, и с восторгом пасовались самыми пустячными делами.
— Юнга... — рявкнул Митька, ища кого бы послать.
— Отставить! Сми-ирно! — скомандовал мичман, увидев поднимавшихся на плац Давлета и фотографа, и поспешил к ним.— Товарищ начальник лагеря, мачта к подъему готова!
— Вольно! — Филипп Андреевич прошелся вдоль мачты, осматривая стыки, и попутно потрепал по голове Земноводного, опять пристроившегося с топором. — Стираешь, Миша?
— Ошкуриваю!
— Вот я и говорю: стираешь грань между умственным и физическим трудом!
— В этом смысле — да! — Земноводный улыбнулся и похлопал себя по животу, глядя при этом на живот начальника. — Мне это полезно! Я обещал маме похудеть!
— Давай-давай! Поможем! — одобрил Филипп Андреевич и — мичману: — Юнга Швов доложил о наряде?
— Так точно!
— И что?
— Отправил наломать пару веников.
— Хорошо... Неужели поднимем?
— Поднимем.
— А может, все же спецбригаду вызвать?
— Варяги и есть спецэкипаж, — напомнил мичман Кротов.
— Ну, спецы спецам рознь, — возразил Давлет и попружинил мачту. — Не сломается?
— Не должна.
— Не должна или не сломается?
— Не сломается.
— Прекрасно! — заключил Филипп Андреевич. — Значит, можно бить большой сбор?
— Можно.
— Чур, я!.. Чур, я! — раздалось вокруг, и несколько человек, стоявших ближе к ГКП, бросились на балкон, где висела корабельная рында.
— Чур, я! — крикнул Давлет.
Все остановились.
Филипп Андреевич торопливо, словно не надеясь на долгую ребячью выдержку, взбежал по лестнице, дунул в кулак, победоносно оглядывая сверху плац, и задергал рындабулину. Сощурившись, словно звон ударил не по ушам, а по глазам, я уставился на подбалконную стенку, которую Алька так обрызгал краскопультом, что она превратилась в картину моря: светло-зеленые волны, красные рыбы, желтые аквалангисты и синие подводные лодки. Все это как бы колыхнулось и ожило под звуки рынды и неохотно замерло опять, когда они стихли. Давлет стоял, недвижно прислушиваясь. И вот, нарастая, со всех концов лагеря понесся к плацу дружный и восторженный рев — разметанный в пространстве народ сливался воедино. Именно этот миг и любил, наверно, Филипп Андреевич!
Позже всех, провозившись со шлюпками, прибежали чумазые и мокрые подводники, а мои аборигены, хоть и выпутывались из завала, а уложились в минуту. Мичман Кротов объявил по мегафону, что сейчас лагерю предстоит поднять мачту.
И эпопея началась.
Расчалок было девять, по три в ярусе, и нас разбили на девять групп, каждой дав номер и во главе каждой поставив заранее натасканных варягов. Мичман Кротов сам развел группы по местам, дотянул до всех ванты, а шестерых юнг загнал даже на деревья — и все это проделывал, ориентируясь на какую-то воображаемую точку в небе. Ванты перепутались между собой, между деревьев, и казалось, что при первом же рывке они свяжутся узлами, и все пойдет насмарку. Нижние ванты, от первого стыка, были короткие, и обслуга толпилась возле плаца, видя все происходящее; средние, от второго стыка, — подлиннее, и пацаны шарашились в кустах, пытаясь хоть что-то разглядеть на плацу; а верхние, от макушки, — такие длиннющие, что терялись в зелени.
Мы с Димкой и Земноводным попали на нижнюю береговую растяжку. И мне, признаться, не верилось, что мы, пусть и с помощью небольшого крана, сможем поставить на попа этакую махину. Мичман Кротов стропом захлестнул мачту почти посередине, поправил у ямы бруски, не пускавшие комель в стороны, и сказал в мегафон:
— Внимание! Повторяю: с морской стороны давать слабину, с береговой — натягивать, но не сильно! Помнить свои номера и слушать мою команду. Приготовились!.. Пшел!
Кран заклацал зубчатками, строп натянулся, врезаясь з древесину, мотор взвыл сильнее, середина мачты выгнулась по-щучьи, оторвавшись от прокладок, и тут же медленно приподнялась верхушка и пошла, пошла...
— Седьмой, слабее!.. Еще слабее!.. Да вы что там, оглохли? Слабее, седьмой! — кричал мичман Кротов. —Вот так! Хорошо!.. Пятый, на себя!.. И второй, на себя!
Мы были вторыми и поднатужились. Передо мной жарко пыхтел Земноводный, а позади кожилиршя Димка. Я не знал, легко мне или тяжело, потому что лично не зависел от силы, трепетавшей в расчалке, я даже мог вообще отцепиться или тянуть, когда остальные не тянут — это бы нищенски влияло на мачту, — а вот вместе мы, наверное, знали, каково нам.
Мачта как бы разыгрывала, вытанцовывала свой подъем, то бедро выгибая туда, то плечо — сюда, то голову откидывая назад, а мичман Кротов был как бы судьей этого танца, не позволяя хрупкой танцовщице перестараться в своей изгибистой игре.
Филипп Андреевич, едва мачта отошла от земли, встал туда, где только что находился второй стык, и застыл, всем своим видом как бы говоря, что если, мол, мачта рухнет, сама ли, или по нашей промашке, то он не сдвинется с места, и пусть его расшибет вторым стыком в лепешку, так что, мол, старайтесь, если хотите иметь начальника. И мы старались!
— Седьмой, слабее!.. Да что они там! Мичман Чиж, займись седьмой!.. Шестой, на себя! Еще чуть!.. Так, хорошо, ребята! — то взлетал, то опадал голос мичмана Кротова.
В нашем единоборстве с мачтой было что-то гулливеро-лилипутское, что-то всесильно-торжественное и беспомощно-смешное вместе. Очутись тут великан, тот самый, чьи бревна-спички рассыпаны по заливу, он бы шутя воткнул нашу мачту в дырку — и все, конец бы страстям, но зачем тогда гремела рында, зачем был большой сбор, зачем этот наш азарт и это ожидание чуда?.. Нет уж, товарищ великан, мы уж как-нибудь сами!..
— Седьмой, натяни!
Пята соскользнула по плахе в яму, мачта осела, на миг ослабив ванты, и сразу легко и быстро стала выпрямляться. Расчалки, казавшиеся перепутанными, сами собой разобрались и напряглись. Мичман Кротов забежал с одного бока, с другого и, махнув рукой, распорядился:
— Первый, второй, третий, закрепляй! — Мы, не отпуская натяжки, гирляндой закружились вокруг своей березы. — Четвертый, ослабь! Еще! Пятый, ослабь!.. Стоп! Второй ярус, закрепляй! Седьмой, ослабь! — продолжал мичман Кротов, припав к мачте, чтобы выверить ее прямизну. — Девятый, ослабь!.. Седьмой, куда потянул! Ослабь!.. Так, девятый, закрепляй! — Девятая «кукушка», еле различимая в хвое, зашевелилась и закряхтела. — Восьмая, закрепляй!.. Ну, и седьмая, пошел! — И еще чуть подождав, не скособочится ли верхушка в последний миг, мичман Кротов выпрямился и дважды, одной и другой рукой, вытер пот со лба. — Все!
— Ура-а! — рванула братва и, сдерживаемая до сих пор мичманом Фабианским и Ринчином, хлынула на плац, который с мачтой сразу превратился в палубу корабля — не хватало только военно-морского флага да пушки.
Давлет крикнул:
— Качать мичмана Кротова!
— Качать!
И мичман Кротов взлетел на воздух с таким спокойствием, словно это входило в его расчеты. Качало человек десять, а сотня плясала вокруг.
Кто-то предложил:
— Качать Филиппа Андреевича!
— Качать!
Толпа радостно раздвоилась, и Давлет тотчас взвился, ойкая и прося пощады, но его никто не слушал. Видя, что мольба не помогает, Филипп Андреевич скомандовал на лету:
— Становись!
И чуть не поплатился за это легкомыслие, потому-что юнги, подбросив начальника, разбежались по местам, и лишь двое с Ринчином поймали Давлета.
— Уф, обормоты! — отпыхивался Филипп Андреевич, поддергивая брюки. — Равняйсь!.. Смирно!.. Была какая-то мысль для речи — вытрясли. Может, кто-нибудь другой скажет, а? — Он обернулся к кубрикам, где на траве посиживали болельщики: Алька,
Егор Семенович и Татьяна Александровна, но они помалкивали. — Никто?.. Может, наш уважаемый гость-фотограф?
— Мой язык — фото! — живо ответил дядя Гера. — И я уже сказал свое слово — камеры пусты!
— Видите! — воскликнул Давлет. — То, что вы сделали, не только выше леса, но и выше всяких слов!
На верхней палубе засигналила Раина машина, привезшая обед, и мичман Фабианский поспешил туда с камбузным нарядом. Филипп Андреевич вышел на середину плаца, почесал в раздумье кончик носа и лукаво спросил:
— Устали?
— Да! — отозвался строй.
— Есть хотите?
— Да! — с тройным эхом ответили юнги.
— Что ж, перейдем к еде! Внимание!.. Смир-рно!.. Кто сегодня лучше всех работал — три шага вперед марш! — Не вышел никто, только запереглядывались с улыбкой, выискивая нахала-смельчака. Улыбнулся и Филипп Андреевич.— И пришел невод с одною тиной!.. Ладно, попробую с другой стороны. Кто хуже всех работал — три шага вперед марш! — Тут уж смех раздался сразу — мол, ищите дурака, но вперед неожиданно выступил юнга Швов. Плац утих, но лишь на миг, а в следующий — грохот еще сильнее. Швов стоял, заломив руки назад и свесив голову, насколько позволяла забинтованная шея. — Есть улов! — безрадостно зафиксировал Давлет. — Полюбуйтесь на эту золотую рыбку!.. Вы думаете, он вышел потому, что честен до мозга костей? Ничуть!.. Это я засек его и обозвал сачком! Будь он честен, он бы не сачковал!.. Даже то, что он добровольно вышел, не смягчает положения, ибо он чуял, что если не выйдет, то я сам его выведу, и это будет позорней! Так, Швов?
Тот молчал.
— Рубо-он! — долетело сверху.
— Внимание! Равнение на Швова!.. Швов, налево!.. Как почетный член общества сачков, первым на камбуз шагом-марш! — скомандовал Филипп Андреевич, и я мигом подумал, что этот внезапный оборот и есть, наверно, тот самый шок, которым лечат заик. Действительно, Швов вздрогнул, поднял на Давлета испытывающий взгляд и тут же опустил его, поняв, что с ним не шутят, и вдруг сунулся пальцами к глазам.— Руки!.. Голову!.. Это закон лодырей — первыми садиться за стол! Так что...
— Я больше не буду, — всхлипнул Швов.
— Надеюсь. Но это ты скажешь потом отцу, а сейчас получай награду сполна! На камбуз шагом-марш! — И бедный Швов потопал, вытирая кулаком навернувшиеся слезы. — Требуй у бочкового двойную порцию — за усердие!
Строй хохотнул, но сдержанно, потому что Филипп Андреевич был слишком серьезен.
16
На следующий день в лагере случилось ЧП.
Двухступенчатое ЧП.
Первая ступень сработала утром, когда, к моему неудовольствию и к радости Давлета, Рая привезла связиста — устанавливать телефоны. Приведя его в штаб, шоферша как бы мимоходом сказала Филиппу Андреевичу, что везла еще и пополнение в лагерь, но где-то по пути растрясла его. Филипп Андреевич поинтересовался подробностями. И получилось так. На повороте с проселочной дороги проголосовали три паренька-старшеклассника и, узнав, что машина идет в «Ермак», попросили подвезти их, сказав, что они с опозданием получили путевки и теперь вот измаялись, добираясь пешком. Рая посадила их в будку, но у шлагбаума выяснилось, что будка пуста. Кто были эти пареньки и где они спрыгнули — неизвестно.
Давлет насторожился.
— Не нравится мне это, — сказал он. — Как они спросили точно: «Куда вы едете?» или...
— Они спросили точно: «Вы не в «Ермак»? — опередила Рая, задетая вниманием начальника. — И он вот слышал!
— Да, — подтвердил связист, молодой парень в темносинем берете, который казался притянутым к голове пушистым валиком тонких бакенбардов, сливавшихся с такой же тонкой бородой. — А точнее: «Вы случайно не в «Ермак»?
— Выходит, знали, куда надо, — заключил Давлет.
— Знали, — согласилась Рая.
— Мне это не нравится! — повторил суровее Давлет.
— Что не нравится?
— Что кто-то ехал в «Ермак» и не доехал, — пояснил Филипп Андреевич. — Сюда, за двадцать километров от цивилизации, просто так люди не являются! Это либо наши, либо не наши!
Задумалась и Рая.
— Один даже в тельняшке под курткой, и я сразу решила — наши! Правда, у них с собой ничего не было: ни рюкзаков, ни сумок, — с медлительностью вдруг припомнила она, наполняясь тревогой, которая мигом перешла в злость. — Вот черти! Нашли дурочку! — воскликнула она.
— Собственно, ничего пока страшного,— смягчился Филипп Андреевич. — Может, рыбачить собрались?
— Без ничего-то?
— М-да. За грибами рано. А больше зачем сюда? Ну, ладно, Рая, не расстраивайся! — успокоил он девушку, видя, что лицо ее пошло от волнения пятнами. — Но в следующий раз...
— В следующий раз я их подвезу! — пригрозила Рая. — Я их так подвезу, что они у меня забудут тот поворот! Или — на защелку и сразу на плац! Нате вам!
— Правильно!
— Бичишки! — проворчала Рая, уходя.
— Юнга Полыгин! — окликнул меня Давлет. — Срочно передай мичману Чижу: усилить пост на КПП!
— Есть!
— Хотя стоп! Я сам туда иду!
И Филипп Андреевич, объясняя связисту, сколько у нас на складе провода, аппаратов и батарей, повел его показывать, где нужно установить телефоны. И я сразу же забыл про каких-то пацанов, не доехавших до «Ермака», потому что не почувствовал тут ничего подозрительного — мало ли где шатается наш брат.
А в полдень, перед обедом, сработала вторая ступень ЧП: на верхней палубе раздался мотоциклетный треск, выкрики, топот ног по дощатым мосткам, лагерь всполошился и загудел. Выскочивший на палубу Филипп Андреевич прислушался к этому гуду, который, затихая, стал удаляться в лес, и кинулся к уже установленному телефону. Покрутив ручку и тщетно поаллокав, он бросил трубку и, бледный, сам поспешил на берег. Заметив, что я следую за ним, Давлет тревожно приказал:
— От штаба — ни на шаг! И следи за морем! Возможен десант противника! Чуть чего — стреляй! Сперва вверх, потом — по мотору! Ружье за печкой! Патроны в столе!
Я знал, что у Давлета за печкой стоит ружье двенадцатого калибра, а в столе лежат патроны — иногда, прибираясь в штабе, я тайком выдвигал ящик и ощупывал их, — но то, что мне разрешили, вернее, приказали вооружиться, было потрясением. Именно это, а не смутная суета на верхней палубе, означило для меня, что случилось ЧП. Достав ружье и натужно переломив его о край стола, я взял два патрона, один, «для воздуха», лихорадочно сунул в дуло, а второй, «для мотора», — в карман и заходил вдоль борта, обращенного к морю. И вспомнил вдруг Федю. Не знаю, дали ему там, в «Зарнице», винтовку или автомат, но ружье, настоящее, — вот оно! Сперва я плотно прижимал его к животу, потом, чуть привыкнув, стал подносить к глазам, несмело целясь и кхыкая в куликов и трясогузок, которые бегали по дрейфующим вблизи бревнам, и страстно желая, чтобы хоть какая-нибудь задрипанная моторочка вырулила из-за мыса и угрожающе двинулась к дебаркадеру.
Но залив был предательски пуст.
А вскоре лагерь оживился и как бы зажурчал, точно пересохший ручей, опять наполнившийся водой, и тут же из кустов вывалилась на урез гомонящая ватага, в центре которой были Давлет, мичман Фабианский и Ухарь. По общему возбуждению я понял, что все в порядке, и крикнул, потрясая ружьем:
— Э-ге-гей!
— Э-гей! — отозвался Димка, первым взлетел на палубу и хриплым шепотом сообщил, что Ухаря избили на горе и мопед чуть не отобрали. — Мы бегали ловить, но те пятки смазали! Война будет! Пушку бы скорей! — добавил он — уже для Давлета.
— С настоящими снарядами? — подыграл Филипп Андреевич.
— Ага!
— И тебя бы — пушкарем, ага?
— А-а! — заверещал Димка.
— Пушка едет!
Начальник взял у меня ружье, разрядил его и прошел в штаб. Я хотел по всей форме доложить, что за его отсутствие ничего не произошло, но понял, что сейчас не до этого, и протиснулся к Олегу. На его лице не заметно было ни синяков, ни царапин, а лишь пот да пыльные разводы. Филипп Андреевич сел за стол, сдвинул влево пишущую машинку, маленькую, черную, с нерусским названием, выдернул из стакана карандаш и вздохнул.
— Вот теперь рассказывай!
— Значит, так! Увольнение мое кончалось в четырнадцать ноль-ноль, поэтому из дома я выехал в двенадцать, с запасом, — мало ли что! — начал Олег.
И нарисовалась такая картина.
Поднявшись на перевал, к ретранслятору, Олег остановился, чтобы дать мопеду остыть и чтобы, по-моему, в последний раз вволю накуриться. Не услел он заглушить двигателя, как из кустов вышли трое парней Олегиного возраста.
— Привет! — сказал один, самый крепенький, в тельняшке под курткой и в газетной пилотке.
— Привет! — ответил Олег.
— Это «Ермак» там, внизу?
— «Ермак».
— Ты оттуда?
— Оттуда.
— Это у вас форма такая? Ничего форма, а, ребята? Нам бы такую! Махнемся? Он приподнял свою газетную пилотку, но Олег промолчал. — Не хочешь. Ну, дай закурить!
— Нету.
— А если обыщем? — Олег опять промолчал, чувствуя, что назревают события, и прикидывая, какие именно и как из них выпутаться. — Не хочешь. Ну, дай тогда прокатиться! — продолжал наращивать нахальство парень в тельняшке.
И переходя от слов к делу — цап справа за руль, второй подступил слева, а третий встал впереди, у колеса. Олег понял, что если откажет, то с ним разделаются сразу — одному ему не устоять против троих, готовых к схватке. Оставалось только тянуть время, надеясь на случайную выручку — Рая, например, подоспеет с обедом. Олег мельком глянул на часы — двенадцать тридцать. Рая будет тут лишь через полчаса. Столько не протянуть.
— Прокатитесь, — сказал он, и парни, явно не ожидавшие такого жеста, как-то растерялись и расслабились. — И шлем нате, — заботливо добавил Олег, расстегивая пряжку под подбородком, — а то здесь круто и заносит на гравии.
Остальное произошло в считанные секунды.
Рывком сдернув шлем, Олег внезапно трахнул им по голове морячка, так что газетная пилотка на нем звучно лопнула, а сам он, отпустив руль, застыл в каком-то удивлении, высоко подняв плечи. Левой ногой двинув второму по голени, Олег почти одновременно резким поворотом колеса ударил по коленям третьего, и дал газу. И был таков! Только шлем, вырвавшийся из рук при ударе, остался там, да вслед неслись ругательства.
— Примчался, крикнул парней и — туда, а тех поминай как звали, — закончил Олег. — Конечно, с полчаса прошло, можно умахать. И шлем уперли, гады!
Во время рассказа Давлет молчал и даже не глядел на Олега, а, шевеля губами и бровями, старательно рисовал какие-то мелкие цветочки. И когда тот замолк, и все уставились на Филиппа Андреевича, ожидая его суждений, он некоторое время продолжал разводить на бумаге цветы.
— Ясно, — сказал он, наконец, стукнув плашмя карандашом. — Ну, во-первых, ты настоящий ухарь — разбросал трех молодчиков! Кличка оправдалась! А во-вторых...
— Филипп Андреевич, это же те, которых Рая везла! — воскликнул я. — И трое! И тельняшка!
— Да. А во-вторых, это те самые! И хорошо, что они быстро проявили себя — меньше головоломок!
Олег, а ты не почувствовал, что им было нужно: мопед или ты? — Олег пожал плечами.— Это очень важно, потому что если мопед, то хулиганье, а если ты, то... Совершенно незнакомые ребята?
— Совершенно.
— А счеты с тобой некому сводить?
— Вроде нет. Рэкс, не твои?
— Исключено, — ответил Рэкс. — Сирдар?
— Не знаю.
— Вы перед отъездом сюда говорили кому-нибудь о лагере? — обратился Давлет к ним троим.
Ухарь с Рэксом мотнули головами — мол, нет, а Митька ответил, что да, сказал кое-кому, но те сами разъехались по лагерям, так что они ни при чем.
— Придется патрулировать! — заключил Давлет.
— А можно сделать пост на самой горе. Там в кустах автобус валяется — в нем и сделать! — предложил вдруг Димка. — Чуть кто показался — р-р! — закрутил он воображаемый телефон, — и все известно! И ни одна муха не пролетит!
— Далеко, — заметил кто-то.
— Это по дороге далеко, а напрямик — раз плюнуть! — горячо возразил Димка. — Мы вон только что бегали — далеко разве? А провод не обязательно сюда тянуть, а только до КПП. А оттуда уж сюда позвонят! Зато надежно!
— А что, это идея! Надо посмотреть! — одобрил Филипп Андреевич и показал в окно.— И вот там надо поставить караул, на мысу. Связь — флажной семафор.— И поднял трубку телефона. — Мичман Чиж? Бей тревогу!
И тотчас зазвенела рында.
Нас как выдуло из штаба. Через минуту личный состав стоял на плацу, а через две — Давлет уже говорил в мегафон. Ответив, что в окрестностях лагеря появились чьи-то лазутчики, Филипп Андреевич коротко обрисовал стычку Ухаря с тремя неизвестными и подчеркнул, что наше безмятежное время кончилось.
И после паузы:
— Юнга Лалаев, по кличке Ухарь, три шага вперед! — Олег вышел. — Внимание, лагерь! Сми-ирно! За находчивость и мужество, проявленные в стычкес превосходящими силами противника, юнге Лалаеяу объявляется благодарность!
— Служу! — просто ответил Олег, считая, наверно, неловким добавлять остальные громкие слова в такой хоть и серьезной, но не очень взрослой обстановке.
— Кому служишь? — уточнил Давлет.
— Лагерю «Ермак».
— Ну, спасибо и за это! — лукаво сгладил остроту диалога Филипп Андреевич, поняв состояние Олега. — Встань в строй! — И с улыбкой проследил за четкостью его движений, и даже прищелкнул языком. — Кажется, в королевстве Монако вся армия состоит из трехсот человек, так что если один ермаковец бьет троих, то мы, стало быть, можем сразиться с целой армией!
Губы, глаза и брови постоянно жили на лице Филиппа Андреевича — шевелились, играли, складывались в какие-то замысловатые комбинации, и, зная символы этой игры, можно было бы в любой момент сказать, о чем он думает, что хочет произнести и что намерен сделать, но выучить его физиономию, как какой-нибудь точный прибор, было, конечно, невозможно.
— Мы мирные люди, но если нам угрожают, мы не будем сидеть сложа руки. Надо готовить отпор! — заявил Давлет. — Не скрою своей тревоги! Лагерь наш находится в шатком положении! Хоть нам и разрешили открыть его, но первая же неприятность может погубить нас! Поэтому, ребята, бдительность, бдительность и еще раз бдительность! В лес по одному не отлучаться! Только группами! Обо всем подозрительном немедленно сообщать своему командиру или мне, лично! А завтра мы, на зло врагам, проведем большой праздник — подъем военно-морского флага!
— Ура-а! — грянули мы.
И начались приготовления.
Наш экипаж, аборигены, так вылизал всю лагерную территорию, что, наверное, муравьи остались без работы. Варяги во главе с Ринчином размечали и подправляли футбольное поле и волейбольную площадку. Алька размалевывал своего Посейдона. Не знаю, случайно или нет, но сделанная и собранная по частям посейдоновская физиономия, около метра в диаметре, своей мясистостью очень напоминала давлетовскую. Большеносый, пухлогубый, лопоухий, с надутыми щеками, бог морей дул, казалось, на залив, желая вызвать бурю, и аж покраснел от натуги. Рук у него не было, и трезубец, пятиметровую жердь, Алька прибил прямо к туловищу.
В соревнования, кроме футбола и волейбола, Давлет включил строевую, шлюпочные гонки и стрельбу из воздушек. Со строевой аборигены справлялись хорошо, со стрельбой — терпимо, а вот шлюпки не давались нам совсем. Мало среди аборигенов было рослых и сильных парней, а весла — как свинцовые, я и Димка лишь вдвоем осиливали одно весло. Но духом мы не падали, а тем более, что вводились дополнительные очки за порядок в кубриках, а уж тут мичман Чиж и Юра Задоля не давали нам спуску.
Долго отрабатывали процедуру почтения памяти погибших моряков. У каждого в отдельности жесты получались, но в общем — так разнобойно, что Филипп Андреевич не выдержал:
— Вы живые люди или чучела?.. Неужели это так сложно: при слове «минутой» дружно снять пилотку, а при слове «молчания» опуститься на правое колено?.. А ну-ка снова! Слова «минутой молчания» я заменяю командой «три-четыре», чтобы зря не тратить святых слов на ваши дрыганья! Приготовились! И...
В любом празднике среди массы удовольствий всегда есть одно, которое ждешь особенно! Завтра таким особенным будет купание! Эх! Жить у воды и даже на воде, все время ее видеть, слышать, ощущать, изнывать от духоты и жары и не купаться — это была пытка! Не купаться потому, что не хватает двух градусов до нормы! Да какой нормы? Что за дохляк придумал эту норму? Мы хвостом ходили за Татьяной Александровной, уверяя ее, что вода давно прогрелась и что вот-вот уже начнет остывать, но врачиха, с самого начала напуганная рассказом о пацане, который чуть не утонул — и конечно же, из-за холодной воды, все тянула и тянула с разрешением. И вот прошел слух, что завтра свершится! И при этом уточнялось, что если врачиха и заартачится, то Филипп Андреевич разрешит своей властью — не зря же вон подводники стыкуют плоты для бассейна!
Вечером, отобрав шестерых юнг, в том числе Ухаря, Давлет ушел на катере в город.
А ночью ударила рында.
Спросонья мы сорвались с кроватей в чем были и, уверенные, что на нас напали, сбежались на плац, вооруженные ремнями. Но вокруг были покой и тишина. Ярко светила полная луна, ее серебристое отражение мерцало на заливе огромной, от берега до берега, рыбиной, и весь мир при лунном свете походил на аквариум, где мы, в тельняшках до колен, были всего лишь стайкой окуней, испуганно затаившихся в водорослях.
Посреди плаца, в окружении мичманов, кашляя и размахивая руками, кричал Егор Семенович:
— Фулиганы!.. Вредители!.. Живодеры!..
— Успокойтесь, Егор Семеныч!
— Не успокойтесь, а сейчас же сыщите мне этого подлеца! Я ему принародно голову оторву!
— Ведь не нарочно же!
— Нарочно!
— Да кто знал, что именно вы подвернетесь и черпнете сверху? Это просто совпало, поймите же! И не стоит горячиться! — утешали мичманы завхоза.
— Где тут с вами столкуешься! Сами еще зеленые!— сердито заключил старик и пошел прочь, но через несколько шагов остановился. — Бандитов прикрываете! Да-да! Погодите вот, скажу Давлету — он закрутит гайки и вашим, и нашим! А тс ишь! Развелось начальства, а кулаком пристукнуть некому! В кустах вон полотенца разбросаны, на берегу кружки валяются! А сколько мисок и ложек утопили! До людей добрались! Молодцы! А если бы я подавился?.. Для них же убиваешься, как бы что получше сделать, сети вон ставишь, а они?.. Тьфу, ты, мать честная! — И зло сплюнув, Егор Семенович отправился восвояси.
Мы окончательно поняли, что никакого противника нет, но кто-то что-то подстроил старику, и, когда его шаги и ворчанья утихли, дежуривший мичман Кротов сказал:
— Прошу прощения! Тревога была ложной! Юнга Сирдар принял Егора Семеныча за Наполеона!
— За кого? — отозвался Сирдар.
— Вернее, кашель Егора Семеныча за Бородинскую битву! — уточнил мичман Кротов.
Оказалось, что вечером в лагере объявился дядя Ваня-заика. Они с Егором Семенычем ставили сети на мысу, потом засиделись у костра, и старик приплыл уже за полночь — у него появилась своя лодочка, которую он, совершенно разбитую, обнаружил в заливе левой бухты и любовно отремонтировал. Поднявшись на плац, дед захотел пить. А тут, под балконом ГПК, стоял бачок с водой — для дежурных. Краник тек плохо, Егор Семенович черпанул сверху. А кто-то пустил в бачок малька, который возьми да и попадись в кружку. Старик как хлебнул, малек как забился у него во рТу — дед и реванул. Мичман Кротов проверял посты, оставшийся на ГКП Сирдар вздремнул и, разбуженный ревом, не раздумывая ударил в рынду.
Мы ознобно хохотнули.
— Кстати, а кто пустил малька? — спросил мичман Кротов. — Это не для Егора Семеныча, а так, для порядка.
— Я! — вдруг признался Земноводный. — Юнга Протченко!
— А зачем?
— Чтоб он жил, — просто ответил Миша. — Я вчера драил пол, носил воду из залива. Он и попал, дурачок, в ведро. Я заметил, когда на плацу делал передышку. Куда его? Пропадет ведь! Увидел бачок, ну и туда. Через кран, думаю, не проскочит, и всегда будет в чистой воде. Вот и все.
— М-да, — крякнул мичман Кротов.
— А пусть он сверху не черпает! Это не положено! — вдруг возмутился Земноводный.
— Юнга Протченко, к тебе у меня нет претензий, а вот к дежурному... — И мичман Кротов повернулся к балкону, откуда, облокотившись на перила, независимо поглядывал на нас Сирдар. — Юнге Сирдару объявляю выговор!
— Ага! — выпрямляясь, воскликнул тот. — Будут тут всякие старики ночами рыбу глотать, а мне выговоры?
— За сон на посту!
— За сон! А что я, железный? Таблетки тогда давайте против сна, а не выговор! У меня уже сто выговоров! Плюнул — выговор, дунул — выговор! Куда мне их, солить? — распалился Сирдар и, удаляясь в застекленное помещение, пригрозил: — Ну, дед! В следующий раз я ему сам, и не малька, а лягушку подпущу!
— Отбой! — крикнул мичман Кротов.
17
Около десяти часов, когда мы в ожидании катера толпились уже на плацу, он вырвался из-за мыса и, пользуясь тем, что ветер унес бревна к тому берегу, во весь дух понесся к лагерю. По команде мичмана Кротова юнги бегом образовали коридор от мачты до самой воды. Все было как на открытии, только тогда нас было пятеро и встречали мы сто двадцать охламонов, а сейчас нас было сто двадцать и встречали мы шестерых лучших.
Я и Димка стояли у мачты и не видели, как причалил катер и что там происходило. Только вдруг на балконе ГКП из транзисторного мага Ринчина грянул марш, и над тропой Посейдона показались пилотки, потом головы, плечи — юнги вырастали постепенно, как пушкинские тридцать три богатыря.
Первым на плац вступили Олег и еще один подводник. Руками в белых перчатках они прижимали к груди настоящие автоматы. За ними следовали флагоносцы, держа за углы бело-синее полотнище с красной звездой и красным серпом и молотом. В белых форменках и черных брюках, они четко протопали к мачте и, развернувшись, остановились. Последними поднялись на плац Давлет, в той же морской фуражке и кителе, и какой-то военный, сторонкой направившийся к кубрикам. Мичман Кротов построил нас, как обычно, буквой «П» к мачте и доложил начальнику о готовности,
Филипп Андреевич крикнул:
— Равнение на флаг!.. Флаг поднять!
Левый флагоносец быстрыми восьмерками смотал с гвоздей фал, ловко прицепил к нему какими-то крючочками флаг и стал поднимать его, остальные поддерживали полотнище до последнего мига, даже привстали на цыпочки. В руках людей флаг был как бы мертвым и на первых метрах подъема оставался обвисшим, словно еще не веря в свободу, но вдруг шевельнулся, плеснулся туда-сюда, пробуя вольность движений, и ожил, и чем выше поднимался, тем крылатее трепетал, а на самом верху заполоскался уже вовсю. Ожила сразу и сиротливая мачта.
— Все! — крикнул Давлет. — Ура-а!
— Ура-а-а!
— Отныне мы не просто лагерь «Ермак», а частичка флота нашей Родины! И теперь защищать мы будем не просто себя, а честь военно-морского флага, за который не раз проливали кровь наши отцы и деды! Почтим память погибших моряков... минутой... молчания! — Как одна порхнули пилотки с голов, и как один юнги опустились на колено, не шелохнулись лишь автоматчики, и Давлет снял только фуражку. — Встать!.. Зажечь Огонь Славы! — В репетициях этого не было, и мы насторожились. — Огонь зажжет... — Филипп Андреевич прошелся вдоль строя, вглядываясь в наши лица, и вернулся на середину. — У кого на войне погибли родители, шаг вперед! — Никто не вышел, и Давлет удивился: — Что, ни у кого не погибли ни мать, ни отец?
— Мой папа в войну только сам родился, — заметил кто-то.
— Ах, да! — спохватился Филипп Андреевич, хлопнув себя ладонью по лбу. — Как время летит!.. Тогда так: у кого погибли ближайшие родственники?
Выступило человек десять, и Димка в том числе, к моему удивлению, и Давлет стал уточнять:
— Кто погиб?
— Дедушка.
— Кто погиб?
— Бабушка.
— Кто погиб?
— Бабушка и дедушка.
— Еще шаг вперед! — приказал он потерявшему бабушку и дедушку, у других было так же — по одному, по два погибших, остался Димка. — Кто погиб?
— Оба дедушки и обе бабушки! — ответил Димка.
— Три шага вперед!.. Остальные, в строй!.. В память всех бабушек и дедушек, погибших на фронте, юнга Лехтин, зажечь Огонь Славы! — воскликнул Давлет.
Димка растерялся было, но к нему подошел мичман Фабианский, вручил ему палку, обмотанную ватой на конце, и подвел ко врытой в земле высокой трубе, с приваренными поперечинами и с металлической чашей наверху, метрах в пяти-шести от ГКП, как раз напротив Посейдона. Кто и когда вкопал эту штуку — я, вездесущая душа, не знал. Чиркнув спичкой, мичман Фабианский поджег вату, чем-то пропитанную, Димка взял палку в зубы, перекосил голову, чтобы не опалить ушей и волос, живо забрался по поперечинам и сунул факел в чашу. Там вспыхнуло На фоне солнечного неба пламя едва было заметно, а только — дым. Спустившись стремительно и чуть не сев при этом на шею фотографу, Димка разгоряченно вернулся в строй.
Перед Огнем Славы мы прошлись парадным маршем, стройность которого сильно хромала из-за того же проклятого гравия. Каждый вечер полдесятка штрафников выравнивали его граблями и дощечками, как опилки на арене цирка после выступления лошадей, но за неделю он не уплотнился и не умялся, а, по-моему, стал еще капризнее — крутился и выскальзывал из-под ног, как намыленный. Дождь ему нужен и асфальтный каток, чтобы вдавить его в суглинок и сцементировать — вот тогда хоть замаршируйся!
На этом официальную часть Давлет объявил законченной и приказал сдать оружие. Военный взял автоматы, сел в тут же подкативший газик и уехал. Перехватив наши недоуменно-огорченные взгляды, Филипп Андреевич заметил:
— Я понимаю вас! Я просил у военкома хотя бы один автомат, но... Зато нам дали два карабина, и с завтрашнего дня мы начнем изучать их! — бодро заключил он под наш радостный шумок. — Оружие юнги — флотская смекалка и хитрость! Я чувствую, что назревает какая-то стычка. Не исключено, что кто-то окажется пленником. Плен — это полбеды! Беда — если пленника доставят домой, папе и маме! Это будет бесчестием лагеря! Поэтому с сегодняшнего дня вы засекречиваетесь! Вы получаете кодовые имена! Вот для чего, а не для зубоскальства, уважаемый Сирдар, я придумывал вам клички, ясно?
Мороз лизнул мне лопатки.
— Под любыми пытками вы — такой-то из «Ермака»! Чтобы вас вернули сюда! А какой — сейчас узнаете! — Давлет вынул из кармана листки, развернул их, огляделся по сторонам — нет ли шпионов, и с сомнением остановил взгляд на крайнем кубрике, откуда с усмешливым интересом наблюдали за нами Алька, Егор Семенович и Шкилдесса, которые не относились к личному составу и поэтому не нуждались в подпольных кличках. — Документ под грифом «Совершенно секретно»! — огласил начальник.
И список пошел.
Все старые прозвища остались, а новые — чего только не наизобретал Давлет, чего только не наобыгрывал! Рост, цвет волос, походку, характер, что-то неуловимо таяющееся в фамилии, но внешне ничего общего с ней не имеющее и, наконец, просто необъяснимое или непонятное: Нилов — Араб, Толстобров — Твердохлеб, Гоголицын — Тега-Тега, Швов — Ахтерштаг. Одному волосатому досталось девчачье имя Мэри, и его тут же давай обнимать. Строй волнами ходил от смеха, но веселье не мешало секретности, и Давлет не строжился. А я усиленно думал — что же выпадет мне?
И вдруг:
— Полыгин — Ушки-на-макушке!
— А-а! — залился Димка, хватая мою руку. — Разрешите познакомиться, товарищ Ушки-на-макушкин!
Я растерялся, потому что ждал другого — яркого и броского, а тут что-то заячье-серое — Ушки-на-макушке! Да и сложно — в три этажа, хотя с долей правды — я всегда начеку, многое слышу, вижу, понимаю и чувствую, так что в этом смысле Филипп Андреевич, пожалуй, не промахнулся. А вот не звучит как Ухарь, например, или как Земноводный! Даже Ридикюль звучнее! Надо было тогда согласиться с Димкой! А теперь носи вот — Ушки-на-макушке! Пока выговоришь — проголодаешься! Но в этой усложненности мне вдруг почудилось что-то привлекательное — не такой, значит, я тяп-ляпистый, чтобы в одно словечко уместиться — три подавай! Как Берта-у-мольберта! И, смиряясь, я спросил у Димки:
— Ну, как моя кличка?
— Во!
— А ты хотел — Ридикюль!
Сравнил! То я, то Филипп Андреевич! — буркнул недовольно Днмка, но тут же рассмеялся. — А можно еще — Пушки-на-опушке! Или Клюшки-на-подушке!
— Или Сушки-на-вертушке! — улыбнувшись, подхватил я.
— Мушки-на-четушке!
— Хрюшки-на-петрушке!
Изнемогая и чуть не валясь с ног от полусдерживаемого смеха, мы сочинили еще несколько бессмыслиц.
— Кошки-на-гармошке! — ляпнул Димка.
— Э, не складно! — поймал я его.
Мы опять подключились к общему вниманию И теперь я уже переживал за то, чтоб ни у кого больше не оказалось трехэтажного псевдонима. И — не оказалось.
— Амба! — заключил Давлет.
Вот где началось столпотворение! Во время читки мало что запомнилось, а тут все давай знакомиться заново, потешаясь и хохоча друг над другом, хотя ни одной явно обидной клички не проскользнуло. Сто двадцать прозвищ придумать, и не каких-нибудь с бухты-барахты, а толковых — это вам не сто двадцать кроватных сеток перетащить, и даже не двести сорок спинок!
Дав нам малость отвести душу и сам чуть передохнув, Филипп Андреевич спросил:
— Все довольны?
— Все!
— Если не нравится, могу дать взамен порядковые номера: первый, второй, сотый. Хотите?
— Не-ет!
— Дополнения будут?
— Будут! — отозвался вдруг мичман Чиж, вышагивая из строя. — Вы как-то заикнулись,что не будете возражать, если и вам дадут кличку. Поскольку и вас могут взять в плен и отвезти к папе с мамой, то разрешите предложить!
— Пожалуйста!
— Саваоф!
— Саваоф?.. Са-ва-оф!.. Хм, тут что-то есть!.. Нет, тут все есть. — Филипп Андреевич хихикнул. — Браво, мичман Чиж! С меня шоколадка! Принимается! Все слышали? Я — Саваоф! Бог! — И подбоченясь, Давлет с довольной физиономией замер на балконе. — Заношу в список! — Он достал ручку. — Хотя... Посейдон и Саваоф — не слишком ли много богов для одного лагеря?.. A-а, была ни была!.. Отныне этот список, в алфавитном порядке, будет висеть на ГКП! И все переговоры с постами вести только на кодовых именах! Никаких Петек и Васек! Ясно?.. На этом полуофициальная часть кончается! Через десять минут игры и соревнования на воде! Форма одежды — нагишом! У кого есть — плавки! — пошутил Филипп Андреевич.
— Ура-а!..
Татьяна Александровна еще и тут поманежила нас: измерила температуру воды в трех местах и трижды недовольно хмыкнула, а петом целую вечность разглядывала дно — не натянуло ли в бассейн топляков, но — разрешила купание, почувствовав, наверное, что иначе мы ее съедим заживо.
Чтобы всем скорее насладиться, Ринчин установил поэкипажные пятиминутки. Аборигены шли вторыми. Скользивший по деревьям ветер, срываясь с них, как с трамплина, не сразу падал на залив — рябь начиналась лишь метрах в десяти за бассейном, но и в бассейне воду он хоть и не взбаламутил, но перемешал, уклонив от нормы ее температуру явно дальше двух градусов. Но нас эго не смутило. Эх, и набесились мы с Димкой, эх, и набулькались! Заметив что-то белесое на дне, я нырнул и вытащил чашку — кто-то мыл и выпустил, прав был Егор Семенович. А Димка достал еще кружку с ложкой — весь комплект.
А тем временем мичманы Фабианский и Чиж намылили сделанный еще вчера бушприт — пятиметровый березовый ствол, очищенный от коры, — повесили на его конец морской ремень — приз! — и предложили попытать счастья. И посыпались, полетели в воду наши тела — спиной, боком, животом, враскорячку, сжавшись — кто как, но и самый ловкий не добегал до ремня на целую треть. Срывались и мичманы, даже мичман Чиж, пропорхивавший почти все бревно. Они уже хотели придвинуть приз, когда кто-то выкрикнул, что этот трюк удастся только богу Саваофу. С ликованием десяток рук мигом взметнули на метровую тумбу стоявшего тут же в плавках начальника и, несмотря на его дрыганья и вопли, вытолкнули на бушприт.
Сделав шага три, Давлет поскользнулся и под общий хохот плюхнулся в воду. Но смеялись мы недолго — выпучив глаза и издав что-то вроде «ап-ап», Филипп Андреевич пошел на дно. Оба мичмана нырнули, поймали его и помогли выбраться на бревна. Все произошло так быстро, что Давлет не успел захлебнуться.
— Ой! Ой! Ой! — икая, отплевываясь и отчихиваясь, заойкал начальник, опершись на одну руку и второй растирая живот, словно там именно был центр всех волнений. — Я так и знал, что двух богов будет много для этой неверующей братии! Ой, сумасшедшие! Спутали Посейдона и Саваофа, черти полосатые! Это он подводный житель, а не я! Я не умею плавать!
— Как? — удивились мичманы. — Вы же флотский!
— Ну и что!
— Бывший подводник!
— Ну и что!.. То есть умел, конечно, а потом случилась одна штука и — как обрезало! Я боюсь воды. Оказавшись в воде, я становлюсь куском свинца. Даже дома только полванны наливаю, чтобы не утонуть! — Он улыбнулся, вздыхая, наконец, глубоко и облегченно. — Уф! Хотел утаить! Утаишь от вас!
Сидя перед Филиппом Андреевичем на корточках, я внезапно вспомнил его недавнее плавание на плотике, который легко бы мог опрокинуться от случайного шквала или от волны идущего порожняком буксира, и уже на том свете дожевал бы наш Саваоф Димкину серу от покойников. На моем лице выразилось, наверно, что-то странное, потому что Давлет спросил:
— Ты что, Ушки-на-макушке?
— Я?.. — я хотел узнать, зачем же он садился на тот плотик, зачем рисковал, не беря даже спасательного круга, но вдруг понял, что это детский вопрос, что если рисковал, значит, надо было, и что круг смутил бы Ухаря и Рэкса. И вообще взрослые рискуют, наверно, чаще, чем мы замечаем.
Давлет улыбнулся.
— Доволен кличкой?
— Хм!
С тебя плитка шоколада! Помнишь — обещал?
— Это же вы обещали»
— От твоего имени. Гони шоколад!
— Хм, ладно! Вот пойду в увольнительную!
— А вы — мне, — сказал мичман Чиж, — тоже обещали!
— М-да! Уплыла шоколадка!
— А вы мне! — обратился Димка к мичману Чижу.
— За что? — не понял тот.
— За так! За дружбу! За то, что я самый шкентельный! А я обратно Семке, то есть Ушки-на-макушке, тоже за дружбу! И вышло, что не надо шоколада! А-а!
Димкино верещанье перебила рында.
Среди солнца, блеска воды и обнаженных тел тревога показалась такой невероятной, что какое-то время мы, застыв, соображали, в чем, собственно, дело.
— Полундра! — закричал Филипп Андреевич, поднимаясь.
И лишь тут наша полуголая орава, кто вплавь, кто по плотам, кинулись на плац. Там стояла Раина машина, и около нее, разгоряченно жестикулируя, Рая что то рассказывала мичману Кротову. Мы обступили их, и шоферша объявила Давлету:
— Вот, как обещала, привезла шпиона!
Филипп Андреевич втянул живот, как бы нечто сказав этим.
— Попался, как кур во щи. На том же повороте и с тем же вопросом, не в «Ермак»- ли я еду! Нашли дежурную дурочку!
— Становись! — скомандовал Давлет.
18
Мы нетерпеливо построились, не сводя глаз с дверцы, за которой сидела странная личность — шпион! Не из книг и не из телевизора, а живой, настоящий наш противник!
— Можно? — спросила Рая.
— Давай! — разрешил Филипп Андреевич.
Со значительным жестом, как дрессировщица, выпускающая из клетки тигра, шоферша дернула шпингалет и распахнула дверцу. На землю спрыгнул щуплый паренек, в серенькой рубашке, с газетным паке-
том под мышкой. Растерянно оглядевшись, он переметнул пакет под другую руку и замер, как вратарь в воротах, где штангами были Рая и Филипп Андреевич.
— Ты кто такой, цыпленок жареный? — спросил Давлет, беря у него пакет и ощупывая содержимое.
— Осторожней! — вырвалось у паренька.
— А!
Сверток упал на гравий, и все, кто находился на плацу, отшатнулись, загораживаясь руками. Но взрыва не последовало. Последовало то, что паренек поднял сверток и сказал:
— Это пирожки.
— Пирожки? — удивился начальник. — Какие пирожки?
— С печенкой.
И тут Димка, все время беспокойно тянувшийся вправо, чтобы толком разглядеть то, что происходит у машины, стоявшей к нам боком, метнулся вперед с криком:
— Федя!
— Федя! — заорал и я, кидаясь следом.
— Димка!.. Семка!..
Слепившись в один комок, мы кружились на виду у всех, приплясывая, мыча и хлопая друг друга по лопаткам, пока Федя, спохватившись, не притормозил нас. И Димка запоздало объяснил озадаченному Давлету:
— Филипп Андреевич, это мой брат!
— Брат?
— Врет он! — крикнул Рэкс с балкона ГКП.
— Молчи там, Рэксина!.. Брат, Филипп Андреевич!
— Родной?
— Да, — ответил Федя, почувствовав себя уверенней. — Я приехал попроведовать его. Вот и пирожки, мамин гостинец. Спасибо вам! — с легким поклоном сказал он Рае.
— Хм! — ответила та.
— Брат, значит! — подытожил начальник, бдительно присмотревшись к обоим Лехтиным и найдя, очевидно, сходство, которого нельзя было не найти. — Олег, а ты не узнаешь этого брата? — спросил он на всякий случай.
Олег подошел, оглядел Федю и мотнул головой.
— Нет.
— Ну, ладно! — сожалеюще сказала Рая. — Брат так брат. Все равно доброе дело сделала. Но я вам еще привезу шпиона! Я вам всех шпионов Советского Союза перевожу! — Она усмехнулась, села в кабину и умчалась на верхнюю палубу.
— Отбой! — крикнул Давлет.
Братва с гиканьем унеслась к бассейну. Федя развернул газету, где оказалось десятка два румяных пирожков, и протянул ее Филиппу Андреевичу.
— Угощайтесь!
— М-м! — мурлыкнул он. — С печенкой, говоришь? — И, щекотнув свое арбузное брюшко, взял пирожок, куснул его и восторженно поднял брови. — М-м, передай маме спасибо!.. Вообще-то, знай впередь, встречи с родственниками разрешаются только за шлагбаумом, к тому же у нас осадное положение, но...
— Мы сейчас уйдем, — сказал Федя.
— Но, — продолжил Давлет, — раз уж ты въехал сюда, и раз уж у тебя такие вкусные пирожки, из которых я, с вашего позволенья, возьму еще один, — и он взял, — то разрешаю маленькую экскурсию по лагерю. Минут через двадцать Рая поедет за обедом — можешь воспользоваться. Да, а маме еще передай, что юнга Лехтин служит образцово! — И, глянув на меня, добавил: — А если встретишь Полыгиных, то им тоже передан, что и юнга Полыгин служит образцово! — И сквозь кусты Филипп Андреевич направился в штаб.
— Хороший у вас начальник! — оценил Федя.
— У-у!.. Минутку подожди тут!
Мы сбегали в кубрик, где дневальный, из новеньких, домывал полы, живо переоделись и вернулись.
— О-о! — протянул Федя, увидев на нас форму.
— А ты как думал? — сважничал Димка, поправляя ремень и пилотку. — Настоящие!
— Ух, ты!
— А ты почему не в форме? Или в «Зарнице» нет?
— Есть, но я в увольнении.
— А нам Филипп Андреевич приказывает не снимать робу даже в увольнении! — заметил я.
— А какого цвета ваша форма? — спросил Димка.
— Зеленого.
— A y нас — во!
— Хорошая!.. А это кто? — кивнул Федя на Посейдона, усы которого пошевеливались на ветерке.
— Посейдон! Бог морей! — сказал я.
— Да-а! — восхитился Федя. — А меня за кого приняли?
— За шпиона! — хохотнул Димка.
— Как это?
— А вот так!
И мы наперебой рассказали ему про трех лазутчиков, напавших на Олега. Оказалось, что и вокруг «Зарницы» происходят какие-то подозрительные движения. Мы решили, что это, может быть, орудует одна и та же шайка. Димка посоветовал передать Фединому начальству, чтобы оно усилило караулы, как это сделали мы, выставив дополнительный пост на перевал, по его, Димкиной, идее, и выставим еще — на мысу, так что теперь к лагерю ни с суши, ни с моря не подобраться. И без передышки — дальше: о мачте, о подъеме флага, об автоматчиках, об Огне Славы. Федя одобрительно кивал, вертел головой, пристально ко всему приглядываясь и коротко сравнивая с тем, как у них. Мачта их ниже и без расчалок, флаг меньше и красного цвета, зато автомат — постоянно, правда, они лишь изучают его, а не стреляют, а вот Огня Славы нет совсем.
— Плохо, что вы не охраняете! — кивнул Федя на флаг.
— Как это не охраняем? — возразил Димка. — А дежурный на ГКП? Это же под носом! Чуть чего — в рынду, и вся армия тут! И кишки выпустим кто сунется!
Рында Федю заинтересовала. Сказав, что у них тревога поднимается горном, Федя спросил Рэкса, который, не отлипая от перил, следил за каждым нашим шагом:
— Можно потрогать вон ту штуку?
Рэкс нахально промолчал.
— Он глухой,— заметил Димка.
И Федя крикнул:
— Можно?
— Чего орешь, локшадин? Сейчас вот сниму ту штуку да врежу между глаз — будет вам экскурсия! Экскурсанты! Может, вас еще в штаб пустить? В сейфе пошариться? Нашли музей! В гальюн вон идите на экскурсию — там ничего секретного! А от ГКП проваливайте! — зло выпалил Рэкс, как будто ГКП ломилось от секретов, хотя там находились лишь телефонный коммутатор и вахтенный журнал, да и в самом штабе ничего секретного пока не было, если не считать секретом подробную карту Внутреннего Японского моря, на которое чихать и нам, и нашим шпионам! Хотя нет, сегодня появился совершенно секретный список наших кличек.
— Ладно, не командуй! — отмахнулся Димка и, принимаясь цедить воду из бачка, весело рассказал, как вчера ночью Егор Семенович едва не подавился тут мальком, а Сирдар, такой же охламон, как вот этот, — Димка преспокойно кивнул на Рэкса, — подумал, что на нас напали, и поднял тревогу.
— Про-ва-ли-вай-те! — грознее повторил Рэкс.
Рэкса я уже ни капельки не боялся, но был терпелив на обиды, смущаясь неизбежных при объяснении криков и упреков, а тут, при Феде, я не выдержал, пронзительно ощутив вдруг, что нет, никогда нам с Рэксом не примириться и, и тем более, не стать друзьями, потому что между нами не трещина, а пропасть, и я выпалил в его ледяной прищур:
— Сам проваливай! И не с ГКП, а вообще!
Верхняя губа Рэкса дернулась прямо по-собачьи, и дело приняло бы дурной оборот, если бы не зазвонил телефон. Рэкс метнулся к аппарату, а Федя сказал:
— Ладно. Где вы спите?
— Рэксина! — выдохнул начавший было надуваться и насупливаться Димка. — Айда!
— Большие у вас палатки!
— Это кубрики. Палатки мы называем кубриками, а столовую — камбузом!.. Он с нами! — обратился я к дневальному, который и не помышлял нас задерживать.
Пол свеже влажнел.
Придирчиво оглядев кубрик и заметив под одной из кроватей лужу, Димка спросил по-мичмански:
— Почему сыро? 1
— Мыл.
— И что, хочешь лягушек развести?
— Нет.
— А кого, крокодилов?
— Сейчас! — ответил растерянный дневальный, схватил со ступенек тряпку и полез под кровать.
Чистота, задранные для проветривания пологи, затененность соснами — все это, кажется, понравилось Феде, но он больше не сравнивал со своим жильем.
Увидев в Димкином шкафчике для личных вещей шахматы, Федя спросил, кто побеждает. Мы ответили, что еще не играли ни в шахматы, ни луков не мастерили, ни штабов не строили — ничем из того, что хотели делать и что делали бы дома, не занимались, потому что новая жизнь увлекла нас новыми делами.
Поднялись к камбузу. Там как раз грузили в машину лотки для хлеба, фляги и термосы. Рая помогала юнгам. Помогли и мы. Перед прощанием я тихонько предложил Феде:
— Может, правда, в гальюн хочешь?
— А что там особенного?
— Ничего, но флотский все же!
Федя усмехнулся. Внезапно встрепенувшись, Димка наклонил брата и прошептал:
— Федь, возьми «пушнину»!
— Какую?
— Да набрал тут.
— Не позорился бы!
— Никто не знает! Только Семка!
— Ну, даешь!.. Сколько?
— Штук двадцать.
— Ого! Кто это у вас пьет?
— Не у нас, а по берегу — рыбаки. Возьмешь?
— Неудобно, — вздохнул Федя, которому явно не хотелось упускать добычу. — Звенеть будут. Знаешь, как трясет! О, скажут, отоварился! Вон какой, скажут, брат ему нужен!
— Ну и пусть!
— Не-ет! Если бы пешочком! Далеко!
— А тут где-то есть напрямик. О, дядя Ваня еще, наверно, не ушел! — воскликнул Димка. — Идея!
Рая, садясь в машину, спросила:
— Ну, братец, едешь?
— Нет, — ответил Димка. — Мы потом!
Мы заскочили в кубрик за рюкзаком и знакомой тропой поспешили на мыс. Нас встретил лай Бурана и дяди Ванино тых-тых-тых, которое мигом успокоило собаку. Рыбак сидел на бревне, протянув к догоравшему костру босые ноги с крючковатыми грязными пальцами, и хлебал уху, положив на колени дощечку. Кивнув на котелок, он предложил нам угощаться, но мы, чтобы не затягивать время, отказались и сразу — за дело. Услыша просьбу, дядя Ваня охотно согласился взять Федю с собой.
— А мне-то что! — брызнул он юшкой. — Тых-тых, даже веселее будет! Тут час ходьбы-то! Да вот ноги потеют, зараза! И ведь средство, тых-тых-тых, знаю — напарить лиственничной коры и принять три сеанса — и как рукой снимет! — а все некогда. Советую! — Ткнул он в плечо меня, подсевшего к нему справа.
— А у меня не потеют, — сказал я.
— Еще запотеют! Или мамке с папкой передай! Тых-тых, три сеанса — и никакой заботушки!
— Ладно.
— Мы пока приготовим, — шепнул мне Димка. — Тайник тут рядышком, под корнем.
Братья скрылись в кустах, а я после некоторой нерешительности вдруг спросил:
— А средство от заиканья вы знаете?
— А зачем?
— Чтобы вылечиться.
— Разве я, тых-тых, заикаюсь? — весело удивился рыбак, опять настаивая, чтобы я смотрел на него. — Слышь-ка, вот дед мой заикался так заикался! Он с утра начинал говорить «есть хочу» и только к вечеру выговаривал. Чуть, тых-тых , с голоду не помер!.. А что, лечат?
— Да. Шоком.
— Чем?
— Ну, это... неожиданностью!
— A-а, испугом! Знаю! Нет, тых-тых, не к чему мне уж лечиться, да и опасно — я житья не дам с разговорами ни дома, ни соседям, ни на работе! Видишь, какой я болтун! — затормошил меня дядя Ваня. — А так пока, тых-тых-тых, раскочегарюсь — человек и улизнет!.. Но за болтовней, если честно, от меня можно мно-ого полезного взять! — проговорил он, таинствено понижая голос и намекая, очевидно, на средство против потливости ног.
Усмехнувшись, я перевел взгляд на Бурана. Он сидел перед дядей Ваней столбиком, держа у груди передние лапы, и хозяин складывал ему в пасть рыбные кости, укроп, лавровый лист — подряд все отходы, не разбирая, съедобные они или нет. Собака сама сортировала — живая помоечка да и только.
— Смешной, — заметил я.
— И главное — породистый: смесь дворняги с осетром, тых-тых-тых, то есть с сеттером!
— А что он еще умеет делать?
— Зевать.
— Как?
— А вот тых-так!
Оставив пустую чашку, дядя Ваня потянулся, заламывая руки за голову, и зевнул со смачным кряком. Буран вдруг упал на все четыре лапы, вытянул передние, простер по ним голову и тоже зевнул, открыв черную пасть с белыми зубами.
Я рассмеялся и попросил:
— А ну-ка еще раз!
— Погоди, дай накопить! Хотя все, тых-тых, нам уже некогда зевать — прозеваем работу! — глянув на ручные часы, спохватился дядя Ваня и поднялся. — Захотите ухи — вот, я ее в яму суну, в холод. — И он полез в перекошенный шалаш, залатанный кусками коры, бересты и досками — всем, что можно подобрать на берегу. — Хотели мы с Семенычем вам рыбки добыть, да не вышло, — приглушенно донеслось до меня.— Я ему, тых-тых-тых — давай сети слева поставим, а он уперся — на самом мысу! Ну, и остались без рыбы! Тых-тых, с десяток окушков несу вот домой!
Он выполз из шалаша с телогрейкой и рюкзаком, уже в кепочке, натянул на ноги что-то считавшееся, наверно, носками, обул пятнистые сапоги и молодцевато вскочил.
— Мне собраться — что голому намылиться!
— Дядя Ваня, тых-тых... Ой! — испуганно воскликнул я, закусывая нижнюю губу. — Извините! Это я не н-нарочно, ой, честное слово! Само выскочило!
Тых-тых! — довольно щурясь, успокоил меня Дядя Ваня. — Не волнуйся! Я знаю, что это штука заразительная! Не ты первый, не ты последний! Дома меня все, тых-тых-тых, как будто передразнивают! Со мной пять минут побудь — и все, начнешь заикаться, как пить дать! Ты еще долго продержался!
Я помолчал, наблюдая, как дядя Ваня, поднимая клубы пепла, старательно затаптывает костер. Потом спросил, жестче и медленнее двигая губами, чтобы не обмолвиться:
— А звери тут есть?
— А как же! Как ночь — так слышу!
— Кого?
— Ондатру.
— Ондатру? — удивился я.
— Н-да. Ондатра тут живет.
— А медведи?
— Ну-у, тых-тых! — протянул рыбак. — Медведи!.. Как начали ГЭС, считай, уже, тых-тых, лет двадцать тому, так мы и забыли, кто такие медведи и с чем их едят!
«Э, нет!» — чуть не возразил я, но воздержался. Похоже, что дядя Ваня, бывая здесь лишь раз в неделю и ничем, кроме рыбы, не интересуясь, сам толком не знал тайги. А вот залезет к нему как-нибудь мишка в шалаш и скажет «подвинься» — живо узнает, кто кого и с чем ест! Будет ему средство сразу от заиканья и от потения ног. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно!
Подоспели Федя с Димкой, вместе неся за лямку увесистый рюкзачок, и мы отправились.
Дядя Ваня немедленно, тыча Федю в плечо, начал рассказ о том, как он нынче зимой на рыбалке выменял за десяток окуней новехонькую кроличью шапку, у мужиков, которые приехали на машине, но ничего не поймали.
Я вдруг с какой-то грустью понял, что дяде Ване совершенно безразлично, кому и что рассказывать — лишь была бы живая душа рядом! Он, по-моему, и с Бураном разговаривает. Вот уж наслушается Федя за час! Вот уж наберет полезного! До синяков истычет ему плечо дядя Ваня и наверняка обратит в заику!
Против лагеря мы помогли Феде вскинуть рюкзак на спину и простились. Едва путники скрылись за кустами, как до нас долетело нетерпеливое тыхтыханье о новом приключении.
19
Как я и предчувствовал, шлюпочные гонки мы проиграли. Проиграли, увы, и в футбол с волейболом и даже — строевую. Только по стрельбе заняли второе место. И хотя за порядок в кубриках нам присудили главные очки, в общем мы оказались в хвосте. Это было печально, но поскольку все проходило весело и интересно, мы не очень-то горевали. Праздник заканчивали у костра. Прокаленный солнцем и, для бурного старта, обрызганный бензином, четырехметросий бревенчатый конус вспыхнул и затрещал так, что на соседнем берегу очнулось эхо. Дебаркадер, ближайший лес, подтопленная листвяшка и «Крокодил», начавшие тонуть в сгу-щавшемся сумраке, мигом осветились и как бы при-бшо лись, но впечатление ночи под низким, в тучах, небом усилилось.
Расселись на уложенных полумесяцем . бревнах. Мичман Чиж принес баян, и Филипп Андреевич воскликнул:
— Просим лагерный гимн!
— Гимн! — подхватили мы.
— Гимна нету, братва! Не сумел! — без особой скорби признался мичман Чиж. — А вот припев есть!
— пропел он. — Братва, запоминай слова! — Дал переборчик и пропел еще раз. — А ну-ка вместе! Три-четыре! — И мы дружно грянули этот простенький бодрый мотивчик.
— Филипп Андреевич, а почему у вас везде Посейдон, а не Нептун? — спросил мичман Кротов.
Давлет пожал плечами.
— Не знаю. Дело, наверно, вкуса. Для меня в Посейдоне больше русского. Что сделай? Посей! Посеяли девки лен! Посею лебеду на бережку! А мы просо сеяли, сеяли!.. Сейте разумное, доброе, вечное! Прекрасный глагол! А что Нептун?.. Болтун, свистун, хвастун! — Филипп Андреевич поднялся и обернулся к нам. — А ну, посейдончики! Давайте-ка хором. Про нашего предка, чье имя носит наш лагерь, — про Ермака! Мичман Чиж, три-четыре! — И, взмахнув руками, сам же затянул:
— Ну, ермаковцы, поддай!
Но слов никто, кроме мичманов да подсевших ближе к баяну Раи с Татьяной Александровной, не знал и после двух куплетов песню оборвали. Давлет возмутился:
— Марсиане вы, а не сибиряки — не знать таку песню!.. Эх, нет комиссара! Не с кем кашу сварить!. Мичман Чиж, каждый вечер петь с ними «Ермака»
— Есть! А может, ее и сделать гимном?
— Гимном — нет, слишком печальная, а вот фирменным блюдом — пожалуйста! Тут есть соль! — сказал Филипп Андреевич. — Что, и «Славное море, священный Байкал» не знаете?.. Ну-ка, проверим! И пуст они только мне не подпоют!
Но эту песню мы подхватили довольно уверенно по крайней мере, начало, но и дальше пошло. Ее угрюмость и протяжность хорошо сплетались с огнем, ночью и с сознанием того, что частица байкальской воды, о которой пелось, шевелилась у наших ног, а ветерок, то и дело завихрявший пламя, можно было считать частицей баргузина... Филипп Андреевич прохаживался, наблюдая, кто разевает рот и как — не сачкует ли. После слов: «в дебрях не тронул прожорливый зверь» Димка, оравший во все горло, осекся и шепнул:
— Интересно, как там Федя?
— Где?
— Да в лесу.
— Он уж дома давно!
— Да? — с надеждой переспросил он. — А звери прожорливые? Ты же говорил, что зверей тут полно!
— Я не говорил, что полно!
— А сколько?
— Может, всего один!
— Феде и одного хватит.
— И тот бродит ночью.
— А днем он что, испаряется? — не унимался Димка. — Это ночью он ближе к лагерю подбирается, а днем сидит где-нибудь в глубине. А Федя как раз через глубину и пошел!
— Он же с дядей Ваней!
— С дядей Ваней! —со вздохом передразнил Димка, полуобернулся к лесу и прислушался, точно немедленно хотел получить какие-то сведения о брате. — У дяди Вани самого такая зверская рожа, что ай-да-ну!.. Может, он и есть тот зверь, который к тебе на костре ломился? Может, он этот, который оборачивается?
— Оборотень?
— Ну?
— Сам ты оборотень! Наплел тут! — сердито прошептал я, но Лесная темнота окрест сразу наполнилась враждебным придыханием каких-то голодных я скользких существ, в приглушенном стуке электростанции за камбузом почудилось сдавленность, а в легкий подсвет невидимого фонаря на плацу вкрался таинственный намек.— Дядя Ваня — нормальный человек, только заикастый! Он вон даже советовал, как чтобы ноги не потели! Будет тебе оборотень советовать! Ему все равно, какие у тебя ноги — ам! — и нету, вместе с потными ногами!.. И еще уху разрешил поедать!
Димка проворчал:
— Черт меня дернул с этими бутылками! Лежи они тут сто лет! До увольнения! А там бы я сам! Пусть бы они звенели в машине — мне все равно! Я санитар леса!
— Пой давай, а то вон Филипп Андреевич зырит! — И под самым носом Давлета, который из-под ладони грозно вглядывался в нашу массу, мы перекосили рты, якобы надрываясь от усердия, хотя со слов уже давно сбились.
Когда кончили, он довольно заключил:
— Ну, то-то!
— Расскажите лучше что-нибудь, Филипп Андреевич! — попросил кто-то, и все подхватили просьбу.
— Что рассказать?
— Про войну!
— К сожалению, я не воевал, — сказал начальник. — К сожалению, я причисляюсь к вашим отцам, которые во время войны сами под стол пешком ходили.
— А у вас есть дети?
— Есть. К сожалению, дочь.
— Почему «к сожалению»?
— Будь это парень, я бы из него сделал моряка!
— Вот и расскажите про море!
— Ну, хитрецы! — усмехнулся Давлет. — Вы же видели в бассейне, какой из меня моряк получился!.. А впрочем, есть одна история! Она и нас касается... Стояла как-то наша подводная лодка в Филиппинском море. Была жуткая жара — пекло. Мы — к командиру. «Разрешите искупаться!» «Нет!» Чуть погодя — второй раз, и опять нет! Наконец, в третий. Он нахмурился и приказал: «Построиться на палубе! Форма одежды — плавки!» Мы обрадовались, построились, ждем. Командир поднялся. «Где кок? Кока сюда!» Кок явился. «Принеси кусок мяса!» Кок принес. «Брось в воду!» Кок бросил. И тут же появились две акулы и заходили вокруг лодки, высунув плавники. «А теперь купание разрешаю!» — сказал командир.
Филипп Андреевич замолчал, и некоторое время слышался только шелест огня в костре.
— И все? — спросил кто-то.
— Все.
Опять помолчали.
— И никто не искупался? — уточнил Задоля.
— Ну, если бы там находился Мальчик Билл, он бы, конечно, искупался! — под общий смех заключил начальник. — Но среди нас не нашлось Мальчика Билла.
А я подумал, что а вдруг нашелся? Вдруг этим Мальчиком Биллом оказался сам Филипп Андреевич? И уж не после этого ли происшествия он стал бояться воды?
И я спросил:
— А почему это касается нас?
— Потому что и у нас купаться опасно.
Вся братва, как один, повернули головы к заливу. Было понятно, что купаться у нас опасно из-за холода и топляков, но мне невольно вообразились и утопленники, и водяные, и те же скользкие и голодные существа, которыми я перед этим населил лес. Не верилось, что днем мы тут купались, во всяком случае сейчас я бы и за его рублей не прошелся по «Крокодилу», не говоря уже о том, чтобы побулькать с него ногами в воде! И я спасительно перевел взгляд на костер. В дровах были какие-то пороховые щели или волокна,которые крепятся-крепятся до времени, а потом вдруг — пш-ш-ш! — и несколько секунд свистит яростная огненная струя, словно чурбак ракетой хочет вылететь из костра.
Я вдруг увидел, как из леса бесшумно прилетела сова, уселась метрах в пятнадцати от нас на березу, повертела своей глазастой головой и так же бесшумно провалилась в низовую черноту берега. А ты гадай — сова это была или привидение, или связной между водной и лесной нечистью.
Сидевший за мной и прерывисто-шумно дышавший мне в затылок Земноводный хлопнул меня по плечу.
— Ушки, пропусти-ка меня вперед, там теплее, а то меня что-то познабливает! Как бы это...
— Иди.
Кого-то выдавив и получив за это по шее, он устроился и тотчас потребовал:
— Еще историю!
— Еще-е!
— Пусть вон Егор Семеныч расскажет! Он, наверно, прошел огни и воды и медные трубы! — обрадованно проговорил Филипп Андреевич, заметив приближающегося от дебаркадера завхоза, с какой-то белой тряпкой и кружкой в руках.
— А что я им расскажу? — пожал плечами старик.
— Про Конную Армию! — вырвалось у меня.
— Про кого?
— Про Конную Армию!
— Это про какую же?
— В которой вы сражались!
— Ни в к^ких Конных Армиях я не сражался — серьезно и даже с обидой возразил Егор Семенович, и я престыженно умолк, спохватившись, что это всего лишь кавалерийские ноги старика внушили мне уверенность, что он служил в Конной Армии. — Я вообще ни разу, к счастью, не воевал! Всю жизнь — по хозяйству! Руки везде нужны! Да и с вами опять: вы воевать — я хозяйствовать, вы ломать — я сколачивать, вы разбрасывать — я поднимать! Вот, — показал он тряпки, — умывались и полотенце на плоту оставили. И кружка опять же! Даже ночью хожу подбираю за вами! Я уже в небо разучился смотреть, все в землю! В мире всегда две силы: одна туда гнет, вторая — обратно, поэтому он и прямо стоит! А как же! — наладился было Егор Семенович пофилософствовать, но сам же, кажется, понял, что ни к чему нам сейчас его наставления. — Вот и весь мой сказ-рассказ: соблюдайте порядок — порядок и будет!
В костре что-то сдвинулось, и он как бы присел на корточки, пустив в небо столб искр. У «Крокодила» сильно плеснулось, и чей-то настороженный голос заметил:
— Щука!
— Ондатра! — поправил я. — Тут ондатра живет.
Мичман Чиж рванул меха и запел:
— Семеныч, зачерпни там! Ты с кружкой!
— Муть у берега, — ответил старик.
— Дайте я! — сказал подскочивший Ринчин, беря кружку. — Я тоже хочу пить! — Он легко, не балансируя руками, прошел на конец «Крокодила», как будто повиснув в темноте, напился там, крякая, и принес полную кружку мичману Чижу.
— Малька не подцепил? — усмехнулся мичман, заглянул в кружку и обмер. — Мамочка!
— Что? — смутился физрук.
— И ты пил такую воду?
— Какую?
— Посмотри!
Оказалось, что в кружке черным-черно от бормашей, головастиков и прочей живности, которая всегда вьется и вертится вокруг теплых бревен. Ринчин икнул,выпучил глаза и, схватившись одной рукой за живот, прошептал:
— Спирту! Я их убью!
— Ну-ка! — К кружке сунулась Татьяна Александровна. — Ужас!.. Тут действительно нужен спирт! Минутку! Я сейчас!
Она торопливо, натыкаясь на кусты и охая, поднялась к хозкорпусу, где был медпункт, и быстро вернулась со склянкой. Выплеснув муть, она налила в кружку спирту.
— Чистый! Пей!
Ринчин залпом выпил и принялся растирать живот в разных направлениях, приговаривая:
— Сдыхают!.. Сдыхают!..
— Тебе бы сейчас стекло в брюхо вставить, аквариум был бы — во! — рассмеялся мичман Чиж.
— Подождите, они у него еще там заквакают! — предупредил Филипп Андреевич.
А Егор Семенович рассудил:
— Посмеялись надо мной в тот раз — бог и наказал! Не все мне пакость глотать, — серьезнее добавил он.
— Ну, как? — тревожно спросила врачиха.
— Кажется, порядок, — ответил Ринчин. — Не заквакают!
— А-а! — проржал Димка.
Давлет прыснул:
— Вот уж что я люблю, так это как юнга Баба-Яга смеется! Помирать буду, а вспомню его смех — и не помру! Баба-Яга, не в службу, а в дружбу, посмейся еще! — подходя к нам, попросил Филипп Андреевич. — В честь праздника!
Но Димка уже и без просьбы еле сдерживался. Зажав рот обеими ладонями, он мотался и дергался между мной и Задолей, пока, наконец, не прорвало его заглушку, и он выдал во все горло свое «а-а». Давлет закатился в кудахтанье.
Но личный состав холодновато поддержал этот хохочущий дуэт — слишком уж много внимания уделил начальник одному юнге. Уловив это, мичман Чиж тронул кнопки баяна и запел про усталую подлодку, которая из глубины идет домой. И все мы вдруг почувствовали, что тоже устали, и притихли.
Дрова осели еще раз, плотнее, и, подпустив темноту и прохладу к нашим спинам, притухли, чтобы чуть погодя, накопив жару, дыхнуть последним пламенем.
— Ну, юнги... — сказал Филипп Андреевич.
— На горшок — и в постель! — продолжил кто-то.
— Золотые слова!
— И вовремя сказанные! — дополнил тот же голос.
— Правильно!
20
Этой ночью лагерь успокаивался с трудом, хоть и легли поздно. Оказалось, что мы устали только для костра, для песен, а для кубрика, для бесед в тесном кружке, да под одеялом, силы еще нашлись. Внезапные клички за день как бы набрали прочность и словно открыли в нас что-то новое, пробудив свежий интерес друг к другу. Все шептались, там и тут вспыхивали споры, в гальюн отправлялись толпами — один по нужде, а пятеро за компанию.
Порядок наших кроватей не совпадал со строевым порядком, но у шкентельных — у меня, Димки и Мишки — совпал. Земноводный, как всегда, умолк после нескольких фраз и запыхтел засыпая, — даже сон ему давался тяжело. Димкина кличка давно пообтерлась, и я не был склонен шушукаться с ним — мне хотелось поизучать самого себя и детально провспоминать весь сегодняшний день. Но Баба-Яга этого неулавливал, сыпал ерунду за ерундой, и я вдруг с неудовольствием отметил про себя, что он часто бывает чересчур назойлив и чересчур, до глупого, дурашлив. К чему, например, смеялся по заказу у костра? Пусть и Филипп Андреевич попросил, мало ли что! Меру-то знать надо! Отшутился бы, сказал бы, что, мол, потом, а то залился — артист, видите ли! Вообще Димке надо работать над своим смехом — смеяться так уж смеяться, а не визжать недорезанно!
Подумал я так и смутился, вспомнив те трещины в дружбе, о которых говорил мне Олег, и, как бы поспешно замазывая их, сам принялся болтать о всякой чепухе.
— А ну, тихо! — крикнул Юра Задоля.
Во сне простонал Земноводный.
— Димк, — шепнул я.
— Не Димк, а Баба-Яга! — поправил тот. — Услышит Филипп Андреевич — даст! Плюшки-в-сараюш-ке!
— Я шепотком.
— Может, он за палаткой подслушивает!
— Вечно у тебя «может»! — осердился я. — Кончай жрать второе у Земноводного — вот что, уважаемый Баба Яга! Здесь тебе не избушка на курьих ножках, а военно-морской лагерь «Ермак», где все и всем поровну, понял?
— Как это?
— А так!
— Мы же договорились!
— А теперь раздоговаривайтесь! Он голодным остается! И может упасть в обморок! Это с ним бывает, он говорил мне. Видел — его знобить начало! — вспомнил я. — И стонет вон!.. А узнают, что это ты его объедаешь и — фьють! — из лагеря! Или под суд! За такое по головке не гладят!
Чуть подумав, Димка ответил:
— Я что — пожалуйста! Могу даже съеденное вернуть, пусть он обожрется, припадочный!
— Вот и хорошо. Давай руку! Я — за Мишку! — Мы состыковались ладонями. — Все, договора нету!
— А как же он похудеет?
— Это его дело. Придумает что-нибудь!
— Тихо! — опять гаркнул Мальчик Билл.
Кровать мичмана Чижа стояла в первом взводе, и там было больше строгости, а нашему Юре Задоле мы не очень-то подчинялись. Покричал он на нас, покричал, а потом, воспользовавшись тем, что проглянула луна и в кубрике чуть посветлело, пошел по рядам с подушкой, приговаривая:
— Кому снотворного? — Бэмс! — Еще кому? — Бэмс! — Ах, тебе двойную порцию? — Бэмс-бэмс!
Но галдеж не угасал.
В крайнее окошко, между моей и Димкиной кроватями, то и дело кто-нибудь устрашающе бубукал снаружи. Внезапно в окне появилась кружка с водой, и длинная струя, поднимая вопли, точно прошлась по нашим изголовьям. Последние капли достались мне, а Димка не пострадал. Однако он тут же скрутил полотенце, зажал его в руке и, приподнявшись на локте, замер, и когда очередная физиономия заслонила окошко, Баба Яга, не дожидаясь бубуканья, врезал ей через матерчатую крестовину.
— Но-но, салаги! — возмутился голос — это оказался мичман Чиж. Мы в панике нырнули под одеяла, а мичман Чиж, обогнув кубрик, вошел к нам и включил фонарик. — Что, второй взвод, веселимся?.. Задоля! То есть Мальчик Билл!
— А!
— Не «а», а «здесь»!
— Здесь!
— Почему непорядок?
— А ну их! — в сердцах ответил Юра.
— На флоте не бывает «а ну их»! А бывает или командир, или тряпка! Так в чем дело, Мальчик Билл?
— Не слушаются!
— Кто не слушается?
— Все!
— Это на броненосце «Потемкин» все не слушались, а в «Ермаке» такого не может быть! — рассудил мичман Чиж, не сводя с Задоли фонаря. — Назови двух-трех!
— Все! — повторил Задоля.
Мичман Чиж задумался. Двух-трех он бы немедленно заставил для проветривания дать кружок вокруг лагеря, но целый взвод салажат ему, похоже, было жалко. Пройдясь по кубрику и лучом обшарив присмиревшие кровати, особо задержавшись на мне с Димкой и почесав при этом нос, он приказал:
— Спать, а то!.. — И вышел.
— Поняли, рыбококи? Не уйметесь— назову! И не двух-трех, а сколько надо! — пригрозил Юра. — Запоете, голенькие, «Ермака» под луной на плацу!
Это подействовало.
Стоит хоть на миг перебороть свою прыть, как она уже сама обессиливает и сдается. Чуть погодя лишь один кто-то возобновил было тары-бары, но ого не поддержали. Я же, давно хотевший покоя, охотнее всех, наверно, подчинился команде.
В окно потянуло сквознячком, полог затрепетал, зашумели сосны и скрипнули, где-то коснувшись друг друга, — природа словно встревожилась, словно почувствовала какую-то угрозу, еще неведомую человеку. Я мигом замерз, сжался и глубже ушел под одеяло. Сейчас бы Шкилдессу под бок, тепленький комочек, но она, предательница, поселилась с Егором Семеновичем в складе. Она ловила мышей, спала, как принцесса, на десяти матрацах, а он потчевал ее свеженькой рыбкой — и так уж они сдружились, что дед воинственно спешил на помощь, заслышав мяуканье, когда какой-нибудь юнга неопытно заигрывался с кошкой. Собственно, Шкилдесса не предательница, она несколько раз приходила ко мне, но братва встречала ее свистом и топотом, и кошка в конце концов махнула хвостом на наш кубрик, но при встречах ластилась ко мне...
Явь уже начала ускользать от меня, как вдруг лицо мое сбоку осветил фонарик, и тихий голос спросил:
— Ушки-на-макушке, ты спишь?
— Нет.
— Это я, Ухарь! — Луч переметнулся на пол, в его отсвете я различил лицо Олега и сел, предчувствуя что-то необычное. — Слушай, я, кажется, нашел твоего медведя.
— Какого медведя?
— Который на тебя зимой чуть не напал.
— А! — задохнулся я. — Берлогу нашел?
— Почти.
— Где?
— Одевайся!
— Как?
— Одевайся и пошли, если хочешь убедиться!
— Конечно! А мичман?
— Я договорился. Я на дежурстве.
— А! — опять захлебнулся я, чувствуя всю невероятность того, что сказал Олег, и чувствуя одновременно, что разыгрывать меня он бы не стал, Рэкса — Да, Димку — может быть, меня — нет. — Мы что прямо к нему?
— Прямо.
— Далеко?
Под носом.
— А он нас не того?..
— Нет, все рассчитано. Свитер есть? Поддень — холодно.
— А Бабу-Ягу можно взять?
— Насчет Яги я не договаривался, но..
— Баба-Яга!.. Димка! — зашептал я, не тормоша однако его, но он уже крепко спал. — Ну, ладно! — сказал я с некоторой даже радостью, потому что тайну интереснее узнавать одному, чтобы потом ошарашить ею друга.
Мы вышли.
Было свежо и лунно. Ветер угнал рыхлые низкие тучи и теперь подчищал небо, сдувая с него плотные округлые облака, которые все норовили скользнуть по луне, чтобы, казалось, стереть ее, но после каждого проскальзыванья луна становилась еще надраяннее. За мысом сильно шумели волны с барашками, катясь вдоль большого залива, но у нас было затишье.
К моему недоумению, Ухарь повел меня не в лес, а к воде, через плац и мимо Посейдона. У мостика в штаб мы сели в дедовскую лодку и отчалили. Обогнув дебаркадер, Ухарь подгреб к подтопленной лиственнице и встал боком в метре от нее.
— Тут, кажется, было дело? — спросил он.
— Тут.
— А медведь пер вон оттуда?
— Оттуда.
— Та-ак! А ты где стоял?
— Где мы. Чуть подальше.
— Сейчас отплывем.
Он достал сигарету, поднял лежавшую у борта длинную палку, чиркнул спичку, закурил и поджег пропитанную чем-то тряпку на пакле, потом быстро перехватил ее и горящий конец протянул к лиственнице. Лишь когда ослепительно полыхнуло, я увидел, что вокруг дерева разложен на плоту костер. Его, наверно, перед этим облили бензином. Но сейчас меня интересовало не это, не плот с дровами, а что всем этим хочет сказать Ухарь и какое отношение все это имеет к медведю.
Малость отгребя, Олег спросил:
— Такой примерно костер?
— Какой?
— Ну, как у тебя был?
— Да. Но...
— Подожди, пусть разгорится.
Я бестолково уставился на пламя. Сожрав бензин, оно было опало, но костер уже набрал силу и начал расходиться самостоятельно. Высоко по стволу вспыхивали отставшие коринки, шипели отлетавшие угольки, колебалось отражение. Покосившись вправо, где на берегу звездчато дотлевал наш праздничный костер, я остановил взгляд на Ухаре, решив, наконец, все выяснить.
— Сейчас, — сказал он, следя за огнем.
— Что сейчас-то?
— Сейчас! — Олег выплюнул окурок и вытер лицо пилоткой. — Дрова сыроваты, дьявольщина!.. О! — воскликнул он, когда в глубине костра звонко стрельнуло. — Пошло! Слушай!
Стрельнуло еще несколько раз подряд, и вдруг я услышал, как в зарослях напротив раздался знакомый мне по той зимней ночи жуткий треск ломаемого сушняка, правда, чуть глуше. Я окаменел. С кожей моей головы что-то случилось — она словно исчезла, и череп сковало холодом. Треск приближался. И чем яростнее разгорался костер, чем взрывчатее стреляли головешки, тем напористее и ожесточеннее ломился сквозь чащу зверь.
С кормы я непроизвольно подался к Олегу, запнулся обо что то и упал ему грудью на колени.
— Чш-ш! Без паники, Ушки-на-макушке!
— Это он! — прохрипел я, не сводя с берега глаз и ожидая вот-вот увидеть у воды косматую морду.
— Точно он?
— Точно!
— Я же сказал, что нашел!
— Сейчас он высунется! — с ужасом проговорил я, понимая, что надо бежать, уплывать, улетать отсюда, но почему-то ничего не предпринимая, а только сильнее сжимая Олеговы колени. — Вот сейчас!.. Смотри, смотри!..
— Нет, он не высунется, — уверенно сказал Ухарь.
— Почему?.. Нас боится?
— Потому что его там нет.
— Как нет? А кто там?
— Никого.
— Как никого?
— Пусто. Это отдается эхо.
— Какое эхо?
— Отзвук, — терпеливо отвечал Ухарь на мои лихорадочные вопросы. — Ты заметил, что было тихо, пока разгоралось? А как затрещали дрова, так затрещал и «зверь» — эхо! Элементарная физика. Я это понял, когда вы горланили песни. Ну, и решил проверить. А на воде эхо мощнее. Жаль, что дровишки сыроватые подвернулись да листья рассеивают отражение, а то была бы картинка! Мамонт! Динозавр! Не веришь — поплыви!
Нет, я верил.
Скажи мне Олег об этом в кубрике, я бы рассмеялся, но тут... Сразу вспомнилось, что и тогда зверь обнаружился только при треске костра, вспомнились папины заверения, что утром он не нашел никаких следов, вспомнились дяди Ванины слова — все совпало, и лишь в душе моей что-то не совпадало... Олег продолжал говорить, но я уже не улавливал смысла, пораженный главным — там пусто. Вот и во мне вдруг стало как-то пусто — исчезла, улетучилась тайна, рассосалась, как витаминка, оставив горькое ядрышко.
21
Первым известием утра было — «Крокодил» отчалил!
Пробежавшись за Ринчином до шлагбаума и размяв косточки на плацу, мы подхватили полотенца с мылом и все, хоть у каждого было свое излюбленное место для умыванья, хлынули на правый «борт», так что лагерь-корабль дал, казалось, крен.
Да, «Крокодил» отчалил.
Уже считавшийся частью суши и еще вечером стоявший у берега на мертвом приколе, он как бы ожил. Наверное, за ночь море поднялось на те миллиметры, которые еще связывали «Крокодила» с землей. Задним ходом бревно отошло метров на пять и чуть развернулось, погрузившись в воду так, что снаружи остались только надглазные бугры, нос и часть спины, — оно стало еще больше походить на крокодила, и мы бы, пожалуй, не очень удивились, шлепни оно вдруг хвостом, разинь пасть или унырни.
За мысом, как и ночью, катились беляки, волнение охватило и наш залив. Обгорелый плот мрачным хомутом тсрся на подпаленной листвяшке. Было пасмурно и моросило.
Занятия на открытом воздухе были отменены, и до обеда аборигены изучали устройство шлюпочного паруса, как его ставить и как под ним ходить. У нас появилась надежда, что если нам с веслами не повезло, то, может, повезет с парусом, где нужна не столько сила, сколько проворность. А после обеда мичман Чиж объявил, что мы заступаем на дежурство и что оно будет не легким, потому что погода портится и потому что нам предстоит открыть новый пост под кодовым названием «Маяк», на мысу.
— На «Маяк» нужен отличный сигнальщик! — сказал мичман Чиж. — Есть у нас такой? — Мы молчали, переглядываясь. — Не знаете! Так! Мальчик Билл, дай-ка флажки! Сейчас проверим!.. Внимание! Читать про себя и говорить фразу целиком! — предупредил мичман Чиж и так засемафорил, что в кубрике поднялся ветер.
— У-у! — взвыли мы. — Помедленней!
— Никаких помедленней! Конкуренция! Отбор! Борьба за существование! Мне нужен толковый сигнальщик, ясно? — парировал мичман Чиж и начал сисва, но тише.
Я шевелил губами: «У-л-у-к-о...»
— У лукоморья дуб зеленый! — хором крикнули мы.
— Есть!
— Это просто! — заявил Димка, присоединившийся к хору, по-моему, позже всех.
— Усложним.
Еле слышимый шепот зашелестел в кубрике. От сосредоточенности у меня, кажется, распухли уши, хотя слух тут был только помехой. Сбившись, Димка задергал меня, я отмахнулся, сам чуть не сбившись, и крикнул в числе некоторых:
— «Она, как полдень, хороша!»
— Молодцы!
— Кто она? — спросил Димка. — Ондатра?
— Подлодка! — ответил мичман Чиж. — Так, кто прочитал — влево! Усложним!.. А ты куда, Земноводный? Ты даже про лукоморье не усек! — осадил он Мишу.
— Я нарочно пропустил. Я из другой весовой категории, — солидно пояснил Протченко.
— Хм, шустряк! — крякнул мичман. — Ну, попробуй!.. Что бы вам такое загнуть? — Он почесал шею флажком, будоража мысли. — Ага! Два слова!
Я твердил про себя, что должен, должен оказаться лучшим сигнальщиком, — потому что много занимался флажками, и потому что хотел попасть не в камбузный наряд, куда обычно сплавляли безответную мелкоту, а на пост, где мы с Димкой из-за адъютантства еще ни разу не были, — а тут бы сразу на «Маяк»! И вообще мне хотелось радости после вчерашнего огорчения со зверем. Чувствуя, что мичман Чиж загнет сейчас действительно что-нибудь несусветное, я напрягся, как перед дракой.
Флажки запорхали.
Первое слово я понял лишь в конце, когда виски мои готовы были уже треснуть от натуги, а второе, как я ни пыжился, свелось к какой-то галиматье.
— Все, — сказал мичман Чиж.
— Геликоптерный... — ответили я и Земноводный.
— Так, а дальше?
— Гва-ква-клюква, — еле выговорил Мишка.
— Гвадалквивир! — на авось выпалил я свою нелепицу.
Братва — в смех.
— Правильно, Ушки-на-макушке! — сказал мичман Чиж.
— А что это такое? — удивился Миша.
— Не знаю. Шумит, бежит Гвадалквивир — наверно, речка. В общем, спроси у Пушкина!
— Белиберда это! Не считается!
— Все считается! Кто с белибердой справился, справится и с делом! — отрезал мичман Чиж. — Так что, юнга Земноводный, меняй весовую категорию!
— И в обморок не упади! — съязвил Димка, оставшийся сегодня с одной котлетой.
— Это нечестно!
— Ну, детсад, развели говорильню! В училище бы вас! Ладно, Земноводный, будешь сигнальщиком на ГКП, для связи с «Маяком». Теперь честно?
— Почти, — смягчился Миша.
— Итак, победитель есть! — Мичман отделил меня от остальных. — Выбирай себе помощника.
— Я, конечно! — заявил Димка.
— Да, Баба-Яга, — с каким-то торможением согласился я, задетый этим «конечно», как будто я не мог бы выбрать никого другого, хотя другого мне и вправду не хотелось.
— Оба в распоряжение Мальчика Билла. Он старший. И марш на пост. Через час проверю! Пароль — «Загадка»!
— Есть! — ответил Мальчик Билл.
— Да, получите на складе плащ-палатку и бинокль.
— Бинокль? — поразился Димка, хватаясь за голову. — Егор Семенович не даст!
— Даст. Он в курсе.
— А мне бинокль? — спросил Земноводный.
— Будет и тебе!
— Вот теперь совсем честно!
На складе мы встретились с Алькой-художником, получавшим краски. Я не вытерпел и шепнул ему, куда мы снаряжаемся и зачем, и вдруг запальчиво предложил:
— Пошли с нами!
— А можно?
— Хоть килограмм!
— Стоп, задний ход! — осадил меня Задоля. — Ты что раскомандовался? Кто тут старший?
— Ты.
— Я и распоряжусь! — Он обернулся к Альке. — Значит, говоришь, охота с нами?
— Охота.
— Что ж,собирайся!
— Вот спасибо! Хоть раз подежурю! Да и коряжки там спокойнее обжигать, а то здесь от пацанов отбоя нет: что, как, зачем? — разгорячился Алька.
— Поторапливайся!
— А вы не ждите! Я найду вас!
— Пароль — «Загадка»! — шепнул я.
Егор Семенович, действительно, безо всяких-яких выдал нам плащ-палатку и бинокль, заставив, конечно, расписаться Юру. Пользуясь моментом, я подошел к Шкилдессе, дремавшей на матрацах, и погладил ее Она, не открывая глаз, узнала меня по нежным при косновениям и задергала кончиком хвоста. Ах, ты моя хорошая! Будь я с таким хвостом, я бы, наверно не сумел шевельнуть им — слишком он далеко от го ловы.
Мы вышли.
Дождь перестал.
Но мы тем не менее расправили плащ-палатку и накрылись. Всегда, шагая рядом с Задолей, я чувствовал себя ведром, особенно если он опускал руку на мою голову или плечо, и еще особенней — если с другой стороны находился Димка, — тогда казалось, что Мальчик Билл несет нас на коромысле. На шею мою Юра не клал руки, а положи он ее, я бы, наверно, стряхнул, потому что моя шея предназначалась для руки другого — Олега. Задоля тоже перешел в десятый класс, но не было в нем той завидной и манящей взрослости, как у Олега. Юра, будучи на пять лет старше нас, был нам почти своим парнем, а в этом таилась, по-моему, какая-то глуповатость, отразившаяся и в прозвище — Мальчик Билл. Именно — Мальчик. А Билл — из другого. Фигура Задоли походила не только на знак параграфа, но и на знак доллара, а доллар — это Америка, отсюда и — Билл.
Пока я так рассуждал, мы спустились в распадок, а там разъединились и цепочкой двинулись по тропе.
На мысу было грозно: дул ветер и шумели волны, ворочая у берега темные и тяжелые бревна, как туши каких-то погибших животных. Мыс оканчивался не остро, как представлялось издали, а округло. Пятачок, откуда сразу виден был и ГКП, и вход в залив, мы нашли только у самой воды, на илистом урезе. Это смутило нас, потому что стоять три часа на голом месте, под ветром и брызгами — это извини-подвинься. К тому же противник не дурак, он заметит нас. А тут в десяти метрах — кусты и затишье, и маскировка! А еще метрах в пятнадцати — дяди Ванин шалаш!
Поразмыслив, командир принял решение: оборудовать пост на обрывчике, в зарослях, так, чтобы просматривался залив — это главное, а махнуть флажками можно и выскочить. И через пять минут мы уже сидели в тальнике, накрывшись плащ-палаткой, и поочередно смотрели в бинокль.
Ближе к морю штормило сильнее само по себе, но увеличенные и уплотненные оптикой волны вздымались там вовсе пугающе — так ноги и поджимались. А в серой дали призрачно темнели трубы целлюлозного комбината, торчавшие, казалось, прямо из воды. Какие тут шпионские лодки, когда все катера попрятались! Зато при повороте бинокля сразу и трубы исчезали, и рокот утихал, и волны сглаживались — милости просим в «Ермак», уважаемые шпионы! Но после этой мирной картинки опять не терпелось повернуть бинокль — интересней, когда страшно.
За нашими спинами раздалось:
— Эй, караульные!.
— Стой! Кто идет! — окликнул Задоля.
— «Загадка»!
К нам пробрался Алька, весь мокрый, в ботинках, в робе и с закопченным ведром в руках.
— Вот вы где! Ух, как вы хорошо устроились! — позавидовал он. — Кто в сапогах — черпните воды!
Все мы были в сапогах, но вылез из-под плащ-палатки, как цыпленок из-под клушки, я — мне очень хотелось услужить Альке, этому странному, какого-то не нашего роду-племени пацану, к тому же я, собственно, и пригласил его, а значит, и шефство над ним мое.
Подступиться к воде было не просто, но я умудрился с пенька поймать волну и помог художнику дотащить ведро до шалаша дяди Вани, возле которого, к моему удивлению, уже разгорался костерок и стоял набитый чем-то рюкзак. Оказалось, что Алька давно знает и про шалаш, и про дядю Ваню, и даже как-то пил тут с ним чай и слушал его истории.
— Бушует море, — сказал Алька.
— Да-а!
— А знаешь, почему оно бушует?
— Ветер.
— Конечно, но ветер — это внешняя причина, а вот почему само море? — уточнил Алька.
— Как само? Оно бы утихло, если б не ветер.
— Это да, но оно всегда рвется побушевать. Почему? — И поняв, что до меня не доходит, улыбнулся. Потому что оно любит обтачивать коряжки! Вот! — сказал он и вынул из рюкзака какую-то загибулину. — Море выточило!
— А что это?
— Море не дает названия своим прозведениям, ему — лишь бы красиво! Видишь, как здорово? Попробуй так выточи! Шиш-то! Море — большой художник! — Алька сунул произведение в ведро с водой и вынул другое. — Или вот!
— А это что?
— Ничего. Правда, если вот отсюда глянуть, то на медведя похоже, но это не обязательно. У моря нет глаз, оно не знает, кого вытачивает, но чувствует изгибы и пропорции. Убери, например, вот эту шишку — и все, будет чурка для костра! А с шишкой — шедевр! — И шедевр пошел в воду.
Погрузив еще одну коряжку и заняв все ведро, Алька поставил его к огню и вздохнул:
— Дровишек бы!
— На берег надо. Сейчас!
Боясь, что командир меня отчитает за долгое отсутствие, я заглянул на пост, но караульные и ухом не повели — они увлеченно загадывали друг другу предметы для поиска в бинокль. Я набрал под обрывчиком дров, прихватил корешок, показавшийся мне замысловатым, и, вернувшись, спросил Альку:
— Шедевр?
— Нет, чурка! — с одного взгляда оценил художник. — Просто нос и два уха даст любой корень. Тонких деталей нет, нет хитрости! А что без них?
Действительно, только нос и уши, да и те грубые — топорная работа, халтура! Видно, и у моря не все получается. И я бросил художество в костер.
На соснах с подветренной стороны мыса сидела бойко перекаркиваясь, стая ворон. Они прижились у лагеря, подкармливаясь отбросами из помойки за камбузом, и сюда прилетали пить. Не верилось, что эти большие, глянцево-черные, угловатые птицы вывелись когда-то из маленьких, белых и круглых яичек.
— Есть хочешь? — спросил я.
— Нет.
— А то могу ухой угостить.
— Ухой? С удовольствием! А где она?
Я сделал руками таинственные пассы и полез в шалаш. Несмотря на неряшливое покрытие там было совершеннно сухо — дядя Ваня знал, видно, дело. Найдя ямку, заложенную широкой доской, я вытащил котелок, прихватил из грязной посуды в углу две ложки и, стуча ими, вылез.
— Оп-ля!
— Ого! А не влетит?
— Нет, разрешено.
Я разогрел уху, вытер ложки о мокрую траву, и мы принялись хлебать прямо из котелка, швыркая мигом ослабшими от горячих паров носами. Котелок был без крышки, и туда, кроме угольков и пепла, нападало хвоинок, коринок и даже комочков земли, — наверно, со стенок ямы, но мы не церемонились. На дне обнаружился окунь, в чешуе. Я отказался. Алька аккуратно, не повредив ни одной косточки, объел его и, приподняв за хвост, сказал:
— Смотри, какой красивый скелет! Хоть на выставку! Даже в объедках есть красота!
— Шкилдессе бы эту красоту!
— Нет, правда. Тоже ведь из моря! Вообще в природе нет безобразного! Будь в моей власти, я бы «Ермак» завалил не коряжками, а корягами, пнями! Знаешь, какие пни попадаются — м-м, закачаешься! Что пни — целые деревья! — воскликнул Алька, а я завороженно смотрел на него, завидуя его непонятной увлеченности. — Я тут нашел три таких шедевра, что хоть сейчас — в музей! С руками оторвут! Не веришь?
— Верю.
— Я их назвал «Три чуда». Первое... А хочешь тоже сюрприз, а? — вдруг спросил он.
— Хочу.
— Пошли! Я покажу тебе первое чудо! Это близко.
— Надо отпроситься.
Мы отправились на пост. Юра с Димкой все еще забавлялись биноклем, но на мою просьбу Задоля ответил :
— Не могу. Подождем мичмана.
— Мичман вовсе не отпустит! Отпустить можешь только ты! — польстил я командиру.
И лесть подействовала.
— На двадцать минут, говоришь?
— Даже на пятнадцать, — поправил Алька.
— А мичман придет — что сказать?
— Скажи — в туалете. Я как раз хочу в туалет. Уж тут-то никуда не денешься!
— Ладно, дуйте!
Чтобы не мокнуть в траве и кустах, мы спрыгнули на размытый берег и по ленте мусора двинулись в глубину соседнего залива, отдаляясь от штормовой зоны.
— А ты заметил, что мы никак не зовем друг друга? — с улыбкой спросил Алька.
— Заметил.
— А почему? — Я пожал плечами. — Это некрасиво. Давай называть. Но как: просто или по-секретному?
— По-секретному — приказ.
— Но я же не юнга.
— Зато на тебе наша форма, товарищ Берта-у-мольберта! — И я впервые дружески хлопнул Альку по плечу.
— Запомнил, товарищ Ушки-на макушке! — И он хлопнул меня.
Мне сразу стало веселее и проще. Альке, наверно, тоже. Он засвистел, а я вдруг прокричал:
Океан от пенных волн
Поседел...
Мы уже на две трети углубились в залив, когда Алька приостановил меня и показал рукой.
— Мое первое чудо! «Каторжник»!
Метрах в трех от воды грузно восседал огромный пнище, распластав далеко в стороны мощные полуоголенные корни, опутанные ржавыми цепями. Чистый каторжник! Ведь наши места издавна были ссылкой декабристов, революционеров и других неугодных царю людей. Не вынес какой-нибудь бедняга мучений и превратился в пень, а цепи остались целыми.
— Как? — спросил Алька.
— Да-а!.. А где второе чудо?
— Выше.
— Покажи.
— Не уложимся в срок.
Уложимся. Оттуда бегом.
— Ну, пошли.
Склон был крутым, с островами кустарника, с пружинистым подстилом мха, хвои и валежника, с частыми деревьями, у которых ветки топорщились лишь наверху, а ниже, как у занозы, торчали во множестве отмерзшие сучья — так и повыдергал бы. Мы двигались напрямик и сразу промокли. Комар наседал. На краю большой круглой поляны Алька остановился и кивнул на мощную лиственницу посредине.
— Чудо номер два! «Трезубец»!
Вершина дерева высохла, чем-то пораженная, но из основания сухоты, точно по бокам, выросли две новых вершины, зеленые,— лиственница как бы подстраховала себя на случай, если еще одна макушка погибнет. Обе уже догнали свою мертвую сестрицу, и дерево выглядело чистейшим трезубцем.
— Как? — опять спросил Алька.
— Здорово!
— Построить бы такого Посейдона, которому был бы как раз этот трезубец!
— М-да!.. А третье?
— Еще выше. Почти на горе.
— Э, была ни была! Бог троицу любит! Айда!
Чем выше мы поднимались, тем лес становился ниже и гуще. Густело вокруг нас и комариное облако, так что казалось, не сами мы идем, а комары нас затаскивают на гору. Глаза мои вдруг начали искать по сторонам какую-нибудь ямку или коряжку. И правильно. Я не шутя сказал Мальчику Биллу, что хочу в туалет. Но там я хотел лишь в начальной стадии, а тут я понял, что до третьего чуда мне не продержаться, а если и продержусь, то мне будет не до чудес, или произойдет четвертое чудо. Заметив сбоку заманчиво задранный корень, я спросил Альку:
— Скоро?
— Вот-вот. Минуты три.
— Ну, ты иди, Берта.
— А ты?
— А я это... я догоню!
— A-а, ладно, — понял художник. — Я свистеть буду.
И насвистывая, он скрылся в сосняке, а я бурундуком юркнул под корень. Дело вроде минутное, но когда я выскочил обратно, свиста уже не слышалось — Алька умахал. Я припустил следом, тоже присвистывая и радуясь тому, что вот теперь чудо восприму с должным вниманием.
— Берта! — окликнул я, почувствовав, что должен бы уже догнать художника. — Берта, ау-у! — Но мне отозвался только ветер в вершинах.
Может, он спрятался? Нет, мы же горим со временем, и он беспокоится об этом больше меня. Но на всякий случай я сбегал, заглядывая за кусты, немного вправо и немного влево и покричал еще. Может, я проскочил третье чудо? Нет, ведь он сказал, что оно почти на горе, а пока идет склон, значит, наоборот, надо взять выше. Я поднялся еще и вдруг наткнулся на странную сосну — толстую, невысокую и сухую, с плотно прижатыми к стволу немногочисленными ветками. Дерево было так скручено, что аж потрескалось, словно воздух был для него твердым, и ему приходилось когда-то ввинчиваться в него. Прямо штопор! Я сообразил, что это и есть третье Алькино чудо.
Но самого Альки не было. Если он задержался по тому же делу, что и я, то пора бы справиться. Повертев головой и поприслушавшись, я уже с беспокойством прокричал:
— Бер-та-у-моль-берта...
— ...а-а! — отозвалось эхо.
Мне стало жутко. Я не знал, что думать и что делать. Хорошо хоть дорога назад известна — строго вниз, к заливу. И я было ринулся, но словно запнулся при мысли — а что скажу Задоле и как объясню, почему вернулся один?.. А может, Алька уже там? Может, мы разошлись? Нет, без меня он бы не ушел! Я ведь жду его! А раз его нет, значит... значит, случилось что-то серьезное! Мигом в моем уме воскрес медведь, и я, не помня себя от страха, понесся вниз.
22
Я взял левее, оставляя в стороне все чудеса, и летел сломя голову. Первое, что я спросил, еле переведя дыхание у Задоли, который благоустраивал наше сторожезое гнездышко, было:
— Алька здесь?
— Нету. А что?
— Пропал он!
— Как пропал?
— Исчез!
Я без особых подробностей рассказал командиру о нашем походе. Не по-командирски разинув рот и часто моргая, он выслушал меня и вдруг упрекнул:
— Приспичило тебя! А может, плохо искал?
— Мы не в прятки играли, чтобы полдня искать!
— Хм, надо сигналить, — озабоченно заключил Задоля и в три приема поднялся на ноги. — Баба-Яга, на пост!
— Иду! — отозвался от шалаша Димка. — Тут вода в коряжках выкипела! Отставить?
— Отставь!
И тут же донеслась Димкина песенка:
Вот сейчас я тут найду
Синюю поганочку,
Изрублю ее в куски.
Чтобы кто-нибудь не съел!
— Живей, синяя поганочка! — поторопил Юра.
— А, путешественники прибыли! — улыбнулся Димка, появляясь из кустов с прутом.
— Не путешественники, а путешественник! — поправил Задоля. — ЧП у нас! Художник сгинул!
— Как?
— А вот у него спроси! Я как чуял — не хотел отпускать! И мичману сказал, что ты в туалете, а теперь что? Теперь вранье, значит! Значит, командир ваш не только тряпка, но и врун! Ну, ты даешь, Ушки-на-макушке! — разволновался Мальчик Билл, поняв истинное положение лишь сейчас, словно мысль долго блуждала в лабиринтах его пара графического тела. — Где флажки?
— Вот! — сказал я, хвать — а за голенищем пусто. Черт! Вылетели!
— Так, вторая пропажа!—подытожил командир
— Я ветками.
— Пошли, горе!
У воды мальчик Билл воткнул в песок осиновый шест с красной тряпкой на конце и зашатал его, вызывая ГКП.
— Увидели, — сказал Димка, наблюдавший в бинокль. — Земноводный готов к приему! Рядом мичман.
Я просемафорил березовыми ветками.
«Пропал художник!»
— Принято. Обсуждают, — комментировал Димка.— Сейчас будут сигналить. Читай сам! — И сунул мне бинокль.
«Куда пропал?» — прочитал я.
«Не знаем!»
«Шлите посыльного!»
— Посыльного требуют, — сказал я.
— Беги! — распорядился Юра.
И я опять побежал.
На ГКП уже находился встревоженный Филипп Андреевич. Я еще раз пересказал все события, не утаив ни одной детали, даже личной.
— Всё? — спросил Давлет.
— Всё!
— Купаться не собирались?
— Нет. Какое там купание!
— А черт вас знает! Понесло же в лес!
— Вас Мальчик Билл отпустил? — спросил мичман Чиж.
— Да. То есть, меня отпустил, — уточнил я. — А Берта-у-мольберта сам по себе!
— Все вы, гляжу я, сами по себе!—сердито заметил Филипп Андреевич и прошелся по помещению. — Ну, так! Значит, свистел, кричал, искал — нету! Сколько времени прождал?
— Минут пять-десять. Да хоть сколько жди — его там нету! — убежденно заявил я. — Нету его там!
— Почему ты уверен?
— Чувствую.
— Ну, это знаешь!.. А всего прошло времени?
— С полчаса.
— Что-нибудь подозрительного вокруг?
— Ничего. Только сухая скрученная сосна — и все. Не она же заглатывает людей!
— Конечно. А как на море?
— Спокойно. То есть бушует, но спокойно.
— Понятно. — Филипп Андреевич задумался. — Какая-то абракадабра! Что ж, разберемся на месте. Ушки-на-макушке, будешь проводником. Мичман Чиж, Ринчина ко мне и пятерых подводников. И пока — ни гу-гу! Слышь, Земноводный?
— Есть, товарищ Саваоф! — отдал тот честь.
Давлет хмыкнул.
Я вел отряд тем же путем, каким шли мы с Алькой, и все с надеждой думал, что вот-вот он попадется навстречу. Всем я показывал то, что показывал мне Алька, но никто не дивился чудесам и все растерялись, не найдя вблизи «штопора» признаков Алькиного пребывания.
Но маленькое открытие произошло.
Носившийся по лесу, как лось, Ринчин обнаружил на самой горе, в молодом сосняке, тропу, идущую из глубины тайги в сторону лагеря. Он окликнул нас. Я высказал предположение, что это дорожка дяди Вани-заики, протоптанная им за двадцать лет. Филипп Андреевич согласился и, в конец обеспокоенный, заключил, что с Алькой что-то случилось между третьим чудом и вторым.
— Поднимаем народ! — сказал он.
Мы вернулись по тропе. Она оборвалась у помойной ямы за камбузом. С карканьем шарахнулись от нас вороны и расселись по ближайшим деревьям. Одна, бесхвостая, валялась на дне ямы — или отравилась хлоркой, или ее подшиб кто-то из наших.
Построенному по тревоге личному составу, одетому из-за прохлады и сырости разношерстно, Давлет обрисовал ситуацию и поставил задачу прочесать лес от лагеря до второго залива, обследуя каждую корягу и рытвину. Мобилизуются все подводники, варяги и половина дежурного экипажа. Остается лишь мичман Чиж со взводом аборигенов. Юнги с настороженным оживлением приняли известие, от которого пахнуло чем-то военным.
Филипп Андреевич распределил участки, и лагерь растворился в лесу. Некоторое время доносились голоса, потом все стихло — сотни людей как не бывало
Видя, что я валюсь с ног от усталости, мичман Чиж задержал меня на ГКП, отправив на «Маяк» Земноводного. Сквозь тревогу об Альке у меня пробивалась тревога о Задоле.
— Товарищ мичман, вы будете ругать Мальчика рилла за то, что он отпустил меня? — спросил я тоном провинившегося.
— Нет, ругать не буду! Я ему просто наряд вне очереди влеплю — гальюнчик драить!
— Влепите лучше мне!
— И тебе влеплю!
— Но ведь он...
— Разговорчики, Ушки-на-макушке! — перебил мичман. — Следи лучше за «Маяком». Твой пароль — «Ребус»! Пароль поста «Шлагбаум» — «Кроссворд», Автобуса» — «Шарада»! Запомнил?
— Так точно!
— Дерзай! — И мичман Чиж сбежал по лестнице на плац, где толпились осколки личного состава.
Я вынес на балкон один из двух стульев, сел и, облокотившись на перила, уставился в бинокль на мыс. Там было пусто. Барашков стало поменьше — ветер, кажется, развернулся и ослаб. Медленно опуская бинокль, я наткнулся на «Крокодила». Он стоял боком, почти не удалившись с утра от берега. К носу его, поперек, пристало бревнышко — и было полное впечатление, что «Крокодил» держит его в зубах.
Звякнул телефон.
— «Ребус» слушает!
— Говорит «Кроссворд»! Только что «Шарада» сообщила, что там появилась группа в зеленой форме, человек десять. Рассматривают залив. Ждем указаний. Постовой Ронжа!
— Вас понял! Минутку! — И я крикнул: — Товарищ мичман, на перевале — чужие в зеленом! Звонила «Шарада»!
На миг мичман Чиж замер, а в следующий миг стоял уже у телефона. Заново выслушав доклад, он распорядился:
— «Кроссворд», немедленно передай «Шараде», чтобы в случае атаки отступила к вам! Мы идем! Как поняли?.. Все! — Мичман Чиж бросил трубку, выскочил на балкон, потянулся было к рынде, но, прикинув, наверное, что из-за десятка неприятелей не стоит поднимать паники, живо порхнул на плац. — Все ко мне! Все, кто есть! И дневальные, и камбузники — все! Быстрее! — закричал он и затопал так, что гравий брызнул из-под ног.
Набралось человек пятнадцать. Некоторых я не знал — в последнее время прибыло много новичков взамен сбежавших, которые не пожелали ходить строем и мыть посуду.
— Сейчас вы — ударный кулак! — в лоб заявил мичман Чиж. — На перевале подозрительное движение. Делаем вылазку. Не исключена потасовка! Ремнями только угрожать, но не пускать в ход! Учтите! Только угрожать!.. Ушки-на-макушке, без моего распоряжения — ни шагу с ГКП! И никаких туалетов! Ясно?
— Ясно!
— Вперед!
И «ударный кулак», на бегу расстегивая ремни и обматывая ими кисти, скрылся за кубриками. Я чувствовал, что наказ мичмана не пускать в ход ремни — пустой наказ, потому что невозможно будет в стычке лишь размахивать ими бездейственно.
Я позвонил на пост «Шлагбаум».
— «Кроссворд»?
— Да.
— Говорит «Ребус». Группа вышла. Сообщите дальше!
— Есть!
Слева прочесывалась тайга, справа назревал бой, на мысу продолжал мотаться шест, требуя, как дядя Ваня-заика, внимания к себе, — вокруг заваривалось что-то необычайное. А я был в центре! И один, как капитан на мостике корабля, идущего на всех парах навстречу шторму! Правда, где-то в трюме обливался потом кочегар Егор Семенович, но даже врачихи не было — увезла в поселок больного с ангиной. Некоторое время я важно и гордо смотрел то туда, то сюда, словно решая, где важнее и куда крутануть штурвал.
Крутану-ка на пост «Шлагбаум». Я позвонил.
— Говорит «Ребус»! Наши прошли?
— Нет пока!
— Значит, они прямиком. Отбой!
С камбузной лестницы скатился еще один, где-то промешкавший, юнга. Пробегая по мостикам, он заглядывал в кубрики и что-то выкрикивал. Я узнал Сирдара.
— Эй, ты чего остался? — спросил я.
— Ушки-на-макушке! — выпалил он, запыхавшись. — Мичман срочно требует тебя на камбуз!
— Какой мичман?
— Чиж, конечно!
— Они же на перевал рванули!
— Передумали! Решили в камбузе засаду устроить! И открыли военный совет! Тебя зовут!
— Зачем?
— На совет! Ты же вон какой шустрый! — впервые за все время польстил мне Сирдар.
— Хм!
— Жми давай! — Но я колебался. Мне и приятно было, что меня зовут на военный совет, и как-то не по себе, потому что советчик я в таких вопросах неважнецкий, несмотря на шустрость. И потом, почему на камбузе, а не в лесу устраивать засаду, зачем пускать противника на территорию лагеря? Все это у меня перепуталось, и я не мог ни на что решиться. — Тебе что, записку от мичмана принести? — разозлился Митька.
Проверещал телефон.
— «Ребус» слушает!
— Говорит «Кроссворд»»! «Шарада» передала, что зеленые сели в машину и уехали. Постовой Ронжа!
— Вас понял!
Но я ничего не понимал! Противник высадил десант, наши кинулись навстречу, и вдруг наши вернулись на камбуз, а противник удрал — все шиворот-навыворот! Теперь в засаде не было смысла, хотя его не было и в начале!
— Ну! — крикнул Сирдар. — Что доложить мичману?
— Я сам доложу!
Зная, что нельзя оголять ГКП, я все же поспешил на камбуз. Митька последовал за мной. У лестницы сидела Шкилдесса. Узнав меня, она беззучно ощерилась и сунулась к моим ногам, давая понять, что хочет на руки. Я погладил ее и отпихнул.
— Нельзя, Шкилда! Военный совет!
Наверно, запрет мой вышел чересчур нежно, потому что кошка истолковала его наоборот и метнулась за мной. В зале никого не было, но из подсобок донеслось:
— Сюда!
Я шмыгнул в дверь.
В коридорчике теснились пацаны, человек десять, но не в синей форме, а в зеленой, и не в пилотках, а в беретах. И ни одного знакомого лица. Ледяными скобками свело мои лопатки — я понял, что это и есть засада, только не наша, а их! Никуда, значит, они не уехали, как показалось «Шараде», а каким-то чудом проникли сюда! Но причем тут Сирдар, наш юнга? Я оглянулся. Митька улыбнулся мне так широко и так пррлорю, что я вдруг ощутил ядовитость этой улыбки, улыбки предателя!
Один из зеленых, постарше, спросил у Сирдара:
— Никого больше?
— Никого! Лагерь пуст! Можете...
— Молодец! Мы этого не забудем! — сказал старший и обратился ко мне: — У тебя нет насморка?
— Нет, — ответил я и замер с открытым ртом, потому что за плечом этого парня увидел Федю Лехтина.
— Значит, жив останешься! — заключил парень и старательно, с прокрутом, как запечатывают бедствующее на море люди бутылкy со спасительной запиской, засунул мне б рот вчетверо сложенное полотенце. — Запомни, юнга: лучшее лекарство от насморка — это кляп! — добавил он неторопливо.
А дальше пошло быстрее.
Я рванулся, но было поздно — меня схватили, связали по рукам и ногам, подняли, распахнули мной, как тараном, дверь в моечную, внесли туда и бережно опустили в пустую ванну, где мы ополаскивали посуду. Я с безразличием ожидал, что они и воду открутят, но они лишь короткой веревкой зачем-то привязали меня за пояс к крану, который подходил к ванне в середине.
Дверь захлопнулась, но тут же открылась опять, и чья-то рука зашвырнула в моечную и Шкилдессу, как будто она, как ученая собака, могла понять человеческую беду и привести наших на выручку. Шоркнула палка, задвинутая в дверную ручку, — и все, от Ушки на макушке остались рожки да ножки.
Слетайся, воронье!
Я не переживал, что попался, — я знал, что буду переживать потом, даже двойное предательство — Феди и Митьки — не очень занимало меня, я думал об одном — как освободиться!.. Спешил на военный совет, вояка, — вот и совещайся! Умри, но освободись и помешай зеленым! Самому — нет, не выбраться! Поднять шум и привлечь внимание Егора Семеновича — единственный шанс. Шум!
Я сел. Веревка, державшая меня, была крепкой — не порвать. В двух метрах на лавке стояли тазы с вилками, ложками и ножами. Будь Шкилдесса поумней, хапнула бы зубами нож да — жик-жик! Или бы перегрызла веревку! Есть же такие собаки! Я бы выкувыркнулся из ванны и так бы начал трясти полки с мисками и кружками, так бы они у меня посыпались, и так бы погонял их по полу, что в Америке бы услышали, не то что в складе! Но привязь была надежной — все учли, проныры зеленые! Знал бы только Димка, где я и что со мной — на крыльях бы прилетел!
Простонав от боли в челюстях и беспомощности, я лег опять и давай бить сапогами по ванне, но чугунная посудина, в которой я же был глушителем, отзывалась тупо и равнодушно, принимая меня, наверно, за какую-то грязную болванку. Я задрал ноги и попробовал колотить в стенку, но удары получались бессильными. До окна не дотянуться, там вторая ванна — для горячей мойки. А и дотянусь, выбью стекло в сторону леса — много ли шума? Тут шишки громче падают на крышу! Такого старик не расслышит. Залаяла бы Шкилдесса — вот был бы шум! К сожалению, кошка лаять не умела! Но умела мяукать, и весьма отчаянно, если ее очень попросить!
У меня мелькнула слабая надежда.
Я снова сел. В помещеньице держался пряно-кисловатый запах полуеды-полупомоев, который, похоже, понравился Шкилдессе, и она усиленно обнюхивала углы, где этот запах был, наверно, гуще, такой, наверно, как у меня во рту от засаленного кухонного полотенца. Я замычал — ноль внимания. Я поскреб эмаль — кошка оглянулась и, поняв, что это мои шуточки, опять уткнулась носом в щель. Тогда я лег, перевернулся почти на живот, но так, чтобы пальцы доставали стенку ванны, и продолжил скреб, как умея подделываясь под мышь. Шкилдесса клюнула: короткое «мр-р» — и она у меня на спине. Боясь спугнуть ее н ловким движением и зная, что второй раз она не скор соблазнится моей «мышкой», я зашевелил пальцами, как та водоросль щупальцами, которая ловит рыбок. Мне нужно было, чтобы кошка хоть чуточку подыграла мне. И она, умница, подыграла — тронула лапкой мои пальцы, и они захлопнулись капканом. Перехватываясь по шерсти, я добрался до хвоста и надавил его.
Муркнув, Шкилдесса принялась было лизать мне пальцы, лотом — кусать их с урчаньем, потом мявкнула, метнулась прочь и лишь тут-то заорала вовсю, как и требовалось. Потолка в камбузе не было, а сразу — тонкая пластиковая крыша, до которой стенки не доходили, так что кошачий вопль, усиленный всякими отражениями, понесся, по-моему, из камбуза, как из мегафона.
Больше я не давил, а просто держал — кошка сама, вырываясь, причиняла себе боль и орала благим матом, вертясь и впиваясь зубами и когтями в мои руки. Я бы тоже, наверно, взвыл, если бы не кляп, а так мне оставалось только дергаться, правда, руки я малость припрятал, повернувшись набок, и Шкилдесса частично отводила душу на робе. У меня выступили слезы от жалости к себе и к кошке, но хвоста я не выпускал.
И вдруг раздался голос:
— Эй! Что там за изверг?
Это был Егор Семенович! От радости мои онемевшие пальцы чуть не разжались, но я собрал крохи сил и стиснул их еще. Шкилдесса перешла на утробный лесной рык.
— Кто мучает кошку? — строже прикрикнул дед и затопал к подсобкам. — Кс-кс-кс-с!.. Где вы тут? — Стукнула одна дверь, другая. — Да что такое? Кыса, где ты?.. А это что за палка? Закрыли! Вот фулиганье! Вот живодеры! — Зашеборшало, я отпустил хвост, Шкилдесса вылетела из ванны, крутя им, как пропеллером, и сразу — к двери, плаксиво мяукая. Я сел и привалился плечом к крану. Перед глазами плыли круги, все покачивалось, как будто в моечной штормило.
- Сейчас-сейчас! — приговаривал дед. — Посуду теряют, тряпки разбрасывают, над старыми изгаляются! До кошек добрались! Осталось только мину под начальника подложить! — Мирное поварчивание Егора Семеновича означало, что ничего подозрительного в лагере он не заметил. Привыкший все подбирать, он вечно ходил с опущенной головой и мог, даже столкнувшись с зеленым, не обратить на него внимания. — Да кто же это так заложил, язви его!..
Палка треснула, дверь открылась, я мыкнул, дед вскинул голову, и его как парализовало.
— М-м-м! — поддал я.
— Свят-свят! Семка, что ли?
— М!
— Батюшки! Как же это ты тут?
Старик подковылял ко мне и вытащил кляп. Какое-то время я оставался с разинутым ртом, потом медленно, как на ржавых шарнирах, свел челюсти и с трудом сказал:
— Зеленые в лагере!
— Кто?
— Режьте скорей веревки!
— Хорошие веревки! Зачем резать—пригодятся!— рассудил завхоз, рассматривая мои путы. — Так кто это, говоришь, тебя?
— Враги!
Пока Егор Семенович распутывал на мне узлы, я растолковал ему, что произошло. Он как-то верил и не верил моим словам. Выбравшись, наконец, из ванны, я приказал старику действовать по своему усмотрению и выскочил на камбузное крыльцо.
Флаг был на месте!
Но возле мачты, словно подрубая или подпиливая ее, возилось несколько зеленых фигур. Сбежав с крыльца, я тылами кубриков, в которых слышались какие-то движения и голоса, прокрался к плацу. Нет, мачту зеленые не трогали, они лишь встряхивали и дергали фал, на котором, сильно оттягивая его то в одну, то в другую сторону, с треском бился и метался флаг, словно хотел сорваться и улететь в тайгу или в море, — только бы не достаться чужим! Это усилие и заклинило, кажется, фал в блоке. «Держись, флажок!» — крикнул я про себя и бросился к ГКП. Меня заметили, но задерживать не стали. Я взлетел на балкон, чтобы ударить тревогу...
Рынды не было!
И тут флаг, наш военно-морской флаг, изо всех сил державшийся в вышине, заскользил вниз, в руки противника! Словно холодный трезубец вошел мне между лопаток.
От кубриков донеслись ругательства Егора Семеновича, начавшего действовать. Взбодренный подмогой, я хотел было кинуться на зеленых — будь что будет, ясно понимая, что я не Ухарь, а их даже не трое, а пятеро, но тут старший, который интересовался моим насморком, приказал:
— Ты — держи юнгу! Как он, черт, выбрался! Ты — в штаб! Остальные — к шлюпкам! В темпе!
И на меня, раскинув руки и блокируя лестницу, двинулся... Федя, пришептывая с улыбкой:
— Сема, не шали!.. Тихо, Сема!..
Какие-то секунды я стоял недвижно. Если бы я не увидел Федю в камбузе, я бы, наверно, от неожиданности бросился к нему, как к своему, за помощью, но теперь я уже знал, что Федя — враг. Улыбающийся враг! Почему это все предатели улыбаются? Прощения просят, что ли — мелькнула у меня мысль, и тут же я пришел в движение. Швырнув стул навстречу поднимавшемуся по ступенькам Феде и сбив его с ног, я поднырнул под перила, маханул в кусты и кубарем скатился к заливу. Береговым ветром дебаркадер вместе с мостиком оттянуло метра на три-четыре. Опередив зеленого, я с размаху бухнулся в воду, вылез на мостик и метнулся в штаб. Схватив за печкой ружье и в столе три патрона, я зарядил и выскочил на палубу. Зеленые, тот кого послали в штаб, и подоспевший Федя, выбирались уже, мокрые, на мостик. Я вскинул ружье и крикнул:
— Назад!
— Не пугай, Сема! Не заряженное!— небрежно отозвался Федя, но ни тот, ни другой не двинулись.
— Ах, не заряженное? Первый выстрел в воздух, второй — по мотору! Нате вам первый! — И я пальнул ввысь. Пацаны пригнулись, а я перезарядил. — А теперь подставляйте моторы! Где они у вас?
И я навел на них ружье.
Эх, как мне хотелось жахнуть по ним! Палец уже напрягся, во рту появился какой-то металлический дымный привкус, а горло подпер ужас! Зеленые бросились в воду, выскочили на берег, потеряв свои береты, и попятились, заслоняясь от ружья, как от света, руками. Федя с дрожью бормотал:
— Тихо, Сема!.. Сема, не шали!..
— Я вам сейчас дам тихо! Такое тихо, что у вас перепонки полопаются! — приговаривал я, кругами водя ствол вокруг отступавших, как будто околдовывая их.
Возле кустов у зеленых словно сработали какие-то реактивные движки, и они исчезли. От шлюпок улепетывали еще двое. По пути они решили опрокинуть Посейдона. Запрыгнув на помост, безбожники с кряком, так что хрустнула фанера, навалились на него. Я выстрелил поверх их голов — и их как ветром сдуло. Сбежав на мостик, который переменившимся ветром приблизило к берегу, но не совсем, я ухнул в воду по пояс, выбрел на сушу и вдруг лишился сил.
На плац я поднялся с трудом. Там уже никого не было. Нигде вообще никого не было, только за камбузом каркали потревоженные вороны. Не было и флага. На его месте болтался какой-то черный комок. Я спустил его — это была дохлая ворона, без хвоста, та самая, наверно, из помойной ямы. Ну, уж этот-то позор я утаю ото всех! Отвязав птицу, я воровато огляделся, отошел к кустам и закинул ее подальше. И захотел сесть, даже лечь — как уютно было в ванне! Я глянул на гравий. Он был мокрым и холодно темнел. Я вдруг подумал, что хорошо бы его сейчас укатать, и еще бы лучше — мной, превратив меня в бесчувственный каток, и чуть было не опустился на корточки, готовый к этому превращению, но спохватился, что не слышно старика, и позвал:
— Егор Семенович!.. Где вы?
Тишина. Я чувствовал, что она вот-вот начнет наполняться голосами справа и слева, и когда наполнится до краев, опять наступит тишина — тишина великой скорби... Я нашел Егора Семеновича в кубрике первого взвода варягов. Он, бешено выпучив глаза и шумно дыша, лежал на кровати у входа. На груди его, пригревшись, дремала Шкилдесса. Изо рта деда торчало полотенце, а руки и ноги были связаны — в точности, как у меня.
Веревки пригодились.
23
Минут через десять примчался мичман Чиж с «ударным кулаком», который, так и не смотав ремнец с рук, хищно заоглядывался, надеясь применить их» здесь. Я рассказал, что случилось, — коротко, в нескольких словах. Мичман Чиж оторопел, потом крикнул:
— В погоню?.. Хотя стоп?
Конечно, преследовать десятерых «зеленых» в зеленой тайге и в неизвестном направлении — бессмысленно, но что имело смысл — мичман не успел решить — справа появилась армия Давлета. Сам командующий, задыхаясь, трусил последним.
Мичман Чиж обреченно шагнул навстречу.
— Товарищ начальник лагеря, группа в зеленой форме только что произвела...
— Отставить! — перебил Давлет. — Вижу!
Он заметил, что флага нет, и, не спуская взгляда с топа мачты, направился к ней, как слепой, шаря впереди руками и раздвигая юнг. Он ощупал фал в том месте, где прикреплялся флаг, погладил мачту и сказал, сведя брови:
— Это ужасно!
— Разрешите?.. — начал мичман Чиж.
— Молчите! Все молчите!
Он посмотрел на ГКП и двинулся туда, так же слепо разнимая толпящихся. Следом за Филиппом Андреевичем поднялись на балкон мичманы и я, потому что дежурство мое продолжалось. Давлет потрогал обрывок веревки у кронштейна, на котором недавно висела рында, и повторил:
— Это ужасно!.. По всем воинским законам чести мне сейчас нужно застрелиться. Понимаете? — И Филипп Андреевич вдруг снял с моего плеча ружье.
— Оно не заряжено, — сказал я.
— Жаль.
— А вот патрон. — Я протянул оставшийся патрон, но тут же отдернул руку, спохватившись, что толкаю начальника лагеря на самоубийство.
— Давай-давай!
— А вы?
— Не бойся! На кого же я вас, побитых, оставлю? Будем переживать и воскресать вместе!.. Раз на падавшие были в форме, значит, это не шайка охламонов, а цивилизованная организация! Значит, хоть под землей, но я найду их! И знамя найду, и рынду, и что там еще? — воскликнул Филипп Андреевич.
— Это «Зарница»! — сказал я.
— Почему ты так думаешь?
— Среди них Федя был!
— Какой Федя?
— Ну, брат Бабы-Яги, которого вчера Рая за шпиона приняла! Который вас пирожками угощал!
— Как, он — из «Зарницы»? — почти ужаснулся Давлет.
— Да.
— Что же вы мне этого тогда не сказали? Главного!.. А то — друг, брат. А я уши развесил!
— Я говорил — врут! — крикнул снизу Рэкс.
— Брат! — крикнул я. — И друг!
— Шпион он! И Рая не ошиблась! В первую очередь шпион, а уж потом друг и брат! Брат — это же маскировка! Пирожки с печенкой! Экскурсия! — все более негодовал Давлет.
— Я же говорил! — опять выкрикнул Рэкс.
— Какой шпион! Вы что! — возмутился я, до сих пор не связывавший нападения зеленых с Фединым визитом дружбы, но вдруг эта связь блеснула: ведь исчезло именно то, чем Федя особенно интересовался — флаг и рында! Да и во всем поведении Феди для меня начали проступать сплошные подозрения. — Филипп Андреевич, — испуганно прошептал я, подаваясь к нему, — ведь он не на машине уехал отсюда, Федя-то! Мы его отправили с дядей Ваней по той тропе, напрямик!
Давлет, оказавшийся у стула, сел.
— Поздравляю! — сказал он упавшим голосом. — Теперь мне все ясно! Вчера Федя по тайной тропе унес полную информацию о нашем лагере, а сегодня по ней же вернулся со своим отрядом! Логично? —
спросил меня Филипп Андреевич, но я лишь похлопал глазами, не в силах сразу сопоставить факты, поэтому он сам же и ответил.— Логично!
Тут кивнул и я:
— Да, пожалуй.
— Не пожалуй, а точно! Слушайте! — воскликнул вдруг Давлет вскакивая.— Братцы, ведь наш художник не пропал — его похитили! Его схватили зеленые! Ведь дело-то было у тропы!
— У тропы, — сказал я.
— Значит, все! Ты отстал, Берта был один, а тут зеленые навстречу — хап его! — и в сумку! Уф, гора с плеч! Не было бы счастья да несчастье помогло! Точно, точно! Точнее некуда! Так оно все и было!— Горячо говорил Давлет, нервно расхаживая по балкону. — Какой маневр! Пропал человек близ штормящего залива! На это они, конечно, не рассчитывали! Просто удача!
— А почему они Ушки-на-макушке не схватили вместе с Бертой-у-мольберта? — спросил кто-то.
— Я отстал, — ответил я.
— А почему?
— Потому. Надо было!
— Что надо было — предать? — уточнил Рэкс.
— Нет! — крикнул я.
— Врет! — уличил Рэкс. — Выкручивается! Шпион он! И Баба-Яга шпион! Свили тут гнездышко!
— Мы не шпионы! Это ваш Сирдар-шпион и предатель! — вдруг вспомнил я. — Это он заманил меня в ловушку! Если бы не он, я бы ударил в рынду, сбегал бы за ружьем — и попробуй бы тогда подступись к флагу! Фига-с-два! А Сирдар...
— Ты это серьезно? — перебил Давлет.
— Еще бы!
— Общее построение! — крикнул начальник.
Через минуту экипажи стояли на местах. Сирдара не было. Проверили кубрик — вещички его исчезли. Митьку, как говорится, Митькой звали!
— Та-ак!— недобро протянул Филипп Андреевич.— Еще один удар под дых! Не многовато ли на сегодня?.. Я опасался, что Сирдар может сбежать во всей форме, но чтобы предать во всей форме — это уж извините! Рэкс!
— А я-то причем? — отозвался тот.
— Сначала выйди как положено, а петом разберемся, при чем ты или ни при чем! — пристрожился Давлет, и Рэкс вышел. — Вы, кажется, были друзьями? Были?
— Так себе!
— Как это «так себе»? Ты хочешь намекнуть, что при «так себе» за друзей не отвечают? — спросил Филипп Андреевич, но Рэкс промолчал. — Ты, может, замечал что-нибудь подозрительное?.. Может, знал о его намерениях?
— Ничего не знал!
— А он случайно не проговаривался о возможности нападения? Не вербовал ли тебя?
— Я бы ему завербовал! Так, что он бы забыл про всякие вербы! Я ему еще устрою, позорнику!
— Ухарь, а ты? — поинтересовался Давлет.
— Ни-ни! — ответил Олег. — Но мы разберемся!
— Разберемся вместе! Встаньте в строй!
— Это я виноват, товарищ начальник лагеря! — внезапно круто повернувшись на каблуках, сказал мичман Чиж. — Я оставил лагерь без командира!
— И я виноват! — выпалил я, вытягиваясь возле мичмана. — Я самовольно оставил ГКП. Вернее, не самовольно, а по якобы приказу мичмана, который передал мне Сирдар!
— Доложите по порядку! — устало сказал Филипп Андреевич.
О событиях до броска на перевал доложил мичман Чиж, об остальных — я. Воевал я, кажется, не долго, но при рассказе столько всего набралось, что я порой замолкал, опасаясь, не выдумал ли чего-нибудь и не хвастаюсь ли. Слушали меня внимательно, поворачивая головы туда, куда я показывал: к камбузу, на мачту, на Посейдона, на шлюпки, две из которых зеленые ловкачи успели-таки отвязать, и теперь они покачивались на волнах уже метрах в двадцати от берега. Давлет сидел неподвижно, не сводя с меня странных, точно не верящих глаз. О не очень воинственной роли Шкилдессы в своем освобождении я умолчал. Этого не знал даже Егор Семенович, считая, наверное, что кошка сама так разоралась. Старик, потрясенный насилием, которое не выпадало на его долю даже во времена мировых войн, отлеживался у себя на складе.
— М-да! — грустно заключил Филипп Андреевич мой рассказ. — Ты молодец, Ушки-на-макушке! Но они молодцы еще больше! Сработали смело и четко! Они, очевидно, разбились на три группы. Боковые делают отвлекающие маневры, мы раздваиваем силы, и средняя преспокойно атакует пустой лагерь! Идея элементарная! Проще пареной репы! Так нам, лопоухим, и надо! И хорошо, что нет комиссара — вдвое меньше позора! Что ж, пусть это будет нам уроком! Ну, ничего! Придет и в наш залив праздник!.. Мичман Чиж, поймать шлюпки, осмотреть кубрики и срочно доложить о потерях!
— Есть!
Плац опустел.
Зазвонил телефон. Я шмыгнул в помещение. Пост «Шлагбаум» доложил, что подъехала легковая машина марки «Жигули» с дяденькой, который называет себя Гурьевым и хочет видеть начальника лагеря. Я сообщил Давлету.
— Гурьев? Это же Алькин отец! — воскликнул Филипп Андреевич бледнея.— Боже мой! Что бы мы ему сказали, если бы не эта гипотеза, то есть, уверенность, что Альку похитили, а?
И он вопросительно уставился на меня. Я вздохнул — тяжко было бы сердечнику-отцу узнать вдруг о пропаже сына.
Постовой Ронжа надрывался в трубке:
— «Ребус»! Алло! Какое указание?.. Алло, «Ребус»! Пропустить или нет?
— Филипп Андреевич, пропустить?
— Конечно!
— «Кроссворд»! Пропустить!
— А вдруг — не то? — усомнился Давлет.— Нет! Только плен! Он же в робе был! Приняли за юнгу! Кстати, Сема, а где твоя роба?
— Сушится. Я переоделся.
— Ах, да, ты же искупался!.. Я понимаю, почему тебя не схватили вместе с Алькой!— внезапно вернулся Давлет к прежней теме.— Во-первых, им хватало одного для лагерной паники! А во-вторых, кто-то ведь должен был доложить! И если бы первым шел ты — взяли бы тебя, верно?
— Наверно.
— Но все-таки тут есть некоторые странные вещи относительно тебя и Бабы-Яги. Смотри. Федя этот приехал к вам — раз! Вы ему все рассказали и показали — два!
— С вашего разрешения! — напомнил я.
— Пусть и с моего, но — вы! Отправили не машиной, а тайной дяди Ваниной тропой — три!
— Это из-за бутылок!
— Из-за каких бутылок?
— Да так!.. Просто! — замялся я, не желая рассекречивать делового увлечения Лехтиных, но тут же понял, под пытливым взглядом Филиппа Андреевича, что сейчас малейшая недомолвка, заминка или утайка может обернуться против нас. — Ну, Димка с Федей бутылки любят сдавать! Не любят, а у них с деньгами дома не густо! И вот Димка насобирал тут полрюкзака и — Феде, мол, прихвати с собой. А тому стыдно в машине везти, звенеть, говорит, будут, мы и отправили его с дядей Ваней!
— Ага, понятно! — кивнул Давлет. — Но все равно это — уже три! Потом ты приглашаешь Берту-у-мольберта на дежурство — четыре! Потом идешь с ним в лес, не куда-нибудь, а к той самой тропе! Улавливаешь? Это пять!
— Алька сам позвал меня!
— Но это умеючи можно всегда подстроить! — доверительно шепнул Филипп Андреевич. — К тому же, он позвал до первого чуда! А дальше?.. То-то! И наконец последнее: почему в момент атаки в лагере остался именно ты, причем один?
Я поднял голову и растерянно посмотрел на Давлета, не зная, как действительно объяснить эти совпадения, хотя порознь они объяснялись очень просто.
— Тебя спокойно связывают и...
— Я дрыгался!
— Но этого никто не видел! То, что Егор Семеныч тебя развязал, — лишь полдела!.. Кстати, я не совсем понял, как это кошка размяукалась до такой степени, что старик услышал?.. Нет-нет, Ушки, я тебе верю, но хочу знать все!
— Я ей хвост давил, — смущаясь, пояснил я.
— Связанный-то?
— Да. Я заманил ее вот так в ванну, — я поскреб пальцем стол, — поймал и давил.
— В самом деле? — удивился Филипп Андреевич. — Что-то новое в истории человечества! Гуси спасли древний Рим, а кошка — военно-морской лагерь «Ермак»!
Какое-то время мы молча следили за тем, как группа подводников во главе с мичманом Фабианским, борясь с волнами, на шестивесельном яле вылавливает отпущенные шлюпки, потом Филипп Андреевич вдруг спросил:
— А ведь хотелось, небось, выстрелить по зеленым, а?
— Хотелось.
— Представляю!.. А ведь патроны холостые!
— Как, холостые? — удивился я.
— А вот так: холостые — и все!
— То есть они бы не убили?
— Конечно, нет!
— Вот оно что-о! — протянул я, огорчаясь и одновременно радуясь тому, что если бы даже и выстрелил в «зеленых», то ничего бы страшного не произошло.
— Только чш-ш, между нами! Командирский секрет! Ружье нам здесь необходимо, но с холостыми патронами надежнее... А если Алька не у них? — вдруг усомнился Давлет. — Тогда что?
— У них!
— Да?.. Ну ладно! Черти, не дали нам опериться. Ведь мы только-только из скорлупы начали вылазить!.. Ох, и не обрадуются они, когда мы станем на крыло!.. Кого я вижу! — воскликнул вдруг Филипп Андреевич, поднимаясь, отставляя ружье в угол и выходя на балкон. — Игорь Петрович!
По нижней дороге к плацу неторопливо шел, держа в руке темную шляпу, невысокий худощавый человек, с черной и такой мощной бородой, что она, казалось, утяжеляла голову. Он помахал Давлету шляпой. В это время примчался мичман Чиж и с земли доложил, что из кубриков пропало двадцать пять роб, одиннадцать ремней и три пилотки — больше ничего.
— Понятно, — кивнул начальник. — Ударили по самому больному — по нашей морской сущности. Молодцы! Ну, ладно, наводите порядок, а об остальном я позабочусь.
— Есть! — И мичман Чиж убежал.
Давлет спустился вниз, навстречу художнику. Они сошлись у мачты и звучно шлепнулись руками, поднятыми для приветствия еще за несколько шагов.
— Салют, Игорь!
— Привет, Фил!
— Ну, как ты, отлежался?
— Да, спасибо! А у вас тут, гляжу, какая-то паника!
— Есть немного.
— Что?
— Воевали.
— A-а! Ты бы и Альку моего привлекал к этому делу. Правда, он и так не из неженок, но все же.
— Уже привлек.
— Да ну? Замечательно!
— Ты на своей машине? — спросил Давлет.
— На своей.
— Давай съездим за ним.
— А что с ним? Куда? — насторожился художник.
— Да тут в одно местечко. Алька выполнял спецзадание, — пояснил уклончиво Филипп Андреевич.
— Да что ты говоришь? — удивился художник. — И как?
— Его в плен взяли.
— В плен? Ха-ха-ха! — рассмеялся Гурьев. — Это же прекрасно! Попался, значит, интеллигент. Ох, и поскулю же я над ним! Его работа? — вдруг спросил он, кивнув на балкон.
— Его.
Сделав по ГКП несколько шагов, художник поизучал морскую карту, кособоча голову, потом заключил ;
— Сносно.
— Вообще блеск! И Посейдон его!
— Ну-ка, ну-ка! — Художник покружил вокруг бога морей. — Физиономия хороша! А вот усы длинноваты — за спину отдувает. А может, и ничего...
— Ты, надеюсь, насовсем к нам?
— Если примете.
— О чем речь. Дел хватит на целую артель художников!
— Это хорошо. Ну, едем?
— Едем!
И они, беседуя, отправились назад по нижней дороге. Тут же мичман Чиж заменил меня, и я со всех ног понесся на мыс, где все еще сидела ничего не знавшая, но наверняка встревоженная двумя выстрелами и исчезновением флага троица. Они прямо накинулись на меня с расспросами. Я начал с самого поразительного, с того, что среди напавших на нас был Федя и что, значит, это он привел своих по тайной тропе дяди Вани.
— Врешь, Плюшка-в-сараюшке! — крикнул Димка, хватая меня за грудки и встряхивая. — Этого не может быть!
— Вот это да-а! — испуганно протянул За доля.
— Хорош братишка! — заметил Земноводный.
— Предатель! — прошептал Димка.
— Не предатель, а у него свой лагерь! — рассудил я, уже обдумавший все это заново.
— При чем здесь лагерь? — возмутился Баба-Яга. — Он предал меня, брата! И тебя, друга!
— Значит, есть на свете что-то больше, чем просто брат и друг! — возразил я.
Димка нахмурился.
— Как это?
— А так, что там, в лагере, у него появилось, наверно, сто братьев и сто друзей! А это в сто раз больше, чем один друг и один брат!—развивалась моя мысль.
— Сто? — поразился Димка.
— Или двести!
— Вот это да-а! — опять протянул Мальчик Билл.
— Значит, что — он не любит меня? — спросил Димка.
— Как это не любит? А пирожки забыл? Не любил бы — не принес! А то вон целый пакетище!
— Все равно предатель! — просопел Димка.
— А если бы нам первым пришло в голову сделать разведку в «Зарницу», ты бы пошел? — спросил я.
— Конечно, бы! И еще как!
— И я бы пошел! Потому что это не предательство, а лагерь на лагерь, как на войне, понимаешь? - Димка, раздумывая, не успокаивался. — Значит, и для нас «Ермак» важнее одного Феди! Вот пробраться бы к ним и разведать!
— Я проберусь! Тоже скажу, что брата навестить!
— Дважды такой номер не проходит! Там не дураки.
— Тогда другое придумаем! Ох, и подстроим мы им! — воскликнул со слезами на глазах Димка, прижимая кулаки к груди и трясясь всем телом.— Острова не останется, не то что лагеря! Ниже плотины работает земснаряд, подговорим его — он мигом рассосет остров! Палатки — ух, мачта — плюх, «зеленые» — буль-буль, а земснаряд, сосет и сосет! — Димка яростно хапал и хапал пальцами воздух, услаждая душу, готовую к отмщению.
На «Маяк» явилась смена с паролем «Загадка». Мы оставили им плащ-палатку с биноклем, собрали у костра Алькины коряжки в рюкзак и побрели. Задоля был подавлен, считая, наверно, себя виноватым во всех наших бедах, которые внешне начались действительно с того момента, когда он отпустил меня с поста, хотя враг в это время уже подступал к лагерю.
Давлет с Гурьевым вернулись из «Зарницы» только перед ужином. С ними был и Алька, осунувшийся за полдня так, как будто не ел неделю. Я столько напереживался с его пропажей и поисками, что глядел на него как на выходца с того света.
Рассказ Альки был краток.
На него напали как раз тогда, когда я нырнул под корень,— за нами, похоже, уже следили. Альке сунули кляп — вот специалисты по кляпам! — и оттащили в ложбинку. А потом, когда я, накричавшись, убежал, зеленые вывели его за перевал, к дороге, где их поджидала машина, завязали глаза и увезли. Спрашивали только одно: фамилию или домашний адрес, уверяя, что хотят отправить его домой, как Давлет и предполагал. Но Алька, помня приказ по лагерю, твердил — Берта-у-мольберта из «Ермака».
Сперва мы обступили Альку втроем: я, Димка и Мальчик Билл, но тут же стали подходить новые а новые, и вокруг художника сбилась целая толпа. Ему пожимали руки, трясли за плечи, переспрашивали, уточняли, а больше просто глазели, разинув рты — еще бы, Алька был героем дня! Чувствовалось, что он очень устал, но улыбался, кивал и отвечал, как космонавт, дающий свое первое интервью после приземления, едва выбравшись из капсулы.
Я вдруг сказал решительно:
— Ну, хватит!
— Подожди! — не унимался Димка.— Ты испугался?
— Нет, — просто ответил Алька.— Только в первый момент, когда меня сбили с ног. Да и то не успел испугаться — сразу увидел береты, зеленую форму и понял, что это не звери и не какие-то инопланетяне, а наши же. Разозлился, правда! Вырывался. Кому-то заехал локтем в нос, до крови. Меня связали. Ну, это естественно. А вот у Семки было посерьезней! — уважительно и с некоторой завистью заметил вдруг Алька, слегка потрепав меня по загривку, и я просиял, поняв, что Берта-у-мольберта уже в курсе всех моих приключений.
— Это мы знаем!—заявил Димка.
Ударила рында.
Выручили, значит! Ура-а!.. Никогда еще ее звуки не казались мне такими родными и никогда я еще с таким восторгом не летел на плац!.. Да, рында уже висела на месте! И флаг был вызволен, но его Филипп Андреевич показал нам лишь с балкона, заметив, что сегодня, в день поражения, мы его не будем поднимать. Потом мичманы раздали похищенную одежду. Одну форму, которая была на Сирдаре, руководство «Зарницы» оставило себе как трофей для лагерного музея. Для музея же Давлету пришлось подписать акт о капитуляции «Ермака». Филипп Андреевич помолчал. Нам было понятно, что печальнее этого события в его жизни не было.
Притихли и мы.
— Внимание! — объявил начальник. — За преданность лагерю «Ермак» художник Альберт Гурьев, под кодовой кличкой Берта-у-мольберта, зачисляется в личный состав.
Алька, как всегда во время торжественных построений, сидевший возле нижнего кубрика, поднялся и смущенно запереминался с ноги на ногу, не зная, что говорить и что делать. По всему было видно, что такой оборот был для него полной неожиданностью — значит, Филипп Андреевич и дядя Игорь решили это за его спиной.
Давлет спросил:
— Гурьев-младший, есть возражения?
— Да нет, кажется! — Алька пожал плечами.
— Кажется или нет?
— Нет! — тверже ответил тот.
— Прекрасно! Юнга Гурьев, выйти к мачте!
Алька замешкался, но дядя Игорь подтолкнул его, и он вышел, смутившись еще больше.
— Выбирай экипаж! — приказал начальник.
Обежав глазами экипажи, художник остановился на нашем шкентеле и вдруг выкрикнул:
— Абориген!
— Встать в строй!
— Есть!
Все произошло так быстро, что я опомнился лишь тогда, когда Берта-у-мольберта встал в середину нашего строя. Димка тронул меня локтем и шепнул:
— А ведь не хотел!
— Значит, захотел.
И тут Давлет вызвал:
— Юнга Полыгин! — Вздрогнув, я вышагнул. — За мужество и находчивость, проявленные при защите лагеря «Ермак», юнге Полыгину объявляется благодарность! В качестве поощрения — суточное увольнение домой! И как награда — морской ремень в вечное пользование!
У меня перехватило горло. Чувствуя, что вот-вог захлебнусь слезами, я торопливо выкрикнул:
— Служу Советскому Союзу!
Димка завидовал моему увольнению.
Сперва завидовал с молчаливым сопением, а потом зло заговорил о «зеленых», которые, как нарочно, напали на лагерь в его, Димкино, отсутствие, а присутствуй он при этом, все вышло бы по-другому, неизвестно как в точности, но точно — по-другому! Во всяком случае, увольнение-то уж он себе тоже заработал! Димка даже хотел идти со мной к Филиппу Андреевичу и авансом проситься в это самое увольнение, но, поостыв, раздумал, а поостыв еще чуток, поклялся заслужить отпуск в ближайшее время. Успокоившись же окончательно, друг поручил мне слетать к ним на подстанцию, похвастать формой, рассказать о нашем житье-бытье и, если подвернется Федяй, набить ему предательскую морду. Но последний наказ Димка туг же отменил, сказав, что сделает это собственноручно.
Я пообещал.
Утром, после завтрака, я отправился в штаб.
Море было спокойным, небо синим, солнце — ядреным. На крыше дебаркадера из пяти букв «ЕРМАК» остались лишь три — «РМК», согласные, а гласные, словно более легкие, сдуло вчерашним штормом.
Давлет что-то отшлепывал на машинке. I
— Разрешите...— начал я.
— Умеешь, умеешь!—с улыбкой перебил Филипп Андреевич, выдернул из машинки лист, вставил маленький квадратик, отстукал, подписал и протянул мне.— Вот типа увольнительная! До завтра! До четырнадцати ноль-ноль!
— Спасибо! — сказал я просто, не зная, что лучше ответить: «Есть» или «Служу Советскому Союзу».
— Рад, Ушки-на-макушке?
— Рад!
24
— Нравится в лагере?
— Очень!
— А что не нравится?
— Все нравится!
— Л если подумать?
— М-м... Рэкс не нравится!
— Так, один-ноль! Что еще?
— И что нас победили.
Давлет свел брови и ответил:
— Нас не победили, а провели!.. Хотя тут нет, конечно, особой разницы! — Филипп Андреевич встал и прошелся вдоль «Внутреннего» Японского моря. — Мы их, Сема, тоже проведем! — Он выглянул на палубу, убедился, что никого нет, и прошептал с хрипотцой: — Вчера, когда мы выехали из «Зарницы», я попросил дядю Игоря, Алькиного отца, тормознуть и покопаться минут десять в моторе, для отвода глаз, а сам — в кусты и на берег, посмотреть, где и как можно причалить. У меня есть знакомый капитан катера из Гидротехотряда! Понимаешь?..-Этак темной ночью, этак потихоньку подходит катер к «Зарнице» и высаживает десант человек этак в сорок, а? Как?
— Здорово! — признался я.
— Вот именно! Посейдон за нас! Правда, нужно подетальней разведать. Вернешься вот из увольнения, и мы для вас с Бабой-Ягой разработаем один планчик-хулиганчик!
Я загорелся.
— Филипп Андреевич, я могу вообще не ходить в увольнение! И мы с Димкой можем прямо сейчас начать! У него тоже есть планчик — размыть остров земснарядом!
— Ну, это грубовато!— возразил Давлет и уселся за стол.— Они бы тоже могли поджечь лес, например! Ан нет, придумали хитрее! И нам надо похитрее! Но пусть все уляжется, успокоится, ты сходи в законное увольнение, а мы пока с мичманами помозгуем! Вот так, браток!.. Да, попроси маму робу тебе подогнать, а то как-то тру-ля-ля, по-клоунски! И заодно пожалуй... — Филипп Андреевич снял трубку телефона. — Дайте склад!.. Егор Семеныч, сейчас к тебе прибежит юнга Ушки-на макушке, так ты ему... Ну, здрасте, как не знаешь! Пора усвоить кодовые клички личного состава! По-моему, и тебя, учитывая вчерашнее, надо закодировать! — Давлет хохотнул.— Словом, Семка прибежит! Выдай ему форму номер два, парадную! Ему дома подгонят! Больше пока никому! Ну, все! — Филипп Андреевич опустил трубку и, дернув головой, подмигнул мне.
— Разрешите идти?
— Ступай!
Я откозырял и выпрыгнул на палубу.
Мне хотелось немедленно поделиться с Димкой этой ошеломляющей новостью насчет разведки. Я понял, что Саваоф намерен поручить разведку именно нам не только потому, что мы самые маленькие и пронырливые, но и потому что на нас, в основном, лежит грех вчерашнего поражения, и мы вроде бы должны искупить его. Правильно! И мы искупим! Но Димки не было — его отправили на пост «Автобус». Можно попросить разрешения позвонить туда с ГКП, но звонить — значит разгласить тайну, а это не годилось даже среди своих, потому что кто знает, не затаился ли в наших рядах еще один Сирдар? Нет уж, лучше потом!
Братва маршировала на плацу, ставила шлюпочный парус, отрабатывала греблю, и только я один оставался не у дел, как бы выключенным из общей жизни. Это было нелепо и дико! Я прищурился, чтобы меньше видеть, сторонкой метнулся в кубрик, набил рюкзак грязным бельем и поспешил скорее на склад.
Белую форменку Егор Семеныч уже приготовил. Она лежала на столе. Рядом, на столе же, восседала Шкилдесса — старик ее совсем разбаловал. Расписавшись в тетрадке, я уложил форму в рюкзак и взял кошку на руки.
— Ну, Егор Семеныч,— сказал я торжественно,— прощайтесь!
— Бывай!— сухо ответил завхоз.
— Не со мной, а со Шкилдессой!
— Как?
— Увожу ее! Хватит, повоевала!
— Это ты зря! — протянул старик огорченно. — Очень зря! Тут ведь ей рай! Свободушка! А свобода для кошек, между прочим, дело не последнее!
— Ей и дома свобода!
— Разве то свобода! А тут опять же мыши! Рыбка! Вы еще дрыхли, а мы уже и сеть проверили, и парочку сорожек съели, так ведь, кыса? — обратился Егор Семеныч к Шкилдессе, но умасливая, конечно, меня.
Однако я еще с вечера твердо решил увезти кошку, потому что дела в «Ермаке» развертывались не шуточные. Это еще хорошо, что «зеленые» сунули Шкилдессу ко мне в мойку, а если бы они ее вместо дохлой вороны привязали к фалу да вздернули на топ мачты, что тогда? Нет, не кошачья лениво-размягченная атмосфера складывалась в лагере. К тому же Шкилдесса могла вовсе отвыкнуть от меня, ведь я все меньше и меньше времени уделял ей, — а уж этого совсем нельзя было допустить.
— Нет, Семеныч, мы поедем!— сказал я с сожалением, понимая, что и старику жаль расставаться с кошкой.
— Что ж, хозяин-барин! — развел руками завхоз.— Купил бы я ее у тебя, так ведь не продашь!
— Ни за что!
— Вот то-то и оно-то!
Одной рукой придерживая кошку на плече, другой — подхватив рюкзак, я вышел. Раина машина стояла внизу, перед хозкорпусом. Сегодня она что-то захандрила и еле-еле, везя завтрак, дотянула до лагеря. Рая возилась с мотором.
— Рая, скоро? — спросил я.
— Ой, Сема, не спрашивай!— вздохнула та, распрямившись.— Сбагрили нам эту рухлядь, чтоб им ни дна ни покрышки! Предупреждала: тяжко бу-
дет — горы, горы! Трижды в день попили-ка по этим Гималаям! Нет! Вот оставим ребятню раз-другой без еды — схватимся за голову! А я нарочно подстрою! Иначе их не проймешь!.. Часа через полтора, Сема, не раньше!
Я присвистнул.
Полтора часа — это миг, когда играешь, а когда ждешь — вечность. Опустив рюкзак на травянистую обочину, я задумался... Мальчик Билл с ГКП просемафорил на «Маяк»: «Как дела?» Из-за кустов я не видел ответа, но меня вдруг что-то забеспокоило. Я напряг мозги — что, что?.. Мальчик Билл опять замахал, но я уже не вчитывался, а просто следил за порханием флажков... флажки! Мои флажки! Я, первый сигнальщик, потерял свои флажки, позорно драпая от неизвестной опасности! Оттого, что Мальчик Билл не доложил начальству о моей потере, не становилось утешительней! Наоборот, утайка позора еще позорней! А что если...
— Рая, а точно через полтора часа?—спросил я, напряженно размышляя.
— Или через два!— ответила шоферша.
— Успею.
— Что?
— Это я про себя!
Решение окрепло мигом.
Оставив рюкзак у машины и сильнее прижав к груди Шкилдессу, я отправился. И хоть тайна неведомого зверя давно развеялась, и хоть исчезновение Альки объяснилось вполне реально, лес все же остался для меня наполненным духом таинственности и опасности. Я боялся, но что-то сильнее боязни толкало меня вперед. Я пересек мыс и оказался в соседнем заливе, как раз в том месте, где чуть не утонул мальчишка-рыбак и где мы обнаружили плот дяди Вани-заики. То, что уже были тут и с Димкой и с папой, успокаивало меня — если тогда ничего страшного не случилось, то не случится и теперь! А вот дальше... Я медленно двинулся в глубь залива по сухим, наполовину погруженным в песок и древесную труху бревнам. Шкилдесса, переставшая подремывать и мурлыкать, едва мы вступили в лес, сейчас насторожилась сильнее. Нас сопровождали две вороны. Не то принимая кошку за что-то такое, что я хочу выбросить и что им может пригодиться, не то из простого вороньего любопытства, они коротко перелетали с дерева на дерево и покаркивали. Ну и пусть — тоже ведь живые души!
Вдруг я замер.
Среди нанесенных штормом бревен, метрах в пяти от берега, на воде покоился большой белый крест, сколоченный из неошкуренных и кривоватых лесин березы. Не знаю, размыло ли где-то могилу, или туристы сделали его для каких-то своих целей, но мне стало жутко. Сразу представился стоящий под крестом утопленник, и вороны сразу приобрели зловещий смысл.
Я чуть не повернул назад, но впереди увидел «первое чудо» — «Каторжника» — и почти обрадовался. Рысью миновав крест, я подбежал к пню и с нервным гоготком захлопал его по глянцеватому боку, шевельнув донельзя ржавые цепи.
— Привет, старикан! Привет!—забормотал я, пытаясь взбодрить себя собственным голосом.— Как ты тут? Не скучаешь? Поклон тебе от Берты-у-мольберта! Он тебя скоро в музей сдаст! Так что крепись, декабрист!—Причудливые, широкие трещины на срезе пня узором своим походили на огромную снежинку, и я суматошно подумал, что если в них насыпать земли, да если сюда нанесет семян, то вырастет на макушке «Каторжника» зеленая шевелюра. — Что передать «второму чуду», привет? Ладно, так и быть, передам!
Чуть не выпустив Шкилдессу, я маханул на обрывчик и без оглядки стал карабкаться вверх. У «Трезубца» я лишь задрал голову на зубцы, но не остановился. Комаров и удары веток не чувствовал, колодины переползал, заросли кустарника пропарывал, выставив вперед темя и закрыв глаза. На тот злосчастный корень, с задранными лапами, где я потерял вчера драгоценную минуту, я покосился почти с ненавистью. Двоих нас бы не взяли! По крайней мере, один-то уж, скорее всего — я, увернулся бы и примчался в лагерь! И не было бы паники! И мы бы ждали противника, если бы он вообще посмел напасть!
У «третьего чуда» я перевел дух, с ходу упав на колени.
Вороны пропали.
Страх отступил, остался внизу.
Значит, вот отсюда, от этого безымянного чуда, я начал свое ошалелое бегство. Интересно, в какую сторону? Кажется, вон в ту, на сосну, готовую упасть. Я поднялся и, не выпуская Шкилдессу, пошел, пошел зигзагами, пристально всматриваясь в помятую траву. Флажки мои могли подобрать пацаны, прочесывавшие лес, но могли и не подобрать. У наклонной сосны я вдруг припомнил, что где-то падал, за что-то запнувшись. Где? За что? И уже без примет, чутьем двинулся дальше.
Флажки — о, счастье! — я заметил раньше, чем опознал место своего падения. Как они торчали за голенищем, скрученные в одно, так и лежали на траве. Ссадив Шкилдессу, я схватил их и встряхнул, расправляя красные прямоугольники. Флажки мы делали сами, мичман Чиж раздал только тряпицы, а ручки — кто из чего. У меня сперва были из осиновых веток, неровные, а потом Егор Семеныч, подружившись со Шкилдессой, дал мне барабанные палочки, оказавшиеся в лагерном имуществе без барабана. На обеих я вырезал «СП» — Семен Полыгин. Вот они, эти буковки — «СП»!
Глубоко вздохнув, я размашисто просемафорил в сторону моря неизвестно кому — «Спасибо!»
Возвращался я напрямик, не спеша, так, чтобы кошка поспевала за мной. Я ощущал в себе удивительный покой и уверенность — теперь я был совершенно чист перед собой и перед лагерем.
Машина стояла на месте,- капот мотора был опущен, Рая в купальнике, мылась, забредя по колено в воду. Значит, все отлажено, скоро в путь! Стройная и красивая, еще молодая, но уже старая — лет двадцати пяти, шоферша наша вне кабины не походила на шофершу, зато в кабине была именно такой, какой шоферша, по-моему, и должна быть. «Крокодил» держался там же, но развернулся мордой к лиственнице, словно хотел напасть на свою единственную соседку в бухте, или, наоборот, наладить с ней контакт. Именно присутствием «Крокодила» я объяснил то, что Рая зашла в воду лишь по колено,— боялась дальше, боялась не успеть выскочить, если аллигатор вдруг метнется к ней.
Я усмехнулся.
Из тира доносился гомон юнг и выстрелы воздушен. Чтобы у хозкорпуса был морской вид, окна в тире сделали круглыми, в виде иллюминаторов, но без стекол, и обвели их снизу красной, а сверху белой краской — под спасательные круги. Иногда из окон кто-нибудь выглядывал и с воровской поспешностью, пользуясь, наверно, тем, что командир отвлекался, стрелял по птичкам и еловым шишкам, но мимо.
На балконе, в зеленой тени пластикового козырька, Гурьев-старший, в свитере и джинсах, обтягивал продолговатые рамы синей материей. Из мастерской, что-то жуя, выглянул Алька и, увидев меня, крикнул:
— Ушки! Ты еще здесь?
— Да вот!
— Поднимись-ка сюда!
— Сейчас.
Я положил у стены рюкзак, посадил на него кошку, а сам поднялся на балкон.
— Здрасьте, — поздоровался я с дядей Игорем.
— Привет, привет, вояка! — улыбаясь отозвался Алькин отец.
Алька затянул меня в кабинет.
— На, пожуй!— сказал он и сунул мне бутерброд с тонкими, в мелких жиринках, пластиками колбасы.— Московская! Папин гостинец! До обеда далеко, а есть хочется — как первобытному! Кажется, век не ел! Вкусно?
— М-м!
— Мичман Чиж меня и Земноводного по строевой гонял! С меня семь потов, а с Мишки — все четырнадцать!— смеясь, признался Алька.— Но ничего! Я даже рад! А минут через десять велено заступать на пост «Шлагбаум»! Так что, Ушки-на-макушке, теперь от меня будет зависеть — пустить тебя в увольнение или нет!
— Ха-ха!
— На еще бутерброд!
Я не отказался.
На трехъярусных полках справа и слева теснились банки с красками, с кистями, флаконы с нерусскими надписями, щетки, стамески, кривые ножи и коряжки, коряжки, коряжки, покрытые лаком, матовые, опаленные паяльной лампой и потом ошкуренные — скопище диковинных финтифлюшек, то похожих на что-то, то ни на что не похожих. На гвоздях висели картонные трафареты. У потолка, вдоль задней стены, на таких же ржавых цепях, какими был опутан «Каторжник", держалась Алькина кровать, которую он сам смастерил из горбылей. Капризы художника! Или тайны!
Пахло как дома после ремонта.
— Слушай, Альк! — встрепенулся вдруг я. — А как ты назвал третье чудо? Я там только что был! На экскурсии! Первое — «Каторжник», второе — «Трезубец», а третье?
— Никак.
— Как — никак?
— Не успел. Может — «Штопор»?
— Точно! «Штопор»! Ха-ха-ха! — радостно хохотнул я. — И я так же назвал! Во совпадение! Шедевр!
— Шедевр!.. Семк, а хочешь, я тебе что-нибудь подарю, а? — внезапно спросил Алька,
— Что?
— А хочешь?
— Хочу.
— Выбирай! Любую коряжку!
— Хм! А вдруг я самую ценную выберу?
— Пожалуйста!
Я медленно обошел все полки, потом опустился на корточки и оглядел под столом ворох пока не обработанных коряжек. Из трех-пяти еще можно было бы выбрать, но из полусотни?.. Я опять обратился к полкам.
— Знаешь, Берта, дай сам, а?
— Нет уж, выбирай! Проверим твой вкус!
— Да какой вкус! Вот бутерброд — эго вкус, это я понимаю! А тут!..
И все же на одном шедевре мой взгляд задержался. Это было нечто трехногое, с хоботом, без спины, но с раздутым бородавчатым животом — какой-то доисторически-ископаемый зверюга. Если поставить его на стол, то в этом животе можно хранить всякую канцелярскую мелочь.
Алька снял зверюгу.
— Одобряю! — сказал он. — Держи!
— Спасибо! А что я тебе?
— Ничего. Я же не вымениваю, а дарю!
— И я подарю!.. Вот! — Я расстегнул флотский ремень и протянул его Альке, хотя сердце мое сжалось — так он был мне дорог.— Бери! На вечное пользование!
— Нет, Сема! Так нельзя! — решительно заявил художник. — Ремень — твоя награда!
— Я еще заработаю!
— Я сам заработаю!
В мастерскую зарулила Шкилдесса и, учуяв колбасу, нахально замяукала. Я взял ее на руки.
— Ну, ладно! — вздохнул я.— Я найду, что тебе подарить! А теперь тебе пора и мне пора! До завтра!
— До сегодня! У шлагбаума еще увидимся!
— Ах, да!
Мы вышли на балкон.
Под нами, в тире, сухо пощелкивали воздушки и базарила братва. Вдали тарахтел буксирный катер, таща за собой бесконечную в солнечном блеске гирлянду плотов. На крыше дебаркадера Филипп Андреевич и дядя Игорь что-то обсуждали, пошатывая пенопластные буквы. Рая, оседлав «Крокодила», пыталась подгрести к берегу, но бревно почти не поддавалось.
Спустившись вниз, я сел возле своего рюкзака, вынул из кармана сбереженный кусочек бутерброда и дал кошке. Колбаску она проглотила сразу, а хлеб стала обкусывать аккуратно и не подряд, а там, где колбаса оставила, наверно, больше запаха. Вдруг она резко взмяукнула, подпрыгнула и упала набок, тряся головой. Я удивленно подхватил ее, и мне на ладонь выпал маленький наперсточек — пулька от воздушной винтовки. Я обернулся к тиру. Там продолжали хлопать выстрелы.
Прижимая кошку к груди, я пересек дорогу и нырнул в низкую дверь. В тире было человек десять. Медленно приближаясь, я рассматривал их, не сразу узнавая после яркого уличного света: мичман Фабианский, Олег, Рэкс... Он целился стоя. Сделав выстрел, он переломил винтовку и вдруг воровато оглянулся на меня.
Я мигом все понял.
Не выпуская Шкилдессы, я бросился к нему и что есть силы врезался ему головой в бок. Запнувшись о рубежный брус, Рэкс растянулся на земляном полу, выронив воздушку.
— Зачем ты стрелял в кошку? — крикнул я.
Все насторожились. Рзкс ответил:
— Пшел вон!
— Зачем ты стрелял в кошку? — продолжал кричать я, наскакивая на Рэкса. — Я знаю, что это ты!
— Уберите отсюда этого психа!
Мичман Фабианский придержал меня:
— Постой, Полыгин!
— Он хотел убигь мою кошку!
— Дурак! — огрызнулся Рэкс.
— Вот пулька! Видите? Она ела колбасу! Мы вон там сидели, против иллюминатора. Я отвернулся, а он выстрелил в нее!
— Не ври!
— Вот пулька!
В наступившем замешательстве к Рэксу приблизился Олег и, качая головой, сказал:
— Значит, вон как?
— Врет он! Локшадин!
— Ты же сказал, что по птичкам стреляешь! Значит, вон по каким птичкам! По четырехлапым? — Он схватил Рэкса за грудки и притянул к себе. — Так недолго и до двуногих добраться! Рэкс! — С угрожающей выразительностью сказал Олег, еще чуть ближе подал Рэкса к себе и оттолкнул.
Забибикала Раина машина.
Я направился к выходу, прижимая к себе живую Шкилдессу. На пороге тира я оглянулся — Олег смотрел мне в след. И я вдруг странным образом понял, что моя служба в лагере еще не начиналась, а только-только начинается.
Февраль 1974—1978 гг.
г. Братск.
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Пишите нам о прочитанных книгах нашего издательства. Ваши отзывы, вопросы, предложения мы будем учитывать в последующих планах выпуска литературы.
Наш адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 36 «а». Восточно-Сибирское книжное издательство.