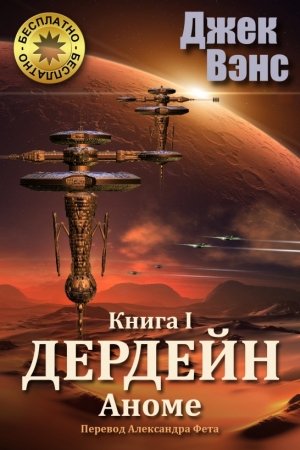
Джек Вэнс. Дердейн.
Книга 1. Аноме.
Глава 1
В возрасте девяти лет Мур слышал, как гость его матери, расшумевшийся в хижине отдыха, в шутку клялся именем Человека Без Лица. Позже, когда гость ушел своей дорогой, Мур обратился к матери с вопросом: «Человек Без Лица — он есть, на самом деле?»
«Еще как есть!» — отозвалась Эатре.
Мур поразмышлял немного и снова спросил: «Как он дышит — без лица? Как он ест, говорит?»
«Справляется как-нибудь», — Эатре всегда говорила тихо и спокойно.
«Интересно было бы посмотреть», — сказал Мур.
«Само собой».
«Ты его видела когда-нибудь?»
Эатре покачала головой: «Человек Без Лица не вмешивается в дела хилитов, так что и тебе незачем о нем беспокоиться». Помолчав, она задумчиво добавила: «Так уж повелось — к добру или не к добру».
Ребенок худой и угрюмый, Мур нахмурил черные брови, унаследованные от неизвестного кровного отца: «Почему так повелось? Почему к добру или не к добру?»
«До чего настырный уродился — все тебе нужно знать!» — добродушно заявила Эатре. Губы ее покривились — давал о себе знать «чусейн»[1]. Но она объяснила: «Тех, кто нарушает закон хилитов, экклезиархи наказывают по-своему. Только если нарушитель бежит в другой кантон, его находит Человек Без Лица — и беглец теряет голову». Подняв руку, Эатре почти прикоснулась к ошейнику бессознательным жестом, общим для всех обитателей Шанта: «Тем, кто блюдет закон хилитов, потеря головы не грозит. Это к добру. Но тогда они сами становятся хилитами — а это уже не к добру».
Мур больше не задавал вопросов. От замечаний матери веяло крамолой. Если бы их услышал духовный отец, ей, по меньшей мере, объявили бы строгий выговор. Эатре могли перевести на работу в сыромятню, а тогда привычному прозябанию Мура пришел бы конец. Ему и так оставалось жить «на материнском молоке» (по выражению хилитов) всего три-четыре года... В хижину зашел очередной путник. Эатре надела венок из цветов, налила бокал вина.
Мур вышел посидеть на обочине по другую сторону Аллеи, в тени высоких рододендронов. Он знал, что обязан существованием кому-то из гостей-прохожих — такова первородная вина. Ему надлежало стать чистым отроком, искупив первородную вину. Мур никак не мог уяснить таинственный процесс появления и искупления вины. Эатре родила четырех детей. Шестнадцатилетняя Деламбре уже обслуживала коттедж на западном конце Аллеи. Второй ребенок, Блинк, на три года старше Мура, недавно облачился в белую рясу чистого отрока и был наречен Шальресом Гаргаметом в честь хилитского аскета и подвижника Шальреса, просидевшего всю жизнь и испустившего дух в ветвях священного дуба, что в шести километрах вверх по долине Сумрачной реки, а также в память Бастина Гаргамета, кожевенных дел мастера, обнаружившего во время копчения шкур ахульфов[2] литургические свойства гальги.[3] Четвертого ребенка, появившегося на свет через два года после Мура, объявили дефективным и утопили в отстойнике сыромятни — врожденные недостатки детей считались следствием чрезмерной сексуальной изобретательности матери, в связи с чем Эатре порицали как виновницу происшедшего.
Мур сидел под рододендронами, рисуя узоры в белой пыли и критически разглядывая проезжих и прохожих — меркантилиста в запряженной парой быстроходцев двуколке, арендованной на станции воздушной дороги кантона Шемюс, трех молодых бродяг, батраков с зеленовато-коричневыми вертикальными полосками на ошейниках.
Мур нехотя поднялся на ноги. Порученные ему деревья-волокницы требовали частого ухода — если нити недостаточно натягивались бобинами, шелковистое волокно становилось узловатым, грубым... Мимо проезжала пароходная подвода, груженая разделанными бревнами дорогого черного дерева. Позабыв о волокницах, Мур догнал подводу и прокатился, повиснув на торчащем из кузова бревне, до моста через Сумрачную реку, где он соскочил на землю. Подвода, громыхая, покатилась вдаль по пустынной восточной дороге. Какое-то время Мур стоял у моста и бросал голыши в Сумрачную реку. Чуть выше по течению крутилось большое водяное колесо — привод жерновов, измельчавших дубильные орехи, квасцы, всевозможные травы, корни и химикаты для кожевенного завода.
Мур поплелся назад по Аллее Рододендронов. Когда он вернулся домой, гостя уже не было. Эатре поставила на стол миску с супом, отрезала ломоть хлеба. Пока Мур ел, он задал вопрос, тяготивший его с раннего утра: «Шальрес похож на духовного отца, а я — нет. Странно, правда?»
Эатре замерла в ожидании воспоминания, всплывавшего из глубины сознания — чудесный стихийный процесс! Так цветут деревья, так сочится упавший на землю спелый плод.
«Никто из хилитов — не говоря уже о Великом Муже Оссо — не состоит в кровном родстве ни с тобой, ни с Шальресом. Они не познают женщин во плоти. Кто отец Шальреса, я не знаю. Твой кровный отец — бродячий сочинитель музыки из тех, что странствуют в одиночку. Жаль было с ним расставаться».
«Он больше не приходил?»
«Нет».
«Куда он ушел?»
Эатре покачала головой: «Такие, как Дайстар, нигде не находят места. Он побывал во всех кантонах Шанта».
«Ты не могла с ним уйти?»
«Я в крепостном долгу. Пока он не выплачен, Оссо меня не отпустит».
Мур доедал суп в многозначительном молчании.
Пришла Деламбре, в накидке поверх платья в зеленую и синюю полоску — стройная и серьезная, как Мур, высокая и мягко-сдержанная, как Эатре. Она опустилась на стул: «Уже устала! Приходили три музыканта из табора. С последним было трудно, да и язык у него как с привязи сорвался. Без конца бубнил про каких-то варваров-рогушкоев. Говорит, жуткие пьяницы и развратники. Ты про них слышала?»
«Слышала, — сказала Эатре. — Сегодняшний гость отзывался о них с почтением. По слухам, они ужасно похотливы, лезут ко всем женщинам без разбора и никогда не платят».
«Почему Человек Без Лица не выгонит их из Шанта?» — строго спросил Мур.
«Дикари не носят ошейников, Человек Без Лица им не страшен. В любом случае, их заставили вернуться восвояси. Похоже, набеги кончились».
Эатре заварила чай. Мур взял два ореховых печенья и отправился в сад за хижиной, где его уединение скоро нарушил окрик духовного брата Шальреса.
Мур откликнулся без энтузиазма. Шальрес вприпрыжку спустился по склону холма и встал у ограды, не заходя в сад — чистый отрок боялся осквернения. Долговязый Шальрес — с мелкими, заостренными чертами лица, гримасничавшего в постоянном возбуждении — ничем не походил на Мура. Он часто моргал и морщил нос, глаза его то выпучивались, то прищуривались, бегая из стороны в сторону. Шальрес ухмылялся, корчил рожи, скалил зубы, облизывался, заливался блеющим смехом, когда достаточно было просто усмехнуться, чесал в затылке, дергал себя за мочки ушей и широко размахивал костлявыми, нескладными руками. Мур давно уже дивился полному несоответствию их внешности и характеров. Разве они не братья — дети одной матери, одного духовного отца? В отличие от Мура, Шальрес чем-то напоминал духовного отца, Великого Мужа Оссо — тоже долговязого и худого, как жердь, с болезненно-землистым лицом.
«Пошли, — сказал Шальрес, — ягоды собирать».
«Ягоды? С какой стати я должен собирать ягоды?»
«Потому что я так сказал. Вот, мне выдали освященные перчатки, чтобы не осквернять ягоды женским духом. Смотри, не дыши на ягоды! Дыши в сторону, и все будет в порядке. Что ты жуешь?»
«Ореховое печенье».
«Мм-да... С утра ничего не ел, кроме галеты с водой... Нет. Мне нельзя. Оссо узнает. У него нюх, как у ахульфа. Давай, пошли!» — он перебросил к ногам Мура корзину, и в ней белые перчатки. Мур подозревал, что сбор ягод поручили Шальресу — даже чистый отрок не смел прикасаться к пище без перчаток. Шальрес, по-видимому, придавал больше значения возможности побездельничать, нежели опасности осквернить еду, в любом случае предназначенную только для стола хилитов.
Не испытывая привязанности к Шальресу, Мур в какой-то мере сочувствовал брату, вынужденному служить жрецам — его самого ждала та же участь, и очень скоро. Мур взял корзину без дальнейших возражений: если подлог обнаружат, расплачиваться придется Шальресу.
«Так печенья хочешь или нет?» — нехотя предложил Мур.
Шальрес тревожно обернулся к склону холма, к белой громаде Башонского храма, к длинному ряду темных ниш под стеной, где устраивали убогие постели чистые отроки: «Давай — так, чтобы никто не видел».
Спрятавшись за широкий ствол апара, Шальрес с брезгливой торжественностью натянул белые перчатки. Взяв кончиками пальцев ореховое печенье, он разжевал и проглотил его во мгновение ока, облизал крошки с губ, скорчил несколько смущенных гримас, прокашлялся, поморщил нос, выглянул из-за ствола и посмотрел на холм. Убедившись в своей безопасности, он показал величественным жестом руки, что покончил с грязными плотскими страстишками и забыл о происшедшем.
Братья отправились к зарослям кислёнки на западном конце Аллеи Рододендронов. По дороге Шальрес подчеркнуто держался поодаль от еще не прошедшего обряд очищения духовного брата.
«Сегодня вечером — схоластический конклав экклезиархов! — объявил Шальрес так, будто сообщал новость первостепенной важности. — На десерт они желают ягод. Нужно собрать столько, чтобы хватило на всех. Представляешь? Меня одного послали раздобыть уйму ягод. Рассуждают о высоких идеалах и непреклонности духа, а подъедают все дочиста — все, что подают».
«Ха! — мрачно усмехнулся Мур, вскинув голову. — Сколько тебе осталось до пострижения?»
«Год. У меня уже растут волосы на теле».
«На тебя наденут ошейник, и ты больше никогда не сможешь уйти, куда глаза глядят, бродить по свету. Это ты понимаешь?»
Шальрес шмыгнул носом: «Ну и что? Дерево растет и больше не может превратиться в семя».
«Тебя не тянет посмотреть на новые места?»
Шальрес ответил уклончиво и раздраженно: «Даже бродяги носят ошейники. Без ошейников — только иностранцы».
Мур не нашел возражений, но скоро спросил: «Рогушкои — тоже иностранцы?»
«Кто? О чем ты болтаешь?»
Мур, знавший немногим больше Шальреса, предусмотрительно не продолжал.
Пройдя мимо плантации волокниц, где Мур ежедневно ухаживал за участком с двумястами бобинами, братья спустились к густым зарослям ягоды-кисленки. Остановившись, Шальрес обернулся к святилищу на холме: «Значит, так. Обойди кусты и собирай внизу, а я буду здесь. Если что, из храма увидят: все делается, как положено. Непременно надень перчатки! Это минимальное, необходимое требование — не злоупотребляй моим благорасположением!»
«А что, Оссо придумал еще какие-нибудь требования?»
«Он всегда что-нибудь придумает. Нужно собрать не меньше двух полных корзин, так что поторопись. Не забудь про перчатки! Хилиты чуют женский дух, как обычный человек чует дым пожара — и реагируют так же».
Спустившись до нижнего края зарослей кисленки, Мур прошел чуть дальше, чтобы взглянуть на табор музыкантов. В этом году приехала многолюдная труппа в семи фургонах, раскрашенных символическими цветными орнаментами. Голубой цвет означал беззаботность, розовый — невинность, темно-желтый — санушейн,[4] серо-коричневый — техническое мастерство.
В таборе занимались повседневными делами — носили корм и воду тягловым животным, нарезали овощи в походные котлы, сушили выстиранные накидки, выбивали пыль из одеял. В целом музыканты вели себя гораздо беспечнее, живее, экспансивнее хилитов — здесь преобладали грубоватые, несдержанные интонации и вычурная, часто неожиданная жестикуляция. Смеясь, музыканты закидывали головы. Даже самые угрюмые и замкнутые недвусмысленно выражали хроническое раздражение красноречивыми позами. На задних ступенях фургона сидел старик, подгонявший новые колки к изогнутому грифу небольшого хитана. Рядом мальчик не старше Мура практиковался в игре на гастенге, повторяя пассажи и арпеджио. Старик время от времени поправлял его краткими ворчливыми замечаниями.
Мур вздохнул, отвернулся и стал подниматься по склону к ягодным зарослям. Впереди из-за кустов проглядывало светло-каштановое пятно. В зарослях кто-то шевелился — шелестели потревоженные листья. Мур замер, осторожно приблизился. Всматриваясь в листву, он обнаружил девочку лет одиннадцати, удивительно ловко и быстро собиравшую ягоды, сыпавшиеся в висящее на локте лукошко.
Возмущенный вторжением на свою территорию, Мур решительно направился к нарушительнице, споткнулся о торчащий петлей корень и с треском повалился на колючую кочку ведьмовника. Девочка бросила испуганный взгляд через плечо, уронила корзину, подобрала юбку и припустила, не разбирая дороги, через заросли кисленки. Чувствуя, что свалял дурака, Мур поднялся на ноги и растерянно смотрел вслед удиравшей девчонке. Вообще-то он не собирался ее пугать — но что сделано, то сделано! Теперь у нее все ноги в царапинах. Так ей и надо! Нечего тут делать, в ягоднике хилитов! Мур подобрал брошенное беглянкой лукошко и со злорадной сосредоточенностью пересыпал его содержимое себе в корзину. Вот и десерт для конклава!
Засунув перчатки в карман, он еще некоторое время собирал кисленку, постепенно поднимаясь по склону. Наконец Шальрес позвал: «Эй! Где ягоды? Опять отлыниваешь?»
«Вот, смотри», — отозвался Мур.
Шальрес заглянул в корзину, подчеркнуто не замечая того, что Мур не надел перчатки: «Гм. Неплохо. Даже странно. Ну что же, давай сюда — можно сказать, я собрал все, что нашлось... Прекрасно. Ах да, перчатки! Слишком чистые». Шальрес надел перчатку, раздавил ягоду пальцами: «Так-то оно лучше. Смотри, никому ни слова». Он угрожающе нагнулся, приблизив тощее костлявое лицо к лицу Мура: «Помни — когда ты станешь чистым отроком, я уже буду хилитом. Тогда не рассчитывай на поблажки! Я-то знаю, куда дует ветер!» Шальрес повернулся и поспешил к храмовому холму.
Мур решил собрать еще кисленки для матери — просто чтобы чем-нибудь заняться. Естественно, половина ягод попадала не в корзину, а к нему в рот. Его смутное ожидание скоро оправдалось — ниже по склону появилась бледно-каштановая кофта бродячей девчонки. Убедившись в том, что она его заметила и не боится, Мур медленно двинулся навстречу. Девчонка и не подумала убегать — наоборот, быстро подошла. Лицо ее раскраснелось от злости: «Эй ты, выкормыш извращенцев! Шарахаешься по кустам, заграбастал мои ягоды! Где они? Отдавай сейчас же, а то уши оторву, даром что растопыренные!»
Слегка ошарашенный таким обращением, Мур старался сохранить невозмутимость, подобающую ученику хилитов: «Ты чего обзываешься?»
«А как еще тебя называть? Вор несчастный!»
«Сама ты воровка — ягоды не твои, а хилитские!»
Девчонка раздраженно взмахнула руками, топнула ногой: «Ха! Еще ты будешь рассуждать, кто тут вор, а кто не вор! Все равно давай ягоды — какая разница?» Выхватив корзину у Мура из рук, она с подозрением заглянула внутрь и недоуменно спросила: «Это все, что я собрала?»
«Было больше, — с достоинством признал Мур. — Остальное взял духовный брат. Не обижайся — ягоды подадут на конклаве хилитов. Забавно, однако! Хилитам придется вкушать пищу, оскверненную женщиной!»
Девчонка снова разозлилась: «Ничего я не оскверняла! За кого ты меня принимаешь?»
«Тебе, наверное, невдомек, что...»
«Ничего не знаю и знать не хочу! Слышали — и про хилитов твоих, и про их мерзкие штучки! Накуриваетесь всякой дрянью и бредите развратными снами. Более дурацкой секты мир не видел!»
«Хилиты — не секта, — наставительно возразил Мур, повторяя слышанное от Шальреса. — Всего я не могу объяснить, потому что я еще даже не чистый отрок и научусь полностью подчинять порочное животное начало только через три-четыре года. Но хилиты — единственный духовно независимый и высокоразвитый народ на Дердейне. Все остальные живут эмоциональной жизнью. Только хилиты способны вести абстрактное, интеллектуальное существование».
Девчонка нагло расхохоталась: «Молокосос! Что ты знаешь о других народах? Ты от избы-то своей не отходил дальше, чем на двести шагов!»
Уязвленный Мур не мог опровергнуть это утверждение: «Все равно, я многому научился от гостей, отдыхающих в хижине матери. А еще мой кровный отец был музыкантом — да будет тебе известно!»
«Неужели? И как его звали?»
«Дайстар».
«Дайстар... Пошли в табор! Я тебя выведу на чистую воду. Узнаем, что за музыкант был твой отец».
Сердце Мура часто колотилось, он отступил на шаг: «Я не уверен... что мне нужно... знать».
«Почему нет? Струсил?»
«Ничего я не струсил! Я хилит, а поэтому...»
«Понятно, понятно — тогда пошли».
На непослушных, порывающихся пуститься наутек ногах Мур последовал за бродяжкой, лихорадочно придумывая убедительный повод отказаться от приглашения. Девчонка обернулась с дерзкой, вызывающей ухмылкой. Мур, наконец, разгневался. Ах, так? Значит, его считают лжецом? Значит, принимают за безродного ублюдка? Теперь его ничто не остановит... Они спустились в табор. «Азука! Азука! — позвал женский голос. — Где ягоды? Давай сюда!»
«Ягод нет! — с отвращением заявила Азука. — Вот этот паршивец их украл и спрятал. Вздуйте его, чтоб неповадно было!»
«Что такое? — женщина подошла ближе. — Ты ягоды принесла или нет?»
Капризно-обвинительным жестом девчонка передала ей почти пустую корзину: «Я же говорю — поганец их присвоил. Да еще хвастается, что отец его был музыкант — Дайстар какой-то».
«А почему нет? Музыканты не люди, что ли? Все мужики одинаковы — обрюхатил и смылся». Наградив Мура легким подзатыльником, она добавила: «Твоя матушка, видать, женщина аккуратная, записи ведет».
Мур осмелился выступить с робким вопросом: «Вы знали моего отца, Дайстара?»
Мать Азуки ткнула в сторону большим пальцем: «С расспросами приставай к старому чурбану — он знался с каждым пьяницей в Шанте, рвущим струны на потеху публике. Азука! Ты всю жизнь собираешься лясы точить, чучело ты чумазое? Никакого прока от тебя нет. Принеси прутьев, разведи огонь посильнее!» Женщина отошла, чтобы перемешать содержимое булькающего котла. Девчонка насмешливо задрала нос и скрылась за фургоном. Мур остался один. Никто его не замечал. В бродячей труппе каждый трудился с напряженным вниманием, будто выполнение повседневных обязанностей было важнейшей задачей жизни. Самым неторопливым и непринужденным казался старик на ступенях фургона, но даже он самозабвенно ковырял и вертел инструмент на коленях, воодушевленно поднимая локти, то и дело нагибаясь и прищуриваясь, чтобы оценить достигнутые результаты. Мур опасливо, шаг за шагом, подбирался к старику. Тот бросил на него холодный взгляд и принялся продевать струну в колок хитана с вычурно изогнутым грифом.
Мур наблюдал в почтительном молчании. Старик натягивал и поправлял струны, насвистывая мелодию сквозь зубы. Он уронил шило. Мур поднял откатившееся шило, подал старику, удостоился еще одного взгляда, подошел еще на шаг.
«Ну, что скажешь? — строго и вызывающе произнес старый музыкант, поднимая хитан. — Хорошо сработано?»
Поколебавшись, Мур сказал: «Выглядит неплохо. Но у нас в Башоне мало музыкальных инструментов. Хилиты предпочитают «прозрачную холодную тишину» — так они выражаются. Мой духовный отец, Оссо Хигаджу, не выносит даже чириканья стрекад».
Старик оторвался от работы: «Любопытное обстоятельство, нечего сказать. А ты? Тоже хилит?»
«Нет, еще нет. Я живу с матерью, Эатре, посреди Аллеи. Кажется, я не хочу быть хилитом. Не знаю».
«Почему нет? В храме легкая жизнь — дни проходят в «прозрачной холодной тишине», пока женщины делают всю работу».
Мур понимающе кивнул: «Так-то оно так... Но сначала я должен стать чистым отроком, а я не хочу уходить от матери. К тому же мой кровный отец был музыкантом. Его звали Дайстар».
«Дайстар... — старик натянул новую струну, слегка ущипнул. — Слыхал я о Дайстаре, был такой друидийн».
Мур подошел ближе: «Кто такой друидийн?»
«Друидийн не ездит с труппой, а бродит сам по себе с хитаном, таким вот, как этот. Иногда с гастенгом. Играя, умудряет других своей мудростью, наполняет их жизнь своей жизнью».
«Друидийн поет?»
«Ни в коем случае! Никакого пения. Поют менестрели и барды. По-нашему, пение — не музыка. Это другая статья. Хе-хе, представляю, что бы сказал Дайстар, если бы при нем пение назвали музыкой!»
«Дайстар — какой он человек?»
Старик неожиданно посмотрел Муру прямо в глаза. Мур слегка отпрянул. В голосе седого ворчуна появился призвук осуждения: «А зачем тебе знать? Ступай себе очищайся, постригайся!»
«Я часто думаю об отце, но не могу себе его представить».
«Да. Ну ладно, так и быть. Дайстар был человек высокий, сильный, нелюдимый. Играл страстно — все понимали, о чем он играл, сомнений не оставалось. Знаешь, как он умер?»
«Я не знал, что он умер».
«Такая вышла история. Однажды вечером он напился и пришел в ярость. Он играл[5] на гастенге — играл так, что все слушавшие были потрясены. Говорят, не закончив, он выбежал на улицу, крича, что ошейник душит. Видели, как он пытался разорвать его. Может быть, ему это удалось, и он сам лишил себя головы — а может быть, не по душе пришлись его слова Человеку Без Лица. Кто знает? Только на следующее утро нашли его тело, а головы, полной чудесных мелодий, уже не было. Вот таким образом».
Старик раздраженно потянул себя за ошейник. Мур заметил цвета эмблемы — две вертикальные полоски, лиловая и розовая, означали отсутствие кантональной принадлежности, а горизонтальные, серую и коричневую, носили все музыканты. Личный код старика состоял из синей, темно-зеленой, темно-желтой, алой, второй синей и лиловой полосок. Мур потрогал свою шею, еще голую. Как он почувствует себя в ошейнике? Никто не привыкал к ошейнику сразу — люди месяцами, даже годами испытывали приступы страха, истерического удушья. Рассказывали, что «надевшие ярмо» иногда доходили до исступления, разрывали ошейник — и буквально теряли голову. Мур поджал губы. Без ошейников было нельзя, но порой ему хотелось навсегда остаться ребенком, жить с матерью в приятной просторной хижине где-нибудь подальше от Башона и ничего не знать об ошейниках и хилитах, о Человеке Без Лица и сумасшедших, теряющих голову.
Старик настроил хитан, набрал тоскливую последовательность аккордов. Мур завороженно наблюдал за проворными, точными движениями пальцев. Темп ускорился — появилась мелодия то в одном, то в другом голосе... Хитан вдруг замолчал — старик отложил его: «Под эту джигу танцуют в порту Барбадо, на юге кантона Энтерланд. Тебе нравится?»
«Очень».
Старик крякнул: «Возьми хитан. Завтра укради мне кусок хорошо выделанной кожи, принеси ведро ягод или просто пожелай счастливого пути — как хочешь, мне все равно».
«И то, и другое, и третье! — запрыгал от радости Мур. — Сделаю все, что скажете! А как я научусь играть?»
«Невелика наука. Главное прилежно заниматься, каждый день. Чтобы сменить тональность, наклоняй шейку грифа — она поворачивается, вот так. Основные аккорды выучить нетрудно. Смотри, схемы аккордов вырезаны на нижней деке. Как пользоваться аккордами? Это другое дело. Мастерство дается только длительным опытом, музыкальным и жизненным». Старик многозначительно поднял указательный палец: «Когда станешь знаменитым друидийном, помни, что первый хитан тебе подарил не кто иной, как Фельд Майджесто!»
Мур неловко взял инструмент: «Я не знаю мелодий. В Башоне не бывает никакой музыки».
«Сам сочиняй мелодии! — отрезал Фельд Майджесто. — Кроме того, смотри, чтобы духовный отец Оссо не слышал, как ты занимаешься. И не предлагай экклезиархам петь и плясать под музыку — узнаешь, почем фунт лиха!»
Мур бежал вприпрыжку из табора музыкантов — окрыленный. преображенный невероятным чудом, выпавшим на его долю.
Добравшись до обочины Аллеи, однако, он тут же пришел в себя и остановился, не выходя из-за деревьев. Нести хитан домой у всех на виду значило положить начало слухам. Рано или поздно слухи достигли бы ушей духовного отца Оссо. Оссо немедленно приказал бы уничтожить инструмент — как предмет, противоречащий аскетическому учению.
Мур вернулся в хижину матери замысловатым путем, прячась за рододендронами. Эатре не удивилась при виде хитана — Мур и не ожидал, что она удивится. Он рассказал ей обо всем, что случилось, и сообщил весть о смерти Дайстара. Эатре смотрела в сумеречную даль — солнца уже зашли, небо стало темно-лиловым: «Так ему и суждено было умереть. В конце концов могло быть гораздо хуже». Она прикоснулась к ошейнику, отвернулась и пошла готовить ужин для Мура. На этот раз она постаралась угодить сыну, как могла.
Несмотря на праздничный ужин, Мур расстроился: «Почему мы обязаны носить ошейники, везде и всегда? Разве люди не могут договориться и вести себя хорошо — так, чтобы их не нужно было наказывать?»
Эатре печально покачала головой: «Говорят, ошейник ненавидят только нарушители закона. Так это или нет, не могу сказать. Когда на меня надели ярмо, мне было душно, казалось, что внутри что-то сломалось, что со мной сделали что-то неправильное, противное природе. Наверное, и без ошейников можно как-нибудь жить — не знаю. Тебя скоро заберут хилиты. Какой бы путь ты ни выбрал в жизни, я тебе не помешаю. Благодарящий Саккарда проклинает Саккуме.[6] Что тут посоветуешь? Кто я такая, чтобы давать советы?»
Заметив на лице Мура испуганное замешательство, Эатре сказала: «Ну хорошо, слушай. Я советую, прежде всего, проявлять находчивость. Преодолевай препятствия, не смиряйся с поражениями! Стремись к совершенству! Ты должен пытаться превзойти непревзойденных, даже если на это уйдет вся жизнь и в конце ее не будет удовлетворения!»
Мур критически повторил в уме сказанное: «Значит, я должен лучше всех знать обряды и священные тексты? Лучше, чем Шальрес? Лучше, чем толстый Нич, кода он станет чистым отроком? Значит, нужно превзойти всех хилитов и стать верховным экклезиархом?»
Эатре долго не отвечала: «Значит, так — ежели тебе не терпится быть экклезиархом».
Мур, умевший распознавать тончайшие интонации в голосе матери, медленно кивнул.
«А теперь пора спать, — сказала Эатре. — Будь осторожен, занимаясь на хитане! Приглуши струны сурдиной, не грохочи гремушкой. Иначе Оссо отправит меня в сыромятню раньше времени».
В темноте Мур перебирал струны, дрожа вместе с тихими звуками. Он не пострижется в чистые отроки ни за что! Убежит с матерью, станет музыкантом! Они... нет, они не могут бежать — Эатре в крепостном долгу, Эатре потеряет голову. А без нее он не уйдет — немыслимо! Что тогда? Что делать? Мур заснул, прижимая к груди хитан.
Утро принесло ужасные известия. В отстойнике кожевенного завода нашли лежавший ничком труп Шальреса Гаргамета. Никто не понимал, почему и как он умер — но руки и ноги его были неестественно вывернуты в суставах, как у танцоров на древних барельефах.
Чуть позже от хижины к хижине шепотом поползли слухи. Оказывается, вчера Шальрес собирал ягоды для конклава. Уже отведав ягод, Великий Муж Оссо обнаружил среди них длинный черный женский волос. Сплетники, бормотавшие друг другу на ухо, чувствовали прохладную дрожь, пробегавшую по телу — любопытное ощущение, вызванное не столько страхом, сколько пониманием чрезмерной, нелепой жестокости происшедшего. Узнав обстоятельства смерти брата, Мур побледнел белее смерти, забрался в самый темный угол хижины и прижался к полу лицом вниз, закрыв голову руками. Так он лежал, не шевелясь, до наступления темноты. Только редкое нервное подергивание лопаток напоминало, что он еще жив.
В сумерках Эатре накрыла Мура пледом и оставила лежать. Всю ночь они не могли заснуть, но молчали. Наутро мать принесла Муру миску с кашей. Он повернул к ней тощее лицо с дрожащими губами. Волосы его поблекли, слежались. Эатре сморгнула слезы, обняла его. Мур начал тихо выть — низким грудным голосом, медленно повышавшимся и все больше напоминавшим плач с причитаниями и угрозами. Эатре осторожно встряхнула его за плечи: «Мур, не надо, Мур!»
Позже, в тот же день, Мур прикоснулся к хитану — вяло, без интереса. Он не мог пробраться на склад сыромятни и украсть кусок кожи, не мог набрать корзину ягод. Мур пытался мысленно передать старику-музыканту наилучшие пожелания, но даже мысли, бледные и вязкие, не слушались.
К заходу солнц Эатре принесла горячий фруктовый компот и чай. Мур сначала отказывался, тряс головой, потом принялся равнодушно хлебать компот. Эатре стояла рядом и смотрела сверху — так долго, что Мур в конце концов поднял глаза. Она сказала: «Если ты уйдешь из Башона, не дождавшись духовного пострижения, у них не будет оснований для доноса Человеку Без Лица. Я могу найти покровителя за границей, тебя возьмут в ученики».
«За нами вышлют ищеек-ахульфов».
«Все можно устроить».
Мур отрицательно мотал головой: «Без тебя я не уйду».
«Нас все равно разлучат, когда ты станешь хилитом — будет хуже».
«Даже тогда не уйду! Пусть меня убьют — не уйду!»
Эатре погладила его по голове: «Если тебя заберет смерть, мы уже точно не увидимся. Пострижение не хуже смерти — разве не так?»
«Я буду приходить к тебе тайком. Я смогу договориться, и тебе не нужно будет тяжело работать».
«В работе нет ничего страшного, — тихо сказала Эатре. — Женщинам повсюду приходится гнуть спину».
«Человек Без Лица — чудовище!» — хрипло закричал Мур.
«Нет!» — воскликнула Эатре, настолько возбужденно, насколько позволял ее темперамент. Она подумала пару секунд, собираясь с непослушными, полузабытыми мыслями: «Как тебе объяснить? Ты еще маленький! Люди меняются с каждой минутой! Человек, до небес восхваляющий Саккарда, готов разорвать на куски его отражение, Саккуме — с рычанием и воплями, как бешеный ахульф. Понимаешь? Люди — извращенные, непредсказуемые существа. Чтобы не гибнуть в бесконечных раздорах, они связали себя правилами. В каждом из шестидесяти двух кантонов Шанта — свой набор правил. Какой лучше, какой хуже? Никто не знает; наверное, это даже не важно. Важно то, что все жители кантона соблюдают одни и те же правила. Нарушитель рискует — цвета его эмблемы сообщают Человеку Без Лица. Или тайный корреспондент представляет отчет о подрыве авторитета властей. Иногда Человек Без Лица, неузнанный, бродит из кантона в кантон и восстанавливает порядок — или посылает вместо себя благотворителей, таких же незаметных, как он сам. Теперь понимаешь? Человек Без Лица просто-напросто обеспечивает выполнение законов, установленных жителями Шанта для самих себя».
«Может быть, так оно и есть, — сказал Мур. — Но, будь я Человеком Без Лица, я запретил бы страх и усталость, и тебе никогда не пришлось бы работать в сыромятне!»
Эатре погладила его по голове: «Да, мой маленький Мур, я знаю. Ты заставил бы людей быть добрыми и хорошими, и все это, как всегда, кончилось бы кровавой баней и всеобщим разорением. Иди спать. Завтра мир будет не лучше и не хуже, чем сегодня».
Глава 2
Прохладным осенним утром чистый отрок подошел к ограде и позвал Мура: «Тебя желает видеть духовный отец — в полдень, у входа в нижний покой. Не забудь тщательно очиститься».
Медленно, через силу, Мур вымылся, надел чистую рубаху до колен. Эатре сидела в другом углу комнаты, чтобы не осквернять женским духом и так уже нервничавшего Мура.
В конце концов она не выдержала и подошла причесать ему упрямые черные волосы: «Помни — он всего лишь хочет проверить, насколько ты вырос, и побеседовать о хилитском учении. Пустяки, ничего страшного».
«Может быть, — сказал Мур. — Все равно боюсь».
«Чепуха! — решительно возразила Эатре. — Ты не боишься, ты у меня самый храбрый. Слушай внимательно, точно выполняй указания, на вопросы отвечай осторожно, без лишних слов, и не старайся показать, что ты умнее всех».
Она вынесла на порог горящий уголь из очага и слегка прокоптила дымом одежду и волосы Мура, чтобы первое впечатление Оссо не было связано, по крайней мере, с женским духом.
За десять минут до полудня Мур, одолеваемый недобрыми предчувствиями, отправился по дороге в храм. Попутчиков не было, навстречу тоже никто не шел. Облачка белой пыли поднимались из-под ног и клубились в бледно-сиреневых солнечных лучах. Над ним грузно возвышался храм — постепенно заслонявшее небо скопление приземистых сросшихся цилиндров. С холма дул прохладный ветерок, пованивавший жженой гальгой.
Мур обошел беленое основание храма и оказался перед так называемым «нижним покоем» — высокой, глубокой нишей с арочным входом, полуопрокинутым навстречу небу. Помещение пустовало. Мур повернулся спиной к стене, напряженно выпрямился и стал ждать.
Шло время. Солнца поднимались к зениту: маленький, слепящий белый диск Сасетты скользил на сливово-красном горбу Эзелетты, а голубой Заэль кружился чуть поодаль — три карликовых звезды танцевали в небесах, как волшебно увеличенные, сонные светлячки.
С холма открывался обширный пейзаж, дрожащий в полуденном свете. За ближней далью начиналась другая, сиреневая даль до горизонта. На западе виднелся кантон Шемюс, на севере — лес Шимрода, а за ним кантон Феррий, где на красных склонах оврагов чугуновары плели железные кружева.
Мур вздрогнул — за спиной послышался шорох. Повернувшись, он увидел Оссо, хмуро взиравшего с высокой кафедры. Мур произвел плохое первое впечатление — вместо того, чтобы ждать, смиренно преклонив колени перед кафедрой, он стоял лицом к выходу, отвлеченный полуденной панорамой.
Не меньше минуты Оссо пристально разглядывал Мура сверху. Широко открыв глаза, завороженный Мур уставился на него снизу. Оссо произнес с замогильной торжественностью: «Поддавался ли ты непристойным заигрываниям женских детей?»
Несмотря на расплывчатость формулировки, Мур примерно уловил смысл вопроса. У него пересохло в горле — он сглотнул, пытаясь припомнить эпизоды, которые можно было бы истолковать как «непристойные заигрывания». Мур сказал: «Нет, никогда».
«Предлагал ли ты женским детям вступать с тобой в подлую взаимную связь, предавался ли гнусному соитию?»
«Нет, — дрожащим голосом отвечал Мур, — никогда».
Оссо коротко кивнул: «В твоем возрасте необходимо уже принимать меры предосторожности. Недалек тот день, когда ты станешь чистым отроком, начнешь готовиться к посвящению в хилиты. Грехопадение приведет к осложнению обрядов очищения, и без того достаточно суровых».
Мур пробормотал нечто долженствовавшее означать согласие.
«Ты способен ускорить свое препровождение в храм, — продолжал Оссо. — Не ешь жирной пищи, не пей сиропов, сторонись баклавы. Сильны путы, притягивающие ребенка к матери: настало время привыкнуть к мысли об освобождении. Отстраняйся спокойно, не унижаясь! Если мать предложит леденцы или попытается приставать с женскими нежностями, говори: «Уважаемая, я на пороге очищения — будьте добры, не усугубляйте тяготы предстоящего мне преображения». Ты внемлешь?»
«Да, духовный отец».
«Готовься ко вступлению в сильнейшую из связей, к вступлению на стезю духовного сопричастия к храму. По сравнению с плотским влечением к самке зов Галексиса, нервного средоточия Вселенной, подобен медовой сладости унмеля после вонючего отстоя сыромятни! В урочный час тебе откроется истина. Тем временем укрепляй себя!»
«А как я должен себя укреплять?» — осмелился спросить Мур.
Оссо грозно воззрился на ребенка. Мур съежился. Оссо изрек: «Тебе известна природа животных влечений. С философской точки зрения, грубо говоря — ты еще не готов воспринять учение во всей полноте — животные влечения дают удовлетворение первого, низшего порядка. Твой желудок пуст — ты набиваешь его хлебом до отказа: примитивное утоление примитивного инстинкта. Человек, умеренно употребляющий разнообразную, здоровую пищу, поднимается на следующую ступень. Гурман, настаивающий на приготовлении скудных, но изысканных блюд в строгом соответствии с традиционными рецептами, получает удовлетворение третьего порядка. На четвертом уровне низменные требования желудка игнорируются, вкусовые нервные окончания стимулируются эссенциями и экстрактами. Удовлетворение пятого порядка приносят ощущения, вырабатываемые и воспринимаемые исключительно мозгом, без какой-либо стимуляции вкусовых или обонятельных рецепторов. Хилит, испытывающий удовлетворение шестого порядка, переходит в состояние бессознательной экзальтации — душа его возносится к пречистому Галексису Ахилианиду. Внемлешь? Для пояснения я привел простейший, самый очевидный пример».
«Все понятно, — сказал Мур. — Одно только неясно. Когда хилит кладет еду себе в рот, как это согласуется с учением?»
«Мы поддерживаем энергетический заряд организма, — гнусаво, нараспев ответствовал Оссо. — При этом тип заряжающей субстанции, привлекательность или непривлекательность ее вкусовых качеств не имеют принципиального значения. Будь тверд, не жалей себя. Отвращай помыслы от плотских вожделений, найди отвлеченное занятие, помогающее сосредоточить внимание на возвышенном. Я вязал в уме геральдические узлы из воображаемых веревок. Другой экклезиарх, подвижник шести спазмов, запоминал пары простых чисел. Есть множество мыслительных экспериментов, позволяющих оградить праздный ум от низменных соблазнов».
«Я знаю, что мне делать! — Мур изобразил нечто вроде энтузиазма. — Буду размышлять о сочетаниях музыкальных звуков».
«Пользуйся любым средством, облегчающим подавление искушений, — сказал Оссо. — Ты получил указания: руководствуйся ими. Я могу направлять, указывать на ошибки, но духовное развитие невозможно без внутреннего усилия. Работай над собой. Ты уже выбрал себе мужское имя?»
«Еще нет, духовный отец».
«Тебе следовало бы об этом подумать. Надлежащее имя вдохновляет и возвышает. В свое время я передам тебе список рекомендуемых имен. На сегодня все».
Мур спустился с холма. Эатре была занята в хижине, и он решил прогуляться по Аллее Рододендронов на запад, к стоянке, давно покинутой бродячими музыкантами. Почувствовав голод, Мур забрался в заросли кисленки, собирая ягоды. Наставления Оссо о пользе воздержания и абстрактных размышлений уже выветрились у него из головы. Тем не менее, отправив в рот очередную ягоду, он ненароком поднял глаза к белеющим строениям на храмовом холме — и застыл минут на пять, так и не опустив руку. Что-то произошло у него в голове, что-то соединилось. Он не пытался осознать появившиеся мысли, не мог проследить их последовательность, но их было достаточно для непроизвольного сокращения мышц — из его груди вырвался звук: презрительный смешок, похожий на фырканье чихающей кошки.
Когда он вернулся в хижину, Эатре пила чай. Она показалась Муру уставшей и бледной. Эатре спросила: «Ну что, как прошло собеседование с духовным отцом Оссо?»
Мур скорчил гримасу: «Говорит, нужно думать чистые мысли. Запретил играть с девчонками».
Эатре молча прихлебывала чай.
«Еще говорит, нельзя есть, что хочется. И что я должен выбрать имя».
С последним замечанием Эатре согласилась: «Ты уже большой, можешь придумать себе имя. Как ты назовешься?»
Мур угрюмо пожал плечами: «Оссо составит какой-то список».
«Он уже прислал список сыну Глинет, Ничу».
«Нич выбрал имя?»
«Теперь его зовут Геаклес Вонобль»
«Хм. Это в честь кого?»
Эатре равнодушно пояснила: «Геаклес был архитектором храма. Вонобль сочинил «Дифирамбы Ахилианиду»».
«Хм. Значит, толстого Нича надо величать Геаклесом?»
«Значит, так».
Четыре дня спустя чистый отрок протолкнул через ограду длинную палку с бумагой в расщепленном конце: «Послание Великого Мужа Оссо».
Мур принес послание в хижину и кое-как разобрал письмена — впрочем, не без помощи Эатре. По мере того, как он читал, лицо его все больше вытягивалось: «Бугозоний, экклезиарх, подвижник семи спазмов. Нарт Хоманк, поглощавший не более одного ореха и одной ягоды в день. Хигаджу, реорганизовавший процесс обучения чистых отроков. Фаман Косиль, охолощенный разбойниками в лесу Шимрода за отказ отвергнуть идеалы любви к миру и непротивления злу. Боргад Польвейтч, обнаживший пагубность ереси амбисексуалистов». Мур отложил список.
«Что ты выберешь?» — спросила Эатре.
«Надо подумать. Не знаю».
Через три месяца Мура вызвали на второе собеседование с духовным отцом, снова в нижнем покое. Оссо продолжал наставлять Мура на путь истинный: «Тебе пора учиться вести себя так, как подобает чистому отроку. Каждый день отказывайся от той или иной детской привязанности. Изучай «Отроческий принципарий», тебе его выдадут. Ты выбрал имя?»
«Да», — сказал Мур.
«Кто из подвижников и мучеников удостоился твоего внимания?»
«Я решил называть себя: Гастель Этцвейн».
«Гастель Этцвейн! Во имя всего чрезвычайного и невероятного, где ты раздобыл сию номенклатуру?»
В голосе Мура появилось испуганно-умиротворяющее усердие: «Ну... я просмотрел рекомендованный список, конечно, но не смог... я подумал, что мне лучше было бы назваться как-нибудь по-другому. Человек, проходивший по Аллее Рододендронов, подарил мне книжку «Герои древнего Шанта», и в ней я нашел свои имена».
«И кто же такие — Гастель и Этцвейн?»
Мур — или Гастель Этцвейн, ибо таково было теперь его мужское имя — неуверенно смотрел на возвышавшегося за кафедрой духовного отца. Он думал, что легендарные личности, поразившие его воображение, общеизвестны: «Гастель построил знаменитый планер из лозы, прутьев и железных кружев. Он стартовал с Ведьминой горы, чтобы облететь весь Шант, но вместо того, чтобы приземлиться на мысу Скупой Слезы, поднимался все выше и выше над Пурпурным океаном — уже в облаках ветер стал относить планер к Каразу,[7] и больше его никто никогда не видел... А Этцвейн был величайший музыкант, когда-либо бродивший по Шанту!»
Оссо помолчал полминуты, подыскивая слова. Наконец он заговорил — весомо, с уязвленной непреклонностью: «Свихнувшийся аэронавт и попрошайка, бренчавший на потеху пьяницам! Таковы, по-твоему, образцы для подражания? Я посрамлен. Я не сумел внушить надлежащие идеалы, пренебрег обязанностями. Ясно, что в твоем случае придется приложить дополнительные усилия. Гасвейн и Этцель — или как их там — неподобающие имена. Отныне тебя зовут Фаман Бугозоний! Мученик и подвижник — приличествующие отроку, несравненно более вдохновляющие примеры. На сегодня все».
Отказываясь думать о себе как о «Фамане Бугозонии», Мур спустился с храмового холма. Проходя мимо сыромятни, он задержался, праздно наблюдая за работой старух, потом медленно вернулся домой.
Эатре спросила: «Что случилось на этот раз?»
Мур ответил: «Я ему объяснил, что меня зовут Гастель Этцвейн. А он говорит: нет, меня зовут Фаман Бугозоний!»
Эатре рассмеялась; Мур смотрел на нее с печальным укором.
Улыбка исчезла с лица Эатре. Она сказала: «Имя ничего не значит; пусть называет тебя, как хочет. Ты быстро привыкнешь — и к новому имени, и к хилитскому распорядку жизни».
Мур отвернулся, достал хитан, прикоснулся к струнам. Он попробовал сыграть мелодию, подчеркивая ритм шорохами гремушки. Эатре слушала с одобрением, но Мур скоро остановился и недовольно покрутил инструмент в руках: «Ничего я не умею, выучил пару наигрышей, и все. Для чего боковые струны? Вот эти пуговки прижимают к струнам, чтобы они звенели — как это делать, если пальцев и так не хватает? Глиссандо и вибрато тоже не выходят».
«Мастерство не дается легко, — вздохнула Эатре. — Терпение, Мур, терпение...».
Глава 3
Когда ему исполнилось двенадцать лет, Мур, Гастель Этцвейн, Фаман Бугозоний — имена смешались у него в голове — прошел обряды очищения в компании трех других подростков: Геаклеса, Иллана и Морларка. Его обрили наголо и окунули в ледяную воду священного родника, окруженного каменной купальней под храмом. После первого погружения отроки натерлись пенящейся ароматической настойкой и снова подверглись пронизывающему до костей холодному купанию. Озябшие, голые, дрожащие, они прошлепали в коптильню, наполненную дымом горящего агафантуса. Из отверстий в каменном полу поднимались струи пара — в ядовитой атмосфере дыма, смешанного с горячим паром, мальчики задыхались, потели, кашляли. Стены кружились, пол уходил из-под ног. Один за другим они повалились на каменные плиты. Когда отворили двери, Мур едва мог приподнять голову.
Прозвенел голос хилита, отправлявшего обряды очищения: «Вставайте! Назад, в чистую воду! Соберитесь с духом — из какого теста вас испекли? Из болотной грязи? Посмотрим, кто из вас способен стать хилитом!»
Мур с трудом вскарабкался на ноги. Другой отрок, толстяк Геаклес, тоже поднялся, но пошатнулся и ухватился за Мура — оба упали. Мур снова встал, держась за стену, подтянул за собой Геаклеса. Распрямившись, тот оттолкнул Мура плечом и, гордо шлепая заплетающимися ногами, прошествовал в купальню. Мур стоял, оторопев от ужаса, не в силах отвести глаза от двух других мальчиков. Морларк лежал с неподвижно выпученными глазами — у него изо рта текла струйка крови. Иллан совершал конвульсивные одинаковые движения, как придавленное насекомое. Мур нагнулся было, но его остановил бесстрастный голос наставника: «В купальню, быстро! За тобой наблюдают — тебя оценивают».
Мур добрел до купальни, плюхнулся в ледяной бассейн. Кожа его онемела, помертвела, руки и ноги стали тяжелыми и жесткими, как чугунные болванки. Хватаясь за камень, Мур постепенно, сантиметр за сантиметром, выполз на животе из купальни, каким-то чудом встал и, запинаясь, добрался по выложенному белой плиткой коридору до комнаты со скамьями вдоль стен. Там уже сидел Геаклес, закутанный в белую рясу и невероятно довольный собой.
Наставник бросил Муру такую же рясу: «Поверхность плоти избавлена от скверны — впервые после неизбежной мерзости животного рождения. Помазанные младенцы, вы рождены заново. Внемлите первому аргументу хилитского Протохизиса! Человек появляется на свет через клоаку первородного греха. Усердно очищаясь телесно и духовно, хилит отвергает неизбежность, освобождается, сбрасывая грех, как змея — старую кожу. Непосвященные же, заклейменные исчадия тьмы, влачат бремя скверны до конца дней своих. Пейте!» Наставник вручил каждому из отроков кувшин с густой жидкостью: «Ваше первое внутреннее очищение...»
Мур провел три дня в камере, где ему не давали ничего, кроме холодной святой воды. На четвертый день его заставили пройти в купальню, снова натереться тинктурой и окунуться в бассейн. Полумертвый, он выбрался на солнечный свет — чистым отроком.
Наставник дал краткие указания: «Нет нужды перечислять уставные ограничения — они тебе известны. Осквернившихся очищают заново, рисковать не советую. Твой духовный отец, Оссо Хигаджу — выдающийся хилит, не склонный к попустительству. Самый мимолетный контакт с порочным женским началом вызывает в нем горькое сожаление. Помню, как он посрамил чистого отрока, нюхавшего цветок. «Тычинки суть ничто иное как растительный женский орган размножения, — воскликнул Великий Муж Оссо, — а ты стоишь, засунув в него нос!» Оссо Хигаджу проследит за тем, чтобы ты знал назубок священные тексты. Храни помыслы в чистоте, содержи в чистоте тело. Превыше всего, снискивай одобрение Великого Мужа Оссо! Теперь ступай — твой альков в нижнем общежитии. Там найдешь облатки и кашу. Ешь умеренно — сегодняшний вечер посвяти молитвенным размышлениям».
Мур направился к алькову — одному из многих в основании широкой, глубокой ниши под храмовой стеной — и разом проглотил все съедобное, что нашел. Солнца протанцевали за горизонт — небо стало темно-фиолетовым, потом черным с россыпями звезд. Мур лежал на спине, не понимая, как он теперь будет жить. Он пребывал в странном, приподнятонапряженном состоянии бдительной чуткости. Казалось, с помощью некоего неизвестного органа он способен был точно определить, что думал и чувствовал в эти минуты каждый из обитателей Башона.
Напротив в своем алькове сидел Геаклес Вонобль, притворявшийся, что не замечает Мура. Вокруг больше никого не было. Иллан и Морларк еще не закончили очищение. Чистые отроки, постриженные раньше, ушли слушать вечерние заповеди блаженства. Мур собрался было подойти к алькову Геаклеса и поболтать, но его отпугнула ханжески-благочестивая молитвенная поза сопричастника. Лукавый и наблюдательный Геаклес отличался непостоянным, раздражительным характером, но при необходимости умел быть любезным. С толстыми тугими щеками и грузным коротким торсом на длинных тощих ногах, он производил неприятное, нескладное впечатление. Круглые, желтовато-карие птичьи глаза его на все смотрели неподвижно, в упор, как если бы Геаклес никак не мог насытиться представшим перед ним зрелищем. Поразмыслив, Мур твердо решил не откровенничать с Геаклесом.
Он вышел посидеть под основанием храмовой стены. На полпути к зениту туманно белело большое бесформенное пятно, искрящееся пятидесятью звездами первой величины — самый заметный объект в ночном небе. Пятно сочилось бледно-молочным светом, отбрасывавшим тени чернее ночи: Скиафарилья, звездное скопление, игравшее значительную роль в истории Дердейна. Говорили, что Земля, легендарный первородный мир людей, находилась за Скиафарильей, но мнение это многими оспаривалось.
Из ниши, усиленный гулким эхом, бубнил голос Геаклеса, декламировавшего вслух оду Ахилианиду. Мур невольно прислушался. Несмотря на усталость, несмотря на предупреждения наставника, вопреки воле Великого Мужа Оссо Мур прокрался бы вниз по холму, чтобы навестить мать — если бы не Геаклес. Геаклес все видел, все понимал. Не было, однако, ничего преступного в том, чтобы немного размять ноги — не так ли?
Мур направился широкими шагами, чуть подпрыгивая, на прогулку вокруг холма. Он прошел мимо сыромятни, уже темной и тихой, наполненной сотнями соревновавшихся запахов. Ему показалось, что сзади, на тропе, раздался тихий осторожный звук. Мур оглянулся и нырнул в тень, под навес, где хранились химикаты. Он ждал. Снова осторожный звук, шаги — кто-то спешил, притаился, опять заторопился. Мимо, вглядываясь вперед с озорной бдительностью, не сулившей ничего доброго, трусцой пробежал Геаклес.
Мур не шевелился, пока следопыт-доброволец не скрылся за углом сыромятни. Сомнений не было — Геаклес руководствовался тем принципом, что любые обстоятельства, чреватые неприятностями для других, можно использовать с выгодой для себя, и надеялся извлечь благодаря слежке некое еще не определившееся преимущество. Мур тихо стоял в темной глубине навеса, не слишком удивленный, даже не затаив обиду — чего еще можно было ожидать от Геаклеса?
Неподалеку находилась часовня, где молодые хилиты собирались перед вхождением в храм для ночного причастия с Галексисом. Держась в тени, Мур тихонько прокрался к чану для пропитки кож. Набрав в легкие воздуха, чтобы не дышать зловонными парами, он стал прощупывать дно оставленными в чане длинными узкими вилами, и в конце концов сумел подцепить и вытащить одну из шкур. Брезгливо удерживая скользкую, сочащуюся дубильным раствором шкуру на конце отставленных в сторону вил, Мур вскарабкался по склону холма и подбежал на цыпочках к стене часовни.
Из окна доносились бормочущие голоса: «...Галексис, вездесущий в бесчисленных блаженных ипостасях, любвеобильный, близкий, но бесконечный и всеобъемлющий, открытый всем и доступный каждому, смиренный, но величественный в беспрестанном поиске и уловлении душ, мы отвращаем очи наши, телесно и духовно, от мерзости и скверны низменных материй, от чувственных осязаемостей первого порядка!»
За молитвой следовал антифон, на квинту ниже: «Ночной покой снисходит в наши души холодной, чистой, свежей тишиной — ночной покой, ночной покой».
Начиналось следующее торжественное чтение: «Галексис, переливающийся спектром бесчисленных цветов, неисчерпаемый источник добродетели...»
Мур размахнулся вилами и закинул шкуру в открытое окно. Чтение прервалось удивленным проклятием. Мур тихонько припустил к своему алькову. Через несколько минут три молодых хилита заглянули в общежитие. Мур притворился спящим в положенной молитвенной позе. С противоположной стороны ниши раздался низкий хриплый голос: «Одного нет — чистого отрока Геаклеса. Ищите, ищите!»
Хилиты убежали в ночь, озаренную бледным светом звезд, и скоро обнаружили Геаклеса, прятавшегося на склоне под сыромятней. Геаклес лихорадочно заявлял о своей невиновности, прибегая ко всевозможным доводам, клялся, что, движимый исключительно стремлением к правоверной бдительности, следовал за чистым отроком Муром, привлекшим его внимание подозрительным поведением. Разъяренные хилиты не слушали его — один чистый отрок, пойманный на месте преступления, был лучше другого, чью вину еще требовалось установить. Геаклеса поколотили и выпороли, после чего заставили удалить шкуру из часовни и подвергнуть молитвенный зал ритуальному очищению.
Процесс очищения занял три ночи и два дня. Затем Геаклеса привели на заседание Комитета развития и совершенствования, где ему предложили ответить на ряд вопросов, призванных выяснить обстоятельства дела. Геаклес к тому времени не спал уже три ночи и два дня, прилежно отмывая и обкуривая каждый уголок часовни. В полуобморочном состоянии он истерически, бессвязно лепетал первое, что приходило в голову. Истерика произвела на членов Комитета скорее положительное, нежели отрицательное впечатление. Было решено, что Геаклес в целом представлял собой добротный материал, требовавший доработки. Поразительный проступок его объяснялся, по всей видимости, предрасположенностью к экстатическому юродству. Геаклес отделался пренебрежительным выговором — ему строго приказали, однако, сдерживать склонность к легкомысленному баловству.
На допросе Геаклес указал на Мура как на источник осквернения. Комитет отнесся к этой информации с безразличным скептицизмом. Тем не менее, произнесенное имя было занесено в протокол. Геаклес каким-то образом почувствовал общее расположение к нему Комитета и приободрился, хотя покрывался гусиной кожей от отвращения к Муру. Торжествующе хихикая и в то же время подвывая от ярости, Геаклес вернулся в общежитие чистых отроков, где бурно обсуждались всевозможные аспекты скандала. При появлении Геаклеса наступила гробовая тишина. Он пересек помещение и лег на соломенный тюфяк — не в силах заснуть от усталости, перебирая в уме разнообразные сценарии возмездия. Из-под прикрытых век он наблюдал за Муром, предвкушая сладость мщения, но не находя подходящего предлога к действию. Что-нибудь подвернется, так или иначе наступит удачный момент...
Геаклес кипел, наливаясь злобой. Ненависть душила его — он задрожал всем телом, непроизвольно всхлипнул и быстро повернулся лицом к стене, чтобы другие не заметили драгоценной ненависти, не воспользовались ею, насмехаясь над его позором... Ненависть должна быть сокровенной, незапятнанной! Геаклесом овладело любопытное состояние: тело его спало, но ум, казалось, продолжал бодрствовать. Время летело незаметно. Согласно внутреннему ощущению прошло минут десять. Повернувшись, однако, он обнаружил, что солнца уже кружились высоко в небе, склоняясь к западу. Он проспал полдень, пропустил обед! Еще один провал, опять унижение!
Геаклес заметил Мура, сидевшего на скамье у входа в нишу общежития. Мур держал в руках экземпляр «Аналитического катехизиса», но внимание его было отвлечено созерцанием далей. Он казался расстроенным, безутешным, готовым принять отчаянное решение. Геаклес приподнял голову, пытаясь представить себе, что происходило в воображении Мура. Почему подергивались его пальцы, почему он то и дело хмурил брови? Мур неожиданно вздрогнул и выпрямился, будто пробужденный подсознательным стимулом, поднялся на ноги и, ничего не замечая, как лунатик, побрел куда-то, скрывшись за углом.
Геаклес зарычал в сомнении и нерешительности. Он устал, у него еще ломило во всем теле. Но повадки Мура не походили на поведение чистого отрока. Геаклес тяжело поднялся с тюфяка, подошел к выходу, выглянул за угол. Может быть, Мур отправился присмотреть за бобинами на плантации волокниц? Допустимо. Но опять же — походка Мура ничем не напоминала степенную торопливость чистого отрока, правоверно исполняющего обязанности. Геаклес вздохнул. Любопытство уже принесло ему уйму огорчений примерно в таких же обстоятельствах. Отрок потащился обратно в альков и погрузился в изучение «Аналитического катехизиса»:
«Вопрос. Во скольких ипостасях пребывает Галексис?»
«Ответ. Галексис многообразен и единороден, как сверкающий, волнующийся лик океана...»
Прошла неделя. Геаклес со всеми вел себя сердечно, по-приятельски; чистые отроки отвечали сдержанной подозрительностью. Мур вообще не замечал его. Зато Геаклес посвящал значительную долю времени тайному наблюдению за Муром.
Однажды, пока Геаклес сидел в алькове, заучивая наизусть провозглашения символов веры, Мур снова вышел посидеть на скамье у открытого входа ниши. Геаклес немедленно заинтересовался и следил за каждым движением Мура, прикрыв лицо катехизисом. Судя по всему, Мур разговаривал сам с собой. «Гм, — думал Геаклес, — он всего лишь повторяет литанию или символ веры. Но почему его палец с такой регулярностью постукивает по колену? Странно». Геаклес удвоил бдительность. Мур вернулся к алькову. Геаклес внимательно склонился над списком символов веры. Положив катехизис в углубление над тюфяком, Мур вышел под открытое небо, задержался на пару секунд, рассматривая что-то под холмом, бросил быстрый взгляд через плечо и направился вниз по склону. Геаклес тут же вскочил и подбежал к выходу. Мур целенаправленно маршировал по тропе на север. «К плантации волокниц», — решил Геаклес, презрительно шмыгнув носом. Мур — точнее говоря, Фаман Бугозоний — всегда прилежно ухаживал за деревьями. И все же: почему, уходя, он оглянулся?
«Интересно, интересно!» — думал Геаклес, потирая ладонью бледные пухлые щеки. Чтобы узнать, нужно увидеть — круглыми желто-карими глазами. Чтобы увидеть, необходимо не упустить предмет наблюдения из поля зрения. В конце концов, ему тоже следовало присмотреть за бобинами — уже несколько недель Геаклес пренебрегал порученным ему участком плантации. Ему не нравилось поправлять липкие бобины, выпалывать сорняки, устанавливать подпорки под отяжелевшие ветви, осторожно протягивать новые нити — но теперь утомительные обязанности казались удобным предлогом последовать за Муром, не опасаясь неприятностей.
Геаклес стал спускаться по одной из тропинок, паутиной покрывавших выжженный солнцами склон храмового холма. Он старался придать походке спокойную размеренность и целеустремленность, в то же время оставаясь незамеченным — непростая задача. Если бы Мур не был полностью погружен в невеселые думы, Геаклесу пришлось бы либо прятаться, либо обнаружить себя.
Но Мур, не замечая слежки, углубился в тенистую рощу волокниц. Геаклес, пригнувшись и перебегая от ствола к стволу, не отставал.
С восьми лет Мур ухаживал за восемнадцатью старыми деревьями, следя за намоткой волокна на бобины — их было больше сотни. Он помнил наклон каждой ветки, узнавал форму каждого листа, мог правильно предсказать количество и вязкость живицы, сочившейся из того или иного надреза. У каждой бобины были свои повадки и причуды. В одних, если стеклянная пружина была взведена слишком туго, заедало храповик. Другие исправно вращались только под определенным углом. Лишь несколько бобин работали бесперебойно — такие Мур использовал для намотки волокна, тянувшегося из самых высоких надрезов.
Геаклес оставался в укрытии, пока Мур обходил бобины, взводя пружины механизмов, заменяя отяжелевшие катушки новыми, уничтожая присосавшихся к стволам древесных пиявок. На дюжине ветвей надрезы высохли и остекленели. Мур сделал новые зарубки — из них сразу же выступила смолистая живица. Мур вытягивал ее в нити, быстро твердевшие и превращавшиеся в шелковистое волокно. Намотав концы нитей, Мур проверил равномерность вращения бобин. Геаклес наблюдал с мрачным разочарованием: проклятый Мур вел себя как невинный, трудолюбивый, ответственный чистый отрок.
Мур, однако, стал двигаться заметно быстрее, как если бы ему не терпелось поскорее закончить работу. Геаклес, следивший из-за ствола, отдернул голову и присел на корточки между широкими корнями — Мур внимательно осматривал окрестности и собирался повернуться в его сторону. Лицо Геаклеса расплылось в улыбке: невинные чистые отроки так себя не вели.
Мур побежал вниз по склону — так быстро, что Геаклесу стоило большого труда за ним поспевать. Спустившись до тропы, тянувшейся за оградами задних дворов хижин параллельно Аллее Рододендронов, Мур направился на восток. Геаклес не осмеливался показаться на открытой прямой тропе. Толстяк стал лавировать по зарослям кисленки и забрел в крапиву. Ругаясь и шипя, он выбрался из кустов и спрятался среди рододендронов. Мур уже почти скрылся из вида. Пригибаясь, Геаклес поспешил за ним перебежками от прикрытия к прикрытию. Наконец он оказался там, откуда можно было видеть всю тропу.
На тропе Мура не было. Геаклес поразмышлял немного, после чего вышел на Аллею Рододендронов, тем самым вступив на территорию, с точки зрения чистого отрока весьма сомнительную — не то чтобы оскверненную, но требовавшую соблюдения особых мер предосторожности. На аллее Мура тоже не было. Не на шутку озадаченный Геаклес вернулся на тропу за хижинами. Где проклятый Мур? Не забрался же он в одну из хижин? Геаклес в ужасе облизался, сглотнул, побежал трусцой к хижине Эатре. Приблизившись, он остановился, прислушался — Эатре развлекала музыканта. Но где же Мур? Геаклес озирался по сторонам. Конечно, он не мог быть внутри вместе с матерью и музыкантом. Толстяк прошел мимо хижины, обозленный, недовольный собой. Каким-то невероятным образом Мур его одурачил...
Музыка прервалась. Послышались беспорядочные аккорды, пассажи, арпеджио. Мелодия возобновилась. Судя по всему, звуки доносились не из хижины, а из сада за хижиной. Геаклес подобрался ближе, заглянул в сад через листву, тихонько отошел — и, подпрыгивая, как заяц, помчался со всех ног вверх по храмовому склону. Эатре, выглянувшая в окно, хорошо его видела.
Прошло пятнадцать минут. С холма, вытягивая носки, длинными шагами сошел Великий Муж Оссо, сопровождаемый двумя хилитами. Все трое щурились слезящимися глазами, покрасневшими от вызванных гальгой спазмов. За ними семенил Геаклес. Группа прошествовала по Аллее Рододендронов.
Процессия остановилась напротив хижины Эатре. Стоял жаркий полдень — солнца кружились высоко в небе, отбрасывая в дорожной пыли тени с тройными, медленно крадущимися краями. В душной тишине можно было слышать жужжание спиралетов в кронах деревьев и далекие глухие удары, доносившиеся с кожевенного завода.
Не подходя к двери ближе, чем на пять шагов, Оссо подозвал рукой мальчика, глазевшего неподалеку: «Вызови женщину Эатре».
Мальчик испуганно побежал к выходу на задний двор. Скоро открылась передняя дверь. Эатре выглянула и молча встала на пороге в скромной, внимательной позе.
Великий Муж Оссо грозно вопросил: «Чистый отрок Фаман Бугозоний — внутри?»
«Его здесь нет».
«Где он?»
«Насколько я понимаю, где-то в другом месте».
«Его здесь видели пятнадцать минут тому назад».
Эатре ничего не ответила. Она ждала в дверном проеме.
Оссо придал голосу угрожающую значительность: «Женщина, препятствовать нам неразумно».
Лицо Эатре подернулось едва заметной усмешкой: «Разве я препятствую? Ищите сколько хотите, где хотите. В хижине мальчика нет — его здесь не было ни сегодня, ни в любой другой день после пострижения».
Геаклес забежал за хижину и стал призывно махать рукой из-за угла. Брезгливо подбирая рясы, хилиты пошли посмотреть, что там делается. Геаклес возбужденно указывал на скамейку в саду: «Он там сидел! Женщина уклоняется».
Оссо надменно выпрямился: «Женщина, так ли это?»
«Что из того? Скамья не оскверняет».
«Тебе ли судить о таких вещах? Где отрок?»
«Не знаю».
Оссо повернулся к Геаклесу: «Проверь, вернулся ли он в общежитие. Приведи его сюда».
Геаклес с великим усердием бросился к храму, напряженно работая руками и ногами. Через пять минут он вернулся, ухмыляясь и часто дыша, как собака: «Идет, уже идет!»
Мур медленно вышел на дорогу.
Оссо отступил на шаг. Широко раскрыв глаза и слегка побледнев, Мур спросил: «Вы хотели меня видеть, духовный отец?»
«Вынужден обратить твое внимание, — сказал Оссо, — на тот прискорбный факт, что ты праздно околачивался у дома матери, как молочное дитя, и праздно бренчал на кабацком инструменте».
«К сожалению, духовный отец, вас неправильно проинформировали».
«Вот свидетель!»
Мур покосился на Геаклеса: «Он сказал неправду».
«Разве ты не сидел на скамье, на женской скамье? Разве ты не взял музыкальный инструмент из женских рук? Ты осквернился женским духом, тебе нет оправдания!»
«Эта скамья, духовный отец, раньше стояла под храмом. Ее выбросили, я перенес ее сюда. Заметьте, она стоит далеко от хижины, за садовой оградой. Хитан — мой собственный, его сделал и подарил мне мужчина. Перед пострижением я прокоптил его в храме дымом агафантуса — от него до сих пор воняет. После этого я хранил его в шалаше для упражнений. Шалаш я построил своими руками — вот он, видите? Я не виновен ни в каком осквернении».
Оссо возвел к небу слезящиеся очи, собираясь с мыслями. Два чистых отрока ставили его в смешное положение. Фаман Бугозоний с изобретательностью, заслуживавшей лучшего применения, избежал действий, приводивших к откровенному осквернению, но сама изобретательность его указывала на развращенность и испорченность... Геаклес Вонобль, будучи неточен в утверждениях, сделал правильное заключение о нечистоте помыслов другого отрока. Как бы то ни было, невзирая на софистические увертки Фамана Бугозония, подрыв авторитета ортодоксального учения был абсолютно недопустим. Оссо произнес: «Сад за хижиной матери — неподобающее убежище для чистого отрока».
«Не хуже любого другого, духовный отец. Здесь, по крайней мере, я никому не мешаю, предаваясь отвлеченным размышлениям».
«Отвлеченным размышлениям? — хрипло спросил Оссо. — Разучивая джиги и кестрели, пока другие чистые отроки ревностно предавались молитвам?»
«Нет, духовный отец, музыка помогала сосредоточению моих мыслей, в точном соответствии с вашими рекомендациями».
«Что такое? Ты утверждаешь, что я рекомендовал подобные занятия?»
«Да, духовный отец. Вы говорили, что вам на стезе аскетического самоотвержения помогло завязывание в уме воображаемых узлов, и разрешили мне использовать с той же целью музыкальные звуки».
Оссо снова отступил на шаг. Два хилита и Геаклес смотрели на него с ожиданием. Оссо сказал: «Я подразумевал другие звуки, в других обстоятельствах. От тебя разит лукавой мирской скверной! А ты, женщина? О чем ты думала? Неужели ты не знала, что такое поведение достойно сурового порицания?»
«Я надеялась, Великий Муж, что музыка поможет ему в будущей жизни».
Оссо сухо усмехнулся: «Мать чистого отрока Шальреса! Мать чистого отрока Фамана! Два сапога пара! Тебе не придется больше плодить чудеса природы. В сыромятню!» Оссо резко повернулся на месте, указывая пальцем на Мура: «Рассуждать ты горазд — а твои успехи в священной эрудиции мы проверим».
«Духовный отец! Пожалуйста! Я только стремился к совершенствованию знаний!» — кричал Мур, но Оссо уже уходил. Мур обернулся к Эатре — та с улыбкой пожала плечами и зашла в хижину. Мур яростно направился к Геаклесу, но хилиты преградили ему дорогу: «В храм, ступай в храм! Ты что, не слышал духовного отца?»
Мур упрямыми шагами поднялся к храму и уединился, насколько это было возможно, на тюфяке в своем алькове. Геаклес не замедлил последовать за ним, сел в алькове напротив и стал смотреть на Мура.
Прошел час, прозвучал удар колокола. Чистые отроки гурьбой направились в трапезную. Мур вышел за ними, остановился в нерешительности, обернулся, посмотрел за дорогу, за хижины — в сиреневую даль.
Геаклес не сводил с него глаз. Мур тяжело вздохнул и стал спускаться к трапезной.
У входа в трапезную стоял наставник-хилит. Он отвел Мура в сторону: «Тебе сюда».
Наставник провел Мура вокруг храма, ко входу в редко использовавшееся полуподвальное помещение. Распахнув ветхую дощатую дверь, он жестом приказал Муру войти. Высоко подняв над головой стеклянный светильник, наставник прошел вперед по длинному коридору, прокопченному жженой гальгой, в большую круглую камеру в самой глубине храмового подземелья. Сырые известняковые стены отдавали плесенью, пол был выложен темным кирпичом. С потолка свисал на веревке единственный светильный шар.
«Зачем мы здесь?» — с дрожью в голосе спросил Мур.
«Здесь тебе предстоит учиться в уединении вплоть до повторного очищения».
«Повторное очищение? — вскричал Мур. — Но я же не осквернился!»
«Полно, полно! — покачал головой наставник. — Зачем притворяться? Неужели ты думаешь, что духовного отца Оссо — или меня — так легко перехитрить? Даже если ты не осквернился телесно, ты совершил сотню проступков, равноценных осквернению духовному». Наставник помолчал, но Мур ничего не ответил. «Заметь: на столе книги, — продолжал хилит. — «Доктрины», «Провозглашения символов веры», «Аналитический катехизис». Они утешат и умудрят тебя».
Мур хмуро огляделся: «Сколько меня здесь продержат?»
«Столько, сколько потребуется. В шкафу еда и питье, рядом — отхожее место. А теперь последний совет: покорись, и все будет хорошо. Ты внемлешь?»
«Внемлю, наставник, внемлю».
«На перекрестках жизни не раз приходится выбирать дорогу. Не выбирай опрометчиво — ты можешь никогда не вернуться к развилке. Галексис тебе в помощь!»
Наставник ушел по коридору. Мур смотрел вслед, ему тоже ужасно хотелось уйти... Но его привели сюда зубрить священные тексты. Если он уйдет, с ним сделают что-нибудь почище повторного очищения.
Мур прислушался: ничего, кроме тайных шепотов подземелья. Он встал в открытом дверном проеме, вгляделся во тьму коридора. Конечно же, за ним следили. Или приготовили какую-нибудь ловушку. Попытавшись выбраться наружу, он мог угодить в западню хуже подземной камеры. Он мог умереть. «Покорись, — сказал наставник. — Покорись, и все будет хорошо».
Вполне возможно, что покорность была наилучшим выходом из положения.
Трезво оценив обстоятельства, Мур отвернулся от выхода, подошел к столу, сел и просмотрел книги. «Доктрины» были напечатаны на ручном станке лиловыми буквами на перемежающихся зеленых и красных страницах. Письмена с трудом поддавались прочтению, текст содержал множество непривычных, непонятных выражений. «Тем не менее, — подумал Мур, — будет полезно внимательно их изучить». «Провозглашения символов веры», произносившиеся нараспев во время ночных служб, не имели большого значения, так как лишь придавали «благочинность», по выражению хилитов, экстатическим спазмам.
Мур вспомнил, что еще не обедал, вскочил и подошел к шкафу. В нем он нашел дюжину пакетов с сушеными ягодами — достаточно, чтобы продержаться дней двенадцать или, если экономить, даже дольше. Следовало руководствоваться здравым смыслом. Тут же стояли три больших кувшина с водой, из толстого темно-зеленого стекла. Ни тюфяка, ни кушетки не было — предстояло спать на скамье. Мур вернулся к столу, взял «Аналитический катехизис» и стал читать:
«Вопрос. Когда откровение Галексиса снизошло на хилитов?»
«Ответ. Четыре тысячи лет назад Непревзойденная Система была выработана Хаксилем, принужденным к курению гальги зловонием супруги, невыносимой и в других отношениях».
«Вопрос. Во скольких ипостасях пребывает Галексис?»
«Ответ. Галексис многообразен и единороден, как сверкающий, волнующийся лик океана, приемлющий от каждого и воздающий всем».
«Вопрос. Где пребывал Галексис до открытия хилитами священного курения?»
«Ответ. Галексис извечный, вездесущий, являлся смутной тенью аскетам всех времен и народов, но только хилиты, строго следуя принципу абсолютной дихотомии, воочию узрели Галексиса».
«Вопрос. В чем заключается принцип абсолютной дихотомии?»
«Ответ. В духовном подвиге самоотречения, ведущем к познанию лживости и скверны порочного женского начала. Блаженству Галексиса, подвижники, возрадуемся!»
«Вопрос. В чем состоит назначение Животворящего Мощеприемника?»
«Ответ. В непорочном зачатии Совершеннородного Сына — да святится имя Его! — Галексисом и чистыми мужами в экстазе спазматического сретения. Грядет Сын Совершеннородный!»
«Вопрос. Какова роль Совершеннородного Сына в грядущей судьбе человечества?»
«Ответ. Он несет благую весть о Галексисе от мира к миру, в галактические сонмы — и горе, о, горе женским исчадиям на чистой стезе Его, ибо Его есть мужеская сила, и слава вовеки...»
Мур отложил катехизис, находя его невыразимо скучным и бессмысленным. Он заметил надписи, выцарапанные на столе — десятки надписей. Имена, вырезанные в дереве, потемневшие, полустертые от времени — и недавние, еще выделявшиеся светлой желтизной древесины... Что это? «Шальрес Гаргамет»! У Мура душа ушла в пятки. Значит, сюда привели Шальреса. Как он умер? С ужасом озираясь, Мур медленно поднялся на ноги. Потайной ход? Он обошел камеру, ощупывая, рассматривая стены. Во влажном известняке не было заметных щелей.
Медленно вернувшись к столу, Мур встал под светильным шаром, дрожа, как от холодного ветра. Только теперь он осознал всю безысходность положения. Обряды повторного очищения обещали быть строже и мучительнее, чем в первый раз. Темный открытый выход приобрел огромную притягательную силу. Коридор вел наружу — Мур ничего не хотел больше, чем снова оказаться под открытым небом. Тот же коридор, однако, таил в себе угрозу страшного наказания. Мур вспомнил Шальреса — мертвого, изувеченного, плававшего лицом вниз в жиже отстойника сыромятни.
Отчаяние охватило Мура. Шар озарял неприязненно-равномерным светом жалкие каракули на столе. Оставалось только покориться.
Прошло время, больше часа. Мур безразлично зубрил вслух тексты из катехизиса — вопросы ни о чем, ответы, ничего не объяснявшие. Он изучил первую из «Доктрин»: «Первоначальные истолкования от Хаксиля». Древний том с истрепанными страницами явно никогда не выносили из камеры. Плесень смазала письмена, страницы слипались. Бледнолиловые буквы сливались с красной и зеленой бумагой.
Мур отложил «Доктрины» и сидел, повернувшись к выходу — желанному, угрожающему. Допустим, он пробежит по коридору — быстро, легко, как на крыльях, в приступе храбрости вырвется на свободу, на свежий воздух... Вряд ли все так просто. Без подвоха не обойдется. Наружная дощатая дверь могла быть заперта. За непослушание ему уготовят участь Шальреса. Чего еще ждать от хилитов? Только унизившись, безусловно покорившись, распростершись перед духовным отцом Оссо с пылкими заверениями в незапятнанности помыслов, ревностно отвергая любую привязанность к матери в прошлом, настоящем и будущем, он мог надеяться на сохранение статуса чистого отрока.
Мур облизал пересохшие губы. Унижение лучше смерти в отстойнике. Он нагнулся над «Доктринами», прилежно запоминая наизусть целые параграфы, напрягаясь, пока не закружилась голова, пока не стали гореть глаза. На четвертой странице серый пушистый грибок полностью покрывал верхнюю половину текста, на пятой и шестой тоже красовались большие пятна плесени. Мур уставился в книгу с бессильным раздражением — как можно выучить «Истолкования», если текст невозможно разобрать? Оссо даже слушать не станет никаких благовидных оправданий: «Разве ты не взял из общежития свой экземпляр Хаксиля? Когда я был чистым отроком, я не расставался с этим кладезем мудрости!» Или: «Положения, приведенные на поврежденных страницах, элементарны. Ты должен был давно выучить их наизусть». С другой стороны, по мнению Мура, испорченный том давал ему законный предлог попытаться выйти через коридор. Если кто-нибудь его сторожил, он мог указать на заплесневевшие страницы и попросить том «Истолкований» в лучшем состоянии. Мур приподнялся. Выход в коридор зиял зловещим черным прямоугольником.
Мур снова опустился на скамью. Наверняка уже наступила ночь. Никакой хилит не останется ночью на страже — еще чего! Чистые отроки тоже спят. Сигнализация? Маловероятно. Во время спазматических ночных бдений хилиты не выносили ни малейшего беспокойства.
Когда его вели в камеру, на наружной двери не было замка. Может быть, освобождению ничто не препятствует, кроме страха? Мур поджал губы. Скорее всего, в коридоре приготовили ловушку: капкан, волчью яму, силок. С потолка могла упасть липкая сеть или клетка с острыми стеклянными шипами. Хилиты могли заменить один проход другим так, чтобы он вел в тупик или замыкался петлей, и покрыть пол песком или грязью, чтобы впоследствии проверить, пытался ли пленник выбраться из западни. Ложный коридор мог привести на край колодца, откуда утром достанут крючьями холодный труп с переломанными руками и ногами.
Мур боязливо косился на черный проем в стене. Казалось, мрак смотрел на него невидимыми глазами. Вздохнув, он вернулся к заплесневевшим книгам, но никак не мог сосредоточиться. Отломив от стены кусочек известняка, он старательно нацарапал на столе свое имя, рядом с другими. Только закончив это увлекательное занятие, он с испугом заметил, что написал: «Гастель Этцвейн». Еще одно свидетельство упрямства и неповиновения — если кто-нибудь заметит. Мур уже приготовился было соскоблить написанное, но внезапно, в приступе гнева, швырнул камешек в стену. Он с вызовом глядел на вырезанное имя. Его звали Гастель Этцвейн! Пусть его убьют тысячу раз, он не станет никем другим, потому что это он и есть!
Вспышка отваги быстро померкла. Обстоятельства не изменились. Ему предстояло провести в камере неизвестное время, а затем подвергнуться повторному очищению — или, вопреки страху, холодком пробегавшему по спине, нужно было исследовать коридор.
Медленно поднявшись на ноги, он стал шаг за шагом приближаться к выходу. Светильный шар тускло озарял коридор на три-четыре метра — дальше ничего не было видно. Мур обернулся: шар висел высоко, примерно в трех метрах над столом. Поставив скамью на стол, Мур взобрался на нее. Все равно он не дотягивался до шара, оставалось не меньше метра. Неуклюже, как старик, щадящий суставы, Мур спустился на пол и снова подошел к выходу — посмотреть в темный коридор.
Без сомнения, коридор был перекрыт или содержал западню. Мур пытался вспомнить, как наставник вел его в камеру. Наставник шел впереди и нес над головой лампу, освещавшую влажный камень сводчатого потолка. Мур не видел под потолком ни клеток, ни сетей — хотя, конечно, их могли установить позже. Падение сети или клетки могло вызываться прикосновением к нити, протянутой поперек коридора, или замыканием электрического контакта — хотя хилиты очень мало знали об электричестве и откровенно не доверяли ни электрическим устройствам, ни биомеханизмам. Таким образом, ловушка, если она существовала, скорее всего была просто устроена и, вероятно, приводилась в действие механизмом на полу или в нижней части коридора.
Почти не дыша, Мур исподлобья смотрел в темный коридор. В его жизни наступал решающий момент. Вернувшись к столу и выучив назубок катехизис и все, что можно было прочесть в томе «Доктрин», Мур оставался Фаманом Бугозонием, с карьерой ревностного хилита в перспективе. Пробираясь по коридору в надежде вдохнуть свежего воздуха и раствориться в ночи, он становился Гастелем Этцвейном.
Жалкое, испачканное тело Шальреса маячило перед глазами. Мур пискнул, как котенок, от страха и отчаяния. Другое видение явилось внутреннему взору — длинное лицо духовного отца Оссо: массивная нижняя челюсть, высокий лысеющий лоб с редкими прядями волос на макушке, слезящиеся, покрасневшие глаза, пытливо выискивающие крамолу. Мур еще раз пискнул, опустился на четвереньки и полез в темный коридор.
Освещенный выход из камеры тускнел далеко позади. Мур тщательно изучал темный пол, осторожно перемещая ладони вперед и ощупывая пальцами, как бегающими антеннами насекомого, каждую пыльную неровность в поисках натянутой нити, струны, провала, люка. Насколько он помнил, коридор должен был сначала повернуть налево, потом снова направо. Поэтому Мур держался ближе к левой стене.
Теперь его окружал непроглядный мрак. Перед тем, как чуть продвинуться вперед, Мур водил перед собой руками, будто в поисках паутины. Ничего не ощутив в воздухе, он так же внимательно проверял поверхность пола, и только после этого позволял себе слегка передвинуть колени.
Мучительно медленно он завоевывал метр за метром. Черная тишина давила, как вещество, сопротивляющееся вытеснению. Мур был слишком напряжен, чтобы бояться. Прошлое и будущее не существовали, явным было только настоящее: опасность, веявшая из темноты легким влажным сквозняком. Суетились чуткие пальцы-антенны — от них зависела жизнь.
Впереди, слева, не было стены — первый поворот! Мур остановился, ощупывая углы с обеих сторон, проверяя соединения каменных блоков. Он повернул за угол, заставляя себя двигаться дальше, но сожалея об оставшейся позади безопасной, проверенной территории. Он все еще мог вернуться в камеру, к благонравным занятиям. Впереди был переход между двумя длинными частями коридора — самое удобное место для западни. Удвоив внимание, Мур многократно проверял воздух, пол и стены, углубляясь в темноту неизвестности с незаметной настойчивостью растения.
Пальцы его ощутили странное изменение текстуры поверхности пола — что-то морщинистое, волокнистое, не такое холодное, как камень. Дерево! Дерево на полу. Мур нащупал стык между камнем и деревом. Стык, перпендикулярный проходу, доходил до основания стен с обеих сторон. Опираясь коленями на камень, Мур проверил руками воздух: нитей не было. Деревянный пол впереди казался прочным и надежным, без подозрительных сочленений. Он не подавался, когда Мур нажимал на него ладонью. Мур лег на живот и пополз вперед, вытягивая руки как можно дальше. Ничего, кроме дерева. Он прополз еще несколько сантиметров, снова ощупал пол впереди. Дерево. Постучав кулаком по дереву, однако, он услышал гулкий отзвук, не характерный для досок, лежащих на земле или скрепленных цементным раствором. Опасность, опасность! Мур продвинулся еще чуть-чуть вперед. Пол начал наклоняться — его ноги поднимались! Мур панически отполз назад. Пол со стуком вернулся на прежнее место. Деревянная секция поворачивалась на шарнирах, установленных чуть дальше, чем на полпути через перекрытый провал. Половина подлиннее, обращенная к преодоленной Муром части коридора, опиралась на каменный уступ. Другая половина, чуть короче, свободно опускалась. Если бы Мур шел, обшаривая стены, он не успел бы отступить назад. Вес, перенесенный на ногу, ступившую за поперечную ось, заставил бы заднюю половину люка резко подняться в воздух, и Мур, соскользнув по дереву, полетел бы, размахивая руками, в шахту, заботливо приготовленную хилитами.
Мур тихо лежал, обнажив зубы в волчьем оскале. Он помнил, что расстояние от края каменного пола до воображаемой поворотной оси было не больше длины его тела, то есть полутора метров. Можно было допустить, что длина второй, опускавшейся половины деревянной секции тоже составляла метра полтора. Если бы у него был светильник, Мур, наверное, рискнул бы перескочить вторую половину с разбега. Но только не в темноте: что, если он не рассчитает и переступит через роковую ось? Нервный оскал Мура растянулся так, что у него заныло в висках. Нужна была доска, лестница, что-нибудь.
Мур вспомнил о скамье в камере, длиной не меньше трех метров. Поднявшись на ноги и держась за стену, он вернулся в камеру — на обратный путь ушло гораздо меньше времени. Тихая, освещенная камера успокаивала, даже убаюкивала. Мур поднял скамью и понес ее по темному коридору, уже проверенному и безопасному. Дойдя до поворота, он снова опустился на четвереньки, положил скамью сиденьем вниз и потащил ее рядом с собой. Начался деревянный пол. Мур протолкнул скамью вперед и вытянулся во весь рост на первой половине деревянной секции — так, чтобы ближний конец находился прямо у него перед носом. Он надеялся, что дальний конец уже опирался на камень. С величайшей осторожностью и вниманием он перенес свой вес на скамью, готовый отскочить назад при малейшем колебании.
Скамья держалась прочно. Мур пополз вперед и, еще не достигнув дальнего конца, нащупал пальцами камень. Он снова оскалил зубы — на этот раз с радостью и облегчением.
Но коридор еще не кончился. Двигаясь на коленях с прежней осторожностью, Мур добрался до второго поворота. В нескольких метрах впереди горела маленькая желтая лампочка, бледным полукругом освещавшая дверь — старую дощатую дверь, выход! Задыхаясь от волнения, Мур подошел ближе. Дверь заперли на замок — по всей видимости только для того, чтобы предотвратить падение в шахту ничего не подозревающего хилита или чистого отрока, случайно зашедшего в подземелье.
Мур издал унылый звук, рассмотрел и потрогал дверь, изготовленную из сухих, но добротных досок, сбитых клиньями и склеенных... Дверь висела на петлях из спеченных железных кружев. Дверная рама, тоже деревянная, выглядела более податливой и слегка прогнившей. Подобравшись, Мур толкнул дверь плечом, наваливаясь всем ничтожным весом тощего, еще не окрепшего тела. Дверь не шелохнулась. Мур опять набросился на дверь. Ему показалось, что задвижка подалась. Снова и снова он бился о дверь — старое дерево трещало, но не уступало. Мур покрылся синяками и ссадинами, но боль ничего не значила. Он вспомнил про скамью и побежал назад, до поворота. За углом он резко замедлился, и, опираясь на одну руку, другой осторожно нащупал конец скамьи. Подтащив скамью к себе, он принес ее к наружной двери, прицелился, разбежался — и ударил концом скамьи по деревянной задвижке. Рама расщепилась, дверь распахнулась. Мур вышел из гулкого подземелья, еще перекликавшегося отзвуками удара.
Поставив скамью поодаль у стены храма, где было еще несколько таких же, Мур вернулся к двери и закрыл ее. Вставив на место отскочивший кусок рамы, он плотно прижал его. Теперь замок можно было открыть, не обнаружив поломки. Мур злорадно представил себе хилитов, чешущих в затылках.
Через минуту Мур стоял, задрав голову к трепещущим блесткам звезд в мутной оправе Скиафарильи. «Я — Гастель Этцвейн! — возбужденно бормотал он. — Гастель Этцвейн сбежал от хилитов, Гастель Этцвейн еще наломает дров!»
Но праздновать освобождение было преждевременно. Побег рано или поздно обнаружили бы, скорее всего уже на следующее утро, но никак не позже, чем через два-три дня. Оссо не мог прибегнуть к помощи Человека Без Лица, но ему ничего не стоило отправить посыльного в Дебри за ищейками-ахульфами. Ахульфы брали любой, самый старый, выветрившийся след, и не сбивались с него до тех пор, пока беглец не садился в колесный экипаж, в лодку или в гондолу воздушной дороги. Гастель Этцвейн должен был снова положиться на свою изобретательность. Оссо предположит, конечно, что беглец постарается как можно скорее оказаться как можно дальше от Башона. Следовательно, если Гастель Этцвейн останется неподалеку от храма, пока ахульфы рыщут по окрестностям в бесплодных поисках, и выйдет из укрытия, когда ищеек с проклятиями отправят восвояси, он сможет спокойно уйти. Куда? Это уже другой вопрос.
В ста метрах ниже по склону находилась сыромятня с сараями и пристройками, где можно было найти десятки укромных уголков. Гастель Этцвейн стоял в тени под аркой нижнего покоя, прислушиваясь к шорохам ночи. Он чувствовал себя странно, как бестелесный призрак. Наверху, в храме, распростершись в клубах дыма курящейся гальги, причащались к Галексису хилиты. Их редкие нечленораздельные возгласы поглощались глухими стенами, почти не нарушая тишину.
Гастель Этцвейн не спешил выходить из-под арки. Торопиться было некуда. Первоочередная задача заключалась в том, чтобы сбить с толку ахульфов, способных улавливать запахи, недоступные человеческому обонянию. В том, что Оссо устроит облаву, он не сомневался. Поискав в глубине нижнего покоя, он обнаружил в углу старую рясу, служившую ветошью для удаления пыли с кафедры. Он разорвал ее пополам. Бросая на каменистую почву то одну, то другую половину рясы и перепрыгивая с одной на другую, он покинул храм и спустился с холма, не оставляя ни следов, ни запаха, способного привлечь ахульфов. Добравшись до ближайшей пристройки сыромятни, Гастель Этцвейн тихо смеялся.
Он укрылся в закоулке сарая. Положив голову на свернутую рваную рясу, он уснул.
Сасетта, Эзелетта и Заэль выкатывались из-за горизонта каруселью, стрелявшей подвижными разноцветными лучами. С холма донесся пульсирующий звон колокола, созывающий чистых отроков в храмовые кухни, где они ежедневно варили зерновую кашу хилитам на завтрак. На восточный двор стали выходить хилиты — изможденные, красноглазые, с бородами, прокопченными дымом гальги. Добравшись до скамей, они расселись, подслеповато щурясь на разгоравшийся рассвет, все еще не окончательно очнувшись. Женщины, работавшие в сыромятне, уже получили хлеб и напились чаю. Теперь они выстраивались на перекличку — одни в угрюмом молчании, другие с шутками и прибаутками. Нарядчицы выкрикивали имена работниц, получивших особые задания — эти вышли из строя и разбрелись в разные стороны. Несколько старух, матриархи «сестринской общины»,[8] направились к навесам с химикатами, чтобы приготовить смесь трав, порошков, красителей и вяжущих добавок. Другие окружили чаны для выскабливания, вымачивания, пропитки и выжимки шкур. Еще одна бригада обрабатывала свежие шкуры, доставленные ахульфами из Дебрей.
После сортировки шкуры раскладывали на круглых деревянных столах, где их подвергали предварительной очистке, обрезке и растяжке. Приготовленные шкуры спускали по желобу в чан со щелоком. Эатре поручили работать за столом для очистки шкур — ей выдали щетку, стеклянный нож и маленький острый скребок с деревянной ручкой. Джаталья, высокая надсмотрщица, ходила вокруг стола и понукала работниц. Эатре работала тихо, спокойно, почти не поднимая глаз. Она казалась вялой, потерявшей интерес к жизни. Эатре стояла не дальше, чем в тридцати метрах от угла сарая, где прятался Этцвейн. Протиснувшись среди мешков и прижавшись лицом к земле у широкой щели под дощатой стеной сарая, он видел двор сыромятни, склон холма и обращенную к сыромятне часть храма. Заметив мать, он чуть было не позвал ее: Эатре, такую добрую, такую аккуратную, заставили заниматься грубой грязной работой! Этцвейн лежал, покусывая губы и часто моргая. Он даже не мог сказать ей пару слов в утешение!
Со стороны храма послышались возбужденные голоса. Чистые отроки весело выбежали из кухни, разошлись кто куда и стали с показным вниманием разглядывать склоны и долину под холмом. На верхней террасе появились хилиты в белых рясах, что-то оживленно обсуждавшие, показывавшие руками в разные стороны. Этцвейн понял, что его отсутствие обнаружили — чуть раньше, чем он рассчитывал. Он наблюдал со смешанным чувством ужаса и злорадства. Приятно было видеть хилитов растерянными и раздосадованными — приятно и страшно! Если его выследят и поймают... У него мурашки побежали по спине.
Вскоре после полудня он заметил прибытие ахульфов — двух самцов с мохнатыми кривыми ногами, оплетенными крест-накрест, поверх черной шерсти, красными лентами знатоков-следопытов. Великий Муж Оссо, сурово стоявший на площадке возвышения среди широких ступеней храмовой лестницы, разъяснил свои потребности на языке даду.[9] Ахульфы слушали, дергая головами и заливаясь хихикающим лисичьим тявканьем. Оссо бросил на землю детскую рубаху — по-видимому, принесенную из хижины Эатре или припасенную на этот случай. Ахульфы схватили рубаху руками, похожими на человеческие, поочередно прижали ее к обонятельным органам на ступнях и небрежно подбросили высоко в воздух — с бесшабашным презрением к торжественной строгости хилитов, разбегавшихся от падающей рубахи с негодующими окриками. Подскочив ближе к Оссо, ахульфы стали односложно, но яростно уверять его в своей компетентности и уверенности в успехе с подобострастностью, смахивавшей на издевательство. Оссо нетерпеливым жестом приказал им приступить к исполнению обязанностей. Шустро озираясь по сторонам (ахульфы тащили все, что плохо лежало) ищейки отправились к нише общежития чистых отроков. Там они взяли след Этцвейна, о чем и оповестили Оссо, бешено тявкая и часто подпрыгивая.
Испуганные, возбужденные чистые отроки смотрели во все глаза. Смотрел во все глаза и Этцвейн, боявшийся, что ветер донесет его запах до ахульфов.
Но ветер, как всегда, дул вниз по склону. Этцвейн облегченно выдохнул, когда увидел, что ищейки, рыскавшие вокруг храма, прошли мимо того места, откуда он спустился, и ничего не обнаружили. Обескураженные, с уныло висящими ушами, ахульфы спустились к бывшей хижине Эатре, но и там потерпели неудачу. То и дело набрасываясь друг на друга и щелкая челюстями, угрожающе выпуская белые когти из мягких черных ступней и ощетиниваясь спиральными витками шерсти, ищейки вернулись к ожидавшему Оссо и объяснили на даду, что беглец скрылся в колесном экипаже. Оссо раздраженно повернулся на месте и поднялся в храм. Ахульфы убежали на юг, вверх по долине Сумрачной реки, в Хванские Дебри.
Выглядывая через щель, Этцвейн ждал, пока вокруг восстанавливался повседневный порядок общинной жизни. Чистые отроки, разочарованные тем, что не дождались ужасного зрелища, вернулись к своим заботам. Работницы в сыромятне безучастно суетились вокруг столов, чанов и промывочных ванн. Хилиты сидели на скамьях вдоль верхней террасы храма, как костлявые белые птицы на жердочке. Солнечный свет, окрасившийся полуденным лиловым оттенком, раскалял белую пыль и сухую, обожженную почву.
Кожевенные работницы побрели в трапезную. Этцвейн мысленно звал свою мать: «Подойди, ближе!» Но Эатре ушла, даже не повернув головы.
Через час она вернулась к чистильному столу. Этцвейн отполз от щели и посмотрел вокруг. Сарай завалили мешками, бочонками химикатов, инструментами, утварью, всякой всячиной. Он нашел кусок мыльной соды и, осторожно подкравшись к выходу, бросил его к самым ногам Эатре. Та, казалось, ничего не заметила. Потом, будто внезапно оторвавшись от невеселых размышлений, взглянула на землю.
Этцвейн бросил еще кусок соды. Эатре подняла голову, посмотрела вдаль, обернулась к сараю. Этцвейн отчаянно жестикулировал в тени. Эатре нахмурилась и отвернулась. Этцвейн стоял, ничего не понимая. Разве она его не видела? Чем она недовольна?
Величественно шагая мимо старого сарая, в поле зрения Этцвейна показался Великий Муж Оссо. Он остановился на полпути между сараем и столом, где работала Эатре. Та продолжала скоблить шкуру, явно блуждая мыслями в заоблачных сферах.
Оссо подозвал рукой надсмотрщицу, пробормотал несколько слов. Джаталья подошла к Эатре — та оставила работу без удивления и без замечаний и направилась к Оссо. Великий Муж предупреждающе поднял руку, чтобы остановить ее в пяти шагах, и заговорил — негромко, но резким, стыдящим тоном. Этцвейн не мог расслышать ни его слов, ни спокойных ответов Эатре. Оссо недовольно отступил на шаг, развернулся и пошел назад мимо сарая — так близко, что, протяни Этцвейн руку, он мог бы прикоснуться к напряженному жестокому лицу.
Эатре не сразу вернулась к работе. Будто движимая желанием последовать за Оссо и что-то еще ему сказать, она подошла к сараю и встала у входа.
«Мур, ты здесь?»
«Я тут».
«Исчезни из Башона. Уходи сегодня же, как только зайдут солнца».
«Ты можешь уйти со мной? Мама, пожалуйста!»
«Нет. Я в крепостном долгу перед Оссо. Человек Без Лица оторвет мне голову».
«Я найду Человека Без Лица! — с горячностью заявил Этцвейн. — Я ему расскажу все, что тут делается. Он придет и оторвет голову Оссо!»
Эатре улыбнулась: «Не стала бы говорить с такой уверенностью. Оссо соблюдает кантональные законы — он их знает лучше нас с тобой».
«Если я уйду, Оссо тебе жить не даст! Он заставит тебя делать самую тяжелую работу».
«Мне все равно. Дни проходят один за другим. Я рада, что ты уходишь, я этого хотела. Но мне придется остаться и помочь Деламбре — у нее скоро первые роды».
«Тебя накажут — из-за меня! Духовный отец никому не прощает».
«Он не посмеет. Женщины умеют себя защитить[10] — как я только что объяснила твоему «духовному отцу». Все, меня зовут. Уходи, когда стемнеет. На тебе еще нет ошейника — остерегайся нанимателей-посредников, особенно в Дурруме и Кансуме, да и в Шемюсе тоже. Они ловят беглых детей и продают в воздушнодорожные бригады. Когда вырастешь, надень ошейник музыканта. Музыкантам разрешено странствовать из кантона в кантон. Не ходи к старой хижине, не ходи к Деламбре. Не пытайся взять с собой хитан! Я отложила немного денег, но теперь их передать уже не получится. Прощай — я тебя больше никогда не увижу».
«Увидишь, увидишь! — заплакал Этцвейн. — Я подам жалобу Человеку Без Лица, хилитов заставят тебя отпустить!»
Эатре печально улыбнулась: «Не заставят, пока не выплачен долг. Прощай, Мур». Она вернулась к работе. Этцвейн отступил вглубь сарая. Он не мог смотреть на мать.
День подходил к концу. Работницы ушли в общие спальни. Когда стало темно, Этцвейн выскользнул из сарая и тихонько спустился к подножию холма.
Вопреки предупреждению Эатре, он прокрался к старой хижине у Аллеи Рододендронов, уже занятой другой женщиной, нашел хитан в саду за хижиной и побежал прочь вдоль дороги, от дерева к дереву. Этцвейн бежал на запад, к Гарвию — где, как говорили странники, жил Человек Без Лица.
Глава 4
Шант, продолговатый континент неправильной формы, чуть больше двух тысяч километров в длину и почти полторы тысячи километров в поперечнике, отделен с севера от темной массы гигантского Караза ста пятьюдесятью километрами воды — проливом Язычников, соединяющим Зеленый и Пурпурный океаны. К югу, за Большой Соленой топью, между Пурпурным и Синим океанами втиснулся третий континент, Паласедра, очертаниями напоминающий трехпалую кисть или вымя с тремя сосками.
В полутора тысячах километров к востоку от Шанта из океанских волн поднимаются первые из многих тысяч островов Бельджамара — архипелага, разделяющего Зеленый и Синий океаны. Численность населения Караза остается неизвестной. Паласедрийцев относительно мало. Бельджамарский архипелаг дает убежище и пропитание редким рассеянным группам морских кочевников. Львиная доля населения Дердейна сосредоточилась в шестидесяти двух практически независимых кантонах Шанта, принужденных составлять конфедерацию только волей Человека Без Лица.
Кроме малозаметного федерального правительства в стеклянном городе Гарвии, мозаику Шанта объединяло лишь глубокое взаимное недоверие ее разрозненных частей. Жители каждого кантона считали единственно правильными и достойными всеобщего подражания исключительно свои собственные обычаи, костюмы, диалекты и предрассудки. Все остальное рассматривалось как нездоровое чудачество или безответственная распущенность.
Буквально безличное, самодержавное и категорическое правление Аноме, в просторечии именуемого Человеком Без Лица, как нельзя лучше устраивало обуреваемых ксенофобией кантональных шовинистов. Правительственный аппарат был прост. Налоги, время от времени пополнявшие казну по требованию Аноме, почти не обременяли население. Функции федерального правительства в огромном большинстве случаев ограничивались обеспечением строгого соблюдения внутренних кантональных законов, предложенных и утвержденных кантональными властями. Суд Аноме, безжалостный и скорый, был, тем не менее, нелицеприятен и неизменно следовал одному и тому же общепонятному принципу: «Нарушение закона карается смертью». Залогом власти Человека Без Лица был ошейник — блестящее кольцо флексита, украшенное кодовыми цветовыми полосками различных оттенков лилового, темно-алого или каштанового, синего, зеленого, серого, изредка темно-коричневого.[11]
Трубчатую полоску флексита начиняли прокладкой взрывчатого вещества, декокса. Человек Без Лица мог, по желанию, вызвать детонацию декокса с помощью передатчика кодированного излучения. Попытка разорвать или разрезать ошейник приводила к тому же результату. Как правило, когда человек терял голову, причина его смерти была известна и очевидна — он нарушил кантональный закон. Время от времени, однако, голова отрывалась по таинственным, не поддающимся рациональному объяснению причинам, после чего родственники, знакомые и земляки потерпевшего вели себя чрезвычайно осмотрительно и старались держаться как можно незаметнее, опасаясь навлечь на себя непредсказуемый гнев Аноме.
От возмездия Аноме нельзя было скрыться ни в городской толпе, ни в самых пустынных уголках Шанта. От побережья пролива Язычников до Ильвия на крайнем юге взрывались ошейники, летели с плеч непутевые головы преступников. Ни для кого не было тайной, что Аноме назначал анонимных уполномоченных представителей, следивших за неукоснительным подчинением его воле — их величали, с известной долей сарказма, «благотворителями».
Крупнейший город Шанта, Гарвий, где обосновался Человек Без Лица, был индустриальным и торговым центром всей планеты. По берегам реки Джардин и в районе устья Джардина, так называемом Шранке, располагались сотни стекольных заводов, литейных цехов и машиностроительных мастерских, предприятий, изготовлявших стандартные биомеханизмы, и биоэлектрических лабораторий, где органические мономолекулы из кантона Фенеск, заключенные в наращиваемую сверхпроводящую оболочку, приживлялись к инстинктивным фильтрам слабых токов, нейрореле и селекционированным сфинктерам — с получением хрупкой, капризной и чрезвычайно дорогостоящей электроники. Профессия биоконструктора считалась самой престижной. Нижнюю, наименее респектабельную ступеньку социальной лестницы занимали бродячие музыканты, вызывавшие, тем не менее, приступы романтической зависти у оседлых обитателей Шанта. Музыка, так же, как основной словарный запас и цветовая символика, беспрепятственно пересекала кантональные границы — влияние новой удачной мелодии, ритма или последовательности аккордов распространялось на все население континента.[12]
В кантоне Амаз до двух тысяч музыкантов ежегодно участвовали в «сейяхе» — оглушительном хоре маленьких прозрачных «блуждающих колоколов», совместно производивших настойчиво-непрерывный звук с неопределенной высотой тона, без отдельных голосов, приливавший и отливавший подобно порывам ветра или океанским волнам. Интерес широкой публики привлекала, однако, более понятная музыка, исполнявшаяся труппами бродячих музыкантов — джиги и прочие бодрые, «заводные» танцевальные мелодии и импровизации в быстром темпе, сюиты и сонаты, шарары, сарабанды, инструментальные баллады, каприччио. Музыкальную труппу мог временно сопровождать друидийн. Чаще, однако, друидийн бродил один, играя все, что приходило в голову. Музыканты, пользовавшиеся меньшим уважением, иногда распевали баллады на собственные или чужие слова, но друидийн никогда не пел — только играл, выражая в звуках пафос жизни, радость и горечь бытия. Таким друидийном был кровный отец Этцвейна, знаменитый Дайстар. Этцвейн отказывался верить в рассказанную Фельдом Майджесто историю смерти Дайстара. В детских грезах он видел себя блуждающим по дорогам Шанта и развлекающим праздничные толпы игрой на хитане до тех пор, пока, наконец, не наступал момент встречи с отцом. Дальнейший сценарий мечты мог развиваться по-разному. Иногда Дайстар рыдал от радости, услышав прекрасную музыку, а когда Этцвейн открывал ему свое происхождение, счастливому изумлению Дайстара не было предела. В другом варианте Дайстар и его неукротимый отпрыск оказывались соперниками в музыкальной битве — Этцвейн впитывал внутренним, слухом величественные мелодии, ритмы и контрапункты, торжественный звон колокольных подвесок, радостно-агрессивное рычание резонатора гремушки.
Действительность, наконец, начинала чем-то напоминать сны наяву. Этцвейн брел по дорогам Шанта с хитаном, закинутым за спину. Лямка терла худое плечо. Перед ним лежало все будущее — при условии, что его не поймают и не вернут в Бастерн. Не следовало забывать о способности проницательного Оссо догадаться о положении вещей и снова вызвать ахульфов. Пугающая мысль заставила Этцвейна прибавить ходу. Он бежал усталой трусцой, временами переходя на шаг, когда в легких уже не хватало воздуха. Аллея Рододендронов осталась далеко позади. Прохладно мерцали звезды, слева чернела высокая тень Хвана — горной цепи к югу от Бастерна.
Ночь не кончалась. Этцвейн, уже не в силах бежать, шел как можно быстрее, упрямо переставляя ноющие избитые ноги. Дорога поднималась, огибая отрог хребта. За подъемом открылось бледно озаренное созвездиями пространство, серое и черное, с редкими далекими огнями неизвестного происхождения.
Этцвейн передохнул, сидя на камне и глядя на запад, в ночную даль кантона Шемюс, где он еще никогда не был, хотя кое-что знал о его обитателях и их повадках от гостей, проходивших по Аллее Рододендронов. Шемюс населяли коренастые люди с рыжевато-русыми волосами и раздражительным темпераментом. Они варили пиво и гнали самогон. Оба напитка часто и обильно употреблялись мужчинами, женщинами и детьми без заметного эффекта. Мужчины носили костюмы из добротной бурой ткани, соломенные шляпы и золотые кольца в ушах. Женщины, тучные и задиристые, одевались в длинные плиссированные платья из черной и темно-коричневой ткани и скрепляли прически гребнями из кварца-авантюрина. Они никогда не выходили замуж за воздыхателей крупнее себя — в результате мужья лишались преимущества в домашних потасовках после вечеров, проведенных в кабаке.
Шемюс пересекала северная ветка воздушной дороги, соединявшая Освий на северном берегу с продольной континентальной магистралью. Продолжая путь на запад, Этцвейн должен был выйти к станции воздушной дороги в Карбаде. Пытаясь разглядеть что-нибудь в новой незнакомой стране, он решил, что видит далеко в небе медленно движущийся, смутный красноватый огонек. Если его не обманывало зрение, кто-то куда-то спешил — настолько, что нанял гондолу несмотря на глубокую ночь и почти полное отсутствие ветра. Этцвейн вспомнил слова матери, советовавшей держаться подальше от посредников-нанимателей. Один, без ошейника, он не мог удостоверить личность, не мог рассчитывать на защиту — каждый встречный мог сделать с ним все, что хотел. Наниматель мог одеть на него ошейник, объявить крепостным должником и продать в воздушнодорожную бригаду. Утром нужно было соорудить какое-то подобие ошейника из сухой травы, коры или кожи, чтобы не привлекать к себе внимание.
Было темно и тихо — так тихо, что, задержав на минуту дыхание, Этцвейн уловил еле слышный далекий тявкающий вой, доносившийся со стороны Дебрей. Этцвейн обхватил себя руками — сидеть на камне было неудобно и зябко. Видать, ахульфы опять устроили сумасшедшую пирушку — развели костер где-нибудь в глухом ущелье Хвана, нарисовали на скале рогатые каракули и мрачно выли, прыгая вокруг огня.
Мысль об ахульфах заставила Этцвейна подняться на ноги. Взяв свежий след, ищейки быстро догоняли беглецов. Он еще не ушел от опасности.
Онемевшие руки и ноги не слушались, истертые ступни горели — он сделал ошибку, нельзя было садиться! Прихрамывая и жмурясь от боли, Этцвейн торопился по кремнистой дороге в Шемюс.
За час до рассвета он прошел селение — дюжину хижин вокруг площади, аккуратно выложенной плитами шиферного сланца. За хижинами виднелись силосные башни, склад и похожие на огромные полупрозрачные луковицы баки пивоварни. Трехэтажное здание у дороги явно служило трактиром и гостиницей. Там уже проснулись: кто-то возился под кухонным навесом на заднем дворе — Этцвейн заметил языки пламени на полыхнувшей жаровне. Рядом темнели оставленные на ночь три фургона, груженные свежераспиленными комлями и кругляками белой шимродской лиственницы для спиртового завода, каких в Шемюсе было много. Конюх уже выводил из стойла за гостиницей тягловых животных — волов, происходивших от древней земной породы, мирных и послушных, но медлительных.[13] Этцвейн прокрался мимо, надеясь, что в предрассветных сумерках его никто не видел.
Впереди дорога пересекала обширную плоскую пустошь, усеянную камнями. Здесь не было никакого убежища, никакого огорода или сада, где можно было бы отыскать съестное. Этцвейн упал духом — ему казалось, что он вот-вот потеряет сознание, в горле пересохло, желудок сводило от голода. Только боязнь ахульфов мешала ему найти укромное место среди камней и устроить постель из сухих листьев. Наконец усталость превозмогла страх. Он больше не мог идти. Спотыкаясь, Этцвейн забрался за выступ крошащейся сланцеватой глины, закутался в захваченные в дорогу лоскутья старой рясы и опустился на землю. Он лежал в полуобморочном оцепенении, мало напоминавшем сон.
Его потревожили скрип и громыхание колес — мимо проезжали фургоны. Солнца уже взошли, хотя он не спал — или думал, что не спал. Этцвейн не заметил наступления дня.
Фургоны, громыхавшие на запад, стали удаляться. Этцвейн вскочил и посмотрел вслед, думая, что лучшей возможности сбить с толку ахульфов может не представиться. Погонщики сидели на козлах и не могли видеть, что происходило сзади, за нагруженными доверху кузовами. Этцвейн догнал последний фургон, подтянулся на платформу и сел, прислонившись спиной к штабелю лиственницы и болтая ногами. Уже через несколько секунд, однако, он нашел удобное местечко поглубже в кузове, на смолистых пахучих кругляках. Этцвейн намеревался проехать два-три километра и спрыгнуть, но сидеть в медленно переваливающемся полутемном кузове было так приятно и спокойно, что он стал клевать носом и глубоко заснул.
Этцвейн открыл глаза, поморгал, приподнял голову. Между кругляками лиственницы проглядывали два непонятных многоугольника, разделенных прямой линией. Первый слепил ярким лилово-белым светом, второй представлял собой темно-зеленую панель с неровными прожилками. Этцвейн ничего не соображал. Куда он попал, что это такое? Он медленно подобрался к заднему краю платформы, все еще не вполне проснувшись. Белый многоугольник оказался оштукатуренной стеной здания, раскаленной полуденными солнцами, а темно-зеленая панель — бортом фургона, отчасти закрывавшим поле зрения.
Этцвейн вспомнил: он заснул — и проснулся, когда убаюкивающее движение кузова прекратилось. Как далеко он уехал? Наверное, это уже Карбад, в Шемюсе. Не самое безопасное место, если верить отрывочным слухам, достигавшим его ушей на Аллее Рододендронов. О скупости и пронырливой жадности шемов — жителей Шемюса — ходили небылицы. Рассказывали, что шемы отнимали и прикарманивали все, что можно было отнять и прикарманить. Этцвейн неловко спустился на землю — ноги еще болели. Нужно было уйти подобру-поздорову, пока его не нашли. В любом случае ахульфов уже можно было не бояться.
Неподалеку послышались голоса. Выскользнув из-за фургона, Этцвейн натолкнулся на чернобородого мужчину со впалыми бледными щеками и выпуклыми голубыми глазами. На незнакомце были черные холщовые штаны погонщика и грязно-белая безрукавка с деревянными пуговицами. Погонщик стоял, широко расставив ноги, с руками, разведенными в стороны. Он казался скорее приятно удивленным, нежели разгневанным: «И что это у нас? Малолетний разбойник? Значит, так вас теперь учат промышлять чужим добром? Не успеешь остановиться, все уже тащат! На тебе и ошейника-то нет».
Этцвейн отвечал дрожащим голосом, стараясь придать ему серьезность и убедительность: «Я ничего не крал, уважаемый господин. Только чуть-чуть проехался на фургоне».
«Значит, украл, ежели не платил за проезд! — заявил погонщик. — Сам признался. Давай, пошли!»
Этцвейн отпрянул: «Пошли — куда?»
«Туда, где научишься дело делать, а не шляться без толку. Тебе только на пользу пойдет».
«У меня есть дело! — закричал Этцвейн. — Я музыкант! Видите? Вот мой хитан!»
«Без ошейника ты никто. Пошли, не завирайся».
Этцвейн попробовал было дать стрекача, но погонщик поймал его за воротник. Этцвейн отбивался и брыкался. Погонщик вкатил ему затрещину и отстранил, удерживая за грудки: «Ну-ка тихо — душу вытрясу! Смотри у меня!» Он рывком потащил Этцвейна за собой. Лямка хитана соскользнула — инструмент упал на мостовую, шейка грифа отломилась.
Этцвейн сдавленно крикнул, с ужасом глядя на сплетение струн и жалкие обломки. Погонщик схватил его за руку и затащил в склад, где за игровым столом сидели четверо. Трое были погонщики, четвертый — круглолицый шем в конической соломенной шляпе, сдвинутой на затылок.
«Бродяжка, рылся в кузове, — сообщил обидчик Этцвейна. — Смышленый, шустрый парень. Заметьте, ошейника нет. Пора ему помочь, наставить на путь истинный, как вы считаете?»
Игроки молча смерили Этцвейна глазами.
Один из погонщиков крякнул, собирая кости в стаканчик: «Отпусти заморыша. Нужна ему твоя помощь, как корове седло!»
«Ты неправ, однако! Каждый гражданин государства обязан трудиться — разве не так, посредник? Что скажешь, гражданин посредник?»
Шем откинулся на спинку стула и сдвинул шляпу еще дальше — непонятно было, как она держалась: «Не дорос еще, и упрямец — сразу видно. Но работу всегда можно подыскать, был бы человек. В Ангвине, например, рук не хватает. Двадцать флоринов?»
«Так и быть, чтоб поскорее сбыть — по рукам!»
Шем тяжело поднялся на ноги, подал знак Этцвейну: «Пошли».
Этцвейна заперли в темной каморке почти на весь день, после чего шем отконвоировал его к фургону и отвез на станцию воздушной дороги в полутора километрах к югу от Карбада. Через полчаса появилась летевшая на юг гондола «Мизран» — с надувным парусом поперек ветра, свистя роликами каретки по пазовому рельсу. Увидев закрытый семафор, ветровой ослабил передние тросы, позволив парусу свободно повернуться — почти не подгоняемая ветром гондола потеряла ход. В трехстах метрах перед станцией остановщик зацепил ходовую каретку крюком-карабином якорного каната и налег на рукоять барабанного тормоза. Гондола остановилась, покачиваясь в воздухе. Остановщик зафиксировал ролики задней тележки каретки якорным болтом. Распорную штангу между тележками отсоединили, тягловые канаты продели в проушины-карабины на передней тележке каретки. Свободную переднюю тележку оттащили дальше на юг по пазовому рельсу — гондола опустилась на землю.
Этцвейна препроводили в гондолу и отдали под надзор ветрового. Переднюю тележку откатили назад по рельсу, тележки соединили распорной штангой — гондола снова поднялась на крейсерскую высоту. Удалив якорный болт, освободили заднюю тележку. Передняя тележка, распорная штанга и задняя тележка составляли ходовую каретку десятиметровой длины. «Мизран» двинулся вперед. Ветровой подтянул лебедками передние тросы управления, надувной парус изогнулся поперек ветра. Каретка, набирая скорость, засвистела по пазовому рельсу. Карбад остался позади.[14]
Для Этцвейна мир снов наяву разбился в дребезги, безвозвратно потерялся, поблек, как прошлогодние цветы. Он кое-что слышал об участи воздушнодорожных бурлаков, об их тяжелой однообразной работе, выполнявшейся под принуждением безвыходности. В принципе свободный человек, бурлак редко выплачивал крепостной долг. Положение Этцвейна было хуже — без ошейника у него не было статуса, он не мог никуда обратиться с просьбой о заступничестве, начальник участка мог назначить ему долг любого размера. После этого, надев ошейник, Этцвейн должен был отрабатывать долг, а неуклонное соблюдение условий крепостного контракта обеспечивалось Человеком Без Лица. Предчувствие рабства давило, как камень на груди. Оглушенный, опустошенный, Этцвейн плохо воспринимал происходящее.
В самой глубине сознания, однако, уже кричал гневный голос: он убежит! Он надул хитрецов-хилитов, а бригадира бурлаков и подавно оставит с носом. Что говорила Эатре? «Преодолевай препятствия, не смиряйся с поражениями!» Никогда он не позволит принести себя в жертву чему бы то ни было! Даже со взрывчатым ярмом на шее он доберется до Гарвия и потребует от Человека Без Лица справедливости к себе и к матери, потребует ужасного наказания варвару, сломавшему хитан. Пусть он не догадался запомнить цветовой код погонщика — бледное чернобородое лицо никогда не забудется!
Приободренный ненавистью и решимостью, Этцвейн постепенно начал интересоваться гондолой и пейзажем — распаханными пологими холмами, подернутыми рябью ячменя, цилиндрическими каменными загонами для скота, башенными зерновыми бункерами, неизбежными пивоварнями с пузатыми стеклянными резервуарами.
После полудня подул юго-западный бриз. Ветровой повернул парус круче к ветру, подтягивая лебедкой передний трос. Гондола стала опускаться. Чтобы увеличить подъемную силу, ветровой отрегулировал уздечками наклон паруса. «Мизран» пушинкой взмыл в прозрачную высь.
Волнистые ячменные поля сменились крутыми каменистыми отрогами, испещренными густыми зарослями голубого и темно-оранжевого терзовника — из него ахульфы вырезали свое нехитрое оружие. На юге, увенчанный редкими облаками, все ближе громоздился Хван — великий центральный хребет и водораздел Шанта. Вдоль отрогов Хвана тянулась продольная континентальная воздушная магистраль. Ближе к вечеру «Мизран» стал подниматься в горы, затаскивая каретку по круто бегущему вверх пазовому рельсу, и через пятнадцать километров достиг северной станции Ангвинского узла. Бурлацкая бригада прицепила передние тяги к пристяжным серьгам полуторакилометрового бесконечного привода — натянутого деревянными шкивами каната, позволявшего одновременно буксировать гондолы в противоположных направлениях. Приводным шкивом служил ворот, вращаемый бурлаками. «Мизран» со степенной медлительностью приблизился к Ангвинской развязке, где северная ветка соединялась с продольной континентальной магистралью. Тяги гондолы подсоединили к еще одному бесконечному канату, подвешенному над головокружительной пропастью, и «Мизран», наконец, спустился на землю у центральной станции Ангвина.
Ветровой привел Этцвейна к суперинтенданту Ангвинского узла. Тот поначалу брюзжал: «Вечно присылают мне сосунков и недоразвитых ублюдков! Что я буду с ним делать? Ворот крутить ему слабо. Вдобавок у него дурной глаз».
Ветровой пожал плечами, снисходительно поглядывая на Этцвейна: «Подрасти бы ему не мешало, но это не мое дело. Не хочешь — верну его Пертцелю на обратном пути».
«Ммм. Подожди, не торопись. Сколько он заломил?»
«Пертцель требует двести».
«За что? За дохляка в грязном мешке? Полюбуйся: кожа да кости! Больше сотни не дам».
«Я получил другие инструкции».
«К дьяволу инструкции! Пертцель и меня, и тебя за нос водит. Оставь дохляка здесь. Если Пертцель не возьмет сотню, заберешь пацана через неделю. А я пока повременю с ошейником».
«Дешево живешь! Парень подрастет — он шустрый, канат пристегивать может не хуже меня».
«Понятное дело. Так я его и отправлю на развязку, а остановщика покрепче поставлю на ворот».
Ветровой расхохотался: «И за сто флоринов получишь здорового бурлака? Кто кого за нос водит?»
Суперинтендант ухмыльнулся: «Пертцелю не обязательно обо всем докладывать».
«Мне-то что? Мое дело сторона. Что скажешь, то и доложу».
«Ну и ладно. Отвези его назад на развязку. Я передам приказ мигалкой». Повернувшись к Этцвейну, суперинтендант нахмурился: «Не унывай. Все, что от тебя требуется — точная, быстрая работа. Главное, не отлынивай — увидишь, на воздушной дороге не все так плохо, как рассказывают. А станешь халтурить или больным прикидываться — выпорю ерепейником, у меня взятки гладки».
Этцвейна перевезли через ущелье обратно на Ангвинскую развязку. Гондолу подтягивал к платформе крутивший ручную лебедку белобрысый жилистый парень немногим старше Этцвейна.
Этцвейна вытолкнули на платформу. «Мизран» снова поднялся в сумеречное небо — гондолу отбуксировали через ущелье к станции, где начиналась северная ветка.
Белобрысый юноша провел Этцвейна в приземистое каменное строение. Там два других молодых человека поглощали ужин — вареные кормовые бобы с чаем. Белобрысый объявил: «Новый помощник, однако! Как тебя звать-то?»
«Гастель Этцвейн!»
«Гастель Этцвейн? Надо же! Милости просим. Я — Финнерак. Вот сидит Ишиэль, горец-стихотворец, а этот, с длинной рожей — Дикон. Есть хочешь? Стол у нас не роскошный — бобы да хлеб с чаем, но и то лучше, чем с голоду помирать».
Этцвейн взял миску с едва теплыми бобами. Финнерак ткнул большим пальцем в направлении центральной станции: «Старый хрыч Дагбольт нормирует дрова, не говоря уже о воде, провианте и всем остальном, на чем можно сэкономить, положив деньги себе в карман».
Дикон мрачно процедил, пережевывая бобы: «Теперь мне придется тянуть лямку под самым носом у Дагбольта — не смейся, не болтай, навались, не отставай! Чертов придурок! Здесь хотя бы сплюнуть можно, не получив взбучки».
«Все одно, все под ярмом ходим, — мечтательно откликнулся Ишиэль. — Через год или два и меня отвезут на ту сторону, потом наступит черед Финнерака. А через пять-шесть лет к нам присоединится его высочество Гастель Этцвейн, и мы снова будем вместе обливаться потом, счастливые толкатели прогресса!»
«Нет уж, только не я! — заявил Дикон. — Как только освободится место чистильщика путей, я подам заявку. Там, по крайней мере, не сидишь на привязи, как ахульф в сторожевой будке. А если Дагбольт откажет, можно тайком выиграть в кости. Мне везет в игре — помяните мое слово, десяти лет не пройдет, как я выплачу долг!»
«Желаю удачи, — буркнул Финнерак. — Ты уже обобрал меня до нитки. Надеюсь, выигрыш тебе пригодится».
С утра Финнерак разъяснил Этцвейну его обязанности. Работали в три смены — Этцвейн должен был сменять Ишиэля и дежурить, пока не проснется Финнерак. На развязке между двумя ущельями гондолы подтягивали канатами — пазовые рельсы здесь не использовались. Если гондола следовала прямо по континентальной магистрали, дежурный просто освобождал зажим тормозных колодок, удерживавших холостой шкив бесконечного каната. Если гондола сворачивала на северную ветку или возвращалась по ней, дежурный ловил тросы крюком-карабином, прикованным предохранительной цепью к платформе станции, и подсоединял их к канату другой линии. Как младшему члену бригады, Этцвейну поручили также смазывать шкивы, подметать в бараке и варить утреннюю кашу. Работа, не слишком утомительная, не отличалась сложностью, и у бригады оставалось много свободного времени. Ишиэль и Финнерак вязали крючками пестрые жилеты, пользовавшиеся спросом на ярмарке в Ангвине, и играли в кости на вырученные деньги, надеясь избавиться от крепостного долга. «На центральной станции, — объяснил Финнерак, — Дагбольт запрещает азартные игры. Говорит, чтобы не было драк и поножовщины. Врет, ахульфово отродье! Какой-нибудь счастливчик нет-нет да выиграет достаточно, чтобы выкупиться — этого-то Дагбольт и боится. Вольных работников сюда силком не заманишь — дураков мало».
Этцвейн посмотрел вокруг. Они стояли на голом выветренном уступе полсотни метров в ширину, между двумя ответвлениями глубокого ущелья, под необозримой массой горы Миш. Этцвейн спросил: «Сколько времени ты здесь провел?»
«Два года, — ответил Финнерак. — Дикон торчит здесь уже восемь лет».
Этцвейн подавленно разглядывал угловатую скалу, нависшую над станцией — взобраться по ней не было никакой возможности. Обрывы по сторонам уступа производили не менее устрашающее впечатление. Финнерак понимающе, мрачно усмехнулся: «Не прочь попытать счастья?»
«Почему нет?»
Финнерак не выразил ни удивления, ни осуждения: «Тогда торопись, пока не окольцевали. Я сюда угодил уже в ошейнике. Все равно обо всем успел подумать. Какая разница — потерять голову или сорваться в пропасть?»
Подойдя к краю утеса, они мерили глазами глубину и ширину ущелья, с завистью поглядывая на птиц, деловито порхавших в прозрачной воздушной пучине. «Я тут часами стоял, — тихо, с горечью говорил Финнерак. — Прослеживал, сравнивал маршруты. Спуститься в долину трудно. Отсюда до выступа красного гранита нужна веревка. Приводной канат туго натянут, разрежешь — с той стороны сразу заметят. Опытный скалолаз или отчаянный смельчак спустился бы по трещине — видишь, чуть левее? Потом пришлось бы пробираться поперек по козырьку — это возможно, он шире, чем кажется сверху. От козырька до начала осыпи местами уже не так круто. Если осыпь не начнет ползти, считай, ты уже в долине. Но дальше что? До ближайшего селения сто пятьдесят километров. Воду, положим, можно найти — морена где-нибудь кончится. Есть будет нечего. Кроме того, в горах небезопасно — у нас завелись соседи».
«Дикие ахульфы?»
«Об ахульфах я и позабыл, хотя они тут попадались — фэги, свирепая, подлая порода. Их что-то не заметно в последнее время. Зато появилась другая нечисть, — Финнерак пригляделся, чуть наклонившись над пропастью. — Только вчера видел...» Резко выпрямившись, он указал пальцем: «Смотри! За острой черной скалой — по-моему, пещера или навес. У них там стойбище».
Этцвейну показалось, что между скалой и таким же черным входом в пещеру мелькнула какая-то тень: «Кто это?»
«Рогушкои. Ты о них слышал?»
«Горные дикари? Говорят, их можно утихомирить, выставив бочку самогона».
«Где ты возьмешь самогон? До женщин они тоже большие охотники. Никогда не видел рогушкоя вблизи — надеюсь, и не придется. Что, если они вздумают сюда забраться? Бежать некуда — изрубят на куски!»
«Представляешь, как огорчится Дагбольт?» — заметил Этцвейн.
«Да его удар хватит! Беда, разорение — придется раскошелиться на трех новых должников! Будь его воля, мы все тут проторчим на бобах и хлебе до глубокой старости!»
Этцвейн с тоской смотрел на вьющееся в голубые дали ущелье: «Я хотел стать музыкантом... Кто-нибудь когда-нибудь отрабатывает крепостной долг?»
«Дагбольт делает все, чтобы это не случилось, — отвечал Финнерак. — Он заведует ларьком, где продают шемское пиво, фрукты, конфеты и прочее. В кости обычно выигрывают вольнонаемные, а чаще всего везет любимчикам суперинтенданта — как и почему, никто не знает. Так или иначе, не все так плохо. Может, и я сделаю карьеру на воздушной дороге, чем черт не шутит? Места часто освобождаются. Отработав свое на вороте, можно стать чистильщиком пазов или ремонтником. Те, у кого хорошо варит котелок, в свободное время учат электрику. Таких назначают операторами оптического телеграфа — чистая, легкая работа, и платят больше». Финнерак запрокинул голову, протянул руку, будто призывая облака: «А больше всего я хотел бы стать ветровым. Подумать только! Летишь в гондоле, подкручиваешь лебедки, внизу бежит с перестуком каретка. Что может быть лучше? Сегодня ты на берегу пролива Язычников или в Амазе, завтра в Гарвии, послезавтра уже мчишься по продольной магистрали к Пельмонту, к Верну — дальше, к Синему океану!»
«Неплохо в своем роде, — с сомнением сказал Этцвейн. — И все-таки...» Он не сумел закончить.
Финнерак пожал плечами: «Пока не окольцевали — беги, ты свободен! Не беспокойся, я тебя не остановлю, Ишиэль тоже. Если хочешь, поможем спуститься. Но кругом дикие места, тебя ждет верная смерть. Эх, все равно, не будь на мне ярма — сбежал бы, только меня и видели!»
С другой стороны ущелья протрубили в сигнальный рог. Финнерак насторожился: «Пойдем. Прибывает гондола из Ангвина».
Они вернулись на платформу. В принципе уже началась смена Этцвейна. Финнерак стоял рядом — ему поручили обучение новичка. Приближающаяся гондола наклонно висела в небе, подпрыгивая и покачиваясь — приводной канат тянул ее против ветра. Тягловые тросы, носовой и кормовой, пристегнули серьгами к большому железному кольцу. Кольцо, в свою очередь, соединялось короткой цепью с проушиной хомута на приводном канате. На кольце болталась черная бирка, означавшая, что гондолу следовало «перестегнуть» на северную ветку. Когда хомут оказался в верхней точке окружности натяжного шкива, Финнерак нажал кнопку электрического звонка, оповещавшего бригадира бурлаков, вращавших ворот, и одновременно навалился на рычаг тормоза, остановившего натяжной шкив. Зацепив кольцо крюком-карабином на цепи, он высвободил хомут. Этцвейн перенес хомут на канат северной ветки, застегнул его. Финнерак нажал кнопку, передававшую сигнал к вороту северной станции — приводной канат натянулся, и гондола поплыла над ущельем, понукаемая южным ветром.
Через полчаса с востока прибыла следующая гондола, нетерпеливо дергавшая тросы, туго натянутые свежим бризом, налетавшим с горы Миш. Хомут проехал над свободно вращающимся натяжным шкивом. Вмешательство Финнерака и Этцвейна не требовалось: гондола направлялась в Гарвий и проследовала над ущельем к центральной станции Ангвина.
Вскоре с запада появилась еще одна гондола, опять с черной биркой на кольце. Этцвейн сказал Финнераку: «С твоего разрешения я сам перестегну ее на северную ветку. А ты проследи, чтобы я все сделал правильно».
«Давай, попробуй, — согласился Финнерак. — Должен признаться, ты все схватываешь на лету».
«Так точно! — отозвался Этцвейн. — На лету. И собираюсь последовать твоему совету».
«Неужели? Решил делать карьеру на воздушной дороге?»
«Над этим стоит подумать, — кивнул Этцвейн. — Как ты справедливо заметил, я еще не окольцован. Следовательно, у меня есть выбор».
«Расскажи это Дагбольту, — посоветовал Финнерак. — Хомут подъезжает. Не прозевай звонок и тормоз».
Хомут приводного каната приближался в натяжному шкиву. Как только он коснулся шкива, Этцвейн нажал на кнопку звонка и на рычаг тормоза.
«Все правильно», — сказал Финнерак.
Этцвейн взял крюк-карабин, зацепил кольцо, подтянул его к себе и высвободил хомут.
«Молодец! — одобрил Финнерак. — И помогать тебе незачем, сам справишься».
Этцвейн закрепил канатный хомут на ободе шкива, расстегнул карабин, отцепил крюк от кольца и встал одной ногой на кольцо, а пинком другой ноги высвободил хомут. Финнерак ошеломленно провожал глазами возносящегося Этцвейна. «Что ты...? — выдохнул он. — Ты выпустил гондолу!»
«Так точно! — весело крикнул Этцвейн, уже издалека. — Передавай привет Дагбольту. Прощай, Финнерак!»
Порывистый ветер относил гондолу все выше и дальше от горы Миш. Финнерак стоял на платформе, задрав голову и разинув рот. Этцвейн присел, упираясь ногой в кольцо, одной рукой схватился за тросы над головой, помахал другой рукой. Финнерак, сверху казавшийся маленьким и коротеньким, неуверенно поднял руку в ответ. Этцвейн почувствовал укол сожаления — Финнерак понравился ему больше всех, кого он встречал. «Когда-нибудь мы еще увидимся», — сказал он себе.
Ветровой в гондоле спохватился и выглянул за борт, но сделать ничего не мог — ситуация была непоправима. «Внимание! — громко обратился он к пассажирам. — Тросы отцепились. Нас несет ветром в северо-западном направлении, то есть мы не рискуем налететь на скалу или приземлиться в Дебрях. Повторяю, нет никакой опасности! Просьба сохранять спокойствие! Как только мы окажемся поблизости от населенного пункта, я начну травить газ и постепенно опущу гондолу на землю. От имени владельцев и руководства воздушной дороги приношу извинения за непредвиденное изменение расписания».
Глава 5
Гондола парила над отрогами Хвана в безмятежной дымчатой высоте. Этцвейн сидел в кольце, окруженный сиреневомолочным сиянием. Нереальный покой беззвучного полета усыплял в нем страх высоты. Внизу простирались величественные леса кантона Трестеван: зонтичные дарабы, темнокаштановые и красновато-фиолетовые, издали казавшиеся легкими и мягкими, как пучки пушистых перьев, перемигивались зеленовато-бронзовой рябью под прикосновениями ветра. На склонах темных влажных долин над нижним пологом леса возвышались кудрявые древние секвойи с красновато-желтыми толстыми стволами и короткими ветвями — с тех пор, как человек впервые появился на Дердейне, в их жизни не прошло еще и трех поколений. Дальше, в предгорьях, росли висельные деревья, черные дубы, зеленые вязы и деревья-синдики, уникальные в том отношении, что их семена бегали на прораставших ножках и кусались ядовитыми клешнями. Обнаружив подходящее место обитания, блуждающее семя кружилось в радиусе трех метров, кромсая и уничтожая ядом всю конкурирующую растительность, после чего выкапывало ямку и зарывалось в землю.
За Трестеваном начинался кантон Собол, где леса постепенно сменились обширной областью небольших ферм и тысяч прудов и садков — там разводили раков, угрей, белочервицу и прочую пресноводную снедь. Улов замораживали, упаковывали и отправляли на рынки больших городов — Гарвия, Брассей, Масчейна. Далекие игрушечные деревеньки испускали миниатюрные струйки дыма, по дорогам ползли едва заметные фургоны и двуколки, запряженные микроскопическими муравьями — волами и быстроходцами. Этцвейн, однако, не вполне наслаждался пасторальным пейзажем — ему было неудобно сидеть. Сначала он упирался в кольцо одной ногой, потом другой, потом обеими ступнями, положив одну на другую. Он попытался сидеть над кольцом, между тросами, но жесткие витые тросы нещадно впивались в тело. Неторопливый полет в кольце все больше напоминал пытку. Ноги немели и пульсировали тупой болью при каждом движении, мышцы рук и плечи горели от напряжения — приходилось постоянно крепко держаться за тросы. Несмотря ни на что, Этцвейн торжествовал: он снова проявил находчивость и преодолел препятствия!
Ветер, сначала налетавший бодрыми порывами с гор, постепенно затих. Гондола с задумчивой медлительностью покинула воздушное пространство Собола, и теперь висела почти неподвижно над шахматной доской зеленых, темно-синих, коричневых, белых и лиловых лоскутков — полей и садов кантона Фрилл. Извилистая река Лерне бестактно нарушала аккуратную искусственную геометрию живых изгородей и дорог. В пятнадцати километрах к западу Лерне разрезала серебристой лентой ярмарочный городок, выстроенный в типично фриллийском стиле — табачно-коричневые панели из прессованных листьев дерева-прилипалы, плотно подогнанные к полированным стволам айбана, образовывали двух- и даже трехэтажные строения. Над крышами поднимался лес высоких шестов со знаменами-талисманами, молитвенными флагами, приворотными знаками и тайными иероглифами на щитах, заменявшими любовные, а иногда и не столь любовные послания. Рассматривая местность, Этцвейн решил, что Фрилл — приятная, цивилизованная страна. Он надеялся, что гондола приземлится прежде, чем у него отнимутся ноги и оторвутся руки.
Ветровой, со своей стороны, надеялся, что гондолу отнесет к Катрию — кантону, где преобладающий бриз с залива Ракушечных Цветов позволил бы им двигаться на юго-запад и приземлиться у продольной континентальной магистрали где-нибудь в кантоне Майе. Но приходилось считаться с пассажирами, разделившимися на две фракции. Одни, раздосадованные безветрием и бездействием, потеряли терпение и требовали, чтобы ветровой открыл клапаны и спустился. Другие боялись, что к вечеру восходящие потоки подхватят надувной парус, и гондола безвозвратно потеряется в просторах Зеленого океана. Эти еще настойчивее убеждали ветрового приземлиться.
В конце концов ветровой раздраженно махнул рукой, взялся за веревку клапана и стал осторожно выпускать газ из паруса, сверяясь с высотомером, пока прибор не подтвердил, что гондола постепенно опускается. Открыв палубную панель, чтобы посмотреть, нет ли прямо под гондолой каких-нибудь деревьев или жилищ, ветровой впервые заметил Этцвейна. Удивленно нагнувшись, он с подозрением разглядывал тощую фигуру в грязной рясе, вцепившуюся руками в тросы, но не мог с уверенностью сделать никаких выводов. В любом случае, что он мог предпринять? Спуститься по тросу, чтобы вытолкнуть из кольца непрошенного пассажира? Ветровой не хотел рисковать: акробатические трюки не входили в его обязанности.
Кольцо погрузилось в густую голубую траву заливного луга. Этцвейн с облегчением соскочил на землю, а гондола, избавленная от лишнего веса, снова взмыла в воздух. Этцвейн дал стрекача, как зверек, вспугнутый хищником. Не обращая внимания на шипы и колючки, он с разгона прорвался через косматую от плетей ежевики живую изгородь на проселочную дорогу, со всех ног припустил к роще раскидистых обрехов, нырнул в тень под деревьями и только там остановился перевести дыхание.
Плотная листва не давала ничего разглядеть. Этцвейн выбрал дерево повыше и стал забираться вверх по стволу, цепляясь за частые тонкие ветви, пока не увидел голубой луг за живой изгородью.
Привязанная тросом к пню гондола покачивалась на лугу. Пассажиры вышли и ругались с ветровым, требуя немедленного возвращения платы за проезд и выдачи дополнительной суммы на непредвиденные транспортные расходы. Ветровой отказывался платить, будучи совершенно уверен в том, что чиновники в главном управлении не возместят ему этих денег, если он не предъявит подписанные пассажирами свидетельства платежа, счета за их проезд до ближайшей станции воздушной дороги и квитанции, подтверждающие получение аварийного вспомоществования.
Пассажиры разъярились — назревала потасовка. Ветровой решил проблему по-своему: сорвал якорный трос с трухлявого пня и забрался в гондолу. Гондола, с одним человеком на борту вместо восьми, быстро поднялась в воздух, постепенно перемещаясь в сторону реки. Пассажиры стояли по колено в голубой траве и грозили в небо кулаками.
Три недели Этцвейн бродил по окрестностям — исхудавший, с ожесточенным повзрослевшим лицом, в обрывках рясы чистого отрока. В глубине обреховой рощи он устроил шалаш из листьев и ветвей, где бережно поддерживал едва заметный огонь, разведенный углем, украденным из жаровни на дворе сельской усадьбы. Он украл еще кое-что: старый вязаный жилет из темно-зеленой шерсти, большой кусок черной кровяной колбасы, моток жесткой веревки и охапку сена — чтобы приготовить постель поудобнее. Сена оказалось недостаточно. Этцвейн вернулся за второй охапкой и прихватил валявшийся на дворе глиняный горшок для птичьего корма.
На этот раз, однако, мальчишки с фермы видели, как он спрыгнул из окна сеновала с задней стороны хлева. Пацаны гурьбой гнались за ним до самой рощи, где ему удалось спрятаться в густом подлеске недалеко от своего логова. До его ушей донеслись треск, сопровождавший разрушение шалаша, и возмущенные возгласы, вызванные обнаружением веревки и остатков колбасы. На обратном пути юные блюстители нравов прошли рядом. Один возбужденно говорил: «Ничего, ахульфы Йоделя разнюхают, где он прячется! Пусть заберут его себе на потеху». По спине Этцвейна пробежал холодок. Когда пацаны вышли из рощи, он залез на высокое дерево и следил за их возвращением к усадьбе. «Не позовут они ахульфов, — неуверенно успокаивал он себя. — Завтра же обо мне забудут. В конце концов, что такое охапка сена? Грязный, рваный жилет?»
На следующий день Этцвейн тревожно следил за происходящим на ферме. Крестьяне мирно занимались своими делами; Этцвейн начал успокаиваться.
Утром третьего дня, снова забравшись на обрех, он с ужасом заметил трех ахульфов, рыскавших вокруг хлева. Фермер вызвал карликовых ищеек горной породы муртре — сгорбленных, мохнатых, бугристых, напоминающих помесь собак и гоблинов. В панике Этцвейн чуть не свалился с дерева, кое-как спрыгнул на землю и побежал рощами и садами к реке Лерне, надеясь найти лодку или плот (плавать он не умел).
Сады кончились — он пересек поле, покрытое темно-малиновой ботвой йомоха, оглянулся. Оправдались худшие опасения: ахульфы уже появились из-за деревьев.
Ищейки еще не заметили его — опустив глаза, они двигались короткими перебежками, обшаривая землю обонятельными органами ступней. Этцвейн пустился наутек, перескочил изгородь и выбежал на проезжую дорогу, тянувшуюся вдоль берега реки. Сердце бешено стучало, воздуха не хватало, ноги деревенели.
Приближался экипаж на высоких колесах, запряженный породистым волом-быстроходцем — стройным животным, после девяти тысяч лет селекции мало напоминавшим грузных предков. Одиноко сидевший на козлах возница не торопился — способный при случае пуститься галопом, быстроходец семенил легкой экономной трусцой. Этцвейн подтянул старый жилет к подбородку, чтобы спрятать голую шею, побежал рядом с экипажем и позвал проезжего: «Уважаемый господин, можно мне с вами немного проехаться?»
Натянув вожжи, одинокий странник остановил быстроходна и смерил Этцвейна хмурым взглядом. Этцвейн столь же внимательно разглядывал кучера — сухопарого мужчину неопределенного возраста, бледного, высоколобого, с тонким, чуть горбатым носом и аккуратно подстриженной копной мягких седых или выбеленных волос, в костюме из дорогого серого сукна. На эмблеме его ошейника лиловые и серые вертикальные полоски перекрещивались черными и белыми горизонтальными — код, Этцвейну ничего не говоривший. Проезжий производил впечатление человека знающего, умудренного опытом, даже утонченного, но с возрастом выходила неувязка — он казался то ли молодящимся стариком, то ли преждевременно постаревшим юношей. Незнакомец вежливо произнес, без малейшего намека на дружелюбие или неприязнь: «Залезай, садись. Тебе куда?»
«Не знаю — как можно дальше, — сказал Этцвейн. — Честно говоря, за мной гонятся ахульфы».
«Ага! Ты совершил преступление?»
«Ничего я не сделал, ничего особенного! Просто сыновья фермера решили, что я бродяга, а значит, на меня можно поохотиться».
«Строго говоря, я не вправе содействовать беженцам, — сказал человек в сером костюме. — Но не будет ничего страшного, если ты немного прокатишься».
«Спасибо».
Двуколка мелко тряслась по дороге — Этцвейн постоянно оглядывался. Незнакомец невыразительно спросил: «Откуда ты, где живешь?»
Этцвейн не мог доверять опасные секреты первому встречному: «Сейчас я нигде не живу».
«Куда направляешься?»
«В Гарвий. Хочу подать жалобу Человеку Без Лица, чтобы он помог моей матери».
«Чем он поможет?»
Этцвейн еще раз оглянулся — ахульфов не было.
«Моя мать в несправедливом крепостном долгу, а теперь должна работать в сыромятне. Человек Без Лица может приказать, чтобы ее освободили. Долг она давно уже выплатила и переплатила, только никто не ведет правильный счет!»
«Как правило, Человек Без Лица не вмешивается во внутренние кантональные тяжбы».
«Я знаю, мне говорили. Но ко мне он, может быть, прислушается».
Незнакомец едва заметно улыбнулся: «Человеку Без Лица достаточно того, что кантональные законы соблюдаются буквально и неукоснительно. Почему ты думаешь, что, получив твою жалобу, он нарушит древние обычаи и все перевернет вверх дном, даже если хилиты в Башоне этого заслуживают?»
Этцвейн удивленно подскочил: «Как вы догадались?»
«Ты в рясе. У тебя башонский акцент. И ты упомянул сыромятню».
Этцвейну нечего было сказать. Он снова обернулся, мысленно умоляя быстроходца пуститься вскачь.
Как раз в этот момент ахульфы выпрыгнули на дорогу. Пригнувшись и вспотев от страха, Этцвейн смотрел через плечо как завороженный. В связи с какой-то особенностью мышления, не чувствуя запаха, ахульфы приходили в замешательство. Никакие объяснения и наказания не могли заставить их вести визуальный поиск. Этцвейн повернулся к человеку в сером костюме. Тот напустил на себя самый отстраненный, безразличный вид и сказал: «У меня нет возможности тебя защищать. Помогай себе сам».
Этцвейн снова взглянул назад, на дорогу. Через живую изгородь перебрались шалопаи с фермы. Ахульфы скалили зубы, кланяясь и оправдываясь, метались из стороны в сторону, демонстрируя готовность броситься в любом направлении по первому приказанию. Обозленные бесполезностью ищеек, крестьянские дети ругались и кричали. Один заметил удаляющийся экипаж, показал другим. Вся свора — пацаны и ахульфы — пустилась в погоню с удвоенным усердием.
Этцвейн испуганно спросил: «Мы не могли бы ехать быстрее? Меня догонят и убьют!»
Незнакомец смотрел вперед с каменным лицом, будто не слышал. Этцвейн отчаянно озирался — преследователи настигали экипаж, жизнь висела на волоске. Ахульфам обещали редкую возможность растерзать человека — что они не преминули бы сделать, огрызаясь и тявкая. Аккуратно перевязав бечевкой куски человечины, поделенные после продолжительной свары, ахульфы отнесли бы их в стойбище, чтобы прокоптить на костре.
Этцвейн спрыгнул на ходу и упал, кувыркаясь в дорожной пыли. Не чувствуя ни синяков, ни ссадин, он бросился вниз по крутому берегу, продрался сквозь заросли ольхи и погрузился по шею в журчащие желтоватые воды Лерне.
Куда теперь? Он никогда даже не пробовал плавать. Этцвейн держался за плакучие ветви, свисавшие к самой воде, разрываемый между боязнью утонуть и желанием спрятаться, окунувшись в реку с головой. Затрещали кусты: ахульфы спрыгнули с обочины в ольховник и просунули рычащие морды через сплетение ветвей. Этцвейн отпустил ветку, взялся за следующую, но потерял дно под ногами и поплыл, захлебываясь, цепляясь за камни, корни, ветви — течение несло его вдоль берега. Пропитавшийся водой шерстяной жилет мешал, тянул вниз. Схватившись за торчащий из берега воздушный корень, Этцвейн сбросил жилет, перевел дыхание. Частично сохранивший плавучесть благодаря оставшемуся пузырю воздуха, плотный зеленый жилет поплыл вниз по течению и привлек внимание пацанов, пытавшихся разглядеть что-нибудь через прибрежные заросли. С криками они помчались дальше вдоль реки.
Этцвейн ждал. Пробежав метров двадцать, преследователи обнаружили ошибку, остановились и стали спорить: куда делся воришка? Одному из ахульфов приказали переплыть реку и проверить, не выбрался ли беглец на другой берег. Ахульф залился скулящим воем, наотрез отказываясь соваться в воду. Пацаны решили вернуться туда, где впервые заметили жилет. Этцвейн отпустил корень и снова двинулся вниз по течению, наполовину плывя, наполовину карабкаясь вдоль берега. Он надеялся незаметно миновать своих мучителей.
На берегу наступила тишина: зловещее отсутствие звуков. Ноги Этцвейна начинали неметь — он осторожно подтянулся, взявшись за корень в основании куста. Движение не осталось незамеченным. Один из юных следопытов испустил торжествующий вопль. Этцвейн соскочил в воду, не успел ухватиться за ветку и стал тонуть, отнесенный течением от берега. Стараясь во что бы то ни стало держать голову над водой, панически молотя руками и дрыгая ногами, Этцвейн оказался посреди сужавшейся быстрины. Хватая ртом воздух пополам с водой, он чувствовал, что задыхается, захлебывается, идет ко дну. Другой берег был недалеко. Предприняв отчаянное последнее усилие, Этцвейн коснулся ногой скользкого дна. Сначала отталкиваясь пальцами ног и загребая руками, потом частыми прыжками, глубоко увязая в тине, он добрался до противоположного берега. Упав на колени в прибрежную грязь и вцепившись в спасительную ольху, он согнулся, сотрясаясь гулким булькающим кашлем.
С другого берега неслось улюлюканье — ахульфы уже пробирались к воде через ольховник. Этцвейн устало попытался подтянуться и пробраться через кусты, но берег оказался слишком высок и крут. Он побрел по мелководью вниз по течению. Один ахульф решился прыгнуть в реку, но поплыл, часто перебирая лапами, без упреждения, прямо к Этцвейну, и течение стало относить его в сторону. Этцвейн поднял со дна утонувший, отяжелевший от воды кусок дерева и изо всех сил швырнул его в ахульфа, угодив точно по мохнатой собачье-паучьей голове. Ахульф взвыл тонким голосом, тявкнул и вернулся к своим сородичам. Этцвейн шел вброд у самой кромки воды, часто перепрыгивая через висящие корни.
Крестьянские дети и ахульфы следовали за ним по другому берегу, за кустами. Вдруг они все сорвались с места и наперегонки помчались вперед — ниже по течению показался мост на пяти каменных арках, за ним начинался ярмарочный городок. Неутомимые гонители догадались перебежать реку по мосту и окружить беглеца прежде, чем тот выберется на берег. Этцвейн с тоской глядел на мутный бурлящий поток — ни за что он не отважился бы переплыть его еще раз. Он яростно атаковал заросли ольхи, игнорируя ссадины, уколы и порезы. В конце концов ему удалось кое-как пролезть и подтянуться примерно до середины двухметрового откоса над ольховником, заросшего скользким папоротником и колючей травой. Приподнявшись еще немного, он сорвался и со стоном упал спиной в кусты. Снова Этцвейн полез наверх, цепляясь ногтями, локтями, подбородком, коленями. Каким-то чудом ему удалось перевалить через край откоса и выползти на обочину набережной.
Тяжело дыша, он лежал лицом в пыли. Отдыхать нельзя было ни секунды. С помутневшими глазами Этцвейн приподнялся на четвереньки, встал на ноги.
Городок начинался метрах в пятидесяти справа. Напротив, в тенистом парке, сгрудились полдюжины телег и фургонов, весело раскрашенных в бледно-розовый, белый, лиловый, бледно-зеленый и голубой цвета.
Шатаясь и нелепо болтая руками, Этцвейн устремился к фургонам и подбежал к низенькому человеку с кислой физиономией, лет сорока, сидевшему на табурете и хлебавшему из кружки горячий чай.
Этцвейн попытался собраться с мыслями и выпрямился, но голос его срывался и хрипел: «Я... Гастель Этцвейн. Возьмите меня в труппу! Смотрите, я без ошейника. Я музыкант».
Коротышка чуть отпрянул, недоуменно насупился и вскинул голову: «Ступай, ступай себе! Ты что думаешь, мы принимаем кого попало? Тут собрались знатоки — попрошайки нам ни к чему. Иди, пляши на ярмарке!»
По дороге рысью приближались ахульфы, за ними бежали раскрасневшиеся малолетние садисты.
Этцвейн кричал: «Я не обманываю! Мой отец — друидийн Дайстар! Я играю на хитане!» Ошалело озираясь, он увидел инструмент, бросился к нему, схватил. Пальцы, грязные и мокрые, скользили по струнам, растянутые мышцы не слушались. Этцвейн пытался набрать последовательность аккордов, но произвел только нестройное бренчание.
Мохнатая черная рука крепко взяла его за плечо и потащила направо. Другая схватила за локоть и рванула налево. Ахульфы разразились оглушительным тявканьем — каждый утверждал, что настиг добычу первый.
Коротышка вскочил, уронив кружку, вытащил из связки дров сучковатую толстую палку и принялся яростно дубасить обоих ахульфов: «Прочь, адское отродье, прочь! Не смейте трогать музыканта!»
Подоспели сыновья фермера: «Какой он музыкант? Обычный вор, бродяга. Крадет добро, заработанное тяжелым трудом. Нам разрешили отдать его ахульфам».
Коротышка залез рукой в карман, бросил на землю пригоршню монет: «Музыкант не крадет, а берет — все, что ему нужно. Забирайте деньги и проваливайте!»
Пацаны обменялись унылыми возгласами, пошмыгали носами, погрозили Этцвейну кулаками, неохотно подобрали грязные монеты и удалились. Вокруг них, тявкая, пританцовывали ахульфы — они старались напрасно, не получив ни денег, ни мяса.
Коротышка снова уселся на табурет: «Сын Дайстара, говоришь? Какой позор, до чего докатился! Ну ладно, что было, то прошло. Возьми у женщин куртку и штаны, съешь что-нибудь. Посмотрим, что из тебя можно сделать».
Глава 6
Вымывшись и согревшись, наевшись супа с хлебом, Этцвейн тихонько вернулся к Фролитцу, сидевшему за столом под деревьями с плоской бутылью самогона. Этцвейн присел на скамью и смотрел, как Фролитц подгоняет новый язычок к мундштуку древорога. Этцвейн ждал. Фролитц, по-видимому, вознамерился игнорировать его существование.
Этцвейн пододвинулся ближе: «Вы разрешите мне остаться в труппе?»
Фролитц поднял голову: «Мы — музыканты. В нашей профессии нет места посредственности».
«Я буду очень стараться», — сказал Этцвейн.
«Одного желания недостаточно — нужны способности и характер. Настрой-ка вот этот хитан».
Этцвейн взял инструмент, настроил. Фролитц крякнул: «А теперь расскажи, как так получилось, что сын Дайстара шляется по задворкам, одетый в рваное тряпье?»
«Я родился в Башоне, в кантоне Бастерн, — объяснил Этцвейн. — Музыкант по имени Фельд Майджесто подарил мне хитан, но учиться играть мне пришлось самому. Я не хотел становиться хилитом и сбежал».
«Четкое изложение, без лишних украшений, — кивнул Фролитц. — С Фельдом я встречался, и не раз. На мой взгляд, он легкомысленно относится к ремеслу. Я предъявляю самые строгие требования — у нас никто не отлынивает. Что, если я тебя выгоню?»
«Пойду в Гарвий, просить Человека Без Лица дать мне ошейник музыканта и помочь моей матери».
Фролитц поднял глаза к небу: «Каким бредом забивают детям голову, черт знает что! По-твоему, Человек Без Лица расточает благодеяния каждому встречному-поперечному, явившемуся в Гарвий жаловаться на судьбу?»
«Он обязан рассматривать жалобы, иначе какой из него правитель? Поддерживать спокойствие в Шанте — в его же интересах, а для того, чтобы люди жили спокойно, должна существовать справедливость!»
«Трудно сказать, чего хочет Человек Без Лица. Об этом лучше не распространяться. Нас могут подслушивать — никогда не знаешь, кто стоит за фургоном. Говорят, он обидчив и злопамятен. Смотри, вон там, на дереве! Вчера ночью, пока я спал, кто-то пришел и повесил под самым носом. И никто ничего не видел и не слышал. От этих штучек становится не по себе».
Этцвейн прочел плакат:
«Говорим: АНОМЕ — подразумеваем: Шант!
Говорим: Шант — подразумеваем: АНОМЕ!
АНОМЕ и Шант — едины!
АНОМЕ с нами — всегда и везде!
Крамольные шутки — преступное вредительство.
Неуважение к власти равносильно подстрекательству к бунту.
С благосклонной недремлющей бдительностью!
С усердием, не знающим сомнений и сожалений!
С непреклонностью самодержавного могущества!
АНОМЕ — служит — Шанту!
АНОМЕ — наш ветровой!»
«Все правильно, — глубокомысленно кивнул Этцвейн. — Кто развешивает плакаты?»
«Откуда я знаю? — огрызнулся Фролитц. — Может, Человек Без Лица сам шныряет по ночам и пугает тех, кто болтает лишнее. Будь я на его месте, я бы тоже забавлялся. Не советую, однако, привлекать его внимание жалобами и требованиями. Тем более, если они справедливы и разумны».
«Как же так? Почему?»
«Зачем у тебя голова на плечах? Думай, пока не оторвали! Предположим, ты недоволен порядками в кантоне и желаешь, чтобы их изменили. Приезжаешь в Гарвий и подаешь петицию — самую разумную, самую обоснованную, самую справедливую. У Человека Без Лица три возможности. Он может удовлетворить просьбу и тем самым отдать кантональные власти на расправу возмущенной толпе — с непредсказуемыми последствиями. Он может тебе отказать — после чего каждый раз, открывая рот за кружкой пива в таверне, ты будешь попрекать Аноме и поносить его последними словами. Или он может без лишних слов оторвать тебе голову. Нет человека — нет проблемы».
Этцвейн почесал в затылке: «Значит, по-вашему, не нужно идти в Гарвий и подавать жалобу?»
«Плясать с ахульфами в диком ущелье приятнее и безопаснее».
«Тогда что мне делать?»
«То, к чему душа лежит. Стань музыкантом! Зарабатывай на жизнь, жалуясь на судьбу. Что есть музыка? Протест разумного существа, не согласного мириться с несправедливостью бытия! Протестуй, но протестуй без слов. Не поминай Человека Без Лица... что такое? Что ты играешь?»
Пробуя настроенный хитан, Этцвейн рассеянно перебирал струны. Продолжая играть, он сказал: «Ничего особенного. Я выучил только пять или шесть мелодий — из тех, что исполняли проезжие музыканты».
«Стой, стой, стой! — закричал Фролитц, зажимая уши. — Параллельные квинты, задержания на сильную долю, размер меняется в каждом такте? Где ты слышал такую тарабарщину?»
Этцвейн остановился, испуганно сглотнул: «Прошу прощения. Эту музыку я сам придумал».
«Дерзость! Самомнение невежества! Ты считаешь обычный репертуар ниже своего достоинства? Двадцать лет я упражнялся, разучивая сложнейшие образцы всех жанров! По-твоему, я зря потратил лучшие годы жизни? Все мои труды — насмарку? Теперь я должен наслаждаться исключительно вдохновенными импровизациями самородного гения, ниспосланного свыше мне в назидание?»
Пока побагровевший Фролитц набирал воздух для следующей тирады, Этцвейну удалось вставить слово в свое оправдание: «Ничего подобного, уверяю вас! Просто я никогда не слышал знаменитых произведений. Играл все, что приходило в голову».
«Гм. Импровизировать полезно, но не злоупотребляй новшествами — новшества хороши, когда они воспринимаются как естественное развитие традиций... Спрячь большой палец — что он делает посреди грифа? И почему я не слышу гремушки? Она что, для украшения?»
«Нет, конечно нет. У меня локоть болит — я сегодня расшибся».
«Ну, а зачем же бренчать на хитане, если рука болит? Сыграй-ка что-нибудь на древороге — вот, возьми».
Этцвейн с сомнением воззрился на духовой инструмент, перевязанный тугими кольцами жил: «Я еще не пробовал... не умею».
«Что?! — Фролитц изобразил крайнее изумление, выкатив глаза и разинув рот. — Так научись же! Настоящий музыкант не расстается с древорогом. И с тринголетом, и с кларионом, и с бутылкой. Мы не какие-нибудь теоретизирующие дилетанты, вроде Фельда с его бандой халтурщиков! Мы виртуозы! Бери древорог, начинай играть гаммы. Я скоро проверю, как продвигается дело — и смотри, не пускай петуха!»
Год спустя маэстро Фролитц и его труппа прибыли в Гарвий. Этцвейн уже надел ошейник музыканта. Гастролирующие оркестры редко посещали столицу, ибо искушенные жизнью обитатели Гарвия превыше музыки ценили искусство узнавать новости раньше других, сплетничать, вставляя модные выражения, стильно одеваться, завязывать полезные связи и производить впечатление. Вопреки советам Фролитца, Этцвейн отправился на площадь Корпорации и выстоял очередь к окошку, где за пять флоринов любой желающий подать прошение или жалобу Человеку Без Лица мог получить бланк петиции. Плакат, наклеенный у окошка, воодушевлял просителей:
«АНОМЕ рассматривает все петиции без исключения!
Сколько бы ни заплатил проситель — пять или пятьсот флоринов — все проблемы внимательно изучаются и решаются одинаково беспристрастно. Кратко, без лишних отступлений опишите сущность затруднения или упущения и дайте точное определение предлагаемого способа его устранения. Подача петиции еще не означает, что вы правы и что обвиняемая сторона нарушила закон — вполне возможно, что ваша точка зрения несправедлива. Если АНОМЕ откажет в удовлетворении вашей просьбы или жалобы, не поддавайтесь разочарованию, но сделайте полезные выводы.
Ищущий нелицеприятного суда получит искомое.
Ищущий подаяния уйдет с пустыми руками».
Этцвейн уплатил пять флоринов и получил от подьячего бланк петиции. Тщательно выбирая слова и выражения, он описал ситуацию в Башоне, указав на циничное пренебрежение хилитов к погашению крепостного долга женщин. «В частности, — писал Этцвейн, — госпожа Эатре давно уже выполнила все обязательства перед экклезиархом Оссо Хигаджу. Тем не менее, экклезиарх перевел ее на тяжелую работу в сыромятню. Прошу Аноме устранить несправедливость таким образом, чтобы госпожа Эатре в дальнейшем могла самостоятельно выбирать место жительства и род занятий, не считаясь с желаниями экклезиарха Оссо».
Рассмотрение дешевых петиций за пять флоринов часто задерживалось, но ответ на жалобу Этцвейна появился уже на следующий день. Содержание всех петиций и всех решений Аноме считалось публичным достоянием — их вывешивали на стене объявлений посреди площади. Дрожащими пальцами Этцвейн потянул к себе листок, помеченный цветовым кодом его ошейника.
Ответ гласил:
«АНОМЕ с одобрением отмечает заботу сына о благополучии матери. Законы кантона Бастерн недвусмысленно требуют, чтобы лицо, находящееся в крепостном долгу, могло предъявить подписанный кредитором счет с указанием всех сумм, выплаченных этим лицом кредитору, а также суммы первоначального долга и всех дополнительных задолженностей этого лица, начисленных кредитором.
Время от времени находящееся в крепостном долгу лицо пользуется продуктами питания, жильем, одеждой, услугами в области образования, услугами развлекательного характера, медикаментами и т. п., предоставляемыми за счет кредитора и превосходящими по стоимости, в сочетании с первоначальным долгом, итоговую сумму заработков этого лица, в каковом случае срок выплаты крепостного долга может быть продлен. Возможно, в данном случае имеет место такое положение вещей.
АНОМЕ выносит следующее решение: «Я повелеваю экклезиарху Оссо Хигаджу, по вручении ему настоящего документа, освободить госпожу Эатре, когда она сможет предъявить счет, свидетельствующий о полном погашении ею крепостного долга, включая дополнительные задолженности, в размере не более полутора тысяч флоринов или, в том случае, если вся сумма ее первоначального долга и дополнительных задолженностей еще не выплачена, когда какое-либо иное лицо передаст экклезиарху Оссо Хигаджу, от имени госпожи Эатре, полторы тысячи флоринов».
Другими словами, получив от вас этот документ и полторы тысячи флоринов, экклезиарх Оссо обязан освободить вашу мать, госпожу Эатре.
С надеждой и благорасположением,
АНОМЕ».
Решение Аноме привело Этцвейна в бешенство. Он тут же приобрел еще один бланк петиции и написал: «Где я возьму полторы тысячи флоринов? Я зарабатываю сто флоринов в год. Эатре заплатила Оссо в два раза больше, чем должна! Кто мне займет полторы тысячи — Аноме?»
Ответ не замедлил появиться на следующий день:
«АНОМЕ сожалеет о том, что не может использовать частные или общественные средства с целью предоставления займов крепостным должникам. Первоначальное решение остается неизменным и окончательным».
Ничего и никого не замечая, Этцвейн вернулся в гостиницу «Фонтеней», где Фролитц останавливался с труппой каждый раз, когда приезжал в Гарвий. Где бродячий музыкант мог достать полторы тысячи флоринов?
Через пять лет в Масчейне, столице кантона Массеах, что на южных склонах Хвана, Этцвейн повстречался со своим отцом, друидийном Дайстаром. Труппа Фролитца, поздно прибывшая в город, могла свободно провести вечер. Этцвейн (ему уже почти исполнилось восемнадцать) и Фордайс, на три года младше, слонялись от таверны к таверне, узнавая новости и сплетни, критически прислушиваясь к исполнявшейся музыке.
В трактире «Двурыбица» выступали «Серо-сине-зеленые интерполяторы»[15] маэстро Рикарда Окстота. Во время перерыва Этцвейн разговорился с хитанистом, скромно преуменьшавшим свои возможности: «Хочешь услышать настоящую игру на хитане? Зайди в трактир «Старый Караз» напротив, послушай друидийна».
Этцвейн и Фордайс не преминули скоро появиться в «Старом Каразе» и заказали по бокалу шипучего зеленого пунша. Друидийн сидел в углу, мрачно разглядывая публику — высокий черноволосый человек, сильный, нервный, с лицом мечтателя, разочарованного мечтами. Друидийн взял хитан, проверил настройку, поправил пару колков и набрал три аккорда, чуть наклонив голову и неодобрительно прислушиваясь. Его темные глаза блуждали по лицам, остановились на Этцвейне, опустились к хитану. Теперь он заиграл — медленно, с трудом, пробуя то одно, то другое, будто нащупывая форму мелодии в темноте, с выражением рассеянного старика, погруженного мыслями в прошлое и бесцельно собирающего метлой листья, разлетающиеся по ветру. Почти незаметно звуки приобретали уверенность, пальцы быстрее находили места на грифе, как карандаш математика, уже увидевшего решение задачи и пишущего вывод формулы — обрывочные намеки, несогласованные ритмы сплелись в единый организм, наделенный душой, каждая нота стала предопределенной, неизбежной, необходимой.
Слушая, Этцвейн переставал видеть окружающее — и начинал видеть что-то другое. Друидийн исполнял сложную, непривычную музыку с величественным убеждением, без напряжения. Почти случайно, мимоходом, он сообщал мучительные вести, необратимые, как время. Он говорил о золотистых волнах океана, о недостижимых островах. Он наполнял сердце тщетным сладострастием жизни — только для того, чтобы положить конец всем иллюзорным тайнам краткой иронической каденцией и ударом локтя по гремушке.
Ужин друидийна был изысканно прост: маринованный сухопутный краб под острым соусом, с перловым гарниром и дынными колобками, присыпанными сладкой пыльцой. За ужин давно заплатили.[16] Хитанист уже осушил бутыль эликсира Гургеля — рядом, на столе, стояла еще одна, но он больше не интересовался выпивкой. Музыка постепенно стихла и сменилась молчанием, как караван, исчезнувший за горизонтом.
Фордайс наклонился к соседнему столу и тихо спросил: «Как зовут друидийна?»
«Дайстар».
Фордайс удивленно повернулся к Этцвейну: «Твой отец?»
Не находя слов, Этцвейн молча кивнул.
Фордайс вскочил: «Пойду скажу ему, что здесь его кровный сын, тоже хитанист!»
«Нет! — сказал Этцвейн. — Не нужно ничего говорить».
Фордайс медленно сел: «Почему же нет?»
«У него, наверное, уйма детей от разных женщин. Само собой, из них многие стали музыкантами. Зачем отнимать у человека время пустыми любезностями?»
Фордайс пожал плечами, но возражать не стал.
Снова Дайстар ударил по струнам. Теперь музыка напоминала о путнике, идущем в ночи по незнакомой дороге — время от времени путник останавливался полюбоваться на звезды.
По какой-то причине, непонятной ему самому, Этцвейн чувствовал себя неудобно. Между ним и Дайстаром — незнакомым ему, в сущности, человеком — существовало напряжение. Этцвейн не мог предъявить Дайстару никаких претензий, не мог упрекнуть его за поступок или бездействие. Долг Дайстара перед Эатре был не больше долга любого из путников, заходивших в хижину на Аллее Рододендронов — так же, как они, он уплатил сполна и пошел своей дорогой. Этцвейн даже не пытался понять, что происходило у него в голове. Он извинился перед Фордайсом, вышел из «Старого Караза», глубоко подавленный, и побрел в табор Фролитца. Мысль о судьбе Эатре не давала ему покоя. Он ругал себя за лень, за отсутствие прилежания. Ему удалось скопить немного денег, хотя заработка едва хватало. Этцвейн не жаловался, трудности жизни его не пугали. В труппе Фролитца он нашел кров и пищу. Кроме того, Фролитц давал уроки и предоставлял возможность практиковаться. Музыканты — за исключением друидийнов — редко богатели. Поэтому оркестранты нередко уходили попытать счастья в одиночку. Успеха добивались немногие. Большинство, обнаруживая, что никто не желает платить за их еду и ночлег, пытались украшать исполнение бравурными пассажами и претенциозными манерами, а когда и это не помогало, начинали петь песни под аккомпанемент хитана, развлекая крестьян, детей и другую музыкально невежественную публику.
Вернувшись в табор, Этцвейн долго предавался мрачным размышлениям. Иллюзий не было: недостаточное мастерство и недостаточный жизненный опыт не позволяли ему стать друидийном. Что ждало в будущем? Жизнь в труппе Фролитца не так уж плоха: хотел ли он большего? Этцвейн открыл тумбочку у постели, вынул хитан. Усевшись на ступенях фургона, он стал играть медленную меланхолическую мелодию — под нее любили танцевать паваны жители Ильвийского кантона. Звуки выходили сухими, вымученными, безжизненными. Вспомнив упругую, настойчивую музыку, вырывавшуюся из-под пальцев Дайстара, музыку, жившую своей жизнью по своим законам, Этцвейн сначала поддался унынию, потом печали, потом — горечи и гневу. Он гневался на Дайстара. на себя, на весь мир. Уложив хитан, он бросился на койку, пытаясь привести в порядок мысли, вихрем кружившиеся в возбужденной молодой голове.
Прошло еще пять лет. Маэстро Фролитц и его труппа, теперь гордо называвшаяся «Розово-черно-лазурно-глубокозеленой бандой», приехала в Брассеи, столицу кантона Эльфин, недалеко от Гарвия. Этцвейн стал гибким, высоким, нервно-мускулистым молодым человеком с неприятно-хмурым выражением лица. Черноволосый, с кожей цвета желтоватого загара и тонкими губами, от природы чуть искривленными горькой усмешкой, он не был расположен к веселью и болтовне, предпочитая замкнутое, почти одинокое существование. Голос его, мягкий и негромкий, приобретал живость и выразительность только после изрядной выпивки. Некоторые оркестранты укоряли его — за спиной — в необоснованном высокомерии, другие считали, что он тщеславен. Только маэстро Фролитц часто составлял ему компанию — ко всеобщему недоумению, ибо все, что волновало и раздражало Фролитца, судя по всему, нисколько не интересовало Этцвейна, а все, на чем Фролитц настаивал с такой горячностью, Этцвейн, казалось, подвергал молчаливому сомнению. Когда Фролитца спрашивали, что его так привлекает в нелюдимом отщепенце, тот презрительно усмехался — в Этцвейне он нашел терпеливого слушателя, удачно дополнявшего разглагольствования маэстро краткими саркастическими замечаниями.
Разбив табор на общинном выгоне Брассей, Фролитц, в сопровождении Этцвейна, обходил таверны и концертные залы города, чтобы узнать новости и предложить услуги своей труппы. Поздно вечером они оказались в трактире гостиницы «Церк» — гулком, плохо освещенном помещении с белеными стенами из глинистого известняка и деревянной крышей, опиравшейся на потемневшие от времени бревенчатые столбы. Потолочные перекладины наклонялись и перекрещивались под самыми удивительными углами. С перекладин свисали всевозможные сувениры, накопленные за долгие годы существования заведения — закопченные дымом кривляющиеся деревянные маски, пыльные стеклянные фигурки животных, череп ахульфа, три сушеные бурые тыквы, небольшой железный метеорит, геральдические шары, всякая всячина.
Сегодня «Церк» почти пустовал в связи с семидневным постом, предписанным Парапластом, кантональным Наместником Создателя. Фролитц подошел к старому знакомому, трактирщику Лою. Пока они торговались, обмениваясь шуточками и передразнивая друг друга, Этцвейн стоял в стороне, рассеянно читая листовки и объявления, наклеенные на столбах, но не замечал смысла прочитанного. Его мысли были заняты другим: утром он получил неожиданно большую сумму денег, существенно пополнившую его сбережения. Но достаточно ли? В двадцатый раз он подсчитал в уме, в двадцатый раз получил тот же результат — денег почти хватало, но могло не хватить. Как устранить недостачу? Занять у Фролитца нельзя было по крайней мере до начала следующего месяца — труппа едва сводила концы с концами. Но время шло, цель была близка, нетерпение снедало Этцвейна! Содержание листовок наконец стало доходить до его сознания — по большей части это были стандартные призывы к благонравию:
«НИЧТО — безлично, равносильно, однозначно для всех. Тот, кого никто не знает, никем не может быть подкуплен.
Выполняйте указы с готовностью и рвением!
Кто стоит рядом? Кто идет навстречу? Может быть, САМО ПРОВИДЕНИЕ?
Счастливые народы Шанта! Из всех шестидесяти двух кантонов да прозвучит единогласная хвала! Как может зло торжествовать, когда за каждым нашим шагом, за каждым нашим словом следит ВСЕВИДЯЩИЙ и ВСЕСЛЫШАЩИЙ? Да здравствует АНОМЕ!»
Текст плакатов печатали на пурпурной бумаге, символизировавшем величие, в поле серовато-розового цвета, олицетворявшего всемогущество.
На стене висело объявление крупнее пропагандистских листовок, напечатанное охрой по черному — цветами, свидетельствовавшими о срочности и важности сообщения:
«Внимание! Будьте осторожны! На склонах Хвана замечены крупные банды рогушкоев! Если вам дорога жизнь, не приближайтесь к пагубным тварям!»
Фролитц и Лой заключили, наконец, полюбовную сделку: «Розово-черно-лазурно-глубокозеленая банда» получила ангажемент на ежевечерние выступления в «Церке» в течение следующих двух-трех недель. В подтверждение взаимопонимания Лой налил Фролитцу и Этцвейну по большой кружке зеленого сидра. Этцвейн спросил: «Когда появилось черно-охряное предупреждение?»
«О рогушкоях? Тому два или три дня. Забрались в кантон Шаллу, стащили дюжину женщин».
«Человек Без Лица обязан действовать! — заявил Этцвейн. — Разве охрана и восстановление порядка — не основная функция Аноме? Он обязан нас защищать. Иначе зачем мы носим ошейники?»
Фролитц, говоривший с только что зашедшим в трактир приезжим в походном костюме, настороженно отвлекся, чтобы посоветовать хозяину заведения: «Не обращай внимания, парень еще не разобрался в жизни».
Лой, однако, раздул пухлые щеки и упрямо проигнорировал Фролитца: «Дураку ясно — пора что-то предпринять! О рогушкоях ходят самые мерзкие слухи. Говорят, в ущельях Хвана их целые полчища, копошатся, как насекомые. Причем заметьте: никаких женщин, одни самцы».
«Как они размножаются? — спросил Этцвейн. — Я чего-то не понимаю».
«Насилуют женщин — всех, какие попадаются. Насколько мне известно, в результате всегда рождается детеныш мужского пола».
«Странно... Откуда они взялись, кто такие?»
«Из Паласедры, — многозначительно поднял палец Лой. — Чем они там занимаются, их биоконструкторы? Экспериментируют с людьми, вот чем! Без конца ускоряют селекцию — там это называют «генопластикой» — причем раз за разом у них что-нибудь не так, нарождается всякая пакость. Так вот, я думаю — и не только я — что эти твари удрали из паласедрийской генопластической лаборатории и перебрались в Шант через Большую Соленую топь. На нашу голову!»
«Смотри, не сегодня-завтра рогушкои завалятся в «Церк» тратить награбленное! — отозвался Фролитц, сидевший за стойкой поодаль. — Знаменитые выпивохи! Трактирщик, вооружись мудростью веков: вечно пьяный — вечно в долгу!»
Лой с сомнением качал головой: «Они мне всех клиентов распугают. Кому охота чокаться с двухметровым краснорожим дьяволом? Они и говорить-то не умеют. Нет уж, увольте! Гнать их в шею, назад в Паласедру!»
«Так-то оно так, без рогушкоев всем спокойнее, — сказал Фролитц. — Но как с ними справиться? Кто прикажет их выгнать — и кому?»
«За ответом недалеко ходить, — заявил Этцвейн. — Человеку Без Лица придется пошевелиться». Этцвейн ткнул большим пальцем в сторону пурпурно-розовых плакатов: «Он у нас вездесущий-всемогущий, ему и расхлебывать!»
Фролитц обернулся к приезжему и сообщил театральным шепотом: «Этцвейн хочет, чтобы Человек Без Лица отправился в Хван и собственноручно надел ошейник на каждого рогушкоя».
«Чем такое решение хуже любого другого?» — недобро усмехнулся Этцвейн, опрокидывая кружку.
В трактир ворвался юный потомок Лоя, выполнявший обязанности привратника в гостиничном флигеле: «Слышали? На складе Мак-Кабея у взломщика слетела голова — полчаса не прошло! Человек Без Лица у нас в Брассеях!»
Присутствующие инстинктивно огляделись по сторонам. «Ты знаешь, о чем говоришь, или языком треплешь? — грозно вопросил Лой. — Склад не в первый раз грабят — Мак-Кабей мог поставить капкан-гильотину».
«Ничего не капкан! Ошейник взорвался! Видать, Человек Без Лица стоял за углом».
«Подумать только! — почти прошептал Лой. — Склад через дорогу, в двух шагах...»
Резко повернувшись на высоком табурете, Фролитц откинулся спиной на край стойки. «Ну вот, — сказал он Этцвейну. — Пока ты ворчал — «Человек Без Лица того не делает, сего не делает!» — он тут как тут, не зевает! Дойдет очередь и до рогушкоев, подожди».
«Не обязательно».
Фролитц проглотил полкружки крепкого зеленого сидра и подмигнул незнакомцу-приезжему — худощавому высокому человеку с копной мягких белых волос и выражением спокойного примирения с превратностями судьбы на строгом неподвижном лице. Возраст его не поддавался определению — в нем уживалось что-то несомненно старческое и нечто неуловимо юношеское. «Взломщик потерял голову, — продолжал наставлять Этцвейна Фролитц. — Вывод прост и ясен: не нарушай закон! И прежде всего не кради — как все мы только что убедились, вор поплатился жизнью за присвоение имущества».
Лой нервно потирал подбородок: «Все-таки, в каком-то смысле, наказание кажется чрезмерным. Да, взломщик поживился чужим добром. Нехорошо. Но заслуживает ли он немедленной смерти? Вдруг он молод, глуп, голоден? Может быть, из него еще вышло бы что-нибудь полезное. Конечно, таковы законы Эльфина, и Человек Без Лица только выразил волю большинства. И все же — на каких весах мешок зерна и жизнь человека весят одинаково?»
Седой незнакомец решил высказать свое мнение: «А как иначе? Вы упускаете важнейшее обстоятельство. Собственность и жизнь вполне соразмерны, если вспомнить, что собственность есть результат человеческого труда. По существу, собственность и есть жизнь в той мере, в какой владелец имущества потратил время и силы на ее приобретение. Вор похищает жизнь. Любая кража, таким образом — частичное убийство».
Фролитц ударил кулаком по стойке: «Никогда не слышал более здравого рассуждения! Лой, налей-ка нашему собеседнику чего-нибудь получше за мой счет — его взгляды поучительны! Уважаемый, как прикажете к вам обращаться?»
Незнакомец сказал Лою: «Кружку зеленого сидра, пожалуйста». Чуть повернувшись на стуле, он обратился к Фролитцу и Этцвейну: «Меня зовут Ифнесс Иллинет. Я меркантилист-коммивояжер».
Этцвейн давно уже исподлобья поглядывал на холеного чужестранца. Воспоминание жгло его обидой. Он так и не простил владельца двуколки, десять лет тому назад безразлично бросившего на произвол судьбы оборванца, загнанного ахульфами. Меркантилист? Этцвейн сомневался. Фролитц не сомневался, но заметил: «Не каждый день удается встретить коммивояжера, умеющего логически обосновать нравственность закона».
«Меркантилисты усядутся за стол и твердят, как заведенные: о скидках, процентах, накладных и сроках доставки — уши вянут, — подтвердил Лой. — Трактирщик — другое дело! Трактирщика хлебом не корми — дай поболтать о высоких материях!»
Ифнесс Иллинет осторожно поджал губы: «Все мыслящие люди — меркантилисты не в меньшей степени, чем трактирщики и музыканты — пытаются связать закономерности и случайности своей профессии с более обобщенными, абстрактными идеями. Мы занимаемся торговлей и поэтому чрезвычайно чувствительны к хищениям, непосредственно угрожающим нашему благополучию. Кража — быстрый, простой и дешевый способ приобретения товара. Законная покупка того же товара — длительное, сложное дело, сопряженное со множеством неприятностей и дополнительных расходов. Следует ли удивляться тому, что воровство широко распространено? При этом оно подрывает основы существования меркантилиста — мы испытываем к ворам и мошенникам ужас и отвращение подобно музыкантам, вынужденным отбиваться от любителей-фанатиков, с энтузиазмом прерывающих выступление оркестра фальшивым пением и какофонией волынок и барабанов».
Фролитц болезненно поморщился.
Лой выставил полную кружку. Ифнесс пригубил зеленого сидра: «Разрешите повторить — когда вор крадет имущество, он отнимает жизнь. Я человек сдержанный, что для меркантилиста, конечно, необычно. На хищение одного дня я могу посмотреть сквозь пальцы. Хищение недели вызовет у меня возмущение. Похитителя года жизни я способен убить на месте».
«Совершенно верно! — воскликнул Фролитц. — Каждому вору следовало бы разъяснить вашу точку зрения. Этцвейн, ты слушаешь?»
«Не нужно показывать на меня пальцем, — сказал Этцвейн. — Я не вор».
Фролитц, несколько разгоряченный выпивкой, уже не первой за этот вечер, бросился с готовностью успокаивать безмятежного Ифнесса: «Что правда, то правда! Он не вор, он музыкант! Становится виртуозом — благодаря моим урокам. В свободное время прилежно занимается. Играет на шести инструментах, может исполнить любую партию в двух тысячах оркестровых номеров! Если я забуду аккорд, Этцвейн не подведет, подскажет знаком. Обычно сбережения труппы расходуются на ремонт и покупку инструментов, но сегодня особый день. Утром я вручил Этцвейну премию — триста флоринов».
Ифнесс одобрительно кивнул: «Достойное подражания вложение времени и средств».
«В какой-то мере, — остыл Фролитц. — С другой стороны, Этцвейн упрям и строит загадочные планы. К тому же скуп. Любовно откладывает каждый флорин, без конца пересчитывает монеты, будто их от этого прибавится. Какой музыкант не раскошелится на веселую попойку? Только не Этцвейн! Сидит трезвый, как белая ворона. Вот и поплатился. Я когда-то обещал ему премию в пятьсот флоринов, а теперь решил ограничиться тремястами — в наказание за необщительность, не подобающую музыканту».
«Вы не опасаетесь, что такая воспитательная мера усугубит его бережливость и еще больше отпугнет от участия в застолье?»
«Совсем наоборот: пусть держит ухо востро. Музыкант должен быть благодарен учителю за любую мелочь. Я ему передал весь опыт. Я его сделал, можно сказать — по крайней мере, развил в нем лучшие способности. За худшие наклонности Этцвейн должен благодарить, по всей видимости, некоего хилита Оссо, приходящегося ему «духовным отцом»».
«Я направляюсь на восток и буду проезжать через Бастерн, — вежливо сказал Ифнесс, повернувшись к Этцвейну. — Если мне встретится хилит по имени Оссо, я могу передать ему ваше письмо или устное сообщение».
«Не беспокойтесь, — отказался Этцвейн. — Я сам еду в Башон».
Фролитц резко повернулся на табурете, сердито воззрившись на Этцвейна: «Что? Что я слышу? Мне ты не сообщал о таких планах!»
«Конечно, нет! Если бы я заикнулся о поездке, вы бы мне и трехсот флоринов не дали. В любом случае, я твердо решил ехать здесь и сейчас — и сразу об этом сказал».
«Что будет с труппой? Я уже составил программу, договорился с Лоем! Придется всех пересаживать, да и оркестр без тебя не тот!»
«Я уеду ненадолго. А когда вернусь, платите мне больше — раз я такой незаменимый оркестрант».
Фролитц поднял мохнатые брови: «Незаменимых нет — кроме меня! Что поделаешь — буду играть на хитане и древороге одновременно. И сыграю лучше всех желторотых школяров вместе взятых!» Фролитц стукнул кружкой по стойке: «Тем не менее, чтобы старина Лой не обижался, придется найти тебе замену — опять издержки, опять головная боль! Сколько времени тебя не будет?»
«Примерно три недели».
«Три недели?! — взревел Фролитц. — Ты что, собрался лечить подагру на Ильвийском взморье? Три дня на дорогу в Башон, двадцать минут на дела, три дня на возвращение в Брассеи. Это все!»
«Это было бы все, если бы я летел воздушной дорогой, — возразил Этцвейн. — Но мне придется идти пешком или ехать в фургоне».
«Новый приступ скупости? Чем тебе не нравится гондола? Во что она обойдется?»
«Не меньше тридцати флоринов в один конец».
«Ну и что? Где твоя гордость? Музыкант из «Розово-черно-лазурно-глубокозеленой банды» не путешествует, как собачий парикмахер!» Фролитц повернулся к содержателю гостиницы: «Лой, выдай этому нахалу шестьдесят флоринов авансом, за счет труппы!»
С сомнением почесав лысину, трактирщик направился к кассе. Фролитц взял у него деньги, звякнул столбиком монет по стойке перед Этцвейном: «Вот, бери и езжай! Главное, не поддавайся на уговоры других директоров трупп! Не сомневаюсь, что тебе предложат больше, чем я плачу — но в таких предложениях всегда кроется подвох».
Этцвейн рассмеялся: «Вы меня знаете — я не уйду в другую труппу. Вернусь через неделю, самое большее через десять дней. Уеду с первой гондолой. Дела в Башоне не займут много времени».
Фролитц хотел было посоветоваться с меркантилистом, но его место пустовало: Ифнесс Иллинет незаметно удалился.
Глава 7
Ураган налетел с Зеленого океана. Кантоны Майе и Эреван затопило, часть континентальной магистрали смыло горными потоками. Отправление гондол задерживали два дня, пока ремонтные бригады протягивали бесконечный канат, временно заменявший пазовый рельс.
Этцвейн успел зарезервировать место в гондоле «Аспер», вылетавшей из Брассей раньше других. Взойдя на борт, он занял плетеное кресло в переднем ряду. За ним вошли другие пассажиры. Последним явился Ифнесс Иллинет.
Этцвейн не подавал вида, что узнаёт попутчика. Ифнесс, однако, сразу заметил Этцвейна и, после едва заметного колебания, присел рядом: «Судя по всему, нам предстоит составить друг другу компанию — на некоторое время».
Этцвейн холодно отозвался: «Очень рад».
Двери закрыли, опустили поручни — при сильной бортовой и килевой качке пассажирам приходилось крепко держаться. Ветровой зашел в рубку, проверил лебедки, выпускные клапаны и механизм сброса балласта, после чего подал сигнал станционной бригаде. Рабочие выкатили переднюю тележку каретки в пазовый рельс — «Аспер» поднялся высоко в воздух. Тормоза ходовой каретки высвободили. «Аспер» танцевал, нетерпеливо порываясь вслед за ветром. Подкрутив лебедки, ветровой туго натянул тросы — гондола остепенилась и устремилась вперед. Далеко внизу жужжали ролики каретки.
Ифнесс заметил полное спокойствие Этцвейна: «Вы нисколько не боитесь? Вам уже приходилось летать?»
«Давным-давно».
«В детстве? Наверное, тогда воздушная дорога произвела на вас большое впечатление».
«Незабываемое».
«В гондоле, под парусом, я не совсем в своей тарелке, — признался Ифнесс. — Хрупкая, ненадежная конструкция! В сущности, корзина из гибких прутьев, веревки, тончайшая пленка, летучий газ — больше ничего. Хотя паласедрийские планеры еще опаснее. В каждой стране пользуются транспортом, сообразным национальному темпераменту. Насколько я понимаю, вы направляетесь в Башон?»
«Я намерен выплатить крепостной долг моей матери».
Ифнесс на мгновение задумался: «Может быть, вам лучше было бы поручить это дело посреднику из тех, что нанимают рабочих и перевозят их из кантона в кантон. Хилиты — лукавые прохвосты, деньги возьмут, а обещанного не сделают, причем благовидный предлог всегда найдется».
«Не сомневаюсь, что такая попытка будет предпринята. Но у них ничего не получится. У меня с собой приказ Человека Без Лица — хилитам придется подчиниться».
«Ага! Тем не менее, на вашем месте я не терял бы бдительности. Хилитов, при всей их отрешенности от мирской суеты, редко удается провести вокруг пальца».
Помолчав, Этцвейн заметил: «Надо полагать, вы хорошо знакомы с хилитами».
Ифнесс Иллинет позволил себе слегка усмехнуться: «Любопытнейший культ! Классический пример догматической рационализации физических потребностей — элегантное решение, почти совершенный структурный образец. Вы так не считаете? Но посудите сами: группа наркоманов, еженощно доводящих себя до лихорадочных эротических галлюцинаций курением ядовитого препарата под предлогом религиозного подвижничества — разве это не высшее проявление пренебрежения к реальности, свойственного любому аскетизму? Социальный механизм, необходимый для поддержания такого положения вещей, вам хорошо известен. Как обеспечить долговечность группы, неспособной к самовоспроизведению? Посредством совращения чужих детей, посредством постоянного вливания свежей крови в загнившую. В нормальных условиях, однако, родители защищают детей любой ценой. Как организовать бесперебойную поставку труднодоступного товара и даже извлекать немалую выгоду из процесса, способного разорить самого бездушного работорговца? Посредством изобретательного учреждения Аллеи Рододендронов. Восхитительная наглость, бесстыдное обнажение преступного происхождения власти!»
Энтузиазм Ифнесса неприятно поразил Этцвейна. Он холодно ответил: «Я родился на Аллее Рододендронов, меня постригли в чистые отроки. Хилиты не вызывают у меня ничего, кроме отвращения».
Ифнесс нисколько не смутился — скорее, только утвердился в намерении развлечься: «Хилиты прекрасно приспособились к условиям окружающей среды, хотя, пожалуй, чрезмерно специализировались. Что произойдет, например, если у них больше не будет доступа к гальге? На протяжении поколения — или даже быстрее — вся общественная структура изменится, так или иначе. Возможны различные варианты».
Этцвейн подумал, что Ифнесс с легкостью жонглировал выражениями, свойственными скорее специалисту в области социально-исторического анализа, нежели коммивояжеру. «Какой товар вы продаете? — спросил он. — Допускаю, что, будучи меркантилистом, вы занимаетесь торговлей».
«Не совсем так, — ответил Ифнесс Иллинет. — Я работаю по контракту на купеческую ассоциацию, поручившую мне поиск новых рынков сбыта. Естественно, приходится много ездить, чтобы изучать ситуацию на местах».
«Интересная профессия», — заметил Этцвейн.
«Бесспорно. Мне она подходит как нельзя лучше», — согласился Ифнесс.
Этцвейн взглянул на ошейник попутчика: «Судя по пурпурным и зеленым полоскам, вы обосновались в Гарвии?»
«Конечно, в Гарвии», — Ифнесс извлек из саквояжа сборник «Царства древнего Караза» и принялся читать.
Этцвейн отвлекся просторами, открывавшимися за бортом. Прошел час. «Аспер» остановился на боковом пути, чтобы пропустить пару гондол, спешивших на восток под круто поставленными парусами.
В полдень ветровой стал продавать желающим горячий чай, пластинки сушеного фруктового джема, булочки, полоски вяленого мяса.
Ифнесс отложил книгу и закусил. Этцвейн предпочитал экономить средства — их едва хватало. Покончив с полдником, Ифнесс тщательно вытер руки чистой салфеткой и вернулся к чтению.
Еще через час «Аспер» приблизился к Брассейскому разъезду в кантоне Перелог. Каретку гондолы перевели на путь продольной континентальной магистрали. Ветер посвежел, но дул почти навстречу с левого борта, в связи с чем гондола не могла двигаться быстрее ветра. Перед заходом солнц ветер полностью стих, и «Аспер» неподвижно повис над заросшим вереском альпийским лугом в кантоне Теней.
Солнца провальсировали за горизонт — небо, за четырьмя прослойками яблочно-зеленых облаков, разгорелось фиолетовым заревом. Темнота наступила быстро, с кормы робкими дуновениями повеял ночной бриз. «Аспер» двинулся вперед, но не быстрее бодро шагающего человека.
Ветровой подал легкий ужин — сыр, вино и пресное сухое печенье, развесил гамаки. Не находя других занятий, пассажиры устроились в гамаках и уснули.
Поздно вечером следующего дня «Аспер» прибыл в Ангвин, в верховьях Большого ущелья. Здесь кончался пазовый рельс. Приводной канат провисал над ущельем двумя едва различимыми белесыми дугами, кончавшимися на платформе Ангвинской развязки, куда много лет тому назад — прошлое казалось поблекшим сном — Этцвейна привезли из Карбада работать помощником перецепщика. Этцвейн подумал: «Неужели Финнерак еще работает на станции?»
«Аспер» должен был следовать дальше по продольной магистрали, над южными склонами Хвана. Пассажиры, продолжавшие путь на север, вышли в Ангвине. Их было четверо: Этцвейн, пара коммерсантов-закупщиков, направлявшихся в Дублей на дальнем берегу кантона Одинокий Мыс, и неизбежный Ифнесс Иллинет.
Гондолы, означенной в расписании движения по Северной ветке, еще не было — ее задерживал штиль. Пассажирам, ожидавшим пересадки, пришлось ночевать в отеле «Ангвин».
«Аспер» взмыл в темнеющее небо, удерживаемый тросами на приводном канате. В воротильне под отелем бурлаки налегли на лямки — гондола медленно поплыла над Большим ущельем к платформе развязки. Этцвейн не мог заставить себя последовать за двумя закупщиками и пойти посмотреть на бурлаков, крутивших ворот.
Солнца заходили одно за другим, ненадолго всплывая над горизонтом и снова скрываясь, уже окончательно. Верхняя часть горы Миш и далекие пики зарделись теплым малиновым светом. Сумрачное ущелье наполнилось тьмой. Этцвейн и закупщики пили горячий пряный сидр на веранде отеля. Когда стюард принес поднос с консервированными фруктами, один из закупщиков спросил: «В ущелье нынче много рогушкоев?»
«Почти не появляются, — отвечал стюард. — В свое время перецепщики на развязке их часто видели, но, по слухам, теперь они перекочевали на восток, глубже в Дебри».
Второй закупщик возразил: «На прошлой неделе рогушкои грабили поселок в Шаллу, а это на западе».
«Верно! На самом деле никто ничего не знает. Что мы будем делать, если рогушкои нападут на Ангвин? Ума не приложу».
«Ущелье служит своего рода препятствием», — заметил второй закупщик.
Стюард уныло посмотрел в синеватый мрак за балюстрадой веранды: «Недостаточным, на мой взгляд, судя по тому, что рассказывают об этих дьяволах. Если бы у нас наверху были женщины, я по ночам глаз не сомкнул бы. Рогушкои редко убивают мужчин, разве что для развлечения, но только покажи им женщину — их ни огнем, ни водой не остановишь. По-моему, с этой напастью пора что-то делать».
Из полутьмы раздался голос Ифнесса, незаметно присевшего рядом: «Что, по вашему, можно было бы предпринять?»
«Нужно известить Человека Без Лица — так, чтобы до него наконец дошло, черт побери! Думаю, следует устроить кордоны вокруг Хвана — даже если для этого потребовалось бы призвать всех мужчин Шанта, способных носить оружие — и постепенно стягивать кольцо, заставив рогушкоев собраться в кучу, а потом перебить всех до единого! Когда бойцы с севера, востока, юга и запада встретятся на вершине горы Скарак и увидят только человеческие лица — только тогда мы будем знать наверняка, что избавились от захребетников!»
Второй закупщик покачал головой: «Слишком сложно — не получится. Они попрячутся в пещерах и брошенных рудниках. Нет, у меня другое предложение — нужно отравить...» — он дал определение соблазнительной приманки в весьма неприличных выражениях.
«А почему бы и нет? — воскликнул его коллега. — Рогушкои слетятся, как мухи на дохлятину! Только ядом их и можно вытравить, помяните мое слово».
Но автор блестящей идеи уже сомневался: «Не стал бы возлагать все надежды на один способ уничтожения. В конце концов, рогушкои не насекомые. Это человеческие выродки, с мозгами — недаром они появились из-за Соленой топи. О паласедрийцах подозрительно давно ничего не слышно. По-вашему, почему они затаились? Потому что сами рисковать не хотят, а вместо себя послали рогушкоев, вот почему!»
Вмешался стюард: «Мне все равно, откуда они взялись, лишь бы их не было. Если можно загнать их в Паласедру, туда им и дорога! Только сегодня по радио передавали про погром, устроенный рогушкоями в рыбацком селении на Утреннем берегу. Мужчин перебили, женщин изнасиловали и увели с собой. Деревню сожгли — ничего не осталось».
«Уже на восточном берегу?» — пробормотал Ифнесс.
«Так сказали в новостях. Сначала в Шаллу на западе, потом на Утреннем берегу, на востоке. Весь Хван кишит рогушкоями!»
«Не обязательно. Они могут расходиться кольцевым фронтом», — заметил Этцвейн.
Первый закупщик величественно провозгласил: «Будьте уверены, Человек Без Лица готовится к обороне! У него нет другого выхода».
Стюард хмыкнул: «Он далеко, в Гарвии. Какое ему дело до нашей безопасности?»
Закупщики одновременно поджали губы. «Я не стал бы выражаться так безоговорочно, — сказал один. — Человек Без Лица представляет нас всех! И не так уж плохо справляется, в общем и в целом».
«Все же, пора обороняться, — заключил второй. — Надеюсь, в Гарвии это понимают».
Стюард поинтересовался: «Господа, не желаете ли чего-нибудь выпить перед ужином? Повар скоро ударит в гонг, но вы успеете сделать заказ».
Этцвейн спросил: «Дагбольт все еще суперинтендант?»
«О, нет, старый Дагбольт тому уже пять лет как задохнулся от горлового шанкра, — обернулся стюард. — Я при нем работал всего три месяца, и того было более чем достаточно, поверьте мне! Теперь начальник станции — Дикон Дефонсо. Он никому особенно не портит жизнь».
«А некий Финнерак еще работает в Ангвине?»
«Финнерак? Где-то я слышал это имя... Нет, здесь такого нет».
«Может быть, на развязке?»
«На развязке точно нет. Финнерак, Финнерак... Был какой-то скандал... Постойте, это не его ли сослали на каторгу за то, что он выпустил гондолу?»
Этцвейн только развел руками.
За два часа до полудня в Ангвин прибыла гондола «Джано». Четыре пассажира поднялись на борт — натянув тросы, гондола поднялась в воздух. «Джано» перетащили над ущельем к развязке на уступе скалы. Этцвейн смотрел сверху, как завороженный, на маленький островок, втиснувшийся между отвесными обрывами. На треугольной платформе, почти прикасаясь одно к другому, торчали три больших колеса на тяжелых станинах — натяжные шкивы. Этцвейн узнал приземистое каменное убежище с бревенчатой дверью, жалкий дощатый туалет, нависший над пропастью на деревянных подмостках. У шкивов стоял дежурный перецепщик. Гондола дернулась — рабочий зацепил тросы крюковым захватом, переставил хомут на приводной канат Северной ветки. Еще рывок — захват отцепился от тросов. Вспомнив дела давно минувших дней, Этцвейн невольно улыбнулся.
«Джано» перетащили на Северную станцию, тросы прицепили к ходовой каретке. Подгоняемая свежим ветром, налетавшим с правого борта, гондола понеслась над пазовым рельсом в кантон Шемюс. Ветровой подкрутил лебедки, установив парус под углом, обещавшим максимальную скорость движения, и спустился из рубки к пассажирам: «Надо полагать, все летят в Освий?»
«Только не я! — сказал Этцвейн. — Мне нужно сойти у Карбада, чтобы ехать в Бастерн».
«На развилке в Бастерн? Я вас спущу, если туда вернулась бригада. Во время набега все бежали в Карбад».
«Какого набега?»
«А, вы не слышали. Рогушкои — пятьдесят-шестьдесят тварей — выбрались из Дебрей и грабят все, что попадется, спускаясь по долине Сумрачной реки».
«Как далеко они зашли?»
«Чего не знаю, того не знаю. Если они повернули в Шемюс, на развилке в Бастерн остановщика не будет. Почему не сойти в Аскалоне? Так будет безопаснее».
«Я должен спуститься на дорогу в Бастерн, даже если придется слезать по тросам».
Когда гондола прибыла к развилке, бригада уже вернулась. «Джано» подтянули вниз нервными рывками, Этцвейн спрыгнул на землю. За ним последовал Ифнесс Иллинет.
«Насколько я понимаю, вы едете на восток?» — спросил Ифнесс.
«Да, в Башон».
«Предлагаю разделить расходы на экипаж».
Этцвейн сделал быстрый подсчет в уме. Тысяча пятьсот флоринов за крепостной долг, сто на возвращение в Брассеи вместе с Эатре, еще пятьдесят на непредвиденные издержки. Тысяча шестьсот пятьдесят. У него были тысяча шестьсот шестьдесят пять флоринов. «Могу потратить не больше пятнадцати флоринов», — угрюмо ответил Этцвейн. Ифнесс Иллинет был последним человеком в Шанте, к кому Этцвейн обратился бы с просьбой об одолжении. Не считая, пожалуй, духовного отца Оссо.
На постоялом дворе Ифнесс потребовал двуколку, запряженную парой первостатейных быстроходцев. «Аренда будет стоить двадцать флоринов в сутки, — сообщил Ифнессу содержатель заведения. — Кроме того, учитывая обстоятельства, я вынужден взять залог — двести флоринов».
Этцвейн сразу отвернулся: «Мне это не по карману». Ифнесс безразлично пожал плечами: «Я в любом случае воспользуюсь двуколкой. Заплатите столько, сколько можете — мне этого достаточно».
«Как я сказал, пятнадцать флоринов — все, что у меня есть. Если бы не рогушкои, я бы отправился пешком».
«Дайте пятнадцать или не давайте ничего, — сказал Ифнесс. — Какая разница?»
Раздраженный снисхождением попутчика, относившегося к денежным затруднениям с искренним непониманием богача, Этцвейн отсчитал пятнадцать флоринов: «Если вас это устраивает, возьмите. Если нет, я пойду пешком».
«Прекрасно, прекрасно! Поедем: мне не терпится посмотреть на рогушкоев — нельзя упускать такой случай».
Быстроходны — поджарые высокие животные с узкой, но длинной грудной клеткой и длинными, жилистыми ногами — весело скакали по дороге, оставляя за двуколкой долго не оседающее облако белой пыли.
Этцвейн тревожно, искоса следил за Ифнессом, без слов взявшим на себя обязанности погонщика. Странный человек! В самом деле, Этцвейн не встречал никого, кто напоминал бы Ифнесса Иллинета характером, внешностью или манерой выражаться. Ему не терпится посмотреть на рогушкоев, видите ли! Своеобразное чувство юмора? Или, что еще хуже, поиск острых ощущений? Если бы у обочины лежал мертвый рогушкой, Этцвейн задержался бы, чтобы рассмотреть труп — оправданное, естественное любопытство. Но поспешная целеустремленность Ифнесса напоминала одержимость сумасшедшего.
Этцвейн задумался: не связался ли он, действительно, с богатым наследником, рехнувшимся, когда на него свалилось состояние? Такие случаи бывали. Сосредоточенная безмятежность. прерывавшаяся назидательными монологами на отвлеченные темы, полное безразличие к окружающим, сменявшееся пристальным интересом к их мнениям и к деталям биографии — все указывало на психическое расстройство. Тем не менее, Ифнесс умел держать себя в руках лучше кого бы то ни было. Его строгое моложаво-пожилое лицо сохраняло спокойствие и внушало спокойствие, а в его внешности не было ничего необычного, кроме аккуратной шапки белых волос. Он рассуждал на неожиданные темы, но рассуждал логично, со знанием дела. Его безукоризненная вежливость и практический здравый смысл казались олицетворением нормальности. Этцвейн потерял интерес к спутнику: были заботы поважнее.
Они проехали километров пятнадцать в одиночестве, то поднимаясь, то спускаясь по пологим холмам Шемюса. Наконец показался встречный экипаж — вцепившись в руль и навалившись грудью на наклонное ложе циклопеда, бородатый человек в красном колпаке-невидимке лихорадочно жал на педали поршней. Он явно выбивался из сил, работая ногами с яростным рвением вора, удирающего от погони. За ним, однако, никто не гнался.
Натянув вожжи, Ифнесс остановил быстроходцев и наблюдал за приближением встречного. «Любопытное пренебрежение к обычаям», — подумал Этцвейн. Не зря же человек надел красный колпак! Циклопедист повернул, чтобы объехать двуколку, но Ифнесс позвал его, чем вызвал немедленный приступ гнева: «Не приставайте, имейте совесть! — резко тормозя, закричал бородач. — Вы что, слепой, или красный от зеленого не отличаете?»
Ифнесс проигнорировал вопрос: «Что слышно в Бастерне?»
«Не задерживайте меня — дело плохо! Добраться бы до Собола, пока не стемнело — чем дальше, тем лучше!» Стеклянные пневмоцилиндры шипели; бородач поставил ногу на педаль, чтобы уехать. Ифнесс вежливо поднял руку: «Будьте добры, один момент. Я не вижу опасности. Что происходит, почему вы так спешите?»
«Рогушкои! Сожгли Салюбру — все селение! Другая банда напала на хилитов. Они близко! Здесь нельзя оставаться ни минуты. Если вам дорога шкура, поворачивайте оглобли! Как хотите — я поехал». Циклопед сорвался с места и скоро исчез за холмом, оставив шлейф оседающей пыли.
Ифнесс повернулся к Этцвейну: «Ну, что будем делать?»
«Я должен быть в Башоне!»
Ифнесс кивнул и без дальнейших замечаний прошелся кнутом по спинам быстроходцев.
Тяжело дыша, Этцвейн наклонился вперед. Видения маячили у него перед глазами. Он думал о флоринах, выброшенных на выпивку, на подарки случайным подружкам, на лишнюю одежду, на дорогой древорог с серебряными кольцами и клапанами. Фролитц считал его виртуозом и скрягой. Этцвейн считал себя ничтожным прожигателем жизни. Тщетные сожаления! Деньги потрачены, время потеряно.
Породистые быстроходцы бежали без устали — подскакивая на камнях, двуколка быстро катилась по пустынной дороге. Они въехали в Бастерн; впереди показались кроны рододендронов. Из-за холма поднимался столб дыма. Проезжая по Аллее, Ифнесс заставил быстроходцев идти осторожным шагом, всматриваясь в тени под деревьями, в заросли ягодных кустов, изучая склоны с бдительностью, поразительной для рассеянного столичного интеллектуала. В Башоне все было, как обычно — все, кроме полной тишины. Сиренево-белый солнечный свет струился неровными оттененными гребешками вдоль изъезженной щебенчатой дороги. В саду у первой хижины пурпурные и лиловые герани цвели среди распустившихся лимонно-зелеными веерами копьелистов. Полусорванная открытая дверь висела набекрень — на порог, головой наружу, вывалился труп мужчины с окровавленным лицом, будто вдавленным ударом кувалды. Женщины, жившей в хижине, нигде не было.
Между деревьями показался храм. На верхних террасах можно было различить фигуры нескольких хилитов, двигавшиеся медленно, неуверенно, подобно умирающим старикам на солнечном дворе больницы. Ифнесс подстегнул быстроходцев — двуколка быстро преодолела крутой извилистый подъем. Столб дыма, замеченный издалека, поднимался от тлеющего пожарища на месте сыромятни и женских бараков. Храм и его пристройки казались неповрежденными. Встав на ноги в двуколке, Этцвейн смотрел во все стороны. Вокруг не было ни одной женщины — ни молодой, ни старой.
Ифнесс остановил двуколку у парадной лестницы между портиками храма. С террасы на крыше портика выглядывали изможденные, бледные лица нескольких хилитов.
Подняв голову, Ифнесс громко спросил: «Что случилось?»
Хилиты молча стояли, как призраки в белых рясах. «Эй, там! — голос Ифнесса стал жестким, даже грубым. — Вы меня слышите?»
Головы и плечи хилитов на террасе медленно исчезли — Этцвейну, смотревшему вверх, показалось, что они задумчиво упали навзничь.
Прошло пять минут. Три солнца величественно кружились в слепящем небе. Каменные стены дышали жаром. Ифнесс Иллинет сидел неподвижно. В душной тишине Этцвейн снова задал себе вопрос: «Почему этот странный человек так интересуется рогушкоями и причиненной ими катастрофой?» На этот раз, однако, он чувствовал, что сумасшествием тут и не пахнет — Ифнесс руководствовался важными соображениями, но тщательно скрывал их от Этцвейна.
Железные ворота над лестницей с лязгом растворились — хилиты выстроились на верхней площадке нестройной маленькой толпой. Первым вышел открывший ворота круглолицый молодой человек — полный, с крупными, тяжелыми чертами лица, редкими желтоватыми волосами и плотной желтоватой бородой. Этцвейн сразу узнал Геаклеса. За повзрослевшим Геаклесом стояла дюжина других хилитов, среди них — Оссо Хигаджу.
Ифнесс резко, отчетливо спросил: «Что здесь произошло?»
Оссо ответил хрипло — будто у него в горле застряло что-то горькое и липкое: «Нас ограбили рогушкои. Причинен непоправимый ущерб».
«Сколько их было?»
«Пятьдесят, не меньше. Они окружили храм, как стая диких зверей! Ломились в двери, грозили оружием, сожгли кожевенный завод».
«Защищая женщин и свое имущество, вы, несомненно, заставили врага отступить с тяжелыми потерями?» — сухо поинтересовался Ифнесс.
Хилиты возмущенно переглянулись. Геаклес презрительно рассмеялся. Оссо желчно произнес: «Мы отрицаем насилие. Непротивление злу — наше единственное оружие».
«Пытались ли защищаться похищенные женщины?» — невозмутимо продолжал допрос Ифнесс.
«Пытались, и многие. Это ничему не помогло. Наоборот, они отяготили душу озлоблением и непокорностью божественной воле».
«И божество наказало их вдвойне, — кивнул Ифнесс Иллинет. — Почему вы не помогли им спрятаться в храме?»
Этот вопрос хилиты встретили стоическим молчанием, укоризненно разглядывая невежду.
Ифнесс задал другой вопрос: «Каким оружием пользовались рогушкои?»
Геаклес почесал в бороде, посмотрел вдаль и огорченно ответил, будто высказывая соболезнование: «У них были палицы с железными шипами. Еще у каждого за поясом был блестящий ятаган — они ими не пользовались».
«Когда они ушли?»
«Не прошло и часа. Согнали женщин в колонну, старых и молодых. Только младенцев не взяли, выбросили в отстойник. Мы понесли огромную утрату».
Этцвейн не мог больше сдерживаться: «Где они? Куда ушли?»
Наклонив голову, Геаклес внимательно посмотрел на Этцвейна, повернулся к Оссо и что-то пробормотал тому на ухо. Оссо сделал три быстрых, коротких шага вперед.
Ифнесс холодно и вежливо повторил вопрос: «Куда они ушли?»
«Вверх по долине Сумрачной реки — туда, откуда явились», — сказал Геаклес.
Оссо указал на Этцвейна пальцем протянутой руки: «Ты — чистый отрок Фаман Бугозоний, непристойно осквернившийся и бежавший из Башона!»
«Меня зовут Гастель Этцвейн. Я сын друидийна Дайстара. Моя мать — госпожа Эатре».
Оссо угрожающе спросил: «Зачем ты приехал?»
«Выкупить свою мать из крепостного долга».
Оссо улыбнулся: «Мы не заключаем сделки с посторонними».
«У меня с собой приказ Человека Без Лица».
Оссо крякнул. Геаклес великодушно прижал руку к сердцу: «В чем затруднение? Верни нам деньги и забирай женщину».
Этцвейн не ответил — его внимание сосредоточилось на долине Сумрачной реки, куда он в детстве не отваживался заходить, опасаясь ахульфов. С тех пор, как их увели рогушкои, женщины не могли пройти больше пяти километров. Этцвейн яростно соображал. Он взглянул на сыромятню — разрушенную, сгоревшую дотла. Поодаль стояли еще нетронутые сараи, где хранились химикаты и красители. Этцвейн повернулся к Ифнессу, тихо спросил: «Могу я воспользоваться вашими быстроходцами и двуколкой? В случае их потери я возмещу расходы, у меня с собой тысяча шестьсот флоринов».
«С какой целью?»
«Я попытаюсь спасти свою мать».
«Как?»
«Это зависит от Оссо».
«Берите двуколку. В конце концов, что такое старая колымага и пара быстроходцев?»
Этцвейн обратился к Оссо: «Рогушкои испытывают страстное влечение к вину — почти такое же, как к женщинам. Дайте мне два больших бочонка вина. Я отвезу их вверх по долине и отдам рогушкоям».
Оссо моргал в замешательстве: «Ты намерен содействовать их мерзкому разгулу?»
«Я намерен их отравить».
«Что? — вскричал Геаклес. — И спровоцировать еще одно нападение?»
Этцвейн смотрел Оссо в лицо: «Так что вы скажете?»
Оссо думал: «Ты собираешься доставить вино в двуколке?»
«Да».
«Как ты заплатишь за вино? Это церемониальный бальзам для причащения — у нас другого нет».
Этцвейн колебался. Времени торговаться не было. С другой стороны, слишком щедрое предложение подтолкнуло бы Оссо к дальнейшему вымогательству: «Я могу предложить за вино не больше, чем оно стоит — тридцать флоринов за бочонок».
Оссо холодно смерил Этцвейна глазами. Ифнесс Иллинет спустился на землю и безразлично скрестил руки на груди, прислонившись к высокому колесу двуколки. Оссо сказал: «Этого недостаточно».
Ифнесс отозвался, не оборачиваясь: «Вполне достаточно. Несите вино».
Оссо повернулся к Ифнессу всем телом: «Кто вы такой?»
Ифнесс строго смотрел вдаль: «В свое время Человек Без Лица начнет военные действия против рогушкоев. Я проинформирую его о вашем отказе сотрудничать».
«Я ни в чем никому не отказывал! — рявкнул Оссо. — Передайте шестьдесят флоринов и подвезите двуколку к двери кладовой».
Этцвейн заплатил. Два бочонка вина выкатили из кладовой и поставили на двуколку, в заднее отделение для багажа. Этцвейн спустился к складу химикатов, вошел внутрь и остановился, растерянно обозревая ряды закупоренных банок и кучи пакетов на полках. Он не знал, какой из химикатов соответствовал его цели.
В сарай зашел Ифнесс Иллинет, бросил взгляд на полку, снял канистру: «Лучше не придумаешь. Никакого вкуса, никакого запаха, капля убьет быстроходна».
«Прекрасно». Они вернулись к двуколке.
«Меня не будет примерно шесть часов, может быть, дольше, — сказал Этцвейн. — Постараюсь вернуть двуколку в целости и сохранности, но что-либо обещать в этой ситуации...»
«Я внес за двуколку существенный залог, — заявил Ифнесс. — Это ценное оборудование».
Поджав губы, Этцвейн достал кошель: «Двухсот флоринов пока хватит? Или возьмите, сколько хотите — но больше тысячи шестисот у меня нет».
Ифнесс забрался в сиденье на козлах: «Не звените монетами у храма. Я поеду с вами — допустим, чтобы проследить за соблюдением моих интересов».
Этцвейн без слов вскочил в двуколку, и они направились вверх по долине Сумрачной реки. Хилиты стояли на террасах храма и смотрели вслед, пока двуколка не скрылась за дальним поворотом.
Глава 8
Дорога вдоль Сумрачной реки — не более чем колея — тянулась по низине, заросшей с обеих сторон пышнозеленой бич-травой, хлеставшей пролетавших мимо насекомых бледно-голубыми шиповатыми усами. По берегам росли ивы, ольха, небольшие группы торжественных темно-синих митроцефалов. Прошедшие недавно рогушкои оставили многочисленные следы — разбросанные по дороге и по обочинам обрывки женской одежды. Три раза пришлось объезжать трупы старух, умерших от истощения и жары или покончивших с собой. Еще дальше Этцвейн торопливо выполнил мрачную обязанность — сложил у обочины валявшиеся на дороге тела шестерых младенцев, отобранных у матерей и убитых ударом головы об землю.
Ифнесс энергично погонял — двуколка мчалась, подпрыгивая на ухабах, переваливаясь с боку на бок, грохоча колесами по дощатым мостикам через узкие притоки. Несмотря на отвратительное состояние дороги, по расчетам Этцвейна они двигались по меньшей мере в три раза быстрее погоняемой рогушкоями колонны женщин.
Первое время Ифнесс молчал, потом спросил: «Куда ведет колея?»
«На Гаргаметов луг — хилиты так называют плантацию, где выращивают изыл. Из листьев и смолы изыла делают гальгу».
«Еще далеко?»
«Километров восемь-девять. Скорее всего, рогушкои остановятся на лугу — там удобное место для ночевки».
Долина реки становилась теснее и глубже. Ифнесс остановил быстроходнее: «Не следует догонять их в ущелье. Вы отравили вино?»
«Сию минуту», — Этцвейн забрался в багажное отделение и вылил в каждый из бочонков по половине содержимого канистры.
Солнца опустились за западный склон: в долине Сумрачной реки становилось в самом деле сумрачно. Этцвейн напрягся в предчувствии неизбежности. Рогушкои не могли уйти далеко. Ифнесс правил быстроходцами с великой осторожностью — натолкнуться на арьергард рогушкоев не входило в его планы. Впереди колея ныряла в лощину. По обеим сторонам на фоне неба темнели обнаженные ветвистые силуэты высоких коралловых деревьев. Ифнесс остановил двуколку, Этцвейн побежал на разведку.
Поднимаясь из лощины, дорога огибала рощу багряных ахульфовых груш и выходила на ровный луг, почти кольцеобразно окруженный широко расходящимися крутыми склонами. Слева темнели тихо звенящие заросли меднолистника, справа убегающими вдаль аккуратными рядами торчали шесты, поддерживавшие подстриженные сетчатые лозы изыла, источника драгоценной гальги. Плантация занимала не меньше двадцати пяти гектаров. В прогалине, окруженной меднолистником, темно-сиреневое небо отражалось в тихом пруду. Сюда рогушкои согнали похищенных женщин. Они только что прибыли — женщины еще выходили на прогалину испуганной толпой. Рогушкои ревом отдавали односложные команды, сопровождая их взмахами огромных толстых рук.
Этцвейн подал знак Ифнессу. Тот подъехал ближе, спрятав двуколку в роще ахульфовых груш. Ифнесс Иллинет сидел, глядя на вечерний луг, ноздри его аристократического носа сжались и побелели. «Наши намерения не должны быть очевидны, — сказал он Этцвейну. — Вино должно достаться рогушкоям так, будто они его нашли сами».
Этцвейн не мог удержать в неподвижности нервно подергивающиеся руки и ноги. Он хрипло сказал высоким, чуть заикающимся голосом: «Сейчас они набросятся на женщин! Смотрите — ждать уже нельзя!»
В самом деле, рогушкои окружили толпу на берегу пруда, заметно дрожа всем телом, с топотом подбегая к отшатывающимся, вскрикивающим пленницам и медленно отходя, но уже на меньшее расстояние.
Ифнесс спросил: «Вы умеете ездить на быстроходце?»
«Не знаю, — сказал Этцвейн, — не пробовал».
«Мы тихонько поедем по лугу в двуколке — так, будто пытаемся незаметно проскочить мимо. Как только нас заметят, пересаживайтесь на быстроходна. Я сделаю то же самое».
В ужасе, но с решимостью отчаяния, Этцвейн кивнул: «Все, что угодно, только быстрее, быстрее!»
«Спешка приводит к катастрофам, — укоризненно произнес Ифнесс. — Мы только что приехали, необходимо учесть все обстоятельства». Он что-то оценивал и рассчитывал еще секунд десять, потом тронул с места быстроходцев, выехал из рощи и направил двуколку по краю луга к плантации изыла, отъезжая подальше от зарослей меднолистника. Двуколка была на виду — чтобы ее заметить, рогушкоям стоило только отвести глаза от пепельно-бледных женщин.
Проехав метров сто, они все еще не привлекли внимания. Ифнесс удовлетворенно кивнул: «Теперь у них возникнет впечатление, что мы надеемся ускользнуть незамеченными».
«Почему они нас не видят?» — спросил Этцвейн, сам не узнавая свой неожиданно тонкий, детский голосок.
Ифнесс Иллинет молчал. Они проехали еще пятьдесят метров. Со стороны рогушкоев раздался хриплый дикий рев, наполненный каким-то сумасшедшим, радостно-безмозглым тембром. У Этцвейна зашевелились волосы на затылке.
«Нас заметили, — бесцветно произнес Ифнесс. — Теперь поторопитесь». Без особой спешки Ифнесс соскочил на землю, отстегнул поводья одного из быстроходцев. Этцвейн никак не мог справиться с поводьями другого. «Уезжайте на этом, — Ифнесс передал ему свои поводья. — Забирайтесь волу на спину и уезжайте!»
Этцвейн вскочил на быстроходна — тот недовольно попятился под непривычным весом, опустил голову.
«Вперед, по дороге! — приказал Ифнесс. — Не погоняйте слишком сильно, животное понесет!»
По Гаргаметову лугу вперевалку бежали рогушкои — не меньше двадцати — широко открыв круглые глаза с огромными черными зрачками, усердно работая мощными руками и плечами в такт часто и тяжело опускающимся ступням. Они бежали не в ногу, не строем, но что-то было не так. Каждый рогушкой был точной копией другого. Этцвейну стало очень страшно. Ифнесс Иллинет сохранял невозмутимое спокойствие. Освободив поводья второго быстроходца, он обрезал их покороче и аккуратно связал, после чего вскочил волу на спину. Понукая быстроходца легкими ударами каблуков по ребрам, Ифнесс поскакал легкой трусцой за Этцвейном.
Заметив бочонки с вином, рогушкои мгновенно забыли о беглецах. Почти не задерживаясь, на бегу, они подхватили оглобли двуколки, развернули ее и потащили обратно через луг, время от времени высоко подпрыгивая и совершая в воздухе полный оборот, как танцоры, разучивающие пируэты воинственной пляски.
Ифнесс и Этцвейн остановили быстроходцев в тени багряных ахульфовых груш. «Остается только ждать», — сказал Ифнесс.
Этцвейн ничего не ответил. Отвлекшись от женщин, рогушкои столпились у двуколки. Бочонки пробили ударами палиц. Рогушкои жадно пили — доносились громкие удовлетворенные отрыжки.
Этцвейн напряженно спросил: «Яд действует быстро?»
«Такая доза прикончила бы человека за пару минут. Надеюсь — допускаю — что метаболизм рогушкоев сходен с человеческим».
Вино кончилось. Сбросив пустые бочонки на землю, рогушкои снова повернулись к женщинам, не проявляя ни малейших признаков расстройства или отравления. Каждый подбежал к плотно сгрудившимся, причитающим женщинам, схватил одну за руку, не обращая внимания ни на возраст, ни на внешность, оттащил в сторону и стал срывать одежду.
«Настало время», — произнес Ифнесс Иллинет.
Несколько рогушкоев вдруг перестали двигаться, непонимающе глядя в землю. Медленно прикоснувшись рукой к животу или к горлу, они почесывали блестящие, лысые, темнокрасные черепа. У других появились такие же симптомы. Женщины, истерически всхлипывая, разбредались и расползались во всех направлениях подобно бледным насекомым, высыпанным из банки. У рогушкоев начались судороги — как цирковой атлет в замедленном балете, то один, то другой поднимал согнутую ногу, наклонившись и прижимая колено к животу, подпрыгивал на одной ноге, потом повторял то же упражнение, становясь на другую ногу. Лица рогушкоев обмякли, нижние челюсти отвисли и застыли в незаконченном зевке.
Внезапно, будто пораженный мыслью, вызвавшей бешеный гнев, один рогушкой поднял сжатый кулак к небу и прокричал слово, непонятное Этцвейну. Другой отозвался тем же возгласом, с таким же театральным отчаянием жертвы, обвиняющей небеса. Рогушкой, закричавший первым, упал на колени, скорчился, повалился на землю и стал перебирать руками и ногами как жук, перевернутый на спину. Несколько женщин, добравшиеся до зарослей меднолистника, побежали к дороге. Их быстрое движение привело умирающих воинов в ярость. Шатаясь и падая, они пустились вдогонку, слепо размахивая палицами. Женщины разбегались кто куда, с визгом и плачем. Рогушкои прыгали на них, ловили, прибивали ударами палиц.
Один за другим рогушкои стали валиться на землю, выпуская палицы из рук и больше не шевелясь. Ифнесс и Этцвейн вышли из-под деревьев на луг. Последний рогушкой, остававшийся на ногах, заметил их. Он выхватил из-за пояса широкий кривой ятаган, швырнул его. «Осторожно!» — закричал Ифнесс, прытко отскакивая в сторону. Ятаган, кружась, как блестящий мигающий диск, с убийственной скоростью пролетел рядом и вонзился в грязь. Ифнесс Иллинет с прежним достоинством направился вперед. Последний рогушкой свалился лицом в землю.
Ифнесс заметил: «Двуколка не повреждена. Еще пригодится».
Оцепеневший от ужаса Этцвейн медленно повернулся к нему и попытался что-то сказать, но сделал шаг вперед и остановился. Он никак не мог распознать лица женщин. Сумерки, движение, расстояние — все мешало. Почти всех он когда-то знал — добрых, красивых, смешливых, печальных, всяких. Отравление рогушкоев привело к бессмысленной бойне. Что еще можно было сделать? Что с ними случилось бы, если бы он не вмешался?
Уходя, Ифнесс деловито звал Этцвейна: «Пойдемте, пойдемте! И приведите быстроходнее». Он направился к пруду, больше не оборачиваясь.
С быстроходцами на поводу, Этцвейн побрел туда же. Ноги почти не слушались его.
Оказавшись посреди стойбища, Ифнесс с брезгливым интересом изучал тела рогушкоев. Некоторые из отравленных еще двигались — подергивали головой и конечностями, сжимали кулаки, зарываясь пальцами в землю. Этцвейн заставил себя оглядеться, осознать происходящее. Он узнал свою сестру. Деламбре — мертвую. Рогушкой разбил ей лицо палицей, но больше ни у кого не было таких волнистых, золотисто-рыжих волос. Этцвейн брел по Гаргаметову лугу. Эатре лежала неподалеку. Этцвейн опустился на колени, взял ее руки в свои. Она еще жила, из ее ушей струйками текла кровь. Этцвейн сказал: «Это я, твой сын, Мур. Я пришел. Я хотел тебя спасти, но не смог».
Губы Эатре шевелились. «Мур... — беззвучно говорили они. — Ты смог... Ты меня спас».
Этцвейн наломал целый стог хвороста и ветвей меднолистника — копать могилы он не мог, не было лопаты. На стог он положил тела Эатре и Деламбре, обложил их хворостом со всех сторон. Устройство погребального костра заняло много времени — Этцвейн то и дело бегал к зарослям и возвращался с охапками прутьев.
Ифнесс тем временем занимался другими вещами. Прежде всего он запряг беспокойных быстроходнее в двуколку и соединил поводья с вожжами. Затем он приступил к изучению рогушкоев. Присев на корточки и сосредоточенно нахмурившись, меркантилист внимательно, методично рассматривал и даже нюхал трупы. Этцвейну все они казались одинаковыми — мускулистые, массивные, на голову выше человека среднего роста, с необычно толстой лоснящейся кожей, цветом и блеском напоминавшей медь. Их лица, будто вырубленные топором, скорчились в неподвижных гримасах, как маски кривляющихся демонов — вероятно, вследствие отравления. Нигде — ни на голове, ни на теле — у рогушкоев не было волос. Одежда почти отсутствовала. Черная кожаная полоска, продетая между ногами, соединялась, расширяясь, с поясным ремнем того же материала. К правой руке каждого рогушкоя была пристегнута ремешком палица с шипами, а за поясом торчал ятаган. Ифнесс вытащил ятаган одного из воинов, с любопытством трогая блестящий металл: «Сделано не в Шанте, — бормотал он. — Кто это выковал?»
Этцвейн не знал, что ответить. Ифнесс положил ятаган в багажное отделение двуколки. Палица заинтересовала его не меньше. На рукоятку из выдержанного твердого дерева, длиной полметра, был насажен железный шар с пятисантиметровыми шипами — жестокое, варварское оружие.
Этцвейн, наконец, решил, что принес достаточно хвороста, и поджег широкий стог с четырех сторон. Его печальный труд был закончен. Вскоре языки пламени взметнулись в небо.
Ифнесс Иллинет приступил к еще более мрачной работе. Вынув из кармана тонкий серебристый нож, он рассек брюшину и грудную клетку одного из воинов. На землю вывалились черновато-красные кишки. Отодвинув кишки палкой и брезгливо сжимая ноздри, Ифнесс продолжил изучение внутренних органов.
Сумерки сгущались на Гаргаметовом лугу. Высокий столб огня шумел, как топка с хорошей тягой. Трупы и темнота тяготили Этцвейна. Задерживаться не было смысла. Он спросил: «Не пора ли возвращаться?»
«Пора, — согласился Ифнесс. — Осталось одно пустяковое дело, оно займет пару минут».
К полному изумлению Этцвейна, Ифнесс выбрал тела шести женщин, ловко отрезал их разбитые головы и снял шесть ошейников. Подойдя к пруду, он вымыл ошейники, нож и руки. Этцвейн ждал его у двуколки, снова подозревая, что Ифнесс сошел с ума — или что все это глупый, кошмарный сон.
Ифнесс казался бодрым и веселым. Возвращаясь к Этцвейну, он остановился, чтобы посмотреть на погребальный костер. Яркое пламя завораживает всех людей — Ифнесс Иллинет не был исключением. Наконец он сказал: «Да, пора ехать».
Этцвейн забрался в сиденье двуколки. Ифнесс повернул быстроходцев в сторону колеи. Этцвейн тут же остановил его жестом — Ифнесс натянул вожжи. Этцвейн соскочил на землю, подбежал к костру и схватил горящую ветку потолще. Быстрыми шагами направившись к плантации изыла, он поджег плотную, сухую, смолистую листву. Лозы занялись оранжевым пламенем, дававшим густой черный дым с едким запахом гальги. Мрачно улыбаясь, Этцвейн убедился в успешном распространении пожара, после чего бегом вернулся к двуколке.
Ифнесс никак не прокомментировал поджог. Даже его движения и поза не выдавали ни одобрения, ни порицания. В любом случае, Этцвейна мало беспокоило мнение Ифнесса.
Уезжая с Гаргаметова луга, они еще раз остановились и оглянулись. Обширная плантация дымилась стройными рядами, как огромная огненная гребенка. Погребальный костер тлел в темноте рубиново-красным пятном. Этцвейн отвернулся, его подбородок дрожал. Огонь и время — орудия одной необратимой силы. И прах, и пепел улетают с ветром — прошедшего не будет никогда.
Двуколка спускалась по ночной долине, озаренной призрачным светом Скиафарильи. Колея чуть белела двумя параллельно извивающимися полосами. Перестук копыт, скрип упряжи, мягкое шуршание колес не нарушали — усиливали тишину. Пару раз Этцвейн еще оглядывался на медленно тускнеющее красное зарево. В конце концов оно исчезло — в черном небе горели только звезды. Опираясь локтем на колено, Этцвейн угрюмо смотрел вперед.
Тихо и спокойно, как вежливый учитель — ученика, Ифнесс спросил: «Теперь, когда вы познакомились с рогушкоями, каково ваше мнение об этих существах?»
Этцвейн отозвался: «Рогушкои безумны или одержимы бесами. В каком-то смысле они достойны сожаления. Но их необходимо уничтожить».
Ифнесс задумчиво кивнул: «Не могу с вами не согласиться. Кантоны Шанта в высшей степени уязвимы. Увы, теперь хилитам придется неузнаваемо измениться или исчезнуть».
При свете звезд Этцвейн затруднялся определить выражение лица спутника: «Неужели вас огорчает это обстоятельство?»
«Исчезновение любого уникального организма — непоправимая потеря. Человеческая история не знает более яркого примера специализированной адаптации. Вполне возможно, что подобная структура больше никогда не возникнет».
«Вы противоречите сами себе. Если извращения хилитов — драгоценный вклад в историю человечества, почему вы согласны с необходимостью уничтожения рогушкоев?»
Ифнесс Иллинет почти беззвучно рассмеялся: «Я боюсь не рогушкоев как таковых — меня пугает то, что за ними стоит. Пугает настолько, что в этом случае я вынужден поступиться принципами».
«Не понимаю», — сухо сказал Этцвейн.
Ифнесс придал голосу дополнительный вес: «Как вам известно, я путешествую по всему Шанту, этого требует моя профессия. Мне приходится наблюдать людей в самых различных обстоятельствах. Одним улыбается счастье, других постигает горе. Сама природа моих обязанностей не позволяет мне вмешиваться и влиять на события».
Этцвейну вспомнилась его первая встреча с Ифнессом: «Какие обязанности не позволяют человеку подстегнуть быстроходца, чтобы помочь ребенку спастись от ахульфов-каннибалов?»
Ифнесс повернул голову, пытаясь разглядеть собеседника в темноте: «Это были вы?»
«Да».
Ифнесс долго молчал. Потом заговорил: «В вашем характере есть темная сторона, заставляющая вас слишком глубоко копаться в себе и в других, даже если это может повредить вашим интересам. Чего вы добиваетесь, воскрешая исключительно неприятный для меня эпизод десятилетней давности? Какую пользу вы надеетесь извлечь, рискуя оскорбить меня обвинением в безнравственности?»
Этцвейн начал нарочито-безразличным тоном: «Долгие годы я с возмущением думал о человеке, спокойно и сознательно отказавшемся сохранить мне жизнь, когда для этого достаточно было буквально пошевелить пальцем. Возможность выразить это возмущение в вашем присутствии приносит мне большое облегчение. По-видимому, в этом и состоит упомянутая вами «польза». У меня есть все основания считать ваш поступок безнравственным. Какое мне дело до того, оскорбляет это вас или нет?» Разволновавшись, Этцвейн уже не мог остановиться: «Все, на что я надеялся, все, ради чего я старался десять лет — все погибло! Кто виноват? Рогушкои? Я? Человек Без Лица? Хилиты? Все виноваты! Я должен был приехать раньше. Оправдываться нет смысла — да, у меня не было денег, да, я не мог предвидеть набег рогушкоев. Все равно я опоздал, я должен был приехать раньше! Рогушкои — не знаю, что у них в голове, чего они хотят? Рад, что отравил их. С удовольствием отравил бы их всех до единого! Вам жалко хилитов, уникальных хилитов, восхитительных наркоманов-онанистов? Плевать я на них хотел, пропади они пропадом! Человек Без Лица — это уже особая статья! Мы доверили ему оборону страны, защиту населения. Мы платим налоги и пошлины. Мы носим ошейники. Мы беспрекословно выполняем его приказы. И что же? Как он оправдывает наше доверие? Как он использует наши деньги? Почему он еще не выступил против рогушкоев? Мягко говоря, я в нем разочарован!»
«А если выразиться посильнее?»
Этцвейн не поддался на провокацию и только помотал головой: «Зачем вы вскрыли труп рогушкоя?»
«Меня интересовала их физиология».
Этцвейн разразился истерическим, диковатым хохотом, но сразу заставил себя замолчать. Наступила тишина. Быстроходцы бежали неспешной трусцой, двуколка покачивалась во мраке под яркими звездами. Сколько они проехали, сколько оставалось ехать? Этцвейн не имел представления. Он задал еще один вопрос: «Зачем вы украли ошейники?»
Ифнесс вздохнул: «Я надеялся, что вы догадаетесь об этом не спрашивать. Не могу удовлетворить ваше любопытство».
«Вы постоянно что-то скрываете».
«Каждый из нас что-то скрывает, — сказал Ифнесс. — Например, вы выразили неудовлетворение Человеком Без Лица, но о дальнейших намерениях распространяться не стали».
«Мне нечего скрывать, — сказал Этцвейн. — Я поеду в Гарвий, куплю «пурпурную петицию». Изложу свои взгляды без околичностей, в самых недвусмысленных выражениях. Обстоятельства говорят за себя — назревает катастрофа. Человек Без Лица не может притворяться, что ничего не происходит».
«Хотелось бы так думать, — согласился Ифнесс. — Предположим, однако, что подача петиции ни к чему не приведет. Что тогда?»
Этцвейн с подозрением покосился на сосредоточенно-легкомысленный профиль спутника, темневший на фоне Скиафарильи: «Это маловероятно. Зачем строить далеко идущие планы?»
«В неожиданных ситуациях чрезмерно детальное планирование иногда препятствует проявлению оптимальной непроизвольной реакции, — изрек Ифнесс. — Тем не менее, если допустимы два прямо противоположных варианта развития событий, полезно предусматривать обе возможности, независимо от распределения вероятности...»
«У меня есть время обо всем подумать», — прервал рассуждения Этцвейн.
Глава 9
Глубокой ночью они выехали из долины Сумрачной реки к подножию храмового холма. На террасах храма мерцали редкие тусклые огни. Ветер доносил едко-сладковатый запах гальги, смешанный с вонью обугленного дерева и паленых кож.
«Хилиты будут поклоняться Галексису, пока не кончится наркотик, — заметил Ифнесс, — после чего им придется придумать новое божество».
Двуколка проехала по Аллее Рододендронов, темной и безмолвной, населенной только обрывками звуков, всплывавшими из глубин памяти. Над головой чернела листва, впереди бледно белела дорога. Мертвые хижины с распахнутыми дверями предлагали кров и пищу, но мысль о возможности остановиться не пришла в голову ни Этцвейну, ни его спутнику. Они продолжали путь в ночной тишине.
Рассвет взорвался блестящим каскадом оранжевых и фиолетовых лучей. Когда Сасетта вынырнула из-за горизонта, двуколка уже приближалась к Карбаду. Быстроходны шли медленно, опустив головы — они устали намного больше людей.
Ифнесс сразу подъехал к постоялому двору и отдал двуколку хозяину. Ошейники и оружие рогушкоев он завернул в куртку, связав ее наподобие небольшого тюка.
Этцвейн возвращался на запад. Ифнесс, еще в Брассеях, заявлял, что едет на восток. Преодолевая неловкость, Этцвейн обратился к спутнику формально, в несколько тяжеловесной манере: «Теперь каждый из нас отправится своей дорогой. Не могу не учитывать тот факт, что вы оказали мне неоценимую помощь, в связи с чем разрешите поблагодарить вас и отметить, что на этот раз мы достигли некоторого взаимопонимания, чего, к сожалению, не случилось при нашей первой встрече. Прощайте, Ифнесс Иллинет, желаю вам всего наилучшего».
Ифнесс вежливо поклонился: «Всего хорошего, до свидания».
Этцвейн повернулся и быстрыми, размашистыми шагами направился на другую сторону площади, к станции воздушной дороги. Ифнесс неторопливо последовал за ним.
Пригнувшись к окошку продавца билетов, Этцвейн отчетливо произнес: «Я хотел бы как можно быстрее уехать в Гарвий». Отсчитывая деньги за билет, Этцвейн заметил Ифнесса, стоявшего следующим в очереди, и кивнул ему. Ифнесс ответил тем же. Этцвейн отошел от кассы. Ифнесс нагнулся к окошку и достал кошелек.
Гондола, следовавшая до Ангвинской развязки, прибывала в Карбад только через час. Прогулявшись из одного конца платформы в другой, Этцвейн покинул станцию, пересек площадь и подошел к прилавку уличного торговца закусками, где обнаружил Ифнесса. Заплатив продавцу, Этцвейн отнес купленное на стол в двух шагах от прилавка. Извинившись вполголоса, Ифнесс занял место напротив — других столов не было.
Двое ели молча. Закончив, Этцвейн вернулся на станцию и вышел на платформу. Чуть позже в зале ожидания появился Ифнесс.
Пазовый рельс начал мелко дрожать, издавая тихое высокое жужжание, свидетельствовавшее о приближении каретки. Через пять минут появилась рыскающая в воздухе гондола, толчками спускавшаяся к платформе. Этцвейн, сидевший на скамье, поднялся на ноги. Ифнесс задумчиво смотрел на гондолу из окна станционного здания. Этцвейн зашел в гондолу и занял сиденье. За ним на борт поднялся Ифнесс Иллинет, севший прямо напротив. Этцвейн больше не мог игнорировать его присутствие: «Я думал, вы летите на восток».
«Непредвиденные обстоятельства заставляют меня срочно прервать поездку», — сказал Ифнесс.
«Возвращаетесь в Гарвий?»
«Да».
Гондола поднялась в воздух, подгоняемая свежим утренним ветром, и повлекла быстро бегущую каретку вверх по рельсу к Ангвинской развязке.
Этцвейн изредка посещал Гарвий с труппой Фролитца, но их гастроли в столице были непродолжительны: гарвийцы предпочитали более утонченные наслаждения, более легкомысленное времяпровождение, более острые ощущения. Тем не менее, Этцвейн считал стеклянный город интересным и достойным паломничества местом хотя бы потому, что в нем открывались чудесные, захватывающие дух виды.
Ни в одном из населенных людьми миров не было места, подобного Гарвию, возведенному исключительно из стекла: из стеклянных блоков, пластин, листов, призм, цилиндров — пурпурных, зеленых, сиреневых, голубых, розовых, темно-алых.
Среди первых беженцев, прибывших на Дердейн с Земли, были приверженцы эстетического культа «Чама Рейя». Найдя безопасное убежище в Шанте, они торжественно поклялись построить самый великолепный город в истории человечества и всецело посвятили себя этому начинанию. Древний Гарвий просуществовал семь тысяч лет. Сначала стеклянным городом правили аватары «Чама Рейи», вслед за ними — Архитектурная Корпорация, династии Директоров, временное правительство Супердиректоров и, наконец, Пурпурные цари.
С каждым столетием Гарвий полнился новыми чудесами — казалось, единственная цель каждого очередного царя-пурпуроносца заключалась в том, чтобы затмить излишества прошлого и поразить воображение потомков. Царь Клюэй Пандамон построил Аркаду — галерею из девятисот двадцатиметровых хрустальных колонн, поддерживавших сводчатую крышу призматического стекла.
Царь Фарай Пандамон приказал возвести рыночный павильон изобретательной конструкции — погруженные в круглое озеро сплошные оболочки из гнутого стекла образовывали дюжину плавающих концентрических колец семиметровой ширины, разделенных стеклянными подшипниками так, чтобы любое кольцо перемещалось независимо от остальных. На этих плавучих каруселях купцы и ремесленники устроили базар — каждому отвели место, отделенное панелями цветного стекла. Сотня волов, тянувших радиальные оглобли в подземной галерее вокруг озера, приводила в движение медленно плывущее наружное кольцо, передававшее момент вращения через озерную воду внутренним кольцам, тоже постепенно начинавшим двигаться. Через шесть часов волов заставляли останавливаться, разворачиваться и тянуть наружное кольцо в обратном направлении. Таким образом, все кольца базара кружились, одно быстрее, другое медленнее, то навстречу, то обгоняя друг друга, безостановочным калейдоскопом цветов и теней — даже глухонемые морские разбойники с островов архипелага Бельджамар приезжали полюбоваться на знаменитый Карусельный Рынок пурпурного царя Фарая Пандамона!
Величие Гарвия достигло апогея в правление Хорхе Шкурхана. Склоны Ушкаделя — холмистого пригородного района — пестрели сверкающими дворцами. У причалов по берегам Джардина стеклянные корабли разгружали товары со всех концов света, из Северного Шанта — катушки волокна, отрезы шелка и парусную пленку, из Паласедры — мясные продукты, из рудников Караза — соли и окиси для стекловарен. Все шестьдесят два кантона были сопричастны славе и могуществу Гарвия, а возмездия бейлифов Пандамона не могло избежать самое дальнее селение. Вскоре после воцарения Харена Несчастного восстал весь Юг — паласедрийские летучие герцоги затмили небо над Большой Соленой топью. Разгорелась Четвертая Паласедрийская война, положившая конец династии Пандамонов.
В годы Шестой Паласедрийской войны бомбардиры неприятеля закрепились на верхних кряжах Ушкаделя и оттуда обстреляли город пневмофугасами. Древнее стекло взметалось в небо звенящими фонтанами, переливаясь в лучах солнц всеми цветами радуги. Наконец кондотьер Вайано Паицифьюме предпринял легендарную яростную атаку на засевших в скалах летучих герцогов, вошедшую в историю под наименованием Сумасшедшей битвы. Тяжеловооруженных катафрактов на волах паласедрийцы разбили почти мгновенно. Лишенные защиты с флангов, элитные копьеносные полки панически рассеялись по лесистым склонам. Стеклометчики взошли выше всех, но попали в окружение и были сброшены в ущелье искусственным оползнем. Тем не менее, упрямый Паицифьюме уничтожил паласедрийцев, уже начинавших спускаться с холмов Ушкаделя, напустив на них орду обезумевших ахульфов, вымазанных дегтем и подожженных. Победа, однако, досталась дорогой ценой — Гарвий лежал в осколках. Разрушение стеклянного города врезалось в память жителей Шанта, никогда не простивших паласедрийцев и подозревавших летучих герцогов, заслуженно или незаслуженно, в организации всех эпидемий, неурожаев и стихийных бедствий.
Вайано Паицифьюме, уроженец кантона Глиррис на восточном берегу, отказал наследнику Пандамонов в праве восшествия на Пурпурный трон и созвал конклав кантонов, чтобы сформировать новое правительство. Через три недели препирательств, взаимных обвинений и невыполнимых требований терпение кондотьера истощилось. Взойдя на подиум, он указал на возвышение в глубине помещения — нечто вроде миниатюрной сцены с занавесом.
«За этим занавесом, — объявил Паицифьюме, — ваш новый правитель! Его имя останется в тайне. Он будет сообщать свою волю в анонимных указах. За выполнением указов прослежу я. Преимущества такого способа управления очевидны. Не зная, кто вами правит, вы не сможете составлять заговоры, подкупать влиятельных лиц и добиваться предпочтения клеветой и лестью. Справедливость, наконец, восторжествует».
Стоял ли за занавесом, на самом деле, первый Человек Без Лица? Или Вайано Паицифьюме изобрел невидимого двойника? Правду никто так и не узнал — ни при его жизни, ни после его смерти. Тем не менее, когда Вайано, уже в преклонном возрасте, пал жертвой наемного убийцы, заговорщиков немедленно нашли, задержали, заключили в запаянные стеклянные шары и подвесили гирляндой на тросе, протянутом между двумя высокими шпилями. Тысячу лет шары блестели над городом, как праздничные украшения. В конце концов их разрушили, один за другим, удары молний.
В первое время приказы Человека Без Лица приводились в исполнение особыми вооруженными подразделениями Канцелярии Принуждения, постепенно присвоившими чрезмерные прерогативы и вызвавшими бунт неоправданными притеснениями. Консервативный Совет подавил мятеж, распустил Канцелярию Принуждения и восстановил порядок. Человек Без Лица явился перед Советом в латах и шлеме из черного стекла, не позволявших удостоверить его личность. Он потребовал существенного расширения круга полномочий и обязанностей верховного правителя. Его требование было удовлетворено. Двадцать лет все ресурсы Шанта расходовались с одной целью: усовершенствования системы ошейников. Аноме издал Багровый эдикт, объявлявший ошейники обязательными для всех и каждого, чем спровоцировал столетнюю Междоусобную войну, закончившуюся только тогда, когда поймали и окольцевали последнего партизана-индивидуалиста, не покончившего с собой.
Великолепие эпохи Пандамонов не вернулось. Но и теперь Гарвий оставался первым чудом света на Дердейне. Башни кобальтового стекла, шпили рубинового стекла, купола изумрудного стекла, призматические и цилиндрические стеклянные обелиски, стены и террасы прозрачного хрустального стекла переливались, вспыхивали, совмещались и отражались в лучах трех кувыркающихся солнц. Ночью город освещали разноцветные фонари — зеленые за бледно-голубым и лиловым стеклом, розовые за глубоко-синим стеклом.
Во дворцах на склонах Ушкаделя еще прозябали патриции Гарвия — бледные подражатели пышных грандов, состязавшихся в роскоши при Пурпурных царях. Высшее сословие извлекало доходы из наследственных земельных владений, самые деятельные отпрыски древних родов вкладывали средства в морские и воздушные перевозки, финансировали лаборатории и мастерские, где производились ошейники, радиоприемники и передатчики, светильники и некоторые другие электронные устройства. Электронику собирали из компонентов, изготовленных в других районах Шанта — мономолекулярных проводящих волокон, электроорганических устройств управления и магнитных сердечников из спеченных железных кружев, напыляя по мере необходимости драгоценные микроскопические соединения и реле из редкоземельных металлов: меди, золота, серебра, свинца. Ни один из техников не понимал, почему используемые схемы были устроены так, а не иначе. Каков бы ни был когда-то первоначальный уровень технических знаний, от них остались лишь описания практических методов — древние руководства передавались из уст в уста подобно эпическим мифам и нередко составляли семейную тайну, недоступную конкурентам. Всякое представление о принципах, лежавших в основе магических биоэлектронных аппаратов, было утеряно. Мастерские и фабрики теснились преимущественно в Шранке — пригороде Гарвия в устье Джардина. Персонал этих престижных предприятий селился неподалеку, в комфортабельных коттеджах среди парков и фруктовых садов.
Таков был Гарвий — нервный узел Шанта, стеклянный город, широко раскинувшийся по холмам, но относительно малонаселенный, зачаровывавший приезжих воздушной, радужной красотой и загадочным бременем бездонной старины.
Столичные жители образовывали единственную в своем роде популяцию сверхцивилизованных ценителей приятного времяпровождения, болезненно чувствительных к тончайшим нюансам повседневности, но почти неспособных к оригинальному мышлению или полезной деятельности. Эстетическая Корпорация, объединявшая почти исключительно патрициев, населявших Ушкадель, выполняла функции городского управления, что более чем устраивало менее родовитых стеклогородцев. У патрициев были деньги; вполне естественно, что на них возлагалась основная ответственность. Типичный горожанин не испытывал зависти к высшему сословию и не считал себя обделенным — все были равны перед законом. Если, проявив необычные умственные способности или энергию, человек приобретал состояние, достаточное для покупки дворца в Ушкаделе, его принимали в Эстетическую Корпорацию без лишних формальностей. Конечно, на протяжении двух или трех поколений его потомков считали выскочками, но со временем отпрыски удачливого прародителя, породнившись с соседями, сливались с непроходимыми генеалогическими зарослями и становились полноправными эстетами.
Типичный стеклогородец был сложной, неоднозначной личностью — учтивый и воспитанный, жизнелюбивый и непостоянный в увлечениях, он проявлял раздражительность, сталкиваясь с трудностями, и чаще уступал нежели сопротивлялся. Стремясь к чувственным наслаждениям, он порицал разврат в принципе; предъявляя высокие требования к другим, он всегда находил повод для попустительства своим страстишкам. Общительный, но сосредоточенный в себе, гарвийский мещанин знал наизусть каждую изумрудную грань, каждый пурпурный отблеск в своем изумительном волшебном городе, слышал все новости и пробовал все модное, но совершенно не интересовался происходящим за пределами столицы. Он любил сборища и представления, но музыка его почти не трогала. У него не хватало терпения выслушивать традиционные импровизации друидийнов или концерты гастролирующих трупп — он предпочитал остроумные баллады, песенки, содержавшие игривые злободневные намеки, танцевальные комедии, выступления эксцентриков и чревовещателей. Короче говоря, не было существа более презренного с точки зрения настоящего музыканта.
Стеклогородцы рассматривали ношение ошейников как необходимое зло, время от времени отпуская в адрес Человека Без Лица почтительно-саркастические шуточки. Ходили слухи, что Аноме жил в одном из ушкадельских дворцов. Завсегдатаи кафе на площади Корпорации без конца судили и рядили о том, кто из знакомых эстетов был вершителем судеб Шанта. Никто не сомневался, однако, в принадлежности Аноме к древнему патрицианскому роду. Уроженцы Гарвия почти никогда не пользовались правом на подачу петиций — по их мнению, только приезжие (то есть непроходимая деревенщина) могли не понимать всю бессмысленность подобной траты времени и денег. Известия о рогушкоях, само собой, появились в столичных журналах и объявлениях — местных жителей позабавили анекдоты, высмеивавшие сексуальную неразборчивость и безудержное пьянство новоявленных варваров, но этим их любопытство и ограничилось. В представлении гарвийцев сообщения о вылазках разбойников из Хванских Дебрей относились к тому же разряду газетного наполнителя, что и бюллетень коллегии звездочетов, предсказывавший падение крупного метеорита в неизведанных просторах центрального Караза.
Медленно кувыркаясь, три солнца спускались к точке зимнего солнцестояния. В то же время Дердейн оказался на участке орбиты, откуда частично заслонившие друг друга светила представлялись сплавленным ослепительным пятном, постоянно менявшим форму и яркость. Астрономическое совпадение способствовало резким переменам погоды. Холодные осенние ветры обрушились из Ниммира на северные берега Шанта.
Покинув Ангвин, гондола «Шострель» с необычайной резвостью понеслась над континентальной магистралью, вылетела из Дебрей в кантон Теней, проскочила Перелог без остановки и свернула на Брассейском разъезде. Здесь Этцвейн бросил безразличный взгляд на запад — туда, где Фролитц, по-видимому, с нетерпением ждал его возвращения. Оставив за кормой кантоны Пособников, Майе и Дикой Розы, ревниво оберегавшие друг от друга неповторимое своеобразие обычаев, «Шострель» достиг наконец Гарвийского кантона. Описывая крутые виражи, гондола мчалась вниз по долине Молчания со скоростью не меньше восьмидесяти километров в час, мимо длинного извилистого ряда монументальных пластин из прозрачного стекла с заключенными в них объемными изображениями династических царей. Все цари застыли в одинаковых позах, чуть выставив вперед правую ногу, с руками по швам, с серьезными, даже недовольными лицами, устремив вдаль широко раскрытые глаза, будто потрясенные нелепостью будущего.
Ветровой начал потихоньку травить тросы. Мало-помалу замедляясь, «Шострель» перелетел над Джардинским разломом и стал спускаться к платформе Гарвийской станции. Заднюю тележку ходовой каретки захватили тормозным канатом и постепенно остановили, а переднюю отцепили и оттащили дальше с такой ловкостью, что гондола приземлилась одним плавным движением.
Этцвейн сошел на платформу; за ним последовал Ифнесс. Вежливо кивнув, Ифнесс поспешил пересечь станционную площадь и свернул в пассаж Кавалеско, под башню темно-синего стекла с хрустальными ребрами пилястров цвета морской воды. Пассаж вел на проспект Кавалеско.[17] Этцвейн пожал плечами и пошел по своим делам.
Фролитц обычно останавливался в гостинице «Фонтеней» на набережной Джардина, к северу от станции, где содержатель заведения предоставлял музыкантам кров и пищу в обмен на несколько вечерних выступлений. Этцвейн отправился в «Фонтеней». Попросив самопишущее перо и бумагу, он поднялся в номер и сразу стал набрасывать черновик петиции — ее он собирался подать уже на следующий день.
Через два часа документ был готов. Этцвейн снова прочел его и не смог найти ничего заслуживающего порицания — ему удалось спокойно и непредубежденно обосновать свою точку зрения, кратко изобразив ситуацию в недвусмысленных выражениях. Петиция гласила:
«Вниманию АНОМЕ!
Во время недавнего посещения предгорий Хвана в кантоне Бастерн я наблюдал последствия набега рогушкоев на общину хилитов в Башоне. Общине нанесен значительный имущественный ущерб: сыромятня и многие пристройки полностью сожжены. Кроме того, рогушкои похитили большое число женщин, а затем убили их в обстоятельствах, вызывающих тревогу и сожаление.
Общеизвестно, что Хванские Дебри служат убежищем этим пагубным дикарям, беспрепятственно предающимся насилию и грабежам. Каждый год их становится все больше, каждый год они предпринимают все более дерзкие вылазки. По моему мнению, всех рогушкоев, проживающих в Шанте, следует уничтожить, принимая энергичные безжалостные меры. Предлагаю объявить набор вооруженного ополчения и хорошо обучить рекрутов. В то же время необходимо изучить образ жизни рогушкоев, выяснить, где они прячутся, примерно определить их численность.
По завершении надлежащей подготовки дисциплинированное ополчение должно оцепить Хван, проникнуть в Дебри согласно продуманному тактическому плану, напасть на рогушкоев и истребить их.
Такова, в сущности, моя настоятельная просьба. Я сознаю, что предлагаю правительству организовать крупномасштабную кампанию, но не вижу другого решения проблемы».
Дело шло к вечеру — в это время петиции уже не принимали. Этцвейн перешел Джардин по мосту и прогулялся по парку Пандамонов, где ветер гнал опавшие листья по широким, почти безлюдным дорожкам. Главная аллея привела его к Эолийскому залу — музыкально-архитектурному сооружению стометровой длины, из жемчужно-серого стекла. Огромные горизонтальные воронки направляли ветер в воздушную камеру повышенного давления. Пользуясь многоярусной клавиатурой, соединенной с клапанами системой замаскированных тяг, исполнитель заставлял вибрировать струями воздуха одну, две, дюжину или сотню из десяти тысяч свободно подвешенных на разной высоте стеклянных труб, трубок и трубочек, издававших тишайшее колокольно-органное пение и осторожно соударявшихся. Человек, бродивший по Эолийскому залу, ощущал трехмерное звуковое пространство. Звук исходил отовсюду, разлетался во всех направлениях — аккорды печально чокающихся бокалов, шепот едва уловимой мелодии, серебристо-протяжная дрожь стекла на стекле, вздыхающие хрустально-чистые тона басовых труб-колонн, порывы шелестящей бахромы трубочек под сводами, бегущие, как рябь по поверхности зеркального пруда, зловещие отголоски теноровых труб, пронизывающие печальными волнами, как пропадающий в штормовом тумане бой сигнального колокола маяка. Изредка весь зал взрывался паническим, беспорядочным тысячеголосым звоном.
Дул крепкий, порывистый северный ветер — Этцвейну посчастливилось услышать Эолийский зал во всем великолепии. В сумерках он вернулся по мосту и поужинал в одном из роскошных ресторанов Гарвия под сотней розовых и лиловых фонарей — до сих пор он отказывал себе в таком удовольствии. Долгие годы он копил деньги: зачем? Деньги — горькое напоминание о тщетных усилиях, обуза памяти. Избавиться от них сейчас же, выбросить на ветер! В Этцвейне тут же проснулось, однако, другое, трезвое начало, наложившее вето на позывы к мотовству. Ничего подобного он не сделает. Деньги, доставшиеся с таким трудом, нельзя тратить как попало. Но сегодня — хотя бы сегодня — он поужинает на славу! Этцвейн заставил себя почувствовать вкус к жизни. Блюда подавала хорошенькая официантка — Этцвейн изучал ее с мрачным интересом. Она казалась добродушной, дружелюбной, ее губы весело подергивались — так, будто она готова была рассмеяться в любой момент. Этцвейн ел: кушанья были приготовлены безукоризненно и изящно сервированы. Ужин подошел к концу. Этцвейн хотел было заговорить с официанткой, но постеснялся. Она выросла в столице, а он приехал издалека. В лучшем случае девушка приняла бы его за нахала-иностранца со странными причудами. Этцвейн почему-то подумал о Фролитце — где он сейчас, что делает? Еще интереснее было бы знать, чем занимается Ифнесс... Этцвейн нахмурился, стал мрачнее прежнего. Раздраженный, недовольный собой, он вернулся в гостиницу и заглянул в таверну на первом этаже, надеясь встретить каких-нибудь музыкантов — но там было тихо, постояльцы почти разошлись, сцена пустовала. Этцвейн поднялся в номер и лег спать.
Наутро он явился в магазин мужской одежды, где портной-галантерейщик подобрал ему новый костюм — белую тунику с поясом и высоким воротником, темно-зеленые бриджи с пряжками на лодыжках, черные сапоги ахульфовой кожи с застежками из серебряного дерева. Никогда еще Этцвейн не одевался с таким щегольством. Посмотрев в зеркало из закопченного стекла, он не был вполне убежден, что видит самого себя. Брадобрей подровнял ему волосы, побрил стеклянной бритвой. Подчинившись внезапному капризу — может быть, именно потому, что насмехался над собой — Этцвейн купил лихой маленький берет с медальоном из цветного агатового стекла. Снова взглянув в зеркало, он проникся противоречивым ощущением отвращения, удивления собственной глупости и, в меньшей степени, какого-то пьянящего возбуждения. Возможно, давала о себе знать унаследованная от Дайстара склонность производить впечатление манерами и внешностью. Этцвейн пожал плечами и скорчил гримасу: потратил деньги — придется носить берет. Он вышел на улицу, ослепленный сиреневым пламенем полудня. Стекло Гарвия вспыхивало и переливалось.
Этцвейн медленно шел к площади Корпорации. Покупка петиции за пятьсот флоринов, исключительно ради изложения взглядов на ситуацию в стране, должна была, несомненно, привлечь внимание Человека Без Лица. Что ему грозило? Беспокойство было оправданно, просьба — законна. Этцвейн чистосердечно выразил озабоченность населения — а Человек Без Лица, согласно его собственным заявлениям, служил народам Шанта!
Выйдя на центральную площадь, Этцвейн направился к длинному низкому строению из малинового стекла — здесь он бывал уже однажды. Вдоль фасада тянулась панель, обшитая темно-бордовым атласом — стена объявлений. К ней прикалывали правительственные указы и петиции с ответами Человека Без Лица. Два-три десятка жалобщиков в пестрых кантональных костюмах составляли очередь к окну, где бланк петиции выдавали за минимальную цену — пять флоринов. Эти люди приехали со всех концов Шанта поведать Аноме о причиненных им обидах и теперь стояли, вызывающе поглядывая на спешивших мимо гарвийцев. В другом окне неподалеку более состоятельные и серьезные просители время от времени с достоинством приобретали бланки по сто флоринов. Из угловой ниши дверь, украшенная рубиновой звездой, вела в приемную, где самые богатые или самые ожесточенные могли подать петицию, потратив пятьсот флоринов.
Не долго думая, Этцвейн открыл угловую дверь и решительно прошествовал внутрь.
Приемная пустовала — других желающих разориться не было. Подьячий, скучавший за стойкой, живо вскочил на ноги: «Что изволите?»
Этцвейн выложил деньги: «Бланк».
«Сию минуту. Дело чрезвычайной важности, не иначе?»
«Надо полагать».
Чиновник осторожно вынул красновато-лиловый лист, перо и блюдо с черной тушью. Пока Этцвейн писал, подьячий подсчитал монеты и приготовил квитанцию.
Этцвейн изложил прошение, сверяясь с черновиком, сложил документ вчетверо и запечатал в услужливо поданном конверте. Взглянув на ошейник Этцвейна, подьячий пометил цвета на конверте: «Ваше имя, будьте добры?»
«Гастель Этцвейн».
«И вы родились...»
«В кантоне Бастерн».
«Очень хорошо. Этого достаточно».
«Когда я получу ответ?»
Подьячий развел руками: «Что я могу сказать? Аноме часто уезжает, его местопребывание мне известно не лучше, чем вам. Скорее всего, ответ появится через два-три дня. Его вывесят вместе с другими на всеобщее обозрение — Аноме никому не оказывает особых услуг».
Этцвейн выходил уже не так уверенно, как вошел. От него больше ничего не требовалось. Разве он не сделал все, что мог? Оставалось ждать решения Аноме. Этцвейн поднялся по ступеням зеленого стекла в висячий сад отдыха, где цветы, стебли растений, стволы деревьев, ветви, листья — все имитировалось синим, зеленым, белым и алым стеклом. За столиком на террасе с видом на площадь он перекусил фруктами и твердым сыром, заказал вина. Принесли бокал — тонкий, филигранный, достававший от стола до губ, наполненный до краев прохладным бледным пельмонтским. Этцвейн не чувствовал облегчения — скорее им овладело тупое опустошение. В голове копошились смутные сомнения. Не пытается ли он отмахнуться от проблемы шикарным жестом? Человеку Без Лица ситуация известна досконально. С его точки зрения петиция Этцвейна будет выглядеть самонадеянной, поверхностной. Этцвейн мрачно пригубил вино. Пятьсот полновесных монет — в обмен на бесполезную липу? Жертвоприношение. Искупление вины. Конечно, как еще? Наказал себя! Пятьсот флоринов — коту под хвост! Годы тяжкого труда!
Этцвейн поджал губы, растер виски кончиками пальцев. Сделанного не воротишь. По меньшей мере, ответ Человека Без Лица позволит узнать, предпринимаются ли какие-нибудь действия против рогушкоев.
Этцвейн допил вино и скоро вернулся в гостиницу «Фонтеней». Содержатель заведения оказался в кухне таверны, с троицей закадычных приятелей. Проверяя и обсуждая достоинства своего погреба, он изрядно напробовался, в связи с чем находился в капризном и неуступчивом расположении духа.
Этцвейн вежливо поздоровался, спросил: «Кто играет по вечерам в таверне?»
Хозяин повернул голову, оглядел Этцвейна с головы до ног. Этцвейн пожалел, что надел дорогое новое платье — бродячему музыканту гораздо больше приличествовало старое.
Владелец гостиницы холодно обронил: «На этой неделе — никто».
«В таком случае я мог бы, с вашего разрешения, развлечь посетителей».
«Ага! Чем, например?»
«Я музыкант, часто играю на хитане».
«Подающий надежды молодой друидийн, надо полагать?»
«Я предпочел бы не представляться в таких выражениях», — слегка поклонился Этцвейн.
«Значит, вы поете деревенские частушки на жаргоне волопасов, под аккомпанемент трех аккордов?»
«Я музыкант, а не певец».
Чувствуя, куда дует ветер, один из завсегдатаев поднял бокал и склонил голову набок, разглядывая содержимое на свет: «Молодое вино жидковато — букет появляется с возрастом».
«Совершенно верно! — отозвался хозяин. — Чтобы хорошо играть, нужно многое пережить. Кто не помнит великого Аладара Цзанто? Недаром он провел в отшельничестве четырнадцать лет! Поставим вопрос ребром: даже будучи одаренным молодым человеком, как вы можете заинтересовать искушенных знатоков, если еще не посвятили достаточно времени размышлению о своих намерениях и возможностях?»
«Об этом можно судить, только услышав мою игру».
«Вы настолько уверены в себе? Хорошо, играйте. Учтите, однако, что я не заплачу ни гроша, если вы не привлечете дополнительный доход — в чем я сильно сомневаюсь».
«Я не рассчитываю ни на что, кроме крова и пищи», — сказал Этцвейн.
«Даже этого не могу обещать, пока сам вас не услышу. В Гарвии не слишком уважают иностранную музыку. Вот если вы умеете гипнотизировать жаб, декламировать похабные стишки, танцевать, виляя задом и распевая злободневные куплеты, или одновременно вращать выпученными глазами в противоположных направлениях — тогда другое дело!»
«Этих талантов я, к сожалению, лишен, — сказал Этцвейн. — Не сомневаясь в щедрости такого ценителя, как вы, вопрос об оплате я оставляю целиком на ваше усмотрение. У вас не найдется, случайно, хитана?»
«Вон в том шкафу, кажется, оставалась пара инструментов».
Прошло три дня. Этцвейн играл в таверне. Ему удалось развлечь публику и заслужить одобрение владельца заведения. Этцвейн не позволял себе никаких музыкальных излишеств, деликатно отбивая такт легкими ударами локтя по гремушке.
Вечером третьего дня, когда уже становилось поздно, на него что-то нашло. Рассеянно набрав ряд аккордов, как заправский друидийн, размышляющий о былом, Этцвейн сыграл задумчивую мелодию, повторил ее в минорном ладу. «Если настоящая музыка порождается опытом, — думал он, — у меня есть о чем рассказать». Бесспорно, ему то и дело не хватало сдержанности — увлекаясь, он чересчур нажимал коленом на рычажок, придававший струнам металлическую звонкость. Заметив чрезмерную резкость тембра, Этцвейн внезапно растворил ее, прервавшись посреди фразы, мягкими, приглушенными пассажами.
В таверне стало тихо — публика явно прислушивалась. До сих пор Этцвейн играл для себя, но теперь вспомнил, где находится. Смутившись, он поспешно закончил импровизацию традиционной каденцией. Этцвейн боялся поднять глаза и посмотреть вокруг — удалось ли ему передать другим то, что нельзя сказать словами? Или слушатели снисходительно улыбались причуде зазнавшегося юнца? Отложив хитан, Этцвейн встал со стула.
И очутился лицом к лицу с Фролитцем, не то усмехавшимся, не то горько опустившим уголки рта: «Браво! Полюбуйтесь на новоявленного друидийна! Он тут, понимаете ли, поражает воображение постояльцев неслыханными фантазиями, а его дряхлый учитель все глаза проглядел, встречая гондолы в Брассеях — не соизволит ли наконец вернуться господин виртуоз?»
«Я все объясню», — сказал Этцвейн.
«Твоя матушка здорова?»
«Она умерла».
«Умерла... неудачно получилось, конечно». Фролитц почесал нос, отхлебнул полкружки пива, посмотрел через плечо: «Труппа со мной. Будем играть?»
На следующее утро Этцвейн (снова в дорогом костюме) направился на площадь Корпорации, к малиновому фасаду ведомства жалоб и прошений. С левой стороны стены объявлений к атласной бордовой ткани с подбивкой прикалывали серые карточки с ответами на жалобы, поданные за пять флоринов: приказы о прекращении несущественных тяжб, постановления о возмещении убытков и обычные отказы приезжим, обвинявшим местные власти в незаконных притеснениях. В средней части стены висели листы бледно-зеленой веленевой бумаги, прикрепленные к ткани булавками из зеленого стекла, имитировавшими неограненные изумруды: решения по делам просителей, заплативших по сто флоринов. Справа, на листах тонкого пергамента в черно-лиловом обрамлении, объявлялись ответы подателям петиций, приобретенных за пятьсот флоринов. Пергаментных листов было только три.
Переходя площадь, Этцвейн с трудом сохранял спокойствие — под конец он почти бежал.
Остановившись в двух шагах от стены объявлений, Этцвейн стал внимательно читать крупный текст в фигурных черно-лиловых рамках. Первый документ гласил:
«Владетель Фиатц Эргольд, воззвавший к заступничеству АНОМЕ с обжалованием чрезмерно сурового приговора, вынесенного судом в кантоне Амаз по делу его сына и наследника, достопочтенного Арлета, да внемлет! АНОМЕ запросил протокол судебного разбирательства и рассмотрит дело. Указанное в петиции наказание представляется несоразмерным проступку. Тем не менее, владетелю Эргольду должно быть известно, что действия, считающиеся всего лишь неприличными или неуместными в одном кантоне, могут подлежать смертной казни в другом. Несмотря на искреннее сочувствие владетелю Фиатцу Эргольду, АНОМЕ, в равной степени справедливый ко всем, не может препятствовать отправлению правосудия, если суд ни в чем не отступил от кантональных законов. Тем не менее, АНОМЕ обратится к суду с просьбой о смягчении наказания в той мере, в какой это допускается процессуальными правилами».
Во втором документе значилось:
«Благородной госпоже Казуэле Адрио сообщается, что АНОМЕ хорошо понимает причину ее негодования, но не склонен применить в отношении господина Андрея Симица потребованное ею наказание, так как последствия действий господина Симица не относятся к категории ущерба, подлежащего возмещению по закону, и вместе с тем необратимы, т. е. быстротечная кончина господина Симица не принесет госпоже Адрио никакой пользы».
Третий документ содержал ответ Этцвейну:
«Вниманию уважаемого господина Гастеля Этцвейна и других почтенных граждан Шанта, выразивших беспокойство по поводу бандитов-рогушкоев, обосновавшихся в Хванских Дебрях: АНОМЕ рекомендует сохранять спокойствие. Эти отвратительные создания не посмеют показываться в населенной местности, их развратные набеги и грабежи не грозят лицам, предусмотрительно принимающим меры предосторожности и надлежащим образом охраняющим свои жизнь и имущество».
Этцвейн наклонился к стене объявлений, раскрыв рот от изумления. Бессознательным жестом, свойственным всем жителям Шанта в минуты недобрых размышлений о Человеке Без Лица, он поднял руку и прикоснулся к ошейнику, прочитал объявление второй, третий раз. Сомнений не было — таково было напутствие Аноме. Дрожащей рукой Этцвейн потянулся к листу, чтобы сорвать его, но сдержался. Пусть висит, пусть все читают! Более того... Он достал из кармана самопишущее перо и быстро написал на пергаменте:
«Рогушкои — убийцы, чудовища! Наши дома жгут, наших женщин насилуют, детям разбивают головы о камни, а Человек Без Лица говорит: «Не волнуйтесь, все будет хорошо»!
Рогушкои плодятся и размножаются, вытесняя мирных жителей, а Человек Без Лица говорит: «Уступите им дорогу»!
Вайано Паицифьюме разговаривал с врагами по-другому!»
Этцвейн отпрянул от стены объявлений, внезапно смутившись. Поступок его был почти равносилен подстрекательству к мятежу — а в таких случаях Человек Без Лица редко проявлял терпимость и понимание. Гнев снова бросился ему в голову: подстрекательство, несдержанность, непокорность? А как иначе? Самоуспокоительное бездействие властей могло вызвать возмущение у кого угодно! Этцвейн озирался — тревожно, но с вызовом. Никто из прохожих не обращал на него особого внимания. Этцвейн заметил человека, медленно переходившего площадь с задумчиво опущенной головой. Ифнесс? Так точно, Ифнесс — он шел в каких-то двадцати шагах от стены объявлений, но, казалось, не видел никого вокруг. Подчинившись внезапному порыву, Этцвейн побежал и догнал его.
Ифнесс обернулся без удивления. Этцвейну невозмутимое спокойствие меркантилиста показалось слегка наигранным.
«Я вас увидел... решил, что было бы невежливо не поздороваться», — недружелюбно, с каким-то упреком сказал Этцвейн.
«Очень приятно, — кивнул Ифнесс. — Как продвигаются ваши дела?»
«Неплохо. Я снова играю с маэстро Фролитцем, в таверне гостиницы «Фонтеней». Заходите как-нибудь послушать».
«Зашел бы с удовольствием — но, к сожалению, в ближайшее время буду очень занят. Вижу, вы решили одеться по местной моде», — Ифнесс вопросительным взглядом оценил новый наряд Этцвейна.
Этцвейн нахмурился: «Пустяки, тряпки. Зря выбросил деньги».
«А ваша петиция Человеку Без Лица? Вы получили ответ?»
Этцвейн холодно воззрился на меркантилиста, подозревая, что скрытный Ифнесс притворяется из любви к искусству — не мог же он не узнать знакомого у стены объявлений, проходя рядом по полупустой площади! Тщательно выбирая слова, Этцвейн ответил: «Я купил петицию за пятьсот флоринов. Ответ вывесили — он на стене».
Они вместе подошли к бордовой атласной панели. Ифнесс читал, слегка выдвинув голову вперед.
«Хм», — произнес он. Потом резко спросил: «Кто приписал замечания снизу?»
«Я».
«Что?! — Ифнесс Иллинет кричал, Этцвейн никогда не видел его в таком волнении. — Да вы понимаете, что за нами следят в телескоп из здания напротив? Сперва вы расписываетесь в неблагонадежности на публичном объявлении, бесполезно рискуя жизнью, потом останавливаете меня посреди площади, у всех на виду, и вовлекаете в разговор? Теперь меня считают вашим сообщником! Вам не сносить головы — неужели не ясно? Ошейник взорвется через считанные минуты. Теперь и я в опасности!»
Этцвейн хотел было с горячностью оправдываться, но Ифнесс удивил и остановил его, быстро приложив палец ко рту: «Ведите себя естественно, без видимого напряжения, не жестикулируйте. Спокойно пройдите к Гранатовым воротам и продолжайте медленно идти дальше. Я вас догоню: нужно сделать несколько приготовлений».
В голове у Этцвейна кружилось — он перешел площадь, стараясь, по возможности, придавать походке непринужденность. Проходя мимо управления Эстетической Корпорации, он взглянул на окна, откуда, по утверждению Ифнесса, велось наблюдение в телескоп. Почти полусферический выступ из необычно светлого, прозрачного стекла, прямо напротив стены объявлений, вполне мог служить линзой. Вряд ли Человек Без Лица собственной персоной просиживал часы, прижавшись глазом к объективу — этим, разумеется, занимался бдительный чиновник. Телескоп, конечно же, позволял различить цвета на ошейнике Этцвейна. Внимание шпиона было приковано к автору подозрительной дорогой петиции — видели, как он писал крамольные замечания, видели, как он встретился и говорил с меркантилистом... если верить заявлениям Ифнесса. «По меньшей мере, — думал Этцвейн, — мне наконец удалось вывести Ифнесса из состояния надменной безмятежности ».
Этцвейн прошел под Гранатовыми воротами, получившими такое прозвище за украшавшие их рельефные гирлянды фруктов из темно-алого стекла, и двинулся дальше по проезду Сервена Айро.
Ифнесс догнал его: «Возможно, ваши действия останутся без последствий. Но я не стал бы рисковать даже одним шансом из десяти».
Этцвейн отозвался угрюмо и резко: «Мои действия объяснимы, чего нельзя сказать о ваших».
«Вы предпочитаете потерять голову?» — самым елейным тоном спросил Ифнесс.
Этцвейн неопределенно крякнул.
«Слушайте меня внимательно, — сказал Ифнесс Иллинет. — Человека Без Лица скоро поставят в известность о вашей проделке. Почти наверняка он оторвет вам голову — как уже поступили с тремя людьми, настоятельно требовавшими обуздания рогушкоев. Предлагаю предотвратить вашу безвременную кончину. Кроме того, я намерен выяснить, кто именно выполняет функции Аноме, и принудить этого человека изменить политику».
Этцвейн обернулся к спутнику с ужасом и уважением: «Вы способны это сделать?»
«Попытаюсь. И ваша помощь может оказаться полезной».
«Что заставляет вас строить такие планы? Весьма неожиданно для агента купеческой ассоциации!»
«Что заставило вас подать петицию за пятьсот флоринов?»
«Мои мотивы вам известны», — упорствовал Этцвейн.
«Именно так, — кивнул Ифнесс. — Поэтому вам можно доверять. Идите быстрее, за нами нет хвоста. Направо, к Старой Ротонде».
Покинув стеклянные теснины центра, они прошли полкилометра на север по проспекту Фазаренских Директоров, свернули в переулок, затененный сине-зелеными живыми изгородями, и проскользнули в узкий проем — к коттеджу с фасадом, выложенным бледно-голубой плиткой. Ифнесс открыл замок, пропустил Этцвейна внутрь: «Быстро, снимайте куртку!»
Мрачный Этцвейн молча стянул с себя тунику. Ифнесс указал на кушетку: «Ложитесь лицом вниз».
Этцвейн снова подчинился. Ифнесс подкатил стол на роликах. На столе позвякивали инструменты — целый набор инструментов. Этцвейн приподнялся было, чтобы рассмотреть их получше, но Ифнесс коротко приказал ему лечь: «Теперь, если хотите жить, не двигайтесь!»
Ифнесс Иллинет зажег яркую лампу, прихватил ошейник Этцвейна небольшой струбциной, продел металлическую полоску между ошейником и кожей Этцвейна, закрепил на концах полоски подковообразное устройство и прикоснулся к кнопке. Устройство тихо загудело. Этцвейн почувствовал щекотку вибрации. «Металл лишен электрической проводимости. — сказал Ифнесс, — Можно безопасно снять ошейник». Включив тихо жужжащую миниатюрную дисковую пилу с рукояткой, меркантилист разрезал по окружности, как масло, флекситовую оболочку ошейника, отложил пилу, раздвинул края разреза и вытащил острогубцами начинку — похожую на прокладку трубку из мягкого черного материала: «Декокс удален». Ифнесс повозился во внутреннем замке ошейника острым крючком на конце металлического стержня — блестящее кольцо раскрылось и упало с шеи Этцвейна.
«Человек Без Лица бессилен казнить вас или миловать: вы свободны!» — изрек Ифнесс Иллинет.
Этцвейн растер шею ладонью — шея казалась голой, беззащитной. Поднявшись с кушетки, он медленно перевел взгляд с ошейника на лицо Ифнесса: «Как вы научились...»
«Вы помните, конечно, что я собрал шесть ошейников на Гаргаметовом лугу. Я внимательно разобрался в их устройстве». Ифнесс продемонстрировал Этцвейну внутренность ошейника: «Здесь контакты кодированного приемника. Вот детонирующее реле. Когда Человек Без Лица передает сигнал, содержащий код, реле замыкается на волокно декокса, взрывчатка детонирует, и голова летит с плеч. Здесь — автоответчик. Благодаря ему Аноме в любую минуту мог узнать, где вы находитесь. Теперь автоответчик не работает. В полостях обода, насколько я понимаю — энергетические аккумуляторы».
Нахмурившись, Ифнесс Иллинет стоял и смотрел на лежащее перед ним устройство так долго, что Этцвейн устал ждать и надел тунику.
В конце концов Ифнесс прервал молчание: «Если бы я был Человеком Без Лица, у меня были бы все основания подозревать заговор, причем я считал бы, что Гастель Этцвейн, скорее всего, не самый влиятельный из заговорщиков. Поэтому я не стал бы сразу отрывать Этцвейну голову, но воспользовался бы автоответчиком, чтобы найти Этцвейна и проследить за его передвижениями».
«Разумное предположение», — неохотно согласился Этцвейн.
«В связи с чем, — продолжал Ифнесс, — я присоединю к вашему ошейнику зуммер. Если Человек Без Лица попытается определить ваше местопребывание, нас об этом предупредит тихий звуковой сигнал». Ифнесс хлопотливо занялся приготовлениями: «Не принимая сигнал автоответчика, Аноме вынужден будет допустить, что вы покинули город, а мы узнаем наверняка, интересуется ли правительство лично Гастелем Этцвейном. Меньше всего я хотел бы возбудить в Аноме какие-либо опасения или подозрения».
Этцвейн задал наконец вопрос, давно не дававший ему покоя: «Каковы, в действительности, ваши намерения? Чего вы хотите?»
«Трудно сказать, — пробормотал Ифнесс Иллинет. — Я озадачен происходящим больше вашего».
На Этцвейна снизошло озарение: «Вы — паласедрийский шпион! Вы здесь для того, чтобы следить за успехами рогушкоев!»
«Неправда, — усевшись на кушетку, Ифнесс поднял на Этцвейна бесстрастные глаза. — Так же, как и вы, я не могу понять, откуда взялись рогушкои и почему Человек Без Лица игнорирует их набеги. Как и вы, я вынужден действовать — и тем самым, подобно вам, нарушаю свои законы».
«И что же вы собираетесь предпринять?» — осторожно спросил Этцвейн.
«Прежде всего необходимо установить личность Человека Без Лица. Дальнейшие шаги будут зависеть от обстоятельств».
«Вы заявляете, что не работаете на летучих герцогов. Одного заявления недостаточно — почему нет?»
«Вспомните, что я делал в Сумрачной долине. Разве я вел себя, как паласедрийский шпион?»
Этцвейн задумался. Действительно, нельзя было утверждать, что на Гаргаметовом лугу Ифнесс способствовал интересам Паласедры. А инструменты на столе? Чудесной работы вещи, из блестящего металла и редчайших, невиданных материалов — таких не было даже в Паласедре! «Вы не могли родиться в Шанте. Если вы не паласедриец, кто вы?»
Ифнесс Иллинет откинулся спиной к стене с выражением невыносимой скуки на лице: «Неотвязно, с упорством деревенского пьяницы вы заставляете меня делиться сведениями вопреки моим правилам и предпочтениям. Теперь ваше сотрудничество может оказаться полезным, и я вынужден уступить — в какой-то мере. Вы заметили, что я не уроженец Шанта. Верное наблюдение. Я землянин, стипендиат-корреспондент Исторического института. Вам что-нибудь стало яснее или понятнее от того, что вы это знаете?»
Этцвейн вперил в лицемера яростный взгляд: «Земля существует?»
«Еще как!»
«Что вы делаете в Шанте?»
В скучающем голосе Ифнесса появилась нотка нетерпения: «Беженцы, прибывшие на Дердейн девять тысяч лет тому назад, вели себя скрытно и эксцентрично: они нарочно сожгли за собой мосты, затопив звездолеты в Пурпурном океане. На Земле Дердейн давно забыли — но только не в Историческом институте. Я — очередной корреспондент Института на Дердейне. Насколько мне известно, до сих пор еще никто из историков не нарушал первую заповедь Института: «Корреспонденту запрещено вмешиваться в дела изучаемого мира». Институт занимается исключительно сбором информации, исследователь обязан ограничиваться пассивным наблюдением. Мои действия в отношении Человека Без Лица — вопиющее нарушение всех правил. С точки зрения руководства Института я — преступник».
«Зачем же вы взяли на себя труд нарушить правила? — продолжал допрос Этцвейн. — Из-за рогушкоев?»
«Вам незачем знать о моих побуждениях. Ваши интересы, по крайней мере до поры до времени, совпадают с моими. Не желаю вдаваться в дальнейшие разъяснения».
Этцвейн разворошил прическу пальцами, медленно опускаясь на другую кушетку напротив Ифнесса: «Ну и дела, никогда бы не поверил!» Он с подозрением покосился на историка: «А другие земляне на Дердейне есть?»
Ифнесс отрицательно покачал головой: «Корреспондентов мало, планет много».
«Как вы прилетели? Как вернетесь на Землю?»
«Опять же, предпочел бы не распространяться на эту тему».
Раздраженный Этцвейн не успел ответить — его ошейник испустил резкий звенящий писк. Ифнесс вскочил на ноги и во мгновение ока оказался у ошейника: зуммер замолчал. Наступила тяжелая, неприятная тишина. «Где-то, — подумал Этцвейн, — Человек Без Лица недовольно отвернулся от приборов».
«Превосходно! — заявил Ифнесс. — Вами интересуется Аноме. Остается узнать, кто он такой».
«Завидую вашей уверенности, — отозвался Этцвейн. — Как мы его найдем?»
«Тактическая задача — в свое время мы ее обсудим. В данный момент я хотел бы вернуться к занятию, прерванному нашей встречей на площади. Я собирался обедать».
Ифнесс и Этцвейн, надевший выпотрошенный ошейник, вернулись на площадь Корпорации. Здесь они держались под арками окружавшей площадь сводчатой галереи, стараясь не попадаться на глаза наблюдателю в управлении Корпорации. Этцвейн взглянул на бордовую стену объявлений: лилового документа в черной рамке уже не было. Он поделился наблюдением с историком.
«Еще одно свидетельство чувствительности Аноме, — безмятежно заметил Ифнесс. — Наша задача упрощается».
«Каким образом?» — возмутился Этцвейн. Высокомерие землянина становилось невыносимым.
Ифнесс огляделся по сторонам, поднял брови и тихо сказал тоном врача у постели больного: «Следует побудить Аноме к неосторожности. Охотник не замечает птицу, притаившуюся в листве, пока та не вспорхнет. Так и мы: нужно создать ситуацию, вынуждающую Человека Без Лица проверить обстоятельства самостоятельно, не полагаясь на благотворителей. Тот факт, что он снял ответ с вашими комментариями, означает, что вопрос о рогушкоях для него неудобен, щекотлив — возможно, даже опасен. Вероятность личного расследования с его стороны повышается».
Этцвейн сардонически хмыкнул: «Пусть так. Какую ситуацию вы предлагаете создать?»
«Об этом придется поговорить. Сначала давайте пообедаем».
Они заняли места в лоджии ресторана «Закоренелый язычник». Подали закуски. Ифнесс ни в чем себе не отказывал. Этцвейн, подозревая, что ему придется платить из своего кармана, обошелся обедом поскромнее. В конце концов, однако, Ифнесс рассчитался за двоих и откинулся на спинку кресла, прихлебывая десертное вино: «Итак, к делу. Человек Без Лица вежливо ответил на петицию, стоившую пятьсот флоринов, и проявил к вам интерес только после того, как вы выразили недовольство. Это позволяет откалибровать один из параметров».
Этцвейн не понимал, к чему клонит корреспондент Института.
Ифнесс рассуждал: «Мы должны держаться в рамках гарвийских законов, не предоставляя Эстетической Корпорации никакого повода к действию. Например, мы могли бы объявить о проведении публичной лекции о рогушкоях, посулив самые поразительные откровения. Человек Без Лица проявил беспокойство по поводу распространения такой информации. Вероятно, он достаточно заинтересуется и окажется в числе слушателей».
«Предположим, — согласился Этцвейн. — Кто будет читать лекцию?»
«Этот вопрос требует обстоятельного размышления, — заявил Ифнесс. — Вернемся в коттедж. Мне нужно снова изменить конструкцию вашего ошейника — чтобы он стал не только предупреждающим устройством, но и, так сказать, средством нападения».
Снова в коттедже, Ифнесс два часа работал над ошейником Этцвейна. Наконец он отложил инструменты: теперь пара малозаметных проводков соединяла ошейник с катушкой из пятидесяти витков, привязанной к куску плотного картона. «Антенна-пеленгатор, — пояснил Ифнесс. — Носите катушку под нижней рубашкой. Вибраторы в ошейнике известят вас о попытке узнать ваши координаты или оторвать вам голову. Поворачиваясь, вы сможете определить, откуда поступает сигнал — он максимально усилится, когда вы будете стоять лицом к Аноме. Позвольте надеть на вас ошейник».
Этцвейн подчинился без энтузиазма: «Дело дрянь, — ворчал он. — Мне предстоит служить наживкой».
Ифнесс Иллинет позволил себе ледяную улыбку: «Что-то в этом роде. Теперь слушайте внимательно. Если вы почувствуете вибрацию с тыльной стороны шеи, значит, передан детонирующий сигнал. Поисковый сигнал вызовет вибрацию справа. В любом случае постарайтесь сразу повернуться так, чтобы вибрация стала максимальной. Человек, передающий сигнал, будет прямо перед вами».
Этцвейн мрачно кивнул: «А вы?»
«Со мной будет сходное устройство. Если повезет, вместе мы успеем запеленговать источник сигнала».
«А если не повезет?»
«Откровенно говоря, думаю, что ничего не получится. Трудно рассчитывать на удачу с первой попытки. Даже если мы вспугнем дичь, другая птица может вспорхнуть в тот же момент и спутать наши планы. Так или иначе, я возьму с собой камеру. По меньшей мере у нас будет точная запись происходившего».
Глава 10
По всему Гарвию, в местах, предназначенных для публичных объявлений, висели большие плакаты, напечатанные коричневым и черным шрифтом на белой бумаге с желтым бордюром — цвета символизировали страшные, судьбоносные вести с жуткими сенсационными подробностями:
«РОГУШКОИ РАЗОБЛАЧЕНЫ!
Бешеные дикари, грабители, насильники, оскверняющие нашу землю — кто они? Откуда? Зачем? ОТВАЖНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК (ПОЖЕЛАВШИЙ ОСТАТЬСЯ НЕИЗВЕСТНЫМ) ТОЛЬКО ЧТО ВЕРНУЛСЯ ИЗ ХВАНА. ОН ПОВЕДАЕТ О ПОРАЗИТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ И ВЫСКАЖЕТ ЕЩЕ БОЛЕЕ ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ ПОДОЗРЕНИЯ! КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ БУЙНОЙ ЗАРАЗЫ? СПЕШИТЕ УСЛЫШАТЬ НЕВЕРОЯТНОЕ ОБВИНЕНИЕ!
КЬЯЛИСДЕНЬ,
ШЕСТЬ ЧАСОВ ПОПОЛУДНИ ПАВИЛЬОН ОБЩЕСТВЕННЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ ПАРК ПАНДАМОНОВ».
Плакаты наклеили на сотнях досок объявлений, и даже столичные жители стали их читать, замечая одну и ту же надпись на трех или четырех углах. Ифнесс остался доволен произведенным эффектом: «Человек Без Лица не сможет нас игнорировать. И в то же время мы не подаем повода для вмешательства — ни ему, ни Корпорации».
Этцвейн отвечал с угрюмым сарказмом: «Почему бы вам самому не выступить в роли «отважного путешественника, пожелавшего остаться неизвестным»?»
Ифнесс весело рассмеялся — без всякого смущения: «Как? Друидийн-виртуоз Гастель Этцвейн боится публичного выступления? Вы предпочли бы, чтобы в тавернах за вас играл кто-нибудь другой?»
«Это совсем не то».
«Не спорю. Но в качестве «отважного путешественника» я не смог бы пользоваться камерой. Вы хорошо запомнили текст?»
«Настолько, насколько требуется! — рычал Этцвейн. — Честно говоря, я не нанимался плясать под вашу дудку. Чего доброго, схватят меня дискриминаторы[18] и сошлют в колодках на остров Каменотесов, пока вы будете рассиживать в «Закоренелом язычнике» и пробовать заливных строматов с омлетом из яиц бельджамарского ингера».
«Маловероятно, — обронил Ифнесс. — Возможно, но маловероятно».
Этцвейн проворчал нечто невразумительное. В амплуа «отважного путешественника» он носил широченную тяжелую папаху на черном меху и холщовые штаны песчаного цвета, заправленные в черные сапоги — наряд шкорийского горца. Эмблема музыканта на ошейнике нисколько не противоречила роли искателя приключений. Стройный, подтянутый, с проницательным и нервным лицом, в горском костюме Гастель Этцвейн выглядел лихо, экстравагантно. Незаметно для него самого одежда влияла на походку и манеры, даже на образ мыслей. Ему не нужно было притворяться, чтобы производить впечатление видавшего виды странника, чуждого городской суете. Ифнесс Иллинет, в темно-серых брюках, свободной белой рубашке и мягкой серой куртке, оставался самим собой. Даже если землянина что-то беспокоило, внешность его не позволяла об этом судить. Этцвейн, напротив, с трудом сдерживал волнение.
Они прибыли в парк Пандамонов за полчаса до начала лекции.
«Сегодня в парке людно, — заметил Ифнесс. — Заранее собираются, конечно, приезжие зеваки. Настоящий столичный житель не торопится на представление. Обыватели, заинтригованные назревающим скандалом, явятся за минуту до начала лекции».
«Что, если никто не придет?» — с меланхолической надеждой спросил Этцвейн.
«Придут, придут, — успокоил его Ифнесс, — в том числе Человек Без Лица. Ему-то предстоящий спектакль, разумеется, не по душе. Он может даже выставить дискриминатора у павильона, чтобы припугнуть лектора. Подозреваю, однако, что сначала он вас выслушает, а потом уже будет действовать смотря по обстоятельствам. Необходимо раздосадовать его или испугать настолько, чтобы он нажал кнопку и передал детонирующий сигнал».
«Но голова-то не оторвется!»
«Замыкающие реле ошейников изредка отказывают. Аноме подумает, что реле неисправно и повторно передаст тот же сигнал, потом захочет проверить передатчик и нажмет кнопку поиска. Тогда вы почувствуете вибрацию справа — помните?»
«Да-да, — бормотал Этцвейн. — Надеюсь, разочарованный отсутствием взрыва, он не разрядит в меня пистолет».
«Приходится рисковать... Осталось двадцать минут. Давайте-ка отойдем в тень и повторим текст вашей лекции».
Стеклянный колокол городских часов пробил шесть раз. Из-под деревьев на площадку павильона вышел «отважный путешественник». Не оглядываясь по сторонам, он приблизился к возвышению сцены размашистыми, но строгими шагами, поднялся на трибуну по ступеням молочного стекла — и нагнулся, чтобы прочитать извещение в пурпурной рамке, лежавшее на зеленом стекле пюпитра:
«Ваше объявление заинтересовало АНОМЕ.
Он призывает к сдержанности — чрезмерная откровенность может повредить ходу некоторых тайных правительственных расследований. По мнению АНОМЕ, рогушкои — докучливые бесстыдники, шайка сомнительной репутации, в последнее время уже не создающая, однако, серьезной опасности. Правильно проинформированный гражданин подчеркнет в своем выступлении малозначительный, преходящий характер проблемы или даже предпочтет обсудить другой вопрос, более занимательный и полезный для широкой аудитории».
Этцвейн отложил извещение и обвел взглядом лица собравшихся. На скамьях перед трибуной разместилось не меньше сотни людей. Вокруг, на площадке, столпились пришедшие позже — тоже не меньше сотни. Неподалеку, по левую руку, стоял Ифнесс, спрятавший копну мягких белых волос под капюшоном уличного торговца. Благодаря какому-то удивительному изменению позы землянин теперь ничем не выделялся среди уроженцев Гарвия. Человек Без Лица — неужели он здесь? Этцвейн переводил глаза с одной физиономии на другую. Прямо напротив — скуластый аскет со впалыми щеками, гладкими черными локонами и горящими глазами. Аноме? Дальше, в толпе — коротышка с большой круглой головой и тонким, презрительным ртом. Он? Или красавчик-эстет в зеленом плаще, с аккуратно подстриженной, окладистой темной бородой? Суровый старик в матово-сливовом одеянии посредника Эклектического Божества? Еще лицо, за ним другое — всюду внимательные, настороженные глаза...
Помолчав еще несколько секунд, Этцвейн заставил себя собраться и распрямиться. Слушатели ждали. Взявшись руками за края трибуны, Этцвейн чуть наклонился вперед и заговорил — извещение Аноме побудило его изменить приготовленный текст: «В объявлении я сулил поразительные вести — и выполню обещание сейчас же».
Этцвейн повысил голос: «Достопочтенный Аноме лично проявил интерес к моим наблюдениям — внемлите же его совету!» Этцвейн прочел правительственное извещение нарочито торжественным тоном. Подняв глаза, он заметил, что аудитория существенно оживилась — на него смотрели с удивлением и ожиданием. Ифнесс внимательно изучал толпу и, пользуясь неприметной маленькой камерой, то и дело фотографировал.
Нахмурившись, Этцвейн продемонстрировал прочтенный документ: «Судя по всему, Аноме придает большое значение моим намерениям. Очень рад — тем более, что другие корреспонденты явно вводили его в заблуждение. Преходящая, малозначительная проблема? Докучливые бесстыдники? Советую Аноме оторвать голову тем, кто его обманывает. Рогушкои угрожают всем, в том числе каждому из присутствующих. Они не «шайка сомнительной репутации» — Аноме не знает, о чем говорит! Это беспощадные, хорошо вооруженные бойцы, и вдобавок сексуальные маньяки. Вас интересуют их привычки? Они не совокупляются, как люди — оплодотворенная рогушкоем женщина спит до тех пор, пока у нее не родится гурьбой дюжина детенышей-чертенят, после чего она больше не может забеременеть от мужчины, но способна произвести на свет еще дюжину рогушкоев. Каждая женщина, живущая в Гарвии, может стать матерью двадцати четырех или даже сорока восьми меднокожих бесов!
Хванские Дебри кишат рогушкоями. В кантонах, граничащих с Хваном, давно считают, что рогушкоев подослали из Паласедры.
Достойная удивления ситуация, не правда ли? Почтенные, уважаемые граждане умоляли Аноме истребить кровожадную нечисть. Аноме им отказал — более того, оторвал им головы! Почему? Спросите себя. Почему Человек Без Лица, защитник Шанта, подчеркнуто игнорирует гибельное вторжение врага?»
Ошейник задрожал у Этцвейна под затылком — сработало детонирующее реле. Человек Без Лица гневался! Этцвейн тут же повернулся из стороны в сторону, пытаясь уловить, в каком положении сигнал принимается сильнее. Но дрожь прекратилась прежде, чем он успел определить направление. Этцвейн сжал кулак левой руки — подал знак землянину.
Ифнесс кивнул и стал наблюдать за толпой с удвоенным вниманием.
Этцвейн продолжал: «Почему Человек Без Лица старается затушевать угрозу и затыкает рот тем, кто о ней говорит? Зачем он направил мне извещение, призывающее к «сдержанности»? Друзья мои, я только задаю вопросы, но не спешу на них ответить. Неужели Человек Без Лица...»
Вибрация возобновилась. Этцвейн повернулся туда-сюда, но снова не мог с уверенностью сказать, кто из слушателей пытался его казнить. Прямо перед ним сидел человек в зеленом плаще, исподлобья следивший за оратором неподвижными холодными глазами.
Затея с пеленгующей антенной завершилась провалом — по крайней мере, в том, что касалось детонирующего сигнала. Незачем было провоцировать Аноме сверх всякой меры — правитель мог решиться на открытое убийство. Этцвейн направил речь в менее крамольное русло: «Неужели Человек Без Лица одряхлел и поглупел настолько, что потерял представление о реальности? Может быть, он болен? Не пора ли ему передать полномочия и обязанности энергичному, решительному преемнику?»
Наблюдая за реакцией слушателей, Этцвейн видел, что они разочарованы. Многие озирались, наблюдая за соседями — так же, как и Этцвейна, их больше интересовала реакция других, свои выводы они уже сделали.
Подняв над головой извещение в лиловой рамке, Этцвейн произнес фальшивым тоном проказника, изображающего примерное послушание: «Уважение к Аноме не позволяет мне продолжать разглашение тайн. Могу сказать только то, что рогушкои пугают не меня одного. Я говорю от имени группы, посвятившей себя обеспечению безопасности Шанта. Теперь мне предстоит отчитаться перед ними. Через неделю я выступлю снова — надеюсь, что тогда мне удастся привлечь желающих к участию в нашей организации».
Провокатор спрыгнул с возвышения и сразу, чтобы избежать праздных расспросов, быстрыми шагами отправился туда, откуда явился. На ходу Этцвейн прикоснулся к переключателю на ошейнике, чтобы привести в действие автоответчик. Оказавшись за стволами деревьев, он оглянулся. Не спеша, за ним следовал эстет в зеленом плаще. За эстетом, столь же непринужденно, шел Ифнесс Иллинет. Этцвейн поспешил дальше. Ошейник задрожал с правой стороны — кто-то передал поисковый сигнал.
Этцвейн направился прямо к выложенному голубой плиткой коттеджу на северной окраине Гарвия.
Он шел по улице Элемайра, к востоку от площади Корпорации, когда ошейник снова задрожал. Вибрация повторилась после того, как Этцвейн свернул на проспект Фазаренских Директоров, и возобновилась в затененном живыми изгородями переулке. Скрывшись в коттедже, Этцвейн снял неудобный черный плащ, расстегнул ошейник и положил его на стол. Покинув коттедж с заднего крыльца, он встал за углом так, чтобы можно было видеть переулок.
Прошло полчаса. В переулке показался человек в темнозеленом плаще, прикрывший голову капюшоном. Незнакомец вел себя настороженно, постоянно озирался. Он держал какой-то предмет и время от времени подносил его к глазам. Дойдя до проема в живой изгороди, ведущего к коттеджу, незнакомец сразу остановился — прибор в его руке уловил эхо-сигнал автоответчика в ошейнике Этцвейна.
Удостоверившись в том, что вокруг никого нет, незнакомец заглянул в узкий проем изгороди. Крадучись, как вор, он проскользнул в проем и спрятался за стволом известкового дерева. Этцвейн уже стоял там же — и набросился на спину незваному гостю. Тот оказался необыкновенно силен. Вцепившись в коренастого противника обеими ногами и левой рукой, правой Этцвейн успел достать иглу-пипетку, предусмотрительно предоставленную Ифнессом, воткнуть ее в шею шпиону и сжать пальцами мешочек на тупом конце иглы.
Незнакомец тут же обмяк — через секунду он упал на четвереньки.
Подоспел Ифнесс. Вдвоем они отнесли вяло дышащего пленника в коттедж. Ифнесс сразу принялся за дело и удалил ошейник незнакомца. Этцвейн выключил свой автоответчик.
Землянин издал возглас сожаления — в ошейнике шпиона оказалась черная трубчатая прокладка декокса. Ифнесс вытащил ее и разглядывал с недовольством, похожим на отвращение.
Когда пленник пришел в себя, его кисти были крепко связаны. «Получается, что вы — не Человек Без Лица», — сообщил ему Ифнесс.
«Никогда не претендовал на это звание», — невозмутимо отвечал незнакомец.
«Кто же вы?»
«Гарстанг Аллингенен, директор Корпорации Эстетов».
«То есть вы служите Человеку Без Лица».
«Мы все ему служим».
«Учитывая ваше поведение, а также наличие у вас кодирующего передатчика-пеленгатора, можно предположить, что вам Аноме доверяет больше, чем другим».
Ифнесс поднял со стола прибор, найденный в плаще Гарстанга — увесистый металлический брусок чуть больше ладони в длину, чуть меньше в ширину, толщиной в два пальца. Сверху из бруска выступали ряды разноцветных штырьков-переключателей, под ними десять плоских прямоугольных индикаторов светились цветами эмблемы ошейника Этцвейна.
Под индикаторами, справа, находилась круглая желтая кнопка, цвета смерти. Рядом, слева, была такая же кнопка — «невидимого» красного цвета, в данном случае символизировавшего поиск скрывающегося, то есть «невидимого» человека.
Ифнесс опустил прибор на стол: «Как вы это объясняете?»
«Объяснение очевидно».
«Желтая кнопка?» — поднял брови Ифнесс.
«Детонация».
«Красная?»
«Поиск».
«Какую должность вы занимаете?»
«Вам это уже известно. Я — благотворитель на службе Человека Без Лица».
«Когда вы должны представить отчет?»
«Примерно через час», — Гарстанг отвечал без задержки, ничего не выражающим голосом.
«Вы лично отчитываетесь перед Аноме?»
Гарстанг холодно усмехнулся: «Разумеется, нет. Я отчитываюсь перед сетчатым экраном речевой связи. Инструкции получаю с помощью того же устройства или по почте».
«Сколько благотворителей работают на Аноме?»
«Мне говорили, что есть еще один».
«Только двое благотворителей и Человек Без Лица пользуются кодирующими передатчиками?»
«Мне неизвестно, каким оборудованием пользуются другие».
Этцвейн вмешался: «Человек Без Лица и два благотворителя — три человека — контролируют весь Шант?»
Гарстанг пожал плечами со скучающим видом: «Если бы Аноме захотел, он мог бы справиться в одиночку».
Наступила кратковременная тишина. Ифнесс и Этцвейн рассматривали пленника, с иронической вежливостью поднявшего брови в ответ, но нисколько не обескураженного. Этцвейн нарушил молчание: «Почему Человек Без Лица не выступит против рогушкоев?»
«Об этом я знаю не больше вашего».
Сдерживая гнев, Этцвейн обронил: «Завидное хладнокровие! Вы что, смерти не боитесь?»
Казалось, Гарстанг был искренне удивлен: «Не вижу причины опасаться за свою жизнь».
«Вы пытались меня убить. Почему вы рассчитываете на снисхождение?»
Благотворитель чуть отпрянул с презрительным замешательством: «Я не пытался вас убивать. На этот счет распоряжений не поступало».
Ифнесс поторопился поднять руку, умоляя Этцвейна сохранять спокойствие и соблюдать осторожность: «В чем именно состояли распоряжения?»
«Мне поручили явиться на собрание у павильона в парке Пандамонов, зарегистрировать цветовой код оратора и следовать за ним к месту жительства, где я должен был собрать всю возможную информацию».
«Но вам не приказывали лишить оратора головы?»
Гарстанг начал было отвечать, но осекся — на лице его появилось лукавое выражение. Быстро взглянув сначала на Этцвейна, потом на Ифнесса, он насторожился и слегка помрачнел: «Любопытный вопрос!»
«Кто-то пытался оторвать мне голову, — сказал Этцвейн. — Если не вы, значит, Человек Без Лица».
Гарстанг пожал плечами, поразмышлял: «Вполне может быть. Я тут ни при чем».
«Допустим, — вежливо кивнул Ифнесс. — Но теперь у нас нет времени продолжать беседу. Мы должны приготовиться к встрече — вас будут искать, за вами придут. Пожалуйста, повернитесь ко мне спиной».
Гарстанг медленно поднялся на ноги: «Что вы собираетесь делать?»
«Усыплю вас. Скоро, если все будет хорошо, вас освободят».
Гарстанг отскочил в сторону и вскинул ногу, как танцор, застывший в неудачном прыжке. «Осторожно! — крикнул Этцвейн. — Ножной самострел!»
Хлопок! Вспышка! Взорвалась подвязка элегантных брюк Гарстанга, звякнуло треснувшее стекло. С глухим стуком Гарстанг рухнул на пол — мертвый. Ифнесс Иллинет, мгновенно присевший на корточки, выхватил пистолет и выстрелил. Теперь он стоял и смотрел на тело благотворителя. Его лицо дергалось, морщилось — землянин не на шутку разволновался. «Я запятнал себя! — астматически сипел Ифнесс. — Уничтожил то, что клялся беречь!»
Этцвейн с отвращением крякнул: «Теперь вы распускаете нюни над трупом убийцы. А когда я был на волосок от смерти, вы бездушно отвернулись».
Землянин повернулся к музыканту: желтовато-серые глаза его сверкнули недобрым огнем. Тем не менее, уже в следующий момент он говорил спокойно и ровно: «Что сделано, то сделано. Непонятно, однако, что вынудило благотворителя на отчаянный шаг? У него не было никаких шансов». Ифнесс помолчал минуту. «Многое неясно, — бормотал историк. — С каждым днем новая загадка». Он подозвал Этцвейна повелительным жестом: «Обыщите тело и положите в сарай на заднем дворе. Мне нужно переоборудовать его ошейник».
Часом позже Ифнесс встал из-за стола: «В дополнение к взрывному и поисковому реле в ошейнике благотворителя был простой приемник-зуммер — очевидно, устройство срочного вызова. Я подсоединил еще один зуммер к поисковому реле. Когда Гарстанга начнут искать — надо полагать, в ближайшее время — мы об этом узнаем». Историк подошел к парадной двери и распахнул ее. Солнца уже закатились за Ушкадель — на город опустились мягкие сумерки, пронизанные мириадами приглушенных цветных мерцаний.
«Теперь перед нами тактическая проблема, — сказал Ифнесс. — Во-первых, чего мы добились? Немалых успехов, как мне кажется. Гарстанг убедительно отрицал свое участие в попытках оторвать вам голову. Есть разумные основания подозревать в этих попытках самого Человека Без Лица. Следовательно, Аноме был в парке Пандамонов и запечатлен на фотографиях. В принципе, можно было бы заняться удостоверением личности каждого из примерно двухсот слушателей — трудоемкое и унылое предприятие.
Во-вторых: на что теперь решится Человек Без Лица? Он ждет отчета благотворителя. Упорное нежелание «отважного путешественника» терять голову по меньшей мере разожгло его любопытство. Не получив известий от Гарстанга, Аноме будет раздосадован, начнет беспокоиться. Гарстанг должен был передать отчет примерно час тому назад. Сигнала в его ошейнике следует ожидать с минуты на минуту. Гарстанг, разумеется, не отзовется. Человек Без Лица вынужден будет послать на поиски второго благотворителя — или заняться выяснением обстоятельств самостоятельно, пользуясь автоответчиком Гарстанга в качестве ориентира.
Фактически, ситуация аналогична существовавшей сегодня утром. Теперь вместо «отважного путешественника», крамольных речей и опасных вопросов приманкой служит ошейник Гарстанга. Мы закинули удочку — остается следить за поплавком».
Этцвейн подозревал, что землянин нарочно упрощает дело и о многом умалчивает, но не мог ничего возразить — и вздрогнул, когда затянувшееся молчание прервал глуховатый, но отчетливый писк в ошейнике благотворителя, завершившийся четырьмя короткими, настойчиво чирикающими звуками.
Ифнесс многозначительно кивнул: «Так и есть — Гарстангу приказано немедленно выйти на связь. Пора идти. Коттедж не дает никаких преимуществ». Он опустил ошейник Гарстанга в мягкую черную сумку, задержался, вернулся к столу и задумчиво упаковал несколько изящных инструментов.
«Если мы не поторопимся, по всей округе за каждым углом будет стоять дискриминатор», — ворчал Этцвейн.
«Вы правы, нужно спешить. Выключите автоответчик в своем ошейнике — если вы еще этого не сделали».
«Выключил, давно уже!»
Они вышли в переулок и повернули к тлеющим отсветами звезд и фонарей шпилям и многоярусным галереям гарвийского центра. За шпилями, на склонах чернее ночи, искрились и мерцали россыпи ушкадельских дворцов. Поспевая за Ифнессом по безлюдным темным улицам, Этцвейн чувствовал себя бестелесным призраком, догоняющим другое привидение — две зловещие тени, чуждые всему человеческому в Шанте, летели на шабаш.
«Куда мы идем?»
«Ш постоялый двор, в таверну — куда-нибудь, где можно незаметно наблюдать, не слишком выделяясь, — успокоительно мягким голосом отвечал Ифнесс. — Мы спрячем ошейник Гарстанга в укромном месте и посмотрим, кто явится его искать».
Снова Этцвейн не мог ничего возразить: «Дальше по набережной — гостиница «Фонтеней». Там играет Фролитц со своей труппой».
«Подходящее заведение, ничем не хуже любого другого. Кроме того, играя на хитане, лицом к посетителям, вам будет удобнее незаметно наблюдать за происходящим».
Глава 11
Из открытой двери таверны «Фонтеней» неслись звуки музыки. Этцвейн узнал подвижно-самодовольные переливы древорога Фролитца, аристократически сдержанный хитан Фордайса, весомые, как отдаленная канонада, щипки ультрабаса Мильке. Слезы навернулись на глаза Этцвейна, сердце сжалось щемящей тоской — былая жизнь, голодная, скупая, отмерявшая месяцы и годы редким звоном флорина, падавшего в вечно закрытую на замок копилку, теперь казалась счастливой и беззаботной!
Они зашли внутрь и остановились в тени у входа. Ифнесс разглядывал таверну: «Куда ведет резная дверь?»
«В квартиру хозяина».
«А коридор за кухней?»
«К лестнице и заднему ходу».
«За спиной у Фролитца тоже какая-то дверь».
«Там кладовая, где музыканты держат инструменты».
«Подойдет. Спрячьте ошейник Гарстанга — зайдите в кладовую, чтобы взять инструмент, и повесьте ошейник внутри, где-нибудь у двери. Когда будете выходить...» Из черной сумки Ифнесса послышался писк. «Гарстанга ищут. Времени мало. Когда будете выходить, займите место рядом со входом в кладовую. Я сяду здесь, в углу. Если заметите что-нибудь достойное внимания, посмотрите прямо на меня, потом отвернитесь так, чтобы левое ухо было обращено к подозрительному посетителю. Проделайте это несколько раз — на тот случай, если я сразу не замечу. Я тоже буду занят... Напомните, как пройти к заднему ходу?»
«По коридору мимо лестницы — и направо».
Ифнесс кивнул: «Теперь вы музыкант — идите, играйте! Не забудьте ошейник».
Этцвейн взял ошейник покойного директора Корпорации, засунул его за пазуху и быстро подошел к Фролитцу, приветствовавшему ученика безразличным жестом. Этцвейн вспомнил, что расстался с маэстро только вчера — казалось, прошел целый месяц. Зайдя в кладовую, он повесил ошейник на гвозде рядом с дверью и прикрыл его чьей-то старой курткой. На полке в кладовой лежал его хитан, а с ним и тринголет, и древорог с драгоценными серебряными кольцами! Этцвейн вынес инструменты на сцену, пододвинул свободный стул и сел в двух шагах от двери в кладовую. Ифнесс Иллинет горбился в углу таверны. Уныло-безобидной физиономией он напоминал счетовода или писца — никто не взглянул бы на него дважды. Друидийн, играя с труппой, полностью сливался с окружением. Этцвейн мрачно усмехнулся — в охоте на Человека Без Лица была абсурдная зеркальная логика.
Заметив, что Этцвейн настроил инструмент, Фордайс отложил хитан и взял басовый кларион. Фролитц одобрительно кивнул.
Этцвейн уделял игре лишь четверть внимания. Чувства его обострились необычайно. Все звуки в таверне достигали его ушей — каждая нота, каждая пауза, каждый мимолетный скрип, звон бокалов, стук кружек, смех, разговоры. И недовольный, нетерпеливый писк ошейника Гарстанга в кладовой. Взглянув в дальний угол таверны, Этцвейн встретился глазами с Ифнессом, приподнял левую руку так, будто собирался подтянуть струну хитана, и быстро указал большим пальцем на дверь кладовой. Ифнесс понял, кивнул.
Музыка смолкла. Фролитц обернулся: «Сыграем старый добрый анатолийский танец! Этцвейн...» — Фролитц объяснил, как он собирается менять гармонию в вариациях. Бармен принес кружки с пивом, музыканты освежились. Этцвейн подумал: вот где настоящая жизнь! Никаких интриг, никаких опасностей. Правда, оставались рогушкои — оставался и Человек Без Лица. Этцвейн запрокинул и осушил кружку. Фролитц подал знак, труппа заиграла. Этцвейн положился на память — пальцы его бегали сами, глаза внимательно блуждали по таверне. Сегодня владелец «Фонтенея» не мог пожаловаться — почти все столы были заняты. Большие малиновые линзы, высоко в темно-синей стеклянной стене, пропускали лучи наружных фонарей. Над стойкой бара висела пара светильных шаров, излучавших мягкое белое сияние. Этцвейн все видел, оценивал каждого — всех входящих в таверну, старика Альджамо, ловко отстукивавшего пальцами по пластинкам маримбы, красавицу, грациозно подсевшую к соседнему столу, раскрасневшегося Фролитца, уже слегка навеселе, неприметного Ифнесса. Какое лицо у Человека Без Лица? Узнает ли он в хитанисте за спиной Фролитца «отважного путешественника», возбудившего в нем такую ярость?
Этцвейн погрузился мыслями в прошлое. Насилием лжи, одиночеством и горем пропиталась его жизнь — единственной радостью осталась музыка. Его внимание невольно сосредоточилось на красавице, приглянувшейся раньше — судя по всему, из состоятельной семьи ушкадельских эстетов. Она оделась просто, но элегантно в длинное темно-розовое, почти красное платье с широким парчовым поясом, инкрустированным небольшими цветными камнями, в атласные туфельки под цвет платья, с подошвами из розового стекла. Темные волосы ее украшал серебряный обруч с двумя хрустальными подвесками, свисавшими от виска почти до шеи. Завороженный Этцвейн не мог оторвать взгляд от умного, серьезного лица. Девушка почувствовала внимание и встретилась с ним глазами. Этцвейн поспешил отвернуться, но теперь он играл для нее — сосредоточенно, энергично, рассыпаясь виртуозными пассажами, экстравагантно обогащая гармонию, заставляя хитан петь голосом зверя, превращающегося в человека. Фролитц с насмешливым испугом покосился через плечо: какая муха тебя укусила? Девушка наклонилась к спутнику, лет тридцати с небольшим, и что-то прошептала ему на ухо. Этцвейн раньше не замечал этого спутника — тоже, по-видимому, из касты эстетов. За спиной Этцвейна, из-за стены кладовой, раздался едва слышный, но отрезвляющий писк, заставивший вспомнить о бдительности.
Девушка-эстетка и ее мрачный, скучающий спутник пересели за стол у сцены, рядом с Этцвейном.
Отзвучали заключительные аккорды. Девушка обратилась к Этцвейну: «Вы хорошо играете!»
«Я долго учился», — скромно улыбнулся Этцвейн. Отыскав глазами Ифнесса, он обнаружил, что историк недовольно хмурился — видимо, тот предпочитал, чтобы ближайший к кладовой стол оставался свободным. Этцвейн снова ткнул большим пальцем в сторону кладовой. Ифнесс едва заметно кивнул.
Фролитц обернулся: «Шутовской пляс!» Маэстро задал темп, часто вскидывая голову. Понеслась бесшабашная, разухабистая мелодия — взлетая вверх, срываясь вниз, с короткими паузами невпопад и синкопированными сильными долями. Роль Этцвейна сводилась, главным образом, к ритмически сложному, но гармонически простому сопровождению аккордами. Он успевал наблюдать за девушкой. Вблизи ее внешность только выигрывала. От нее исходил тонкий душистый аромат, кожа тихо и чисто светилась — красавица играла собой не хуже, чем Этцвейн играл на хитане. С неожиданным гневом Этцвейн подумал: «Я хочу ее! Она должна быть моей!» Намерения его отразились во взгляде — девушка подняла брови, обернулась к спутнику, что-то сказала.
Плясовая закончилась. Эстетка больше не замечала Этцвейна. Казалось, ей стало неловко. Она поправила обруч на голове, провела ладонью по поясу. За спиной Этцвейна тихо запищал зуммер. Девушка вздрогнула, уставилась на дверь кладовой: «Что это?»
«Что?» — Этцвейн притворился, что не понимает.
«Кто издает странные звуки?»
«Кто-нибудь из музыкантских детей пробует играть на свирели».
«Вы шутите!» — ее лицо оживилось... весельем? Предвкушением забавы? Этцвейн затруднялся понять.
«Кому-то, наверное, нехорошо, — предположила эстетка. — Сходите, проверьте».
«Если вы пойдете со мной».
«Нет, благодарю вас!» — она повернулась к спутнику, смерившему Этцвейна надменным предупреждающим взглядом. Этцвейн посмотрел в сторону Ифнесса, встретился с ним глазами, повернул голову направо и замер, будто зачарованный вдохновенным процессом опорожнения кружки пива маэстро Фролитцем. Левое ухо Этцвейна было недвусмысленно обращено к ближайшему столу.
Землянин опять кивнул — как показалось Этцвейну, без особого интереса.
В таверну вошли четверо в розовато-лиловых с серым униформах: дискриминаторы. Один громко объявил: «Внимание! Поступило сообщение о нарушении спокойствия в здании гостиницы. От имени Корпорации приказываю всем оставаться на местах!»
Этцвейн успел заметить легкое движение руки сидевшего в углу Ифнесса. Два хлопка, две вспышки — светильные шары над стойкой бара разлетелись звенящим фейерверком. В таверне «Фонтенея» стало темно. Испуганно бормотавшие посетители замолчали в полной растерянности. Раскидывая стулья, Этцвейн бросился вперед, наощупь отыскал и схватил девушку, потащил ее в коридор, по пути налетев плечом на Фролитца. Эстетка начала было визжать, но Этцвейн захлопнул ей рот ладонью: «Ни звука, или хуже будет!» Девушка пиналась и дубасила его кулаками, но ее сдавленные крики тонули в хриплых возгласах дискриминаторов и расталкиваемых ими посетителей.
Боком, вприпрыжку, спотыкаясь, Этцвейн приволок пленницу к заднему ходу, второпях едва нашел засов, распахнул дверь и вынес девушку на двор, под ночное небо. Здесь он задержался и чуть опустил свою ношу — ее туфельки коснулись земли. Эстетка продолжала бешено пинаться. Этцвейн повернул ее спиной к себе, заломил руки за спину. «Не шумите!» — прорычал он ей в ухо.
«Что вы со мной делаете?» — кричала она.
«Вы что, не слышали? Облава! Хотите, чтобы мужланы вас обыскивали?»
«Вы — музыкант из оркестра!»
«Так точно».
«Пустите, я вернусь! Я не боюсь дискриминаторов».
«Какая чушь! — возмутился Этцвейн. — Теперь, когда вы наконец избавились от увязавшегося за вами нахала, мы можем на славу провести вечер!»
«Нет, нет, нет! — ее голос звучал увереннее, ей даже становилось смешно. — Вы галантный, храбрый защитник, но мне нужно вернуться в таверну».
«Не получится, — отрезал Этцвейн. — Пойдемте со мной и, будьте добры, никаких фокусов».
Девушка снова испугалась: «Куда вы меня тащите?»
«Увидите».
«Нет, перестаньте сейчас же! Я...» — кто-то подходил сзади. Этцвейн повернулся, готовый отпустить пленницу и защищаться. Послышался голос Ифнесса: «Вы здесь?»
«Да, с добычей».
Ифнесс приблизился. Он пытался рассмотреть эстетку в полутьме заднего двора: «Кто она?»
«Не могу сказать. Но вас заинтересует ее пояс — советую забрать его».
Девушка ошеломленно вскрикнула, попыталась вырваться.
Ифнесс расстегнул ее пояс: «Здесь нельзя оставаться ни минуты». Девушке он пригрозил: «Не делайте никаких сцен, не пытайтесь визжать или привлечь внимание, а то вам не поздоровится. Понятно?»
«Да», — обиженно прошептала пленница.
Подхватив ее под руки с обеих сторон, они долго бежали задворками и темными переулками, пока не добрались, наконец, до коттеджа, выложенного голубой плиткой. Ифнесс открыл замок, распахнул дверь. Этцвейн протолкнул девушку внутрь.
Ифнесс указал на кушетку: «Пожалуйста, сядьте».
Пленница молча подчинилась. Ифнесс внимательно разглядывал инкрустированный пояс: «Действительно, любопытно».
«Так я и думал, — отозвался Этцвейн. — Она нажимала красный камень каждый раз, когда пищал зуммер».
«Вы наблюдательны, — Ифнесс Иллинет чуть наклонил голову. — Казалось, ваши мысли были отвлечены другими материями. Но будем осторожны — ножной самострел Гарстанга чуть не отправил нас на тот свет».
Этцвейн встал напротив сидящей девушки: «Получается, Человек Без Лица — женщина?»
Эстетка презрительно усмехнулась: «Вы с ума сошли!»
Ифнесс мягко произнес: «Попрошу вас лечь на кушетку лицом вниз. Очень сожалею, но придется вас обыскать — необходимо удостовериться в том, что вы безоружны». Землянин произвел обыск, не уступавший по тщательности медицинскому осмотру. Девушка кричала с негодованием и стыдом. Этцвейн отворачивался. «Оружия нет», — заключил Ифнесс.
«Могли бы спросить, — заявила пленница, — я бы вам сказала!»
«В других отношениях вы не проявляли искренности».
«Вы не задавали вопросов».
«Вопросы будут, немного погодя, — Ифнесс подкатил к кушетке рабочий стол и закрепил струбцину на ошейнике девушки. — Не двигайтесь, или мне придется вас усыпить». Историк достал инструменты, вскрыл ошейник и вытащил острогубцами черную трубку взрывчатки. «Человек Без Лица вполне может оказаться мужчиной, и вдобавок большим хитрецом, — сообщил он, повернувшись к Этцвейну. — Вы схватили подставную фигуру».
«Я пыталась вам объяснить! — воскликнула девушка с отчаянием проснувшейся надежды. — Произошла ужасная ошибка! Я из рода Ксиаллинен. Я ничего не знаю и знать не хочу про вас и ваши интриги!»
Ифнесс, не отвечая, продолжал копаться в ошейнике: «Автоответчик больше не работает. Вас не найдут. Теперь мы можем слегка расслабиться и проверить вашу хваленую искренность. Так вы из семьи Ксиаллинен?»
«Я — Джурджина Ксиаллинен», — угрюмо, с вызовом заявила пленница.
«И почему же вы носите такой удивительный пояс?»
«Что может быть проще? Я люблю роскошные вещи, мне нравятся драгоценности!»
Ифнесс Иллинет отошел, открыл стенной шкаф, вернулся к кушетке с небольшим тампоном в руке. Тампон этот он прижал к шее девушки — справа, слева, под затылком, под подбородком. Та смотрела на него с подозрением: «Зачем вы смазываете мне шею чем-то мокрым и холодным?»
«Жидкость впитывается кожей и растворяется в крови. Скоро она достигнет мозга и временно парализует небольшую область. После этого наша беседа станет более содержательной».
Лицо Джурджины исказилось жалобной, тревожной гримасой. Этцвейн изучал пленницу с болезненным любопытством, пытаясь представить себе подробности ее повседневной жизни. Она носила дорогое вечернее платье с изяществом и легкостью, изобличавшими давнюю привычку. Такие плавные, расслабленные жесты удавались только патрициям Гарвия, бледный оттенок лица и рук тоже говорил о гарвийском происхождении. Но в чертах ее нельзя было не заметить некую чужеродную примесь. Дворец Ксиаллинен населяли отпрыски одного из Четырнадцати Родов, древнейших на планете. В их семье не якшались с пришлыми выскочками — все браки заключались так, чтобы наследственные имения не дробились.
Джурджина заговорила: «Скажу вам правду добровольно, пока могу собраться с мыслями. Я ношу пояс потому, что Аноме приказал мне служить. Не могла же я отказаться!»
«Служить — в каком качестве?»
«В качестве благотворительницы».
«Вы можете назвать остальных благотворителей?»
«Мне известен только Гарстанг Аллингенен».
«Разве нет других?»
«Уверена, что нет».
«Вы, Гарстанг и Человек Без Лица — контролировали весь Шант?»
«Кантонами и городами, так или иначе, управляют местные власти. Достаточно оказывать давление на правителей. Аноме мог бы справиться и в одиночку».
Этцвейн хотел было взорваться, но сдержался. Эти грациозные ручки, надо полагать, неоднократно нажимали на желтый камень пояса, эти большие темные глаза не раз видели, как голова человека исчезала в облачке кровавого тумана. Этцвейн отвернулся — ему было тяжело и душно.
«Человек Без Лица — кто он?» — простодушно спросил Ифнесс.
«Не знаю. Для меня он так же безлик, как и для вас».
Ифнесс продолжал допрос: «Передатчик Гарстанга — и ваш пояс — надо полагать, защищены каким-то образом от использования посторонними лицами?»
«Да. Перед кодированием цветов нужно нажать на серый индикатор».
Ифнесс наклонился к девушке, внимательно посмотрел ей в глаза, слегка кивнул: «Зачем вы вызвали дискриминаторов в гостиницу «Фонтеней»»?
«Я никого не вызывала».
«Кто это сделал?»
«Аноме, надо полагать».
«Кто вас сопровождал в таверне?»
«Мателено, младшей ветви рода Курнайнен».
«Он — Человек Без Лица?»
Джурджина чуть отпрянула в изумлении: «Мателено? Как это может быть?»
«Человек Без Лица когда-нибудь отдавал вам приказы, относившиеся к Мателено?»
«Нет».
«Мателено — ваш любовник?»
«Аноме сказал, что мне нельзя заводить любовников», — голос пленницы начинал звучать сонно и неразборчиво, ее веки опускались.
«Человек Без Лица присутствовал в таверне «Фонтенея»»?
«Не знаю, не уверена. Наверное, он там был — и что-то заметил. Кто еще мог вызвать дискриминаторов?»
«Что он мог заметить? Кого?»
«Шпионов».
«Каких шпионов?»
«Паласедрийских», — Джурджина говорила с трудом, в глазах ее появилось странное, невидящее выражение.
Ифнесс повысил голос, резко спросил: «Почему он боится паласедрийцев?»
Джурджина закрыла глаза и неразборчиво бормотала.
Она спала. Ифнесс Иллинет нахмурился, раздраженно встал.
Этцвейн перевел взгляд с Ифнесса на девушку, снова на землянина: «Что-нибудь не так?»
«Кома наступила слишком быстро. Слишком быстро!»
Этцвейн заглянул спящей в лицо: «Она не притворяется».
«Нет», — Ифнесс тоже наклонился к лицу Джурджины, внимательно осмотрел ей шею, виски, открыл ей рот, заглянул туда, хмыкнул.
«Ваше заключение?»
«Не могу сказать ничего определенного. Не могу даже ничего предположить».
Этцвейн отвернулся — у него в голове копошились сомнения, он ощущал тревожную неуверенность. Уложив девушку поудобнее на кушетке, он прикрыл ее шалью. Ифнесс наблюдал с задумчивым безразличием.
«Что же нам делать?» — спросил Этцвейн. Историк больше не вызывал в нем возмущения, возмущаться было бессмысленно.
Ифнесс вздрогнул, будто очнувшись от нечаянного сна: «Вернемся к установлению личности Человека Без Лица — хотя другие тайны представляются куда более существенными».
«Другие тайны?» — Этцвейн с неловкостью сознавал, что в глазах землянина выглядел непроницательным простаком.
«Несколько тайн. В первую очередь разрешите напомнить о ятаганах рогушкоев. Во-вторых, у Гарстанга не было никаких разумных или иных настоятельных причин для отчаянного покушения на нашу жизнь. Джурджина Ксиаллинен впадает в кому так, будто кто-то намеренно отключил ее сознание. И Человек Без Лица сопротивляется — не пассивно, а целенаправленно и энергично — любым попыткам организовать защиту населения от рогушкоев. За всеми этими фактами скрывается некая руководящая воля, некая политика, в настоящее время недоступная нашему пониманию».
«Странно, очень странно», — бормотал Этцвейн.
«Если бы рогушкои были людьми, в качестве объяснения этим нелепостям можно было бы предположить подкуп, предательство, иностранные происки. Но сама идея сговора эстетов Гарстанга и Джурджины Ксиаллинен с рогушкоями смехотворна, просто бред какой-то!»
«Не так уж смехотворна, если рогушкои — генопластические выродки, подосланные паласедрийцами, чтобы уничтожить Шант».
«На первый взгляд — логичное возражение, — живо отозвался Ифнесс. — Но если бы вы потрудились изучить физиологию рогушкоев и учесть их методы размножения, у вас было бы достаточно оснований усомниться в логике паласедрийского варианта. Тем не менее, перейдем к загадке попроще: Человек Без Лица — кто он? Мы закинули две удочки. В обоих случаях Аноме чудом сорвался с крючка, пожертвовав двумя ближайшими помощниками. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что на него работали только два благотворителя. Джурджины не было в парке Пандамонов, но кто-то из слушателей передал детонирующий сигнал. Если Гарстанг говорил правду, это мог сделать только Человек Без Лица. Гарстанг был мертв, когда кто-то вызвал дискриминаторов в гостиницу «Фонтеней». Опять же, есть основания подозревать Человека Без Лица. И в парке Пандамонов, и в таверне я фотографировал публику. Если мы найдем на фотографиях человека, присутствовавшего и в парке, и в таверне... какова вероятность случайного совпадения? Поможет простой математический расчет. Думаю, фактических данных для точной оценки достаточно. В Гарвии, считая пригороды, примерно двести тысяч взрослых жителей и приезжих. Лекцию «отважного путешественника» явились слушать двести человек — то есть, грубо говоря, только один из тысячи жителей. В таверне «Фонтенея» концерт труппы Фролитца слушали приблизительно человек сто, то есть один из двух тысяч горожан. Вероятность случайного присутствия в обоих местах одного и того же человека — в отличие от вас, меня и Аноме не имеющего никаких особых причин там находиться — составляет один шанс из двух миллионов. Пренебрежимо малая величина. Следовательно, имеет смысл изучить фотографии».
Землянин вынул из кармана матовую черную металлическую трубку, диаметром чуть больше двух сантиметров, длиной с указательный палец. С одной стороны поверхность трубки была уплощена, на ней было несколько кнопок, сверкнувших в лучах лампы. Ифнесс что-то отрегулировал и направил трубку на участок стены рядом с Этцвейном. Из трубки вырвался сноп света.
Этцвейн никогда не видел таких четких, детальных репродукций. Быстро мигая проектором, историк пропустил несколько фотографий площади Корпорации и снова отрегулировал устройство. За пару секунд промелькнули тысячи изображений. Прибор перестал мигать: на стене появилась площадка перед павильоном в парке Пандамонов, а на ней — неподвижная толпа горожан, собравшихся послушать «отважного путешественника».
«Смотрите внимательно, — сказал Ифнесс. — К сожалению, я не могу одновременно показывать фотографии, сделанные в парке и в таверне. Придется сравнивать их поочередно».
Этцвейн показывал пальцем: «Вот стоит Гарстанг. Вот этот, этот — и этот... Я обратил на них внимание — подходящие кандидаты».
«Хорошо запомните их лица. Аноме, несомненно, умеет изменять внешность». Ифнесс показывал фотографии, снятые под различными углами, из различных точек. Музыкант и землянин изучали каждое лицо.
«Теперь — пивная в гостинице».
На стене появилась таверна. Многие места за стойкой бара еще пустовали. Музыканты настраивались на сцене. Стол рядом с Этцвейном был свободен — Мателено и Джурджина сидели поодаль.
Ифнесс Иллинет усмехнулся: «Идеальный маскарад. Вы выглядите самим собой».
Этцвейн не знал, как воспринять это внезапное проявление чувства юмора, и отделался ни к чему не обязывающим кивком.
«Посмотрим, что было дальше. Молодая женщина и Мателено подсели к столу у сцены. Мателено не напоминает вам никого из парка Пандамонов?»
«Нет, — сказал Этцвейн, и задумался. — Впрочем, он чем-то похож на Гарстанга».
«Учитывайте, что эстеты — генетически обособленная группа, по сути дела — новая раса в процессе формирования».
Историк перешел к следующей фотографии: «До прибытия дискриминаторов остается примерно пять минут. Почти не сомневаюсь, что к этому времени Человек Без Лица находился в помещении — скорее всего, стоял там, откуда он мог наблюдать за благотворительницей». Ифнесс расширил сноп света, увеличив изображение, распространившееся в стороны, на потолок и на пол. Перемещая проектор, историк поочередно заставлял каждое из больших, но сохранявших четкость лиц появляться на стене рядом с Этцвейном.
Этцвейн внезапно поднял руку: «Вот он! В углу бара, облокотился на стойку».
Ифнесс снова увеличил изображение. На них смотрело лицо — спокойное, с широким лбом, хитрыми глазами, небольшим подбородком и тонкой, бледной линией рта. Невысокий человек этот, неопределенного возраста, казался хорошо сложенным, подтянутым.
Ифнесс вернулся к фотографии, сделанной в парке Пандамонов. Этцвейн указал на невысокого мужчину с поджатым ртом и лукавыми, чуть раскосыми глазами: «Аноме!»
«Да, — вздохнул Ифнесс, — если нас не подводят логика и теория вероятности. Насколько мне известно, ни одну из этих дисциплин еще не удалось опровергнуть».
Некоторое время они молча разглядывали лицо Человека Без Лица.
«Что теперь?» — спросил Этцвейн.
«Пока ничего. Нужно выспаться. Завтра попробуем узнать, как зовут этого проходимца».
«А Джурджина?» — Этцвейн кивком указал на спящую девушку.
«Она не очнется еще двенадцать-четырнадцать часов».
Глава 12
Солнца кружились, как игривые котята, поднимаясь в лилово-розовом осеннем небе — Сасетта догоняла Эзелетту, а ее ловил за хвост Заэль. Ифнесс рано ушел из коттеджа — старая седая лиса крадучись отправилась на охоту. Этцвейн сгорбился, сложив руки на коленях, и думал о Джурджине Ксиаллинен. Она лежала, тихо дыша, в том же положении, в каком ее оставили вчера — по мнению Этцвейна, существо невероятно чарующей красоты, способное загипнотизировать и подчинить своей воле любого мужчину. Он разглядывал ее лицо, чистую бледную кожу, невинный профиль, темно-серые ресницы. Как совместить облик Джурджины с ее мрачной профессией? Конечно, кто-то должен был заниматься охраной правопорядка. Если бы преступления оставались безнаказанными, многострадальный Шант вернулся бы к временам анархии, когда каждый кантон воевал со всеми остальными. Недоумевающий Этцвейн колебался между благородными оправданиями и отвращением. Джурджине приказывал Аноме — ей оставалось только подчиняться. Но почему Аноме приказал именно Джурджине служить благотворительницей? Неужели не было других, таких, как Гарстанг Аллингенен — сообразительных, достаточно неразборчивых, способных к полицейской работе? В лабиринте поведения верховного правителя встречались неожиданные, необъяснимые повороты. «Так же, как и в поведении любого другого», — с горькой усмешкой сказал себе Этцвейн.
Он протянул руку, поправил мягкий темный локон. Ресницы девушки задрожали, она медленно открыла глаза и, повернув голову, взглянула на Этцвейна: «Вы... музыкант».
«Да».
Джурджина лежала тихо, думала. Потом заметила свет, пробивающийся через ставни, и сразу встрепенулась: «Уже утро, мне нужно идти!»
«Вам нельзя никуда ходить».
«Но почему? — она обратила на него взор, способный растопить лед. — Я же вам ничего не сделала!»
«У вас не было возможности что-нибудь сделать».
Джурджина искала глазами в глазах Этцвейна: «Вы совершили преступление?»
«Гарстангу приказали меня убить, когда я выступал с лекцией о рогушкоях».
«Вы подстрекали к мятежу!»
«Ничего подобного. Я призывал Человека Без Лица защитить Шант от рогушкоев. Это не подстрекательство».
«Рогушкоев не надо бояться. Так говорит Аноме».
Этцвейн разозлился: «Ха! Я видел своими глазами, что они сделали в Башоне. Убили мою мать!»
Взгляд Джурджины стал отрешенным. Она вяло повторила: «Рогушкоев не надо бояться».
«Как с ними справиться — вот в чем вопрос!»
Джурджина сосредоточилась с явным усилием: «Не знаю».
«Когда они наводнят улицы Гарвия, что вы будете делать? Хотите, чтобы вас изнасиловали? Вам это понравится? Хотите спать полгода, чтобы потом из вашего тела выползла дюжина красных чертенят?»
Лицо Джурджины подернулось, сморщилось. Девушка начала было тихо скулить, но тут же остановилась, успокоилась и посветлела: «Этот вопрос решает Аноме». Приподнявшись на локте и наблюдая за Этцвейном, она потихоньку спустила ноги на пол. Этцвейн никак не отреагировал, спросил: «Вы голодны? Хотите пить?»
Она не ответила сразу: «Как долго вы собираетесь меня здесь держать?»
«Пока мы не найдем Человека Без Лица».
«Чего вы от него хотите?»
«Мы настаиваем — и будем настаивать — на истреблении рогушкоев».
«Вы не причините ему вреда?»
«Только не я, — отвечал Этцвейн. — Хотя он пытался меня убить, что в высшей степени несправедливо!»
«Все, что делает Аноме, справедливо. А если вы его не найдете?»
«Тогда вы здесь останетесь. Другого выхода нет».
«С моей точки зрения это неприемлемо. Почему вы на меня так странно смотрите?»
«Пытаюсь представить себе... Скольким людям вы уже оторвали голову?»
Джурджина завопила: «Жаль, что тебе не оторвала!» — и бросилась к двери. Этцвейн не двинулся с места. Девушка пробежала три метра и вскрикнула. Ее остановил тонкий металлический поводок — уходя, Ифнесс пристегнул его к перекладине привинченной к полу кушетки и к талии спящей аристократки. Всхлипывая от боли, Джурджина схватилась за поводок и стала бешено дергать застежку тугой проволочной петли. Этцвейн бесстрастно наблюдал, не испытывая ни малейшей жалости.
Не в силах открыть застежку незнакомой конструкции, пленница медленно вернулась к кушетке. Этцвейну нечего было ей сказать.
Так они просидели два часа. Тихо, так же, как ушел, вернулся Ифнесс Иллинет. Он принес папку и передал ее Этцвейну. В папке лежали шесть крупных фотографий, напечатанных с таким высоким разрешением, что Этцвейн мог сосчитать ресницы Аноме. В парке Пандамонов Человек Без Лица надвинул на лоб мягкий черный берет, в сочетании с опущенными уголками тонкого рта и маленьким, будто недоразвитым носом придававший ему какой-то вмятый вид, напоминавший бульдожью морду. В таверне «Фонтенея» на лоб Аноме спускались пряди черного парика, разделенные прямым пробором и зачесанные за уши — в стиле, популярном среди благополучных торговцев и ремесленников Гарвия. На этой фотографии нельзя было не заметить философскую обширность лба Аноме, несколько скрашивавшую почти уродливую недостаточность носа и нижней половины лица. На всех фотографиях глаза его не смотрели прямо, а чуть косили влево или вправо. И в парке, и в таверне он казался лишенным чувства юмора, решительным, сосредоточенным в себе и безжалостным.
Этцвейн изучал фотографии до тех пор, пока лицо правителя не запечатлелось глубоко в его сознании, после чего вернул папку землянину.
Джурджина сидела на кушетке, притворяясь, что скучает. Ифнесс показал ей фотографии: «Кто этот человек?»
Веки эстетки чуть опустились. Она произнесла — пожалуй, слишком беспечно: «Не имею представления».
«Вы никогда его не встречали?»
Джурджина нахмурилась, провела языком по губам: «С кем только мне не приходится встречаться! Разве я могу всех запомнить?»
Ифнесс настаивал: «Если бы вы знали его, вы сказали бы нам, как его зовут?»
Джурджина рассмеялась: «Конечно, нет!»
Ифнесс кивнул, подошел к стенному шкафу. Эстетка следила за ним, скривив рот от досады. Историк спросил через плечо: «Хотите есть или пить?»
«Нет».
«Не желаете посетить туалет?»
«Нет».
«Подумайте хорошенько, — посоветовал Ифнесс. — Теперь я вынужден буду применить гипнотический препарат. После этого вы не сможете двигаться двенадцать часов. Учитывая, что вы уже пролежали столько же на кушетке, вы можете поставить нас и себя в неудобное положение».
«Хорошо, — холодно произнесла Джурджина. — Будьте добры, освободите меня. Я хотела бы вымыть лицо и руки».
«С удовольствием», — Ифнесс открыл застежку троса. Пленница промаршировала в указанную историком дверь. Ифнесс повернулся к Этцвейну: «Встаньте снаружи под окном».
Как только Этцвейн успел занять свой пост, узкое окно осторожно открылось — из него выглянула Джурджина. Заметив Этцвейна, она помрачнела и закрыта окно.
Пленница неохотно вернулась в гостиную. «Не хочу, чтобы меня усыпляли, — заявила она капризным тоном. — Мне снятся ужасные сны».
«Неужели! Какие, например?»
«Не помню. Страшные вещи. Мне очень плохо».
Ифнесс не проявил сострадания: «Придется увеличить дозу».
«Нет, нет! Вы хотите спрашивать про портреты? Я помогу вам, сделаю все, что в моих силах!» — напускная надменность исчезла. Лицо девушки обмякло, задрожало, стало жалким и просящим. Этцвейн пытался вообразить, как она выглядела с пальцем на желтой кнопке.
Землянин поинтересовался: «Вы намеренно скрываете информацию о фотографиях?»
«Допустим, что так! Вы ожидаете, что я добровольно нарушу свои обязанности?»
«Нет, не ожидаю, — возразил Ифнесс. — Но препарат позволит мне узнать правду, хотите вы этого или нет. Будьте добры, вернитесь на кушетку».
«Мне станет дурно. Я буду драться. Пинаться, кусаться, визжать!»
«Это пройдет», — сказал Ифнесс.
Всхлипывающая пленница лежала на кушетке. Тяжело дыша, Этцвейн сидел у нее на коленях и прижимал ее руки к постели. Ифнесс смочил раствором шею Джурджины; она почти сразу перестала извиваться.
Ифнесс спросил: «Что вы знаете о человеке на фотографиях?»
Девушка потеряла сознание.
Этцвейн глухо проворчал: «Вы применили слишком большую дозу».
«Нет, — покачал головой историк. — Превышение дозы не приводит к такому эффекту».
«Тогда что же с ней происходит?»
«Ума не приложу. Сперва Гарстанг совершает абсурдное самоубийство, теперь это».
«Вы считаете, что она знает Человека Без Лица?»
«Не думаю. Но она знает человека на фотографиях. Эстеты, в конце концов, все друг друга знают». Ифнесс вынул фотографии из папки, присмотрелся: «Конечно, он может быть зеленщиком или стекольщиком. Забыл вам сказать, что портрет «отважного путешественника» вывесили на площади Корпорации. Всех, кому о вас что-либо известно, просят обращаться к дискриминаторам».
«Ну вот. Теперь я смертник в бегах!»
«До тех пор, пока мы не предъявим претензии Человеку Без Лица».
«Он будет настороже — оба благотворителя пропали».
«Надо полагать. Думаю, что его так же, как и нас, чрезвычайно интересует выяснение личности противника».
«Джурджина упомянула о паласедрийских шпионах».
«Возможно, Человек Без Лица строит такие же теории, — Ифнесс вернулся к изучению фотографий. — Заметьте эмблему на ошейнике. Что означают эти цвета?»
«Пурпурный и зеленый — цвета гарвийского кантона. Две темно-зеленых полоски — человек без определенных занятий: землевладелец, промышленник, торговец импортным товаром, эстет».
Ифнесс безмятежно кивнул: «Никаких новых данных. В его ошейнике, несомненно, нет автоответчика. Мы могли бы отправиться в Ушкадель и наводить справки, но боюсь, что нас скоро задержат дискриминаторы».
Этцвейн нагнулся к фотографиям: «Он путешествует по Шанту, хотя бы изредка. Ветровые на воздушной дороге могут его узнать».
«Станут ли они откровенничать? Или сперва посоветуются с дискриминаторами?»
«В издательстве «Легкомысленной газеты» он знаком, конечно, каждому светскому репортеру... но и в этом случае приставать с расспросами опасно».
«Совершенно верно. Вопросы вызывают подозрения. Перед тем, как сообщать что-либо паре незнакомцев, они известят директора».
Этцвейн ткнул пальцем в нижний край фотографии, где виднелся воротник жилета Человека Без Лица: «Обратите внимание на запонку: аметист в кружевной серебряной оправе с потайным замком. Такие роскошные безделушки делают ювелиры-механики на площади Неройи, к западу от управления Корпорации. Любой уважающий себя ремесленник узнает свою работу. Если мы сочиним историю — например, что нашли потерянную драгоценность и желаем вернуть ее владельцу — ювелир может сказать, кому он ее продал».
«Превосходно! — заявил Ифнесс. — Давайте попробуем».
Площадь Неройи затерялась в сердце Старого Города. Мостовая — метровые квадратные плиты мутно-сиреневого стекла — давно покрылась трещинами и выбоинами. Фонтан посреди площади относился еще к царствованию первого Пандамона, Каспара. Двухэтажная сводчатая галерея из прозрачного черного стекла огибала площадь. На каждой колонне красовалась рельефная эмблема купеческого рода, не существовавшего уже две тысячи лет. Древние торговые конторы переоборудовали в мастерские гарвийских резчиков по камню и металлических дел мастеров. Каждый ювелир работал в ревнивом одиночестве, обучая тайнам ремесла только сыновей и племянников, и едва снисходил до того, чтобы замечать существование коллег. Стиль изделий каждой мастерской отражал темперамент цехового старшины. Одни династии славились своими опалами, агатами и лунными камнями, другие отличались резьбой по турмалину или бериллу, третьи создавали изящные миниатюры из микроскопических полированных кусочков киновари, лазурита, бирюзы и нефрита. Моды и причуды заказчиков не одобрялись и признавались лишь настолько, насколько не противоречили артистическим убеждениям мастера. Специальные заказы принимались без энтузиазма. На изделиях не было печатей, гравированных подписей или символов — каждый ювелир пребывал в уверенности, что его манера неповторима и распознается безошибочно.
В последнее время особой популярностью пользовались поделки мастерской Зафонса Агабиля — стеклогородцы называли их «своеобычными» и «феерическими». Туда и направились Ифнесс и Этцвейн — в лавку Зафонса Агабиля. Ифнесс бросил на прилавок вырезку из фотографии Человека Без Лица: «Кто-то потерял запонку у меня в приемной. Это ваше изделие? Если ваше, не могли бы вы назвать владельца — клиенту будет приятно, что безделицу не украли».
Приказчик, один из четырех сыновей Агабиля, презрительно поморщился, только взглянув на фотографию: «Сделано не у нас, уверяю вас!»
«Чья же это работа?»
«Не могу сказать».
Рядом, в мастерской Лючинетто, Ифнесс получил сходный ответ, но вдобавок выслушал наставление: «Старомодная, в сущности, вещица — могла быть получена по наследству. Аметист огранен недостаточно выпукло — так режут гранаты. Нет, это не наше — никогда, ни за что мы не позволили бы себе такое насилие над камнем!»
Из лавки в лавку бродили Ифнесс и Этцвейн.
Наследник удалившегося от дел мастера Меретриса заинтересовался вырезкой: «Да-да, наша запонка, в стиле династии Сиуме! Видите, как играет аметист? Секретный контур гранения, известный только нашему цеху! Ее потеряли? Жаль. Забыл покупателя — с тех пор прошло лет пять».
«Кажется, я знаю владельца, — не унывал Ифнесс. — Он заявился на вечеринку в компании моих друзей, но я не припомню, как его звали». Историк протянул подмастерью фотографию Человека Без Лица.
Меретрис-младший посмотрел, моргнул: «Как же! Саджарано из дворца Сершанов. Говорят, живет отшельником. Удивительно, что он приходил к вам ужинать».
Глава 13
Дворец Сершанов, замысловатое сооружение из прозрачного и цветного стекла, был обращен фасадом на юго-восток, к Гарвию. Поднявшись по крутому склону, Ифнесс и Этцвейн осторожно, издалека изучали подходы ко дворцу. Никого не было ни в крытой галерее второго этажа, ни в той части дворцового сада, где буйная растительность позволяла что-нибудь рассмотреть. Изыскания в Архивном управлении не дали интересных или неожиданных результатов. Род Сершанов, достаточно древний, не мог похвалиться, однако, блестящей историей. Принц Варо Сершан, владетель кантона Дикой Розы, в свое время поддержал Вайано Паицифьюме. Некто Альманк Сершан снарядил корабль, совершил набег на южный берег Караза и привез сокровище — полный трюм серебряных масок из разграбленных захоронений. Саджарано был последним прямым наследником рода. Его бездетная супруга тому уже двадцать лет как скончалась, но Саджарано не женился вторично. Ему все еще принадлежали наследственные имения в кантоне Дикой Розы — Саджарано знал толк в сельском хозяйстве. В наследники ему прочили двоюродного брата, Камбариза Сершана.
«Простейший метод — подойти к парадному входу и попросить аудиенции у его превосходительства Саджарано, — рассуждал Ифнесс. — Прямолинейный подход отличается несомненными достоинствами. Увы, — Ифнесс печально вздохнул, — я всегда и во всем подозреваю подвохи и внезапные затруднения. Что, если Аноме ожидает нас? Вполне возможно! Меретрис мог поделиться с ним новостью о найденной запонке. Подьячий в Архивном управлении показался мне излишне расторопным».
«Аноме вызовет дискриминаторов, как только узнает о нашем появлении, — сказал Этцвейн. — Будь я на месте Саджарано, я принял бы всевозможные меры предосторожности».
Ифнесс отозвался: «Будь я на месте Саджарано, я не прятался бы во дворце, а оделся бы попроще и бродил по городу. Здесь мы теряем время. Нужно быть там, где есть возможность встретить Человека Без Лица».
Вечером открытые кафе на площади Корпорации наполнились толпой приветствующих друг друга приятелей, знакомых и любовников. Ифнесс и Этцвейн разместились в самом большом кафе и заказали вина с печеньем.
Кругом сновали гарвийцы — все окрыленные, в той или иной степени, присущими столичным жителям живостью и непостоянством.
Саджарано не появлялся.
Солнца закатились за кряжи Ушкаделя, тени легли на площадь. «Пора возвращаться, — сказал Ифнесс. — Джурджина скоро проснется, а ее нельзя оставлять без присмотра».
Джурджина уже пришла в себя. Яростно, всеми известными ей средствами, она стремилась освободиться от поводка. Ее платье местами разорвалось над бедрами — там, где она пыталась стащить с себя металлическую петлю, туго опоясывавшую талию. Деревянная перекладина кушетки выщербилась — пленница старалась перетереть поводок. Секрет застежки, известный только Ифнессу, теперь занимал ее настолько, что она не сразу заметила прибытие тюремщиков. Испуганно вскинув голову, как загнанный зверь, эстетка разразилась протестами: «Сколько меня будут здесь держать? Я давно не мылась, ничего не ела. Какое право вы имеете так со мной обращаться?»
Ифнесс отмахнулся скучающим жестом, отстегнул поводок от кушетки и снова позволил ей воспользоваться удобствами.
Этцвейн приготовил суп, нарезал хлеб и вяленое мясо. Сначала пленница высокомерно отклонила обед, но потом наелась, проявив здоровый аппетит.
Утолив голод, Джурджина повеселела: «Вы двое — самые чудные люди на Дердейне! Полюбуйтесь на себя! Нахохлились, насторожились, как болотные цапли. Оно и понятно! Вам стыдно за все, что вы со мной делаете!»
Землянин игнорировал ее. Этцвейн угрюмо усмехался.
«Что вы замышляете? — не унималась пленница. — Я что, здесь навсегда останусь?»
«Не исключено, — отозвался Ифнесс. — Подозреваю, однако, что через день или два обстоятельства изменятся».
«И что я буду делать все это время? Вы подумали о моих друзьях? Они же рехнутся от беспокойства! Меня всюду ищут! И я должна носить одно и то же платье изо дня в день? Сижу, как животное в клетке!»
«Потерпите, — пробурчал Ифнесс. — Скоро я снова вас усыплю, и время пройдет незаметно».
«Не хочу я больше спать! Хам, невоспитанный нахал! А вы? — она повернулась к Этцвейну. — У вас сохранились какие-нибудь остатки любезности? Сидите ухмыляетесь, рот до ушей! Почему вы не заставите этого ужасного старика меня отпустить?»
«Чтобы вы пожаловались на нас Человеку Без Лица и сообщили, где мы находимся?»
«Таковы мои обязанности. Разве я заслужила наказание за выполнение долга?»
«Ваши обязанности связаны с определенным риском. Если вы не хотели рисковать, не нужно было становиться благотворительницей».
«У меня не было выбора! Однажды мне сообщили мою судьбу, и с тех пор моя жизнь мне не принадлежит».
«Вы могли отказаться. Вам нравится отрывать людям головы?»
«Вот еще! С вами невозможно вести разумный разговор. У вас что, припадок?» — последние слова были обращены к Ифнессу. Тот резко повернулся на стуле и напряженно прислушивался.
Этцвейн тоже прислушался — ничто не нарушало ночную тишину. «Что такое?» — спросил он.
Ифнесс Иллинет вскочил, подошел к двери и выглянул в темноту. Этцвейн тоже встал. Ни звука. Землянин что-то пробормотал на незнакомом языке, снова насторожился.
Воспользовавшись тем, что ее тюремщики отвлеклись, Джурджина намотала на руку отвязанный конец поводка и бросилась к Ифнессу, надеясь проскочить мимо и вырваться на свободу. Этцвейн, давно ожидавший чего-то в этом роде, поймал ее на бегу и отнес, болтающую ногами и кричащую, обратно на кушетку. Ифнесс принес тампон с наркотиком — девушка затихла. Историк снова пристегнул поводок к кушетке и на этот раз поведал Этцвейну секрет: чтобы открыть застежку, нужно было нажимать не на нее, а совсем в другом месте. Ифнесс торопился: «Подойдите к столу. Я должен научить вас всему, что знаю об ошейниках. Быстрее, идите сюда!»
«В чем дело? Что происходит?»
Ифнесс покосился на дверь и сказал упавшим голосом: «Меня отозвали. Я лишен ученого звания. Как минимум, меня исключат из Института».
«Откуда вы знаете?» — упорствовал Этцвейн.
«Передали сигнал. Моя командировка на Дердейне окончена».
Этцвейн разинул рот: «А что будет с Аноме? Что будет со мной?»
«Сделайте все, что можете. Я чрезвычайно сожалею, но мне не позволят остаться. Слушайте! Я оставляю вам мои инструменты, оружие, препараты. Слушайте внимательно — повторять не будет времени! Во-первых, ошейники. Смотрите, как безопасно вскрыть ошейник». Ифнесс продемонстрировал операцию на ошейнике, привезенном с Гаргаметова луга. «Теперь его можно закрыть — вот так. Смотрите: я заряжаю ошейник девушки. Декокс вкладывается сюда. Это детонирующее реле. Автоответчик сломан — обратите внимание на разорванное соединение... Покажите, как у вас это получится. Так... Хорошо... Вот, возьмите, это мое единственное оружие. Пистолет стреляет узким лучом энергии. Камеру я обязан взять с собой».
Этцвейн слушал, подавленный предчувствием беды. До сих пор он не сознавал, в какой степени зависел от возмутительно бездушного землянина.
«Почему вы должны покинуть Дердейн?»
«Потому что должен! Остерегайтесь Человека Без Лица и этой его благотворительницы. Их поведение не совсем нормально, хотя это невозможно заметить без соответствующей подготовки».
Тихое шипение достигло ушей Этцвейна. Ифнесс тоже услышал его, повернул голову и не шевелился.
В дверь вежливо постучали. Ифнесс пересек гостиную и отодвинул засов. В темноте стояли две фигуры. Первая вышла немного вперед. Этцвейн увидел очень бледного человека среднего роста, с угольно-черными волосами и бровями. Он, казалось, улыбался спокойно и мрачно — глаза его сверкнули в свете лампы. Его спутник оставался бесформенной тенью в тени.
Ифнесс заговорил на языке, непонятном Этцвейну. Черноволосый коротко ответил. Ифнесс заговорил снова — черноволосый отозвался так же, как и в первый раз.
Историк вернулся в гостиную и взял мягкую черную сумку. Не попрощавшись ни словом, ни жестом, даже не взглянув на Этцвейна, Ифнесс Иллинет вышел в ночь. Дверь закрылась.
Через минуту Этцвейн услышал тихое шипение. Оно завершилось вздохом ветра и не возвращалось.
Этцвейн налил себе бокал вина и сел за стол. Джурджина Ксиаллинен лежала на кушетке в беспамятстве.
Этцвейн поднялся и обошел комнаты коттеджа. В кабинете он обнаружил кошель, содержавший несколько тысяч флоринов. В гардеробе висели костюмы — в случае необходимости Этцвейн мог ими воспользоваться.
Он вернулся к столу в гостиной, подумал о Фролитце, о старых добрых днях, казавшихся такими беспечными. Они не вернутся никогда! Скорее всего, дискриминаторы уже установили, что «отважным путешественником» был Гастель Этцвейн.
Этцвейн решил не оставаться в коттедже. Он надел серую накидку и серую шляпу Ифнесса, положил в карман пистолет землянина и кодирующий передатчик Гарстанга. Поколебавшись несколько секунд, он захватил с собой и усыпляющий наркотик из стенного шкафа: вдруг этой осенней ночью ему посчастливится встретить Саджарано Сершана?
Выключив лампу, Этцвейн погрузил коттедж во тьму — только в окне играли отблески разноцветного миража Гарвия. Джурджина лежала тихо, даже дыхания ее не было слышно. Осторожно ступая, Этцвейн вышел из коттеджа.
Много часов бродил он по проспектам Гарвия, задерживаясь у кафе, чтобы рассмотреть посетителей, заходя в таверны, чтобы пробежать глазами по лицам. Возвращаться в «Фонтеней» он не решался. В полночь он съел пирожок с мясом и сырную лепешку у ларька, работавшего до утра.
Туман сочился в стеклянный город с просторов Зеленого океана. Пушистыми облачками, бестелесными щупальцами он обволакивал шпили, замутняя цветные фонари, наполняя воздух запахом холодной бани. Улицы почти опустели. Завернувшись плотнее в накидку, Этцвейн вернулся к коттеджу.
У проема в изгороди он остановился. Казалось, темный коттедж ждал его. За ним, в сарае на заднем дворе, разлагался труп Гарстанга.
Этцвейн слушал — тишину, темноту. Пройдя через усаженный деревьями передний дворик, он задержался у двери. Шорох? Напрягая слух, он снова заметил сухой, царапающий звук. Распахнув дверь, Этцвейн проскользнул в гостиную с пистолетом наготове. Внутри — никаких изменений. Скрипнула задняя дверь. Этцвейн сбежал с парадного крыльца и обогнул коттедж, но ничего не увидел. Только дверь сарая, пожалуй, приоткрылась. Этцвейн замер, как вкопанный — волосы встали дыбом у него на затылке. Осторожно приблизившись шаг за шагом, он прыгнул вперед, захлопнул дверь сарая и задвинул засов, после чего сразу развернулся и отскочил в сторону — на тот случай, если дверь открыли нарочно, чтобы отвлечь внимание.
Ни звука. Этцвейн не мог заставить себя проверить, что делается в сарае. Он вернулся в дом. Джурджина лежала без сознания. Но она пошевелилась или кто-то ее шевелил: одна рука свисала с кушетки к полу.
Этцвейн закрыл все двери и ставни на засовы. Поводок, привязывавший девушку к кушетке, сместился. Края деревянной рамы были сточены, истерты. Этцвейн наклонился над пленницей и внимательно осмотрел ее, приподняв пальцем веко с длинными ресницами. Зрачка не было, глаз закатился. Этцвейн нервно обернулся, выпрямился, осмотрелся.
Ничто не двигалось в гостиной — только в памяти звучали отголоски разговоров.
Этцвейн заварил чай и присел в кресло. Шло время, созвездия всходили и заходили. Этцвейн задремал. Он проснулся замерзший и онемевший — рассветная синева уже проникала в щели между ставнями.
В коттедже было тихо и мрачно. Этцвейн приготовил себе завтрак и стал размышлять о планах на грядущий день. Прежде всего нужно было обследовать сарай.
Джурджина очнулась, но ничего не говорила — что можно было сказать? Этцвейн накормил ее, позволил сходить в туалет. Она вернулась — унылая и подавленная, не проявляя ни живости, ни воли к сопротивлению. Остановившись посреди гостиной, пленница разминала затекшие руки. Через некоторое время она спросила: «Где старик?»
«Ушел по своим делам».
«По каким делам?»
«Узнаете в свое время».
«Странная вы парочка, надо сказать!»
«Я нахожу ваше поведение гораздо более странным, — возразил Этцвейн. — По сравнению с вами я прост и понятен до предела».
«Но вы-то подстрекаете народ к бунту!»
«Ни в коем случае! Рогушкои убили мою мать — и сестру. Я утверждаю, что их необходимо истребить, чтобы спасти Шант. В чем вы видите подстрекательство? Это здравое рассуждение».
«Решение таких вопросов следует предоставить Аноме».
«Он отказывается действовать. Следовательно, я вынужден заставить его действовать».
«У старика тоже убили мать?»
«Не думаю».
«Тогда почему он с такой наглостью нарушает закон?»
«Он сочувствует моим намерениям».
«Кто? Этот василиск? Он холоден, как ветер снежного Ниммира!»
«Не спорю, в некоторых отношениях он производит впечатление человека не от мира сего. А теперь мне придется снова вас усыпить».
Джурджина беззаботно махнула рукой: «Не беспокойтесь. Я согласна не покидать коттедж».
Этцвейн цинически рассмеялся: «Будьте добры, ложитесь на кушетку».
Джурджина подошла к нему, улыбнулась в упор: «Давайте не будем врагами. Поцелуйте меня».
«Хм. С утра пораньше?»
«Вы хотели бы?»
Этцвейн упрямо тряс головой: «Нет».
«Разве я не хороша собой? Вы предпочитаете морщинистых старух?»
«Нет. Но если бы вы могли нажать желтую кнопку и оторвать мне голову, вы бы это сделали. Почему-то мысль о такой перспективе препятствует всякому влечению к близости. Не будем терять времени».
Джурджина задумчиво вернулась на кушетку и безвольно лежала, пока Этцвейн наносил препарат ей на шею. Она скоро уснула. Этцвейн прицепил ее поводок к резной перекладине под потолком.
Настало время заглянуть в сарай. Этцвейн вышел на задний двор. Засов сарая был закрыт. Этцвейн обошел дощатую пристройку. Только крыса могла бы залезть внутрь или выбраться наружу.
Широко распахнув дверь, Этцвейн увидел в дневном свете садовые инструменты, старую кухонную утварь и тело Гарстанга — там, куда он его оттащил. Грудь Гарстанга была разворочена, буквально разодрана в клочья. Этцвейн стоял в дверном проеме, пытаясь разглядеть существо, так страшно надругавшееся над трупом. Он не решался войти — если это была большая крыса, она могла выскочить и укусить его. В конце концов он снова закрыл дверь на засов.
Накинув серый плащ, Этцвейн угрюмо направился в центр города, прямо на площадь Корпорации. Человек Без Лица мог проводить время в роскошных залах дворца Сершанов, мог отдыхать в своем поместье в кантоне Дикой Розы, мог уехать в далекие края — вершить правосудие в назидание злодеям. Но Этцвейн чувствовал, что дело обстоит по-другому. Для Человека Без Лица безопаснее всего было оставаться в Гарвии, под защитой дискриминаторов. Значит, рано или поздно Саджарано должен был показаться на площади Корпорации.
Этцвейн постоял минуту-другую под старыми воротами Часовщиков. Туманное, зябкое утро! Солнца затмевали одно другое, медленно скользя по небу. Этцвейн зашел в ближайшее кафе, занял неприметное место за столиком, заказал горячий бульон и стал прихлебывать его, чтобы согреться.
Столичная толпа сновала по площади во всех направлениях. У ведомства жалоб и прошений сошлись и о чем-то беседовали три дискриминатора. Этцвейн с тревогой наблюдал за ними. Что, если они вместе накинутся на него? Он не успеет убить всех трех с помощью передатчика — не хватит времени набрать коды. По-видимому, Человек Без Лица пользовался иным оружием — устройством, детонировавшим любой ошейник, оказавшийся в секторе направленного излучения. В кафе вошел человек в серо-пурпурном костюме. Его широкий, бледный лоб нависал над вмятым маленьким носом, уголки осторожно поджатых губ опустились, глаза, смотревшие слегка в сторону, светились умом. Человек приказал официанту подать кружку бульона одним движением руки — повелительным, но вежливым жестом чистокровного эстета.
Когда бульон подали, эстет покосился в сторону Этцвейна, позаботившегося прикрыть лицо поднятой кружкой. На какое-то мгновение, однако, Гастель Этцвейн встретился глазами с Человеком Без Лица.
Аноме слегка нахмурился, отвернулся — ему не нравилось внимание незнакомца.
Этцвейн волновался — мысли путались, не желали слушаться. Крепко обхватив ладонями горячую кружку, он заставил себя продумать возможные варианты.
У него был лучевой пистолет. Он мог подойти, приставить пистолет к спине Аноме и отдать необходимые приказы. У этого плана был огромный недостаток: нельзя было привлекать внимание. Почти наверняка официант заметил бы происходящее — а дискриминаторы точили лясы неподалеку.
Он мог выйти из кафе, подождать Аноме и следовать за ним. Но события последних дней, несомненно, заставили Аноме быть начеку. Заметив слежку, правитель мог завести Этцвейна в западню. Ни в коем случае нельзя было упускать инициативу!
Узнав «отважного путешественника», Аноме мог и сам последовать за Этцвейном. Впрочем, скорее он приказал бы дискриминаторам схватить преступника.
Этцвейн судорожно, глубоко вздохнул, засунул руку в карман плаща и нащупал приготовленное средство нападения, доставшееся по наследству от Ифнесса. Звякнув флорином по столу, он уплатил за бульон, с шумом отодвинул стул, поднялся на ноги — и с громким возгласом, потеряв равновесие, пробежал несколько шагов, уронив руку на шею Человека Без Лица.
«Милостивый государь, прошу прощения! — во всеуслышание объявил Этцвейн. — Какое свинство с моей стороны! Я уронил на вас мокрую салфетку!»
«Ничего, пустяки».
«Позвольте помочь...»
Аноме отшатнулся: «Вы чуть не упали на меня — а теперь что делаете? Зачем протирать мне шею какой-то мокрой гадостью?»
«Покорнейше прошу меня извинить! Если я запачкал воротник, разрешите возместить расходы на новый пиджак».
«Нет, нет, ничего не нужно. Оставьте меня, я могу сам о себе позаботиться».
«Хорошо, сударь, как вам угодно. Проклятый стул — зацепился за ногу, я чуть не разбился на ровном месте! Воистину, опасность подстерегает нас там, где мы ее меньше всего ожидаем».
«Да-да. Право же, не стоит беспокоиться. Все в порядке».
«С вашего разрешения... неудобно злоупотреблять вашим терпением, но мне нужно завязать шнурок. Я тут присяду — на одну секунду?»
«Пожалуйста», — Аноме демонстративно отвернулся. Поправляя ботинок, Этцвейн внимательно следил за ним.
Прошло несколько секунд. Аноме посмотрел вокруг: «Вы все еще здесь?»
«Да. Как вас зовут?»
Аноме пару раз моргнул: «Саджарано Сершан».
«Вы меня знаете?»
«Нет».
«Взгляните на меня!»
Аноме обратил к Этцвейну безмятежное лицо.
«Встаньте, — сказал Этцвейн, — и ступайте за мной».
Саджарано не выразил никаких эмоций. Этцвейн вывел его на площадь.
«Идите быстрее», — приказал Этцвейн. Они прошли под Гранатовыми воротами в проезд Сервена Айро. Здесь Этцвейн схватил Саджарано под руку. Быстро моргая, тот пожаловался: «Я устал».
«Вы скоро отдохнете. Кто выступал в парке, называясь отважным путешественником?»
«Приезжий, откуда-то из восточных кантонов. Главарь заговорщиков-подстрекателей ».
«Вы знаете кого-нибудь еще из заговорщиков?»
«Нет».
«Почему вы не прикажете солдатам атаковать рогушкоев?»
Саджарано молчал секунд десять, пробормотал: «Не знаю, не знаю». Голос его стал сонным, неразборчивым, он пошатывался на ходу. Этцвейн поддерживал его и спешил со всех ног, но в сквере у ворот Времен Года пришлось остановиться — Человек Без Лица больше не мог идти.
Этцвейн усадил его на скамью и подозвал проезжавший мимо пустой фиакр: «Мой приятель нализался в стельку. Нужно отвезти его домой и откачать, пока жена не узнала».
«Что ж, такое случается и с лучшими из нас! Залезайте-ка с ним на заднее сиденье. Вам помочь?»
«Как-нибудь справлюсь! Поезжайте по проспекту Фазаренских Директоров».
Глава 14
Этцвейн снял с Человека Без Лица верхнюю одежду и уложил его в одном белье на кушетку напротив той, где спала Джурджина. Судя по фигуре, Аноме не был атлетом. Из карманов правителя Этцвейн извлек кодирующий передатчик, такой же, как у Гарстанга, лучевой пистолет сложной конструкции, небольшую коробку (предположительно переносной приемопередатчик радиоволн) и металлическую трубку неизвестного назначения — по-видимому, универсальный детонатор ошейников направленного действия, о существовании которого подозревал Этцвейн.
Аккуратно разложив на столе блестящие инструменты Ифнесса, Этцвейн с величайшей осторожностью вскрыл и снял ошейник Саджарано, точно выполняя инструкции землянина. К своему полному изумлению он обнаружил в ошейнике стандартный заряд декокса. Судя по всему, автоответчик тоже функционировал. Опираясь на стол, Этцвейн застыл в замешательстве. Зачем Человеку Без Лица носить ошейник со взрывчаткой? Ужасное предчувствие поразило его. Ошибка? Неужели Аноме всех обвел вокруг пальца?
Объяснение всплыло в его уме и растворилось облегчением по всему телу — объяснение настолько простое и очевидное, что Этцвейн рассмеялся. Как и любой другой житель Шанта, Саджарано Сершан надел ошейник, достигнув совершеннолетия. Когда в обстоятельствах, покрытых тайной, Саджарано стал безликим верховным правителем страны, он мог изменить цвета эмблемы на ошейнике, чтобы не подвергаться опасности со стороны благотворителей, но снять ошейник не умел.
Этцвейн расстегнул свой пустой ошейник, вложил взрывчатку в предназначенную для нее канавку, подсоединил контакты реле, надел блестящий обруч с разведенными концами на шею Саджарано и замкнул его кольцом.
Предстояло закончить неприятное дело. Этцвейн направился к сараю и распахнул дверь настежь. Крыса (если это была крыса — Этцвейн толком не разглядел) поспешно спряталась в груде пыльных мешков. Этцвейн с отвращением заметил, что животное продолжало питаться трупом Гарстанга. Направив пистолет Ифнесса на мешки, Этцвейн нажал курок. Вырвался острый луч бледного огня. Мешки вспыхнули и исчезли в облаке вонючего удушливого дыма — с ними исчезло существо, пристрастившееся к падали.
Этцвейн взял лопату, вырыл на заднем дворе неглубокую могилу и похоронил Гарстанга.
Когда он вернулся, в коттедже все было по-прежнему. Этцвейн вымылся, сменил одежду, сел и принялся ждать, испытывая странное тягостное возбуждение победы и одиночества.
Первой проснулась Джурджина. Она выглядела уставшей — лицо осунулось, кожа приобрела нездоровый оттенок. Сидя на кушетке, девушка смотрела на Этцвейна со жгучей горечью: «Сколько еще вы будете меня томить?»
«Теперь уже недолго».
Она заметила человека, лежавшего напротив: «Кто это?»
«Вы его знаете?»
Эстетка пожала плечами, пытаясь изобразить храброе неповиновение.
«Его зовут Саджарано Сершан. Он — Человек Без Лица».
«Зачем он здесь?»
«Увидите... Хотите есть?»
«Нет».
Этцвейн подумал пару секунд и расцепил поводок пленницы. Она встала — ее больше ничто не удерживало. Этцвейн серьезно обратился к ней: «Не выходите из дома. Если уйдете, я оторву вам голову. Аноме здесь и не сможет вам помочь. Вам придется подчиняться мне так же, как раньше вы подчинялись Аноме. Ему вы больше не служите. Вы все понимаете?»
«Прекрасно понимаю. И все-таки не понимаю. Кто вы?»
«Гастель Этцвейн, бывший музыкант. Когда-нибудь я снова займусь музыкой».
Проходили часы. Джурджина бродила по коттеджу, наблюдая за Этцвейном с удивлением, неприязнью и чисто женским оскорбленным пренебрежением.
К вечеру Саджарано пришел в себя. Оглядевшись, он быстро оценил обстановку, приподнялся и сел. Полминуты он изучал Этцвейна и Джурджину, потом произнес ледяным тоном: «Извольте объяснить, почему я здесь оказался».
«Потому что на рогушкоев необходимо напасть. Потому что вы отказывались действовать».
«Я — хранитель мира. Таков мой торжественный и однозначный договор с народами Шанта. Следовательно, я провожу мирную политику и не допускаю ужасов войны».
«Ваша политика провалилась. Рогушкои допустили ужасы войны, не спросив вашего разрешения».
Этцвейн указал на ошейник Саджарано: «Вы носите ошейник с полным зарядом декокса. Детонатор у меня. Теперь вы отвечаете передо мной, и ваши благотворители тоже».
Джурджина, стоявшая посреди комнаты, села на кушетку: «Я подчиняюсь Аноме».
Саджарано спросил: «Где Гарстанг?»
«Гарстанг умер».
Жестом, привычным для всех жителей Шанта, Саджарано поднял руку и прикоснулся к ошейнику: «Что вы намереваетесь делать?»
«Рогушкои должны быть уничтожены».
Саджарано тихо произнес: «Вы не знаете, о чем говорите. В Шанте воцарились мир и процветание. Мы обязаны сохранить такое положение вещей. Стоит ли рисковать хаосом и милитаризацией страны во имя ликвидации шайки разбойников?»
«Мир и процветание не возникают сами по себе, — возразил Этцвейн. — Если вы верите в сказки о стихийном или мистическом преобладании добра, я сошлю вас в Караз, где вы живо узнаете, почем фунт лиха».
«Вы хотите повергнуть Шант в круговорот бедствий и междоусобиц!» — неожиданно звенящим голосом воскликнул Саджарано.
«Я хочу защитить страну от неминуемой гибели! Подчиняйтесь мне — или я убью вас, сию минуту!»
Саджарано обмяк, почти отвернулся, но продолжал искоса поглядывать на Этцвейна. В этой позе его нос пуговкой и скошенный подбородок напоминали черты хитрого безвольного ребенка. «Я подчиняюсь», — сказал он.
Джурджина не находила места — лицо ее дергалось и кривилось гримасами, в других обстоятельствах показавшихся бы забавными. Она вскочила, подошла к столу.
Этцвейн спросил: «Дискриминаторы ищут лектора-путешественника?»
«Да».
«Им приказано убить его?»
«Если потребуется».
Этцвейн передал правителю приемопередатчик: «Как вы пользуетесь этим устройством?»
Джурджина, заинтересованная незнакомым устройством, придвинулась ближе. В руке за ее спиной блеснул стеклянный нож. Этцвейн, следивший за эстеткой краем глаза, с силой оттолкнул ее — так, что она упала, налетев на свою кушетку. Саджарано вскочил, пнул Этцвейна, схватил его сзади за шею. Этцвейн нагнулся, рванулся вперед. Металлическая петля на шее Саджарано натянулась — сопротивление поводка, пристегнутого к перекладине потолка, отбросило его назад на кушетку.
«Ваши заверения ничего не стоят, — сдержанно произнес Этцвейн. — Я надеялся, что смогу доверять вам обоим».
«Мы вправе драться за свои убеждения!» — провозгласила Джурджина.
«Я обещал вам подчиняться, — сказал Саджарано. — Я не обещал не пытаться вас убить, когда представится такая возможность».
Этцвейн язвительно усмехнулся: «В таком случае я приказываю вам не пытаться меня убить или нанести мне какой-либо вред. Вы выполните приказ?»
Саджарано тяжело, тревожно вздохнул: «Выполню. Что еще я могу сказать?»
Этцвейн взглянул на Джурджину: «А вы?»
«Ничего не обещаю!» — высокомерно заявила эстетка.
Этцвейн схватил ее за руку, потащил к заднему ходу.
«Что вы делаете? — упиралась она. — Куда? Зачем?»
«Я убью вас на заднем дворе. Не хочу прибирать в доме», — сказал Этцвейн.
«Нет, пожалуйста, не надо! — она заплакала. — Я буду вас слушаться, буду!»
«И вредить мне тоже не будете?»
«Не буду!»
Этцвейн отпустил ее. Девушка побежала к уже привычной, безопасной кушетке.
Вернувшись к Саджарано, Этцвейн потребовал: «Объясните, как работает радио».
«Я нажимаю белую кнопку, — принужденно отвечал правитель. — Сигнал принимается ретранслятором, выбранным с помощью циферблата. Я говорю — мои приказы передаются ретранслятором».
«Передайте дискриминаторам приказ прекратить поиски лектора-путешественника. Передайте также, что человеку по имени Гастель Этцвейн следует оказывать безусловное, повсеместное и немедленное содействие в той же степени, в какой оно оказывается самому Аноме».
Саджарано включил передатчик, произнес требуемые фразы бесцветным размеренным тоном и поднял голову: «Что еще от меня требуется?»
Этцвейн встал посреди комнаты, глядя на Джурджину Ксиаллинен, на Человека Без Лица. Он хорошо понимал, что оба обманут его, как только подвернется случай. Мертвые, они не создавали бы никакой угрозы. Глаза Джурджины широко открылись — она угадала ход его мыслей. Да, так было бы лучше всего. Все же, если он убьет Человека Без Лица, кто будет править Шантом? Кто организует военный аппарат, необходимый для достижения цели? Человек Без Лица должен жить. В таком случае не имело смысла убивать и Джурджину Ксиаллинен.
Пленники напряженно ждали — чем закончится долгое размышление смуглого музыканта? Наконец Этцвейн произнес судьбоносный приговор: «Уходите. Отправляйтесь домой, но не покидайте Ушкадель!»
Он расстегнул петлю на шее Саджарано: «Предупреждаю: если меня убьют, мои сообщники все равно оторвут вам головы!»
Без церемоний, даже с какой-то недостойной торопливостью пленники привели себя в порядок и вышли из коттеджа. Обернувшись в проеме живой изгороди, Джурджина бросила долгий взгляд на стоявшего у входа Этцвейна. В сумерках Этцвейн различал только смутные очертания ее лица, но что-то неприятно подсказало ему — Ифнесс Иллинет поступил бы иначе, руководствуясь другими соображениями. В какой-то критический момент он, Гастель Этцвейн, выбрал неправильный путь, ведущий в неизвестность.
Этцвейн сложил в одну из сумок Ифнесса инструменты и оружие — их опасно было оставлять в коттедже — и ушел.
В «Закоренелом язычнике» он плотно поужинал, заказывая самые лучшие блюда и внутренне насмехаясь над преследовавшими его уколами инстинктивной скупости. Забот было достаточно, но о деньгах беспокоиться больше не приходилось.
Прогулявшись по набережной к «Фонтенею», он нашел в таверне Фролитца и его бродячих оркестрантов, бодро орошавших глотки пивом. Фролитц встретил Этцвейна гневными упреками, но с явным облегчением: «Где ты пропадал? Какими безобразиями занимаешься? Нас допрашивали дискриминаторы! Сказали, что ты похитил и изнасиловал какую-то эстетку».
«Чепуха! — отмахнулся Этцвейн. — Глупое недоразумение. Я об этом и говорить не хочу».
«Не желаешь нас просветить? Это можно понять, — подмигнул Фролитц. — Что ж, делу время, потехе час. За дело! У меня болячка на губе. Я сегодня играю на хитане — Этцвейн возьмет древорог. Начнем с чего-нибудь попроще. Помните пьесу «Птицы в прибое»? Она имела большой успех на Утреннем берегу».
Книга 2. Бравая вольница.
Глава 1
Высоко на мансарде гостиницы «Фонтеней» Этцвейн вертелся с боку на бок — сегодня он плохо спал. В конце концов пришлось встать и подойти к окну. Звезды уже бледнели в фиолетовом зареве рассвета. Кое-где на далеких склонах Ушкаделя искрились редкие зеленые уличные фонари, в дворцах эстетов было темно.
«В одном из темных дворцов, — думал Этцвейн, — Человеку Без Лица тоже не спится».
Отвернувшись, он направился к рукомойнику. Перед ним явился призрак — незнакомый в рассветных сумерках, порожденный тенями в закопченном стекле зеркала. Этцвейн присмотрелся. Фантастическое, даже пугающее видение вполне могло отражать его истинную натуру — сардонически кривящийся рот, впалые щеки, свинцовый налет на землистой коже, глаза: черные провалы с тусклыми блестками в глубине. Вот он, во всей красе, Гастель Этцвейн — сначала чистый отрок в храме хилитов, потом нищий оркестрант «Розово-черно-лазурно-глубокозеленой банды», а ныне — обладатель чудовищной власти! Этцвейн назидательно обратился к призраку: «Сегодня произойдут знаменательные события — сегодня Гастель Этцвейн может поплатиться жизнью». Двойник в зазеркалье не внушал уверенности в обратном.
Этцвейн оделся, спустился по лестнице и вышел на улицу. У ларька на набережной он закусил жареной рыбой с хлебом, размышляя о перспективах предстоящего дня.
В принципе задача была предельно проста. Следовало явиться во дворец Сершанов и заставить Саджарано — Аноме, верховного правителя Шанта — выполнить определенные требования. При первых признаках неповиновения Этцвейну достаточно было нажать кнопку, чтобы оторвать Саджарано голову — ибо теперь Саджарано носил ошейник, тогда как Этцвейн ошейника не носил. Желаемый результат достигался грубым принуждением — если Саджарано не догадается, что Этцвейн действует в одиночку, без друзей и сообщников, в каковом случае положение Этцвейна становилось опасным.
После завтрака Этцвейна ничто не задерживало. Он отправился вверх по проспекту Галиаса. «Саджарано, — думал Этцвейн, — отчаянно пытается найти выход из невыносимой ситуации. Что, например, я мог бы сделать на его месте? Бежать?» Этцвейн сразу остановился. Об этой возможности он не подумал. Из поясной сумки он вынул кодирующий передатчик, в свое время служивший Человеку Без Лица основным средством наказания преступников, и набрал цветовой код ошейника Саджарано. Теперь достаточно было прикоснуться к желтой кнопке, чтобы голова правителя слетела с плеч. Этцвейн нажал красную кнопку поиска. Передатчик тихо загудел — громкость звука изменялась в зависимости от направления. Громче всего металлическая коробка гудела, когда Этцвейн направлял ее в сторону дворца Сершанов. Опустив голову, Этцвейн пошел дальше. Саджарано не сбежал. Следовательно, он мог устроить западню.
Проспект Галиаса выходил на Мармионскую площадь, где фонтан расплескивал молочно-белые воды по изваяниям из лилового стекла. Напротив поднимались к террасам Ушкаделя ступени каскада Коронахе, сооруженного царем Каспаром Пандамоном. Добравшись до Среднего яруса, Этцвейн повернул на восток по дороге, огибавшей склоны крутых холмов. Над ним высился призматический дворец Ксиаллинен — здесь жила Джурджина, «благотворительница» Человека Без Лица. Многим тайнам Этцвейн не мог найти объяснения, и среди них одна смущала его явным противоречием: почему скрытный Саджарано назначил исполнительницей приговоров и шпионкой соблазнительную красавицу, привлекавшую всеобщее внимание?
По мнению Этцвейна, загадка могла объясняться просто. Аноме, как любой другой мужчина, мог испытывать муки любви. Возможно, Джурджина Ксиаллинен холодно отнеслась к ухаживаниям Саджарано, не отличавшегося ни атлетическими достоинствами, ни отвагой, ни впечатляющими достижениями. Скорее всего, она сама недоумевала: почему Человек Без Лица приказал ей служить и, вдобавок, запретил иметь любовников? Анонимный правитель рассчитывал рано или поздно поручить Джурджине дело, требовавшее проявления благосклонности к Саджарано Сершану — такова, по крайней мере, была гипотеза Этцвейна.
Он приблизился ко дворцу Сершанов — не роскошнее и не беднее прочих обителей ушкадельских аристократов. Задержавшись, Этцвейн еще раз подверг тщательному анализу известные обстоятельства. Следующие полчаса определят будущее Шанта. Каждая минута теперь имела больше значения, чем все скоротечные дни обычной человеческой жизни. Подняв голову, Этцвейн смотрел на фасад Сершанского дворца. Хрустальные колонны, прозрачнее и светлее воздуха, радужно расщепляли лучи трех солнц, фиолетовые и зеленые стеклянные купола защищали от дождя и ветра просторные залы, где жили, праздновали и умирали шестьдесят поколений Сершанов.
Этцвейн двинулся вперед по крытой сводчатой галерее, прошел к портику парадного крыльца. Ему преградили путь шесть пятиметровых дверей из полупрозрачного стекла толщиной в три пальца. За ними — никакого движения, никаких отсветов. Этцвейн не знал, что делать дальше, почувствовал себя глупо и, естественно, разозлился. Он постучал по стеклу. Костяшки пальцев не производили должного эффекта. Этцвейн стал колотить дверь кулаком. Вскоре из-за угла длинного фасада на садовой дорожке показался человек — Саджарано собственной персоной.
«Это церемониальные двери, — подойдя, мягко сказал правитель Шанта. — Их редко открывают. Если не возражаете, мы могли бы войти там, где ходят все, в том числе я».
В угрюмом молчании Этцвейн последовал за хозяином дворца к боковому крыльцу. Саджарано жестом пригласил его зайти. Этцвейн не торопился, пытаясь заметить на лице Аноме признаки подвоха. Саджарано отвечал блуждающей улыбкой — как если бы настороженность Этцвейна его слегка забавляла. Опустив руку в карман и приготовившись нажать на желтую кнопку, Этцвейн прошел во дворец.
«Я ожидал вас, — сказал Саджарано. — Вы завтракали? Сегодня прохладно, не помешает чашка свежего чаю. Не пройти ли нам в утреннюю гостиную?»
Показывая путь, Саджарано провел Этцвейна в залитое солнечным светом помещение с шахматным полом, выложенным плиткой из зеленого и белого нефрита. Слева стена густо заросла темно-зелеными лозами, а напротив простенки между садовыми окнами сияли прозрачно-белым алебастром. Плавным жестом Саджарано предложил Этцвейну сесть в плетеное кресло, отошел к серванту, выбрал несколько деликатесов и налил горячий чай в пару чашек из серебряного дерева.
Этцвейн осторожно сел. Саджарано занял кресло напротив, спиной к высоким, до потолка, окнам. Этцвейн изучал его, расчетливо и недружелюбно. Опять же, Саджарано отвечал едва заметной улыбкой. Человек мелковатый, властелин страны не производил внушительного впечатления. Под широким, высоким лбом притаился инфантильный нос пуговкой, шишечка подбородка тоже скорее пряталась, нежели выделялась. В представлении толпы вездесущий, всесильный Аноме, Человек Без Лица, ничем не походил на прихотливоблаговоспитанного эстета.
Саджарано прихлебывал чай. «Нужно захватить инициативу», — подумал Этцвейн и натянуто произнес, тщательно выбирая слова: «Я уже упоминал, что представляю влиятельную группу, серьезно обеспокоенную набегами и размножением рогушкоев. Мы считаем, что, если не будут приняты решительные меры, уже через пять лет существованию Шанта придет конец — континент заполонит орда рогушкоев. В качестве Аноме вы обязаны истребить разбойников. Народы Шанта вам доверяют и ждут ваших распоряжений».
Саджарано безразлично кивнул, продолжая цедить чай. Этцвейн не прикасался к своей чашке: «Эти соображения, как вам известно, заставили меня и моих друзей прибегнуть к чрезвычайным средствам убеждения».
Саджарано снова кивнул — вежливо, одобрительно: «Ваши друзья — кто они?»
«Люди, шокированные зверствами рогушкоев».
«Понятно. И в их организации вы занимаете руководящий пост?»
«Я? — Этцвейн удивленно рассмеялся. — Я исполняю поручения».
Саджарано нахмурился: «Было бы разумно допустить, что я знаком с другими представителями вашей группы?»
«Состав организации не имеет значения, гораздо важнее ее цели», — уклонился Этцвейн.
«Допустим, что так — хотя я предпочел бы знать, с кем имею дело».
«Вам не придется ни с кем иметь дело. Соберите армию, выгоните рогушкоев — назад в Паласедру. Это все, что требуется».
«По-вашему, все так просто, — Саджарано чуть наклонил голову. — Еще один вопрос. На Джурджину Ксиаллинен произвели впечатление замечательные способности и возможности некоего Ифнесса. Признаюсь, мне любопытно было бы узнать о нем подробнее».
«Ифнесс — удивительный человек, — согласился Этцвейн. — Как быть с рогушкоями, однако? Что вы предлагаете?»
Саджарано положил в рот ломтик фрукта: «Я внимательно оценил сложившуюся ситуацию и пришел к следующим выводам. Аноме остается правителем Шанта постольку, поскольку в его руках — жизнь каждого гражданина страны, в то время как он сам никому не известен и недоступен. Таково положение Аноме по определению. Мое положение больше не соответствует этому определению — я ношу ошейник. Я не могу нести ответственность за государственную политику и за какие-либо действия, выходящие за пределы моих личных интересов. Короче говоря, я ничего не предлагаю».
«Ничего? Кто будет выполнять ваши повседневные обязанности?»
«Я отрекаюсь и передаю их вам и вашей группе. Власть у вас в руках: вы несете бремя ответственности». Заметив, как помрачнел Этцвейн, Саджарано рассмеялся: «По-вашему, я обязан прилагать истерические усилия, внедряя более чем сомнительную политику? Полнейший абсурд!»
«Должен ли я понимать вас таким образом, что вы больше не считаете себя правителем страны?»
«Совершенно верно. Человек Без Лица может действовать только при условии, что его никто не знает. Вы меня обнаружили. Я известен вам, Джурджине Ксиаллинен, другим членам вашей организации. Следовательно, я больше не способен выполнять функции Аноме».
«Кто же их будет выполнять?»
Саджарано пожал плечами: «Вы, ваш приятель Ифнесс, кто-нибудь еще из ваших сообщников. Повторяю: власть у вас в руках, вы несете бремя ответственности».
Этцвейн хмурился. К такому повороту событий он не приготовился. Он ожидал чего угодно — упрямства, угроз, презрения, гнева — но не пассивной, безвольной сдачи всех позиций. Саджарано отказывался от прерогатив с подозрительной легкостью. Этцвейн встревожился — наследник Сершанов значительно превосходил его в искусстве плести интриги и делать притворные уступки. Этцвейн осторожно спросил: «Вы согласны с нами сотрудничать?»
«Я буду выполнять приказы, безусловно».
«Прекрасно. Во-первых, необходимо объявить чрезвычайное положение по всей стране, сообщить во всеуслышание о существовании опасности и не оставить ни у кого никаких сомнений в том, что организуется широкомасштабное сопротивление».
Саджарано вежливо прокашлялся: «Это несложно устроить. Учитывайте, однако, что Шант населяют не меньше тридцати миллионов человек. Если все они узнают о введении чрезвычайного положения, могут начаться волнения».
«Согласен, могут. Во-вторых, необходимо срочно эвакуировать женщин из всех кантонов, окружающих Хванские Дебри».
Стараясь не оскорбить собеседника, Саджарано, однако, покосился на него с недоумением: «Эвакуировать — куда?»
«В прибрежные районы».
Саджарано сжал маленький рот в розовый бутон: «Это совсем не просто. Где они будут жить? Возьмут ли они с собой детей? Что станет с их жилищами, с повседневной работой? Вы говорите о двадцати, даже тридцати кантонах. Представляете ли вы, сколько там женщин?»
«Именно поэтому их следует немедленно вывезти, — кивнул Этцвейн. — Если тысячи женщин забеременеют от рогушкоев, орда увеличится тысячекратно».
Саджарано повел плечами: «Я упомянул о других трудностях. Ими невозможно пренебрегать».
«Административные детали», — сказал Этцвейн.
«Кто будет ими заниматься? Я, вы, ваша группа? — тон Саджарано становился покровительственным. — Планировать следует исходя из практических возможностей».
Стратегия отрекшегося Аноме становилась очевидной. Он не оказывал активного сопротивления, но и не собирался ничем помогать, рассчитывая посеять сомнения и раздоры в стане противника всеми доступными средствами.
«В-третьих, — сказал Этцвейн, — Аноме должен издать приказ о созыве национального ополчения».
Этцвейн ждал возражений. Саджарано не замедлил оправдать его ожидания: «Сожалею, что мне приходится выступать в роли придирчивого критика и капитулянта. Тем не менее должен отметить, что отдавать приказы гораздо легче, чем добиваться их выполнения. Сомневаюсь, что вы хорошо представляете себе всю сложность общественных отношений в Шанте. Шестьдесят два кантона не объединены ничем, кроме общего языка».
«Вы забыли о музыке и цветописи.[19] Кроме того, каждый гражданин Шанта, за исключением, по всей видимости, одного Саджарано Сершана, напуган и ожесточен набегами рогушкоев. У кантонов больше оснований для единства, чем вы думаете».
Мизинец Саджарано раздраженно дернулся: «Позвольте снова перечислить труднопреодолимые препятствия. Может быть вы все-таки поймете, почему я отказался от вмешательства, чреватого далеко идущими осложнениями. Командование объединенными ополчениями шестидесяти двух разнородных кантонов, где преобладают несовместимые представления о жизни и ценностях — само по себе непосильная задача. Необходим опытный офицерский состав — а я один, не считая помощницы-благотворительницы».
«По-вашему, мои предложения непрактичны и безответственны, — сказал Этцвейн. — Каковы, в таком случае, ваши собственные планы?»
Саджарано вздохнул: «Опыт научил меня тому, что не каждую проблему можно решить. Многие нежелательные явления, на первый взгляд требующие срочного вмешательства, исчерпывают себя и постепенно исчезают, если их игнорируют достаточно долго... Не желаете ли еще чаю?»
Этцвейн, не хотевший чаю, жестом отказался.
Саджарано откинулся на спинку кресла и задумчиво продолжил: «Созыв предлагаемого вами ополчения непрактичен еще по одной причине — пожалуй, самой весомой из всех. Он ни к чему не приведет».
«Что заставляет вас сделать такой вывод?»
«Вывод очевиден. Всякий раз, когда требуется решить ту или иную проблему — устранить опасность, выполнить неприятные обязанности — население полагается на Человека Без Лица. Народ сетует на рогушкоев — вы, конечно же, выслушали много жалоб такого рода. От кого ожидают избавления, кому предъявляют претензии? За все отвечает Человек Без Лица. Аноме стоит только издать указ, и все будет хорошо, все опасности исчезнут, все неприятности улетучатся. Да, Аноме поддерживал порядок, обеспечивал спокойствие две тысячи лет — отец народов, вождь, покровитель! Но он так же неспособен защитить население от стихийного нашествия, как отец своих детей — от бушующего в море урагана».
Этцвейн молчал. Саджарано смотрел на него с напряжением, не вязавшимся с рассудительным тоном. Взгляд эстета опустился к чашке чая, остывавшей перед Этцвейном. Нелепое подозрение осенило Этцвейна: не собирался же Саджарано, в самом деле, его отравить!
Этцвейн произнес: «Ваша точка зрения любопытна, но вы ограничиваетесь оправданием бездействия. Наша организация настаивает на решительных мерах. Повторяю: необходимо, во-первых, объявить чрезвычайное положение, во-вторых, эвакуировать женщин, населяющих прилегающие к Хванскому хребту районы, в-третьих, сформировать и обучить ополчение в каждом из кантонов. В-четвертых, вы должны назначить меня исполнительным директором с полномочиями, не уступающими вашим. Если вы кончили завтракать, приступим к осуществлению этой программы немедленно. Начнем с провозглашения новой политики».
«Что, если я откажусь?»
Этцвейн вынул из кармана небольшую металлическую коробку: «Я оторву вам голову».
Саджарано откусил кусочек вафли: «Убедительный довод». Отхлебнув чаю, он жестом пригласил Этцвейна последовать его примеру: «Вы так и не пробовали? Чай выращивают у меня в имении».
Этцвейн быстро пододвинул свою чашку к собеседнику: «Выпейте».
Саджарано поднял брови: «Это ваш чай».
«Пейте! — хрипло потребовал Этцвейн. — Или придется допустить, что мне подмешали снотворное или яд».
«Человеку моего происхождения в голову не пришла бы столь вульгарная мысль!» — звонко повысил голос Саджарано.
«Если вы рассчитывали, что я не стал бы ожидать от вас столь вульгарной мысли, она внезапно становится достаточно утонченной! Вы отведете подозрение, только отведав приготовленного для меня чаю».
«Я не позволю себя запугивать!» — прошипел Саджарано и постучал пальцами по столу. Краем глаза Этцвейн заметил дрожание темно-зеленой завесы плюща — там что-то блеснуло. Этцвейн отшатнулся. Из рукава к нему в ладонь выскользнула трубка универсального детонатора, конфискованная у Саджарано. Этцвейн направил трубку на плющ. Саджарано оглушительно завизжал. Этцвейн нажал на кнопку. За занавесом плюща хлопнул взрыв. Опрокидывая стол, Саджарано бросился на Этцвейна: «Убийца, убийца! О ужас, кровь! Мечта моя, любовь моя...»
Этцвейн ударил Саджарано кулаком. Тот упал на коврик у серванта и лежал, сотрясаясь стонущими рыданиями. Из-под плющевой завесы по нефритовым плиткам расползалась большая темно-красная лужа.
Этцвейн с трудом сдерживал рвоту. Все кружилось и плясало у него в глазах. Он пнул Саджарано, поднявшего желтое лицо со слюнявым ртом. «Вставай! — орал Этцвейн. — Смерть Джурджины — на твоей совести, мерзавец, ты ее убил! Убил мою мать, мою сестру! Если б рогушкоев раздавили давным-давно, ничего бы этого не было, ничего!» Он снова пнул правителя: «Вставай, или не сносить тебе головы!»
Всхлипывая, шатаясь, Саджарано поднялся на ноги.
«Приказал Джурджине спрятаться, прикончить меня по сигналу?» — угрожающе сжал кулак Этцвейн.
«Нет, не так! У нее шприц-самострел!»
«Безумие! Как вы надеялись остаться в живых? В чае — яд?»
«Снотворное».
«Какой смысл меня усыплять? Отвечайте!»
Саджарано только мотал головой. Он потерял всякое достоинство — более того, бил себя ладонью по лбу, будто старался заставить себя не думать, не слышать, не видеть.
Этцвейн тряс его за плечи: «Чего вы добиваетесь? Зачем меня усыплять? Мои друзья убили бы вас в любом случае!»
Саджарано лепетал: «Душа... внутренний голос...»
«С этой минуты я — ваша душа, я — ваш внутренний голос! Понятно? Как вы отдаете приказы? Мне нужно знать, как связаться с дискриминаторами,[20] с кантональными правительствами. Пошли!»
Поникнув пухлыми плечами, Саджарано привел Этцвейна к закрытой на замок двери в глубине полутемного кабинета. Набрав код на кнопочной клавиатуре замка, правитель и дышавший ему в спину Этцвейн взошли по узкой винтовой лестнице в просторное помещение, откуда открывался широкий вид на Гарвий.
На скамье вдоль стены стояли большие стеклянные ящики. Саджарано неопределенно махнул рукой: «Система радиосвязи. Узко сфокусированный луч принимается ретранслятором в скалах Верхнего Ушкаделя — сигнал не прослушивается из города. Вот кнопки связи с ведомством печати и радиовещания, с Дискриминатурой, с Советом кантонов, с ведомством жалоб и прошений. Фильтрующее устройство изменяет тембр голоса».
«Что, если говорить буду я? — спросил Этцвейн. — Кто-нибудь заметит разницу?»
Саджарано морщился. Глаза его помутнели, как от сильной боли: «Никто не узнает. Вы намерены стать Человеком Без Лица?»
«У меня нет таких намерений».
«Фактически вы уже им стали. Я складываю все полномочия».
«Как вы отвечаете на петиции?»
«Этим занимался Гарстанг. Я регулярно проверял его работу, просматривая ответы на стене объявлений. Иногда он советовался со мной, но такое бывало не часто».
«Когда вы передаете приказы, как обращаетесь к подчиненным?»
«Очень просто. Я говорю: «Аноме желает, чтобы такое-то должностное лицо сделало то-то и то-то». Вот и все».
«Хорошо. Вызовите ведомство печати и остальные управления. Вы должны сказать, в точности, следующее:
«Возмущенный грабежами и насилием рогушкоев, Аноме провозглашает чрезвычайное положение. Население Шанта должно приготовить и использовать все возможные средства уничтожения бандитов».»
Саджарано покачал головой: «Я не могу произнести эти слова. Вам придется говорить самому». Казалось, свергнутый правитель был близок к обмороку. Он судорожно сжимал и разжимал кулаки, глаза его метались из стороны в сторону, на коже проступили желтые пятна.
«Почему вы не можете сказать несколько слов?»
«Они противоречат моему... внутреннему голосу, я... не могу участвовать в вашем предприятии. Вы повергнете страну в хаос!»
«Если мы не истребим рогушкоев, Шант погибнет, и негде будет даже хаос устраивать! Покажите, как работает радио».
Подбородок Саджарано дрожал — на мгновение показалось, что он откажется. Эстет сказал, однако: «Переключите рубильник, поверните круглую зеленую ручку, она засветится. Нажмите кнопку выбора ведомства, потом лиловую кнопку вызова. Когда лиловая кнопка начнет мигать, говорите — вас услышат».
Этцвейн приблизился к скамье. Саджарано тихонько отступил на пару шагов. Этцвейн притворился, что изучает приборы. Саджарано метнулся к двери, выбежал, захлопнул дверь. Этцвейн, бросившийся следом, уже вставил ногу в проем. Саджарано налег снаружи, Этцвейн изнутри. Этцвейн был молод и силен, Саджарано упирался с истерической, лихорадочной энергией. Головы противников, пыхтевших с двух сторон широкой щели, почти соприкасались. Глаза Саджарано пучились, язык вывалился. Этцвейн давил. Саджарано медленно отъехал вместе с дверью и сдался. Дверь распахнулась.
Этцвейн вежливо спросил: «Кто живет во дворце — кроме вас?»
«Только прислуга», — выдавил тяжело дышавший правитель.
«Радио подождет, — сказал Этцвейн. — Сперва придется заняться вами».
Саджарано стоял, опустив плечи. Этцвейн повернулся: «Пойдемте. Двери оставьте открытыми. Дайте указания прислуге: я и мои друзья вселяемся во дворец!»
Саджарано обреченно вздохнул: «Что сделают со мной?»
«Будете сотрудничать — живите как хотите».
«Постараюсь, попробую, — сказал Саджарано неожиданно постаревшим голосом. — Нужно же пытаться, пытаться... Я скажу Аганте, дворецкому. Сколько человек приедет? Я вел одинокую жизнь... много лет».
«Мне придется кое с кем посоветоваться».
Глава 2
Усыпленный наркотиком Саджарано лежал в спальне. Этцвейн размышлял, стоя в обширном вестибюле дворца. Что делать с телом девушки? Непонятно. Приказывать слугам убрать ее было бы неосторожно. Пусть остается в гостиной, пока не станет ясно, как повернутся события... Соблазнительная Джурджина! Воплощение грации и живости превратилось в изуродованный труп. Саджарано не вызывал ярости. Раздражаться было бессмысленно — правитель сошел с ума.
Самое неотложное дело: провозглашение новой политики. Этцвейн вернулся в помещение радиостанции и записал на листе бумаги текст воззвания, с его точки зрения краткий и выразительный, после чего включил передатчик, поворачивая ручки и нажимая кнопки согласно инструкциям Саджарано. В первую очередь он вызвал ведомство печати и радиовещания.
Загорелась и стала мигать лиловая стеклянная кнопка.
Этцвейн заговорил: «Аноме приказывает опубликовать по всему Шанту следующую декларацию:
«В связи с опасным распространением рогушкоев в горных кантонах Аноме объявляет в стране чрезвычайное положение, вступающее в силу немедленно.
Несколько лет Аноме пытался остановить захватчиков, прибегая к мирным средствам убеждения. Эти попытки не увенчались успехом. Теперь мы вынуждены действовать, используя все ресурсы, доступные народам Шанта. Рогушкои будут истреблены или изгнаны в Паласедру!
Рогушкоям свойственна неестественная похоть, от нее уже пострадали многие женщины. Для того, чтобы свести к минимуму число дальнейших изнасилований, Аноме приказывает всем женщинам покинуть граничащие с Дебрями кантоны и переселиться в приморские районы, где власти обязаны обеспечить все необходимое для их безопасного временного проживания, в том числе кров и пищу.
В то же время власти каждого кантона должны сформировать ополчение из способных носить оружие мужчин, призывая не менее одного рекрута из каждых ста жителей. Дальнейшие указы, относящиеся к созданию национальных вооруженных сил, последуют в свое время. Кантональные власти, однако, обязаны немедленно приступить к вербовке личного состава. Задержки недопустимы и будут сурово караться.
В ближайшем будущем Аноме выступит с дополнительными объявлениями. Исполнительным директором, ответственным за координацию действий, назначается Гастель Этцвейн. Ему поручается руководство практическим осуществлением поставленных задач. Он представляет Аноме и говорит от имени Аноме. Все его указания должны беспрекословно выполняться».»
Этцвейн вызвал главного дискриминатора Гарвия и снова прочел декларацию: «Гастелю Этцвейну надлежит подчиняться так, как если бы он сам был Человеком Без Лица. Все ясно?»
В ответ прозвучал голос главного дискриминатора: «Гастелю Этцвейну будет оказано всевозможное содействие. Осмелюсь заметить, ваше превосходительство, что новую политику будут приветствовать во всех кантонах Шанта. Мы очень рады, что вы наконец приступили к делу!»
«Такова воля Шанта, — заявил Этцвейн. — Я ее выражаю и выполняю. Один, я никто и ничто!»
«Разумеется, совершенно верно, — поспешил согласиться дискриминатор. — Будут дополнительные указания?»
«Да. Я хочу, чтобы завтра в полдень, в управлении Корпорации, собрались самые опытные гарвийские технисты. Потребуются их рекомендации, касающиеся производства и применения различных видов оружия».
«Будет сделано».
«На данный момент это все».
Этцвейн осмотрел помещения Сершанского дворца. Прислуга следила за ним с подозрением, недоуменно ворча. Элегантная роскошь залов и галерей превосходила любые потуги воображения бродячего музыканта. Взору его открывались сокровища, накопленные за тысячи лет — стеклянные колонны, инкрустированные серебряными геральдическими знаками и астрологическими символами, анфилады приемных и гостиных, бледно-голубых и темно-розовых, стены, сплошь сияющие витранными[21] пейзажами, мебель и фарфор, доставшиеся от далеких предков, великолепные ковры из Массеаха и Кансума, ряды серебряных и золотых масок, искаженных гневом и злорадным торжеством — лучшие образцы из погребальных кладов, разграбленных отчаянными смельчаками на плоскогорьях внутреннего Караза.
«И мне, — думал Этцвейн, — мог бы принадлежать такой дворец! Абсурд! Гастель Этцвейн, невзначай порожденный скучающим бродячим музыкантом и рабыней, принимавшей путников в хижине на Аллее Рододендронов, отныне по иронии судьбы — признавая фактическое положение дел — Аноме, безликий, безымянный самодержец Шанта!»
Этцвейн разочарованно пожал плечами. В юности он знал нужду — каждый бережливо отложенный флорин составлял ничтожную часть выкупа, необходимого для освобождения матери из крепостного долга. А теперь в его распоряжении все сокровища Шанта! Поздно, поздно... ее они уже не спасут. И что, черт побери, делать с трупом в утренней гостиной?
Опустившись в кресло посреди библиотеки, Этцвейн погрузился в невеселые думы. Поступки Саджарано свидетельствовали о роковом помешательстве — человек, вынашивающий коварные замыслы, не стал бы вести себя столь опрометчиво. Почему они не могли откровенно объясниться? Даже с глупцом можно договориться, даже преступника можно запугать. Безнадежная ситуация! Саджарано не мог проводить сутки за сутками, лежа в наркотическом оцепенении — ему нужно же было когда-то есть и пить! А в любом другом состоянии он представлял смертельную опасность. Оставалось только оторвать ему голову.
Этцвейн скорчил гримасу. Как не хватало Ифнесса — всегда находчивого, всегда хладнокровного! Незаменимый Ифнесс вернулся на Землю. Но пригодились бы и любые другие союзники.
На кого можно было положиться? На маэстро Фролитца и «Розово-черно-лазурно-глубокозеленую банду»? Чепуха! Этцвейн немедленно отверг появившуюся было мысль. Кто еще? Дайстар, его отец. Второе, полузабытое имя всплыло из глубины памяти: Джерд Финнерак.
Обоих он почти не знал. Дайстар даже не подозревал о существовании сына-музыканта. Однажды Этцвейну привелось услышать импровизацию Дайстара — он догадывался о том, что творилось в душе знаменитого друидийна. Финнерак — в тот далекий день, когда он повстречался двенадцатилетнему Этцвейну на развязке воздушной дороги — был крепко сложенным молодым человеком с решительным загорелым лицом и русыми волосами, побелевшими в лучах горных солнц. Финнерак не обидел бежавшего от хилитов заморыша, пойманного и проданного поставщику крепостных бурлаков. Финнерак даже советовал еще не окольцованному Этцвейну бежать с нависшей над двумя ущельями платформы Ангвинской развязки. Где он теперь, Джерд Финнерак? Как обошлась с ним жизнь?
Этцвейн прошел в кабинет, поднялся по винтовой лестнице радиостанции, вызвал главного дискриминатора и потребовал получить из управления воздушной дороги информацию о работнике по имени Джерд Финнерак.
Заглянув в спальню, Этцвейн увидел Саджарано, безвольно развалившегося в наркотическом сне, нахмурился и прикрыл дверь. Спустившись в огромный приемный зал, Этцвейн подозвал лакея и послал его в гостиницу «Фонтеней» — найти маэстро Фролитца и привезти его в Сершанский дворец.
Немного погодя прибыл Фролитц — с вызывающим видом, но порядком напуганный. Обнаружив у входа Этцвейна, старый музыкант сразу остановился, нахохлившись, как встревоженная птица.
«Заходите, заходите!» — пригласил Этцвейн. Отпустив лакея, он провел Фролитца в большой приемный зал: «Садитесь. Хотите чаю?»
«Не откажусь, — отвечал Фролитц. — Может быть, ты соизволишь мне объяснить, что происходит и как ты здесь оказался?»
«Странная получилась история, — сказал Этцвейн. — Как вы знаете, недавно я подал жалобу Человеку Без Лица, уплатив пятьсот флоринов».
«Знаю. Дурак ты после этого».
«Как выяснилось, не совсем. Аноме согласился с моими доводами и попросил меня помочь правительству организовать вооруженное сопротивление рогушкоям... гм... по всей стране».
Фролитц прищурился, открыв рот: «Как ты сказал? Аноме «попросил» Гастеля Этцвейна, бродягу-хитаниста... Бред! Тебя кто-нибудь треснул по голове?»
«Бред наяву, если хотите. Кому-то же нужно этим заниматься. Я согласился. Кроме того, я предложил Аноме услуги вашей труппы... Предложение принято».
Фролитц, второпях не успевший сбрить седую щетину, разинул рот еще шире. В глазах у него загорелись издевательские искорки: «Давай, давай, рассказывай! У рогушкоев поджилки трясутся: с победным маршем наступают маэстро Фролитц и его кровожадный оркестр! Враг деморализован, музыка спасает Шант. Почему мне самому не пришла в голову такая блестящая идея?»
«Я понимаю, ситуация необычна, — терпеливо отозвался Этцвейн. — Но посмотрите вокруг, убедитесь сами».
Фролитц признал необычность обстановки: «Мы тут расселись, как эстеты, в сказочно роскошном дворце. О чем это говорит и что из этого следует?»
«Только то, что я сказал. Мы должны помочь Аноме».
Охваченный новыми подозрениями, Фролитц беспокойно изучал лицо Этцвейна: «Одно ясно и не подлежит никакому обсуждению: я — музыкант, а не полководец. Кроме того, я слишком стар, чтобы воевать».
«Ни вам, ни мне не придется драться с саблями в руках, — успокоил его Этцвейн. — Нам поручены обязанности более конфиденциального и, естественно, прибыльного характера».
«Что придется скрывать и сколько мы получим?»
«Мы во дворце Сершанов, — сказал Этцвейн. — Здесь мы должны поселиться — вы, я, вся труппа. Нас устроят, как эстетов, будут кормить, как эстетов. Обязанности достаточно просты — но прежде, чем я стану вдаваться в подробности, мне нужно знать, как вы относитесь к перспективе провести некоторое время во дворце».
Фролитц почесал в затылке, взъерошив редкие седые волосы: «Ты упомянул о прибыли. По крайней мере, это замечание напоминает былого Гастеля Этцвейна, молившегося на каждый флорин, как на умирающего святого. Все остальное больше похоже на галлюцинации — ты, часом, не пробовал курить гальгу?»
«Мы сидим в Сершанском дворце: разве это галлюцинация? Согласен, нам предлагают неожиданную работу — но, как вы знаете, в жизни происходят самые странные вещи».
«С этим невозможно спорить! Жизнь музыканта полна неожиданностей... Разумеется, я ничего не имею против того, чтобы пожить во дворце Сершанов, если хозяева не возражают... Ты не вознамерился, случаем, шутки шутить? Того и гляди, сошлют старого Фролитца на остров Каменотесов — туда плыть две недели, а я не выношу морской качки!»
«Никаких подвохов, клянусь вам! Как насчет труппы — они согласятся?»
«Разве они откажутся от такой возможности? Хорошо, допустим на минуту, что все это не розыгрыш и не какая-нибудь дикая махинация — в чем состоят наши обязанности?»
«Опять же вы скажете, что я вас разыгрываю, — предупредил Этцвейн. — Аноме хочет, чтобы Саджарано Сершан находился в закрытом помещении под постоянным наблюдением. Грубо говоря, он под домашним арестом. Наша функция — его стеречь».
Фролитц крякнул: «Из огня да в полымя! Если Аноме полагает, что музыканты — самые подходящие тюремщики, почему бы ему не приказать тюремщикам гастролировать с концертами?»
«Дело не зайдет так далеко, — заверил Этцвейн. — По существу мне поручено найти нескольких надежных людей, умеющих держать язык за зубами. Я сразу подумал о вашей труппе. Как я упомянул, нам хорошо заплатят. В частности, мне разрешено заказать новые инструменты для всех оркестрантов — самые лучшие древороги с медными и золотыми кольцами, хитаны из черной каразской сосны с бронзовыми петлями и зажимами, серебряные тринголеты — все, что нужно, все самого высокого качества. Расходы за счет казны».
Фролитц растерянно смотрел на ученика: «Ты все это можешь достать?»
«Могу».
«В таком случае рассчитывай на охотное содействие труппы. В самом деле, давно пора сделать перерыв и отдохнуть».
Саджарано Сершан занимал апартаменты в верхних этажах высокой башни жемчужного стекла — с теневой, задней стороны дворца. Поднявшись туда, Этцвейн обнаружил бывшего правителя сидящим в скромно-непринужденной позе на зеленом атласном диване. Саджарано складывал на столешнице мозаичную головоломку из желтоватых костяных пластинок. Лицо его осунулось, кожа приобрела оттенок старого пергамента, покрылась сетью мелких морщинок. Владелец дворца сдержанно приветствовал Этцвейна, но не хотел встречаться с ним глазами.
«Первый шаг сделан, — сообщил Этцвейн. — Вооруженные силы Шанта мобилизуются и скоро выступят против рогушкоев».
«Надеюсь, решать проблемы будет так же легко, как их создавать», — сухо сказал Саджарано.
Этцвейн сел напротив, в кресло из белого дерева: «Ваши взгляды не изменились?»
«Конечно, нет. Мои взгляды основаны на многолетнем опыте».
«Может быть вы согласитесь все же не вставлять мне палки в колеса?»
«Власть в ваших руках, — произнес Саджарано, нагнувшись над головоломкой. — Мне остается только подчиняться».
«Вы это говорили и раньше. А потом попытались меня отравить», — напомнил Этцвейн.
Саджарано безразлично пожал плечами: «Я подчинился внушению внутреннего голоса».
«Хмф... И что же внутренний голос внушает вам теперь?»
«Ничего. С вами в мой дом пришла беда. Я хочу одного — остаться в уединении».
«Ваше желание будет удовлетворено, — сказал Этцвейн. — В течение некоторого времени, пока не выяснится дальнейший ход событий, группа музыкантов — моих знакомых и коллег — проследит за тем, чтобы ваше уединение не нарушалось. Это наименьшее из неудобств, возможных в сложившейся ситуации. Надеюсь, вас оно не слишком отяготит».
«Нисколько — если они не станут репетировать или устраивать пьяные потасовки».
Этцвейн посмотрел в окно, на густые леса Верхнего Ушкаделя: «Как убрать тело из утренней гостиной?»
Саджарано ответил очень тихо: «Нажмите кнопку у двери — придет Аганте».
Явился дворецкий. «В утренней гостиной вы найдете тело, — сказал ему Саджарано. — Закопайте его, утопите в озере Суалле, избавьтесь от него любым способом по вашему усмотрению — но так, чтобы об этом никто не знал. Вернувшись, приберите в гостиной».
Аганте молча поклонился и ушел.
Саджарано повернулся к Этцвейну: «Чего еще вы от меня хотите?»
«Я должен воспользоваться средствами государственной казны. Каковы установленные правила?»
Губы Саджарано скривились в презрительной усмешке. Он небрежно отодвинул тонкие костяные пластинки: «Пойдемте».
Они спустились в кабинет Саджарано, где владелец дворца остановился — так, будто его поразила какая-то мысль. Этцвейн опасался очередной безумной выходки и демонстративно, с угрозой опустил руку в карман. Саджарано едва заметно повел плечами — каково бы ни было его намерение, он, по-видимому, от него отказался. Эстет извлек из шкафа пачку платежных чеков. Этцвейн осторожно приблизился, не снимая палец с желтой кнопки. Но Саджарано не думал сопротивляться. Он поспешно пробормотал, будто боялся, что его услышат: «Вы проводите смелую политику, я не могу... Возможно, вы правы; возможно, я слишком долго прятал голову в песок... Иногда мне кажется... что я живу в кошмарном сне».
Эстет монотонно разъяснил Этцвейну, как заполняются и предъявляются чеки.
«Между нами не должно быть недоразумений, — сказал ему Этцвейн. — Вам запрещается покидать дворец, пользоваться радио, посылать слуг с поручениями, принимать друзей и гостей. Мы не причиним вам никакого ущерба, если вы не сделаете ничего, вызывающего подозрения».
Фролитц уже прибыл с труппой во дворец. Этцвейн позвал его, представил ему Саджарано. Фролитц поклонился — иронически, но достаточно дружелюбно: «Мне предстоит выполнять непривычные обязанности. Надеюсь, мы сможем обойтись без излишних волнений и беспокойств».
«Я ничего так не хочу, как избавиться, наконец, от волнений и беспокойств, — с горечью ответил Саджарано и повернулся к Этцвейну. — Я больше не нужен? Или у вас есть еще какие-нибудь вопросы?»
«В данный момент вопросов нет».
Саджарано вернулся в жемчужно-стеклянную башню. Фролитц хитро покосился на Этцвейна: «Возникает впечатление, что содержание эстета в заключении — не самая важная из твоих обязанностей».
«Впечатление вас не обманывает, — признал Этцвейн. — Чтобы удовлетворить ваше любопытство...»
«Ничего не говори, ничего! — закричал Фролитц. — Чем меньше я знаю, тем меньше претензий ко мне можно предъявить!»
«Как вам угодно, — Этцвейн показал старому музыканту дверь, ведущую на винтовую лестницу радиостанции. — Сюда Саджарано нельзя пускать ни в коем случае! Не забудьте!»
«Смелое запрещение, — заметил Фролитц, — учитывая тот факт, что он — владелец дворца».
«Тем не менее, сюда ему заходить нельзя. Кто-то должен постоянно оставаться в кабинете и сторожить вход на лестницу — днем и ночью».
«Неудобно. Репетировать нужно в полном составе — ты же знаешь».
«Репетируйте здесь, в кабинете». Этцвейн нажал кнопку вызова. Явился Аганте.
«Нам придется на какое-то время нарушить привычный распорядок жизни во дворце, — сказал дворецкому Этцвейн. — Честно говоря, Аноме приказал содержать Саджарано под домашним арестом. Маэстро Фролитцу и его труппе поручено проследить за выполнением приказа. Они рассчитывают на ваше безусловное содействие».
Аганте поклонился: «Я на службе у его превосходительства Саджарано Сершана. Он изъявил желание, чтобы я выполнял ваши указания. Следовательно, я к вашим услугам».
«Превосходно. Мое первое указание таково: каковы бы ни были поручения Саджарано, вам запрещается делать что-либо препятствующее осуществлению наших официальных полномочий. Это понятно?»
«Понятно, ваше превосходительство».
«Если Саджарано отдаст приказ, противоречащий условиям его домашнего ареста, вы обязаны сообщить об этом мне или маэстро Фролитцу и ожидать наших инструкций. Последствия неповиновения очень серьезны. Сегодня у вас была возможность наблюдать эти последствия в утренней гостиной».
«Ваше превосходительство не могли выразиться яснее». Аганте удалился.
Этцвейн обратился к Фролитцу: «Маэстро, с этой минуты вам предстоит контролировать ситуацию. Будьте бдительны! Саджарано — находчивый и отчаянный человек».
«В находчивости ему меня не перещеголять! — провозгласил Фролитц. — Когда мы в последний раз играли «Керитери меланхине», Лурнус всех подвел позорнейшим образом, но я сразу смодулировал в тональность седьмой ступени, и никто ничего не заметил — помнишь? Это ли не находчивость? А кто запер балладиста Барндарта в нужнике, когда он не хотел уступать нам сцену? Находчивость — мое форте!»
«Вы меня убедили — я спокоен», — отозвался Этцвейн.
Фролитц ушел разъяснять оркестрантам новые обязанности. Этцвейн сел за стол в кабинете Саджарано и выписал подлежавший оплате по предъявлении чек на двадцать тысяч флоринов — по его приблизительным расчетам, этой суммы должно было хватить на все обычные и непредвиденные расходы в ближайшем будущем.
В Банке Шанта Этцвейну отсчитали, без вопросов и формальностей, двадцать тысяч флоринов — до вчерашнего дня он даже не надеялся когда-нибудь держать в руках столько денег!
Назначение денег — в том, чтобы ими пользоваться. В ближайшей галантерейной лавке Этцвейн выбрал костюм, по его представлению соответствовавший роли исполнительного директора — дорогой пиджак из красновато-лилового и зеленого велюра, темно-зеленые брюки, черный вельветовый плащ с бледно-зеленой подкладкой, добротные кожаные ботинки. В массивном зеркале галантерейщика красовался блестящий молодой аристократ. Где был Гастель Этцвейн, не тративший ни флорина без крайней необходимости?
Управление Эстетической Корпорации располагалось в историческом здании бывшей Палаты правосудия — громадном сооружении из пурпурного, зеленого и синего стекла в глубине мощеного двора, выходившего на площадь Корпорации. Нижние два этажа относились еще к Среднему периоду династии Пандамонов. Строительство верхних четырех ярусов, шести башен и одиннадцати куполов завершилось за десять лет до начала Четвертой Паласедрийской войны — каким-то чудом, однако, здание уцелело при ожесточенной бомбардировке пневмофугасами.
Этцвейн поднялся на второй этаж Палаты правосудия, где находилась Дискриминатура — ведомство главного дискриминатора Гарвия, Ауна Шарраха. «Будьте добры, сообщите о моем визите, — обратился он к служащему в приемной. — Меня зовут Гастель Этцвейн».
К нему вышел сам Аун Шаррах — человек породистой внешности с тонким горбатым носом, большим, будто начинавшим улыбаться ртом и коротко подстриженными густыми волосами, равномерно припорошенными сединой. На нем была самая неприхотливая темно-серая туника, украшенная лишь парой тонких полосок серебряного дерева на плечах: подчеркнуто скромный наряд. Этцвейн подумал, что рядом с Шаррахом он должен был казаться безвкусно расфуфыренным провинциалом.
Главный дискриминатор смотрел на Этцвейна с ненавязчивым любопытством: «Заходите ко мне, прошу вас».
Они прошли в большой кабинет с высоким потолком. Из окон открывался вид на площадь Корпорации. Подобно наряду Ауна Шарраха, обстановка в кабинете была проста и элегантна. Главный дискриминатор пригласил Этцвейна сесть в кресло напротив окна, а сам устроился на краю дивана в простенке между окнами. Этцвейн завидовал непринужденности его движений. Казалось, Шарраха нисколько не беспокоило, как он выглядит и что о нем думают. На стороне дискриминатора было важное преимущество — все его внимание сосредоточилось на Этцвейне, тогда как Этцвейн вынужден был постоянно следить за собой.
«Вам известно новое положение дел, — сказал Этцвейн. — Аноме призывает народы Шанта к сопротивлению рогушкоям».
«Лучше поздно, чем никогда», — отчетливо пробормотал Аун Шаррах.
Этцвейну его замечание показалось несколько легкомысленным.
«Как бы то ни было, теперь мы должны вооружиться, в связи с чем Аноме назначил меня исполнительным директором. Я говорю от его имени».
Аун Шаррах откинулся на спинку дивана: «Любопытно, не правда ли? Только вчера или позавчера нам было поручено найти и задержать некоего Гастеля Этцвейна. Полагаю, искали вас?»
Этцвейн ответил подчеркнуто холодным взглядом: «Аноме меня искал. Он меня нашел. Я изложил определенные доводы — вам известно, как он отреагировал».
«Мудро — таково, по крайней мере, мое мнение, — сказал Аун Шаррах. — Могу ли я поинтересоваться, в чем заключались ваши доводы?»
«Я предложил его вниманию математические выкладки, неопровержимо доказывающие, что дальнейшая задержка военных действий приведет к общенациональной катастрофе. Вы организовали собрание технистов?»
«Делаются приготовления. Сколько человек вы хотели бы видеть на собрании?»
Главный дискриминатор не проявлял ни малейших признаков подозрительности. Этцвейн бросил на него сердитый взгляд: «Разве Аноме не дал точных указаний?»
«Насколько я помню, он не назвал точное число технистов».
«В таком случае соберите лучших специалистов, пользующихся высокой репутацией — из них мы сможем выбрать председателя технического совета или руководителя программы исследований и разработок. Ваше присутствие на собрании было бы полезно и желательно. Первоочередная задача — формирование компетентных кадров, способных внедрять политику Аноме».
Аун Шаррах медленно, задумчиво кивнул: «Что уже сделано в этом направлении?»
Спокойная наблюдательность и догадливые вопросы дискриминатора начинали серьезно беспокоить Этцвейна: «Почти ничего. Обсуждаются различные кандидатуры... Что удалось узнать в отношении Джерда Финнерака?»
Аун Шаррах взял со стола лист бумаги, прочел: «Джерд Финнерак: крепостной служащий воздушной дороги. Родился в деревне Исперо, в восточной части кантона Утренний берег. Отец, фермер, занимавшийся выращиванием ягод, использовал сына в качестве обеспечения займа, но не уплатил проценты в срок. Сына забрали судебные исполнители — его отправили отрабатывать долг. Работая на воздушной дороге, Джерд Финнерак отличался непокладистым, даже бунтарским характером и совершил ряд проступков. В частности, переводя гондолу с одной ветки Ангвинской развязки на другую, он умышленно отцепил ее от троса и пустил по ветру. В результате воздушнодорожное управление понесло крупные расходы и, кроме того, вынуждено было возместить убытки пассажирам, обратившимся в суд. Эти суммы добавлены к сумме крепостного долга Джерда Финнерака. Теперь он трудится в кантоне Глай, в исправительном лагере №3, куда направляют особо провинившихся служащих. Его крепостной долг составляет чуть больше двух тысяч флоринов».
Шаррах передал донесение Этцвейну: «Хотелось бы знать, почему вы интересуетесь именно Джердом Финнераком?»
Этцвейн придал голосу выражение деревянной непреклонности: «Ваше любопытство вполне естественно. Тем не менее, Аноме настаивает на полной конфиденциальности. Перейдем к другому вопросу. Аноме приказал переселить женщин в приморские кантоны. Число неприятных инцидентов должно быть сведено к минимуму. В каждый кантон требуется направить не меньше шести контролеров, принимающих жалобы, проверяющих существование оснований для жалоб и составляющих письменные заключения с тем, чтобы могли быть приняты меры по устранению упущений. Поручаю вам назначить компетентных должностных лиц и откомандировать их в кратчайшие возможные сроки».
«Предусмотрительное распоряжение, — согласился Аун Шаррах. — Я прикажу заместителям сформировать группы контролеров».
«Оставляю детали на ваше усмотрение».
Покидая Дискриминатуру, Этцвейн думал, что, в конечном счете, не допустил серьезных просчетов. В породистой голове невозмутимого Шарраха, несомненно, кишели гипотезы, подозрения и догадки. Неизвестно было, однако, какие выводы сделает влиятельный хитрец и кем он в конце концов станет — союзником или противником? Больше, чем когда-либо, Этцвейну нужен был союзник, поверенный, надежный помощник. В одиночестве он подвергался опасности на каждом шагу.
Кружным путем Этцвейн вернулся ко дворцу Сершанов. Ему казалось, что за ним кто-то увязался. Когда он прошел под Гранатовыми воротами, спрятался за пилястром и подождал в темно-красной полутени, никто не прошел мимо. Всю дорогу Этцвейн оглядывался, но никого не заметил.
Глава 3
Ровно в полдень Этцвейн вошел в большой конференц-зал Палаты правосудия. Не оглядываясь по сторонам, он прошагал прямо к возвышению трибуны, взялся обеими руками за толстый серебряный поручень и обвел глазами ряды внимательных лиц.
«Уважаемые господа! Аноме подготовил сообщение, мне поручено его прочесть, — Этцвейн расправил свернутый в трубку лист пергаментной бумаги. — Слушайте! Так говорит Аноме».
«Приветствую техническую элиту Гарвия! Сегодня, в связи с организацией сопротивления рогушкоям, потребуются ваши рекомендации. Много лет я пытался предотвратить набеги мирными средствами. Напрасно: теперь мы вынуждены драться.
Уже приказано сформировать армию, но это только половина дела. Необходимо создать эффективное оружие.
Задача состоит в следующем. Воин-рогушкой — массивное, бесстрашное существо, нападающее с дикой яростью. Его основное оружие — металлическая палица с шипами и ятаган, причем изогнутый серпом ятаган используется и как рубящий клинок, и как метательный снаряд, поражающий цель в пятидесяти метрах и дальше. Следовательно, у наших солдат должно быть оружие, способное истреблять рогушкоев на расстоянии не менее ста метров.
Поручаю вам эту задачу и приказываю немедленно сосредоточить все усилия на ее решении. В вашем распоряжении все ресурсы Шанта.
Разумеется, необходимо организовать работы. Выберите из ваших рядов председателя и членов технического совета, руководящего исследованиями и разработками.
Исполнительным директором назначен человек, читающий мое обращение, Гастель Этцвейн. Он выступает от моего имени. Вы будете отчитываться перед ним и выполнять его указания.
Повторяю: поставленная задача нуждается в безотлагательном решении. Ополчение уже собирается и скоро потребует выдачи оружия».
Этцвейн отложил текст обращения и поднял лицо к почти заполненному амфитеатру: «Есть вопросы?»
Пыхтя, на ноги поднялся толстяк с нездоровым румянцем на щеках: «Требования понятны. Но какого рода оружие имеет в виду Аноме?»
«Оружие, позволяющее убивать рогушкоев и принуждать их к отступлению с минимальным риском для тех, кто этим оружием пользуется», — ответил Этцвейн.
«Очень расплывчатое определение, — пожаловался толстяк. — Мы не получили конкретных разъяснений. Аноме должен предоставить комплекты чертежей — или, по меньшей мере, описание технических характеристик. Что же, нам придется работать вслепую?»
«Аноме не технист, технисты — вы! — возразил Этцвейн. — Разработайте технические требования и чертежи сами! Если возможно изготовление лучевого оружия — прекрасно. Если нет, найдите самое практичное и целесообразное решение. По всему Шанту формируются ополчения, им потребуются средства уничтожения врага. Аноме не может вооружить армию мановением руки. Оружие предстоит спроектировать и изготовить вам, технистам!»
Толстяк покраснел пуще прежнего, неуверенно посмотрел по сторонам и сел. В последнем ряду Этцвейн заметил Ауна Шарраха, задумчиво улыбавшегося в пространство.
Встал высокий человек с горящими черным глазами на восковом лице: «Ваши замечания справедливы, и мы сделаем все, что в наших силах. Но учитывайте, что мы технисты, а не изобретатели. Мы скорее совершенствуем процессы, нежели разрабатываем принципиально новые конструкции».
«Если не можете справиться с работой, найдите тех, кто справится, — упорствовал Этцвейн. — Я назначаю вас — лично — руководителем, ответственным за разработку оружия. Создайте оружие или умрите!»
Вмешался другой технист: «Направление разработок зависит от предполагаемой численности армии. Другими словами, нужно знать, сколько единиц оружия должно быть произведено. Скорость изготовления и доступность материалов могут оказаться важнее совершенства конструкции».
«Совершенно верно, — согласился Этцвейн. — Численность армии составит от двадцати до ста тысяч человек, в зависимости от сложности кампании. Следует отметить, что производство оружия — лишь самая неотложная из задач. Потребуются также устройства связи, позволяющие командирам координировать маневры. Председатель технического совета должен выбрать группу специалистов, способную проектировать такое оборудование».
Этцвейн ждал дальнейших вопросов, но в зале царила угрюмая, неуверенная тишина. Этцвейн решил закончить собрание: «Организуйте работы по своему усмотрению. Выберите председателя, человека компетентного, пользующегося уважением, решительного — даже, в случае необходимости, безжалостного. Он сформирует группы специалистов, руководствуясь практическими соображениями. С вопросами и рекомендациями обращайтесь ко мне через главного дискриминатора, Ауна Шарраха».
Без дальнейших слов Этцвейн поклонился и покинул зал.
В павильоне во дворе Палаты правосудия к Этцвейну подошел Аун Шаррах. «Колеса завертелись, — сказал он. — Надеюсь, никто не будет вставлять в них палки. У технистов нет опыта творческого проектирования — и, если я могу позволить себе такое наблюдение, Аноме не проявил в этом отношении достаточной решительности».
«Что вы имеете в виду?» — спокойно спросил Этцвейн.
«Как правило, Аноме запрашивает досье и характеристики каждого из участников проекта, после чего сам назначает директора и дает точные, конкретные указания. Теперь технисты в замешательстве, не знают, с чего начать — им не хватает инициативы».
Этцвейн безразлично пожал плечами: «Аноме приходится многое рассчитывать и планировать. Часть его бремени должна быть возложена на других».
«Разумеется — если другие способны выдержать такое бремя и если им предъявлены конкретные требования».
«Как я уже сказал, требования им придется разработать самостоятельно».
«Оригинальный принцип! — признал Аун Шаррах. — Будем надеяться, что инерция многовековых традиций преодолима».
«Ее придется преодолеть, если мы хотим выжить! Аноме не может собственноручно драться с рогушкоями — на тварях нет ошейников. Полагаю, вы достаточно подробно изучили мою биографию?»
Аун Шаррах кивнул без всякого смущения: «Вы были — или продолжаете быть — музыкантом в популярной труппе маэстро Фролитца».
«Я музыкант. Я понимаю других музыкантов так, как вы не сможете их понять, даже если подготовите сотни досье».
Шаррах задумчиво погладил подбородок: «И что же?»
«Предположим, Аноме пожелал бы сформировать труппу лучших музыкантов Шанта. Без сомнения, вы могли бы предоставить ему тысячи характеристик, чтобы Аноме сделал выбор. Сыгрался бы такой оркестр? Смогли бы оркестранты дополнять друг друга, а не мешать друг другу? Не думаю. Другими словами, посторонний человек, не будучи опытным специалистом в той или иной области, не может выбрать или назначить группу специалистов, способную успешно работать в этой области. Специалисты должны организовываться сами. По крайней мере, в настоящее время Аноме придерживается такой точки зрения».
«Я с интересом прослежу за успехами технистов, — сказал Аун Шаррах. — Какое оружие вы ожидаете получить?»
Этцвейн холодно покосился на главного дискриминатора: «Я не разбираюсь в оружии и ничего не ожидаю — так же, как Аноме».
«Разумеется. Хорошо, мне пора вернуться в управление и реорганизовать персонал», — Аун Шаррах скрылся в стеклянном лабиринте Палаты правосудия.
Этцвейн пересек площадь Корпорации и зашел в галерею Роз. Выбрав столик в уединенном углу, он заказал чашку чаю и мысленно перечислил достигнутые успехи. По его мнению, он добился существенного прогресса, привел в движение важные механизмы. Женщины переезжали в относительно безопасные приморские кантоны. В лучшем случае, теперь безудержное размножение рогушкоев прекратится, в худшем — рогушкоям придется совершать набеги на селения, отдаленные от их горных убежищ. Приказ о формировании ополчений отдан, технисты получили указание разработать оружие. Маэстро Фролитц стерег Саджарано Сершана. С главным дискриминатором Шаррахом, фигурой неизвестных предпочтений, приходилось поступать крайне осмотрительно.
Он сделал все, что можно было сделать сразу... Рядом, на стуле, кто-то оставил газету «Эрнид короматик».[22] Этцвейн взял ее, просмотрел разноцветные полосы. Бледно-голубыми и зелеными символами — с ярко-розовыми и темно-розовыми вставками, посвященными особо щекотливым и скандальным историям — сообщались светские сплетни и комментарии на злободневные столичные темы — эти столбцы Этцвейн игнорировал. Он прочел сиреневую декларацию Аноме. Различными оттенками сине-фиолетового и темно-зеленого[23] предлагались отзывы известных и влиятельных лиц. Декларация вызвала всеобщее одобрение. «Наконец Аноме обрушит свой гнев на орды неистовых дикарей! — бушевал ярко-ультрамариновым текстом эстет Сантанджело Фераттилен. — Народы Шанта могут облегченно вздохнуть».
Этцвейн закусил губу, раздраженно встряхнув газету. Снизу на второй странице он заметил объявление в коричневой рамке, оттененной охряно-желтым бордюром — мрачные, пугающие вести. Полчище рогушкоев — по приблизительной оценке не меньше пятисот бойцов — вторглось в долину Сизых Туманов в кантоне Лор-Асфен. Сотни мужчин погибли, сотни женщин пропали без вести: «Рогушкои разбили лагерь в долине и не проявляют намерения возвращаться в Хван. Следует ли считать долину Сизых Туманов оккупированной территорией? Женщин со всей возможной расторопностью эвакуируют из Лор-Асфена на Утренний берег и в Энтерланд. К сожалению, вооруженные силы Аноме еще недостаточны для нанесения контрудара. Можно только надеяться, что кровавая бойня не повторится».
Этцвейн бросил газету на стол, но передумал, сложил ее и засунул в карман плаща. Минуту или две он сидел, разглядывая посетителей за соседними столами — те болтали, шутили и жестикулировали с обезоруживающей грацией, томно отправляя в рот кусочки деликатесов... В саду галереи появился розовощекий толстяк-технист, задававший вопросы в конференц-зале. В бледно-зеленом плаще поверх строгого чернобелого костюма, он присоединился к приятелям, двум веселившимся неподалеку парочкам в роскошных нарядах — синих, зеленых, пурпурных, белых. Приятели пригнулись к новоприбывшему. Тот что-то оживленно рассказывал. Этцвейн прислушался: «...безумие, безумие! Это не входит в наши обязанности — что мы знаем о таких вещах? Аноме требует чудес, но забыл подарить волшебную палочку! Пусть сам поставляет оружие — у него рычаги власти, с него и спрос!»
Приятель в зеленом что-то возразил, но пунцовый технист нетерпеливо прервал его: «Чепуха! Я подам петицию. Аноме не дурак, он должен понять, что так вещи не делаются».
Этцвейн напрягся, застыл — он не верил своим ушам, наливался гневом. Только что он призывал жирного тупицу самоотверженно трудиться во имя спасения цивилизации, а тот уже распускал пораженческие нюни! Этцвейн вынул передатчик, набрал цветовой код эмблемы техниста... но желтую кнопку нажимать не стал. Вместо этого он подошел к толстяку, заглянул в неожиданно побелевшее лицо и тихо сказал: «Я слышал ваши замечания. Понимаете ли вы, что почти потеряли голову? Кое-кому стоит только пошевелить пальцем».
«Я пошутил, не более того! — поспешно оправдывался технист, отталкивая ладонями воздух. — Пожалуйста, не понимайте мои слова буквально!»
«Как еще их понимать? Мы все говорим то, что хотим сказать. Прощайтесь с друзьями и доложите о прибытии в штаб гарвийского ополчения. Надеюсь, вы сумеете драться не хуже, чем трепать языком!»
«Ополчение? Невозможно! Моя работа...»
«Невозможно? — Этцвейн демонстративно пометил на полях газеты цветовой код толстяка. — Я передам ваши возражения Аноме. Позаботьтесь о завещании».
Оглушенный, бледный, технист обмяк на стуле.
Этцвейн подозвал дилижанс и отправился в Сершанский дворец. Он обнаружил Саджарано в висячем саду на крыше — тот сосредоточенно вертел в руках большую хрустальную игрушку. Этцвейн постоял, понаблюдал минуту. Поджав маленький рот и нарочито не замечая Этцвейна, Саджарано перемещал плавающие в толще хрусталя разноцветные светящиеся пятна, поглаживая пальцем инкрустированные костяными полосками ребра многогранника.
Какие мысли блуждали под обширным лбом, достойным поэта? Что двигало маленькими руками, некогда цепко сжимавшими бразды правления? Этцвейн, и так уже не в лучшем настроении, не вынес загадочного молчания, вынул газету и положил ее на столик перед Саджарано. Тот отложил безделушку и стал читать, потом поднял глаза на Этцвейна: «События происходят. История идет своим чередом».
Этцвейн указал на объявление в коричнево-желтой рамке: «Что вы об этом думаете?»
«Трагедия».
«Вы признаете, что рогушкои — враги Шанта?»
«На это нечего возразить».
«Как бы вы с ними обошлись, будь власть снова в ваших руках?»
Саджарано начал было говорить, но осекся и опустил взгляд на радужный многогранник: «Последствия любых действий теряются в сумраке вероятностей».
Этцвейн решил, что Саджарано, по-видимому, действительно рехнулся — почти наверняка: «Как вы стали Человеком Без Лица?»
«Отец уступил мне власть, когда состарился, — посмотрев в небо, Саджарано печально улыбнулся воспоминанию. — Нетипичный случай прямого престолонаследия. Как правило, все не так просто».
«Кому вы собирались завещать полномочия?»
Улыбка исчезла с лица Саджарано, он сосредоточенно нахмурился: «Когда-то я отдавал предпочтение Арнольду Чаму, человеку высокого происхождения, развитого интеллекта и безупречной честности. Но со временем я передумал. Аноме должен быть хитер и беспощаден, для него совесть — непозволительная роскошь, — пальцы Саджарано конвульсивно дернулись. — Страшные вещи мне приходилось делать, чудовищные! В Хавиоске спугнуть священных птиц равносильно смерти. В Фордуме ученик резчика по нефриту должен умереть, если в его экзаменационной работе появится трещина. Арнольд Чам, человек разумный, не мог бы заставить себя применять нелепые, бессмысленно жестокие законы. Есть более подходящий кандидат — Аун Шаррах, главный дискриминатор. Он холоден, проницателен, умеет подавлять сомнения и сожаления... Но я отверг кандидатуру Шарраха — мне не нравится его стиль — и остановил выбор на Гарстанге. Гарстанг мертв. Теперь все это не имеет значения...»
Подумав, Этцвейн снова задал вопрос: «Известно ли Шарраху, что вы рассматривали его кандидатуру?»
Приподняв игрушку со стола, Саджарано пожал плечами: «Аун Шаррах — лучший специалист по расследованию преступлений. Разумеется, он догадлив, умеет собирать информацию и делать выводы. От главного дискриминатора трудно скрыть источник власти — располагая всеми данными, личность и намерения Аноме можно установить методами исключения и корреляции событий».
Этцвейн отправился в помещение радиостанции, выключил фильтр речевой связи, чтобы его голос не напоминал «голос Аноме», и вызвал Ауна Шарраха: «Говорит Гастель Этцвейн. Я посоветовался с Аноме. Он приказал мне и вам объехать кантоны Шанта в качестве его полномочных представителей. Вам поручено посетить кантоны к востоку от Джардина и к северу от Дебрей, в том числе Шкорий, Лор-Асфен, кантон Ведьминой горы и Утренний берег. На мою долю приходятся западные и южные кантоны. Мы обязаны ускорить мобилизацию и обучение рекрутов, по мере необходимости прибегая к принуждению. У вас, наверное, есть вопросы?»
После короткого молчания Шаррах спросил: «Вы упомянули о «принуждении». Какими средствами принуждения я могу пользоваться?»
«Записывайте имена и цветовые коды лиц, проявляющих недостаточную расторопность или отказывающихся повиноваться. Аноме получит наши списки и определит меры наказания. В каждой конкретной ситуации необходимо учитывать местные условия. У меня нет более подробных инструкций. Вашего опыта и здравого смысла должно быть достаточно».
Голос Ауна Шарраха несколько поблек: «Когда я должен выехать?»
«Завтра. В первую очередь рекомендую посетить Уэйль, Сиреневую Дельту, Англезий, Джардин и кантон Пособников, после чего можете взять гондолу на Брассейском разъезде и отправиться по континентальной магистрали на дальний Запад. Я сперва заеду в кантоны Дикой Розы, Майе и Эреван, потом в кантон Теней, оттуда воздушной дорогой до Энтерланда. Расходовать собственные средства не требуется — выписывайте чеки, подлежащие оплате по предъявлении в Банке Шанта. Не отказывайте себе ни в чем необходимом».
«Хорошо, — без энтузиазма сказал Аун Шаррах. — Будем стараться».
Глава 4
Реквизированная Этцвейном гондола «Иридиксен» — трехъярусный аппарат из плетеных прутьев, тросов и блестящей пленки — покачивалась у погрузочной платформы. Ветровой, мечтательный и жеманный молодой человек по имени Казалло, выполнял сложные и опасные обязанности со скучающим пренебрежением. Этцвейн взошел на борт. Казалло, уже в рубке, обернулся: «Сударь, ваши указания?»
«Нужно посетить Джамилио, Вервей, Святую Гору в Эреване, Лантин в кантоне Теней. Потом отправимся в Энтерланд с остановками по всему Шанту».
«Как вам угодно», — Казалло с трудом подавил зевок. Его прическу украшал заткнутый за левое ухо побег лиловой аразмы — сувенир, оставшийся после вчерашней попойки. Этцвейн с подозрением следил за ветровым, наскоро проверявшим лебедки управления, выпускные клапаны паруса и механизм сброса балласта. Наконец Казалло опустил сигнальный флажок: «Поехали!»
Станционная бригада подтащила переднюю тележку каретки по пазовому рельсу, слегка отпустив гондолу вверх. Казалло презрительно отрегулировал дифферент и крен, расправил парус по ветру. Отцепив остановочные тросы от задней тележки, бригада освободила тормоз — гондола выскользнула вверх и вперед, каретка весело зажурчала в пазу. Казалло подкрутил лебедки с видом экспериментатора, изобретающего новый процесс — движение заметно оживилось. Гондола летела на восток над Джардинским разломом. Ушкадель превратился в смутную тень за кормой. Скоро они оказались в кантоне Дикой Розы, где среди лесистых холмов, уютных долин и сонных прудов раскинулись луга сельских поместий эстетов Гарвия.
На подлете к торговому городку Джамилио ветровой поднял оранжевый флажок и привел парус к ветру. Станционная бригада зацепила заднюю тележку каретки и отвела в боковой пазовый путь, где ее закрепили тормозом. Подхватив тягловые тросы над шкивами передней тележки, остановщик оттащил ее вперед по пазовому рельсу. Гондола опустилась к платформе станции.
Направившись в Скандальное собрание кантона, Этцвейн никого не застал — в коридорах царила гулкая тишина. Кто-то вывесил в вестибюле декларацию Аноме, но не похоже было, чтобы должностные лица ее заметили.
За конторкой вестибюля обнаружился секретарь. Этцвейн в ярости потребовал объяснений. Пока Этцвейн критиковал местные порядки, секретарь, удивленно застывший в вежливом полупоклоне, непонимающе моргал.
«Неужели вы настолько невежественны, что не можете уяснить себе неотложный характер указа? — бушевал Этцвейн. — Вы уволены! Убирайтесь из конторы! Скажите спасибо, что Аноме еще не оторвал вам голову!»
«За многие годы беспорочной службы я привык к неторопливому чередованию событий, — испуганно оправдывался секретарь. — Откуда мне знать, что именно этот указ надлежит выполнять с быстротой молнии?»
«Теперь вы знаете! Как созвать членов общинного совета на экстренное заседание?»
«Не имею представления. Такая необходимость никогда не возникала».
«Надо полагать, в Джамилио есть пожарная бригада? Как ее вызывают?»
«Есть платная бригада добровольцев. Когда случается пожар, бьют в гонг на балконе Скандального собрания».
«Идите и бейте в гонг! Что вы сидите?»
В кантоне Майе жили коммерцианты — высокие, темноволосые, темнокожие люди, обходительные и неторопливые. Они строили восьмиугольные дома с восьмиугольными крышами. В центре каждой крыши торчала печная труба; высота трубы отражала престиж домовладельца. Соответственно, городки и селения коммерциантов выглядели издалека, как беспорядочные рощи упиравшихся в небо узких каменных столбов, один выше другого. Административный центр кантона, Вервей, был скорее не городом, а скоплением небольших предприятий, изготовлявших игрушки, деревянную посуду, подносы, канделябры, двери, мебель. По прибытии Этцвейна производство продолжалось полным ходом. Старший негоциант кантона Майе признал, что еще не принимал никаких мер, связанных с декларацией Аноме. «Поспешные приготовления в высшей степени затруднительны, — объяснял он с обезоруживающей улыбкой. — Мы заключили контракты, ограничивающие свободу действий. Кроме того, учитывайте, что в это время года очень много заказов. Не сомневаюсь, что власть и мудрость Аноме достаточны для того, чтобы сдерживать рогушкоев, не переворачивая вверх дном устоявшийся уклад жизни!»
Этцвейн демонстративно отметил в записной книжке цветовой код негоцианта: «Если какой-либо из коммерческих вопросов привлечет ваше внимание прежде, чем будет сформировано и обучено способное к боевым действиям ополчение, вы потеряете голову. Война с рогушкоями — прежде всего! Я выражаюсь достаточно ясно?»
Лицо негоцианта помрачнело: «Трудно понять, каким образом...»
Этцвейн прервал его: «Даю вам ровно десять секунд на то, чтобы начать выполнение приказов Аноме. Такая формулировка поддается пониманию?»
Негоциант прикоснулся к ошейнику: «Целиком и полностью».
В кантоне Пособников Этцвейн столкнулся с тупиковым политическим конфликтом. Над горизонтом, на юго-востоке, уже виднелись первые вершины Хвана. Примерно на том же расстоянии с севера к кантону приближалась излучина залива Ракушечных Цветов. Главный арбитр Пособников жаловался: «Что делать — отправлять женщин на север или готовиться к приему женщин из предгорий? Куропатники говорят одно, яблочники[24] другое. Куропатники хотят формировать ополчение из молодых людей, потому что старики лучше управляются с птицей. Яблочники требуют, чтобы вербовали пожилых — молодые руки нужны для сбора фруктов. Одному Аноме известно, что предпринять!»
«Набирайте молодых куропатников и пожилых яблочников, — посоветовал арбитру Этцвейн, — но действуйте расторопно и решительно! Если Аноме узнает о задержках, градом полетят головы и яблочников, и куропатников!»
В кантоне Теней, под самыми отрогами Хвана, рогушкоев знали и боялись. Неоднократно их небольшие банды видели в верховьях долин — теперь местные жители не смели там показываться. От набегов пострадали три небольших селения. Здесь Этцвейну не пришлось никого торопить. Множество женщин уже отправили на север, проводились учения ополченцев.
В сопровождении великого герцога Теней Этцвейн наблюдал за упражнениями двух подразделений, вооруженных кольями и шестами, имитировавшими мечи и копья. Рекруты тренировались на противоположных концах удлиненного овала Лантинской арены. Два отряда заметно отличались нарядами, рвением и навыками. Бойцы первой группы, в хорошо сшитых темно-фиолетовых и темно-красных униформах и в темно-зеленых кожаных сапогах, упорядоченно бросались в атаку и отступали, умели отражать удары и делать ложные выпады, ходили вперевалку и обменивались шутками, не переставая энергично дубасить друг друга. Ополченцы из другого отряда, в рабочих комбинезонах и сандалиях, двигались вяло, с прохладцей, и недовольно брюзжали. Этцвейн поинтересовался причиной такого группового раздвоения характеров.
«Наши правила еще не вполне определились, — отвечал великий герцог. — Многие из получивших призывные повестки отправили служить вместо себя крепостных должников, не проявляющих особой прыти. Не уверен в целесообразности такой системы. Может быть, состоятельные лица, не желающие вступать в ополчение, должны присылать двух должников, а не одного. Может быть, замену вольных рекрутов крепостными вообще следует запретить. Выдвигаются убедительные доводы в пользу обеих точек зрения».
Этцвейн сказал: «Оборона Шанта — привилегия свободных людей. Вступая в ополчение, крепостной автоматически погашает долг. Будьте так добры, разъясните это отряду должников — посмотрим, прибавится ли у них прыти».
Рельс воздушной дороги карабкался в Дебри. Теперь «Иридиксен» поднялся над кареткой на всю длину тросов — здесь, в предгорьях, чем выше летела гондола, тем сильнее и ровнее становился ветер. В Ангвине бурлаки перетащили «Иридиксен» бесконечным канатом над ущельем к Ангвинской развязке — затерявшейся в небе платформе, откуда Этцвейн когда-то сбежал при содействии (или, по меньшей мере, при попустительстве) Джерда Финнерака.
«Иридиксен» продолжал путь на юго-восток над самыми мрачными, непроходимыми пропастями и утесами. Казалло достал бинокль и рассматривал панораму Дебрей. Протянув руку, он указал вниз, в горную долину: «Вас беспокоят рогушкои? Смотрите — целое племя!»
Схватив бинокль, Этцвейн увидел множество почти неподвижных темных фигур — не меньше четырехсот. На таком расстоянии они выглядели маленькими, расплывчатыми. Часть стойбища окружал высокий плетень из колючего кустарника. Вниз по долине относило струйки дыма, поднимавшиеся над дюжиной огромных походных котлов. Пытаясь лучше разглядеть внутренний огороженный участок, Этцвейн понял, что бесформенные груды, казавшиеся кучами тряпья — группы жмущихся друг к другу женщин. Их было около сотни. В глубине кораля, под чем-то вроде навеса из сучьев и листьев, скорее всего, прятались другие... Рогушкои расположились порознь вокруг плетня. Каждый сидел на корточках, не обращая внимания на остальных. Одни чинили ремни, другие натирали тело жиром, подкладывая дрова в очаги под котлами. Никто, насколько мог заметить Этцвейн, даже не поднял голову, чтобы взглянуть на гондолу или на каретку, шумевшую по рельсу в полукилометре от стойбища. Долина скрылась за выступом скалы — «Иридиксен» спешил над каменной осыпью.
Этцвейн повесил бинокль на деревянный крючок: «Откуда у них сабли? Котлы тоже металлические — у нас такие ни за какие деньги не купишь».
Казалло хихикнул: «Драгоценные котлы — а варят в них траву, листья, черных червей, дохлых ахульфов — живых, впрочем, тоже — все, что могут запихнуть в глотку! Я частенько гляжу на них в бинокль».
«Они когда-нибудь интересуются гондолами? Пара рогушкоев могла бы разломать рельс за одну минуту».
«Рельсы они не трогают, — почесал в затылке Казалло. — Такое впечатление, что им дела нет до некоторых вещей, будто они не существуют. Когда рогушкой не ест и не совокупляется, он сидит на корточках — и все тут. Не знаю, что у них в голове. Может, они вообще не думают. Местный пассажир, горец, рассказывал, что прошел по тропе мимо двадцати рогушкоев, сидевших в тени. Я спрашиваю — они спали? Он говорит — нет. Даже не пытались его поймать. Общеизвестный факт — рогушкой не нападает на мужчину, если тот не защищает женщину и если рогушкой не голоден. Голодный рогушкой отправляет в котел все съедобное, а мужчины, с его точки зрения, очень даже съедобны».
«Была бы у нас бомба, сегодня мы могли бы уничтожить пятьсот рогушкоев», — заметил Этцвейн.
«Не слишком удачная мысль, — отозвался Казалло, считавший своим долгом критиковать или опровергать любое мнение Этцвейна. — Если с гондол начнут бросать бомбы, рогушкои догадаются разломать рельсы».
«Можно бомбить с гондол, не привязанных к кареткам».
«Как вы себе это представляете? Бомба падает прямо вниз, а в свободном полете управлять парусом так, чтобы гондола оказалась точно над стойбищем, очень трудно. Если бы на гондолах стояли двигатели, другое дело — но из прутьев и стекла не смастеришь двигатель, даже если кто-нибудь сохранил древние чертежи».
Этцвейн сказал: «Парусная гондола неповоротлива, зато планер хорошо маневрирует».
«С другой стороны, — не сдавался Казалло, — планер должен рано или поздно приземлиться, тогда как гондола всегда может подняться на безопасную высоту».
«Я говорю об уничтожении рогушкоев, а не об организации приятных и безопасных воздушных экскурсий!» — отрезал Этцвейн.
Казалло только рассмеялся и отправился в рубку поиграть на хитане — ветровой очень гордился достижениями в этой области.
Они летели в самой глубине Дебрей. Всюду горбились в небе серые скальные хребты. Пазовый рельс круто поворачивал вверх, направо, налево, вниз — в зависимости от частых изменений рельефа. Перепады высоты вызывали тряску, килевую качку, неприятные ускорения. Крутые повороты в горизонтальной плоскости требовали от ветрового постоянной коррекции положения паруса и длины тросов. По возможности, пазовый рельс прокладывали перпендикулярно направлению преобладающих ветров, чтобы обеспечивалась возможность двухстороннего движения. В горах, однако, ветры то и дело менялись, налетая неожиданными порывами со всех сторон, в том числе навстречу, время от времени точно вдоль пазового рельса. В таких случаях ветровому приходилось поворачивать парус круто к ветру, наклонять гондолу и подтягивать ее вниз, к самому рельсу, чтобы свести к минимуму воздействие встречной составляющей соотношения сил. Если ситуация ухудшалась, он натягивал тормозной трос, прижимая ролики ходовой тележки к боковой поверхности паза. В худшем случае, когда с ревом и свистом налетали штормовые встречные шквалы, ветровой просто отказывался от попыток дальнейшего продвижения вперед и дрейфовал обратно к предыдущей станции или к ближайшему разъезду.
Ураган настиг гондолу «Иридиксен» над цирком Консейль — огромной заснеженной вулканической впадиной, где скрывались истоки Сумрачной реки. С утра розовато-сиреневая дымка затянула южную половину неба. Высоко на востоке сотнями полос раскинулся веер перистых облаков — за ними, подсвечивая веер розовыми, белыми и голубыми разводами, кружились и подмигивали три солнца. Казалло предсказал шторм незадолго до того, как налетели первые порывы. Ветровой пользовался всеми хитростями, известными в его профессии — приводил парус к ветру, подтягивал и травил тросы, тормозил, описывая гондолой широкую дугу и отпуская тормоз точно в тот момент, когда инерция позволяла выиграть у ветра несколько метров. Рельс поворачивал в полутора километрах впереди, и Казалло пытался во что бы то ни стало туда добраться. В трехстах метрах до поворота, однако, остов «Иридиксена» застонал и затрещал — погода разыгралась не на шутку. Казалло высвободил тормоз, поставил парус по ветру, и гондолу понесло обратно над котловиной древнего вулкана.
На разъезде Консейль станционная бригада спустила гондолу и закрепила ее сетью. Казалло и Этцвейн провели ночь на станции, защищенной высокой каменной стеной с угловыми башнями. Скучающие служащие воздушной дороги охотно отвечали на вопросы и сообщили, что рогушкоев в округе видели часто. Суперинтендант отметил, что за последние месяцы численность банд поразительно увеличилась: «Раньше попадались шайки по два, от силы по три десятка рогушкоев. Теперь они бродят стадами по двести-триста тварей и временами окружают станционную крепость. Напали только однажды, когда здесь пережидали шторм монахини из Верна. Сначала вокруг вроде бы никого не было, а потом, как из-под земли, на стены полезли триста рогушкоев. Но мы приготовились — все подходы к станции защищены вкопанными фугасами в несколько рядов. Каждый взрыв выводил из строя по две дюжины рогушкоев — осталось около сотни трупов. На следующий день мы побыстрее затолкали монахинь в гондолу и отправили восвояси. С тех пор все спокойно. Пойдемте, я вам что-то покажу».
В углу под крепостной стеной служащие соорудили клетку из кольев железного дерева. В просветы между кольями выглядывала пара небольших медно-красных существ: «Их поймали на прошлой неделе — рылись в отбросах. Мы подвесили сеть и подложили приманку. Трое разорвали сеть и сбежали, а двое запутались. Сильные черти — каждого пришлось нести вчетвером».
Этцвейн внимательно рассмотрел двух детенышей, бессмысленно пяливших большие черные глаза. Новая порода людей? Генетическая модификация? Искусственно выращенные организмы, чуждые всему живому на Дердейне? Такие вопросы задавались часто, но никто еще не дал удовлетворительного ответа. Скелет рогушкоя мало отличался от человеческого, хотя бросалась в глаза упрощенная структура ступней, кистей и грудной клетки. Этцвейн спросил суперинтенданта: «Они смирные?»
«Как же! Просуньте палец в клетку — мигом откусят!»
«Они говорят? Вообще, производят какие-нибудь звуки?»
«По ночам скулят и стонут, днем молчат. Человеческого в них мало — звери, даже не дикари! Пора бы их прикончить, а то еще придумают какую-нибудь мерзость».
«Нет-нет, стерегите их хорошенько — Аноме приказал изучать рогушкоев. Может быть, мы все-таки научимся их контролировать».
Суперинтендант с сомнением взирал на меднокожих бесов: «Все возможно, конечно».
«Как только я вернусь в Гарвий, за ними пошлют — вам, разумеется, хорошо заплатят за их содержание».
«Очень любезно с вашей стороны. Надеюсь, они не сбегут. Только они растут, как на дрожжах — того и гляди, клетку разломают».
«Укрепите клетку. Не бейте их, но постарайтесь научить их выполнять пару простейших команд».
«Попробуем».
Вниз летел «Иридиксен» — над предгорьями Дебрей, над великолепными лесами кантона Верн. На какое-то время ветер полностью затих. Чтобы развлечься, Этцвейн наблюдал в бинокль за лесными птицами — воздушными анемонами, порхающими, как поплавки в море листвы, светло-зелеными мелькунами, черноголовыми сиреневыми драконохвостами. К вечеру внезапно поднялся ветер — «Иридиксен» снова понесся над рельсом, спускавшимся к Пельмонту, где была развязка.
В Пельмонте вода из реки Фахалюстры, отведенная в узкие искусственные каналы, приводила в движение оборудование шести огромных лесопилок. Бревна, сплавленные по Фахалюстре из лесных предгорий, обдирали, оторцовывали и разрезали на доски драгоценными пилами из спеченных железных кружев. На открытых складских площадках сушились штабели досок. Выдержанное дерево обстругивали, пропитывали маслами, красителями, ароматическими мазями и нагружали на баржи или резали, изготовляя фигурные полуфабрикаты. Этцвейн дважды бывал в Пельмонте с «Розово-черно-лазурно-глубокозеленой бандой». Ему нравилось вездесущее в этих местах благоухание свежераспиленных досок, смолы, олифы и копоти.
Главный управляющий кантона откровенно обрадовался прибытию Этцвейна. Лесорубы Северного Верна хорошо знали рогушкоев. Много лет они выставляли сторожевые посты по берегам Фахалюстры, отражая десятки вылазок с помощью арбалетов и пик — в лесу, по сравнению с метательными ятаганами рогушкоев, это оружие давало определенные преимущества.
В последнее время рогушкои нападали по ночам, большими бандами. Вернским патрулям приходилось отступать от берегов реки, что приводило к простоям лесопилок и беспокойствам в кантоне. Нигде еще в Шанте Этцвейн не наблюдал такого рвения. Женщин отправили на южный берег, ополчение проводило ежедневные учения. «Передайте Аноме: пусть срочно пришлет оружие! — волновался главный управляющий. — Пики и арбалеты на открытой местности бесполезны, нужны взрывные стрелы, ослепляющие прожекторы, генераторы лучей смерти, новые, ужасные средства уничтожения — чем страшнее, тем лучше! Аноме всесилен и гениален — пусть придумает и даст нам оружие».
Этцвейн не нашелся, что сказать. В той мере, в какой титул «Аноме» еще имел какой-то смысл, Аноме был он, Гастель Этцвейн — человек вовсе не всесильный и не гениальный. Что сказать отважным людям? Их нельзя обманывать, они заслуживают правды. Этцвейн ответил: «Оружия нет. В Гарвии лучшие технисты Шанта работают не покладая рук. Оружие нужно спроектировать, испытать, изготовить. Аноме делает все, что может, но он не всесилен».
Главный управляющий, долговязый выходец из семьи лесорубов с некрасивым обветренным лицом, возмутился: «Почему так поздно? О рогушкоях он знал давным-давно — и за все это время не приготовился к обороне?»
«Аноме надеялся на мирное решение проблемы, — сказал Этцвейн. — Вел переговоры, пытался сдержать распространение банд. Но рогушкои, конечно, не понимают просьб и предупреждений».
«Чтобы об этом догадаться, не нужно быть семи пядей во лбу! Кто угодно сообразил бы, что к чему, после первого же набега. Теперь мы должны драться, а драться нечем! Аноме, чем бы ни объяснялось его опоздание — изнеженностью, нерешительностью, трусостью — Аноме нас предал! Можете так ему и передать, пусть оторвет мне голову! Лучше взорваться на месте, чем вариться в котле рогушкоев».
Этцвейн кивнул: «Прямота делает вам честь. Скажу по секрету: Аноме, усердно пытавшийся мириться с рогушкоями, смещен. Его полномочия возложены на другого человека, вынужденного делать все сразу. Ваши замечания совершенно справедливы».
«Рад слышать! — заявил управляющий. — Тем не менее, что нам делать здесь и сейчас? У нас опытные, выносливые бойцы, разъяренные до крайности. Но рогушкоев не возьмешь голыми руками. Нужно что-то придумать, что-то предпринять немедленно».
«Рогушкоя можно убить из арбалета. У вас есть оборудование и материалы — делайте мощные, дальнобойные арбалеты», — посоветовал Этцвейн. Он вспомнил стойбище рогушкоев в Хванских горах: «Постройте планеры — на одного, двух, шестерых человек. Обучите пилотов. Пошлите людей в кантон Ведьминой горы и в Азум, потребуйте лучшие планеры. Разберите их, используйте детали в качестве шаблонов. За холстом и пленкой пошлите в Хинте, в Марестий, в Багровый Каньон. Требуйте именем Аноме самый высококачественный материал! Лучшие веревки и тросы делают в Катрии, фриллийские тоже хороши. Феррийцам придется установить дополнительные реакторы и поступиться секретами, чтобы обучить новый персонал: железа нужно как можно больше. Пользуйтесь всеми ресурсами Шанта — такова воля Аноме».
Из Пельмонта «Иридиксен» быстро долетел до Лютэ, а из Лютэ в Блик над рекой Альфеис — пассажирская баржа буксировала гондолу навстречу морскому бризу. Обратно из Блика в Лютэ «Иридиксен» летел своим ходом, привязанный тросами к рыбачьей лодке с длинным килем, направлявшей гондолу против течения Альфеиса подобно ходовой тележке в рельсовом пазу. Вернувшись в Лютэ, Этцвейн отправился в энтерландский порт Око Востока, где взошел на борт пассажирского парусника, отплывавшего к Утреннему берегу, в Ильвий. Фактически Утренний берег относился к территории, порученной Ауну Шарраху. Этцвейн, тем не менее, хотел воочию удостовериться в добросовестности главного дискриминатора.
Из Ильвия Этцвейн вернулся морем в Око Востока. Между этими городами воздушнодорожного сообщения не было. Давно планировалась также ветка, напрямую связывавшая Брассеи в Эльфине с Масчейном в Массеахе, но проект остался на бумаге. В каждом случае кратчайшее расстояние между городами составляло чуть больше трехсот километров — но длина трассы, проложенной с учетом преобладающих ветров, превышала бы две с половиной тысячи километров. Еще одну, кольцевую ветку, следовало протянуть от Брассей на запад через кантоны Язычников и Ирреале, потом в Фергаз на севере Гитанеска, после чего на юго-восток, через Фенеск в Гарвий. Изолированные кантоны Хавиоск, Фордум и Парфе пока не слишком нуждались в воздушнодорожном обслуживании, но разве не следовало думать о будущем? Этцвейн пометил в записной книжке: «Закончить строительство недостающих участков воздушной дороги — в кратчайшие сроки!»
Из Ока Востока «Иридиксен» вернулся в Пельмонт, откуда направился по главной южной магистрали в дикие кантоны, граничившие с Большой Соленой топью. В каждом кантоне Этцвейн находил особую ситуацию, особые представления. В Дифибеле женщинам принадлежали все лавки, склады и мастерские. Они наотрез отказывались покидать предгорья, будучи совершенно уверены в том, что в их отсутствие мужчины растащат запасы. В городе Хованна Этцвейн, охрипший от гнева, кричал: «Вы хотите, чтобы вас насиловали? Вы понимаете, что вас ждет?»
«Изнасилование можно перетерпеть, а потерянный товар не вернешь, — возражала предстоятельница Совета Матриархов. — Ничего, не беспокойтесь! Наши орудия устрашения отпугнут кого угодно». Она лукаво уклонилась, однако, от требования назвать «орудия устрашения», лишь намекнув, что «негодники проклянут тот день, когда покусились на наше добро. Воры, например, останутся без пальцев!»
В кантоне Буражеск Этцвейн столкнулся с сектантами-пацифистами, аглюстидами, носившими только одежды, изготовленные из собственных волос — по их утверждению, естественные и органические, то есть не причиняющие ущерба другим живым существам. Аглюстиды поклонялись всем аспектам жизненной силы и не употребляли в пищу ни плоти животных, ни растительных семян, зерен или орехов, а фрукты ели только после того, как сажали найденные в них семена и предоставляли им возможность прорасти. Аглюстиды считали, что рогушкои, более плодовитые, чем люди, больше способствовали процветанию и распространению жизни, в связи с чем вымещение человеческой популяции популяцией рогушкоев было предпочтительно. Они призывали к пассивному сопротивлению «войне, развязанной Аноме». «Аноме хочет войны — пусть воюет сам!» — был их девиз. В одеждах из свалявшихся человеческих волос они дефилировали по улицам Манфреда, выкрикивая лозунги, распевая песни и улюлюкая.
Этцвейн не знал, как с ними поступить. Промедление не вязалось с его характером. Что, однако, можно было сделать? Оторвать головы тысячам голодных, грязных оборванцев? Немыслимо. С другой стороны, почему пацифистам позволительно уклоняться от выполнения долга, когда гораздо лучшие люди погибают, их защищая?
В конце концов Этцвейн развел руками, с отвращением плюнул — и отправился в Шкер, где опять обнаружил ситуацию новую и достойную удивления, хотя и напоминавшую чем-то царивший в соседнем Буражеске апофеоз идиотизма. Жители Шкера были дьяволистами, то есть поклонялись пантеону демонов «голь-се». Дьяволисты придерживались хитроумного пессимистического космологического учения. Основные заповеди его выражались следующим силлогизмом:
«Зло преобладает всюду на Дердейне. Очевидно, что «голь-се» сильнее противостоящих им духов добра.
Следовательно, простейшая логика требует умилостивления и прославления демонов».
Рогушкоев дьяволисты почитали в качестве воплощений «голь-се». Этцвейн, прибывший в административный центр Банилли, узнал, что указы Аноме здесь не выполнялись — даже не публиковались. Глава местных органов самоуправления, Шкерский Вий, изъяснялся фаталистически скорбным тоном: «Пусть Аноме оторвет нам головы — что поделаешь? Все равно мы не вправе противостоять существам, столь превосходящим нас в порочности и жестокости. Наши женщины уходят к ним добровольно. Мы предлагаем им пищу и вино, мы не оказываем сопротивления их внушающему ужас величию».
«Я положу этому конец!» — заявил Этцвейн.
«Никогда! Таков закон нашей жизни. Мы не можем жертвовать вечностью ради каких-то прихотей, противоречащих здравому смыслу!»
Снова Этцвейн помотал головой в замешательстве — и отправился в кантон Глай, не слишком развитый и населенный в основном диковатыми малограмотными людьми. Здешние отроги Хвана были практически безлюдны — в предгорьях прозябали несколько феодальных кланов, даже не подозревавших об инструкциях Аноме. Их взаимоотношения с рогушкоями в принципе устраивали Этцвейна. Одни других стоили: глайские горцы постоянно устраивали засады на одиноких рогушкоев, чтобы добыть драгоценные металлические палицы и ятаганы.
Явившись в столицу кантона, Оргалу, Этцвейн обратился к трем верховным судьям, упрекая их за невыполнение указа о созыве ополчения. Судьи только рассмеялись: «Когда вам понадобится отряд опытных бойцов, сообщите — мы его сформируем за два часа. А пока не получены конкретные приказы и новое оружие, зачем себя утруждать? Кроме того, чрезвычайное положение могут отменить».
Этцвейн не мог ничего возразить — точка зрения судей по-своему была логична. «Хорошо, — сказал он. — Будьте готовы, однако, выполнить обещание по первому требованию. Кстати, где находится исправительное учреждение управления воздушной дороги, лагерь №3?»
Судьи насторожились: «Зачем вам понадобился лагерь №3?»
«Приказ Аноме — обсуждению не подлежит».
Судьи переглянулись, пожали плечами: «Лагерь №3 — в сорока километрах по дороге на юг, к Соленой топи. Вы собираетесь воспользоваться своей роскошной гондолой?»
«Разумеется. По-вашему, я должен идти пешком?»
«Видите ли, в таком случае вам придется нанять тягловых быстроходцев — вдоль южной дороги нет пазового рельса».
Часом позже Казалло и Этцвейн отправились в «Иридиксене» на юг. Тросы гондолы закрепили на концах длинного тяжелого шеста, противодействовавшего подъемной силе паруса. Один конец шеста соединили с упряжью на спинах двух быстроходцев, другой поддерживала пара легких колес с перекладиной и сиденьем погонщика. Быстроходны двинулись по дороге резвой рысцой. Казалло регулировал форму и положение паруса так, чтобы животным приходилось прилагать минимальные усилия. Полет в упряжке заметно отличался от движения гондолы, подгоняемой ветром — ритмичное подрагивание тягловых тросов передавалось корпусу.
Этцвейн ощущал необычные толчки... и нарастающее напряжение — чувство вины? Ничто, по существу, не мешало ему явиться в лагерь №3 гораздо раньше. Это соображение привело Этцвейна в раздраженное, подавленное состояние. Легкомысленный Казалло, не озабоченный ничем, кроме поиска простейших способов развеять скуку, достал хитан. Убежденный в своем мастерстве и в том, что оно вызывает у Этцвейна завистливое восхищение, ветровой пытался сыграть мазурку из классического репертуара, известную Этцвейну в двенадцати вариантах. Казалло исполнял мелодию неуклюже, но старательно и почти без ошибок. Тем не менее, в одной из модуляций он непременно брал неправильный аккорд. Этцвейн, наливавшийся желчью после каждого повторения фальшивой гармонии, не вытерпел: «Это невозможно, в конце концов! Если тебе невтерпеж бренчать, по крайней мере выучи аккорды!»
Казалло насмешливо поднял брови: «Друг мой, эта пьеса — «Огненные подсолнечники» — традиционно исполняется именно так. Боюсь, у вас плохой слух».
«В общем и в целом мелодию можно распознать, хотя я неоднократно слышал ее в правильном исполнении».
Казалло лениво протянул хитан: «Будьте добры, наставьте меня на путь истинный. Я буду чрезвычайно признателен».
Этцвейн схватил инструмент, чуть ослабил высоко настроенную струну большого пальца[25] и сыграл мазурку правильно — пожалуй, с излишней показной легкостью. В первой вариации он присовокупил изящные беглые украшения, во второй сыграл тему в обратном движении, ракоходом, аккомпанируя совсем в другом ладу, после чего, вернувшись к первоначальной последовательности, исполнил блестящую импровизацию взволнованным быстрым стаккато, более или менее согласовавшимся с его настроением, продолжая контрапунктически повторять основную тему в других голосах на манер ричеркара. Завершив пьесу виртуозной каденцией с добавлением невозможных пассажей пиццикато пальцами левой руки и сложно синкопированных ритмов гремушки, Этцвейн отдал хитан уничтоженному Казалло: «Примерно в этом роде. Под конец я позволил себе пару вольностей».
Казалло перевел взгляд с Этцвейна на хитан, молча, с подчеркнутой аккуратностью повесил инструмент на деревянный крючок и пошел смазывать лебедки. Этцвейн повернулся к панораме, открывавшейся за бортом.
Пейзаж стал диким, почти враждебным: в зеленом море пилы-травы выделялись островки черно-белых тропических зарослей. Чем дальше они продвигались на юг, тем плотнее и темнее становились джунгли. Среди пилы-травы стали попадаться гниющие заболоченные участки, в конце концов сменившиеся напоминающими сугробы скоплениями синеватобелой падальной грибницы. Впереди тускло блестела сонная излучина реки Бренай. Дорога слегка отклонилась к западу, поднимаясь к развалу крошащихся темно-серых вулканических скал, извилисто протиснулась в распадке между скалами и обогнула огромное поле заросших развалин — город Матрис, две тысячи лет тому назад осажденный и разрушенный паласедрийцами, а теперь населенный лишь огромными иссиня-черными ахульфами Южного Глая, осквернявшими руины внушавшей смех и ужас дикой пародией на человеческую городскую жизнь. В низине за развалинами Матриса начиналось болото, казавшееся издали миражом тысяч маленьких озер — здесь росли самые развесистые ивы Шанта, купами по десять-двенадцать метров высотой. Работники из лагеря №3 срезали, обдирали и сушили прутья ивняка. Вязанки нагружали на баржи и сплавляли по реке Бренай в Порт-Палас на южном берегу, откуда шхуны доставляли их в Сиреневую Дельту на предприятия, изготовлявшие гондолы.
Далеко впереди появилось темное пятно. Приложив к глазам бинокль, Этцвейн понял, что это и был исправительный лагерь №3. За семиметровым частоколом он разглядел центральный двор, ряд навесов и длинный двухэтажный барак. Левее находились приземистые административные здания и группа небольших коттеджей.
Дорога разветвлялась — упряжка быстроходцев повернула к управлению лагерной администрации. Несколько человек вышли навстречу и, перекинувшись парой слов с погонщиком, подтянули тросы гондолы шкивами, вращавшимися в рогатых бетонных тумбах. Быстроходцы, шагом пройдя вперед, опустили «Иридиксен» на землю.
Этцвейн вышел из гондолы в жаркий и влажный мир. Над головой кружились пылающим калейдоскопом Сасетта, Эзелетта и Заэль. Воздух дрожал над болотами — невозможно было различить, где мириады топких островков и мутных излучин сливались с серебристыми миражами.
К нему медленно приближались трое. Первый — рослый дородный человек с колючими серыми глазами, второй — коренастый лысый детина с выдающейся, массивной нижней челюстью. Последний, помоложе, гибкий и чуткий, как ящерица, с неподобающими тюремщику растрепанными черными кудрями, блестел угольно-черными зрачками. Они вписывались в ландшафт — настороженно, недоверчиво двигавшиеся фигуры с жестокими неулыбчивыми лицами. На них были широкополые шляпы из отбеленного волокна пилы-травы, белые рубахи навыпуск, серые шаровары, полусапожки из чумповой[26] кожи; на ремнях висели небольшие арбалеты-самострелы, заряженные шипами гадючного дерева. Каждый из троих холодно уставился на Этцвейна, не видевшего причины для их очевидной враждебности и на секунду опешившего. Острее, чем когда-либо, он сознавал свою неопытность, более того — опасность своего положения. «Необходимо жестко контролировать ситуацию», — подумал он и безразлично произнес: «Меня зовут Гастель Этцвейн. Я исполнительный директор, назначенный Аноме. Мне поручено действовать от имени Аноме».
Первый из троих медленно, двусмысленно кивнул, будто подтвердились какие-то его подозрения: «Что вам нужно в лагере №3? Мы — воздушнодорожники, и отчитываемся перед управлением воздушной дороги».
У Этцвейна уже выработалась привычка — чувствуя, что собеседник испытывает к нему сильную неприязнь, он неторопливо разглядывал лицо противника. Тактика эта иногда нарушала психологический ритм, навязанный другой стороной, и давала Этцвейну время продумать следующий шаг. Теперь он задержался, изучая лицо стоявшего перед ним наглеца, и решил проигнорировать заданный вопрос: «Кто вы?»
«Главный надзиратель лагеря №3 Ширге Хиллен».
«Сколько работников в лагере?»
«Считая поваров, двести три человека», — Хиллен отвечал угрюмо, неохотно, почти угрожающе. На нем был ошейник с эмблемой воздушнодорожника — на воздушной дороге прошла вся его жизнь.
«Сколько среди них крепостных должников?»
«Сто девяносто человек».
«Я хотел бы осмотреть лагерь».
Уголки пепельных губ Хиллена чуть приподнялись: «Не рекомендую. У нас содержатся опасные преступники, это лагерь для особо провинившихся. Если бы вы заранее предупредили нас о прибытии, мы успели бы принять меры предосторожности. В данный момент проводить инспекцию не советую. Могу предоставить вам всю существенную информацию в управлении. Будьте добры, следуйте за мной».
«Я выполняю приказы Аноме, — обыденно-деловым тоном сообщил Этцвейн. — Соответственно, вы обязаны мне подчиняться — или потеряете голову». Этцвейн вынул передатчик и набрал цветовой код надзирателя: «Честно говоря, мне не нравится ваша манера поведения».
Хиллен слегка надвинул на глаза широкополую шляпу: «Что вы хотите видеть?»
«Начнем с рабочих мест», — Этцвейн взглянул на двух других тюремщиков. Лысый приземистый детина отличался впечатляющей шириной плеч и длинными узловатыми руками, какими-то скрюченными или деформированными. Лицо его сохраняло необычно расслабленное выражение, как если бы он предавался возвышенным мечтам. Второй, кудрявый черноглазый субъект, мог бы похвастаться привлекательной внешностью, если бы не длинный крючковатый нос, придававший ему лукаво-угрожающий вид. Этцвейн обратился к обоим: «Каковы ваши функции?»
Хиллен не дал другим возможности ответить: «Это мои помощники. Я отдаю приказы, они их выполняют».
Чрезмерное спокойствие поз и поведения тюремщиков навело Этцвейна на мысль, что, вопреки утверждению надзирателя, к встрече эмиссара Аноме готовились — Ширге Хиллена, по-видимому, заранее предупредили. Если так — кто предупредил, с какой целью, почему? Осторожность прежде всего. Развернувшись на каблуках, Этцвейн вернулся к Казалло, бездельничавшему в тени «Иридиксена». Ветровой со страдальческим видом изучал сорванный стебель пилы-травы. «Плохо дело, — тихо сказал ему Этцвейн, — здесь что-то не так. Подними гондолу повыше и не опускай, пока я не подам знак левой рукой. Если не вернусь до захода солнца, обрежь тросы и доверься ветру».
Ничто не нарушало ленивую самоуверенность Казалло, тот даже не приподнял брови: «Разумеется, сию минуту — как вам угодно». Не двигаясь с места, ветровой с надменным отвращением смотрел на что-то за спиной Этцвейна. Этцвейн быстро обернулся — Хиллен поднес руку к самострелу на поясе, рот его нервно подергивался. Этцвейн медленно шагнул назад и в сторону — так, чтобы в поле зрения оставались и Казалло, и надзиратель. Новая, пугающая мысль ошеломила его: Казалло был назначен ветровым «Иридиксена» чиновниками из управления воздушной дороги. Этцвейн никому не мог доверять. Он был один.
Лучше всего, однако, было сохранять видимость доверия — в конце концов, Казалло мог не участвовать в заговоре или не сочувствовать начальству. Но почему он не раскрыл рта, когда рука Хиллена почти выхватила самострел? Этцвейн произнес тоном учителя, терпеливо разъясняющего задачу: «Будь осторожен! Если нас обоих прикончат и свалят вину на заключенных, кому захочется доказывать обратное? Свидетели им не нужны. Забирайся в гондолу».
Казалло медленно подчинился. Этцвейн внимательно следил за ним, но не мог угадать значение взгляда, брошенного ветровым через плечо. Этцвейн подал знак: «Трави тросы, поднимайся!» Пока «Иридиксен» не оказался в ста метрах над головой, Этцвейн не двигался, после чего стал неторопливо подходить к тюремщикам.
Обернувшись к помощникам, Хиллен что-то проворчал и вернулся к напряженному наблюдению за Этцвейном, остановившимся шагах в двадцати. Этцвейн сказал младшему помощнику: «Будьте добры, сходите в управление и принесите список заключенных, с указанием величины крепостного долга каждого».
Кудрявый брюнет вопросительно взглянул на Хиллена. Тот произнес: «Обращайтесь ко мне. Только я отдаю распоряжения лагерному персоналу».
«Моими устами гласит Аноме, — возразил Этцвейн. — Я отдаю приказы по своему усмотрению. Неподчинение приведет только к тому, что вы расстанетесь с головами».
Перспектива расстаться с головой, судя по всему, нисколько не волновала главного надзирателя. Чуть отведя руку в сторону брюнета, Хиллен обронил: «Принеси журнал».
Этцвейн спросил лысого детину: «Какие обязанности поручены вам?»
Тот безмятежно, как сонный ребенок, повернул лицо к Хиллену.
Смотритель сказал: «Он обеспечивает мою безопасность, когда я нахожусь среди заключенных. В лагере №3 приходится иметь дело с отчаянными людьми».
«В вашем присутствии нет необходимости, — Этцвейн продолжал обращаться к лысому охраннику. — Вернитесь в управление и оставайтесь там, пока вас не позовут».
Помощник недоуменно глядел на Хиллена. Тот сделал короткое движение пальцами, отправляя охранника в управление, но при этом, едва заметно, отрицательно покачал головой. Этцвейн сразу прищурился — эти двое себя выдали.
«Одну минуту! — сказал он. — Хиллен, почему вы подаете знаки, противоречащие моим указаниям?»
Вопрос застал надзирателя врасплох, но он сразу оправился: «Я не подавал никаких знаков».
Этцвейн произнес размеренно и весомо: «Наступил решающий момент в вашей жизни. Либо вы сотрудничаете со мной, полностью игнорируя распоряжения, полученные от других лиц, либо я прибегаю к высшей мере наказания. Других вариантов нет — выбирайте!»
Непривычно растянувшись, мышцы на лице Хиллена изобразили заведомо фальшивую улыбку: «Мне остается только подчиняться полномочному представителю Аноме. Вы, конечно, можете удостоверить свои полномочия?»
«Пожалуйста, — Этцвейн показал надзирателю красновато-лиловый лист пергамента, скрепленный печатью Аноме. — Если этого недостаточно...» Этцвейн продемонстрировал кодирующий передатчик: «А теперь объясните — зачем вы отрицательно качали головой, когда я приказал охраннику удалиться? О чем вы предупреждали, чего он не должен был делать?»
«Я советовал ему не вести себя вызывающе и не спорить», — ответил Хиллен оскорбительно безразличным тоном.
«Вас предварительно известили о моем прибытии, — сказал Этцвейн. — Разве не так?»
Смотритель поправил широкополую шляпу: «Меня никто ни о чем не извещал».
Из-за угла лагерного частокола появились четыре работника. Они тащили грабли, лопаты и кожаные меха с водой. Что, если один сделает угрожающее движение лопатой, а Хиллен, выхватив арбалет, застрелит Этцвейна вместо заключенного?
Этцвейн, средоточие абсолютной власти, был абсолютно уязвим.
Волоча ноги, бригада с садовыми инструментами скрылась во дворе, не проявив интереса ни к начальнику, ни к приезжему. Угрозы не было. Но в следующий раз, принужденные охраной, работники могли разыграть требуемый спектакль.
«В моем присутствии ваши самострелы не понадобятся. Будьте добры, положите оружие на землю».
Хиллен прорычал: «Ни в коем случае — они необходимы постоянно! Мы живем и работаем среди головорезов, готовых на все».
Этцвейн вынул темную трубку универсального детонатора — безжалостное средство уничтожения, позволявшее взорвать любой ошейник в узко направленном секторе излучения или тысячу ошейников одновременно на участке заданного радиуса: «Я беру на себя ответственность за вашу безопасность и должен позаботиться о своей. Бросьте оружие».
Хиллен все еще колебался. Кудрявый брюнет вернулся с журналом.
«Считаю до пяти, — сказал Этцвейн. — Раз...»
Главный надзиратель с достоинством опустил арбалет на землю, помощник последовал его примеру. Этцвейн взял протянутый журнал, отошел на пару шагов, просмотрел записи. В заголовке каждого листа указывались имя работника и цветовой код его ошейника, ниже следовала краткая биография. Таблицу на обратной стороне листа испещряли цифры, отражавшие менявшуюся со временем сумму крепостного долга.
Нигде в журнале Этцвейн не видел имени «Джерд Финнерак». Странно. «Мы осмотрим лагерь, — сказал он надзирателю и повернулся к кудрявому помощнику. — Вы можете вернуться в управление».
В слепящем полуденном зное они направились к открытым воротам высокого частокола. По-видимому, перспектива бежать в кишащие паразитами болота, населенные чумпами и иссиня-черными ахульфами, мало привлекала заключенных.
За частоколом тяжесть влажной жары удвоилась — воздух дрожащими волнами поднимался над раскаленным двором. С одной стороны стояли чаны и сушильные стойки, с другой находился большой навес, где работники обдирали, скоблили, связывали и упаковывали прутья ивняка. За навесом высился спальный барак с пристройками — кухней и столовой. Пованивало едкой гнилью — скорее всего, из чанов с известью для отбелки ивняка.
Этцвейн подошел к навесу и взглянул на длинный ряд столов. Примерно пятьдесят заключенных работали с характерной в присутствии начальства безрадостной торопливостью. Они искоса следили за Этцвейном и Хилленом.
Этцвейн заглянул в кухню. Не меньше двадцати поваров занимались повседневными делами — чистили овощи, мыли глиняные горшки, обдирали бледно-серое мясо с костей разделанной туши. Заметив инспектора, они молча отводили глаза, что говорило о царящих в лагере порядках красноречивее взглядов в упор или дерзких замечаний.
Этцвейн не спеша вернулся на двор и задержался, чтобы собраться с мыслями. Атмосфера в лагере №3 подавляла чрезвычайно. Чего еще можно было ожидать? Невыплаченный долг и угроза его увеличения заставляли каждого работника выполнять распоряжения. Крепостная система получила всеобщее признание и считалась полезной. Тем не менее, нельзя было не признать, что от случая к случаю тяжесть и продолжительность принудительных работ были несоразмерны повинности. Этцвейн спросил главного надзирателя: «Кто собирает ивняк на болоте?»
«Бригады резчиков. Выполнив норму, они возвращаются — обычно ближе к вечеру».
«Вы давно работаете в лагере?»
«Четырнадцать лет».
«Персонал часто меняется?»
«Одни увольняются, присылают других».
Этцвейн открыл регистрационный журнал: «Возникает впечатление, что крепостной долг заключенных редко уменьшается. Эрмель Ганс, к примеру, за четыре года погасил долг только на двести десять флоринов. Как это возможно?»
«Работники безответственно расходуют деньги в ларьке — главным образом, на спиртное».
«Пятьсот флоринов?» — Этцвейн указал на запись в таблице.
«Ганс совершил проступок и угодил в карцер. Проведя месяц в карцере, он согласился отработать штраф».
«Где находится карцер?»
«В пристройке за частоколом», — в голосе главного надзирателя появилась едва уловимая резкость.
«Мы осмотрим эту пристройку».
Хиллен пытался придать своим словам характер спокойного рассуждения: «Это рискованно. У нас возникают серьезные проблемы с дисциплиной. Вмешательство человека, незнакомого с обстановкой, может привести к мятежу».
«Не сомневаюсь, — отвечал Этцвейн. — С другой стороны, злоупотребления — если они существуют — невозможно выявить, не увидев вещи собственными глазами».
«Я руководствуюсь исключительно практическими соображениями, — чуть приподнял голову Хиллен. — Правила устанавливаются начальством. Я слежу за их выполнением».
«Возможно, правила нецелесообразны или чрезмерно суровы, — настаивал Этцвейн. — Я желаю осмотреть пристройку».
Увидев, что делается в карцере, Этцвейн приказал сдавленным голосом: «Немедленно выведите этих людей на свежий воздух!»
Главный надзиратель спросил с каменным лицом: «Зачем вы приехали в лагерь? Чего вы хотите?»
«Узнаете в свое время. Поднимите заключенных из этих ям и выведите их на воздух!»
Хиллен сухо отдал указания охранникам. Из пристройки, жмурясь в солнечных лучах, выбрались четырнадцать тощих арестантов. Этцвейн спросил надзирателя: «Почему в регистрационном журнале не упоминается Джерд Финнерак?»
Хиллен, по-видимому, ждал этого вопроса: «Он у нас больше не работает».
«Он выплатил долг?»
«Джерд Финнерак — уголовный преступник, ожидающий приговора кантонального суда».
«Где он сейчас?» — нежно поинтересовался Этцвейн.
«В тюрьме строгого режима».
«И тюрьма находится...»
Хиллен произвел неопределенное движение головой в сторону болот: «На юге».
«Далеко?»
«В трех километрах отсюда».
«Прикажите подать дилижанс».
Дорога к тюрьме строгого режима пересекла мрачную пустошь, заваленную гниющими грудами отходов лагерного производства, и нырнула в рощу гигантских серых коротрясов. Массы бледно-зеленой листвы, бесплотные, как облака, шелестели над головой — прохладные пространства между стволами терялись во мгле, как пещерные своды. После лагерного двора (и в ожидании зрелища тюрьмы) калейдоскоп редких тройных солнечных бликов — бледно-голубых, жемчужно-белых, розовых — блуждавших по пыльной колее, по усыпанной корой лесной подстилке, казался нереальным.
Этцвейн нарушил молчание: «Рогушкои в округе встречаются?»
«Нет».
Органный лес коротрясов стал перемежаться частыми порослями осины, липколиста, карликовой псевдососны. Дорога вырвалась на поросшее черным мхом, блестящее водой открытое пространство, дымящееся ароматическими испарениями. Над головой проносились, как сверкающие стрелы, громко стрекочущие насекомые. Поначалу Этцвейн морщился и пригибался. Хиллен сидел, неподвижно выпрямившись, и презрительно смотрел в горизонт.
Они приближались к низкому бетонному строению без окон.
«Тюрьма», — сказал Хиллен.
Заметив странную живость выражения на лице надзирателя, Этцвейн сразу насторожился: «Остановите здесь!»
Хиллен бросил на него горящий взгляд прищуренных глаз, с раздражением посмотрел на тюрьму и чуть сгорбился. Этцвейн быстро соскочил на землю, уже уверенный в том, что надзиратель замышлял подвох. «Слезайте! — сказал он. — Идите к зданию, вызовите охранников наружу. Пусть приведут Джерда Финнерака — ко мне, сюда».
Хиллен разочарованно пожал плечами, спустился на дорогу, угрюмо прошествовал к раскаленной бетонной коробке, остановился в трех шагах от входа и грубо позвал. Изнутри показался низенький толстый человек с растрепанными черными волосами, прилипшими ко лбу и ко щекам. Хиллен злобно взмахнул кулаком, будто ударяя по столу. Оба посмотрели на Этцвейна. Толстяк задал печальный вопрос. Хиллен коротко ответил. Толстяк скрылся в здании.
Этцвейн ждал, изнемогая от напряжения. На Ангвинской развязке Финнерак был жилистым молодым блондином с мягкими, дружелюбными манерами. Не побуждаемый, скорее всего, ничем, кроме простого сочувствия, Финнерак советовал Этцвейну бежать — и даже предлагал содействие. Конечно, он не мог предвидеть, что Этцвейн неожиданно отцепит гондолу и улетит, схватившись за тросы — Финнераку пришлось дорого заплатить за эту выходку. Только теперь Этцвейн признался себе, что купил свободу ценой мучений Финнерака.
Из здания тюрьмы, спотыкаясь, тихо вышел исхудавший сутулый человек неопределенного возраста. Его светло-русые волосы, давно не стриженые, торчали свалявшимися клочьями. Хиллен ткнул большим пальцем в сторону Этцвейна. Финнерак поднял голову, посмотрел — даже на расстоянии пятидесяти метров Этцвейна обжег пронзительный блеск выцветших бело-голубых глаз. Медленно, будто преодолевая мучительную боль, Финнерак побрел по дороге. В двадцати шагах за ним, иронически сложив руки на груди, следовал Хиллен.
Этцвейн громко закричал: «Хиллен! Вернитесь ко входу!»
Хиллен, казалось, не слышал.
Этцвейн выхватил кодирующий передатчик: «Назад!»
Хиллен развернулся на месте и стал неторопливо возвращаться к зданию тюрьмы — все в той же позе, со сложенными на груди руками. Недоуменно усмехнувшись, Финнерак посмотрел в спину надзирателю, покосился на передатчик Этцвейна, приблизился, остановился: «Что вам нужно?»
Этцвейн разглядывал обгоревшее, жилистое, стянутое резкими морщинами лицо, пытаясь узнать когда-то приветливого, веснушчатого Финнерака. Финнерак, со своей стороны, явно не узнавал Этцвейна. Этцвейн спросил: «Вы — Джерд Финнерак, служивший на Ангвинской развязке?»
«Было такое дело».
«Сколько вы здесь провели?» — Этцвейн указал на бетонный каземат.
«Пять суток».
«Зачем вас сюда посадили?»
«Чтобы я сдох. Зачем еще?»
«Но вы еще живы».
«Жив, как видите».
«Кто еще внутри?»
«Два заключенных, два охранника».
«Финнерак, вы свободны».
«Неужели? Кто вы такой?»
«В Шанте правит новый Аноме. Я его заместитель, исполнительный директор. Как насчет других арестантов? Чем они провинились?»
«Каждый совершил по три нападения на охранников. За мной только два, но Хиллен разучился считать».
Этцвейн повернулся, чтобы найти глазами главного надзирателя, угрюмо прислонившегося к тюремной стене с теневой стороны: «Подозреваю, что Хиллен прячет самострел. Как себя вели охранники перед моим прибытием?»
«Час тому назад они получили сообщение из лагеря и встали у входа с оружием наготове. Потом вы приехали. Хиллен приказал вывести меня наружу. Вот и все».
Этцвейн позвал: «Хиллен! Прикажите охранникам выйти».
Хиллен что-то произнес через плечо. Вышли охранники — сначала толстяк, за ним долговязый тип с землистым лицом и обрезанными мочками ушей.
Этцвейн приблизился на несколько шагов: «Все трое — повернитесь лицом к стене и поднимите руки над головой!»
Хиллен неподвижно уставился на Этцвейна, будто тот обращался не к нему. Этцвейн прекрасно понимал, что надзиратель оценивает свои шансы — с любой точки зрения малоутешительные. Наконец Хиллен высокомерно бросил на землю добытый каким-то образом самострел, повернулся спиной и поднял руки вверх. Охранники сделали то же самое.
Этцвейн подошел еще на несколько шагов и сказал Финнераку: «Обыщите всех троих и отберите найденное оружие, после чего освободите заключенных».
Финнерак подчинился. Шли минуты. Тишина нарушалась только стрекотом насекомых и редкими приглушенными звуками, доносившимися из бетонного здания. Вышли бледные, костлявые арестанты, с любопытством старавшиеся разглядеть Этцвейна ослепленными слезящимися глазами. «Подберите самострел, — сказал Этцвейн Финнераку, — заведите Хиллена и охранников в камеры, заприте их».
С издевательским спокойствием Финнерак пригласил тюремщиков внутрь — несомненно, подражая привычной жестикуляции самих тюремщиков. Хиллен, оценивший иронию ситуации, мрачно усмехнулся и скрылся в зияющем проеме бетонной коробки.
«Каковы бы ни были его недостатки, — подумал Этцвейн, — Хиллен встречает удары судьбы, не теряя достоинства. Сегодня, с его точки зрения, судьба сыграла с ним злую шутку».
Этцвейн посоветовался с Финнераком и двумя другими бывшими узниками, после чего зашел в вонючий каземат. Грязь в камерах вызвала у него приступ тошноты. Хиллен и его подручные уныло сидели на полу, сгорбившись и обхватив колени руками.
Этцвейн обратился к главному надзирателю: «Перед прибытием в лагерь №3 у меня не было никаких враждебных намерений, но сначала вы попытались меня обмануть, а потом покусились на мою жизнь. Невозможно сомневаться в том, что вы получили соответствующие указания. Кто дал эти указания?»
Хиллен отвечал неподвижно-свинцовым взглядом.
«Вы сделали незавидный выбор», — пожал плечами Этцвейн, отвернулся и собрался уходить.
Толстый охранник, обливавшийся потом, жалобно спросил: «Что с нами будет?»
Этцвейн дал беспристрастный ответ: «Финнерак, Хайме и Мермиэнте не рекомендуют вас освобождать. Каждый из них считает, что милосердие в данном случае было бы серьезной ошибкой — а кому лучше знать, чем людям, наблюдавшим ваше поведение в течение длительного времени? Хайме и Мермиэнте согласились стать вашими тюремщиками. С дальнейшими вопросами и претензиями обращайтесь к ним».
«Они нас убьют. Аноме хочет нашей смерти? Где справедливость?»
«Я не знаю, где справедливость, — отвечал Этцвейн. — Ее точное местонахождение установить еще не удалось. Не сомневаюсь, однако, что освобожденные обойдутся с вами не лучше и не хуже, чем вы обращались с ними».
Финнерак и Этцвейн вернулись к дилижансу. Этцвейну было не по себе — он то и дело оборачивался. Где, в самом деле, была справедливость? Поступил ли он мудро и решительно? Или выбрал путь наименьшего сопротивления? Могло ли самое мудрое решение быть самым простым? Существовал ли какой-то неизвестный, но бесспорный вариант? Этцвейн не знал — и теперь не узнает никогда.
«Нужно торопиться, — сказал Финнерак. — К заходу солнц чумпы вылезают из болот».
В косых вечерних лучах дилижанс возвращался на север. Финнерак стал изучать Этцвейна краем глаза. «Где-то, когда-то я вас встречал, — сказал он наконец. — Где? Почему вы за мной приехали?»
Этцвейн думал: «Рано или поздно придется объясниться».
«Много лет тому назад, — вздохнул он, — вы оказали мне важную услугу. Недавно у меня впервые появилась возможность вас отблагодарить. Такова первая причина».
На жилистом загорелом лице Финнерака глаза мерцали, как голубой лед.
Этцвейн продолжал: «К власти пришел новый Аноме, назначивший меня исполнительным директором. У меня много забот и поручений. Мне нужно кому-то безусловно доверять, нужен помощник — человек без посторонних связей».
Финнерак тихо спросил с каким-то удивленным ужасом, будто опасался, что один из них сошел с ума: «И вы остановили выбор на мне?»
«Совершенно верно».
Финнерак сухо рассмеялся и хлопнул себя по колену — сомнений не оставалось, они оба рехнулись: «Почему я? Вы меня почти не знаете».
«Прихоть, если хотите. Допустим, я не могу забыть доброту, проявленную вами к малолетнему оборванцу на Ангвинской развязке».
«А!» — звук этот вырвался из самой глубины души Финнерака. Усмешка, недоумение, опасения — все исчезло во мгновение ока. Костлявое тело сгорбилось, сжалось на сиденье.
«Мне удалось бежать, — продолжал Этцвейн. — Я стал музыкантом. Месяц тому назад к власти пришел другой Аноме — и сразу призвал население на войну с рогушкоями. Аноме потребовал от меня внедрения новой политики и передал мне неограниченные полномочия. Я узнал, что вас отправили в исправительный лагерь, но не представлял себе тяжести заключения».
Финнерак распрямился, почти вскочил: «Вы не понимаете, чем рискуете! Не говорите лишнего! Вы не понимаете — никогда не поймете — как страшно я ненавижу всех, кто лишил меня молодости! Да знаете ли вы, что они со мной делали, как выколачивали — не мои долги — отцовские долги, ваши долги? Знаете ли вы, что я сам себя считаю сумасшедшим — животным, разъяренным до дикого бешенства побоями, каторгой, издевательствами, пытками? Ваша жизнь висит на волоске! В любой момент я могу разорвать вам горло зубами и когтями — а потом брошусь галопом, на четвереньках, обратно в тюрьму, и сделаю то же самое с ахульфом Хилленом!»
«Успокойтесь, — сказал Этцвейн. — Что было, то прошло. Вы живы, у вас все впереди. Нам предстоит многое сделать — работы невпроворот».
«Работы? — оскалился Финнерак. — Какого черта я опять буду работать?»
«По той же причине, по какой работаю я — Шант нужно спасти от рогушкоев».
Финнерак резко расхохотался: «Рогушкои мне зла не причиняли. Пусть делают, что хотят!»
Этцвейн не знал, что ответить. Дилижанс катился по дороге. Они углубились в рощу коротрясов. Солнечный свет, теперь заметно сиреневого оттенка, отбрасывал длинные тени.
Этцвейн прервал молчание: «Вы никогда не думали, что, будь у вас власть, вы могли бы улучшить этот мир?»
«Думал, конечно, — голос Финнерака звучал уже не так надрывно. — Я мечтал уничтожить всех, кто надругался надо мной — отца, Дагбольта, проклятого щенка, заставившего меня платить за свою свободу, воздушнодорожных магнатов, ахульфа Хиллена! Ха! Всех не перечислишь».
«Гнев мешает вам думать, — отозвался Этцвейн. — Уничтожая людей, вы ничего не добьетесь, не поможете ни себе, ни другим. Ложь, трусость и порок, как всегда, восторжествуют — и где-то в другой вонючей камере будет томиться другой Джерд Финнерак, мечтающий уничтожить вас, потому что вы не помогли ему, когда у вас в руках была власть».
«И правильно, — возразил Финнерак. — Все люди — исчадия зла, включая меня. Пусть рогушкои всем кишки повыпустят — мир станет только лучше!»
«Глупо возмущаться природой человека! — упорствовал Этцвейн. — Да, люди таковы, какими они родились, а на Дердейне и подавно. Наши предки сбежали на эту планету, чтобы вволю предаваться причудам и предрассудкам. Мы унаследовали наклонность к экстравагантной несдержанности. Вайано Паицифьюме это понял — чтобы нас укротить, нужны ошейники».
Финнерак потянул за свой ошейник с такой силой, что Этцвейн отшатнулся, опасаясь взрыва.
«Меня никто не укротил! — сказал Финнерак. — Меня только поработили».
«У системы есть недостатки, — согласился Этцвейн. — Тем не менее, по всему Шанту кантоны живут в мире, люди соблюдают законы. Я надеюсь устранить упущения, но прежде всего нужно справиться с рогушкоями».
Финнерак пожал плечами — его рогушкои не интересовали. В молчании они выехали из рощи коротрясов в низину, заросшую пилой-травой — теперь, в сумерках, тихую и печальную.
Этцвейн размышлял вслух: «Я нахожу себя в необычном положении. Новый Аноме — идеалист и теоретик, трудные практические решения он предоставляет мне. Мне нужна помощь. Я подумал о вас, потому что вы уже помогли мне раньше, потому что я у вас в долгу. Но ваше отношение к делу обескураживает — возможно, придется найти другого помощника. В любом случае, я могу дать вам свободу и богатство — почти все, что вы хотите».
Финнерак снова потянул ошейник, болтавшийся на тощей загорелой шее: «Вы не можете дать мне свободу, потому что не можете снять с меня эту петлю. Богатство? Почему нет? Я его заслужил. А лучше всего — поручите мне управление лагерем №3 хотя бы на месяц».
«Что бы вы сделали, если бы я удовлетворил ваше желание?» — поинтересовался Этцвейн, надеясь лучше понять, что творилось у Финнерака в душе.
«О, вы не узнали бы Финнерака! Финнерак стал бы холодным, предусмотрительным судьей, взвешивающим каждый шаг так, чтобы ни в коем случае не преуменьшать справедливость возмездия. В тюрьме строгого режима Хиллен умрет через неделю или две — а его вина заслуживает гораздо более тяжкого наказания! Долгие годы он планомерно провоцировал в заключенных дерзость и неповиновение, нарочно позволял халтурить — и накладывал штрафы, увеличивавшие срок на три месяца, на шесть месяцев, на год. Никто еще в истории лагеря №3 не выплатил крепостной долг! Если б я управлял лагерем месяц, весь месяц я содержал бы Хиллена живым в клетке — чтобы все, над кем он издевался, могли подойти посмотреть на него, сказать ему все, что думают. А потом отдал бы его чумпам. Подручные его, Гофман и Кай — садисты, не поддающиеся описанию! Они заслуживают самого худшего! — в голосе Финнерака снова звучал надрыв. — Пусть отведают сполна лагерного пекла! Пусть двенадцать часов в сутки отбеливают прутья в чанах с известью, а ночь проводят в карцере — и так до конца их проклятых дней! Может, протянут два, три месяца — кто их знает?»
«Как насчет охранников?»
«Их двадцать девять человек. Ахульфы все, конечно — приличные люди не становятся тюремщиками — но пятеро не издевались и время от времени даже проявляли снисхождение. Еще десять охранников выполняли приказы точно и механически, как автоматы. Остальные — садисты. Этих нужно сразу отправить в тюрьму на болоте и никогда уже не выпускать. Десятерых педантов следует подержать какое-то время в карцере — скажем, месяца три — а потом заставить обрабатывать прутья пять лет. Пятеро охранников подобрее... — Финнерак нахмурил выбеленные солнцами брови. — С ними сложно. Они делали для заключенных все, что могли — достаточно мало — но никогда не рисковали своим положением. Размеры их вины трудно определить. Тем не менее, их вина неоспорима, они обязаны ее искупить. Допустим, пусть поскоблят прутья один год и идут на все четыре стороны — без оплаты, разумеется».
«А крепостные должники?»
Финнерак удивленно повернулся на сиденье: «О каких должниках вы говорите? Каждый десять раз отработал все, что должен! Каждый выходит на свободу и получает на руки премию в десятикратном размере первоначального долга!»
«Кто будет резать прутья?» — спросил Этцвейн.
«Плевать я хотел на прутья! — отвечал Финнерак. — Пусть воздушнодорожные магнаты сами бродят по пояс в грязи и собирают пиявок».
Снова в дилижансе наступило молчание. Этцвейн думал, что наказания, уготованные тюремщикам Финнераком, были пропорциональны причиненным ими страданиям. Впереди, черные на фоне фиолетовой вечерней зари, появились очертания частокола лагеря №3. Высоко над лагерем парил темный силуэт «Иридиксена».
Финнерак указал на россыпь валунов у самой дороги: «Нас кто-то поджидает».
Этцвейн натянул поводья — дилижанс остановился. Несколько секунд он размышлял, потом вынул универсальный детонатор, отрегулировал, направил на кучу валунов и нажал кнопку. Вечернюю тишину разорвала пара оглушительных, почти одновременных хлопков.
Этцвейн и Финнерак прошлись вдоль дороги и заглянули за валуны — там лежали два безголовых трупа. Финнерак с сожалением крякнул: «Гофман и Кай. Счастливчики, легко отделались!»
Медленно подъезжая к воротам, Этцвейн остановил дилижанс. Лагерь №3 оскорблял планету своим существованием. Справедливость должна быть восстановлена. Каким образом? Кем? По каким законам? Этцвейн сидел в нерешительности, глядя через проем ворот на темный двор, где собралась группа тихо переговаривающихся работников.
Финнерак ерзал на сиденье, нетерпеливо дергая коленями и плечами, шипел сквозь зубы. Этцвейн вспомнил приговоры, предложенные Финнераком — суровые, но, насколько можно было судить, заслуженные. В голове Этцвейна созрела наконец давно пробуждавшаяся мысль: принцип, отражавший основные этические нормы Шанта.
Соразмерность наказания преступлению определяется местными представлениями. Возмездие за лагерные жестокости должно соответствовать лагерным понятиям.
Глава 5
Этцвейн решил ночевать в воздухе, на борту «Иридиксена». Как завороженный, он наблюдал в бинокль за происходящим на лагерном дворе. Ворота частокола закрыли, охранников заперли в складском сарае. При свете тусклых фонарей и стреляющих искрами костров из ивняка бесцельно бродили люди, оглушенные свободой. На столах разложили лучшую провизию из лагерных кладовых — в том числе деликатесы, найденные в лавке. Работники пировали, набивая животы сушеными угрями, запивая разбавленным кислым вином из погреба Хиллена, продававшего его в долг по астрономическим ценам. Кое-кто уже отдохнул достаточно, чтобы волноваться — четверо или пятеро ходили туда-сюда, возбужденно говоря и жестикулируя. Финнерак стоял немного в стороне. Он ел немного, пил еще меньше. Снаружи, за частоколом, Этцвейн заметил вкрадчивые движения больших черных фигур — ахульфы и чумпы с любопытством окружили лагерь, привлеченные необычным оживлением.
Когда никто уже не мог больше есть, а бочка с вином опустела, работники стали петь и стучать кулаками по столам. Финнерак подошел к пирующим и громко попросил их внимания. Пение стало прерываться и затихло. Финнерак говорил довольно долго. Толпа сидела угрюмо и тихо — многие, однако, беспокойно вертелись на скамьях и пожимали плечами. Наконец трое заключенных почти одновременно вскочили на ноги — и с веселыми прибаутками, вполне дружелюбно, вытолкали Финнерака в шею, подальше на темный двор. Финнерак с отвращением помотал головой, но выступать с речами больше не стал.
Трое затейников подняли руки, призывая к тишине. Они посоветовались, ответили на раздававшиеся из толпы предложения — порой гневные, иногда насмешливые и пьяные. Финнерак дважды быстро подходил, чтобы страстно подчеркнуть какие-то обстоятельства. Оба раза его вежливо выслушали. Судя по всему, разногласия касались скорее деталей, нежели сущности обсуждаемых вопросов.
Спор становился многоголосым, неразборчивым; несогласные громко стучали по столам.
Снова вперед вышел Финнерак — его аргументы позволили прекратить пререкания. Один из работников сходил за листом бумаги и пером, стал что-то записывать под диктовку Финнерака. Голоса из толпы предлагали дополнения и улучшения.
Перечень приговоров (таково было, видимо, назначение документа) был составлен. Финнерак снова отошел в сторону, глядя на остальных пустыми блуждающими глазами. Трое весельчаков взяли на себя руководство судебно-карательным процессом. Они назначили группу из пяти человек. Те отправились к закрытому сараю и вернулись с охранником.
Толпа рванулась к обидчику, но три координатора строго упрекнули самых озлобленных, и все вернулись на скамьи. Охранника поставили на стол лицом к людям, недавно находившимся в его власти. Один из заключенных подошел к нему и стал выкрикивать обвинения, подчеркивая каждое драматическими выпадами руки с выставленным указательным пальцем. Финнерак стоял поодаль, нахмурив брови. Еще один работник вышел и перечислил свои претензии, за ним другой, третий. Подсудимый слушал, лицо его нервно дергалось. Три координатора хором прочли приговор. Охранника оттащили к воротам частокола и вытолкнули наружу. Два иссиня-черных ахульфа схватили его за предплечья. Пока ахульфы собачились, сзади подбежала, тяжело шлепая, пятнисто-серая чумпа и утащила вертухая в темноту.
Лагерных надсмотрщиков — четырнадцать человек — выводили по одному из складского сарая. Одни вяло покорялись своей участи, другие вызывающе озирались, третьи упирались и вырывались из рук конвоиров. Самые лукавые надеялись задобрить толпу улыбками и шутками. Каждого заставляли взобраться на стол и стоять в зареве пылающего костра, выслушивая обвинения и приговор. В одном случае Финнерак бросился в промежуток между толпой и обвиняемым, лихорадочно протестуя и указывая пальцем вверх, на невидимый в ночном небе «Иридиксен». В этот раз охранника не выгнали к жалобно стонущим в темноте припозднившимся чумпам. Его отвели к продолговатым чанам с известью, где отбеливались свежие прутья ивняка, и заставили обдирать кору.
Стали выводить и обвинять оставшихся подсудимых. Одного, горячо защищавшего свою невиновность, после продолжительных дебатов так-таки вытолкали в ночь. Других заставили чистить прутья.
Вертухаи получили по заслугам. Выкатили еще бочку Хилленова вина. Узники пили и веселились, язвительно насмехаясь над испуганно обдирающим прутья начальством. Мало-помалу, напившись до отупения, то один, то другой работник садился у костра и засыпал. Охранники скоблили кору и проклинали тот день, когда они нанялись служить в лагере №3.
Этцвейн опустил бинокль и лег в гамак. Опустошенный, он убеждал себя, что события разворачивались не худшим образом, примерно отвечали ожиданиям... После полуночи он встрепенулся и снова заглянул вниз, на окруженный частоколом двор. Работники спали или засыпали, развалившись вокруг костров. Пятеро стояли и смотрели на суетливо скоблящих прутья охранников — никак не могли насладиться зрелищем. В стороне от других Финнерак горбился за столом, уронив голову на руки. Этцвейн постоял, прислушиваясь к чавкающим шлепкам чумп и далекому тявканью ахульфов, вернулся в гамак и заснул.
Этцвейн провел утомительное утро, удостоверяя отмену крепостных задолженностей и подписывая чеки на взятые с потолка суммы, позволявшие освобожденным получить возмещение в банке. Большинство работников слышать не хотели о резке и чистке прутьев ивняка. Небольшими группами они выходили из лагеря и брели по дороге на север, в Оргалу. Человек двадцать согласились остаться надсмотрщиками — в жизни их больше ничто не интересовало. Долгие годы они завидовали прерогативам охранников и теперь могли сполна удовлетворить честолюбие.
«Иридиксен» опустился к бетонным тумбам. Этцвейн взошел на борт, за ним последовал Финнерак. Казалло потрясенно, с брезгливым смятением смотрел на нового пассажира. Действительно, внешность Финнерака оставляла желать лучшего. Он не мылся, не переоделся — спутанные волосы жгутами спускались до плеч, арестантский комбинезон пестрел пятнами и дырами.
Как бы то ни было, «Иридиксен» взмыл над лагерем, и быстроходцы потрусили на север. Этцвейну казалось, что он просыпается после кошмара. Два вопроса не выходили у него из головы: сколько еще таких лагерей было в Шанте? И кто предупредил Ширге Хиллена о визите исполнительного директора?
В Оргале «Иридиксен» подцепили к каретке пазового рельса. Гондола, почуяв свежий бриз, понеслась на северо-запад. На следующий день, поздно вечером, они достигли кантона Горгаш, а утром пришвартовались на станции города Ставка Лорда Бенджамина. Этцвейн остался доволен горгашским ополчением, хотя Финнерак позволил себе сардонические замечания в адрес расфуфыренного офицерского состава, по численности почти не уступавшего уныло волочащим ноги рядовым рекрутам. «Главное — положить начало, — возразил Этцвейн. — У них мало опыта в таких делах. По сравнению с властями Дифибеля, Буражеска и Шкера здешнее руководство проявило изобретательность и расторопность».
«Допустим... Будут ли они драться, вот в чем вопрос!»
«Это мы узнаем, когда настанет время драться. Как бы вы поступили на моем месте?»
«Я сорвал бы с офицеров кружевные манжеты и шляпы с перьями и послал бы их варить солдатам похлебку. Рядовых я разделил бы на четыре отряда и заставил бы их устраивать ежедневные потасовки, а проигравший отряд оставлял бы без обеда, чтобы они злились и учились ненавидеть врага».
Этцвейн подумал, что сходные методы воспитания превратили добродушного белобрысого парня в жилистого загорелого человеконенавистника: «Может быть, вашим советам придется последовать, когда начнутся боевые действия. Пока что меня устраивает хотя бы то, что они не уклоняются от призыва».
Финнерак издевательски смеялся: «Подождите — только появятся рогушкои, их как ветром сдует!»
Этцвейн поморщился — ему неприятно было выслушивать столь откровенную критику, тем более что она резонировала с его тайными опасениями. Финнераку недоставало такта. Кроме того, трудно проводить время с попутчиком, не принимавшим ванну несколько лет. Этцвейн смерил Финнерака неодобрительным взглядом: «Пора позаботиться о вашей внешности — она провоцирует нежелательные толки».
«Мне ничего не нужно, — ворчал Финнерак. — Не люблю тряпки и погремушки».
Этцвейн не принимал возражений: «Можете презирать тряпки, но человек должен быть человеком, а не свиньей. Внешность, сознательно или бессознательно, влияет на поведение. Неряшливый человек рано или поздно проявляет терпимость к интеллектуальной и нравственной нечистоплотности, опускается, не доводит до конца то, за что берется».
«Вы с вашими психологическими теориями!» — рычал Финнерак. Тем не менее, Этцвейн привел его во Дворянский Пассаж, где Финнерак в мрачном унынии позволил подстричь себе волосы, ногти и бороду, отмыть себя в бане, одеть на себя свежее белье и новый костюм.
Когда они вернулись, наконец, на борт «Иридиксена», Финнерак выглядел поджарым, мускулистым аскетом с решительным, изборожденным глубокими морщинами лицом, коротко подстриженными бронзовыми кудрями, ясно-голубыми, вечно блуждающими глазами и нервно растянутым сжатым ртом, на первый взгляд производившим впечатление улыбки.
В Масчейне, столице кантона Массеах, «Иридиксен» приближался к конечной станции ветки Безоблачного Фиолетового Заката.[27] Казалло, решивший покрасоваться под занавес, заставил гондолу описать огромную дугу против ветра и налег на тормоз, приземлившись точно у платформы. В результате Этцвейн и Финнерак, не ожидавшие рывка, повалились на палубу. Станционная бригада сразу подхватила и закрепила тросы порывающегося взлететь «Иридиксена». Этцвейн соскочил на платформу без сожалений. За ним вышел раздраженный Финнерак, не простивший ветровому экстравагантный маневр.
Этцвейн попрощался с Казалло; Финнерак угрюмо стоял в стороне. Попутчики отправились в город.
Плоскодонный ялик, перевозивший пассажиров по многочисленным каналам Масчейна, доставил их в отель «Речной остров», полностью занимавший террасами, садами, увитыми зеленью беседками и крытыми галереями каменистый островок посреди Джардина. Приезжая в Масчейн оркестрантом «Розово-черно-лазурно-глубокозеленой банды», Этцвейн, считавший тогда каждый флорин, подолгу разглядывал с набережной этот отель — самый привлекательный и комфортабельный в городе. Теперь в его распоряжение предоставили номера из четырех комнат, выходившие в отдельный сад, защищенный от взоров других постояльцев живыми изгородями цикламена, синего стеклярусника и волоколавра. Стены в номерах были обшиты деревянными панелями с мелкими прожилками, пепельно-зеленоватого оттенка в спальнях, а в гостиной — изысканного оттенка «аэльшер»[28] с едва заметными налетами бледно-зеленого, сиреневого и матово-синего, наводившими на мысль о широких лугах и речных просторах.
Финнерак взирал на роскошные номера, презрительно оттопырив нижнюю губу. Он уселся в кресло у огромного окна, закинул ногу на ногу и устремил каменный взор на сонные воды Джардина. Этцвейн, отвернувшись, позволил себе усмехнуться — должно быть, убогая обстановка отеля «Речной остров» не шла ни в какое сравнение с роскошными удобствами лагеря №3.
Этцвейн выкупался в чуть прохладном садовом пруду и накинул белый льняной халат. Финнерак продолжал сидеть, будто заколдованный блеском широкой реки. Этцвейн игнорировал его — Финнераку предстояло привыкать к жизни по-своему.
Этцвейн заказал вина в чаше со льдом и попросил принести местные газеты. Финнерак соблаговолил взять бокал вина, но к новостям не проявил ни малейшего интереса — а новости были неутешительные. В параграфах, напечатанных черным, коричневым и горчично-охряным шрифтом, сообщалось о массовом вторжении рогушкоев в кантоны Лор-Асфен, Бундоран и Суррум. Горный кантон Шкорий рогушкои оккупировали полностью. Этцвейн прочел:
«Эвакуация женщин в приморские кантоны — оправданная обстоятельствами мера. Тем не менее, новая политика Аноме раздражает рогушкоев, совершающих яростные, все более опустошительные набеги в стремлении утолить ненасытную похоть. Кто и когда положит конец чудовищным погромам? Если Аноме, вооружившись всей мощью Шанта, не прогонит бешеную орду туда, откуда она нахлынула, через пять лет каждая пядь нашей земли будет кишеть рогушкоями. Куда они бросятся потом? В Караз? Больше некуда — ибо паласедрийцы не применили бы против Шанта биологическое оружие, не позаботившись тем или иным способом о собственной безопасности».
В другой статье — в темно-багровой рамке с серым бордюром — народное ополчение Массеаха описывалось настолько подробно, что Этцвейн решил не проводить личную инспекцию. Окончание статьи заставило его досадливо встряхнуть газету:
«Наши храбрые бойцы привыкают к давно забытым тяготам военной жизни, обучаются восстановленным по древним рукописям правилам производства маневров. С готовностью и надеждой они ждут обещанных Аноме мощных боеприпасов и дальнобойных орудий. Воодушевленные его величественным примером, они сокрушат развратных красных бандитов — с воем и визгом, как ошпаренные ахульфы, рогушкои пустятся наутек и забудут дорогу в Шант!»
«Дальнобойные орудия, боеприпасы, величественный пример... — бормотал Этцвейн. — Знали бы они...» Знали бы они, что ими правит ошеломленный жизнью молодой музыкант без образования, без опыта, без особых способностей к руководству — тон статей стал бы значительно менее жизнерадостным. Этцвейну попалось на глаза объявление в двойной серой и ультрамариновой рамке:
«Вчера вечером в «Серебряной Самарсанде» появился Дайстар. Слушатели оплатили ужин друидийна задолго до того, как он согласился отведать пару блюд. Снова ему пришлось неохотно принять множество анонимных даров.
Как всегда, знаменитый импровизатор отблагодарил аудиторию поразительной хаурустрой[29] высших сфер бытия, посещаемых немногими счастливцами. Говорят, сегодня Дайстар продолжит гастроли в «Серебряной Самарсанде». Спешите занимать места!»
Этцвейн прочел объявление второй, третий раз. В последнее время о музыке он не думал. Его охватила волна испуганной тоски: что он с собой сделал? Неужели вся оставшаяся жизнь пройдет бесплодно? Роскошь — охлажденное вино, четырехкомнатные апартаменты с садом — что все это значило по сравнению с воодушевлением старых добрых дней, в труппе маэстро Фролитца?
Этцвейн отложил газету. По сравнению с Финнераком ему еще повезло. Он повернулся взглянуть на попутчика, пытаясь понять, какие мысли гипнотизировали загорелого каторжника.
«Финнерак! — позвал Этцвейн. — Вы видели новости?»
Финнерак взял протянутую газету и просмотрел страницу, почему-то озабоченно хмурясь. «Какие такие мощные боеприпасы и дальнобойные орудия готовит Аноме?» — спросил он.
«Насколько я знаю, их нет».
«Без оружия, как вы надеетесь истребить рогушкоев?»
«Технисты проектируют оружие, — сказал Этцвейн. — Как только оно будет готово, ополченцы его получат. Пока нового оружия нет, придется пользоваться арбалетами, луками и стрелами, гранатами и бомбами, начиненными декоксом, копьями и пиками».
«Решение драться принято слишком поздно».
«Верно. Бывший Аноме отказывался нападать на рогушкоев — и до сих пор отказывается объяснить, почему бездействовал!»
Финнерак слегка заинтересовался: «Значит, он жив?»
«Жив. Его свергли, выгнали, сменили».
«Неслыханное дело! Кому это удалось?»
Этцвейн не видел причины скрывать: «Слово «Земля» вам о чем-нибудь говорит?»
«Название планеты. По слухам, все люди происходят с Земли».
«На Земле существует свое рода учреждение, Исторический институт, где о Дердейне все еще помнят. Я случайно встретил корреспондента этого института — странного субъекта по имени Ифнесс, прилетевшего с Земли изучать Дердейн. Вместе с ним мы установили личность Человека Без Лица и потребовали, чтобы правительство приняло меры против рогушкоев. Аноме отказался. Тогда мы его свергли и объявили новую политику».
Финнерак чуть наклонил голову, блестящими глазами наблюдая за выражением лица Этцвейна: «Землянин — Аноме Шанта?»
«По-моему, лучше него никто не справился бы с управлением, — ответил Этцвейн. — К сожалению, он отказался от должности. Пришлось выбрать другого. Я ему помогаю. Мне самому нужен помощник — если бы вы захотели служить Шанту, то могли бы мне помочь».
«Шант ничего мне не дал, кроме лагерного срока, — сказал Финнерак. — Теперь я живу для себя, и только для себя».
Этцвейн терял терпение: «Ваше ожесточение понятно, но не разумнее ли посвятить себя достойной цели? Работая со мной, вы поможете другим жертвам несправедливости. Если вы им не сочувствуете, чем вы лучше Хиллена? Ничем — наоборот, вы хуже столь презираемых вами обывателей! Кто здесь, в Масчейне, например, знает о лагере №3? Никто!»
Финнерак пожал плечами и неподвижно уставился в окно, на отливающие фиолетовым вечерним светом воды Джардина.
Помолчав, Этцвейн снова заговорил, стараясь сдерживаться: «Сегодня мы отужинаем в «Серебряной Самарсанде», где играет знаменитый друидийн».
«Знаменитый кто?»
Этцвейн в изумлении обвел глазами гостиную. Что и говорить, Финнерак словно вчера родился — его буквально лишили всего, ради чего стоило жить! Этцвейн ответил уже дружелюбнее: «Друидийн — одинокий бродячий музыкант, достигший высокого мастерства в игре на хитане, гастенге и дарабенсе. Впрочем, дарабенсом пользуются не все».
«Для меня одна нота не отличается от другой», — безразлично обронил Финнерак.
Этцвейн подавил новый приступ раздражения: «По меньшей мере, вы сможете хорошо поесть. Масчейн славится превосходной кухней».
Ресторан «Серебряная Самарсанда» расположился на набережной Джардина, отделенный от реки строем высоких, узких пирамидальных кипарисов — несимметричное, массивное каменное сооружение, оштукатуренное и побеленное, с широкой многоярусной крышей, выложенной замшелой черепицей. У входа вертикально, один над другим, висели пять цветных фонарей — глубокозеленый, дымчатый темно-алый, веселый светло-зеленый, фиолетовый и снова темно-алый. Ниже, немного в стороне, висела неяркая, но навязчивая желтая лампа. Согласно традициям шантской цветописи, гирлянда фонарей гласила: «Смертный, не пренебрегай быстротечным чудом сознательного бытия!»
Распахнув пару высоких бревенчатых дверей, Этцвейн и Финнерак прошли в фойе, где маленький мальчик подавал каждому гостю фиал вина и блюдечко с ломтиком соленого рыбного цуката — символы гостеприимства. Улыбаясь, подошла девушка в длинных красновато-лиловых оборках древнемассеахской менады. У каждого из молодых людей она отрезала небольшой локон, к подбородку каждого прикоснулась кусочком воска из сока йорбены — ритуал этот был слабым отголоском былых времен, когда массеахские йомены славились невоздержанностью и разгулом.
Этцвейна и Финнерака провели в просторный зал с высоким сводчатым потолком, еще почти пустой. Они заняли стол неподалеку от скамьи музыканта. Принесли фестончатый поднос с приправами — разноцветными острыми, горькими, едкими и солеными пастилками. Движимый отчасти желанием подразнить Финнерака, Этцвейн заказал традиционный «пир из сорока пяти блюд» и, кроме того, приказал официанту подать Дайстару, если тот появится, лучшие произведения поваров.
Одно за другим стали подавать кушанья. Финнерак поначалу ворчал, недовольный скромными размерами порций в этом, по его словам, «пошлом заведении» — пока Этцвейн не напомнил ему, что он справился только с двенадцатью из сорока пяти блюд.
Блюда сменялись степенной чередой согласно теоретическому императиву великого гастронома, жившего четыре тысячи лет тому назад. Вслед за изысканными легкими закусками появились супы, запеканки, рагу — аромат контрастировал со вкусом, цвет и расположение каждого гарнира, каждого ломтика в горшочках и салатницах, на широких тарелках и деревянных подносах, определялись древними ритуальными правилами. С каждым новым блюдом подавали особое вино, а время от времени — настойку, экстракт или душистый чай. Впечатленный — или, может быть, подавленный — Финнерак мало-помалу перестал жаловаться.
Когда принесли двадцать восьмое блюдо, между полуколоннами входа показался Дайстар: высокий, подтянутый человек привлекательной внешности, в серых брюках в обтяжку и свободной темно-серой, почти черной тунике. Он задержался на минуту, наблюдая за посетителями, повернулся к стоявшему за ним Шобену, владельцу ресторана, и обронил раздраженное замечание. Казалось, что Дайстар уйдет, но Шобен поспешил устранить подмеченное знаменитостью упущение. Лампы на сводчатых потолках альковов рядом со скамьей музыканта наполовину приглушили — Дайстар не выносил назойливого освещения. Ресторатор пригласил друидийна войти. Тот неохотно прошел в глубину зала, будучи явно не в настроении. Он нес хитан и дарабенс с зеленым нефритовым грифом. Положив инструменты на скамью, Дайстар устроился за столом в двух метрах от Этцвейна и Финнерака. До сих пор Этцвейн видел отца только однажды, издали, и теперь был поражен непринужденностью его движений, веявшей от него независимостью внутреннего убеждения, заставлявшей окружающих притихнуть — так молкнут щебечущие птицы, заслышав отдаленные раскаты грома.
По традиции официант во всеуслышание объявил друидийну, что за его ужин давно заплачено, на что Дайстар безразлично кивнул. Этцвейн изучал Дайстара краем глаза, пытаясь угадать, о чем он думает. Рядом был его отец — наполовину он сам. Возможно, следовало представиться... У Дайстара, однако, могла быть дюжина сыновей, пристававших к нему с просьбами то в одном кантоне, то в другом. Что, если встреча с очередным отпрыском только усугубит его раздражение?
Официант подал Дайстару салат из зеленого чеснока в растительном масле, ломоть поджаристого батона, темную сардельку из мяса и трав, кувшин вина — скромный ужин. «Деликатесы ему приелись, — подумал Этцвейн, — он устал от роскоши, от внимания красивых женщин».
Блюдо подавали за блюдом, снова и снова. Финнерак, наверное, никогда в жизни не пробовавший хорошего вина, немного расслабился и обозревал окружающих уже не столь сурово и неприязненно.
Дайстар покончил с ужином, оставив несъеденной добрую половину, и откинулся на спинку стула, придерживая пальцами ножку бокала. Глаза его, блуждая, остановились на лице Этцвейна. Слегка нахмурившись, Дайстар отвернулся, потом еще раз посмотрел на Этцвейна, встревоженный возникшим и сразу ускользнувшим воспоминанием... Друидийн взял хитан и стал разглядывать его, будто удивленный нелепостью и сложностью конструкции инструмента, почему-то оказавшегося у него в руках, потом прикоснулся к одной струне, к другой, убедившись, по-видимому, в целесообразности их расположения и звучания.
Отложив хитан, он предпочел дарабенс и сыграл тихую гамму, пробежавшись пальцами по грифу. Прислушиваясь к вибрации, он скользнул ногтем поперек многочисленных резонирующих струн, проверяя настройку, поправил пару колков и сыграл короткую веселую джигу, сначала в обычном варианте, потом в два голоса, потом в три — сложное голосоведение давалось ему без малейшего усилия и даже, судя по всему, не отвлекало от посторонних мыслей. Рассеянно опустив дарабенс на скамью, Дайстар пригубил вина и погрузился в размышления.
Все столы уже были заняты — самые разборчивые знатоки музыки в Масчейне почтительно ждали откровений.
Этцвейн и Финнерак знакомились с тридцать девятым блюдом — малосольной сердцевиной мозгового дерева в бледно-зеленом сиропе, нарезанной отдельно поджаренными волокнами, с приплюснутым шаром темно-малинового желе, припорошенным молотым мароэ и гарницей. По вкусу желе напоминало прохладный сладковатый перловый отвар. Сопровождающее белое вино — тонкое, легкое — быстро растворялось по всему телу, как пронизанный солнечным светом утренний воздух. Финнерак с сомнением взглянул на Этцвейна: «Никогда в жизни столько не ел! Тем не менее, еще не наелся. Странно».
«Мы обязаны одолеть сорок пять блюд, — вздохнул Этцвейн. — В противном случае местные обычаи запрещают брать с нас деньги — поваров упрекнут в кулинарной некомпетентности, а официанта заподозрят в оскорбительном обращении с гостями. Остается только есть».
«Тогда продолжим — я не прочь».
Дайстар стал тихо наигрывать на хитане живую ритмичную музыку, сперва не напоминавшую определенную тему. Со временем, однако, ухо начинало ожидать и различать любопытные вариации повторяющихся оборотов... Пока что друидийн не демонстрировал ничего, что Этцвейн не мог бы с легкостью повторить. Дайстар развлекся странными модуляциями и начал играть скорбную мелодию, сопровождаемую чуть запаздывающими, будто доносящимися из глубины вод колокольными аккордами...
Этцвейн задумался о природе таланта. Отчасти, по его мнению, гениальность объяснялась редкой способностью смотреть на вещи прямо и непредвзято, отчасти — глубиной ощущения причин и следствий, во многом — отрешенностью, независимостью от вкусов и предпочтений публики. Нельзя было забывать и о блестящей технике, позволявшей беспрепятственно находить выражение любым, самым мимолетным идеям и настроениям. Этцвейн почувствовал укол зависти. Ему нередко приходилось избегать импровизированных пассажей, когда он не мог предвидеть их разрешение и опасался переступить невидимую, но четкую, как край обрыва, границу между вдохновенной фантазией и сокрушительным фиаско.
Музыка стихла без подчеркнутой каденции, подводные колокола растворились во мгле. Дайстар отложил инструмент. Пригубив вина, он смотрел в зал невидящим взором. Потом, будто вспомнив что-то важное и неотложное, снова поднял хитан и проверил на слух несколько фраз. Как и в прошлый раз, он начал с гармонической последовательности. Повторяясь, она породила извивающуюся, подпрыгивающую, недружелюбно-чудаковатую мелодию. Дайстар перешел в другой лад — появилась вторая тема. С неожиданностью естественного совпадения он заставил первую и вторую темы встретиться в неприязненном контрапункте. На какой-то момент показалось, что он наконец заинтересовался, низко склонив голову над грифом... Темп замедлился, две темы слились в одну, как пара цветных изображений, в совмещении создающих иллюзию перспективы.
Этцвейну и Финнераку подали последнее, сорок пятое блюдо — кисло-сладкий мороженый крем в лакированных лиловых раковинах, с маленькими, размером с наперсток, толстостенными стопками «Тысячелетнего нектара».
Финнерак доел крем, попробовал нектар. Загорелое лицо его теперь казалось не таким натянуто-неподвижным, безумно-голубое мерцание глаз поблекло. Внезапно он спросил: «Сколько стоит такой ужин?»
«Не знаю... Не больше двухсот флоринов, я полагаю».
«В лагере №3 год тяжелой работы не позволял уменьшить долг на двести флоринов», — Финнерак говорил скорее горестно, нежели гневно.
«Система устарела, — сказал Этцвейн. — Аноме ее упразднит. Не будет больше ни исправительных лагерей, ни Ангвинских развязок, помяните мое слово!»
Финнерак бросил на собеседника мрачный оценивающий взгляд: «Можно подумать, вам известны намерения Аноме».
Не подыскав подходящего ответа, Этцвейн решил промолчать. Подняв палец, он подозвал официанта. Тот принес большую глиняную флягу, казавшуюся вельветовой от пыли, и налил прохладного бледного вина, мягкого, как вода.
Этцвейн выпил. Финнерак осторожно последовал его примеру.
Только теперь Этцвейн косвенно ответил на замечание Финнерака: «Новый Аноме, насколько я знаю — человек, не связанный традициями. После уничтожения рогушкоев в Шанте произойдут большие перемены».
«Ха! — вскинул голову Финнерак. — Послушать газетных писак — не велика проблема! Аноме «обрушит на них всю мощь великого Шанта», и от рогушкоев останется мокрое место».
Этцвейн печально усмехнулся: «Где эта мощь? Шант слаб, как больной младенец. Предыдущий Аноме прятался от опасности. Вообще говоря, его поведение непостижимо — насколько я знаю, он человек образованный и способный на отчаянно храбрые поступки».
«Не вижу никакой тайны, — отозвался Финнерак. — Он бездельник, а потому предпочитал не утруждать себя лишними заботами».
«Если бы все было так просто! — вздохнул Этцвейн, — Его нелепое поведение окружено множеством не менее таинственных обстоятельств. Например, никто еще толком не объяснил, откуда взялись рогушкои».
«Опять же, все ясно — их подослали вечно злобствующие паласедрийцы».
«Гм. А кто заранее оповестил Хиллена о моем прибытии? Кто приказал ему меня убить?»
«Как кто? Воздушнодорожные магнаты, кто еще!»
«Допустим. Но поверьте мне, во всей этой истории есть другие загадки, заставляющие сомневаться в самых очевидных предположениях», — Этцвейн вспомнил самоубийственное покушение благотворителя Гарстанга и странное надругательство крысы над его трупом. Зачем было крысе в первую очередь прогрызать зияющее отверстие в грудной клетке?
Кто-то подсел к их столу — Дайстар.
«Все гляжу на вас, — обратился он к Этцвейну. — Мы когда-то встречались, где — не припомню».
Этцвейн лихорадочно собрался с мыслями: «Я слушал вас в Брассеях. Наверное, там вы меня и запомнили».
Дайстар взглянул на эмблему ошейника Этцвейна: «Бастерн... кантон наркоманов-женоненавистников».
«Хилиты больше не поклоняются Галексису. В Башоне все изменилось, — Этцвейн, в свою очередь, узнал на ошейнике Дайстара розовые и темно-голубые полоски Шкория, горного кантона, занятого рогушкоями. — Не согласитесь ли выпить с нами?»
Дайстар не возражал. Этцвейн подозвал официанта; тот принес еще один диоритовый бокал — тонкостенный, как яичная скорлупа, отполированный до оловянного блеска. Этцвейн стал разливать вино. Дайстар приподнял палец: «Хватит... В последнее время мне претят еда и питье — по-видимому, врожденный недостаток, проявившийся с возрастом».
Финнерак внезапно прыснул и расхохотался. Дайстар с любопытством обернулся к нему. Этцвейн объяснил: «Мой друг долгие годы отрабатывал крепостной долг в исправительном лагере, где ему пришлось пережить много лишений. Он тоже не испытывает особого влечения к чудесам кулинарии и виноделия, но по совершенно противоположным причинам».
Дайстар улыбнулся — зимний пейзаж его лица на мгновение заискрился отблесками солнц: «Я не враг излишеств, как таковых. Меня тревожит и отвращает, скорее, тот факт, что радости жизни приходится покупать за деньги».
«Хорошо, что они продаются, — проворчал Финнерак, — иначе на мою долю не пришлось бы никаких радостей вообще».
Этцвейн с сожалением посмотрел на флягу драгоценного вина: «Как же вы тратите деньги?»
«Глупо, — сказал Дайстар. — В прошлом году я купил землю в Шкории — коттедж в тихой горной долине, с садом и прудом. Там я надеялся, когда придет время, скрыть от людей старческое слабоумие... Что ж, человек предполагает, а судьба играет в кости».
Финнерак попробовал вино, опустил бокал и устремил неподвижный взгляд в пространство.
Этцвейн начинал тяготиться ситуацией. Сотни раз он представлял себе встречу с Дайстаром, неизменно в драматических обстоятельствах. Теперь они сидели за одним столом — и беседа становилась невыносимо банальной. Что он мог сказать? «Дайстар, вы мой отец! Во мне вы узнали самого себя!» — вульгарная мелодрама. Отчаявшись, Этцвейн произнес: «Насколько я помню, в Брассеях вы были в ударе... то есть, я хочу сказать, что сегодня вы играете хладнокровнее».
Дайстар быстро взглянул на Этцвейна и отвел глаза: «Разница настолько очевидна? Сегодня я выдохся, не в себе — меня отвлекают посторонние события».
«Захват Шкория?»
Дайстар помолчал, потом кивнул: «Дикари осквернили мою долину — там я часто находил покой, там ничто никогда не менялось». Он улыбнулся: «Смутная меланхолия созвучна музыке. Но как только происходит настоящая трагедия, я теряю вкус к импровизации... Про меня говорят, что я прихотлив, играю по наитию. Но сегодня собрались человек двести — не хочу их разочаровать».
Финнерак был пьян, рот его кривился недоброй улыбкой: «Наш друг Этцвейн тоже большой музыкант! Заставьте его что-нибудь сыграть».
«Этцвейн? Великий бард древнего Азума! — удивился Дайстар. — Вы знаете, что вас назвали в его честь?»
Этцвейн кивнул: «Моя мать жила на Аллее Рододендронов. Я вырос безымянным и сам выбрал себе имя — Гастель Этцвейн».
Дайстар опустил голову — может быть, пытаясь вспомнить тот день, когда он гостил в опрятной хижине на Аллее Рододендронов. «Это было давно, — думал Этцвейн, — он не вспомнит».
«Нужно играть», — спохватился Дайстар и пересел на скамью. Выбрав дарабенс, он исполнил традиционную сюиту — из тех, какие часто требовала публика в танцевальных залах на Утреннем берегу. Этцвейн уже начинал терять интерес, когда Дайстар резко изменил тембр и стиль аккомпанемента. Теперь те же мелодии, те же ритмы звучали по-новому. Сюита превратилась в огорченную, раздраженную повесть о бессердечных расставаниях, колких насмешках и упреках, о демонах, заливающихся издевательским смехом на ночных крышах, об испуганных птицах, затерявшихся в грозовых тучах... Дайстар выдвинул сурдину, приглушил тембр и замедлил темп — музыка безоговорочно утверждала скоротечность всего разумного и полезного, всего, что облегчает жизнь. Триумфально шествовали темная, животная страсть, страх, жестокость, рваные, бессмысленные аккорды... После затянувшейся паузы, однако, наступила сдержанная кода, напомнившая, что, с другой стороны, добро, будучи отсутствием страдания, не существует без понимания зла.
Дайстар немного отдохнул, опять набрал несколько аккордов и углубился в сложное двухголосие — порхающие пассажи журчали над спокойной торжественной темой. Дайстар играл с отрешенным лицом, пальцы его двигались сами собой. Этцвейн подумал, что музыка эта была скорее рассчитана, нежели выстрадана. У Финнерака слипались глаза — тот слишком много съел и выпил. Этцвейн подозвал официанта и расплатился. Сопровождаемый сонно бормочущим Финнераком, он вышел из «Серебряной Самарсанды» и вернулся на лодке в отель «Речной остров».
Этцвейн вышел в сад и постоял в тишине, обратив лицо к Скиафарилье — где-то там, за мерцающим скоплением звезд, была древняя Земля... Когда он вернулся в гостиную, Финнерак уже ушел спать. Этцвейн взял перо и один из приготовленных на столе бланков для извещений и приглашений. Тщательно выбирая выражения, он набросал несколько фраз и скрепил открытое письмо печатью Аноме.
Вернувшись в вестибюль отеля, Этцвейн подозвал мальчишку-посыльного: «Отнеси это в «Серебряную Самарсанду» и отдай лично в руки друидийна Дайстара — никому другому! Не отвечай на вопросы — просто передай сообщение и возвращайся. Все понятно?»
«Понятно!» — мальчишка убежал. Этцвейн вернулся в номера и закрылся в спальне. И на душе, и в желудке у него было тяжело — он сомневался, что когда-нибудь еще станет заказывать «пир из сорока пяти блюд».
Глава 6
Одолеваемый сомнениями и недобрыми предчувствиями, Этцвейн решил не заезжать пока в кантоны Дальнего Запада, но сразу вернуться в Гарвий. Он отсутствовал дольше, чем намеревался — в Гарвии же события происходили быстрее, чем в провинции.
Между Масчейном и Брассеями еще не было прямой воздушнодорожной линии — неблагоприятные ветры и пересеченная местность делали строительство невыгодным — но река Джардин почти восполняла это упущение. Вместо того, чтобы ждать ходившего по расписанию пассажирского судна, Этцвейн нанял быстроходный полубаркас с двумя треугольными парусами и командой из десяти человек, способной, в случае необходимости, сесть за весла или буксировать большую лодку, шагая по берегу.
Они плыли под парусами на восток по гигантской излучине реки мимо подножий пасторальных холмов Лор-Аульта, потом на север, в теснине между скалистыми кряжами Метелинской долины. В Гриаве, столице кантона Перелог, проходила ветка воздушной дороги, следовавшая вдоль Большого Поперечного хребта, но на станции сообщили, что все направлявшиеся на север гондолы задерживались в связи с ураганным встречным ветром, налетевшим с озера Суалле. Спустившись по реке до Брассейского разъезда, Этцвейн и Финнерак заняли места в гондоле «Арамаанд». Озерный шторм прекратился. Бриз, бодро веявший с залива Ракушечных Цветов, позволял делать больше ста километров в час — неугомонный «Арамаанд» мчался на север, поглощая расстояние. Уже вечером они вихрем пронеслись по долине Молчания, накренили парус над Джардинским разломом и через пять минут приземлились на Гарвийской станции.
Как никогда, Гарвий завораживал взор в минуты заката — стекло высоких шпилей наливалось пологими лучами трех заходящих солнц, поджигая город безудержной фантасмагорией цветов. Повсюду — сверху вниз и снизу вверх, на поверхности и в толще прозрачных, как слеза, стеклянных плит, куполов, шаров, конических и полусферических приливов, в пересечениях пилястров и ярусов, рельефных и резных орнаментов, внутри и вокруг ажурных балюстрад опоясывающих здания балконов и возносящихся лестниц, уходящих в перспективу арочных анфилад и контрфорсов, призматических колонн, хрустальных волют и спиралей — растекались и пульсировали приливы и отливы насыщенного цветного пламени: чарующие ум чистые лиловые и сиреневые, ясные и глубокие темно-зеленые, аквамариновые, нежно-лиственные, изумрудные тона, темно-синий и голубой, ультрамариновый и готический витражно-синий, тепло-небесные и прохладноледяные глубины, протуберанцы, сполохи и послесвечения багрового, пунцового и огненно-красного, потаенные внутренние тени безымянных световых сочетаний, сдержанный глянец древности и металлически-слепящие, радужные прямые отражения.
Пока Этцвейн и Финнерак неторопливо шли на восток, солнца скрылись за горизонтом — цвета затуманились жемчугом, задрожали, погасли, умерли. «Величие бесчисленных поколений принадлежит мне, — думал Этцвейн. — В моих руках исполнение желаний, отмщение и воздаяние. Я все могу отнять, я все могу отдать, построить все и все разрушить...» Он улыбнулся несогласию тщетного самомнения идее абсолютной власти, искусственной и неосуществимой.
Финнерак никогда еще не был в стеклянной столице. Этцвейн с любопытством наблюдал за его реакцией. Финнерак не был впечатлен — по крайней мере внешне. Окинув панораму Гарвия молочно-голубым, будто выбеленным известью взглядом, он, по-видимому, больше заинтересовался толпой хлопотливо-беспечных горожан, спешивших по проспекту Кавалеско.
Этцвейн купил в киоске газету — черные, охряные и коричневые тона бросились в глаза. Он прочел:
«Сенсационная депеша из Марестия!
Вооруженное столкновение ополчения и банды рогушкоев!
Разорив и опустошив Шкорий, по имеющимся сведениям полностью оккупированный, дикари выслали отряд фуражиров на север. Рекруты, патрулирующие границу Мареста, решительно отказались пропустить захватчиков. Завязалась битва. Несмотря на значительное численное превосходство ополченцев, краснокожие бестии прорвались через укрепления. Стрелы защитников Мареста поразили — или, по меньшей мере, вывели из строя — многих нападающих, но оставшиеся в живых продолжали атаковать, игнорируя потери. Изменив тактику, ополченцы отступили в лес, где заградительный огонь лучников и зажигательные снаряды передвижных катапульт заставили рогушкоев остановиться.
Но лукавые каннибалы, бросая горящие снаряды обратно в лес, подожгли его, и рекрутам пришлось покинуть прикрытия. На них тут же набросилась еще одна банда дикарей, привлеченная кровавым побоищем. Среди обороняющихся много жертв, но они полны решимости жестоко отомстить, когда Аноме предоставит необходимые средства. Преобладает уверенность в том, что отвратительные твари в конечном счете будут разбиты и рассеяны».
Этцвейн показал сообщение Финнераку, воспринявшему новости с полупрезрительным безразличием. Тем временем, внимание Этцвейна привлекла статья в лиловой рамке с бледно-голубой тенью, свидетельствовавшей об особом уважении издателей к автору:
«Мы пользуемся редкой возможностью предложить вашему вниманию замечания его превосходительства Миаламбера — высшего арбитра (Октагона) кантона Уэйль.
Годы Четвертой Паласедрийской войны и последовавших за ней междоусобиц сыграли решающую роль в нашей истории: в горниле битв закалился дух героя, Вайано Паицифьюме. Его справедливо называют основоположником современного Шанта. Невозможно отрицать, что Столетняя война явилась результатом его политики. Тем не менее, все притеснения и бедствия той эпохи кажутся теперь мимолетной рябью на сверкающем зеркале вод. Паицифьюме создал институт власти Аноме, по сей день вызывающий почтительный страх, а неизбежным логическим следствием его стало обязательное ношение кодированных ошейников. Система эта отличается совершенством простоты — ее недвусмысленная неумолимость уравновешивается экономичностью, эффективностью и необходимостью предусматривать последствия поступков. В целом она пошла на пользу Шанту. Как правило, пост Аноме занимали люди компетентные, выполнявшие все обязанности перед кантонами — не вмешиваясь в традиционный распорядок их жизни, перед элитой — не накладывая неосмотрительных ограничений, перед основной массой населения — не обременяя ее чрезмерными налогами и повинностями. Кантональные войны и хищнические набеги, когда-то возобновлявшиеся с фатальной регулярностью, превратились в смутное воспоминание и сегодня представляются немыслимыми.
Критически мыслящие умы, однако, обнаруживают в существующей системе серьезные недостатки. Идея справедливости, изобретенная человеком, так же непостоянна и многообразна, как ее изобретатель, и столь же охотно меняется во времени и пространстве. Так, в каждом кантоне Шанта преобладает особое представление о справедливости, не свойственное обитателям других областей. Путешественник должен постоянно учитывать это обстоятельство, если не желает нарушить незнакомый местный обычай или закон, чуждый его привычкам и воспитанию. В качестве примера достаточно указать на злополучных пилигримов, посещающих кантон Хавиоск, но забывающих осенить себя знаком неба, чрева и почвы, проходя мимо святилища. Не менее сурово караются неосторожные девственницы, въезжающие в кантон Шаллоран, не предъявив соответствующих сертификатов. Система выплаты крепостных задолженностей во многом оставляет желать лучшего. Печально знаменитые извращения жителей Глирриса способствуют распространению болезней, противны общечеловеческой природе и должны быть искоренены вопреки принципам терпимости и невмешательства. Тем не менее, взвесив все за и против, можно сказать, что нам посчастливилось прожить несколько мирных столетий.
Если изучение человеческих взаимоотношений когда-нибудь можно будет назвать наукой, подозреваю, что лучшие умы, посвятившие себя этой дисциплине, рано или поздно вынуждены будут сформулировать следующую непреложную аксиому: «Любое общественное устройство порождает неравенство возможностей». Следствие: «Любое нововведение, призванное устранить неравенство, независимо от его альтруистической непогрешимости в принципе, на практике приводит только к созданию нового, видоизмененного неравенства».
Я счел своим долгом изложить эти соображения в связи с тем, что отчаянные усилия, предпринимаемые в настоящее время правительством Шанта, без сомнения приведут к огромным переменам в нашей жизни, хотя точный характер этих перемен еще недоступен воображению».
Этцвейн решил запомнить имя автора: Миаламбер, Октагон Уэйльский... Финнерак осведомился с ребяческой капризностью: «Сколько еще вы собираетесь стоять и читать посреди улицы?»
Этцвейн подозвал проезжавший мимо дилижанс: «В Сершанский дворец!»
Немного погодя Финнерак сказал: «За нами слежка».
Этцвейн удивленно обернулся: «Вы уверены?»
«Когда вы остановились, чтобы купить газету, у витрины напротив задержался человек в синей накидке. Пока вы читали, он стоял к нам спиной. Когда вы пошли вперед, он тоже двинулся с места. Теперь за нами едет другой дилижанс».
«Любопытно», — пробормотал Этцвейн.
Они обогнули широкий сквер Парадов и свернули на мраморную мостовую проспекта Метемпе, соединявшего центр Гарвия с тремя уступами Ушкадельских холмов, так называемыми «ярусами». Деревья-близнецы двоились на фоне неба, погружая мраморные плиты в серовато-сливовую прохладную полутень. Сзади на почтительном расстоянии следовал второй дилижанс.
Заметив слева поперечную улочку, под густыми кронами липколистов и деревьев-близнецов напоминавшую вход в пещеру, Этцвейн тронул возницу за плечо: «Сюда!»
Частыми движениями руки тот похлопал прутом по шее тонконогого быстроходна. Дилижанс круто повернул налево и скрылся под буйно разросшимися липколистами. Гибкие концы ветвей скребли по крыше экипажа. «Стойте! — приказал Этцвейн и соскочил на землю. — Поезжайте вперед, а потом подождите меня!»
Быстроходцы двинулись шагом, дилижанс удалился. Этцвейн бегом вернулся к выезду на проспект и встал за стволом на углу.
Ничто не нарушало тишину, кроме шелеста блестящих, похожих на праздничные ленты листьев. Наконец послышался цокот копыт на мраморных плитах — приближался второй дилижанс. Звук становился громче — экипаж подъехал к перекрестку, остановился. Напряженно вглядываясь в глубину тенистого переулка, из окна кареты высунулась голова... Этцвейн вышел из-за дерева. Испуганно взглянув в его сторону, шпион что-то быстро сказал вознице. Экипаж сорвался с места и поспешил дальше по проспекту Метемпе.
Этцвейн присоединился к Финнераку, искоса бросившему взгляд, выражавший целый ряд эмоций — неприязнь, упрек, торжество, мрачное веселье и даже какое-то невозможное сочетание любопытства с безразличием. Этцвейн, сперва не расположенный советоваться, решил, однако, что ради осуществления намеченных планов полезно было все же посвятить Финнерака в детали ситуации: «Главный дискриминатор Гарвия — большой интриган. Таково, по крайней мере, мое впечатление. Если меня убьют, его следует подозревать в первую очередь».
Финнерак хмыкнул, не высказав никаких замечаний. Этцвейн попросил возницу вернуться на проспект Метемпе и ехать прежней дорогой. Насколько он мог судить, хвоста больше не было.
Когда дилижанс поднялся к Среднему ярусу Ушкаделя, там уже зажглись искристо-зеленые уличные фонари. Дорога описывала широкую дугу по склону холма. Мимо один за другим сумрачно проплывали мерцающие дворцы эстетов. Наконец показался портик с эмблемой Сершанов. Массивный фонарь из толстого стекла тлел бледно-синими и фиолетовыми угольками.[30] Этцвейн и Финнерак направились ко входу. Дилижанс уехал и растворился во мгле.
Пройдя по широкой крытой галерее, Этцвейн остановился, чтобы прислушаться. За ним, будто бесцельно прогуливаясь, подошел Финнерак. Из дворца доносились приглушенные отзвуки, свидетельствовавшие об обыденном течении жизни. Кто-то разучивал гаммы на древороге. Этцвейн поморщился: как ему надоели интриги, принуждение, далеко идущие планы! Невероятное стечение обстоятельств — почему именно ему, Гастелю Этцвейну, суждено стать правителем Шанта? «Лучше я, чем Финнерак!» — Этцвейну почудилось, что он невольно возразил себе вслух, не открывая рта.
Нельзя поддаваться дурным предчувствиям. Этцвейн пригласил Финнерака ко входу и подал знак привратнику. Тот раздвинул стеклянные двери.
Этцвейн и Финнерак вступили в приемный зал — волшебное пространство, освещенное с трех сторон сверкающими стенами витранных панно, изображавших нимф, резвящихся на живописных речных лугах страны бессмертных пастухов. Навстречу медленно вышел дворецкий Аганте — осунувшийся, даже несколько растрепанный. Очевидно, события принудили его изменить привычный образ жизни. При виде Этцвейна глаза его загорелись надеждой. Этцвейн спросил: «Как идут дела?»
«Из рук вон плохо, смею вам заметить! — со страстным упреком заявил Аганте. — Никогда еще стены древней обители Сершанов не видели такого срама! Музыканты играют джиги и баллантрисы в салоне Жемчужных Филиграней. Дети плещутся в садовом фонтане. Аллею Предков занимает караван фургонов. Между именными вязами у грота Дриад протянули бельевые веревки! Повсюду мусор, все едят где попало. Лорд Саджарано...» — дворецкий осекся, не находя слов.
«Да? — подбодрил его Этцвейн. — Лорд Саджарано?»
«Еще раз извините за откровенность, но мне придется изъясниться начистоту. Давно уже бытовали слухи, что лорд Саджарано страдает нервным расстройством — в последние годы он вел себя, скажем, по меньшей мере странно. Теперь он вообще не показывается, то есть я его не видел уже несколько дней. Боюсь... боюсь, произошла трагедия».
«Где маэстро Фролитц?» — спросил Этцвейн.
«Обычно он проводит время в Большой Гостиной».
Развалившись в кресле, Фролитц пил «Дикую розу», фамильное вино Сершанов, из церемониального серебряного кубка, и неодобрительно наблюдал за тремя детьми музыкантов, с криками вырывавшими друг у друга из рук драгоценный том расписных географических карт Западного Караза. При виде Этцвейна и Финнерака Фролитц вытер рот салфеткой и вскочил на ноги: «Где ты пропадал? Мы уже начали беспокоиться».
«Объехал почти все южные кантоны, — отвечал Этцвейн, в присутствии маэстро временами забывавший не проявлять детскую робость. — Я торопился и даже не успел побывать на Западе. Надеюсь, вам понравилось отдыхать во дворце?»
«Низкопробное времяпровождение! — объявил Фролитц. — Труппа разлагается в праздности».
«Где Саджарано? — спросил Этцвейн. — С ним какие-нибудь трудности?»
«Никаких трудностей, — отрезал Фролитц. — Он просто исчез. Как он ухитрился, ума не приложу. Своих забот хватало, а тут еще этот чертов дворец!»
Этцвейн опустился в кресло: «Когда и каким образом он исчез?»
«Пять дней тому назад, не выходя из башни. Лестницу сторожили. Он вел себя как обычно — то есть, как тихий помешанный. Когда ему принесли ужин, окно на верхнем этаже было распахнуто, а Саджарано исчез — испарился, как эйль-мельрат!»[31]
В сопровождении Фролитца и Финнерака Этцвейн поднялся в частные апартаменты Саджарано и выглянул в окно. Далеко внизу темнели мшистые камни. «Никаких следов! — строго поднял палец Фролитц. — Мы обнюхали каждую пядь земли под башней — ничего!»
Комнаты в башне соединялись с нижними этажами единственной узкой лестницей. «Здесь сидел Мильке, — продолжал Фролитц, опустив палец вниз, — за дверью, прямо на ступенях проклятой лестницы, и обсуждал... короче, крутил шашни с младшей горничной. Не спорю — Саджарано мог застать их врасплох и как-нибудь протиснуться или перескочить через них, не знаю. Вся штука в том, что он не выходил!»
«У него была веревка? Канат можно сделать из портьер или постельного белья».
«Даже если он спустился по веревке, на мхе остались бы следы. Кроме того, веревки не было — портьеры на месте, белье в целости и сохранности». Фролитц присел было на диван, но тут же вскочил, потрясая над головой дрожащими кулаками: «Как он сбежал? Я на своем веку чего только не видел — но это же просто уму непостижимо!»
Этцвейн молча вынул кодирующий передатчик, набрал цветовой код ошейника Саджарано и нажал красную кнопку поиска. Прибор сразу же тонко запищал. Этцвейн описал рукой широкую дугу — писк сменился удовлетворенным гудением, снова превратившимся в писк. «Не знаю, как он сбежал, но ушел он недалеко, — сказал Этцвейн. — Саджарано где-то в лесах Верхнего Ушкаделя».
Уже давно стемнело, но Этцвейн, Финнерак и Фролитц отправились на поиски. Пройдя по дворцовому саду, они поднялись по алебастровым ступеням. Скиафарилья бледно освещала путь. Они миновали фигурный павильон из гладко-белого стекла, где справлялись тайные мистерии рода Сершанов, потом пробрались через густые заросли деревьев-близнецов и гигантских кипарисов, разводя руками и ломая переплетения скрюченных ветвей желтокостницы — и вышли на дорогу Верхнего яруса. Передатчик показывал, что дальше идти нужно было прямо вверх — в темный лес над Верхним ярусом.
Фролитц начинал брюзжать: «По профессии и по призванию я музыкант, а не дикий лесной никталоп. Кроме того, полночные поиски левитирующих сумасшедших, прячущихся в одиночку или в компании сочувствующих им гарпий и вурдалаков, не входят в число моих любимых занятий».
«Я не музыкант, — сказал Финнерак, поднимая лицо к зарослям над дорогой. — Тем не менее перед тем, как продолжать поиски, имеет смысл захватить фонари и оружие».
Фролитц усмотрел в словах Финнерака скрытую насмешку и резко парировал: «Музыкант не боится никого и ничего! Отвага, однако, не мешает мне смотреть на вещи с практической точки зрения — в отличие от некоторых, чьи мысли блуждают выше облака ходячего».
«Финнерак не музыкант, — примирительно сказал Этцвейн, — но его предложение вполне практично. Пойдемте, возьмем фонари и оружие».
Через полчаса они вернулись на Верхний ярус, вооруженные найденными во дворце стеклянными фонарями и старинными саблями, коваными из железных кружев.
Судя по показаниям передатчика, за это время координаты Саджарано Сершана не изменились. В трехстах метрах над дорогой он нашелся — труп лежал на небольшой поляне, поросшей перистой белесой травой-волокитой.
Этцвейн и Финнерак посветили кругом — лучи фонарей нервно рыскали среди теней, стволов и корней. Один за другим все повернулись к телу, лежавшему у самых ног. Саджарано, человек невысокий и никогда не производивший внушительного впечатления, теперь казался карликом, ребенком с непомерно большой головой. Тощие ноги его судорожно вытянулись, спина выгнулась крутой дугой, как в мучительной агонии, широкий лоб философа откинулся далеко назад, наполовину скрытый пушистой травой. Жилет из фиолетового вельвета был грубо разорван — обнажилась костлявая грудь, зияющая глубокой, безобразной раной.
Этцвейн уже видел такую рану — на теле благотворителя Гарстанга через день после его смерти.
«Непривлекательное зрелище», — буркнул Фролитц.
Финнерак только крякнул — ему приводилось любоваться зрелищами и пострашнее.
«Здесь, кажется, побывали ахульфы, — бормотал Этцвейн. — Могут вернуться». Он еще раз осветил фонарем обступившие поляну тени: «Нехорошо. Надо бы его похоронить».
Пользуясь саблями и руками, они вырыли в пружинящей лесной подстилке неглубокую могилу. Наконец Саджарано Сершан, всесильный владыка Шанта, скрылся под слоем рубленых комьев земли, смешанной с листьями и травой.
Три невольных могильщика спустились к Верхнему ярусу, обернулись к лесу над дорогой, будто одновременно движимые одной и той же мыслью, и вернулись через сад в Сершанский дворец.
Остановившись перед огромными стеклянными дверями, Фролитц отказался входить в приемный зал. «Гастель Этцвейн! — объявил он. — С меня довольно дворцов и дворцовых интриг. Нас прекрасно кормили, мы пили превосходное вино. Нам привезли лучшие инструменты в Шанте. Прекрасно. Не будем себя обманывать — мы музыканты, а не эстеты. Делу время, потехе час».
«Вам здесь оставаться незачем, — согласился Этцвейн. — Возвращайтесь к привычным занятиям — так будет лучше всего».
«А ты? — подбоченился Фролитц. — Ты что же, покидаешь труппу? Где я найду тебе замену? Старый Фролитц должен играть свою партию — и твою впридачу?»
«Мне поручено организовать сопротивление, — терпеливо отвечал Этцвейн. — Страна в опасности. Это гораздо важнее замены недостающего хитаниста».
«Кроме тебя некому истреблять рогушкоев? — ворчал Фролитц. — Почему музыканты Шанта обязаны гибнуть в первых рядах?»
«Когда рогушкоев выгонят, я вернусь — и мы заиграем так, что все ахульфы сбегутся с холмов! А до тех пор...»
«Слышать ничего не хочу! — настаивал Фролитц. — Убивай рогушкоев днем, если тебя это развлекает, а вечером изволь играть с труппой!»
Этцвейн беззвучно смеялся, почти убежденный целесообразностью предложения: «Вы возвращаетесь в «Фонтеней»»?
«Сию же минуту!»
Этцвейн взглянул на дворец, где в каждом зале, по каждой лестнице бродил унылый призрак бывшего Аноме. «Так возвращайтесь, — сказал Этцвейн. — Мы с Финнераком переселимся туда же».
«Наконец-то я слышу слова не мальчика, но мужа! — одобрил Фролитц. — Поехали! Может быть, еще успеем сыграть пару номеров». Вопреки только что заявленному отказу заходить во дворец, маэстро прошествовал внутрь, чтобы собрать труппу.
Финнерак произнес с язвительным осуждением: «Человек прыгает с высокой башни и, порхая, как птичка, приземляется в темном лесу, где его находят с дырой в груди, просверленной ахульфом, стащившим коловорот и решившим потренироваться на первом встречном. Так обстоят дела в стеклянном городе Гарвии?»
«Сам ничего не понимаю, — сказал Этцвейн, — хотя мне уже приходилось видеть нечто подобное».
«Может быть и так... В любом случае, теперь вы у нас Аноме. Соперников и претендентов больше нет».
Этцвейн холодно уставился на Финнерака: «Что вы говорите? Я не Аноме».
Финнерак хрипло рассмеялся: «Тогда почему же Аноме не обнаружил смерть Саджарано еще пять дней тому назад? Таинственное исчезновение бывшего правителя — обстоятельство, требовавшее немедленного расследования. Почему вы не связались с Аноме? Если бы он существовал, вы прежде всего сообщили бы ему о пропаже вместо того, чтобы пререкаться с Фролитцем о том, кто и когда будет играть на какой дудке! В то, что Гастель Этцвейн — Аноме Шанта, трудно поверить, не спорю. Но в то, что Гастель Этцвейн — не Аноме Шанта, поверить невозможно!»
«Я не Аноме, — повторил Этцвейн. — Я отчаянно пытаюсь его заменить, но у меня нет ни опыта, ни достаточных способностей. Аноме мертв, на его месте — пустота. Я обязан создавать иллюзию того, что все идет хорошо. Какое-то время маскарад может продолжаться, кантоны обойдутся местным самоуправлением. Но обязанности Аноме многочисленны, количество работы растет, как снежный ком — на петиции никто не отвечает, головы никто не отрывает, преступления остаются безнаказанными. Рано или поздно проницательный человек — такой, как Аун Шаррах — установит истину. Тем временем мой долг состоит в том, чтобы мобилизовать Шант против рогушкоев — по мере возможности».
Финнерак цинически хмыкнул: «Кто будет править Шантом? Землянин Ифнесс?»
«Ифнесс вернулся на Землю. Из всех известных мне кандидатов подходящими кажутся двое: друидийн Дайстар и Миаламбер, Октагон Уэйльский».
«Так-так... И какая же роль во всей этой фантасмагории отводится мне?»
«Вы должны обеспечить мою охрану. Я не хочу умереть, как Саджарано».
«Кто его убил?»
Этцвейн посмотрел в темноту: «Не знаю. Странные дела творятся в Шанте».
Финнерак оскалил зубы, изобразив натянутую улыбку: «Я тоже не хочу умирать. Вы просите меня рисковать вместе с вами, а риск, судя по всему, чрезвычайно велик».
«Верно. Но разве мы не руководствуемся сходными побуждениями? Мы оба хотим, чтобы в Шанте воцарились мир и справедливость».
Финнерак снова хмыкнул — он сомневался. Этцвейну нечего было добавить. Они зашли во дворец. Явился вызванный Этцвейном Аганте. «Маэстро Фролитц и его труппа покидают дворец Сершанов, — сообщил ему Этцвейн. — Они не вернутся, вы можете восстановить порядок и благолепие».
Лицо дворецкого осветилось искренней радостью: «Очень рад, покорнейше благодарю! Где, однако, лорд Саджарано? Его нет во дворце. Я начинаю серьезно беспокоиться».
«Лорд Саджарано уехал в далекие края, — сказал Этцвейн. — Заприте дворец и проследите за тем, чтобы сюда никто не заходил без моего разрешения. Через пару дней поступят дальнейшие распоряжения».
«Слушаюсь, ваше превосходительство».
Когда Этцвейн и Финнерак вышли, по дороге уже грохотали фургоны и перекликались веселые голоса — труппа Фролитца уезжала.
Не торопясь, они спустились по ступеням каскада Коронахе. Скиафарилья скрылась за нависшей тенью Ушкаделя; взошло созвездие Горкулы — Рыбы-Дракона, хищно взирающей на Дердейн оранжевыми глазами, Алазеном и Диандасом. Финнерак часто оглядывался. Этцвейн заразился его тревогой: «Кто-нибудь идет?»
«Нет».
Этцвейн ускорил шаги. Дойдя до просторной, бледной в звездных лучах Мармионской площади, они задержались в тени за фонтаном. На площадь больше никто не вышел: Гарвий спал. Несколько ободрившись, они спустились по проспекту Галиаса и скоро прибыли в гостиницу «Фонтеней» на набережной Джардина.
В таверне еще подавали ужин. Устроившись за столом у стены, Этцвейн и Финнерак подкрепились горячим рагу с тушеными мидиями, хлебом и светлым пивом. Оказавшись в привычном месте, Этцвейн почувствовал склонность поделиться воспоминаниями с неразговорчивым компаньоном. Он рассказал о своих приключениях после побега с Ангвинской развязки, описал набег рогушкоев на Башон и последовавшую катастрофу на Гаргаметовом лугу, объяснил, как познакомился с Ифнессом Иллинетом — бездушным, но компетентным корреспондентом земного Исторического института. Здесь, в этой таверне, Этцвейн похитил обворожительную благотворительницу Джурджину, потерявшую голову. Джурджина, Гарстанг, Саджарано, троица на вершине власти — зачем, во имя чего они умерли?
«Такова вереница причин и следствий, уходящая в черножелтую мглу какой-то мрачной тайны, — закончил рассказ Этцвейн. — Я в замешательстве, я заинтригован. Раз уж я оказался в центре событий, неплохо было бы узнать, кто за ними стоит. Что-то пугает меня, однако. Боюсь, что истина страшнее самых пессимистических предположений».
Финнерак погладил щетинистый подбородок: «Почти не разделяя вашего любопытства, я рискую навлечь на себя весь ужас откровения истины».
Этцвейн почувствовал укол раздражения: «Вам известны все обстоятельства дела. Решайте сами».
Финнерак осушил кружку с пивом и с решительным стуком поставил ее на стол — с его стороны это было самое выразительное проявление эмоций с тех пор, как они приехали в Гарвий: «Я присоединяюсь к вам, и вот по какой причине — исключительно ради достижения собственных целей».
«Прежде, чем мы продолжим — в чем состоят эти цели?»
«Думаю, вам они уже известны. В Гарвии — повсюду в Шанте — богачи живут во дворцах. Они приобрели богатство, ограбив меня и других таких же, как я, отняли у нас молодость и силы. Настало время расплаты. Они заплатят, дорого заплатят! Пока я жив, им не уйти от возмездия!»
Этцвейн ответил сдержанно и ровно: «Ваши цели вполне понятны. На какое-то время, однако, о них придется забыть — как придется забыть обо всем, что может помешать решению важнейших, неотложных задач».
«Рогушкоями придется заняться в первую очередь, — кивнул Финнерак. — Мы уничтожим их или заставим убраться в Паласедру. За ними последует очередь магнатов. Их ждет такая же судьба. Очистим Шант от паразитов всех мастей!»
«Не могу обещать безусловного исполнения всех ваших желаний, — возразил Этцвейн. — Выплата справедливого возмещения? Да. Прекращение злоупотреблений? Да. Месть, грабежи, насилие? Нет!»
«Прошлое невозможно изменить. Будущее себя покажет», — Финнерак упрямо опустил кулак на стол.
Этцвейн решил не настаивать. К добру или не к добру, в ближайшее время помощью Финнерака пренебрегать нельзя было. Что потом? В случае необходимости Этцвейн умел быть безжалостным. Он достал из кармана передатчик. «Передаю вам прибор, принадлежавший благотворителю Гарстангу. Цветовой код ошейника набирается таким образом, — Этцвейн продемонстрировал процедуру. — Не забудьте, это чрезвычайно важно! Сперва нажимайте на серый индикатор, чтобы выключить реле, взрывающее передатчик в руках похитителя, незнакомого с устройством. Кнопка поиска — красная. Желтая, естественно, отрывает голову».
Финнерак внимательно рассмотрел металлическую коробку с разноцветными кнопками: «Вы отдаете мне эту штуку?»
«С условием, что вы ее вернете по первому требованию».
Финнерак криво усмехнулся, исподлобья наблюдая за Этцвейном: «Что, если я жажду безраздельной власти? Остается только набрать ваш код и нажать желтую кнопку. Джерд Финнерак станет Человеком Без Лица».
Этцвейн пожал плечами: «Я вынужден кому-то доверять». Он не стал объяснять, что у него в ошейнике вместо заряда взрывчатки был установлен предупреждающий зуммер.
Нахмурившись, Финнерак вертел устройство в руках: «Принимая этот прибор, я бесповоротно связываю себя с вашими планами и с вашей политикой».
«Бесповоротно».
«Пусть будет так — пока мы не покончим с рогушкоями. Впоследствии наши пути могут разойтись».
Этцвейн понимал, что ничего лучшего ожидать не приходилось. «Меньше всего я доверяю главному дискриминатору, — сказал он. — Только ему было известно, что я собирался навестить лагерь №3».
«Вы забываете об управлении воздушной дороги. Там тоже знали о ваших передвижениях и могли подстроить западню».
«Маловероятно, — покачал головой Этцвейн. — Дискриминаторы часто запрашивают у них информацию, это обычное дело. Почему бы чиновники в воздушнодорожном управлении придавали Джерду Финнераку особое значение? Только Аун Шаррах знал, что вами интересовался именно я. Завтра придется ограничить его полномочия... Ага, маэстро Фролитц!»
Фролитц, вошедший в зал и сразу заметивший двоих собеседников, приблизился с самодовольным видом: «Ну вот, ты внял моему совету! Разум, наконец, торжествует».
«Видеть не могу Сершанский дворец, — признался Этцвейн. — В этом отношении я с вами совершенно согласен».
«Мудрое, мудрое решение! А вот и труппа: что за манеры! Вваливаются в таверну, как грузчики после работы. Этцвейн, на сцену!»
Услышав знакомую команду, Этцвейн автоматически встал, но тут же опустился на стул: «Руки, как деревянные. Сегодня я не могу играть».
«Пойдем, хватит упираться! — бушевал Фролитц. — Не будешь играть — беглость не вернется. Разомнешься на гизоле, Кьюн возьмет тринголет, я сыграю на хитане».
«Нет, поверьте, сегодня мне не до музыки, — сказал Этцвейн. — В другой раз».
Фролитц раздраженно отошел, обернулся: «Тогда слушай! За последний месяц я добавил вариации — ты пропустил добрый десяток репетиций. Якшаешься с эстетами, бездельничаешь!»
Этцвейн устроился поудобнее. Со сцены неслись привычные успокоительные звуки — оркестр настраивался. Фролитц дал строгие указания, кое-кто из музыкантов отозвался ворчанием. Фролитц кивнул, взмахнул локтем — и свершилось знакомое чудо. Из хаоса: музыка.
Глава 7
Этцвейн и Финнерак завтракали в открытом кафе на площади Корпорации. Финнерак, принявший предложенные Этцвейном деньги, уже приобрел новый наряд — черные сапоги и строгий черный плащ с высоким жестким воротником на старинный манер. Этцвейн спрашивал себя: о чем свидетельствовало такое переодевание? Стремился ли Финнерак отразить некое изменение представлений? Или, наоборот, хотел подчеркнуть, что остался тверд в убеждениях?
Мысли Этцвейна вернулись к сиюминутным делам: «Сегодня предстоит многое сделать. В первую очередь посетим Шарраха — его кабинет выходит окнами на площадь. Главному дискриминатору было над чем задуматься. Он ищет выигрышные ходы, вынашивает планы — надеюсь, у него хватит ума от них отказаться. Он знает, что мы в Гарвии. Скорее всего, ему уже донесли, что мы здесь сидим и завтракаем. Не удивлюсь, если Шаррах отбросит всякое притворство и явится засвидетельствовать свое почтение».
Они подождали, глядя на площадь. Не было никаких признаков приближения Ауна Шарраха.
Этцвейн сказал: «Наберите-ка его код». Он продиктовал Финнераку цветовой код ошейника главного дискриминатора: «Не забудьте сперва нажать на серый индикатор... Так, хорошо. Теперь мы оба, по крайней мере, вооружены».
Перейдя через площадь, они зашли в Палату правосудия и поднялись по лестнице в Дискриминатуру.
Как и в прошлый раз, Аун Шаррах сам вышел встретить Этцвейна. Сегодня на нем были аккуратный темно-синий костюм с фиолетовым отливом и вельветовые ботинки того же цвета. Левое ухо главного дискриминатора украшала серьга — крупный сапфир на короткой серебряной цепочке. Он приветствовал посетителей радушно и непринужденно: «Проходите, я вас ждал. Джерд Финнерак? Очень приятно».
Как только они оказались в кабинете Шарраха, Этцвейн спросил: «Вы давно вернулись?»
«Я здесь уже пять дней», — Шаррах рассказал о своей поездке. В кантонах ему пришлось наблюдать самые различные реакции на воззвание Аноме — от полной апатии до энергичных спешных приготовлений.
«Мой опыт подтверждает ваши впечатления, — заметил Этцвейн. — Ничего другого нельзя было ожидать. Тем не менее, один эпизод в кантоне Глай меня порядком озадачил. Когда я приехал в лагерь №3, главный надзиратель, некий Ширге Хиллен, ожидал моего прибытия и отнесся ко мне более чем враждебно. Чем можно было бы объяснить его поведение?»
Повернувшись к окну, Аун Шаррах задумчиво глядел на площадь: «Можно предположить, что запрос о господине Финнераке почему-то встревожил чиновников воздушнодорожного управления, предупредивших об инспекции начальство лагеря №3. Воздушнодорожники встречают в штыки любое вмешательство в их внутренние дела».
«Видимо, другого объяснения нет», — сказал Этцвейн, мельком взглянув на Финнерака, хранившего молчание с каменным лицом. Этцвейн откинулся на спинку кресла: «Аноме считает, что необходимы радикальные изменения. Человек Без Лица способен единолично править Шантом в мирное время. В дни войны число неотложных дел превосходит его возможности. Шант велик и многообразен, требуется распределение полномочий центральной власти. По мнению Аноме, человеку с вашими навыками и опытом можно было бы поручить пост, гораздо более ответственный, чем должность главного дискриминатора».
Улыбнувшись, Аун Шаррах сделал скромный жест рукой: «Я ограниченный человек с ограниченными возможностями. Такова моя роль. Мои амбиции не заходят слишком далеко».
Этцвейн покачал головой: «Никогда не следует преуменьшать свое значение. Будьте уверены, что Аноме ценит вас по достоинству».
Аун Шаррах спросил довольно сухо: «Что, в сущности, вы предлагаете?»
Немного поразмыслив, Этцвейн ответил: «Я хочу, чтобы вы занялись координацией поставок материальных ресурсов Шанта — металлов, волокна, стекла, дерева. Само собой, это сложная задача, и я бы на вашем месте тщательно подготовился. Раздобудьте необходимую информацию, получите представление о характере предстоящей работы — приготовьтесь основательно, у вас есть три-четыре дня, даже неделя».
Аун Шаррах вопросительно поднял брови: «Другими словами, я должен покинуть Дискриминатуру?»
«Совершенно верно. С сегодняшнего дня вы не главный дискриминатор, а заведующий закупкой и доставкой материалов. Идите домой, подумайте о новой работе. Изучите кантоны Шанта, поставляемую ими продукцию. Определите, каких материалов не хватает, какие имеются в избытке. Тем временем я займу ваш кабинет — так получилось, что у меня еще нет своего управления».
Аун Шаррах спросил с осторожным недоверием: «Вы хотите, чтобы я ушел — сейчас?»
«Да-да. Почему нет?»
«Но... мои личные бумаги...»
«Личные бумаги? Документы, не относящиеся к Дискриминатуре?»
Улыбка Шарраха стала неуверенной, диковатой: «Личные вещи, сувениры... Все это так неожиданно».
«Разумеется. События развиваются стремительно. У меня нет времени на формальности. Где реестр персонала Дискриминатуры?»
«Здесь, в шкафу».
«В нем поименованы все нештатные осведомители?»
«Не все».
«У вас есть дополнительный список?»
После мимолетного колебания Аун Шаррах вынул из кармана записную книжку, заглянул в нее, нахмурился, вырвал одну страницу и положил ее на стол. Этцвейн увидел столбец из дюжины имен. После каждого имени значился цветовой код.
«Кто эти люди?»
«Неофициальные специалисты, если можно так выразиться. Один умеет определить практически любой яд по внешним признакам отравления, другой консультирует по вопросам, касающимся незаконной купли-продажи крепостных должников. Двое вхожи в дома эстетов и хорошо разбираются в тонкостях дворцовых интриг — представьте себе, даже на склонах Ушкаделя случаются тайные преступления. Еще трое — перекупщики краденого».
«А этот, например, чем занимается?»
«Тренирует ищеек-ахульфов».
«И этот тоже?»
«Да. Остальные — сыщики, следопыты».
«Владельцы обученных ахульфов?»
«Меня не посвящают во все подробности ремесла. Возможно, кое-кто арендует ищеек или договаривается с полудикими ахульфами».
«Но все зарабатывают на жизнь профессиональной слежкой?»
«У них могут быть иные занятия, мне неизвестные».
«Значит, в Дискриминатуре не служат другие сыщики или шпионы?»
«У вас полный список, — коротко сказал Аун Шаррах. — С вашего позволения, я заберу несколько личных вещей». Резким движением он открыл дверцу тумбочки стола, вынул из ящиков большую тетрадь в сером переплете, самострел, драгоценную железную цепочку с железным медальоном и еще несколько мелочей. Этцвейн и Финнерак наблюдали со стороны.
Финнерак впервые нарушил молчание: «Тетрадь — тоже личное имущество?»
«Да. В ней конфиденциальная информация».
«Составляющая тайну даже для Аноме?»
«В той мере, в какой он не интересуется подробностями моей личной жизни».
Финнерак промолчал.
Аун Шаррах подошел к выходной двери, но задержался: «Идея происходящих радикальных изменений принадлежит вам или Аноме?»
«Новому Аноме. Саджарано Сершан мертв».
Шаррах издал короткий нервный смешок: «Можно было предвидеть, что он недолго продержится!»
«Причина его смерти загадочна как для меня, так и для нового Аноме, — спокойно сказал Этцвейн. — Странные вещи происходят в Шанте, особенно в последнее время».
На лицо Шарраха легла задумчивая тень. Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но передумал. Резко повернувшись, он вышел из кабинета.
Этцвейн с Финнераком немедленно приступили к изучению содержимого шкафов и коробок на полках. Они внимательно просмотрели реестр служащих, пытаясь угадать значение таинственных пометок, сделанных в списке имен — видимо, рукой Шарраха. Они нашли крупномасштабные карты всех кантонов Шанта и самых больших городов — Гарвия, Масчейна, Брассей, Ильвия, Карбада, Порт-Верна, Фергаза и Освия. В справочном указателе содержались перечни важнейших должностных и прочих влиятельных лиц, проживавших в каждом кантоне, со ссылками на досье в главном архиве и непонятными иероглифами Ауна Шарраха. В коробках лежали папки с подробными биографиями эстетов Гарвия, опять же снабженные шифрованными примечаниями.
«Не стоит ломать голову над пометками главного дискриминатора, — сказал Этцвейн. — В любом случае через год они устареют. Эта информация относится к старому Шанту. Нас не интересуют грешки чиновников и семейные скандалы эстетов. Я собираюсь полностью реорганизовать Дискриминатуру».
«Каким образом?»
«На сегодняшний день существуют разрозненные городские и кантональные полицейские управления. Сбор сведений по всей стране невозможен без их участия. В новом Шанте эту функцию я хочу поручить отдельному континентальному разведывательному ведомству, отчитывающемуся непосредственно перед Аноме и действующему независимо от кантональных законодательств и местных предрассудков».
«Любопытная мысль. Не отказался бы возглавить такое ведомство».
Этцвейн внутренне рассмеялся, ничем этого не показывая. Финнерак удивительно не умел скрывать свои намерения.
«Первоочередная задача — установить личность шпиона, увязавшегося за нами вчера вечером. Я попросил бы вас, по меньшей мере, заняться этим делом. Познакомьтесь с дискриминаторами, вызовите персонал на совещание. Подчеркните, что Аун Шаррах больше не руководит Дискриминатурой, что все приказы теперь исходят от меня. Я хотел бы как можно скорее увидеть всех агентов, всех сыщиков и следопытов, штатных и нештатных. Если шпион — один из них, я его узнаю».
Финнерак колебался: «На словах все просто, но как это устроить?»
Этцвейн задумался на минуту. На столе Ауна Шарраха, вдоль правого края, в несколько рядов светились кнопки. Этцвейн нажал верхнюю. В кабинет сразу же зашел служащий, сидевший в приемной — толстенький беспокойный молодой человек не старше Этцвейна.
Этцвейн сказал: «Бывший главный дискриминатор смещен с должности по приказу Аноме. Отныне вы руководствуетесь только указаниями, исходящими от меня или от Джерда Финнерака — познакомьтесь. Все понятно?»
«Понятно».
«Как вас зовут?»
«Тирубель Архенвей, к вашим услугам. Я в должности секретаря-лейтенанта».
«Верхняя кнопка вызывает вас. Каково назначение других?»
Архенвей объяснил функции кнопок, Этцвейн записывал. «Необходимо сделать несколько вещей одновременно, — сказал Этцвейн. — Прежде всего представьте всех служащих Дискриминатуры Джерду Финнераку. Он займется проверкой персонала. Кроме того, я хочу, чтобы сюда вызвали, именем Аноме и как можно быстрее, трех человек. Во-первых, Ферульфио, главного электрика Гарвия. Во-вторых, техниста Донейса. В-третьих, арбитра Миаламбера, Октагона Уэйльского».
«Будет сделано в кратчайшие сроки, — Тирубель Архенвей поклонился Финнераку. — Милостивый государь, прошу вас следовать за мной...»
«Один момент», — прервал его Этцвейн.
Архенвей повернулся к нему: «Слушаю?»
«В чем заключаются ваши ежедневные обязанности?»
«Я выполняю поручения — главным образом примерно такие, как ваше. Еще я составлял повестки дня главного дискриминатора, организовывал совещания и аудиенции, просматривал почту, доставлял извещения».
«Хотел бы еще раз напомнить, что Аун Шаррах больше не работает в Дискриминатуре и не занимается делами, относящимися к этому ведомству. Никакая утечка информации не допускается. Распространение слухов, намеков и двусмысленных замечаний любыми служащими Дискриминатуры, в том числе вами, категорически запрещено. Поручаю вам немедленно распространить бюллетень, разъясняющий это требование».
«Будет сделано».
Ферульфио, главный электрик Гарвия, оказался человеком тощим и бледным, с бегающими глазами. «Ферульфио, — сказал ему Этцвейн, — в кафе на площади толкуют, что вы неразговорчивее устрицы и осторожнее морского веера-невидимки».
Ферульфио кивнул.
«Мы с вами направимся во дворец Сершанов. Я покажу вам помещение, где находится радиооборудование бывшего Аноме. Вы перевезете это оборудование сюда и установите его на скамье вдоль стены — так, чтобы я мог им пользоваться».
Ферульфио снова кивнул.
Этцвейну не нравился стол Ауна Шарраха. Он приказал его убрать. В кабинете поставили два зеленых кожаных дивана, два деревянных кресла из лиловой вайды, обитых кожей сливового оттенка, и широкий новый стол. Насмешливо поглядывая на Этцвейна, веселая и хорошенькая секретарша украсила стол букетом ируцианы и амариллей.
По вызову явился Архенвей, посмотрел вокруг: «Приятное обновление гарнитура! Не хватает только ковра. Дайте подумать...» Секретарь-лейтенант прошелся из угла в угол, заложив руки за спину: «Цветочный узор, пожалуй... в стиле «четвертой легенды», кораллы на фиолетовом фоне. Нет, слишком определенно, настойчиво, не тот размах. В конце концов, вы не хотите, чтобы ковер навязывал вам настроение... Лучше концентрический орнамент в духе Обри — попадаются изысканные экземпляры. Знатоки считают, что Обри пренебрегал пропорциями, но именно искусные искажения придают его эскизам забавное обаяние... Возможно, однако, суровому администратору больше подойдет традиционный буражеск, темно-серый с трацидом[32] и умброй».
«Вам лучше знать, — рассеянно сказал Этцвейн, — закажите буражеск. В приятной обстановке легче работать».
«Совершенно согласен, удивительно верное наблюдение! — заявил Тирубель Архенвей. — К сожалению, мой кабинет оставляет желать лучшего, приходится ютиться в крысиной норе. Я мог бы работать быстрее и плодотворнее в помещении, выходящем окнами на площадь, попросторнее и посветлее».
«Есть свободные помещения?»
«Пока нет, — признался Архенвей, — но я мог бы порекомендовать полезные внутриведомственные реформы. В самом деле, давно пора! Если позволите, я тотчас же подготовлю проект».
«В свое время, — сказал Этцвейн, — не все сразу».
«Надеюсь, вы не упустите такую возможность, — продолжал секретарь-лейтенант. — Я тружусь в душной, тесной каморке. Каждый раз, когда кто-нибудь заходит, дверь колотит мне по колену. А расцветка мебели? Несмотря на все мои усилия, ничто не скрашивает нелепую, унылую обивку! Эхм... между тем технист Донейс покорнейше ожидает приема».
Этцвейн изумленно выпрямился: «Как? Донейса заставляют торчать в приемной, пока вы рассуждаете о коврах и эстетических улучшениях интерьеров? Скажите спасибо, если завтра утром ваш кабинет, каковы бы ни были его размеры, не займет кто-нибудь другой!»
Побледнев, Архенвей поспешил удалиться и вернулся в сопровождении долговязого, костлявого Донейса. Этцвейн пригласил техниста сесть на диван, а сам сел напротив: «Вы не представили отчет. Мне не терпится узнать: что происходит, что уже сделано?»
Донейс не мог расслабиться. Он сидел на краю дивана, выпрямившись, как палка: «Я не представил отчет потому, что отчитываться пока не о чем. Не нужно напоминать мне о срочности проекта — я все понимаю, ситуация отчаянная. Мы делаем все, что можем».
«Вам больше нечего сказать? — настаивал Этцвейн. — В чем проблема? Нужны деньги? Дополнительный персонал? Требуются дисциплинарные меры? Вам не подчиняются?»
Донейс поднял редкие брови: «Денег и персонала достаточно — хотя мы не отказались бы от дюжины знающих специалистов с выдающимися способностями к проектированию. Поначалу были проблемы с дисциплиной — технисты не привыкли работать большими группами. Но дело сдвинулось с мертвой точки. Мы изучаем одну возможность — по-видимому, многообещающую. Вас интересуют подробности?»
«Да, разумеется!»
«Давно известен особый класс веществ, образующихся в ходе длительной реакции — в колбе остается очень плотный белый осадок, напоминающий на ощупь воск, слегка волокнистый. Мы называем эти вещества «халькоидами». Халькоиды отличаются исключительно интересным свойством. Под воздействием сильного электрического разряда вязкий, пластичный халькоид превращается в твердое, прозрачное кристаллическое тело существенно большего объема. В случае халькоида №4 объем увеличивается почти на одну шестую. На первый взгляд это немного, но преобразование происходит мгновенно, и возникающее при этом усилие молекулярного смещения практически непреодолимо. Фактически, если структура халькоида 4 не изменяется под большим давлением, поверхность вещества ускоряется настолько, что оно взрывается. Один из технистов недавно получил халькоид 4 с параллельно-волокнистой структурой. Мы назвали этот вариант «халькоидом 4-1». Подвергаясь электрическому разряду, халькоид 4-1 расширяется только продольно, вдоль волокон, причем торцевые поверхности волокон перемещаются с огромной скоростью, достигающей в момент максимального ускорения, по предварительным расчетам, порядка четверти скорости света. Предложено изготовлять на основе халькоида 4-1 снаряды для огнестрельного оружия. В настоящее время проводятся испытания, но я еще не могу сказать ничего определенного о результатах».
Этцвейн был впечатлен докладом: «Другие разработки тоже ведутся?»
«Изготовляются стрелы с наконечниками из декокса. Они взрываются при попадании, но это сложное в обращении и ненадежное оружие. Мы надеемся, что оно окажется эффективным на расстоянии от сорока до ста метров, и пытаемся сделать его безопасным для арбалетчиков. Других новостей нет — по существу мы только организовались и приступили к работе. В древности умели генерировать световые лучи, ослеплявшие противника, но эти навыки утеряны. Наши энергоприемники достаточно долговечны, но не позволяют создавать длительные разряды большой мощности».
Этцвейн показал Донейсу лучевой пистолет, полученный от Ифнесса: «Это оружие с Земли. Разобрав его, вы могли бы научиться чему-нибудь полезному?»
Технист внимательно рассмотрел пистолет: «Качество изготовления превышает наши возможности. Сомневаюсь, что это устройство позволит нам что-нибудь понять — кроме того, насколько мы технически деградировали по сравнению с предками. Не следует забывать, конечно, что на Дердейне нет редких металлов и очень мало самых распространенных. Зато мы многого достигли в оптике и кристаллике».
Донейс с явным сожалением отдал пистолет Этцвейну: «Другой проект — связь вооруженных подразделений. Здесь в навыках нет недостатка. Мы хорошо умеем контролировать потоки электрических импульсов — каждый день производятся тысячи кодированных ошейников. Тем не менее, есть почти непреодолимые трудности. Для того, чтобы изготовлять военное коммуникационное оборудование, потребуется реквизировать цеха, поставляющие ошейники, и пользоваться услугами цеховых работников. Если мы просто отзовем самых опытных специалистов, кантональные власти получат бракованные ошейники, что чревато трагическими последствиями».
«Разве на складах не хранится резервный запас ошейников?»
«Нет, это было бы непрактично. Для того, чтобы максимально упростить коды, новые ошейники шифруют цветами недавно умерших и погибших граждан. В противном случае пришлось бы кодировать с применением девяти, десяти, даже одиннадцати цветов — а чем сложнее коды, тем более трудоемкой становится их регистрация».
Этцвейн задумался, спросил: «Нельзя ли привлечь работников какой-нибудь другой, менее важной отрасли?»
«Все радиоприемники и передатчики в Шанте производятся теми же мастерскими — как побочная продукция».
«Остается один выход, — решил Этцвейн. — Если нас всех перебьют рогушкои, ошейники некому будет носить. Реквизируйте цеха, производите рации. Молодым людям придется погулять на свободе, пока мы не покончим со вторжением».
«В принципе, я пришел к тому же выводу», — кивнул Донейс.
«Чуть не забыл, — сказал Этцвейн напоследок. — Аун Шаррах назначен заведующим закупкой и доставкой материалов в масштабах всего континента. Что бы вам ни потребовалось, обращайтесь к нему».
Технист ушел. Полуразвалившись на диване и прикрыв глаза, Этцвейн напряженно думал: «Допустим, война продлится десять лет. Подростки, готовые надеть ошейники, их не получат еще десять лет. Когда кончится война, они вырастут, повзрослеют, обзаведутся семьями. Согласятся ли привыкшие к безответственности, неприрученные «граждане» добровольно поступиться свободой, стать заложниками правительства? Или на разоренную войной, отягощенную несовместимыми предрассудками страну ляжет дополнительное бремя обуздания целого поколения распоясавшихся хулиганов?» Этцвейн нажал кнопку, чтобы вызвать Тирубеля Архенвея... Нажал еще раз. Вместо секретаря-лейтенанта в кабинет вошла секретарша — та, что ставила на стол букет цветов.
«Где пропадает Архенвей?»
«У него полуденный перерыв. Вышел освежиться бокалом вина, скоро вернется. Между прочим, — добавила девушка будто невзначай, — в приемной сидит очень, очень внушительный господин. Вполне может быть, что он пришел поговорить с главным дискриминатором, хотя я, конечно, не уверена, потому что Архенвей не дал на этот счет никаких указаний».
«Будьте добры, пригласите его зайти. Как вас зовут?»
«Дашана. Я из семьи Цандалее. Меня устроили помощницей Архенвея».
«И давно вы здесь работаете?»
«Всего три месяца».
«С сегодняшнего дня на мои вызовы отвечаете вы. Архенвей недостаточно расторопен».
«Сделаю все возможное, чтобы содействовать исполнению любых указаний вашего превосходительства».
Уходя, она бросила через плечо взгляд, свидетельствовавший о многом или ни о чем — в зависимости от предрасположения и самомнения наблюдателя.
Секунду спустя Дашана из семьи Цандалес постучала в дверь и скромно заглянула внутрь: «Его высокоблагородие Октагон Миаламбер, высший арбитр Уэйльский».
Этцвейн вскочил. Вошел Миаламбер — невысокий, крепко сбитый, но узковатый в груди человек в строгой серой мантии с белым отложным воротником. Величественно-портретный полуоборот привыкшей к парику головы не вязался с ежиком жестких седых волос. Октагон взирал на Этцвейна с подозрением, даже осуждающе — у такого собеседника трудно было искать сочувствия.
Дашана Цандалес ждала, не закрывая дверь. Этцвейн догадался: «Будьте добры, позаботьтесь о закусках». Повернувшись к Октагону, он пригласил: «Пожалуйста, садитесь. Не ожидал, что вы прибудете так скоро. Очень сожалею, что вас не провели ко мне сразу».
«Вы — главный дискриминатор?» — Миаламбер говорил резким басом, взгляд его сверлил Этцвейна, подмечая и оценивая недостатки.
«В данный момент я не главный дискриминатор, а исполнительный директор, назначенный Аноме. Меня зовут Гастель Этцвейн. Говоря со мной, вы, по сути дела, говорите с Аноме».
Взгляд Миаламбера стал еще острее и напряженнее. Как судья, выслушивающий показания, он не делал никаких попыток продолжить разговор, но молча ждал дальнейших замечаний.
«Вчера Аноме познакомился с вашими комментариями в «Спектре», — сказал Этцвейн. — На него произвели выгодное впечатление глубина и ясность ваших умозаключений».
Открылась дверь. Дашана Цандалес вкатила столик на колесах — с чайным прибором, хрустящими хлебцами, морскими цукатами и бледно-зеленым цветком в узкой лазуритовой вазе. Она доверительно прошептала Этцвейну через плечо: «Архенвей в бешенстве — ругается, как извозчик».
«С ним я поговорю позже. Будьте добры, обслужите нашего достопочтенного гостя».
Дашана налила чаю и поспешно удалилась.
«Скажу вам откровенно, — продолжал Этцвейн, — бразды правления Шантом в руках нового Аноме».
Миаламбер угрюмо кивнул — подтвердились какие-то его расчеты: «Как произошла смена власти?»
«Опять же, не стану ничего скрывать — пришлось прибегнуть к принуждению. Группа граждан, встревоженных пассивной политикой бывшего Аноме, настояла на передаче полномочий. Теперь бремя обороны Шанта возложено на нас».
«Еще немного, и было бы слишком поздно. Чего вы хотите от меня?»
«Совета, рекомендаций, сотрудничества».
Октагон Миаламбер плотно поджал губы: «Прежде, чем брать на себя обязательства, я хотел бы знать, каковы ваши намерения, каких принципов вы придерживаетесь».
«Мы не руководствуемся определенными политическими убеждениями, — ответил Этцвейн. — Тем не менее, война неизбежно приведет к изменениям, и мы хотели бы направить эти изменения в русло, отвечающее разумным представлениям о цивилизации. Например, можно было бы воспользоваться возможностью ограничить влияние самых диких предрассудков на Одиноком Мысу, в Шкере, Буражеске и Дифибеле».
«Здесь излишняя самоуверенность может только повредить, — заявил Миаламбер. — Внутренняя независимость кантонов — традиционная основа существования Шанта. Несомненно, насильственное внедрение той или иной доктрины централизованной властью приведет к перераспределению сил — не обязательно к лучшему».
«Я это понимаю, — поспешил согласиться Этцвейн. — Без проблем не обойдется. Чтобы их решить, нужны способные, компетентные люди».
«Хм... И сколько же таких людей вам удалось найти?»
Этцвейн отхлебнул чаю: «Численное превосходство на стороне проблем».
Миаламбер неохотно кивнул: «Можете рассчитывать на мою помощь, хотя безусловного выполнения любых распоряжений я не обещаю. Задача привлекает и отпугивает своей сложностью».
«Рад это слышать! — Этцвейн опустил чашку. — Я временно остановился в гостинице «Фонтеней». Мы могли бы там встретиться, чтобы подробнее обсудить дальнейшие шаги».
««Фонтеней»?, — спросил Миаламбер скорее удивленно, нежели неодобрительно. — Таверна на набережной, если не ошибаюсь?»
«Она самая».
«Как вам угодно, — Миаламбер нахмурился. — А теперь я вынужден вспомнить о практических соображениях. Моя семья в Уэйле состоит из семи человек, а доход юриста невелик. Грубо говоря, мне нужны деньги, чтобы платить по счетам. Иначе шериф пустит мой дом с молотка, и я стану крепостным».
«Ваш заработок будет более чем достаточным, — заверил его Этцвейн. — Этот вопрос мы решим сегодня же вечером».
Этцвейн обнаружил Финнерака за столом в конторе главного архива. Тот с мрачным терпением выслушивал оправдания двух дискриминаторов высшего ранга — каждый старался завладеть его вниманием, каждый в чем-то убеждал его, предлагая в подтверждение стопки документов. Заметив Этцвейна, Финнерак отпустил обоих движением руки — те удалились, пытаясь сохранить остатки достоинства. Финнерак заметил: «Аун Шаррах попустительствовал слабостям персонала. У меня это не пройдет. Эта парочка — ближайшие помощники Шарраха. Они останутся в городской Дискриминатуре».
Этцвейн удивленно приподнял брови. По-видимому, Финнерак взял на себя реорганизацию ведомства, существенно превысив полученные полномочия. Финнерак перешел к подробной оценке достоинств и недостатков других служащих Дискриминатуры. Этцвейн слушал, больше интересуясь применявшимися Финнераком критериями, нежели результатами оценки как таковой. Методы Финнерака отличались прямизной наивности — что само по себе вызывало ужас и почтение в искушенных жизнью гарвийских чиновниках, способных воспринимать простоту только как свидетельство безграничной власти, а молчание — как предвестие нелицеприятных разоблачений. Этцвейн внутренне веселился. Дискриминатура была типичным столичным учреждением — изощренным клубком связей и взаимных обязательств, многолетних тайных интриг, продвижений по протекции, более или менее случайных последствий решений, принятых под влиянием взятки или просто по наитию. Финнерак рассматривал такую ситуацию как личное оскорбление. Музыкант Этцвейн почти завидовал стихийной самонадеянности бывалого каторжника.
Финнерак закончил доклад: «Вы хотели проверить внешность агентов?»
«Да. Если среди них окажется вчерашний шпион, искренность Ауна Шарраха не стоит ломаного гроша».
«Это еще цветочки, ягодки впереди! — таинственно предупредил Финнерак, взяв со стола одну из многочисленных папок. — Других вопросов нет? Значит, можно начать, не откладывая».
Никто из присутствовавших служащих Дискриминатуры не напоминал человека с хищным носом и близко посаженными глазами, замеченного Этцвейном в окне дилижанса.
Медленный круговорот солнц склонялся к горизонту. Этцвейн и Финнерак решили отдохнуть в открытом кафе на площади, напротив Палаты правосудия. Потягивая горячий чай из вербены, они разглядывали беззаботно болтающих прохожих. Никто бы не подумал, что от двух молчаливых молодых людей за столиком — стройного замкнутого брюнета и жилистого мрачного блондина с выжженными волосами и глазами, блестящими, как полированная бирюза — зависела судьба Шанта. Этцвейн взял оставленный кем-то на стуле номер «Спектра». В глаза сразу бросилась полоса, обведенная охряной рамкой. Этцвейн читал с тяжелым сердцем:
«Из Марестия по радио передают о столкновении между недавно сформированным ополчением и бандой рогушкоев. Неуемные захватчики, не оставив камня на камне в Шкории, снова выслали отряд на север в поисках провианта. В пограничном городке Гасмале отряд местных сил обороны приказал дикарям остановиться и отступить. Каннибалы пренебрегли законным требованием, завязался бой. Стрелы и камни, выпущенные из луков и пращей защитников Марестия, вызвали в стане врага, после кратковременного замешательства, безумную ярость. По словам одного из наблюдателей, «меднокожее стадо нахлынуло визжащей волной». Такие примитивные методы устрашения, однако, не помогут рогушкоям, когда начнется их планомерный обстрел из обещанных Аноме дальнобойных орудий. Учитывая это обстоятельство, ополченцы Марестия прибегают к выжидательной тактике. Дальнейшие известия еще не поступали — об окончательных результатах стычки читайте в следующем выпуске».
«Твари плодятся и напирают толпой, — проворчал Этцвейн. — Даже в прибрежных районах уже не безопасно».
Глава 8
На Гарвий спустились сливовые вечерние сумерки, вдоль улиц зажглись разноцветные фонари. Этцвейн и Финнерак вернулись в гостиницу «Фонтеней». Фролитц и его труппа расположились за длинным столом в глубине таверны и поглощали тушеные бобы с сыром. Проголодавшиеся молодые люди присоединились к ним.
Фролитц был в отвратительном настроении: «Руки Гастеля Этцвейна устали и отказываются слушаться. Так как его посторонние занятия важнее благосостояния труппы, я не требую, чтобы он утруждал себя игрой на инструменте. Если все же на него снизойдет вдохновение, он может время от времени звенькать на цокатульках или прищелкивать пальцами».
Этцвейн придержал язык. После еды, когда оркестранты достали инструменты, Этцвейн присоединился к ним на сцене. Фролитц изобразил крайнее изумление: «Как это понимать? Нас осчастливил своим присутствием великий Гастель Этцвейн? Премного благодарны. Не будет ли он так добр и не примет ли он покорнейше предложенный ему древорог? Боюсь, что с хитаном ему сегодня не справиться».
Этцвейн продул старый добрый мундштук, пробежался пальцами по серебряным клапанам, когда-то служившим предметом особой гордости... Странно: он чувствовал себя другим человеком! Руки с готовностью слушались, пальцы сами нажимали и отпускали клапаны, предугадывая движение гармонии — но сцена казалась маленькой, а перспективы далекими. Кроме того, Этцвейн почему-то почти неуловимо подчеркивал в каждом такте слабую долю.
Во время антракта Фролитц вернулся к труппе в возбуждении: «А знаете ли вы, господа хорошие, кто у нас сидит в углу таверны — молча, и даже без инструмента? Друидийн Дайстар!» Оркестранты с уважением оглянулись на суровый силуэт в тени. Каждый пытался представить себе, какое мнение составил о его способностях знаменитый друидийн. Фролитц рассказывал: «Я полюбопытствовал — что привело его в таверну «Фонтенея»? Оказывается, его вызвали сюда по приказу Аноме. Спрашиваю: не желает ли он сыграть с труппой? А он: не откажусь, сочту за честь, и так далее в том же роде. Говорит, наше бравурное исполнение напомнило ему молодые годы. Так что с нами будет играть Дайстар! Этцвейн, отдай мне древорог, возьми гастенг».
Фордайс, стоявший рядом с Этцвейном, пробормотал: «Наконец-то тебе приведется играть с отцом. Он все еще не знает?»
«Нет, не знает», — Этцвейн достал из кладовки гастенг — объемистый инструмент, ниже диапазоном и звучнее хитана. Играя в оркестре, исполнитель должен был сдерживать рукавом-сурдиной гулкий и протяжный резонанс гастенга, прекрасно звучавшего соло, но поглощавшего обертоны других тембров. В отличие от многих музыкантов, Этцвейн любил гастенг. Ему нравились благородные оттенки звука, то более или менее приглушенного, то «открывавшегося» после того, как был взят аккорд, в зависимости от искусного перемещения сурдины.
Оркестранты стояли и ждали на сцене с инструментами в руках — таков был общепринятый ритуал, подчеркивавший почтение к мастеру калибра Дайстара. Фролитц спустился со сцены и пошел пригласить Дайстара. Тот приблизился и поклонился музыкантам, задержав внимательный взгляд на Этцвейне. Дайстар взял хитан у Фролитца, набрал аккорд, отогнул гриф и проверил гремушку. Пользуясь своей прерогативой, он начал со спокойной, приятной мелодии, обманчиво простой.
Фролитц и Мильке, игравший на кларионе, вступили с басом, осторожно избегая чрезмерных усложнений гармонии. Тихие аккорды чуть звенящего гизоля и гастенга стали подчеркивать ритм. После нескольких вариаций вступление завершилось — каждый оркестрант нашел свой тембр, почувствовал атмосферу.
Дайстар слегка расслабился на стуле, выпил вина из поставленного перед ним кувшина и кивнул Фролитцу. Комически раздувая щеки, тот изобразил на древороге хрипловатую, сардоническую, местами задыхающуюся тему, чуждую текучей прозрачности тембра инструмента. Дайстар выделил синкопы редкими жесткими ударами гремушки. Полилась музыка: издевательски-меланхолическая полифония, свободная, уверенная, с четко выделяющимися подголосками каждого инструмента. Дайстар играл спокойно, но с каждым тактом его изобретательность открывала новые возможности. Тема достигла кульминации, разломилась, разорвалась, обрушилась стеклянным водопадом. Никто никого не опередил, никто ни от кого не отстал. Дайстар вступил с ошеломительно виртуозной каденцией — пассажи, сначала звучавшие в верхнем регистре, постепенно снижались под аккомпанемент сложной последовательности аккордов, лишь иногда находившей поддержку в зависающих педальных басах гастенга. Пассажи встречались в среднем регистре и расходились вверх и вниз, но постепенно опускались двойной спиралью, как падающие листья, становясь тише и тише, погружаясь в глубокие басы, растворившись в гортанном шорохе гремушки. Фролитц закончил пьесу одним, еще более низким звуком древорога, угрожающе замершим вместе с отзвуками гастенга.
Как того требовала традиция, Дайстар отложил инструмент, сошел со сцены и сел за столом в стороне. Минуту-другую труппа ждала в тишине. Фролитц размышлял. Пожевав губами и изобразив нечто вроде злорадной усмешки, он передал хитан Этцвейну: «Теперь что-нибудь тихое, медленное... Как называлась та старинная вечерняя пьеса — мы ее учили на Утреннем берегу? Да, «Цитринилья». В третьем ладу. Смотрите, чтобы никто не забыл паузу для каденции во второй репризе! Этцвейн: твой темп, твоя экспозиция».
Этцвейн отогнул гриф хитана, подстроил гремушку. Зловредный старый хрыч Фролитц не удержался, учинил западню! Этцвейн очутился в положении, невыносимом для любого уважающего себя музыканта, будучи вынужден играть на хитане после блестящей импровизации неподражаемого Дайстара. Этцвейн задержался на несколько секунд, чтобы хорошо продумать тему, взял вступительный аккорд и сыграл экспозицию — чуть медленнее обычного.
Мелодия струилась — меланхолическая, полная смутных сожалений, как излучины теплой реки среди душистых лугов после захода солнц. Экспозиция закончилась. Фролитц сыграл фразу, задававшую трехдольный пунктирный ритм первой вариации... С неизбежностью рока настало время импровизированной каденции. Всю жизнь Этцвейн мечтал об этой минуте, всю жизнь стремился избежать ее во что бы то ни стало. Слушатели, оркестранты, Фролитц, Дайстар — все безжалостно ждали музыкального соревнования. Один Этцвейн знал, что меряется силами с отцом.
Этцвейн сыграл гармонический ряд аккордов, почти мгновенно приглушая каждый сурдиной. Возникший контраст тембров заинтересовал его — он повторил ряд в обратной последовательности, набирая каждый аккорд под сурдину и сразу же «открывая» резонанс, то есть снимая сурдину — в манере, характерной для игры на гастенге, но почти не применявшейся хитанистами. Не поддавшись кратковременному искушению покрасоваться техникой, Этцвейн повторил основную тему в величественной, скупо орнаментированной манере. Труппа поддержала его ненавязчивым басовым противосложением. Этцвейн подхватил бас и превратил его во вторую тему, слившуюся с первой в странном широком ритме, напоминавшем затаенный хоровой марш, мало-помалу набиравший силу, накативший падающей волной, растекшийся в тихом шипении морской пены... Этцвейн прервал уже нарождавшуюся паузу быстрыми, угловатыми взрывами ужасных диссонансов, но тут же разрешил их мягкой, успокоительной кодой. Пьеса закончилась.
Дайстар встал и пригласил оркестрантов к своему столу. «Без сомнения, — объявил он, — передо мной лучшая труппа Шанта! Все безупречно владеют техникой, все чувствуют характер пьесы. Гастель Этцвейн играет так, как я даже не надеялся играть в его возрасте. Ему пришлось многое пережить — боюсь, слишком рано».
«А все потому, что он упрям, как необъезженный быстроходец! — обиженно возразил Фролитц. — Перед ним открывается блестящая карьера в «Розово-черно-лазурно-глубоко-зеленой банде» — так нет же! Он якшается с эстетами, заточенными в хрустальных дворцах и исчезающими, как злые духи, похищает красоток-аристократок и вообще занимается вещами, не подобающими добропорядочному музыканту. Все мои наставления — коту под хвост!»
Этцвейн мягко заметил: «Фролитц намекает на войну с рогушкоями, в последнее время отвлекающую меня от занятий музыкой».
Фролитц возмущенно развел руками, чуть не угодив Этцвейну пальцем в глаз: «Вы слышите? Он сам этого не скрывает!»
Дайстар сурово кивнул: «У вас есть все основания для беспокойства». Он повернулся к Этцвейну: «В Масчейне я говорил с вами и с вашим приятелем — насколько я понимаю, он сидит неподалеку. Сразу же после нашего разговора я получил приказ Аноме явиться в гостиницу «Фонтеней» в Гарвии. Эти события как-то связаны?»
Фролитц склонил голову набок, с укором глядя на Этцвейна: «И Дайстар туда же? Что же получается? Все музыканты Шанта выступят походным маршем и погибнут невоспетыми героями? Только тогда ты успокоишься? Проткнем рогушкоев тринголетами, закидаем их гизолями? Ты рехнулся, вот что я тебе скажу — рехнулся!» Повелительным жестом призывая за собой труппу, Фролитц прошествовал на сцену.
«Не обращайте внимания на Фролитца, — сказал Дайстару Этцвейн. — Он выпьет кружку пива и успокоится. К сожалению, мне на самом деле поручено организовать сопротивление рогушкоям. Это произошло следующим образом...» Этцвейн разъяснил Дайстару ситуацию примерно так же, как он описывал события Финнераку. «Мне нужна поддержка самых опытных, самых способных людей в Шанте, — закончил он. — Поэтому я попросил вас приехать».
Казалось, Дайстара рассказанная Этцвейном история скорее позабавила, нежели удивила или потрясла: «Итак, я здесь».
На стол легла тень. Подняв глаза, Этцвейн оказался лицом к лицу с недружелюбно нагнувшимся над ним Октагоном Миаламбером. «Ваши предпочтения приводят меня в замешательство, — заявил высший арбитр Уэйльский. — С тем, чтобы обсудить серьезнейшие военные и политические реформы, вы попросили меня явиться в таверну. Явившись в таверну, я нахожу вас распивающим спиртные напитки с праздными ресторанными музыкантами. Кого вы водите за нос и зачем?»
«Вы преувеличиваете! — возразил Этцвейн. — Мой собеседник — выдающийся друидийн Дайстар, знаток обычаев Шанта, так же, как и вы, пользующийся самой высокой репутацией. Дайстар, позвольте представить вам Октагона Миаламбера — не музыканта, но юриста и философа, чью помощь я также нахожу незаменимой».
Миаламбер чопорно сел, чувствуя себя явно не в своей тарелке. Этцвейн переводил взгляд с одного на другого: Дайстар — отстраненный, страстно-сдержанный, склонный больше к наблюдению, чем к участию, Миаламбер — проницательный, педантично требовательный, нанизывающий факты логическими цепочками согласно традиционным этическим представлениям Уэйля. Кроме неподкупности и уважения к себе, у них не было ничего общего — трудно было вообразить более несовместимые умы! Тем не менее, если один из них станет правителем Шанта, другому придется подчиняться. Кому передать власть? Кому отказать?
Обернувшись, Этцвейн позвал Финнерака — тот стоял поблизости, безучастно прислонившись к стене. Финнерак успел переодеться в траурный костюм из черной саржи с тугими манжетами на кистях и подвязками на лодыжках. Он молча приблизился к столу — без улыбки, даже без кивка. «Перед вами человек безукоризненной честности и весьма компетентный, несмотря на зловещую внешность, — представил помощника Этцвейн. — Его зовут Джерд Финнерак. Он предпочитает энергичные методы руководства. Мы очень разные люди. Нам предстоит, однако, решать всевозможные задачи — разнообразие способностей и характеров не помешает».
«Все это превосходно и замечательно — допустим, — сказал Миаламбер. — На мой взгляд, однако, обстановка не соответствует важности вопросов, нуждающихся в обсуждении. Мы несем ответственность за судьбу Шанта! Даже деревенские старейшины решают, где вырыть новый колодец, совещаясь в более официальной обстановке, с занесением в протокол возражений и резолюций».
«К чему условности? — спросил Этцвейн. — Шантом правил и правит один человек — Аноме. Что может быть неформальнее единоличной абсолютной власти? Правительство там, где находится Аноме. Если Аноме проводит время в пивной, пивная становится местопребыванием правительства».
«Произвольно изменяемой системе свойственна высокая приспособляемость, — согласился Миаламбер. — Как такая система будет функционировать в сложной и опасной ситуации, требующей всестороннего анализа — другой вопрос».
«Эффективность управления зависит от людей, составляющих правительство, — не уступал Этцвейн. — В данном случае правительство — это мы. Перед нами непочатый край работы. Что уже сделано? В шестидесяти двух кантонах мобилизовано ополчение».
«Только в кантонах, не захваченных рогушкоями», — нарушил молчание Финнерак.
«Гарвийские технисты изобретают оружие. Народы Шанта осознали наконец, что война неизбежна, что континент будут населять либо рогушкои, либо люди — третьего не дано. С другой стороны, организация, способная координировать и поддерживать сопротивление в масштабах всей страны, просто не существует. Шант беспомощно отступает во всех направлениях, вслепую отмахиваясь от вездесущего врага, бьется в конвульсиях, как зверь с шестьюдесятью двумя лапами, но без головы — в то время как рычащие ахульфы уже вгрызаются ему в кишки».
На сцене труппа Фролитца исполняла приглушенный ноктюрн — маэстро выбирал эту пьесу только в минуты тоскливой безнадежности.
Миаламбер сказал: «Мы в незавидном положении. За две тысячи лет многое изменилось. Когда Вайано Паицифьюме сражался с паласедрийцами, с ним была армия бесстрашных, можно сказать — неистовых бойцов. Они не носили ошейников; надо думать, поддержание дисциплины обходилось недешево. Тем не менее, паласедрийцы понесли ужасные потери».
«То были богатыри, не мы! — заявил Финнерак. — Жили, как мужчины, дрались, как мужчины — если нужно было, умирали, как мужчины. Им в голову не пришло бы отступать, ожидая помощи от правительства».
Миаламбер угрюмо кивнул: «Таких в Шанте больше не найти».
«Все же, — размышлял вслух Этцвейн, — они были людьми, не больше и не меньше. Мы такие же люди».
«Вы ошибаетесь! — упорствовал Миаламбер. — Древние были суровы и своенравны, отчитывались только перед собой. Соответственно, им приходилось полагаться только на себя — в этом они были «больше людьми», чем мы с вами. Теперь произвол — а следовательно и самостоятельность — непозволительны, граждане доверяют мудрости и справедливости Аноме больше, чем целесообразности собственных решений. Они покорны и законопослушны — в этом отношении древние были «меньше людьми». Таким образом, мы многое потеряли и многое приобрели».
«Приобретения бессмысленны, — заметил Финнерак, — если благодаря им рогушкои уничтожат Шант».
«Этому не бывать! — заявил Этцвейн. — Ополчение обязано драться и будет драться!»
Финнерак язвительно рассмеялся: «Кто будет драться, с кем? Дети — с людоедами? Во всем Шанте один настоящий мужчина — Аноме. Аноме не может воевать, он может только приказывать детям. Дети боятся воевать — они привыкли надеяться на отца-Аноме. Результат войны предрешен: поражение, катастрофа, смерть!»
Наступило молчание на фоне медленного скорбного ноктюрна.
Наконец Миаламбер осторожно произнес: «Подозреваю,
что вы несколько сгущаете краски. Шант велик. Где-то еще остались храбрецы, способные встать на защиту женщин и детей, напасть на врага, отвоевать захваченную землю».
«Изредка попадаются сорвиголовы, — признал Финнерак. — В лагере №3 была дюжина. Не боялись ни боли, ни смерти, ни Человека Без Лица — что страшнее ежедневного ужаса лагерной жизни? О, из этих получились бы лихие бойцы! Отчаяние раскрепощает человека — что ему кандалы, что ему ошейник? Он свободен! Дайте мне ополчение сорвиголов, бравую вольницу — рогушкоев след простынет!»
«К сожалению, — сказал Этцвейн, — лагерь №3 больше не существует. Что вы предлагаете? Подвергать тысячи рекрутов унижениям и мукам до тех пор, пока им жизнь не станет страшнее смерти?»
«Разве нет другого способа освободить людей? — Финнерак почти кричал. — Я знаю такой способ — никто не смеет о нем заикнуться!»
Миаламбер не понимал, Дайстар догадывался. Только Этцвейн хорошо знал, о чем говорит Финнерак. Как всякий каторжник, он ненавидел ошейник, с его точки зрения — главное средство порабощения и пытки.
Четверо сидели молча, задумавшись над страстным призывом Финнерака. Прошла пара минут. Этцвейн произнес — тоном теоретика, высказывающего труднодоказуемую гипотезу: «Предположим, ошейники можно было бы снять — что тогда?»
Финнерак сидел с каменным лицом, не снисходя до ответа.
Дайстар ударил кулаком по столу и таким образом впервые принял участие в разговоре: «Пусть только свалится с шеи это скотское ярмо — я с ума сойду от радости!»
Миаламбер казался ошеломленным — и допущением Этцвейна, и реакцией Дайстара: «Как это возможно? Ошейник определяет цивилизованного человека, символизирует ответственность перед обществом!»
«Нет никакой ответственности перед обществом! — твердо сказал Дайстар. — Ответственность — добровольный долг. У меня нет долгов, я даю не меньше, чем беру. Следовательно, никто не вправе ничего от меня требовать».
«Неправда! — воскликнул Миаламбер. — Эгоистическое заблуждение! Каждый человек в неоплатном долгу перед миллионами других: перед всеми, кто делает его жизнь приятной и безопасной, перед погибшими героями, изобретателями и мудрецами, подарившими миру плоды своего ума, язык, традиции и музыку, перед технистами, построившими звездолеты и тем самым позволившими предкам найти убежище на Дердейне. Прошлое — волшебный ковер из мириадов переплетенных нитей. Каждый человек — еще одна нить бесконечной пряжи, бесценная в сочетании с другими, бессмысленная по отдельности».
Дайстар великодушно уступил: «Я ошибся — вы совершенно правы. Однако ошейник отвратителен, как всякое насилие. Зачем принуждать порядочного человека к порядочности? Зачем внушать цивилизованным людям, что они животные, обреченные грабить и убивать без постоянного присмотра?»
«На месте Аноме, — спросил его Этцвейн, — как бы вы решили этот вопрос?»
«Упразднил бы ошейники. Свобода — лучшее средство убеждения. Свобода, а не страх».
«Свобода? — Миаламбер заговорил с необычным для него волнением. — Я свободен — настолько, насколько это целесообразно! Я делаю, что хочу — в рамках, установленных законом. У воров и убийц, разумеется, нет свободы красть и убивать. Что защищает порядочного человека от воров и убийц? Ошейник!»
Дайстар снова признал правоту юриста, но своей правоты не уступал: «Я родился без ошейника. В тот проклятый день, когда цеховой старшина Санреддин окольцевал мне шею, камень лег на мою душу. С тех пор я ношу неизбывную тяжесть».
«Гражданский долг — тяжкое бремя, — согласился Миаламбер. — Какова, однако, альтернатива? Беззаконие, анархия, разбой! Как будет обеспечиваться соблюдение законов? Кем? Отрядами вооруженных палачей, тайными агентами-доносчиками? Чем они лучше других? Вы хотите снова завести тюрьмы, пытки, гипнотическое промывание мозгов, принудительное «лечение» наркотиками? Я утверждаю, что ошейник — не причина зла, а его неизбежное следствие. Причина зла — в природе человека, делающей ошейник необходимым!» Финнерак сказал: «Логика ваших замечаний основана на допущении».
«На каком допущении?»
«Вы не подвергаете сомнению альтруизм Аноме и его способность принимать правильные решения».
«Конечно, нет! — заявил Миаламбер. — Две тысячи лет не было серьезных оснований для сомнений такого рода».
«Магнаты и эстеты согласятся с вашим утверждением. В лагере №3 придерживались противоположного мнения — и правда на нашей стороне, а не на вашей. Никакие, даже самые обобщенные представления о справедливости не позволяют мириться с существованием каторжных лагерей!»
Миаламбер не сдавался: «Лагерь №3 — язва в укромном месте, гниль под ковром. В любой системе есть недостатки. Аноме обеспечивает соблюдение кантональных законов, не навязывая свои правила и предпочтения. Традиции кантона Глай позволяют закрывать глаза на бесчеловечное обращение с крепостными. Вероятно именно поэтому лагерь №3 находился в Глае. Если бы у меня были возможности Аноме, попытался бы я ввести в Глае новые законы? Трудный вопрос. Боюсь, что на него нет однозначного ответа».
Этцвейн сказал: «Мы спорим о второстепенных материях. Любые, самые важные вопросы не имеют значения, пока рогушкои безудержно плодятся и беспрепятственно убивают. Шанту грозит полное уничтожение. Скоро не будет ни ошейников, ни Человека Без Лица, ни крепостных, ни магнатов — ничего не будет, если мы не научимся воевать, и воевать успешно! Пока что мы не можем похвастаться успехами».
«Аноме — единственный свободный человек в Шанте, — отозвался Финнерак. — Будь я свободен, я дрался бы за каждую пядь земли. Армия свободных людей может истребить рогушкоев».
Миаламбер покачал головой: «Практически неосуществимая идея, по многим причинам. Прежде всего, нет времени. Когда неокольцованные дети вырастут, рогушкои уже заполонят весь континент».
«А зачем ждать? — спросил Финнерак. — Достаточно снять ошейники с рекрутов».
Миаламбер тихо рассмеялся: «К счастью это невозможно. Мы извлекли уроки из Столетней войны. Ошейники — залог многовекового мира. Не будет ошейников — и Шант превратится в Караз, где только один закон: ты умри сегодня, а я — завтра! Хаос анархии — грабежи, голод, эпидемии, пожары, всеобщее разорение! Вы этого хотите?»
«Лучше хаос, чем уничтожение рода человеческого! — гремел Финнерак. — По-вашему, безмятежный мир может продолжаться вечно? Маятник судьбы поднялся высоко — тем быстрее он упадет! Долой ошейники!»
Дайстар поинтересовался: «Любая попытка удалить ошейник приводит к взрыву. Вы знаете, как обойти это препятствие?»
Финнерак ткнул большим пальцем в сторону Этцвейна: «Он знает! Землянин научил его. Гастель Этцвейн — свободный человек. Носит пустой ошейник для отвода глаз. Что хочет, то и делает».
«Гастель Этцвейн, — тихо сказал Дайстар, — снимите с меня ошейник».
Впоследствии Этцвейн объяснял себе принятое решение практической необходимостью. В эту минуту, однако, им всецело владели эмоции.
«Я сниму с вас ошейники. Со свободными людьми можно договориться — я знаю, я свободен. Джерд Финнерак возглавит армию неокольцованных добровольцев, Бравую Вольницу. Детей больше не будут кольцевать — хотя бы по той простой причине, что все приемники сигналов нужны для изготовления военных переговорных устройств».
Октагон Миаламбер обреченно вздохнул: «Так или иначе в Шанте настают времена битв и потрясений».
«Так или иначе, — отозвался Этцвейн, — Шант уже потрясен. Враг наступает, битва началась. Вся власть Аноме не могла сдержать судороги страны, не желающей безропотно умирать.
Миаламбер и Дайстар! Вам предстоит решать одну задачу разными средствами.
Октагон Миаламбер! Наберите персонал по своему усмотрению — самых способных юристов, знатоков традиций, законодателей, и с ними отправляйтесь в долгий путь по всем кантонам Шанта. Искореняйте худшие злоупотребления — исправительные лагеря, церковное рабство в Бастерне, Шкере и Хавиоске, запретите куплю-продажу должников, запретите крепостное право как таковое! Вы столкнетесь с инерцией, сопротивлением, обманом, угрозами — это неизбежно, будьте безжалостны к безжалостным!
Дайстар! Только великий музыкант может сделать то, чего я хочу от вас. Один — или с другими друидийнами, воля ваша — обойдите города и селения Шанта. Поведайте людям — не только словом, но музыкой, давно говорившей сокровенным, общедоступным языком — поведайте, что настало время забыть о рознях перед лицом общего врага, что если мы не сумеем, не успеем объединиться, рогушкои вытеснят последние остатки рода человеческого на раскаленные солнцами скалы Бельджамарского архипелага.
Как это сделать? Как восстановить справедливость? Как убедить, как преодолеть взаимную неприязнь, как вдохновить стремление к общей цели? Я не знаю — знаете вы.
А теперь — Миаламбер, Дайстар, Финнерак — прошу вас подняться ко мне в номер. От свободы вас отделяют несколько скрипучих ступеней темной лестницы».
Глава 9
Шло время, день за днем. Этцвейн снял номера на четвертом ярусе отеля «Розеале гриндиана» с восточной стороны площади Корпорации, в трех минутах ходьбы от Палаты правосудия. Финнерак поначалу вселился вместе с ним, но уже на третьи сутки предпочел менее роскошную обстановку «Башен язычников», гостиницы напротив. Соблазны обеспеченной жизни не искушали Финнерака — он мало ел, заказывая самые простые блюда, перестал пить вино и крепкие напитки, одевался вызывающе скромно, исключительно в черное. Фролитц бесцеремонно, не попрощавшись, уехал с труппой в Сиреневую Дельту. Октагон Миаламбер сформировал внушительную группу консультантов, хотя все еще не преодолел сомнения и подозрения, связанные с радикальной реформой устоявшихся традиций.
Этцвейн возражал: «Наша цель не заключается во введении единомыслия. Следует упразднить только учреждения, паразитирующие на беззащитных — нелепые теократические иерархии, крепостное право, богабездельни Одинокого Мыса, скотные дворцы Глирриса. До сих пор Аноме наказывал нарушителей законов, каковы бы ни были законы. Теперь он берет на себя отмщение и воздаяние».
«Если ошейники выйдут из употребления, Аноме, естественно, придется выполнять другие функции, — сухо заметил Миаламбер. — Грядущее неисповедимо».
Дайстар исчез из Гарвия, никому не сказав ни слова.
Октагон Миаламбер или друидийн Дайстар? Каждый из двух мог достойно занять место Аноме, каждому не хватало того, что у другого было в избытке... Этцвейн с тоской надеялся скоро принять решение и сбросить с плеч опасное бремя власти. Роль благонамеренного диктатора набила ему оскомину.
Тем временем Финнерак принялся за перетряску Дискриминатуры с неутомимой целеустремленностью ахульфа, почуявшего дичь. Привычная расслабленная манера почти дружелюбного взаимного подсиживания, не слишком отягощавшая агентов и секретарей, сменилась энергично-казарменным механизмом безличного приказно-отчетного взаимодействия. Служилые протиратели штанов, в том числе Тирубель Архенвей, мигом оказались на улице. Последовало слияние отделов и бюро. Новое Разведывательное управление стало любимым детищем Финнерака — факт, порой вызывавший у Этцвейна недобрые предчувствия. Совещаясь с Финнераком в своем кабинете, Этцвейн разглядывал его худощавую фигуру, морщинистое лицо, презрительно искривленный рот, ярко-голубые глаза — и пытался представить себе, как будут развиваться их отношения в будущем. Теперь Финнерак не носил ошейника. Власть Этцвейна распространялась на него лишь настолько, насколько Финнерак соглашался ее признавать.
С легким стуком приоткрылась дверь — зашла Дашана Цандалес, толкая перед собой столик с чаем и закусками. Финнераку ее появление напомнило о неотложном деле. Он спросил ее: «Те, кого я вызвал — явились?»
«Здесь», — разливая чай, коротко обронила Дашана. Она недолюбливала Финнерака и считала, что подчиняется только Этцвейну.
Финнерак, пренебрегавший несущественными деталями личных симпатий и антипатий, приказал не допускавшим возражений тоном: «Проведите их в архив, в мою контору. Мы там будем через пять минут».
Дашана скрылась возмущенным вихрем. Этцвейн смотрел ей вслед, печально улыбаясь — с Финнераком трудно было иметь дело. Убеждать его в необходимости проявлять внимание к подчиненным? С таким же успехом можно было уговаривать шкаф. Этцвейн спросил: «Кого вы просили явиться?»
«Нештатных агентов, перечисленных в реестре. Остальных вы уже видели».
Этцвейн почти забыл об Ауне Шаррахе. Нынешняя должность бывшего главного дискриминатора надежно отстраняла его от рычагов власти.
Они отправились в архивную контору. Здесь их ожидали четырнадцать человек — следопыты и шпионы из неофициального списка Шарраха. Этцвейн переходил от одного к другому, пытаясь точно вспомнить черты лица, показавшегося в окне дилижанса — длинный горбатый нос, квадратный подбородок, жесткий прищур близко посаженных глаз.
Перед ним стоял именно такой человек. Этцвейн обратился к нему: «Скажите, как вас зовут?»
«Иэн Карли».
Этцвейн отпустил других агентов: «Благодарю, вы свободны». Повернувшись к Карли, он сказал: «Прошу вас, пройдите в мой кабинет».
Карли и Финнерак последовали за Этцвейном. Финнерак плотно закрыл за собой раздвижную дверь. Этцвейн жестом пригласил Карли сесть на диван. Тот молча повиновался.
Этцвейн спросил: «Вам приходилось раньше бывать в этом кабинете?»
Карли смотрел Этцвейну в глаза не меньше пяти секунд. «Приходилось», — ответил он.
Этцвейн продолжал: «Я хотел бы кое-что узнать о заданиях, выполнявшихся вами в последнее время. Аноме лично уполномочил меня задавать любые вопросы персоналу. Если потребуется, я могу предъявить соответствующий указ, скрепленный печатью Человека Без Лица. Мы не сомневаемся, что вы добросовестно исполняли полученные указания, не более того».
Иэн Карли безразлично пожал плечами — он не возражал.
«Недавно вам поручили встретить гондолу «Арамаанд» на Гарвийской станции воздушной дороги, опознать одного из пассажиров — точнее говоря, меня — и проследить, куда этот пассажир направится. Не так ли?»
Карли размышлял только пару секунд: «Верно».
«Кто дал эти указания?»
Карли спокойно ответил: «Аун Шаррах, занимавший должность главного дискриминатора».
«Упомянул ли Шаррах о причинах или целях такого поручения?»
«Нет. Он почти никогда не объяснял свои приказы».
«Как, в точности, было сформулировано поручение?»
«Мне было приказано проследить за поименованным пассажиром и узнать, с кем он встретится. В том случае, если пассажир встретился бы с высоким человеком неопределенного возраста с пышной, но аккуратно причесанной копной снежно-белых волос, я должен был прекратить слежку за Гастелем Этцвейном и продолжать наблюдение за человеком с белоснежной шевелюрой. Естественно, мне было поручено собирать любую существенную дополнительную информацию».
«Что вы сообщили Шарраху?»
«Я сообщил, что поименованный пассажир, по-видимому изначально опасавшийся слежки, быстро сообразил, что я «провожаю» его в дилижансе, и попытался вступить со мной в непосредственный контакт. Так как правила предписывают избегать любых контактов с подследственными, я поспешно скрылся. У меня не было сменщиков, в связи с чем наблюдение пришлось прекратить».
«Каковы были дальнейшие указания Ауна Шарраха?»
«Он приказал мне занять хорошо замаскированный наблюдательный пост у Сершанского дворца и немедленно предупредить его о появлении высокого беловолосого человека, игнорируя всех остальных».
Этцвейн, сидевший на диване, посмотрел на Финнерака — тот стоял, заложив руки за спину, и сверлил взглядом лицо Иэна Карли. Этцвейн не понимал Финнерака. Агент предоставил информацию, намерения Ауна Шарраха выяснились. Что видел Финнерак? Чего не замечал Этцвейн?
Этцвейн спросил: «Какой отчет вы представили, выполнив второе поручение?»
«Я больше не представлял отчетов. Когда я пришел сообщить результаты наблюдения, Аун Шаррах уже не был главным дискриминатором».
Этцвейн нахмурился: «Результаты? Будьте добры, изложите в точности результаты второй слежки».
«Точными их назвать нельзя. Я видел, как из Сершанского дворца вышел седоволосый мужчина среднего роста, и предположил, что он и есть интересующее главного дискриминатора лицо. Я последовал за ним в гостиницу «Фонтеней», где узнал, что это музыкант Фролитц. Очевидно, главный дискриминатор имел в виду другого человека. Возвращаясь по проспекту Галиаса, я прошел мимо вас. Вы стояли в тени у фонтана на Мармионской площади в компании присутствующего здесь господина. Когда я поднялся к Среднему ярусу Ушкаделя и свернул на дорогу к Сершанскому дворцу, мне встретился высокий беловолосый человек, быстро шагавший в восточном направлении. Немного задержавшись, я последовал за ним. Беловолосый человек спустился по каскаду Коронахе, подозвал дилижанс и приказал отвезти его в «Гебрактийские термы» — это роскошный пригородный отель в Шранке, у горячих источников. Поздно вечером трудно найти свободный дилижанс. Я прибыл в «Гебрактийские термы» со всей возможной быстротой, но человека с белой шевелюрой там не оказалось — он там не останавливался и номера не заказывал».
«С тех пор, встречались ли вы с беловолосым человеком или с Ауном Шаррахом?»
«Не встречался — ни с тем, ни с другим».
«Каким-то образом, — думал Этцвейн, — Аун Шаррах получил описание внешности Ифнесса Иллинета и весьма им заинтересовался. Ифнесс вернулся на Землю. Беловолосый человек, повстречавшийся шпиону — всего лишь один из эстетов, населяющих дворцы Среднего яруса».
Вслух Этцвейн поинтересовался: «Как был одет высокий человек с белой шевелюрой?»
«Серый плащ, мягкая серая шляпа».
Ифнесс предпочитал именно такой наряд. Этцвейн спросил: «Он похож на эстета?»
«Не очень. Судя по походке, приезжий».
Этцвейн старался припомнить какие-нибудь отличительные черты, позволявшие однозначно опознать Ифнесса: «Вы запомнили его лицо?»
«Не разглядел, было темно».
«Если вы увидите его снова, немедленно сообщите мне».
«Как вам угодно», — Иэн Карли удалился.
Финнерак язвительно заметил: «Хорош Аун Шаррах, заведующий закупкой и доставкой материалов! Утопить его сегодня же в Суалле, и дело с концом!»
Крупнейшими недостатками Финнерака, по мнению Этцвейна, были нетерпимость и преувеличенная реакция в отношении любого, малейшего противодействия, затруднявшие совместную работу и заставлявшие тратить время на призывы к сдержанности. «Аун Шаррах сделал только то, что вы и я сделали бы на его месте, — сухо ответил Этцвейн. — Сбор информации — его профессия».
«Даже так? А кто предупредил Ширге Хиллена в лагере №3?»
«Его соучастие не доказано».
«Ха! Мальчишкой я работал на отцовской ягодной плантации. Находя сорняк, я вырывал его с корнем, а не ждал, чтобы посмотреть, не превратится ли он чудом в куст смородины».
«Но сперва вы убеждались в том, что нашли именно сорняк», — упорствовал Этцвейн.
Финнерак пожал плечами и вышел из кабинета. Тут же зашла Дашана Цандалес, с содроганием глядя вслед удаляющейся темной фигуре: «Я его боюсь. Почему он всегда ходит в черном?»
«Черный цвет — цвет неукротимого мщения и неизбежности судьбы — создан по специальному заказу Финнерака», — Этцвейн взял девушку за руку, усадил к себе на колени. Та посидела секунду, надменно выпрямившись, и вскочила: «Вы ужасный развратник! Что сказала бы моя матушка, если бы увидела, чем мы тут занимаемся?»
«Меня больше интересует, что скажет дочь».
«Дочь скажет, что вам привезли из Дебрей громадную клетку с какими-то жуткими чудищами. Чудища с нетерпением ожидают вас на заднем дворе у рампы, где разгружают подводы».
Суперинтендант станционной бригады разъезда Консейль сдержал свое слово — привез детенышей-рогушкоев в Гарвий. Он сказал: «Прошел месяц с тех пор, как вы проезжали через Дебри. Насколько я понимаю, тогда вас очаровали мои маленькие выкормыши. Как они вам понравятся теперь?»
С тех пор детеныши выросли на полметра. Рогушкои стояли, сверкая глазами, за прутьями клетки из железного дерева. «Надо сказать, они никогда не были райскими созданиями, — кротко заметил суперинтендант, — а в последнее время все больше напоминают помесь чумпы с вурдалаком. Познакомьтесь: слева — Мьюзель, справа — Эркстер».
Два существа, не мигая, уставились на Этцвейна с очевидной враждебностью. «Не просовывайте руку между прутьями, — радостно предупредил суперинтендант. — Им и кусаться не нужно, просто открутят и оторвут. Они злее ахульфа, посаженного на раскаленную решетку, только у них это настроение никогда не меняется, независимо от уровня комфорта. Сначала я пытался обращаться с ними хорошо, приручить. Подбрасывал лакомые кусочки, перевел в чистый просторный загон, чирикал, сюсюкал, присвистывал, строил смешные рожи. Разговаривал с ними. Поощрял смирное поведение кружкой пива. Бесполезно. Каждый готов разорвать зубами и когтями все, что движется, при первой возможности. Хорошо, думаю, я вас выведу на чистую воду! Посадил их в разные клетки. Счастливчика Эркстера продолжал уговаривать и ублажать. А беднягу Мьюзеля наказывал нещадно. Только замахнется — а я его палкой по голове. Только щелкнет зубами — получит тычка в живот. Сколько я его бил-колотил! И все за дело, прошу заметить. Тем временем Эркстер питался отборными отбросами и спал в тени на мягкой подстилке. Ну, думаю, теперь у одного из вас, голубчики, дикости поубавится. Любого зверя, самого тупого, можно вразумить методом кнута и пряника! Результат эксперимента? Ноль. Какими были, такими остались».
«Гм! — Этцвейн отступил на шаг — рогушкои подскочили ближе к прутьям. — Они что-нибудь говорят, как-нибудь общаются между собой?»
«Нет. Ничего не соображают. Не слушают и не слушаются, пальцем не шевельнут — ни добровольно, ни под страхом смерти. Любую сухую корку, брошенную в клетку, жрут мгновенно. А нажать на рычаг и получить за это свежее мясо не могут. Скорее с голоду сдохнут. Что глаза таращите? — суперинтендант с треском провел палкой по прутьям клетки. — Идиоты! Что у вас в голове? Съедобно — съесть! Несъедобно — не существует!» Суперинтендант повернулся к Этцвейну: «А разницу между мужчиной и женщиной уже знают, ахульфовы дети! Стоит женщине пройти мимо, вся клетка ходуном ходит! Им от роду-то не больше года. Бесстыдство какое-то!»
Этцвейн спросил: «Как они опознают женщину? Например, если бы мимо прошел мужчина в женской одежде или женщина, переодетая мужчиной — что тогда?»
Суперинтендант покачал головой, не понимая, зачем Этцвейн мудрствует лукаво: «Не знаю. Я в таких вещах не разбираюсь».
«Полезно было бы узнать. Мы этим займемся», — сказал Этцвейн.
По всему Шанту появились плакаты — темно-синие буквы в багровой рамке, на белом фоне:
«Формируется особое вооруженное подразделение для борьбы с рогушкоями:
БРАВАЯ ВОЛЬНИЦА!
Бойцы Бравой Вольницы не носят ошейников!
Если ты не трус, если хочешь избавиться от ошейника, если ты готов встать на защиту Шанта: вступай в ряды Бравой Вольницы!
Элитное подразделение только для избранных! Желающих просят лично явиться в Дискриминатуру Гарвия».
Глава 10
С горных высот Хвана сошли рогушкои — впервые, ко всеобщему изумлению, упорядоченным строем, согласованно маневрируя, явно подчиняясь приказам некоего центрального командования. Кто командовал меднокожими бестиями? Еще загадка: откуда у рогушкоев массивные ятаганы из сплава, содержащего дюжину редчайших металлов? Ответов не было. Как бы то ни было, рогушкои неутомимо двигались на север тяжелым размашистым бегом — четыре роты по двести бойцов в каждой. Когда они появились в красных каньонах Феррия, чугуновары в панике бросились вверх по крутым осыпям, но рогушкои игнорировали отстойники с драгоценными культурами бактерий. Рассредоточившись четырьмя широкими цепями, они подступили к границе Кансума. Ополчение Кансума, одно из лучших в Шанте, ожидало их, вооруженное копьями со взрывными наконечниками из декокса. Рогушкои приближались со зловещей осторожностью, с ятаганами наготове. На открытой местности защитникам Кансума приходилось отступать — на небольшом расстоянии вращающийся ятаган, брошенный рогушкоем, начисто отсекал голову, руку или ногу. Ополченцы заняли приготовленные укрытия в близлежащем поселке, Брандвейде.
Для того, чтобы заманить рогушкоев на улицы поселка, ополченцы вывели на окраину толпу испуганных женщин. Рогушкои, не обращая внимания на гортанные вопли своих атаманов, возбудились и бросились в нападение. Дикари ворвались в поселок, где, среди сложенных из камня хижин, метать ятаганы было бессмысленно. Копья протыкали ороговевшие темно-красные шкуры, декокс взрывался. В считанные минуты на узких улицах валялись не меньше пятидесяти изуродованных трупов рогушкоев.
Атаманам удалось восстановить дисциплину — рогушкои отступили, построились в колонны и направились к Ваксону, столице кантона Кансум. По пути разрозненные отряды ополчения устраивали засады, но выпускаемые стрелы не производили заметного эффекта. Рогушкои трусцой пересекали обширное дынное поле на подступах к Ваксону, когда им пришлось внезапно остановиться — перед ними стеной выросло самое впечатляющее войско из всех, сформированных к тому времени в Шанте: целый полк защитников города, усиленный четырьмястами кавалеристами Бравой Вольницы, верхом на быстроходцах. На бойцах Бравой Вольницы были униформы, вдохновленные музейными облачениями дворцовой гвардии Пандамонов: светло-голубые рейтузы с отороченными тесьмой пурпурными лампасами, темно-синие кители с пурпурными аксельбантами, блестящие шлемы из цементированного стекловолокна. У кавалеристов были копья с наконечниками, начиненными декоксом, связки метательных гранат, тяжелые короткие мечи из муравленого дерева с коваными лезвиями из железных кружев. Пехота, вооруженная секирами и гранатами, защищалась прямоугольными щитами из кожи и дерева. Пехоте приказали надвигаться на рогушкоев, сомкнув щиты и защищая себя и кавалерию от ятаганов. На расстоянии пятидесяти шагов они должны были метнуть гранаты, а затем перестроиться в колонны, разделенные проходами для атакующей Бравой Вольницы.
Рогушкои растянулись цепью по краю дынного поля, уставившись круглыми черными глазами на щиты ополчения. Четыре атамана рогушкоев стояли отдельно, чуть позади. От обычных воинов их отличали черные кожаные шейные повязки и нагрудники из кольчуги. Они казались старше рядовых рогушкоев, их кожа была темнее и не блестела, под подбородками набухли большие морщинистые складки кожи. Сперва атаманы смотрели на приближающихся ополченцев в некотором замешательстве, потом издали несколько резких, хриплых воплей. Четыре роты рогушкоев двинулись вперед безучастной деловитой трусцой. По рядам ополченцев пробежал ропот, щиты всколыхнулись. Гарцевавшие за ними добровольцы прикрикнули на пехоту — щиты снова сомкнулись. На расстоянии ста метров рогушкои одновременно остановились и чуть пригнулись, выставив вперед левое плечо и отведя ятаган за спину вытянутой вниз правой рукой: их мышцы вздулись и напряглись. Цепь рогушкоев в такой позе создавала устрашающее зрелище. Передние ряды ополченцев растерялись. Несколько человек преждевременно бросили гранаты, взорвавшиеся с большим недолетом.
Офицеры кансумского ополчения, чопорно следовавшие за пехотой в некотором отдалении, вскинули стеклянные горны и протрубили атаку. Волнующаяся линия щитов шаг за шагом двигалась вперед. Рогушкои тоже стали приближаться — поодиночке, редкими прыжками, подолгу задерживаясь в прежней метательной позе. Щиты левого крыла дрогнули, оставив Бравую Вольницу без прикрытия. На какую-то долю секунды добровольцы опешили, но сразу пришпорили быстроходцев. Кавалерия вырвалась в промежуток между противниками — ее встретил сверкающий град ятаганов, мгновенно превративший в кровавое месиво и всадников, и быстроходнее. Но руки гибнущих добровольцев успели бросить гранаты: ряды рогушкоев исчезли в пыли и пламени.
Не разомкнувшие щиты центр и правый фланг не решались, однако, наступать. Опять протрубили горны. Потерявшие присутствие духа ополченцы рассредоточились слишком рано, снова обнажив кавалерию. Засвистели ятаганы. Поредевшее правое крыло Бравой Вольницы пустилось в атаку — копья ударили в меднокожие груди. Взрывы, облака дыма и орошенной кровью земли, удушающая вонь, схватка! Палицы крушили черепа, ревели растянутые дьявольскими гримасами рожи каннибалов, гранаты описывали дуги над полем, взметая фонтаны пыли с кружащимися в них оторванными руками и ногами. Ужасный шум вздымался волнами — яростная перекличка горнов, гортанные крики и рев рогушкоев, дикое мычание раненых быстроходцев, отчаянные стоны умирающих... Пыль опустилась. Погибли все добровольцы из Бравой Вольницы и половина рогушкоев. Остатки ополчения бежали под прикрытие стен Ваксона. Медленно подойдя к городу, рогушкои внезапно повернули в направлении феррийских предгорий и скрылись.
Финнерак гневно доложил Этцвейну об исходе битвы: «Лучшие из лучших, цвет Шанта — лежат, захлебнувшись черной кровью рогушкоев, непогребенные! Они могли отступить, но отказались отступать. Свободные люди презирают смерть. Свобода! Они ее заслужили — ради чего?»
Страстная скорбь Финнерака поразила Этцвейна. «Они доказали, что среди нас есть герои, не уступающие древним, — сказал он. — Я сделаю так, чтобы об этом узнал весь Шант».
Финнерак, казалось, ничего не слышал. Он метался из угла в угол, сжимая и разжимая кулаки: «Ополчение опозорилось. Предатели! Моя бы воля, все они кончили бы свои никчемные дни среди таких же пиявок, как они, срезая ивняк по пояс в болотной жиже!»
Этцвейн не отвечал, предпочитая не навлекать возмущение Финнерака на себя. Он твердо решил, что никогда не предоставит Финнераку возможность судить кого бы то ни было.
«Мы не можем драться с двужильными бесами врукопашную, — сетовал Финнерак. — Почему молчат технисты? Где их хваленое оружие?»
«Садитесь. Не поддавайтесь отчаянию, — сказал Этцвейн. — Я расскажу, как идут дела у технистов. Они столкнулись с препятствиями. Преодоление препятствий требует времени. Мгновенно расширяющийся материал вылетает с огромной скоростью — отдача пропорционально велика. Для того, чтобы это вещество можно было использовать в переносных орудиях, заряд должен быть микроскопическим, а груз, поглощающий отдачу, достаточно тяжелым. Расширяясь, заряд предельно охлаждается — до температуры межзвездной пустоты. Если бы это не происходило, вещество взрывалось бы в стволе. Поэтому перед летящим микроснарядом образуется раскаленная волна — даже не воздуха, а чистого пламени. Эта волна приумножает разрушительные последствия удара. Я присутствовал при испытании неподвижно закрепленного орудия. В радиусе до полутора километров снаряды безусловно, катастрофически убийственны. На большем расстоянии они не действуют — вещество просто испаряется, сопротивление воздуха слишком велико.
Мне показывали первые переносные орудия. Необходимость применения амортизирующих грузов делает их громоздкими, неудобными, опасными. Возможно, удастся производить более компактные устройства, но плачевные результаты экспериментов не внушают уверенности. Крупные, мощные орудия изготовлять несложно, но их должны удерживать массивные опоры — большие деревья, валуны, врытые сваи — а для поражения движущихся целей требуется маневренность. Тем не менее, достигнуты значительные успехи.
Кроме того, мы делаем взрывные стеклянные стрелы усовершенствованной конструкции. В наконечнике стрелы содержится электрет, разряжающийся при попадании. Электрический разряд приводит к детонации декокса, выводящей из строя или даже убивающей рогушкоя. Технисты говорят, однако, что массовое производство таких стрел затруднено необходимостью точного контроля размеров и свойств составных частей.
Изготовляются также реактивные гранатометы — простые, очень дешевые орудия, выпускающие небольшие ракеты со взрывными головками. По существу, такое орудие — труба из цементированного стекловолокна. В трубу вкладывается реактивный снаряд. Гасителем отдачи служит каменный цилиндр или детонирующий при запуске заряд декокса. Оружие эффективно только на небольшом расстоянии, точность попадания оставляет желать лучшего. В целом есть основания для оптимизма».
Финнерак сидел, не шелохнувшись. Он сильно изменился. Теперь он так же не походил на загорелого оборванца из лагеря №3, как каторжник, вышедший из тюрьмы строгого режима, не походил на прежнего Джерда Финнерака с Ангвинской развязки. Он окреп и расправился, держался прямо, двигался решительно и властно. Волосы его больше не напоминали выжженную солнцами плетеную подстилку. Он стриг золотисто-бронзовые кудри так коротко, что они скорее подчеркивали, нежели сглаживали форму черепа. Черты лица выступали с бескомпромиссной резкостью. Безумное сияние глаз сменилось матовым голубым блеском. Финнерак никогда не проявлял дружеской теплоты, у него не было чувства юмора, он не умел прощать и в любом обществе вел себя вызывающе прямолинейно. Он одевался только в черное. Наряд этот в глазах любого уроженца Шанта символизировал страх смерти и неумолимость судьбы. Неудивительно, что служащие — втихомолку, за спиной — величали его «Черным Ветровым» и «Финнераком-Вурдалаком».
Финнерак работал безудержно. Он увольнял, понижал в должности и назначал персонал Дискриминатуры с грубым пренебрежением к правилам, традициям, должностному положению и выслуге лет, вызывая в подчиненных скорее изумление и ужас, нежели возмущение. Новое Разведывательное управление стало его детищем, его вотчиной. В каждом городе Шанта он учредил местное отделение, связанное по радио с Гарвием. Бравую Вольницу Финнерак принимал еще ближе к сердцу, полностью исключив любые посторонние влияния. Он даже перекроил свой черный костюм на манер униформы добровольцев, хотя голубые рейтузы и темно-синий китель носить, разумеется, и не подумал.
Объявление о наборе добровольцев в Бравую Вольницу немедленно вызвало возбужденные толки и брожение умов по всему Шанту. В Гарвий спешили сотни мужчин всех возрастов и профессий. Финнерак не успевал снимать ошейники — опасная процедура требовала напряженного внимания и времени. Поэтому он явился с земными инструментами Ифнесса к технисту Донейсу, а тот собрал группу электронщиков. Специалисты осторожно разобрали устройства, изучая незнакомые детали и поражаясь фантастической точности их подгонки и неисчерпаемой емкости энергоэлементов. Они установили, что одно из устройств, по-видимому, регистрировало перемещение электронов и генерировало магнитные импульсы, «вычитавшие» или «гасившие» обнаруженный ток.
Многочисленные эксперименты позволили технистам имитировать функцию механизма Ифнесса, хотя их произведение — довольно тяжеловесный аппарат — внешне ничем не напоминало изящный ручной инструмент земного производства. Пять таких машин установили в подвале Палаты правосудия. Сменявшие одна другую бригады аппаратчиков круглосуточно удаляли ошейники с добровольцев, зачисленных в Бравую Вольницу. Финнерак лично проверял всех желающих снять ошейник. Забракованные кандидаты нередко яростно протестовали, на что Финнерак отвечал всем одинаково: «Принесите мне голову и ятаган рогушкоя — и вас допустят к службе в Бравой Вольнице». Примерно раз в неделю то один, то другой из отвергнутых добровольцев вламывался в кабинет Финнерака и с презрением кидал к его ногам почерневшую от крови лысую голову и блестящий ятаган. Финнерак без лишних слов сбрасывал пинком голову и ятаган в устроенный с этой целью желоб подвального накопителя — и подписывал документ, освобождавший головореза от ошейника. Никто не знал, сколько неудачников погибло, пытаясь добыть скальп рогушкоя.
Лихорадочная деятельность Финнерака порой заставляла Этцвейна чувствовать себя наблюдателем, а не участником эпохальных событий. Он сознавал, что сложившаяся ситуация могла подорвать его авторитет. Тем не менее, пока делалось все необходимое, у него не было повода вмешиваться. Когда Этцвейн задавал вопросы, Финнерак отвечал кратко, но по существу. Очевидно, любопытство «исполнительного директора» его не радовало, но и не раздражало — факт, сам по себе настораживавший Этцвейна: считал ли Финнерак, что Этцвейн стал лишним колесом в механизме управления?
Октагон Миаламбер организовал «юридические комитеты воздаяния и возмездия» во многих кантонах Шанта. Этцвейн получал отчеты о его реформах из разведывательных источников.
Об успехах Дайстара можно было судить только по слухам. Время от времени то из одного, то из другого города или селения приходили вести: там выступал Дайстар — с гипнотической, величественной импровизацией, окрылявшей всех, кто ее слышал — чтобы на следующий день исчезнуть, как окрик памяти, почудившийся издалека.
Финнерак пропал. Его уже привычная черная фигура не появлялась ни в номерах «Башен язычников», ни в Палате правосудия, ни в походных лагерях добровольцев. Директор Разведывательного управления и создатель Бравой Вольницы как под землю провалился.
Прошло три дня, и он появился. На вопросы Этцвейна о причинах его отсутствия Финнерак сначала пытался вообще не отвечать, проявляя нехарактерную для него уклончивость, но в конце концов заявил, что «решил отдохнуть, проехаться за город и подышать свежим воздухом».
Этцвейн не настаивал, но объяснение Финнерака его не удовлетворило. Неужели в жизни «черного ветрового» появилась женщина? Этцвейн отвергал такую возможность. Кроме того, от внимания Этцвейна не укрылась немаловажная деталь. Финнерак вернулся к работе с прежней энергией, но теперь в его манере руководства чувствовалась едва уловимая нерешительность — как будто он нечто узнал, и новая информация вызывала в нем беспокойство или недоумение.
Как узнать, чем занимается Финнерак, не спрашивая Финнерака? Обратиться в Разведывательное управление? Непростительная глупость. Создать независимое тайное ведомство исключительно с целью слежки за Финнераком? Смехотворно!
На следующий день после возвращения Финнерака из загадочного отпуска Этцвейн посетил мастерские технистов на островах в дельте Джардина. Донейс провел его мимо длинного ряда столов, уставленных оборудованием — здесь изготовляли новые переносные орудия. «Мы не смогли делать снаряды из чистого халькоида 4-1, — говорил Донейс. — Они расширяются почти мгновенно, вызывая недопустимую отдачу. Мы испробовали три тысячи вариантов. Теперь применяется смешанный состав, расширяющийся в десять раз медленнее халькоида 4-1. Соответственно, гаситель отдачи можно заряжать всего лишь десятикилограммовым грузом. Кроме того, «халькоид-пракс» тверже, то есть дольше выдерживает атмосферное трение. Новый снаряд все равно невелик — не больше иглы... Здесь монтируют в прикладах пусковой механизм и проводку... Здесь закрепляют эластичные ленты, предотвращающие выброс амортизирующего груза... Электрет вставляется в затвор... В казенной части размещается цилиндр амортизатора... Механизм проверяется... Здесь, на стрельбище, устанавливаются прицелы. Коррекция траектории по дальности не требуется — снаряд летит по прямой, пока не испаряется. Дальнобойность — больше полутора километров. Хотите попробовать?»
Этцвейн поднял оружие, опустил на плечо увесистую трубу. Желтая точка в оптическом прицеле, прямо по центру, указывала место попадания.
«Вставьте обойму в это гнездо, опустите рычажок предохранительного зажима. Когда вы нажмете на спуск, цилиндр амортизатора слегка ударит по электрету, тот разрядится, игла вылетит. Приготовьтесь к сильной отдаче — масса снаряда ничтожна, но ускорение чудовищно».
Глядя в линзу прицела, Этцвейн навел желтую точку на стеклянную мишень и нажал желтую пусковую кнопку. Тяжелый, грубый толчок заставил его отбежать на пару шагов. Над полигоном сверкнула белая огненная линия, на долю секунды соединившая дуло с разлетевшейся вдребезги мишенью.
Этцвейн осторожно положил трубу на козлы: «Сколько таких орудий вы можете изготовить?»
«Сегодня будет выпущено только двадцать штук, хотя можно было бы собирать и по шестьдесят в сутки. Гасители отдачи — главная причина задержек. Камень недостаточно прочен. Мы просили срочно реквизировать весь металл, какой найдется в Шанте. Но с поставками не торопятся. Заведующий закупкой материалов сообщает, что металл у него есть, но его не на чем перевозить. Заведующий перевозками утверждает обратное. Не знаю, кому верить. В любом случае металла не хватает».
«Я с этим разберусь, — пообещал Этцвейн. — Вы получите металл в ближайшее время. Тем временем хотел бы предложить вашему вниманию задачу иного рода — пару примерно годовалых детенышей-рогушкоев, уже злобных и опасных, уже чутко реагирующих на присутствие женщин. По-моему, полезно было бы узнать, каким образом и в каких обстоятельствах они стимулируются. Другими словами, как рогушкои опознают женщин — визуально, обонятельно, телепатически? Что их возбуждает?»
«Прекрасно вас понимаю — проблема первостепенной важности. Биологи займутся этим тотчас же».
Этцвейн посовещался с эстетом Бризе, заведующим перевозками, затем с Ауном Шаррахом. Донейс правильно описал происходящее: не отрицая перебоев с доставкой металла в Гарвий, оба руководителя обвиняли друг друга в некомпетентности. Этцвейн подробно изучил причины задержек и заключил, что они объяснялись главным образом неправильной очередностью распределения транспортных средств. Аун Шаррах реквизировал все имеющиеся суда, чтобы обеспечить пищевыми продуктами перенаселенные беженцами приморские кантоны.
«Благосостоянием населения пренебрегать нельзя, — сказал Этцвейн Шарраху, — но прежде всего необходимо уничтожить рогушкоев. Иначе все продукты, местные и привозные, скоро будут потреблять одни рогушкои. Следовательно, доставка металла технистам — превыше всего».
«Я немедленно изменю расписание», — сухо ответил Аун Шаррах. Его любезная непринужденность исчезла, в манерах появилась тревожная резкость: «Я делаю все, что могу — но мне не хватает опыта. Учтите, что я занимаюсь не своим делом».
«Мы все занимаемся не своим делом. Я музыкант, Миаламбер — юрист, Финнерак — каторжник, а Бризе — эстет без определенных занятий. Приходится полагаться на врожденное разнообразие способностей».
«Допустим, — кивнул Аун Шаррах. — Слышал, что вы перевернули вверх дном старую Дискриминатуру».
«Там все изменилось. Шант меняется — надеюсь, к лучшему».
Рогушкои заполонили центральный северный и северо-восточный Шант, беспрепятственно бродили почти по всему Кансуму и по большей части Марестия, часто появляясь в Пурпурных каньонах и разоряя кантон Преданий. Они пытались переплыть широкую реку Мауре, чтобы подобраться к Зеленым Утесам, но каждый раз местные ополченцы, выплывая на рыбацких лодках, забрасывали рогушкоев гранатами, начиненными декоксом. В воде рогушкои были беспомощны — людей окрыляла возможность учинить жестокую расправу над вездесущим и непобедимым противником.
Успех, однако, был иллюзорным. Рогушкоев не волновали ни собственные потери, ни ликование ополченцев. После третьей неудачной попытки переправиться вплавь рогушкои промаршировали сорок пять километров вверх по долине Мауре до Опаловой отмели, где глубина реки составляла не больше метра, и стали переходить ее вброд плотной, бесконечно тянущейся колонной. Ясно было, что они намеревались взять штурмом Зеленые Утесы и Одинокий Мыс, сокрушив сопротивление в Гальванде и Глиррисе, и таким образом зажать выжившее население в тиски между наступающим с юго-запада полчищем и рогушкоями, уже обосновавшимися в Азуме. Тем временем были бы уничтожены миллионы мужчин, миллионы женщин оказались бы в плену. Весь северный Шант превратился бы в пепелище, населенное голодными, пожирающими все живое толпами безостановочно размножающихся меднокожих тварей — катастрофа немыслимых масштабов!
Этцвейн совещался с Финнераком, Бризе и Сан-Сейном — выборным военачальником Бравой Вольницы. Примерно две тысячи добровольцев уже получили халькоидные орудия. Эту тяжеловооруженную армию Финнерак планировал направить через Перелог в соболские предгорья Хвана, чтобы удерживать Шемюс и Бастерн и устраивать засады рогушкоям, спускающимся из Дебрей. Северо-восточным Шантом, заявлял Финнерак, приходилось пожертвовать. Он не видел никакой пользы в отчаянных полумерах, обреченных на провал. Впервые Этцвейн не согласился с Финнераком по важному вопросу. Для Этцвейна прекратить сопротивление на северо-востоке означало предать миллионы доверившихся ему людей. Этцвейн объяснил, почему такая идея неприемлема. Финнерак настаивал: «Война безжалостна — да, миллионы погибнут. Но если мы хотим победить, мы должны смотреть смерти в лицо и мыслить стратегически, в масштабах, соизмеримых с размерами катастрофы. Рогушкоев не остановишь истерическими комариными укусами».
«В принципе это верно, — сказал Этцвейн. — С другой стороны, нельзя руководствоваться только принципами и забывать о практических соображениях. Бризе, какие суда стоят в заливе Ракушечных Цветов?»
«Их немного — пакетбот, курсирующий к острову Каменотесов, несколько купеческих парусников, рыбацкие траулеры. По большей части они заякорены в гавани у Приморской крепости».
Этцвейн разложил на столе карты: «Рогушкои совершают бросок на север по долине Мауре. Ополчение задержит их гранатами и пехотными минами. Если ночью мы высадим добровольцев здесь, у деревни Тран, они смогут занять высоты вдоль гряды холмов на подступах к Маурмунду. Колонна рогушкоев окажется под обстрелом между холмами и рекой».
Сан-Сейн внимательно изучил карту: «Не вижу ничего невозможного».
Финнерак крякнул и повернулся в кресле, демонстративно глядя в окно.
Этцвейн обратился к Сан-Сейну: «Соберите добровольцев и спешите к Приморской крепости. Бризе приготовит суда — сразу снимайтесь с якоря и отправляйтесь на восток».
«Сделаем все возможное — но времени в обрез. Мы не опоздаем?»
«Ополчение должно продержаться три дня — любыми способами, во что бы то ни стало. Если ветер не подведет, через три дня вы пристанете к берегу у Трана».
Сорок два судна — баркасы, рыбацкие одномачтовики и траулеры, на каждом по тридцать бойцов Бравой Вольницы — отправились поддержать ополчения северо-восточного Шанта. Сан-Сейн лично командовал операцией. Три дня дул свежий попутный ветер. Вечером третьего дня, однако, наступил штиль. Сан-Сейн был не на шутку раздосадован — он рассчитывал войти в гавань до наступления темноты. На рассвете флот Бравой Вольницы все еще дрейфовал в километре от берега — о любых преимуществах засады и неожиданного нападения можно было забыть.
Проклиная тишину и спокойствие моря, Сан-Сейн рассматривал берег в подзорную трубу — и оцепенел. Увеличительный прибор позволил различить зловещее шевеление, незаметное невооруженным глазом. Таверны и склады, выстроившиеся вдоль пристани Трана, кишели рогушкоями. Ополчение не выдержало натиска. Рогушкои пробились к морю и устроили свою собственную засаду.
Утренний бриз покрыл воды пляшущей рябью. Сан-Сейн созвал суда поближе и отдал новые распоряжения.
Ветер крепчал. Флотилия вошла в гавань Трана — но вместо того, чтобы причаливать к набережной или бросать якорь, суда направились к пологому галечному пляжу поодаль от пристани. Быстро выбравшись на берег, добровольцы растянулись цепью и стали медленно приближаться к прибрежным постройкам, откуда, уже не скрываясь, выглядывали дьявольские рожи рогушкоев.
Рогушкои высыпали наружу, как муравьи из разворошенного муравейника, и хлынули на обширный пляж. Их встретили тысячи узких, ослепительных, шипящих лучей: полчище рогушкоев было уничтожено мгновенно.
Воспользовавшись местным передатчиком Разведывательного управления, Сан-Сейн доложил об исходе операции Этцвейну и Финнераку: «Мы не потеряли ни одного человека и уложили на месте шестьсот тварей. Остальные рогушкои — примерно столько же — отступили в разные стороны, к Маурмунду и вверх по долине реки. Нет никаких сомнений: с халькоидными орудиями можно отстреливать этих бестий, как хромых ахульфов. Но это не все. Мы победили потому, что нам повезло. Если бы мы пристали к набережной ночью, как было задумано, некому было бы докладывать о катастрофе. Рогушкои знали о нашем приближении к Трану — их кто-то предупредил. Кто?»
Этцвейн спросил: «Кому был известен план операции?»
«Только тем, кто ее планировал — четверым».
Этцвейн сидел, глубоко задумавшись. Финнерак хмурился, разглядывая носки сапог.
«Я с этим разберусь! — пообещал Этцвейн. — Тем временем остается только радоваться — мы спасли Северо-Восток. Преследуйте тварей, добивайте их без пощады — но берегите себя, сторонитесь узких оврагов и других мест, удобных для засады. Наконец есть надежда на освобождение!»
Финнерак крякнул: «Гастель Этцвейн, неизлечимый оптимист! Вы видите не дальше своего носа. Рогушкоев подослали, чтобы уничтожить Шант. Неужели вы думаете, что их хозяева и создатели, а именно паласедрийцы, уступят так легко? Грядущее сулит неисчислимые беды».
«Увидим, — отозвался Этцвейн. — Могу сказать только одно: меня еще никто никогда не обзывал оптимистом».
Рассказав Бризе о вылазке добровольцев, Этцвейн попросил эстета назвать возможный источник утечки информации. Тот был ошеломлен и оскорблен до глубины души: «Вы меня спрашиваете, не сообщал ли я кому-нибудь о предстоящей высадке? Вы меня за дурака принимаете? Конечно, нет — абсолютно и безоговорочно — нет!»
«Всего лишь формальность, — извинился Этцвейн. — Но для того, чтобы полностью прояснить ситуацию, задам еще один вопрос: не существовало ли каких-нибудь неизвестных мне договоренностей между вами и ведомством закупки и доставки материалов?»
Бризе не спешил с ответом, тщательно выбирая слова: «Ни в одном из разговоров я не обмолвился о высадке».
Этцвейн чутко воспринимал малейшие оттенки интонаций: «Понятно. Что именно вы обсуждали с Шаррахом?»
«Повседневные дела. Заведующий хотел, чтобы я отправил суда в Освий — по случайности именно в тот день, когда планировалась засада. Я отказал ему, в шутку предложив доставить что-нибудь не из Освия, а из Маурмунда, — Бризе прокашлялся. — Возможно, в каком-то смысле мой намек можно назвать утечкой информации — если бы я не говорил непосредственно с заведующим закупкой материалов».
«Совершенно верно, — кивнул Этцвейн. — Пожалуйста, впредь не позволяйте себе легкомысленных намеков».
На следующий день Финнерак подошел к Этцвейну: «Как насчет Бризе?»
Этцвейн заранее подготовил ответ. Уклоняться или притворяться было не в его характере и только повредило бы делу.
«Бризе заверяет, что не разглашал тайну. Тем не менее, он в шутку предложил Ауну Шарраху доставить грузы на судах, уже стоящих на причале в Маурмунде».
Финнерак громко хмыкнул: «Вот как! Теперь все ясно!»
«К сожалению, сомнений почти не остается. Нужно подумать, что делать дальше».
Финнерак удивленно поднял светлые брови: «О чем тут думать? Что вас останавливает?»
«Серьезные препятствия. Допуская, что Аун Шаррах, подобно Саджарано, сочувствует рогушкоям, мы должны спросить себя: почему? Саджарано и Аун Шаррах родились и выросли в Шанте. Что отличает их от остальных? Стремление к власти? Алчность? В случае Саджарано это невозможно — он располагал абсолютной властью и всеми богатствами страны. Может быть, паласедрийцы приучили его к неизвестному в Шанте наркотику, а потом шантажировали, предоставляя зелье в обмен на услуги? Может быть, им известен какой-то метод телепатического гипноза? Необходимо докопаться до истины прежде, чем нас с вами тоже подвергнут влиянию таинственных чар. В конце концов мы такие же люди, как Шаррах и бывший Аноме».
Рот Финнерака скривился в раздраженной усмешке: «Сходные подозрения часто приходят мне в голову, особенно когда вы необъяснимым образом потворствуете нашим врагам».
«Я никому не потворствую, будьте уверены, — заявил Этцвейн. — Но в данном случае нельзя действовать напролом».
«А кто будет нести ответственность? — возмутился Финнерак. — По вине Ауна Шарраха могли погибнуть двенадцать сотен добровольцев! Он не будет наказан только потому, что вас одолевает любопытство?»
«Его вина не доказана. Убить Шарраха в припадке ярости или на основании одних подозрений значит потерять последнюю возможность выяснить его побуждения!»
«А о добровольцах кто позаботится? — бушевал Финнерак. — Они должны рисковать жизнью, пока в правительстве сидит паласедрийский шпион? Я за них отвечаю. Я обязан их защитить».
«Финнерак, вы отвечаете не перед Бравой Вольницей, а перед главным руководителем Шанта — то есть передо мной! Не судите опрометчиво, не позволяйте эмоциям затмевать рассудок! Объяснимся начистоту. Если вы считаете, что не можете терпеливо способствовать выполнению долгосрочных планов, вам лучше отстраниться от руководства и посвятить себя другому делу». Не отступая под огнем пылающих голубых глаз Финнерака, Этцвейн продолжал: «Я могу ошибаться. В том, что касается Ауна Шарраха, согласен — скорее всего, он виновен. Совершенно необходимо, однако, выяснить, какими мотивами он руководствуется».
Финнерак сказал: «Истина не дороже одной человеческой жизни».
«Откуда вы знаете? — быстро отозвался Этцвейн. — Побуждения Шарраха неизвестны. Как вы можете оценить, сколько человеческих жизней будет спасено, если тайное станет явным?»
«Пустые рассуждения! У меня нет времени, — отмахнулся Финнерак. — Очередь желающих вступить в Бравую Вольницу и сбросить ошейник растет с каждым днем».
Этцвейн ждал этих слов — такой шанс упускать нельзя было: «Согласен, вы перегружены работой. Я назначу кого-нибудь директором Разведывательного управления и подберу вам помощника. Вдвоем будет легче управляться с Вольницей».
Финнерак оскалил зубы: «Я не нуждаюсь в помощи! И разведка, и добровольцы — мои ведомства!»
Этцвейн игнорировал протесты: «Тем временем я буду внимательно наблюдать за Шаррахом — ему не удастся нанести нам ни малейшего вреда».
Финнерак ушел. Этцвейн сидел и думал. Последние события можно было только приветствовать. Миаламбер и Дайстар, каждый по-своему, сумели сплотить кантоны Шанта и создать какое-то подобие единой нации. Теперь упрямство и страстность Финнерака, некогда полезные, превратились в насущную проблему — Финнерака невозможно было контролировать, на него нельзя было даже повлиять...
Из груди Этцвейна невольно вырвался короткий сардонический смешок. Когда, одинокий и испуганный, он с тоской искал преданного, надежного помощника, его внутреннему взору представилось широкое дружелюбное лицо парня с соломенными волосами, стоявшего на платформе Ангвинской развязки. Финнерак, освобожденный Этцвейном в лагере №3, совершенно не соответствовал целям Этцвейна — неуживчивый, непримиримый, неумолимый, неподатливый, беспардонный, своевольный, мстительный, предубежденный, скрытный, мнительный, угрюмый, разочарованный, пессимистичный, неспособный не только к преданности, но и к простому сотрудничеству... даже, возможно, недостойный доверия. Нельзя было отрицать, что Финнерак блестяще организовал Разведывательное управление и Бравую Вольницу — но все это теперь не имело значения.
Изначальные страхи Этцвейна рассеялись. Его собственная судьба уже не имела значения — сопротивление рогушкоям нарастало само собой, как снежный ком, как горный обвал. Новый Шант стал необратимой реальностью. Через двадцать лет, каковы бы ни были последствия освобождения, ошейники можно будет увидеть только в музеях, а характер и вся структура власти Аноме полностью изменятся. Кто станет новым Аноме? Октагон Миаламбер? Дайстар? Сан-Сейн?
Этцвейн встал, подошел к окну, взглянул вниз на площадь Корпорации. Сумерки обволакивали город. Нужно было решить, что делать с Ауном Шаррахом — сегодня же.
Этцвейн вышел из кабинета, спустился по лестнице и вышел из Палаты правосудия. Гарвийцы уже знали о знаменитой победе под Маурмундом — пока Этцвейн переходил площадь, до его ушей доносились обрывки возбужденных разговоров. Но мрачное предсказание Финнерака отравляло его внутреннее ликование — что, если Финнерак прав? Что, если худшее еще впереди?
Этцвейн поднялся к номерам в отеле «Розеале гриндиана», где намеревался принять ванну, пообедать, просмотреть отчеты кантональных разведывательных служб, а потом немного поволочиться — может быть — за Дашаной Цандалее. Он открыл дверь. В гостиной было сумрачно, почти темно. Странно! Кто погасил свет? Этцвейн прикоснулся к панели, возбуждавшей свечение шаров. Свет не зажегся. У Этцвейна кружилась голова. Ничем не пахло, но во рту ощущался непривычный едкий привкус. Шатаясь, Этцвейн добрался до дивана, чтобы прилечь, но сразу испуганно встал и направился к двери. Ноги отказывались слушаться, в глазах чернело. Этцвейн старался найти дверь наощупь, уже дотянулся до засова... Кто-то взял его за руку и повел, поддерживая сзади за плечи, в глубину гостиной.
«Что-то не так, что-то неправильно», — думал Этцвейн. Он чувствовал одновременно тяжесть и пустоту, слабость и напряжение, не мог собраться с мыслями, будто разбуженный дурным сном. Приподнявшись на кушетке, Этцвейн едва не упал от головокружения. Судя по всему, он действительно заснул в неудобной позе, не раздевшись, и видел дурной сон — темноту, немоту, вцепившиеся руки, тихие голоса...
Поднявшись на ноги, Этцвейн подошел к широкому окну — взглянуть на панораму садов «Гриндианы». Как всегда, он проснулся рано утром. Направившись в ванную, он с недоумением обнаружил в зеркале осунувшуюся физиономию, покрытую темной колючей щетиной. Зрачки расширились и потемнели. Этцвейн выкупался, побрился, оделся, спустился в сад и там позавтракал. Почему-то он страшно проголодался и никак не мог напиться... Странно. Потребовав утреннюю газету, Этцвейн взглянул на дату — шристдень? Вчера был заэльдень, значит, сегодня эттадень... Что-то не так.
Медленно перейдя площадь, Этцвейн поднялся по лестнице Палаты правосудия. Взволнованная Дашана выбежала навстречу и удивленно заглянула ему в лицо: «Где вы были? Вас везде ищут, все сбились с ног, не знают, что делать!»
«Срочные дела, — сказал Этцвейн. — Я был в отъезде».
«Три дня? Могли бы меня предупредить», — обиделась Дашана.
«Финнерак тоже отсутствовал три дня, — вспомнил Этцвейн. — Странно!»
Глава 11
В Гарвии царила новая атмосфера — надежды и ликования, смешанных с меланхолией прощания. Кончалась тысячелетняя эпоха мирного благоденствия. Дети больше не носили ошейников. Ожидалось, что по окончании войны ошейники снимут со всех законопослушных граждан. Как будут соблюдаться законы? Сохранится ли дисциплина? Кто будет поддерживать порядок и спокойствие, когда Аноме потеряет единственное средство принуждения? Вопросы эти придавали радостному возбуждению толпы оттенок неуверенности. Неопределенность ситуации нередко заставляла Этцвейна погружаться в долгие, тягостные думы. Он боялся, что новый Аноме, кто бы он ни был, унаследует от него бремя разнообразных и многочисленных проблем.
Дайстар прибыл в Гарвий и явился к Этцвейну: «Я исполнил ваше поручение настолько, насколько позволяют мои способности. Мое дело сделано. Объединение Шанта возможно — Шант не хочет умирать».
Этцвейн почувствовал всю искусственность мучивших его сомнений. Конечно же, Аноме Шанта должен быть человеком с широкими представлениями, с самым богатым воображением.
«Дайстар, — объявил Этцвейн, — ваша задача выполнена. Отныне вас ждет другой подвиг — только вам он по плечу!»
«Сомневаюсь, — ответил Дайстар. — Какой такой подвиг?»
«Вы — новый Аноме Шанта».
«Что?... Чепуха! Я — Дайстар».
Явное пренебрежение друидийна оскорбило Этцвейна в лучших чувствах. Он церемонно произнес: «Все мои помыслы — только о будущем Шанта. Кто-то должен занять место Аноме. Я считаю, что сделал лучший возможный выбор».
Дайстар отвечал полунасмешливо, но уже мягче, выбирая выражения: «У меня нет ни желания, ни возможности вмешиваться в чужие дела. Кто я такой, чтобы судить волокрадов или облагать налогами свечные заводы? Облекать меня властью опасно — я тут же займусь дикими разорительными проектами, стану строить башни выше облаков, закажу увеселительные баржи длиной два километра, чтобы престарелые музыканты могли в царской роскоши любоваться пейзажами Бельджамарского архипелага, снаряжу экспедиции в Караз на поиски Затерянного Царства. Нет, Гастель Этцвейн! Воображение заставляет вас забыть о практических нуждах — с музыкантами это случается сплошь и рядом. Назначьте на пост Аноме мудреца Миаламбера — а лучше всего не назначайте никого. Какой смысл в единоличном правлении, если никому нельзя оторвать голову?»
«Пусть так, — сказал Этцвейн, все еще обиженно. — Тем не менее — возвращаясь к практическим нуждам, забытым по вине моего буйного воображения — кто и как будет править страной? Кто будет приказывать и наказывать?»
Дайстар потерял интерес к разговору: «Этим пусть занимаются специалисты — те, кому не лень разбираться в тяжбах и дрязгах... А мне пора на покой. Поеду в Шкорий, займусь ремонтом усадьбы. Играть я больше не могу, с музыкой покончено».
Этцвейн изумленно наклонился вперед: «Не может быть! Вы шутите! Что заставляет вас прекратить выступления?»
Дайстар улыбнулся, пожал плечами: «Я избавился от ошейника. Я познал опьянение свободы — и ее неизбывную печаль».
«Гмм... да. Прошу вас, Дайстар, не уезжайте в Шкорий, чтобы торчать в одиночестве на веранде и предаваться мыслям о смерти и человеческом ничтожестве. Там вы только сопьетесь. Что может быть глупее и бесполезнее? Лучше найдите Фролитца и поиграйте в труппе. Общество неисправимых музыкантов скоро исцелит мировую скорбь, уверяю вас!»
«Вы правы, — сказал Дайстар. — Так и сделаю. Благодарю за совет».
Сыновнее признание готово было сорваться с языка Этцвейна. Секунды длились вечно. Он пробормотал: «Хотел бы я уйти вместе с вами!» Когда-нибудь, после веселого ужина в далекой таверне, когда вино польется рекой и развяжутся языки, Фордайс, Мильке, Кьюн — или даже старый болтун Фролитц — поведают Дайстару всю правду о Гастеле Этцвейне.
Дайстар ушел своей дорогой. Отвлеченный праздными умственными упражнениями, Этцвейн пытался представить себе гипотетическое правительство, способное служить Шанту не хуже мудрого и решительного Аноме. Мало-помалу теоретическое построение заинтересовало его. Он совершенствовал и уравновешивал сложную эфемерную модель, пока в голове не возникло нечто законченное, целесообразное, и в то же время более или менее осуществимое.
Этцвейн предусмотрел два взаимодействующих правительственных органа. В первый, Совет Патрициев, входили бы заведующий перевозками, заведующий развитием торговли и экономики, директор управления связи, главный законодатель, главный судья, начальник вооруженных сил, гарвийский эстет, музыкант, ученый, историк, двое выдающихся деятелей или знаменитостей и два человека, назначенные вторым советом. Будучи однажды сформирован, Совет Патрициев продолжал бы функционировать автономно, выбирая и исключая патрициев большинством в две трети голосов, но не меняя первоначально установленный состав собрания. Один из членов Совета Патрициев назначался бы большинством в две трети голосов на должность Верховного Хранителя Шанта — на три года или до преждевременного смещения таким же большинством.
Второй орган, Совет Кантонов, состоял бы из представителей всех шестидесяти двух кантонов и дополнительных делегатов крупнейших городов: Гарвия, Брассей, Масчейна, Освия, Ильвия и Порт-Верна.
Совет Кантонов мог предлагать законы и экстренные меры на рассмотрение Совета Патрициев; кроме того, Совет Кантонов мог исключить любого члена Совета Патрициев большинством в две трети голосов. Отдельная Коллегия Справедливости гарантировала бы равноправие всех граждан Шанта перед законом. Главный законодатель и главный судья, заседающие в Совете Патрициев, выбирались бы, соответственно, юридической и судейской коллегиями.
Этцвейн созвал на совещание Миаламбера, Донейса, Сан-Сейна, Бризе и Финнерака, чтобы предложить свою модель правительства. Все согласились с тем, что проект заслуживал по меньшей мере кратковременного опробования. Серьезные возражения выдвинул только Финнерак: «Вы упускаете из вида то обстоятельство, что магнаты Шанта, построившие благосостояние на страданиях и унижениях крепостных, все еще безнаказанно попирают всякое представление о справедливости. Разве принцип возмещения ущерба не должен быть заложен в основу новой общественной системы?»
«Определением размеров справедливого возмещения, в каждом индивидуальном случае, могут заниматься суды. Такова одна из важнейших функций системы правосудия», — сухо отозвался Этцвейн.
Финнерак не унимался: «Кроме того, с какой стати один человек вынужден гнуть спину, чтобы заработать кусок хлеба, а другой сибаритствует, перебирая в воздухе холеными пальцами под звуки музыки и набивая утробу обедом из сорока пяти блюд? Предметы роскоши и услуги следует разделить поровну — в стране всеобщего равноправия закон должен гарантировать всеобщее благосостояние».
На это требование откликнулся Миаламбер: «Сострадание неимущим делает вам честь. По этому поводу можно заметить только одно — попытки радикального перераспределения собственности неоднократно предпринимались в прошлом и неизменно приводили к хаосу и жестокой тирании того или иного рода. Таков урок истории, и мы не вправе им пренебрегать».
Финнерак замолчал и впредь отказывался высказывать какие-либо мнения.
Семь рот Бравой Вольницы, усиленные отрядами воодушевленного успехами ополчения, наступали на рогушкоев четырьмя широкими фронтами. Рогушкои, теперь легко уязвимые, приспосабливались к новым условиям, передвигаясь преимущественно по ночам, скрываясь в лесах и пустынных каньонах, устраивая неожиданные, часто отчаянно рискованные набеги в поисках женщин. Неохотно, с тяжелыми потерями, рогушкои отступили от берегов, возвращаясь в Дебри через Марестий и кантон Преданий.
Главный технист Донейс явился к Этцвейну с отчетом: «Мы тщательно изучили детенышей рогушкоев. При ближайшем рассмотрении они оказались весьма необычными существами, физиологически чуждыми природе Земли и Дердейна. Трудно понять, почему внешне они вообще напоминают людей. Тем не менее, для размножения им требуются женщины, то есть они не могут существовать, не паразитируя на человеке. Интересно было бы знать, где и в каких обстоятельствах могли развиться столь специализированные паразиты?»
«В Паласедре — предположительно».
«Вероятно. Паласедрийцы давно пытались вывести породу послушных солдат. Моряки из Караза рассказывают, что похожих тварей видели в глубине северного континента. Каким образом они рассредоточились по всей планете? Еще одна загадка».
«Вам удалось выяснить, как рогушкои распознают женщин?»
«Очень просто. Их привлекает одно из характерных женских испарений. При появлении в воздухе малейших следов этого выделения рогушкой безошибочно и прямолинейно направляется к источнику запаха, как ахульф к гниющей падали. Инстинкт удовлетворения похоти настолько силен, что рогушкоев не останавливают никакие препятствия».
Бравая Вольница насчитывала уже пять с половиной тысяч бойцов. Финнерак замкнулся в себе пуще прежнего, сосредоточенный исключительно на сиюминутных задачах. Не находящая выхода ненависть бушевала в нем, как пламя в тесной печи. Тревожные предчувствия Этцвейна соответственно обострились. Для того, чтобы ограничить власть Финнерака, Этцвейн разделил сферу руководства вооруженными силами на пять секторов. «Черный Ветровой» стал главным стратегом, Сан-Сейн — фельдмаршалом. Учреждены были также посты заведующего снабжением армии, заведующего вербовкой и подготовкой рекрутов и суперинтенданта арсенала.
Финнерак обжаловал новое распределение полномочий с холодной яростью: «Вы только тем и занимаетесь, что суете палки в колеса! Вместо одного Аноме решили завести сотню интриганов-политиков, вместо одного ответственного и эффективного командира назначаете комитет из пяти человек. Разумно ли это? Целесообразно ли это? Ваша деятельность опасна, ваши побуждения подозрительны!»
«Мои побуждения предельно ясны, — отвечал Этцвейн. — Один Аноме больше не может контролировать Шант, для этого требуется сотня людей. Война с рогушкоями, армии Шанта, их стратегия, тактика и цели — тоже слишком сложны, чтобы их можно было поручить одному человеку».
Финнерак снял черную шляпу и швырнул ее в угол: «Вы меня недооцениваете».
«Ни в коем случае, уверяю вас!»
Несколько секунд двое смотрели друг другу в глаза с откровенной неприязнью. Этцвейн сказал: «Присядьте на минуту, я хотел кое-что у вас спросить».
Финнерак опустился на диван, откинулся на спинку и сложил вытянутые ноги в черных сапогах на драгоценном ковре из Буражеска: «Что вас интересует?»
«Несколько недель тому назад вы исчезли на три дня. Вернувшись, вы не смогли дать вразумительного объяснения своему отсутствию. Что случилось?»
Финнерак недовольно крякнул: «Пустяки».
«Напротив, это может иметь большое значение, — возразил Этцвейн. — Недавно, когда я вечером поднялся к себе в номера, меня усыпили каким-то газом — насколько я понимаю. Я очнулся через три дня и не помню ничего, что происходило все это время. Может быть, нечто подобное сделали и с вами?»
«Что-то в этом роде», — неохотно кивнул Финнерак. Казалось, он говорил через силу.
«Замечаете ли вы какие-нибудь последствия? Чувствуете ли вы себя так же, как раньше, до трехдневной спячки?»
Опять Финнерак медлил с ответом: «Конечно, нет никаких последствий. Разве вы чувствуете что-нибудь необычное?»
«Нет. Абсолютно ничего».
Финнерак удалился. Этцвейн так и не сумел понять, что происходило в голове «главного стратега». У Финнерака не было очевидных слабостей, он не стремился к комфорту или богатству, не пил, не интересовался женщинами, его не привлекали маленькие радости жизни. Этцвейн не мог сказать того же о себе — хотя, сознавая опасность распущенности, старался вести себя скромно и придерживаться более или менее строгих нравов. По своей инициативе или отвечая на его приглашения — они не обсуждали этот вопрос — Дашана Цандалес стала его любовницей. Удобное положение вещей устраивало Этцвейна. В свое время, после его возвращения на музыкальное поприще, ситуация, конечно, могла измениться.
Однажды утром Сан-Сейн, командовавший фронтовыми операциями, вошел в кабинет Этцвейна со свертком карт. «Представилась многообещающая возможность, — заявил он. — Рогушкои разбиты. Оставшиеся в живых быстро отступают к Хванским Дебрям. Одна большая орда движется через Аскалон и Шемюс, другая вытеснена из Феррия в Бастерн, а третья, не останавливаясь, промаршировала через Кансум, углубилась в Южный Марестий и направляется к Бундорану. Вы видите, куда все они стягиваются?»
«Если рогушкои собираются вернуться в Дебри, скорее всего, они поднимутся по долине Сумрачной реки».
«Совершенно верно. У меня появился план — я обсуждал его с Финнераком, и он его одобрил. Допустим, продолжая подгонять рогушкоев периодическими вылазками с тыла и флангов, чтобы им не пришло в голову остановиться или куда-нибудь повернуть, мы устроим западню в теснине ущелья Сумрачной реки».
«Так-то оно так, — почесал в затылке Этцвейн, — но каким образом вы переправите добровольцев в ущелье?»
«Смотрите: вот линия воздушной дороги, вот роза ветров. Если мы погрузим добровольцев на сорок гондол в Освии и отцепим их от кареток, в свободном полете они достигнут ущелья Сумрачной реки примерно за шесть часов. Ветровым достаточно высадить отряды в районе ущелья, после чего порожние гондолы отнесет на юг, к ветке Большого Поперечного хребта».
Этцвейн думал: «Заманчивая идея. Но погода в Бастерне капризна. Я родился в Башоне и помню, что ветер дует по долине Сумрачной реки то вверх, то вниз, независимо от сезона и времени суток. Вы уже говорили с метеорологами?»
«Еще нет. Я руководствовался только розой ветров на карте».
«Слишком рискованное предприятие. Что, если ветер вообще стихнет? Так бывает. Сорок гондол с тяжело вооруженными бойцами застрянут в глубине Дебрей. Лучше уж планеры, а не гондолы», — Этцвейн внезапно вспомнил о строительстве планеров в кантоне Верн. Он еще немного подумал, наклонился над картой: «Теснина Сумрачной реки — самый очевидный маршрут. Предположим, рогушкои заранее узнают о засаде. Тогда они повернут в Башоне на запад и минуют Козан прежде, чем снова подниматься на юг, в Дебри. А мы без всякого труда можем высадить добровольцев в Козане — ветка воздушной дороги проходит всего лишь в тридцати километрах к западу. Здесь, на Козанском обрыве, мы и приготовим засаду!»
«Как предупредить рогушкоев о засаде у Сумрачной реки, чтобы они повернули к Козану?»
«Предоставьте это мне. Попробую сделать так, чтобы ложная информация ненавязчиво просочилась. Если все получится, рогушкои будут истреблены. Если нет, наши отряды по меньшей мере могут не опасаться предательской атаки. Вас я убедительно прошу никому — никому вообще! — не говорить об отмене операции в теснине Сумрачной реки. Новый план должен быть известен только вам и мне. Соберите добровольцев в Освии, посадите их в гондолы — но вместо того, чтобы отцеплять гондолы от кареток, проследуйте по воздушной дороге на юг. Высадитесь в Шемюсе, сделайте марш-бросок на запад и устройте засаду на Козанском обрыве».
Сан-Сейн кивнул и ушел. Механизм контршпионажа пришел в движение. Снова, как и в прошлый раз, источником утечки информации должен был стать эстет Бризе, часто совещавшийся с Ауном Шаррахом.
Этцвейн подошел к телефону и вызвал радиста Разведывательного управления: «Свяжитесь с Пельмонтом в кантоне Верн. Потребуйте, чтобы главный управляющий явился в местное отделение радиосвязи и сообщите мне о его прибытии».
Через час в кабинете Этцвейна раздался голос главного управляющего Верна. Этцвейн спросил: «Вы помните Гастеля Этцвейна, помощника Аноме, проезжавшего через Верн несколько месяцев тому назад?»
«Конечно, помню».
«Тогда я порекомендовал вам строить планеры. Какие успехи достигнуты в этом направлении?»
«Мы выполнили поручение и соорудили планеры, подражая лучшим образцам. По окончании сборки первой дюжины аппаратов процесс несколько замедлился, так как мы не получали никаких дальнейших указаний».
«Продолжайте сборку как можно быстрее. Я пошлю в Пельмонт бригаду технистов. Они оснастят аппараты оружием и механизмами для сбрасывания бомб».
«А пилотов вы не пришлете?»
«В Гарвии нет пилотов».
«Значит, их нужно обучить. Наберите отряд сообразительных молодых людей, пусть приезжают в Пельмонт. Их обучат, после чего они смогут доставить планеры туда, где потребуется бомбардировка».
«Так и сделаем. Рогушкои отступают благодаря таким, как вы. За несколько месяцев мы многого добились».
Глава 12
Бризе говорил Этцвейну: «Согласно вашим инструкциям я ненароком сообщил Ауну Шарраху о засаде в ущелье Сумрачной реки. Должен заметить, что поручения такого рода мне не по душе».
«Поверьте, я тоже не выношу закулисные интриги. В данном случае, однако, брезгливость неуместна — под угрозой тысячи добровольцев, если не исход всей войны. Остается только ждать дальнейших событий».
Этцвейн получал отчеты каждый час. Плотная колонна рогушкоев, сформированная четырьмя объединившимися бандами, отступившими из разных кантонов — все, что осталось от захватчиков, терроризировавших и опустошавших северо-восточный Шант — маршировала на юг вверх по долине Сумрачной реки в сопровождении неизвестного числа захваченных женщин. Добровольцы, верхом на быстроходцах, не давали рогушкоям передышки, совершая вылазки с тыла и с флангов. При этом в результате контрманевров противника Бравая Вольница несла заметные потери — там, где прошла колонна, земля была усеяна трупами рогушкоев, но среди них попадались и человеческие тела.
Орда приблизилась к Башону, где храм хилитов, обезлюдевший и забытый, уже начинал потихоньку разваливаться.
Когда голова колонны показалась на Аллее Рододендронов, рогушкои остановились. Шестеро атаманов, выделявшиеся нагрудниками из кольчуги, посовещались, вглядываясь в ущелье Сумрачной реки, ведущее к туманным склонам далекого Хвана. Решение не заставило себя ждать — характерным шагом вприпрыжку на полусогнутых ногах колонна рогушкоев двинулась на запад по аллее, под тенистыми кронами огромных рододендронов. Получив сообщение из Башона, Этцвейн вспомнил мальчишку по имени Мур, одиноко рисовавшего узоры в теплой белой пыли под деревьями. В конце Аллеи Рододендронов, когда перед ними открылись просторы западного Бастерна и Шемюса, атаманы снова задержались. По всей колонне, цепочкой, был передан новый приказ. Две дюжины бойцов, замыкавшие шествие, разошлись и спрятались в кустах по обеим сторонам дороги. Их ятаганы, по существу, лишали кавалерию возможности преследовать колонну рогушкоев по пятам — теперь добровольцам приходилось отступить и обогнуть аллею с севера или с юга.
Сойдя с главной дороги, рогушкои отправились наискосок к югу, в предгорья Хвана. Над ними возвышался Козанский обрыв — далеко выступающее пологое плечо горного кряжа, обрывающееся утесами светло-серого известняка, испещренными древними кельями и туннелями.
Рогушкои приближались к основанию утесов. С запада появилась рота Бравой Вольницы, а с востока подоспела кавалерия, ранее обстреливавшая колонну с тыла. Перейдя на бег трусцой, рогушкои спешили к Хвану, растянувшись всей колонной под Козанским обрывом. Из пещер и трещин утесов снопами брызнули яркие нити халькоидных снарядов. С востока открыла огонь кавалерия. С запада обрушился другой ослепительный шквал.
Большие плакаты — лиловый, зеленый и голубой текст на белом фоне — объявляли о создании нового правительства Шанта:
«Бравая Вольница освободила страну. Население радостно празднует единение Шанта.
Аноме милостиво уступает власть открытому для всех и ответственному перед всеми правительству, состоящему из Пурпурной палаты патрициев и Зеленой палаты кантонов.
Новое правительство уже издало три манифеста.
Ошейников больше не будет!
Система выплаты крепостных задолженностей радикально изменяется!
Религиозным режимам запрещается совершать уголовные преступления!
В состав первой Пурпурной палаты вошли следующие лица...»
В объявлении перечислялись имена патрициев и порученные им функции. Гастель Этцвейн назначался главным исполнительным директором, Джерд Финнерак — его первым помощником, Сан-Сейн — командующим вооруженными силами.
Ведомство Ауна Шарраха занимало верхний этаж древнего здания из синего и белого стекла за площадью Корпорации, почти под склонами Ушкаделя. Просторный кабинет заведующего закупкой и доставкой материалов был подчеркнуто лишен какой-либо мебели, кроме стола и одного стула. Высокая северная стена состояла исключительно из прозрачных стеклянных панелей. Стол находился в центре помещения. Аун Шаррах сидел лицом к прозрачной стене, открывавшей панораму всего Гарвия под необъятным небом. Когда Этцвейн и Финнерак вошли в кабинет, Шаррах вежливо кивнул и поднялся на ноги. Молчание длилось секунд пять — каждый из троих многозначительно стоял в характерной позе, как актер на огромной сцене пустого светлого помещения.
Этцвейн выступил с формальным обвинением: «Аун Шаррах, мы вынуждены заключить, что вы намеренно действовали вопреки интересам Шанта».
Аун Шаррах улыбнулся так, будто Этцвейн сделал ему комплимент: «Трудно угодить всем и каждому».
Финнерак медленно шагнул вперед, но передумал — отступил и ничего не сказал.
Этцвейн, слегка озадаченный невозмутимым дружелюбием Шарраха, продолжал: «Факт вашего преступления установлен. Тем не менее, остаются загадочными ваши мотивы. Чего вы хотели добиться, какие цели вы преследовали, поддерживая рогушкоев?»
Аун Шаррах все еще улыбался — по мнению Этцвейна, странной улыбкой: «Вы можете доказать мою вину?»
«Безусловно. За вами вели тщательное наблюдение в течение нескольких месяцев. Вы поручили Ширге Хиллену убить меня в лагере №3. Вы приказали шпионам следить за моими передвижениями. В качестве заведующего закупкой и доставкой материалов вы в нескольких случаях существенно подорвали подготовку к военным действиям, сосредоточив трудовые и материальные ресурсы на выполнении второстепенных задач. Под деревней Тран, в кантоне Зеленые Утесы, подстроенная вами засада не привела к уничтожению Бравой Вольницы только по счастливой случайности. Битва под Козанским обрывом дала окончательное подтверждение вашей вины. Вас проинформировали о том, что добровольцы займут позиции в ущелье Сумрачной реки, после чего рогушкои изменили маршрут отступления — и были истреблены. Нет сомнения в том, что вы предали Шант. Неясными остаются только ваши побуждения».
Снова наступило молчание — трое неподвижно стояли посреди огромного пустого помещения.
«Пожалуйста, не спешите, — мягко сказал Аун Шаррах. — Вы обрушили на меня такой град нелепых домыслов, что у меня кружится голова и дрожат колени». Этцвейн и Финнерак продолжали стоять. Аун Шаррах присел к столу, взял перо и бумагу: «Будьте добры, повторите ваши обвинения».
Этцвейн выполнил его просьбу. Шаррах составил список: «Пять утверждений, совершенно безосновательных и бессмысленных. К сожалению, на протяжении человеческой истории очень многие поплатились жизнью за легкомыслие и чрезмерное усердие своих судей».
Этцвейн начинал чувствовать себя глупо: «Значит, вы отрицаете свою вину?»
Аун Шаррах снова улыбнулся странной улыбкой: «Правильнее было бы спросить: можете ли вы доказать какое-либо из ваших обвинений?»
«Можем», — сказал Финнерак.
«Очень хорошо, — спокойно кивнул Аун Шаррах. — Рассмотрим каждое из утверждений по отдельности. Но прежде всего предлагаю позвать юриста Миаламбера — ему хорошо известны критерии оценки достоверности показаний — а также заведующего перевозками Бризе».
«Не возражаю, — сказал Этцвейн. — Пойдемте ко мне в управление, в Палату правосудия».
Вернувшись в кабинет, где он работал много лет, Аун Шаррах жестом пригласил присутствующих сесть, будто приветствовал подчиненных, явившихся на собеседование, и обратился к Миаламберу: «Не прошло и получаса с тех пор, как ко мне пришли Гастель Этцвейн и Джерд Финнерак. Они предъявили мне пять обвинений, настолько абсурдных, что я усомнился в их способности здраво рассуждать».
Шаррах развернул список: «Первое обвинение — в том, что я известил Ширге Хиллена о предстоящей инспекции исправительного лагеря Гастелем Этцвейном — не более чем голословное подозрение, точнее говоря, злостная клевета, потому что Этцвейн даже не пытался найти альтернативное объяснение происшедшему. Я рекомендовал ему расследовать деятельность воздушно дорожного управления. Он пренебрег моим советом. Я самостоятельно навел справки, воспользовавшись старыми знакомствами — уже через двадцать минут мне удалось узнать, что некий Парвей Харт в самом деле направил несдержанное и весьма двусмысленное сообщение, позволявшее Ширге Хиллену свободно истолковать полученное от начальства предупреждение, в том числе рассматривать его в качестве приказа ликвидировать Гастеля Этцвейна по прибытии в лагерь. Я могу представить три неопровержимых доказательства: допросив Парвея Харта, допросив его подчиненного, передавшего сообщение из радиостанции воздушной дороги, и предъявив копию сообщения, хранящуюся в архиве воздушнодорожного управления.
Пункт второй: меня обвиняют в том, что я приказал шпионам следить за Гастелем Этцвейном. Обвинение основано на показаниях агента, выполнявшего поручение второстепенной важности. Я не отрицаю, что давал такое поручение. Тем не менее, будучи главным дискриминатором, я собирал информацию обо всех людях, представлявших интерес. Я заявляю, что выполнение профессиональных обязанностей нельзя считать преступлением.
Пункт третий: занимая должность заведующего закупкой и доставкой материалов, я несколько раз сорвал подготовку военных операций. Сотни раз мои действия способствовали успеху военных действий. Несколько раз я потерпел неудачу. Я жаловался Гастелю Этцвейну на то, что у меня нет достаточных способностей и опыта для выполнения навязанных мне непривычных функций. Он упрямо игнорировал мои доводы. Если мои действия нанесли ущерб вооруженным силам, в этом повинен исключительно Гастель Этцвейн. Я сделал все, что мог.
Пункты четвертый и пятый: утверждается, что я подстроил засаду рогушкоев в Тране и предупредил рогушкоев о засаде добровольцев в ущелье Сумрачной реки — во втором случае не подозревая, что получил заведомо ложные сведения. Несколько дней тому назад заведующий перевозками Бризе попросил меня зайти к нему в кабинет. Бризе вел себя странно. Смущаясь и краснея, он состряпал невероятную историю, явно только для того, чтобы неуклюже намекнуть на подготовку засады в ущелье Сумрачной реки. Я человек от природы подозрительный, у меня большой опыт расследования интриг. Я понял, что меня пытаются поймать на удочку, и сразу заявил об этом Бризе. Более того, я настоял на том, чтобы Бризе не оставлял меня в одиночестве ни на одну секунду, ни днем, ни ночью, до тех пор, пока не станет совершенно ясно, что я никому не передал доверенную мне тайну. Я убедил Бризе в том, что в наблюдении за мной состоял его долг перед Шантом, что, исключив меня, можно было определить, кто из руководителей страны в действительности работает на рогушкоев. Но для этого требовалось продемонстрировать мою невиновность так, чтобы не могло возникнуть никаких сомнений. Бризе — разумный и честный человек, он согласился с моим анализом ситуации. А теперь позвольте спросить вас, Бризе: на протяжении периода времени, начавшегося с разговора в вашем кабинете и закончившегося истреблением рогушкоев под Козанским обрывом, информировал ли я кого бы то ни было о чем бы то ни было?»
«Нет, — коротко ответил Бризе. — Вы провели два дня в моем кабинете, в моем обществе и в обществе моих доверенных помощников. При этом вы ни с кем, кроме меня, не говорили, и не упоминали о засаде в присутствии посторонних».
«Когда поступили известия о Козанской битве, — продолжал Шаррах, — Бризе счел необходимым сообщить мне, что, по его мнению, подозрение пало на меня по его вине. Он рассказал о своей беседе с Гастелем Этцвейном.
Теперь стало ясно, что меня связали с засадой в Тране на основании одного вопроса и одного ответа. Я спросил: может ли Бризе отправить грузовые суда в Освий? Он ответил: нет, но если что-нибудь требуется привезти из Маурмунда, скоро представится такая возможность. Этот обмен фразами послужил первой и основной причиной обвинения в государственной измене. Гастель Этцвейн пришел к выводу, что Аун Шаррах предупредил рогушкоев о предстоящей высадке Бравой Вольницы в Тране. Далеко идущий вывод, но возможный — если бы не одно второстепенное обстоятельство, снова упущенное Гастелем Этцвейном. Координируя перевозки материалов, Бризе и я тысячи раз сталкивались с дефицитом транспортных средств. Вместо того, чтобы вести бесконечные споры, мы выработали ироническую манеру краткого обсуждения проблемы. Я спрашивал: нельзя ли срочно отвезти грузы, ожидающие отправки там-то и там-то? Бризе отвечал: нет, это невозможно, но если что-то нужно привезти из другого места, где транспорта более чем достаточно, он к моим услугам. Бризе, я правильно описываю ситуацию?»
«Правильно, — Бризе поежился, будто ему снег попал за шиворот. — Подобный обмен вопросами и ответами происходил несколько раз в день. Аун Шаррах не мог бы придать особое значение отсутствию грузовых судов в Освии и их наличию в Маурмунде, даже если бы интересовался перемещениями Бравой Вольницы. Я сообщил о содержании нашего разговора Гастелю Этцвейну только потому, что он требовал дословного отчета, но не сумел объяснить ему, в каком контексте было упомянуто местоположение судов».
Аун Шаррах спросил Этцвейна: «Есть еще какие-нибудь обвинения?»
Этцвейн смущенно рассмеялся: «Нет. Совершенно ясно, что я неспособен составить разумное суждение о чем-либо и о ком-либо. Приношу глубочайшие извинения и обещаю сделать все возможное, чтобы возместить нанесенный ущерб. Мне следует серьезно подумать о выходе в отставку. Пурпурная палата — не для меня».
Октагон Миаламбер неприветливо оборвал его: «Вопрос не заслуживает обсуждения. У нас нет времени на экстравагантное самобичевание».
«Позволю себе добавить только одно, — сказал Этцвейну Аун Шаррах. — Вы упомянули о возмещении ущерба. Если вы не пошутили, разрешите мне вернуться к прежней работе. Верните мне Дискриминатуру».
«В той мере, в какой это зависит от меня, она ваша, — развел руками Этцвейн, — то есть все, что от нее осталось. Финнерак перевернул Дискриминатуру вверх дном».
Рогушкоев загнали обратно в Дебри — на какое-то время военные действия приостановились. Совещаясь с Этцвейном, Финнерак подытожил свою оценку ситуации: «Враг засел в горах, как в неприступной крепости. Мы контролируем полосу предгорий шириной тридцать километров. В глубине Хвана рогушкои беспрепятственно размножаются, перевооружаются, реорганизуются и, надо полагать, вынашивают новые планы».
Этцвейна занимали другие мысли: «Мы захватили тысячи ятаганов из неизвестного в Шанте сплава. Откуда рогушкои получают столько драгоценных металлов? Никто не видел в Хванских Дебрях никаких плавилен или кузниц. Непостижимо!»
Финнерак безразлично кивнул: «Дальнейшая стратегия очевидна. Необходимо организовать все способное носить оружие население и постепенно оккупировать Хван. Предстоит грязная, долгая, утомительная работа. Вы видите иной выход?»
«Пока не вижу», — вздохнул Этцвейн.
«Тогда очистим горы от нечисти, вытесним остатки орды в Паласедру! Пусть паласедрийцы посмеют еще раз сунуться в Шант!»
«Вы допускаете, что во всем виноваты паласедрийцы, что еще не доказано».
«Разве это не ясно?» — Финнерак широко открыл глаза.
«Разве не ясно было, что Аун Шаррах — предатель? Я хорошо выучил свой урок».
Глава 13
Летняя передышка затянулась — наступила долгая благодатная осень, а война не возобновлялась. Шант залечивал раны, оплакивая умерших и похищенных, наращивая боевую мощь. Бравая Вольница, теперь многочисленная и пустившая корни по всей стране, разделилась на региональные корпуса, стратегически и материально поддерживаемые кантональными ополчениями. Оружие массовым потоком сходило с конвейеров сборочных цехов в Шранке; амортизирующие грузы халькоидных орудий штамповали из металла, полученного из расплавленных ятаганов.
Планеры вылетали из Верна — легкие, как мотыльки, аппараты-этажерки. Особое подразделение Бравой Вольницы теперь называлось «Эскадрильей Шанта». На первых порах пилоты тренировались в суматошном беспорядке — никто ничего толком не знал и не умел. Многие разбились; выжившие стали инструкторами и учили других. В силу необходимости летчики Эскадрильи превратились в опытную, сплоченную группу. Естественно, они гордо демонстрировали презрение к смерти, совершая дерзкие виртуозные полеты.
Технисты разработали новое страшное оружие, чтобы вооружить планеры: упрощенный вариант халькоидной пушки без груза-амортизатора. Снаряд состоял из двух частей — халькоидного заряда и металлического патрона. Заряд выстреливался вперед из ствола, открытого с обоих концов, а патрон отбрасывало назад. В сущности орудие стреляло в обоих направлениях, благодаря чему полностью устранялись отдача и необходимость амортизации. Патрон, выброшенный в воздух из орудия, установленного на планере и стрелявшего вниз, как правило, не наносил вреда. На земле такие пушки становились недопустимо опасными.
Перед тем, как посылать летчиков расстреливать и бомбардировать рогушкоев, Финнерак заставлял их отрабатывать тактические маневры, методы точного сброса бомб и навыки безопасного обращения с халькоидными орудиями.
Планеры сразу же вызвали у Финнерака страстный интерес. Он скоро научился летать и отказался от поста «главного стратега» Бравой Вольницы, чтобы взять на себя командование Эскадрильей — чем почти не удивил Этцвейна.
К середине осени наземные войска начали подниматься по склонам Хвана, освободив Суррум и Шкорий и оттесняя рогушкоев на запад из Кансума, кантона Ведьминой горы и Лор-Асфена. Второе крыло пехоты двигалось с севера через Бастерн, Шемюс и Бундоран, постепенно углубляясь в Дебри. Другие подразделения стягивались на юге и на востоке, в кантоне Теней и Соболе, проникая в окрестности горы Миш, где рогушкои оказывали яростное сопротивление. Но для пришельцев все уже было потеряно. Обученные ахульфы выслеживали стойбища меднокожих тварей, после чего неукротимых бойцов бомбили или косили шквальным огнем из автоматических шестиствольных халькоидных «метел».
Кроме того, рогушкоев приманивали в западни ароматическим веществом, имитировавшим «женский запах» — неспособные сопротивляться инстинкту, человекоподобные паразиты шли на верную гибель, скапливаясь вокруг приманки копошащейся толпой, как безмозглые насекомые. Однажды летчики произвели эксперимент и распылили над лагерем рогушкоев раствор того же вещества. Ужасные результаты не заставили себя ждать. Приведенные в замешательство противоречивыми обонятельными и зрительными стимулами, рогушкои мгновенно передрались, сначала оглушая друг друга ударами кулаков, потом круша черепа шиповатыми палицами — в живых осталось только несколько особей. Вести о новом способе уничтожения врага сразу опубликовали в газетах. С тех пор над Дебрями часто летали планеры, вооруженные не бомбами с декоксом, а контейнерами с раствором искусственного концентрата женских феромонов.
Ахульфов, наконец, догадались послать на разведку маршрута доставки рогушкоям металлических котлов и ятаганов. Оказалось, что их несли откуда-то из просторов Большой Соленой топи по болотам кантона Шкер, затем через дремучий, труднопроходимый лес дождевых деревьев и зонтичных дарабов, вверх по склонам Стонущих гор — в дебри Хвана.
Военное командование решило отрезать рогушкоев от источника поставок, расположив цепь укрепленных постов вдоль южной границы лесистых предгорий. Финнерак настаивал на более агрессивной реакции: «У нас есть неопровержимое доказательство вины паласедрийцев. Чего мы ждем? Соленая топь — не препятствие. Сколько горя и разрушений они причинили! Пусть отведают своего лекарства!»
Командиры хмурились, сидя в креслах вокруг стола, заваленного картами, и не находя возражений против столь убежденных призывов. Финнерак, несколько присмиревший после фиаско с обвинением Ауна Шарраха, опять воодушевился в новой роли предводителя Эскадрильи. Теперь он носил униформу летчика из дорогой черной ткани, сшитую элегантно и точно по мерке. «Наконец-то он плавает, как рыба в воде», — думал Этцвейн. Пыл и энергия Финнерака удвоились: полет опьянял его свободой, ощущением власти над стихией. Его окружал особый ореол, он был сделан из другого, лучшего теста, мог смотреть сверху вниз на букашек, ползающих по дну воздушного океана и не ведающих ужасных радостей безмолвного стремительного скольжения над холмами, волшебного спирального подъема на головокружительную высоту подобно стервятнику, высматривающему добычу, пируэтов, виражей, свирепого падения из облаков на колонну рогушкоев, разлетающуюся в клочки под градом халькоидного огня, крутого выхода из пике над самыми вершинами деревьев...
Этцвейн давно перестал опасаться того, что Финнерак восстановит Бравую Вольницу против нового правительства. Слишком много защитных механизмов препятствовало такому стечению обстоятельств. Оглядываясь назад, Этцвейн понимал, что, возможно, проявил даже чрезмерную осторожность. Финнерак не интересовался захватом власти — казалось, его всецело поглотило упоение истреблением врага. Этцвейн понимал, что для Финнерака существование без врагов было бы невыносимо тягостным. Поэтому на призывы к нападению на Паласедру Этцвейн отвечал терпеливо и доходчиво: «Мы не желаем наказывать паласедрийцев по меньшей мере по трем причинам. Во-первых, война с рогушкоями не закончена. Во-вторых, вина паласедрийцев не установлена окончательно. В-третьих, затевать бесполезную драку с паласедрийцами было бы недальновидно. Летучие герцоги — яростные и суровые бойцы, воздающие вдвойне за любую обиду. Шант не раз убеждался в этом себе на горе. Что, если рогушкоев вывели случайно, в результате чудовищной ошибки? Что, если их создали озлобленные диссиденты или отколовшаяся секта фанатиков? Мы не вправе бездумно повергать Шант в межконтинентальную войну. В конце концов, что мы знаем о паласедрийцах? Ничего. Для нас они — неведомая книга на чужом, забытом языке».
«Мы знаем достаточно, — возражал Финнерак. — Они вывели несколько пород безмозглых солдат-биоавтоматов. Вспомните рассказы каразских моряков! Мы знаем, что рогушкои пришли вброд по тропе, ведущей через Большую Соленую топь из Паласедры. Таковы факты».
«Верно. Но не все факты. Нужно многое понять. Я отправлю посла в Шемауэ».
Финнерак язвительно рассмеялся и резко повернулся в кресле, глядя в окно — шлем летчика Эскадрильи съехал набекрень, задержанный густыми светло-бронзовыми кудрями.
Этцвейн продолжал: «Обнаруживать свою слабость нельзя, но проявлять излишнюю дерзость тоже непредусмотрительно. Ничто не заставляет нас делать такой выбор. Шант очищают от рогушкоев — тем временем следует точно выяснить намерения паласедрийцев. Только глупец действует, не подумав. Это я хорошо усвоил».
Прищурившись, Финнерак быстро взглянул на Этцвейна. Голубые глаза его сверкнули, как солнечный блик на острой кромке льда. Но он только пожал плечами и снова откинулся на спинку кресла — человек, согласный с самим собой.
Рогушкои отступали. Ворвавшись в Хванские Дебри из кантона Теней, Собола, Шемюса и Бастерна, Бравая Вольница столкнулась с неожиданным полным отсутствием сопротивления. Пилоты патрульных планеров и разведчики на свободно дрейфующих гондолах сообщали одно и то же: дюжина колонн рогушкоев движется на юг, главным образом ночью. Днем меднокожие твари пытались найти укрытие, переждать до наступления темноты. Планеристы обстреливали их из халькоидных «метел» и сбрасывали бомбы, начиненные декоксом. Первоначальный эффект женских феромонов ослабел — запах раствора раздражал и возбуждал рогушкоев, но самоубийственных пароксизмов больше не вызывал.
Эскадрилья достигла вершины славы. Летчиков в синих с белым униформах всюду встречали восхищение, похвалы, подобострастная лесть — перед «спасителями Шанта» открывались все двери и кошельки, таяли все сердца.
Карьера Финнерака тоже была в зените. В поджарой черной фигуре, пружинистыми шагами переходившей от планера к планеру и сухо отдававшей приказы пилотам, Этцвейн затруднялся узнать миролюбивого деревенского увальня, встреченного когда-то на Ангвинской развязке. Тот Финнерак умер — в лагере №3... Что случилось с тощим, смуглым, хмурым найденышем, бежавшим с той же развязки? Этцвейн разглядывал в закопченном с обратной стороны зеркале землистое лицо со впалыми щеками и плотно сжатым ртом... «И этому досталось от жизни», — думал он. Финнерак упивался почетом, оседлав гребень всеобщего победного опьянения. Этцвейн считал, что его дело сделано. Он с тоской хотел отстраниться, уйти — куда, зачем? Снова превратиться в бродячего музыканта? Шант почему-то казался маленьким, тесным, ограниченным. Паласедру населяли враги, Караз пугал суровыми, неизведанными просторами. Имя Ифнесса Иллинета все чаще приходило Этцвейну в голову. Он думал о Земле.
Рогушкои, подгоняемые рычащими и ревущими атаманами, спускались вприпрыжку со склонов Хвана, заполонив кантон Шкер и направляясь к Большой Соленой топи. Бравая Вольница, атакуя с флангов, наносила им ужасные потери. Не меньший эффект производили планеристы, вонзавшие в колонны сияющие снопы огня с неба.
Шант был свободен. Рогушкои забрели в Большую Соленую топь — страну жидкой черной грязи, обширных омутов ржаво-глинистой воды, редких островков, поросших коралловыми деревьями, песчаных отмелей, обнаженных и безжизненных, бледно-зеленого камыша, гадючной травы, черного подзолиста.
Судя по всему, в Соленой топи рогушкои чувствовали себя прекрасно, без малейшего труда пробираясь вперед по пояс в грязи. Добровольцы преследовали их, пока не почувствовали, что почва начинает уходить из-под ног, после чего неохотно повернули обратно. Летчикам же ничто не мешало расстреливать шлепающие по болотам цепочки темно-красных фигур, сияющих лысыми черепами. Черные трясины, гладкие бугры и косы ярко-белого песка, заросли коралловых деревьев и ветры, порывами налетавшие с просторов Синего и Пурпурного океанов, создавали восходящие и нисходящие потоки — невидимые фонтаны и колодцы воздуха. Дрожащий солнечный свет ослепительно брезжил в разрывах грозовых туч. Планеры стаями взмывали к тучам и стремительно скользили вниз — уже не преследователи, но беспощадные мстители.
Все глубже и глубже в Большую Соленую топь уходили рогушкои, гонимые безжалостными оводами-этажерками. Этцвейн счел необходимым предостеречь Финнерака: «Что бы ни случилось, не залетайте на паласедрийскую территорию! Пасите стадо рогушкоев, сколько вам вздумается, взад и вперед по Соленой топи, но ни в коем случае не провоцируйте паласедрийцев!»
Финнерак чуть растянул губы в жесткой усмешке: «Где проходит граница? Посреди Большой топи? Покажите на карте, где кончается наша территория».
«Насколько мне известно, граница точно не установлена. Соленая топь — как море. Если планеры заметят на подлете к южным берегам, паласедрийцы обвинят нас в попытке вторжения».
«Болото есть болото, — обронил Финнерак. — Беспокойство паласедрийцев вполне объяснимо, но у меня оно почему-то не вызывает сочувствия».
«Так или иначе, — терпеливо заключил Этцвейн, — мои инструкции недвусмысленны: планеры не должны приближаться к Паласедре настолько, чтобы их можно было увидеть с берега».
Насупившись, Финнерак стоял перед Этцвейном, впервые ощутившим холодную волну неприкрытой ненависти «Черного Ветрового». Этцвейна охватил приступ непроизвольного физического отвращения. Финнерак умел ненавидеть, ненавидеть долго. Когда Этцвейн объяснился с ним в лагере №3, Финнерак признался в ненависти к мальчишке, обрекшему его на заключение и рабский труд. Но разве справедливость не восстановлена, разве долг не уплачен? Этцвейн медленно, глубоко вздохнул. Люди таковы, каковы они есть, и с ними приходится иметь дело.
Финнерак произнес тихо и угрожающе: «Гастель Этцвейн, вы все еще отдаете мне приказы?»
«Таковы полномочия, возложенные на меня Пурпурной палатой. Чему вы служите — Шанту или удовлетворению своих страстей?»
Финнерак молча смотрел на Этцвейна секунд десять, потом резко повернулся и ушел.
Посланник вернулся из поездки в Шемауэ, но утешительных известий не привез: «Мне не удалось непосредственно связаться с летучими герцогами. Они гордятся своей недоступностью. Их намерения выяснить невозможно. Мне дали понять, что паласедрийская элита не снизойдет до переговоров с «рабами». Герцоги согласны иметь дело только с самим Аноме. Я возразил, сообщив, что Аноме больше не правит Шантом, и что я — уполномоченный посол Пурпурной и Зеленой палат. Мои слова, по-видимому, не произвели впечатления».
Этцвейн решил частным образом посоветоваться с Ауном Шаррахом, снова занимавшим привычный кабинет в Дискриминатуре, выходивший окнами на площадь Корпорации.
«Я провел тщательное расследование двух дел, — сообщил Шаррах. — В том, что касается обеих засад, важнейшие факты однозначны. О высадке в Тране знали четверо: вы, Сан-Сейн, Финнерак и Бризе. Только вам и Сан-Сейну было заранее известно о засаде на Козанском обрыве. Она завершилась успехом — следовательно, вас и Сан-Сейна можно исключить из числа подозреваемых. Бризе прекрасно понимал, что сведения о засаде в долине Сумрачной реки распространялись намеренно. Для него не составляло труда сделать соответствующие выводы и предупредить рогушкоев о катастрофе, ожидавшей их под Козанским обрывом. Но он их не предупредил. Таким образом, мы вынуждены считать предателем Финнерака».
Этцвейн ответил не сразу: «Мне приходили в голову те же умозаключения. Логика неопровержима, вывод невероятен! Каким образом бесстрашный боец, самый ревностный защитник Шанта, оказался предателем?»
«Не знаю, — покачал головой Шаррах. — Вернувшись в Дискриминатуру, я решил, как видите, изменить обстановку в кабинете согласно своим предпочтениям. Переставляя мебель, я обнаружил целый комплект подслушивающих устройств. Я позволил себе произвести обыск в ваших номерах в отеле «Гриндиана» — там были незаметно размещены такие же устройства. В течение длительного времени Финнерак имел беспрепятственный доступ к обоим помещениям».
«Уму непостижимо! — бормотал Этцвейн. — Вам удалось выяснить, кто пользовался этой информацией?»
«Микрофоны соединялись с постоянно работающим радиопередатчиком небольшой мощности».
«Эти устройства и радио... изготовлены в Шанте?»
«Да — стандартное оборудование Дискриминатуры».
«Гмм... Пока что я предпочел бы выжидать и наблюдать. Не будем спешить с опрометчивыми обвинениями — боюсь опять попасть впросак».
Аун Шаррах задумчиво улыбнулся: «Расследование второй загадки не дало существенных результатов. Финнерак просто-напросто исчез на три дня. Финнерак живет в гостинице. Когда он пропал, соседний номер занимали двое приезжих из кантона Парфе. Они съехали примерно через сутки после «возвращения« Финнерака. Мне передали подробные описания их внешности. Несмотря на цвета ошейников, скорее всего, это не были парфийцы — они не вывешивали фетиш на двери и часто носили синее. Естественно, я навел справки в отеле «Розеале гриндиана». Два похожих субъекта занимали номера непосредственно над вашими как раз в то время, когда вы «пропустили» три дня. Вскоре после этого они скрылись, не сообщив об отъезде управляющему отеля».
«Ничего не могу понять... Неизвестность порождает страх, я начинаю бояться собственной тени. Я спрашивал Финнерака: как он чувствует себя после «пропажи»? Он сказал — как обычно. Я тоже не чувствую ничего особенного».
Аун Шаррах с любопытством взглянул на Этцвейна, но ограничился одним из свойственных ему деликатных жестов: «Не могу ничего больше сообщить. Само собой, парфийцев ищут, а Финнерак постоянно находится под тайным наблюдением. Возможно, происходящему найдется какое-то объяснение».
Эскадрилья Шанта неутомимо преследовала рогушкоев, загоняя их все глубже в болото. Воздух над бескрайней знойной трясиной насытился вонью разложения. Беглецы двигались только на юг. Стремились ли они к какой-то цели или только пытались уйти как можно дальше от беспощадного воздушного обстрела? Никто не мог ответить на этот вопрос, но в северной половине Большой Соленой топи, так же, как и во всем Шанте, уже не осталось ни одного рогушкоя.
Пестрящие торжественными цветами победы газеты Шанта опубликовали прокламацию Пурпурной и Зеленой палат:
«Эскадрилья продолжает вершить возмездие за бесчисленные беды, причиненные рогушкоями — никто не способен испытывать жалость к безмозглым каннибалам — но война, по сути дела, завершена.
Настало время свернуть военную кампанию. Славные подвиги Бравой Вольницы и Эскадрильи Шанта навсегда запечатлены в истории. Теперь эти благородные люди должны посвятить себя восстановлению страны.
КОНЕЦ ВОЙНЕ: МЫ ПОБЕДИЛИ!»
Финнерак опоздал на совещание Пурпурной палаты. Появившись в зале собрания, он медленно промаршировал к своему месту за мраморным столом.
Выступал Этцвейн: «Мое дело сделано. Я считаю, что выполнил свои обязанности, в связи с чем...»
Финнерак громко прервал его: «Одну минуту! Не торопитесь складывать полномочия — возможно, время для этого еще не наступило. Только что передали новости из Шкера. Сегодня утром Эскадрилья Шанта, патрулировавшая южную часть Большой Соленой топи, обнаружила плотную колонну рогушкоев, торопливо пробиравшихся к паласедрийскому берегу. Летчики атаковали рогушкоев и при этом вынуждены были приблизиться к береговой линии. За нашими маневрами внимательно следили. Не исключено, что марш-бросок рогушкоев призван был спровоцировать формальное нарушение границы с нашей стороны». Финнерак помолчал пару секунд, продолжил: «Положение дел таково: наши планеры перехвачены черными планерами-истребителями паласедрийцев, управляющих воздушными аппаратами с поразительным мастерством. В первой стычке противник уничтожил четыре планера Эскадрильи и не понес никаких потерь. Во втором воздушном бою наши летчики изменили тактику и сбили двух паласедрийских пилотов, потеряв еще два планера. Дальнейшие сообщения не поступали».
Молчание прервал Миаламбер: «Вам приказали не приближаться к берегам Паласедры».
«Важнейшая задача, — заявил Финнерак, — заключается в уничтожении врага. Местонахождение врага несущественно».
«Таково ваше мнение. Я так не думаю. Теперь Шанту угрожает новая паласедрийская война — и тому виной ваше непростительное упрямство!»
«Человек поступает согласно велению внутреннего голоса, — Финнерак кивнул в сторону Этцвейна. — Кто дал ему право взять на себя полномочия Аноме? У меня не меньше прав, чем у него».
«Разница очевидна, — возразил Миаламбер. — Один замечает пожар, предупреждает жителей и тушит огонь. Другой заново поджигает город, чтобы наказать поджигателей. Первый — герой. Второй — маньяк!»
Сан-Сейн сказал: «Черный Ветровой! Ваша храбрость не вызывает сомнений. К несчастью, ваше рвение чрезмерно. Безрассудно навязывая свою волю, вы лишаете нас свободы выбора. Немедленно передайте Эскадрилье Шанта приказ вернуться в кантоны и не совершать полеты над Большой Соленой топью, пока не поступят новые распоряжения!»
Финнерак сорвал шлем, бросил его на мрамор: «Я неспособен отдать такой приказ! Он противоречит здравому смыслу. На Эскадрилью напали. Она обязана отразить врага, превзойдя его непреклонностью и беспощадностью!»
Внезапно разъярившись, Сан-Сейн вскочил и проревел: «Чего вы добиваетесь? Чтобы Бравая Вольница арестовала летчиков? Пусть хоть один еще раз посмеет вылететь без разрешения — у всех отнимем планеры, с каждого сорвем униформу! Вся власть принадлежит Шанту — Пурпурной и Зеленой палатам!»
Хлопнула дверь — в зал ворвался посыльный: «Из города Шемауэ в Паласедре срочное сообщение по радио — в самых сильных выражениях! Канцлер желает немедленно говорить с Аноме».
Весь Совет Патрициев внимал приглушенным расстоянием и помехами словам паласедрийского канцлера, звучавшим с непривычным старинным акцентом: «Канцлер Ста Суверенов вызывает Аноме Шанта!»
Ответил Этцвейн: «Аноме свергнут. Вы обращаетесь к Совету Патрициев. Говорите».
«Отвечайте же: что побуждает вас напасть на Паласедру, нарушив двухтысячелетнее перемирие? Четыре войны и четыре поражения не научили вас благоразумию?»
«Нападение на Паласедру не входит в наши планы. Мы гоним захватчиков-рогушкоев туда, откуда они пришли».
Пока канцлер собирался с мыслями, Совет слышал только шорох и тихое потрескивание эфира. Наконец радиоприемник отозвался: «Мы не имеем отношения к рогушкоям. Вы их вытесняете из Топи на наши берега — разве это не агрессия? Ваши планеры кружат у нас над головами — разве это не вторжение?»
«Нет — мы убеждены, что рогушкоев подослали из Паласедры».
«Суверены не замышляли ничего подобного. По-вашему, одних заверений недостаточно? Пришлите в Паласедру делегацию, удостоверьтесь воочию. Таково наше великодушное предложение. Вы действуете опрометчиво и безответственно. Опомнитесь! Если же вы настолько злопамятны, что истина для вас ничего не значит, пеняйте на себя — глупцы заслуживают смерти!»
«Мы не глупы и не злопамятны, — отозвался Этцвейн. — Имеет смысл обсудить положение вещей и найти общий язык. Мы тем более приветствуем такую возможность, если вы можете доказать, что захват и разорение Шанта — не ваших рук дело».
«Отправьте делегатов, — сказал канцлер. — Пусть один планер — только один — доставит их в порт Каоиме. Безопасность посланников гарантируется. Их встретят в порту и сопроводят, как положено».
Глава 14
Паласедра подпирала Шант ладонью Большой Соленой топи, как скрюченная трехпалая рука с Паласедрийским хребтом вместо костяшек пальцев. Частые обнаженные утесы торчали высоко в небе — на многих гнездились одинокие замки летучих герцогов. К серебристому простору морских болот спускались лесистые долины. Гигантские стволы лаутранов, стройные и черные, увенчивались непропорционально миниатюрными зонтиками желтовато-серых кружевных волокон. Великанов опоясывали колышущиеся темно-зеленые кроны псевдососен, деревьев-близнецов и воскоплодников, в свою очередь возвышавшиеся над плотными приземистыми купами хованго, аргоста и джаджуя. Ближе к берегу, где крутые склоны долин чуть расходились в стороны, городки паласедрийцев стерегли проходы в горную страну. Высокие каменные дома с остроконечными крышами теснились друг на друге, как растущие из скал друзы темных кристаллов.
Паласедра! Странный, неприветливый край непреклонных гордецов, где каждый почитал себя благородным и не признавал никакой власти, кроме «долга чести» — долга, погашавшегося исключительно добровольно, хотя размер его каким-то образом был известен всем. Здесь ни одну дверь не запирали на замок, ни одно окно не было разбито, здесь каждый ум был крепостью, тихой и неприступной, как замок летучего герцога.
В Каоиме планер, прибывший из Шанта, приземлился, скользя по гладкому песку широкого пляжа. Четверо спустились из седел, подвешенных в коробчатой раме: сперва пилот, за ним Этцвейн, Миаламбер — и Финнерак, согласившийся посетить Паласедру только после того, как его мужество, рассудок и умственные способности подверглись поношению и осмеянию. Уязвленный и взбешенный, Финнерак заявил, что готов отправиться, если потребуется, хоть на северный берег Караза.
Над пляжем угрюмо высились каменные уступы стен Каоиме. Три фигуры в облегающих черных мантиях и черных остроконечных шапках с высокими тульями выступили на свет из глубокой тени и направились к приезжим полными достоинства, сдержанными шагами.
Этцвейн никогда еще не видел паласедрийцев и с любопытством разглядывал встречающих. Они заметно отличались внешностью от большинства народов Шанта. Их кожа, мучнистая, как пергамент, отливала в отраженных трясиной лучах солнц едва заметным мышьяковистым блеском. Между покатыми лбами и жмущимися к шее подбородками узких, тощих, костлявых лиц красовались длинные горбатые носы. Паласедриец, приблизившийся первым, обратился к делегатам глухим гортанным голосом, будто формируя звуки не ртом, а в глубине горла. Кроме того, он произносил слова со странным акцентом, применяя давно устаревшие обороты речи — понять его было очень трудно: «Вы — посланники Шанта?»
«Да».
«На вас нет ошейников. Правда ли, что вы сбросили постыдное иго тирании?»
Миаламбер собрался было просветить незнакомца поучительными разъяснениями, но Этцвейн остановил его: «Мы изменили характер правления, это правда».
«В таком случае приветствую вас. Я согласился препроводить вас в Шемауэ. Мы вылетим без промедления. Следуйте за мной, к лифту».
В тени под отвесной скалой они взошли на платформу из плетеных лоз. Рывками, качаясь из стороны в сторону, подвешенная на натянутом шкивами канате площадка стала подниматься по диагонали через прореху в плотном пологе темнозеленой листвы аргостов, мимо просторной черной колоннады лаутранов, над кружевами их зонтов, будто вылепленными из высохшего теста, к слепяще-сиреневому сиянию трех солнц — и с толчком опустилась на сваи, крестообразно установленные в трещине на краю просторной плоской вершины утеса. Рядом уже стоял приготовленный к полету планер — хитроумная конструкция из стоек и распорок, тросов, рулевых лопастей и стабилизаторов, с кабиной из прутьев и пленки, подвешенной между черными выгнутыми крыльями, очертаниями напоминавшими летучую мышь.
Один из паласедрийцев и трое посланников Шанта забрались в кабину. Далеко, на другом краю плато, бригада бугрящихся мышцами людей с маленькими головами — на таком расстоянии Этцвейн не мог их толком разглядеть — сбросила в пропасть большую корзину, наполненную камнями. Планер сорвался с места, увлеченный натянувшимся тросом, и, быстро ускоряясь, взмыл в небо, еще не достигнув противоположного обрыва.
Паласедриец не проявлял ни малейшего желания вступать в разговор. В конце концов Этцвейн спросил его: «Вы знаете, зачем мы приехали?»
Паласедриец ответил: «Я не умею распознавать ваши мысли. Они не соответствуют моим».
«Ага! — сказал Миаламбер. — Вам поручили узнать наши мысли!»
«Мне поручили вежливо препроводить вас в Шемауэ».
«Кто теперь канцлер? Один из летучих герцогов?»
«Нет, теперь у нас скорее пять каст, нежели четыре. Летучие герцоги заняты сравнением долгов чести».
«Мы ничего не знаем о Паласедре — ваши обычаи нам незнакомы, — вмешался Этцвейн. — Если канцлер — не летучий герцог, как он управляет страной?»
«Канцлер никем не управляет. Он действует самостоятельно».
«И при этом представляет всю Паласедру?»
«Почему нет? Кто-то должен этим заниматься».
«Что, если политика канцлера противоречит воле большинства или наносит вред стране?»
«Он знает, что от него ожидается. Так устроена жизнь — мы все делаем то, что от нас ожидается. Если я не выполню поручение, основную ответственность понесут мои поручители. Они будут в долгу перед другими. Разве это не очевидно?» Паласедриец прикоснулся к перевязи на шляпе, украшенной десятком геральдических подвесок: «Вот мои поручители. Мне доверяют. Двое — летучие герцоги... Смотрите — замок герцога Айна Палайео».
Замок занимал седловину между утесами — уже осыпающееся угловатое сооружение, почти сливающееся со скалистыми склонами. Серо-зеленые каменоцветы гирляндами висели в трещинах стен... Замок остался позади и скоро исчез за хребтом.
Поднимаясь по спирали в прозрачных воздушных фонтанах, скользя по невидимым склонам ветров, черный планер парил над горами, упрямо стремясь на юг. Отроги гор становились ниже — исчезли черные колонны лаутранов, псевдососновый лес и чащи аргоста сменились разрозненными рощами висельных деревьев и темного дуба, редкими, напоминающими темные языки пламени пирамидальными кипарисами.
Наступил вечер. Согласный с сонными, неуверенными порывами слабеющего ветра, планер все чаще клевал носом и рыскал из стороны в сторону. Когда солнца уже играли в прятки за далекими западными вершинами, планер мягко и бесшумно спустился к тускло-металлической речной излучине и приземлился в сумерках на окраине Шемауэ.
Прибывших ожидал экипаж из светлого лакированного дерева на четырех высоких колесах. Карету запрягли двухметровыми голыми мужчинами с кожей розовато-охряного, почти абрикосового оттенка. Тягловые люди отличались бочкообразными грудными клетками, мощными бедрами и лодыжками, маленькими круглыми головами, полностью лишенными волосяного покрова. На их спокойно-тупых лицах не было никакого выражения. Финнерак, молчавший почти всю дорогу — он явно чувствовал себя не в своей тарелке и часто с тоской оборачивался в сторону Шанта — теперь бросил на Этцвейна торжествующий взгляд: очевидно, оправдались какие-то его теории в отношении Паласедры.
Миаламбер потребовал у паласедрийца объяснений: «Это творения ваших человеководов?»
«Верно. Хотя, называя генопластику «творением», вы исходите из необоснованного предрассуждения».
«Я — юрист, у меня нет предрассудков».
«Разве юрист не может быть лишен здравого смысла — особенно в Шанте?»
«Почему же, позвольте спросить, особенно в Шанте?»
«Ваша земля богата, вы можете позволить себе всевозможные безрассудства».
«Вы заблуждаетесь! — заявил Миаламбер. — Последнее утверждение позволяет подозревать несостоятельность всех ваших аргументов».
«Наше разногласие несущественно».
Экипаж громыхал в полутьме по булыжной мостовой. Наблюдая играющие мышцами широкие абрикосовые спины, Этцвейн спросил проводника: «Человеководы все еще продолжают разработки?»
«Мы несовершенны».
«А ваши тягловые, гм... существа — тоже совершенствуются?»
«Тягачи отвечают своему назначению. Их исходный генофонд получен от кретинов. Они согласны сотрудничать — подчиняться, если хотите. По-вашему, следовало упустить такую возможность? Справедливее уничтожать кретинов и взваливать тяжелую, примитивную работу на людей, способных думать?» Губы паласедрийца скривились в горькой усмешке: «С таким же успехом можно объявить кретинов высшей кастой и поручить им решение сложнейших задач».
«Прежде чем начнется церемониальный обед, — вмешался Миаламбер, — я хотел бы знать, выращиваются ли в Паласе дре мясные породы людей?»
«Церемониального обеда не будет».
Стуча колесами по булыжнику, экипаж поднялся по эспланаде к постоялому двору. Паласедриец пригласил гостей выйти: «Здесь вы можете передохнуть».
Этцвейн надменно выпрямился: «Вы привезли послов Шанта в портовую таверну?»
«Предпочитаете провести ночь, прогуливаясь по набережной? Или, может быть, вас больше устроит утомительный подъем к замку герцога Шайана?»
«Мы не придаем большого значения формальностям, — объяснил Миаламбер. — Тем не менее, если бы в Шант прибыли послы из Паласедры, их разместили бы в роскошном дворце».
«Вы точно определили разницу между обычаями Шанта и Паласедры».
Этцвейн вышел из кареты. «Пойдемте, — сухо сказал он. — Мы здесь не для того, чтобы добиваться почестей».
Три делегата прошествовали в гостиницу. Дощатая дверь открывалась в узкое полутемное помещение со стенами, обшитыми панелями лакированного дерева. Вдоль стены, над несколькими столами и стульями, мерцали желтоватые светильники.
Навстречу вышел старик в белом головном платке: «Что вам угодно?»
«Мы хотели бы подкрепиться и переночевать. Мы — послы из Шанта».
«Я приготовлю комнаты. Садитесь, вам дадут что-нибудь поесть».
В помещении был еще один человек — худощавый, в сером плаще, сидевший за столом перед миской тушеной рыбы. Этцвейн замер, пораженный знакомым профилем. Человек в сером поднял голову, кивнул, вернулся к аккуратному извлечению рыбных костей.
Этцвейн нерешительно потоптался и подошел ко столу: «Я полагал, что вы вернулись на Землю».
«Таковы были распоряжения Института, — сказал Ифнесс Иллинет. — Тем не менее, мне удалось их опротестовать на основании редко применяемой статьи устава о чрезвычайном положении. Теперь меня снова направили на Дердейн, в несколько ином качестве. Рад сообщить, что меня, таким образом, не исключили из Института».
«Превосходные новости! — согласился Этцвейн. — Вы не возражаете, если мы к вам присоединимся?»
«Нисколько».
Трое приезжих заняли свободные стулья вокруг стола. Этцвейн представил присутствующих: «Перед вами патриции Шанта — Миаламбер Октагон и Джерд Финнерак. Этот господин, — Этцвейн вежливо указал на Ифнесса, — землянин, корреспондент Исторического института. Его зовут Ифнесс Иллинет».
«Так точно, — кивнул Ифнесс. — На Дердейне мне удалось узнать много интересного и поучительного».
«Почему вы не дали знать о своем возвращении? — спросил внутренне возмущенный Этцвейн. — Вы в значительной мере несете ответственность за сложившееся положение вещей».
Ифнесс ответил спокойно-безразличным жестом: «Вы были достаточно компетентны для того, чтобы справиться с кризисом, не прибегая к моей помощи — что немаловажно. Полагаю, вам самим приятно сознавать, что враги Шанта повержены в прах защитниками Шанта, а не их союзниками с Земли?»
«Это сложный вопрос, — уклонился Этцвейн. — Что вас привело в Паласедру?»
«Я изучаю паласедрийское общество, представляющее значительный интерес. Паласедрийцы отваживаются производить антропоморфологические эксперименты, возможные лишь в редчайших условиях отсутствия почти повсеместных запретов. Паласедрийцы бережливы и адаптируют некондиционный генетический материал, поручая дегенератам выполнение полезных функций. Дух человеческий! Неисчерпаемый источник чудесных изобретений! Оказавшись в суровой, скудной горной стране, паласедрийцы разработали философскую систему, поощряющую самоограничение и крайнюю экономию».
Этцвейн не забыл склонность историка к отвлекающим внимание пространным рассуждениям: «В Гарвии, насколько я помню, вы не поощряли аскетизм в себе или в других и не высказывались в защиту философии самоотречения».
«Совершенно верно, — безмятежно отозвался Ифнесс. — Я — исследователь. Я умею преодолевать личные наклонности».
Некоторое время Этцвейн пытался угадать скрытый смысл замечаний землянина, потом спросил: «Вас, судя по всему, не удивляет наш приезд в Паласедру?»
«Как показывает мой опыт, тому, кто скрывает любопытство, интересующие его сведения охотно навязываются».
«Вам известно, что рогушкои пытаются скрыться на паласедрийской территории? Что преследование рогушкоев привело к воздушному столкновению между Эскадрильей Шанта и Черными Драконами Паласедры?»
«Любопытная информация! — заявил Ифнесс Иллинет, не отвечая на поставленный вопрос. — Интересно было бы знать также, какие средства паласедрийцы собираются применить против рогушкоев».
Финнерак с отвращением хрюкнул: «Вы сомневаетесь в том, что паласедрийцы помогают рогушкоям?»
«Глубоко сомневаюсь — даже исходя исключительно из социально-психологических соображений. Для летучих герцогов понятия благородства и чести важнее материальных и политических выгод. Подлое разведение паразитов, тихой сапой вгрызающихся в организм противника и размножающихся за его счет, не в характере паласедрийских суверенов. Кроме того, в пользу этой теории нет убедительных свидетельств».
Финнерак пожал плечами: «Теоретизируйте сколько угодно. Я доверяю своим инстинктам».
Принесли ужин — соленую рыбу, тушеную в уксусе, хлеб грубого помола, маринованные стручки водорослей. «У паласедрийцев нет никакого представления о кулинарии, — отметил Ифнесс Иллинет. — Здесь едят только от голода. Паласедрийцы наслаждаются, преодолевая препятствия, самоутверждаясь вопреки неблагоприятным обстоятельствам. Они выходят в море, когда бушует шторм. Изучение высшей математики в полном одиночестве заменяет паласедрийцу то, что у других народов принято называть «тайными пороками». Летучие герцоги строят башни из собственноручно высеченных и принесенных камней. Некоторые сами добывают себе пищу. Паласедрийцы не признают музыку и украшают одежду только эмблемами поручителей. Для них одно блюдо не лучше другого. Недружелюбные и скупые, они слишком горды, чтобы доверять подозрениям». Ифнесс прервался и внимательно рассмотрел лица собеседников — сначала Миаламбера, потом Этцвейна, в последнюю очередь Финнерака: «Канцлер скоро прибудет. Не думаю, что ваши проблемы вызовут у него сочувствие. Если не возражаете, я хотел бы примкнуть к вашей группе в качестве, скажем, наблюдателя. Я уже представился здесь как путешественник из Шанта».
«Не вижу препятствий», — сказал Этцвейн, игнорируя тихое рычание Финнерака.
Миаламбер обратился к Ифнессу: «Расскажите нам о Земле, о родине наших извращенных предков».
Ифнесс поджал губы: «Землю невозможно описать вкратце. На ваш взгляд, вероятно, мы показались бы чрезмерно цивилизованными, у большинства из нас нет честолюбивых стремлений. На Земле изредка рождаются раскольники и диссиденты, но эти рано или поздно переселяются в другие миры. Каким-то чудом среди нас еще встречаются искатели приключений. Населенная людьми область Галактики постоянно расширяется — в этом, пожалуй, первородная, земная сущность человека. Земля — исходный мир, источник всех человеческих производных».
«Наши предки покинули Землю девять тысяч лет тому назад, — покачал головой Миаламбер. — Преодолев немыслимое расстояние, они осели на Дердейне, где надеялись навсегда остаться в полной изоляции. Возможно, теперь мы уже не сможем отгородиться от других миров».
«Вы правы, — согласился Ифнесс. — Дердейн все еще за границей той части Галактики, где действуют межпланетные торговые договоры и соглашения о поимке преступников — но эта граница уже очень близко... Канцлер приехал. Он собирается вести государственные переговоры в рыбацкой таверне. Что ж, такая система не хуже любой другой».
Канцлер стоял, открыв входную дверь и разговаривая с кем-то на улице, потом повернулся и осмотрел помещение — высокий костлявый старик с короткой щетиной седых волос и огромным носом-полумесяцем. На нем была обычная черная мантия, но вместо шляпы он носил повязанный на рыбацкий манер белый головной платок.
Этцвейн, Финнерак и Миаламбер поднялись на ноги. Ифнесс Иллинет продолжал сидеть, глядя на пол — будто внезапно погрузившись в глубокие думы.
Канцлер подошел к столу: «Будьте добры, сядьте. Наша задача проста. Летчики Шанта нарушили паласедрийскую границу. Черные Драконы их изгнали. Вы утверждаете, что вторглись в Паласедру, чтобы наказать рогушкоев. Более того, вы утверждаете, что рогушкои — агенты Паласедры. Я заявляю: рогушкои в настоящее время находятся на паласедрийской земле, и паласедрийцы расправятся с ними по-своему. Я заявляю: паласедрийцы не поручали рогушкоям напасть на Шант. Я заявляю: посылать летчиков в Паласедру было с вашей стороны глупо и опрометчиво — по сути дела, настолько глупо и опрометчиво, что мы воздержались от ответного удара скорее от изумления, нежели из соображений человеколюбия».
Ифнесс с одобрением хмыкнул и позволил себе нравоучительное замечание, обращенное, вероятно, к светильнику на стене: «Еще один характерный аспект человеческого поведения заключается в том, чтобы впечатлять противника и приводить его в замешательство, демонстрируя непредсказуемую снисходительность».
Канцлер нахмурился и отвернулся, по-видимому не находя в одобрении Ифнесса ожидаемой готовности проявить сердечную благодарность. В голосе канцлера появилось раздражение: «Я заявляю: если вы официально заверяете, что не вынашиваете захватнических планов, в дальнейшем вы обязаны воздерживаться от агрессии и контролировать выходки своих летчиков. Такова, в сущности, моя позиция. Я готов выслушать ответ».
Миаламбер прокашлялся: «Наше присутствие в Шемауэ говорит само за себя. Мы надеемся установить мирные, добрососедские и взаимовыгодные отношения между Шантом и Паласедрой. Невежество порождает подозрения. Неудивительно, что некоторые из нас видят в рогушкоях возобновление угрозы со стороны паласедрийцев».
Финнерак холодно произнес: «Бравая Вольница и Эскадрилья Шанта нанесли поражение рогушкоям, неприкрыто пытающимся найти убежище в Паласедре. Вы утверждаете, что не подсылали рогушкоев в Шант. Тем не менее, вы не сняли с себя ответственность за их существование. Общеизвестно, что вы бесстыдно разводите, как породы скота, специализированные породы людей. Если рогушкои спроектированы в паласедрийских генопластических лабораториях, паласедрийцы повинны во всех убийствах и разрушениях, причиненных этими тварями в Шанте. Рогушкои разорили и обескровили Шант — мы требуем возмещения!»
Канцлер отступил на шаг — он не ожидал столь энергичных возражений. Не ожидали их и Этцвейн с Миаламбером. Ифнесс Иллинет снова одобрительно кивнул: «Требования Финнерака вполне обоснованны и справедливы — если паласедрийцы действительно несут ответственность за создание рогушкоев. Мы не слышали ни одного формального заявления паласедрийской стороны, признававшего или отрицавшего такую ответственность».
Седые брови канцлера превратились в сплошную мохнатую полосу над величественным носом. Он обратился к Ифнессу: «Хотел бы знать, какую, в точности, функцию вы выполняете в ходе переговоров?»
«Функцию независимого консультанта, — отозвался Ифнесс. — Гастель Этцвейн одобрил мое участие, хотя я не представляю официально ни Шант, ни Паласедру».
Канцлер пожал плечами: «Как бы то ни было, мне все равно. Необходимо окончательно разъяснить позицию Паласедры. Мы полностью отрицаем какую-либо ответственность как за действия, так и за существование рогушкоев».
Финнерак живо возразил: «Почему же они скрываются на вашей территории? Откуда они явились, как не из Паласедры?»
Канцлер отвечал сдержанно, понизив голос: «Последние заключения наших разведчиков таковы. Эти существа подосланы на Дердейн с Земли. Известно, что первая колонна рогушкоев сошла по трапу космического корабля, приземлившегося в Энгхе — безлюдной котловине недалеко от Большой Соленой топи». Этцвейн настороженно взглянул на Ифнесса — тот с отсутствующим видом разглядывал обшивку стены. Канцлер продолжал: «Это все, что удалось узнать у ахульфов, населяющих район приземления. Теперь рогушкои возвращаются в Энгх. Их туда не допустят — паласедрийские войска уже выступили, чтобы уничтожить пришельцев. Завтра я намереваюсь наблюдать за ходом битвы. Возможно, удастся получить дополнительные сведения. Если хотите, можете меня сопровождать».
Глава 15
Канцлер разложил на столе карту, махнул рукой в холодную предрассветную мглу: «Энгх где-то там. Отсюда впадина выглядит узким промежутком между хребтами, но по сути дела это большой вулканический цирк — взгляните на карту». Канцлер постучал костлявым пальцем по пергаменту: «Здесь мы вышли из планера. Теперь мы стоим лицом к долине реки Зек — точнее, над долиной. Паласедрийские отряды скрываются в лесу напротив. Они скоро выступят».
«А где рогушкои?» — спросил Этцвейн.
«Самая многочисленная колонна выбралась из Соленой топи и приближается. Им предшествовали разрозненные группы. Мы им не препятствовали — они собрались в котловине». Канцлер вглядывался в пасмурное рассветное небо: «Встречный ветер не позволяет Черным Драконам долететь до котловины — разведывательные данные недостаточны. И меня еще не известили о плане наступления».
Три солнца выкатились из-за гор, склон долины вспыхнул фиолетовым сиянием. В глубине долины разноцветными блестками отразился Зек — небольшая бурная речка. Финнерак указал на север: «Вот они, передовые отряды! Почему бы их не потревожить с флангов?»
«Я не полководец, — отозвался канцлер. — В военной тактике я не разбираюсь... Отойдите назад, вас заметят!»
В долине появились бегущие трусцой первые ряды рогушкоев, издали напоминавшие темную приливную волну.
На ремне канцлера звякнул какой-то прибор. Он поднес его к уху, обернулся, глядя в небо, и повесил прибор на ремень.
Рогушкои приближались грузными размашистыми прыжками, неподвижно глядя перед собой, не оборачиваясь и не перекликаясь. По бокам колонны бежали атаманы, поблескивающие нагрудниками из кольчуги.
Снова звякнул радиоприемник канцлера. Тот строго выслушал сообщение и пробормотал: «Все идет по плану».
Опустив рацию, старый паласедриец встал лицом к далекой впадине, скрытой за противоположным склоном долины. Помолчав пару минут, он произнес: «Ночью в Энгхе приземлился звездолет. Зачем? Можно только догадываться — по-видимому, он ожидает рогушкоев».
Обернувшись к Ифнессу, Миаламбер язвительно заметил: «Вы можете предложить объяснение происходящему?»
«Могу, — сказал Ифнесс Иллинет, — мне все ясно». Он спросил канцлера: «На что похож звездолет? Из него кто-нибудь выходил? На корпусе есть какие-нибудь эмблемы?»
«Мне передали, что звездолет выглядит, как огромный диск с утолщением в середине. По окружности диска открылись большие люки, служащие трапами для спуска на землю. Из звездолета никто не выходил... Начинается обстрел рогушкоев с тыла».
Послышались далекие хлопки взрывов и беспорядочный треск. Атаманы рогушкоев остановились, развернулись и разразились гортанными выкриками. Плотная колонна стала рассыпаться. Со стонами и уханьем, вызванными физическим напряжением, а не эмоциями, меднокожие воины группировались, образуя боевые манипулы. Теперь можно было видеть всю колонну. Взрослые рогушкои возглавляли и замыкали шествие. В середине толпились детеныши-подростки с новорожденными ублюдками на плечах — и примерно сотня оглушенных, шатающихся от измождения женщин.
Из леса прозвучали позывные горна — паласедрийские войска решительно двинулись в атаку.
Этцвейн почесал в затылке. Он ожидал увидеть богатырей, ростом не уступавших рогушкоям. Паласедрийские солдаты, однако, были ниже среднего роста, невероятно широки в плечах, с огромными грудными клетками и руками, болтавшимися почти до земли. Из-под черных шлемов на головах, низко посаженных между буграми плеч, сверкали глаза, казалось, одновременно смотревшие в разные стороны. На солдатах были темно-охряные комбинезоны с наплечниками и наголенниками из стекловолокна. Их вооружили саблями, боевыми топорами с короткими ручками, маленькими щитами и арбалетами.
Паласедрийцы выбегали из леса неторопливой трусцой. Рогушкои, захваченные врасплох, опешили. Атаманы проревели приказы, манипулы переформировались. Паласедрийцы тоже остановились. Две армии глядели одна на другую — их разделяло не больше ста метров.
«Любопытное противостояние, нечего сказать, — бормотал Ифнесс. — Два решения одной генетической задачи, оба отличаются преимуществами. Битва великанов-людоедов с заколдованными троллями, хм... Вооружения, по-моему, эквивалентны. Исход зависит, следовательно, от тактического превосходства и маневренности».
Атаманы рогушкоев внезапно издали резкие вопли. Покинув женщин и детенышей на произвол судьбы, бесстрашные меднокожие дикари со всех ног бросились наутек — к ложбине вулканического цирка, где их поджидал спасительный комический аппарат. Часто перебирая ногами, паласедрийские солдаты бежали наперерез. Две армии сошлись не лицом к лицу, а бок о бок — рогушкои яростно отмахивались ятаганами, паласедрийцы наскакивали и упруго отскакивали, сверкая саблями и стреляя из арбалетов в глаза спешащим противникам, поджидая удобный момент, чтобы подсечь мелькающие колени и отрубить голову рухнувшему на бегу красноватокаштановому гиганту. Ятаганы и сабли кружились и мелькали, как лопасти сумасшедшей машины, несущейся вверх по склону и оставляющей за собой отвалы разбросанных рук, ног, голов и торсов, сочащихся красной и черной кровью.
Передние ряды рогушкоев достигли седловины, служившей входом на замкнутую горным кольцом арену вулканического цирка — и здесь, с обеих сторон, спустилась стремительными оползнями вторая паласедрийская армия, прятавшаяся в расщелинах скал. Рогушкои отчаянно пробивались вперед, пытаясь во что бы то ни стало вырваться в широкую котловину. Ниже, в речной долине, остались женщины и детеныши рогушкоев. Женщины поддались истерике. Подобрав ятаганы и сабли погибших бойцов, они с маниакальной радостью накинулись на прыгающих, как блохи, краснокожих чертенят.
Воины-рогушкои прорубили дорогу в Энгх — но здесь, на открытом пространстве, более подвижные и сообразительные паласедрийцы получили дополнительное преимущество.
Сначала Финнерак, за ним Ифнесс с Этцвейном и последними пожилой Миаламбер со стариком-канцлером спустились в долину, перебежали по низкому деревянному мостику над рекой и взобрались по крутому лесистому склону на холм справа от прохода в котловину. Перед ними открылся вид на Энгх — плоское каменистое дно высохшего озера, круглое, диаметром метров восемьсот, поросшее креозотовыми кустами и рваными пятнами бледно-голубой скальной колючки. В центре впадины покоился звездолет: сильно уплощенная полусфера из ржаво-коричневого металла, диаметром не меньше шестидесяти метров.
Этцвейн спросил Ифнесса: «Чей это корабль?»
«Не знаю!» — Ифнесс вынул камеру и поспешно фотографировал.
С трех сторон сегменты корпуса звездолета откинулись на землю, обнажив темные овальные провалы. В провалах маячили человекообразные фигуры — они оставались в тени, Этцвейн не мог их толком разглядеть.
На арене вулканического цирка бушевала битва. Рогушкои шаг за шагом теснились ближе к звездолету — впереди всех сверкающие кольчугой атаманы, за ними рядовые бойцы, построившиеся клином, чтобы защищать атаманов от наскакивающих паласедрийских троллей.
Финнерак низко застонал, как в кошмарном сне, и стал спускаться по склону в котловину. «Финнерак! — закричал Этцвейн. — Куда вы?»
Финнерак не слышал, он торопился. Этцвейн погнался за ним: «Финнерак! Вернитесь сейчас же! Вы с ума сошли!»
Финнерак стремительно бежал, размахивая руками, к ржавому звездолету. Широко раскрыв глаза, как от дикой боли, он, однако, ничего не видел, споткнулся и упал головой вниз. Этцвейн прыгнул на него и заломил ему руки за спину: «Что вы делаете? Опомнитесь!»
Финнерак стонал, пинался и вырывался, пытаясь попасть локтями Этцвейну в глаза.
Подоспевший Ифнесс быстро нагнулся, нанес Финнераку два коротких сильных удара — тот обмяк и затих.
«Быстрее — обстреляют из корабля!» — не переводя дух, выдавил Ифнесс.
Миаламбер и Ифнесс подхватили Финнерака под руки, Этцвейн — за ноги. Таким образом они притащили его под прикрытие деревьев. Пользуясь одеждой Финнерака, Ифнесс туго связал ему лодыжки и кисти.
В котловине паласедрийцы, тоже опасавшиеся, что из звездолета откроют огонь, отступили. Рогушкои маршировали вверх по трапам — атаманы и сотня бойцов. Трапы-люки поднялись и захлопнулись. Звездолет задрожал и загудел, светясь серебристо-радужным огнем, как гигантский жук-светлячок. С режущим уши высоким воем он подпрыгнул высоко в небо и сразу исчез.
Отрезанные от корабля рогушкои, оставшиеся в котловине, медленно стянулись к тому месту, где стоял звездолет. Там они сформировали неровное кольцо и приготовились защищаться до последнего. Атаманы улетели. От меднокожей орды, почти погубившей Шант, осталось меньше тысячи бойцов.
Паласедрийцы, отступившие к периметру впадины, построились цепями справа и слева от кольца рогушкоев и замерли в ожидании приказов. Минут десять две армии мутантов смотрели одна на другую — трезво, спокойно, без малейшей враждебности. Наконец паласедрийские солдаты стали медленно расходиться вверх по склонам, во всех направлениях. Рогушкои остались в центре круглой каменистой пустоши.
Взмахом руки канцлер подозвал делегатов Шанта: «Мы возвращаемся к первоначальной стратегии. Рогушкои заперты в котловине. Они никогда не покинут Энгх — об этом мы позаботимся. Теперь даже ваш голубоглазый безумец должен признать, что рогушкои — порождения инопланетян».
«В этом невозможно сомневаться, — заявил Ифнесс Иллинет. — Цель вторжения, однако, остается загадкой. Если создатели рогушкоев замышляли обычное завоевание, почему они вооружили штурмовые отряды примитивными ятаганами и палицами? Неужели у расы, покорившей межзвездные бездны, нет более совершенного оружия? Вопиющее противоречие, нуждающееся в объяснении».
«По-видимому, они недооценили наши возможности, — заметил канцлер. — Или, может быть, проверяли, на что мы способны. Так или иначе, мы их крепко проучили».
«Разумные гипотезы, — кивнул Ифнесс. — Тем не менее, многое предстоит узнать. Убиты несколько атаманов. Предлагаю перевезти тела в медицинскую лабораторию и внимательно их изучить. Я хотел бы участвовать в этом расследовании».
Канцлер отверг предложение недовольным жестом: «Это потребует лишних затрат».
Ифнесс отвел старого паласедрийца в сторону и произнес вполголоса несколько фраз. Его доводы убедили канцлера — тот нехотя согласился произвести вскрытие.
Глава 16
В состоянии мрачной апатии Финнерак спускался в долину реки Зек. Несколько раз Этцвейн хотел было заговорить с ним, но зловещее, тягостное чувство стесняло ему грудь и сковывало язык. Менее впечатлительный Миаламбер спросил Финнерака: «Надеюсь, вы понимаете, что ваша выходка — сознательная или бессознательная — поставила под угрозу нашу миссию и наше существование?»
Ответа не последовало. Этцвейну показалось, что Финнерак даже не слышал вопроса.
Ифнесс скорбно изрек: «Лучшие из нас время от времени поддаются нелепым побуждениям».
Финнерак не отозвался.
Этцвейн ожидал, что делегацию отвезут обратно на побережье Большой Соленой топи, но черный планер вернулся в Шемауэ, где запряженный абрикосовыми силачами экипаж снова доставил их к унылому постоялому двору на набережной рыбацкой гавани. Пробравшись через полутемную тесную трапезную, приезжие поднялись в отведенные им комнаты, тоже не радовавшие глаз. Постелями служили тонкие, отдававшие кисловатым запахом тюфяки на низких каменных возвышениях. Из открытого узкого окна сквозило холодным соленым ветром, пасмурным светом, плеском застойной воды между лодками.
Этцвейн провел всю ночь скорее не во сне, а в каком-то тяжелом оцепенении. В стрелочной арке окна наконец забрезжил серо-фиолетовый рассвет. Этцвейн встал, плеснул в лицо ледяной водой из каменного рукомойника и спустился в трапезную, где к нему скоро присоединился Миаламбер. Ифнесс и Финнерак не появлялись. Проверив их комнаты, Этцвейн обнаружил, что они пустуют.
Ближе к полудню открылась входная дверь — вернулся Ифнесс Иллинет. Этцвейн тревожно поинтересовался, известно ли ему местонахождение Финнерака. Ифнесс ответил, тщательно выбирая слова: «Вы не забыли, конечно, что вчера Джерд Финнерак проявил необъяснимую безответственность. Ночью он покинул гостиницу и направился куда-то вдоль берега. Ожидая чего-то в этом роде, я заранее попросил канцлера установить за Финнераком наблюдение. В результате его задержали. Я провел все утро с паласедрийскими экспертами. Насколько я понимаю, причина странного поведения Финнерака выяснена».
Скрытность Ифнесса всегда действовала Этцвейну на нервы. Теперь он с трудом сдерживал ярость: «Что им удалось выяснить — и каким образом?»
«Пожалуй, лучше всего будет, если вы пойдете со мной и все увидите своими глазами».
Показывая дорогу, Ифнесс говорил тоном скучающего экскурсовода: «Паласедрийцы удостоверились в том, что звездолет, ожидавший рогушкоев в Энгхе — не земного производства. Естественно, я мог бы объяснить это еще вчера, но не хотел возбуждать лишние вопросы о своем происхождении».
Миаламбер раздраженно спросил: «Чей это звездолет, в таком случае?»
«Я заинтригован не меньше вашего — по сути дела, я прибыл на Дердейн именно для того, чтобы это узнать. Туманность Скиафарильи скрывает Дердейн от большинства миров, населенных людьми. Можно предположить, что планета, откуда привезли рогушкоев, находится в другом направлении, ближе к центру Галактики. Я никогда еще не видел таких космических аппаратов».
«Вы сообщили все это паласедрийцам?»
«Ни в коем случае. События, происшедшие сегодня утром, заставили их изменить точку зрения. Если вы помните, атаманы рогушкоев носили защитные нагрудники, всегда вызывавшие мое любопытство... А вот и лаборатория!»
Этцвейн похолодел от ужаса: «Финнерака привели — сюда?»
«Такое решение представлялось наиболее целесообразным».
Они вошли в черное каменное здание. Внутри едко пахло химикатами. Ифнесс, уже знакомый с планировкой учреждения, провел спутников по боковому коридору в обширное помещение со световыми колодцами в высоком потолке. Вдоль стен тянулись ряды небольших герметичных цистерн и открытых резервуаров, посередине возвышались полированные каменные столы. В дальнем конце лаборатории четверо паласедрийцев в серых халатах склонились над массивным трупом атамана рогушкоев. Ифнесс одобрительно кивнул: «Начинается очередное вскрытие — вам будет полезно пронаблюдать за этой процедурой».
Этцвейн и Миаламбер приблизились к операционному столу и встали, прислонившись к стене. Паласедрийцы работали неторопливо, стараясь расположить тело рогушкоя так, чтобы ничто не ускользнуло от их внимания... Этцвейн оглядывался по сторонам. На полке, в толстостенных стеклянных банках, суетилась пара крупных бурых насекомых или ракообразных. Кругом, в стеклянных ваннах, плавали внутренние органы, седые островки плесени, разноцветные культуры грибков, подвижные стайки тонких белых червей, десятки существ или биоаппаратов, не поддававшихся определению... Пользуясь дисковой пилой с пневматическим приводом, паласедрийцы разрезали мощную грудную клетку. Пять минут они проворно работали стеклянными скальпелями и пинцетами. Этцвейном овладело почти невыносимое напряжение — он отвернулся. Ифнесс, однако, настаивал: «Смотрите же!»
С профессиональной ловкостью, казавшейся со стороны наигранным изяществом, паласедрийцы извлекли плотный белесый мешочек, не больше двух стиснутых кулаков. Мешочек соединялся с рогушкоем двумя толстыми, провисающими щупальцами или нервами, углублявшимися в шею. Паласедрийцы осторожно сделали разрезы в темной плоти и позвоночном хряще, вскрыли основание черепа и полностью высвободили оба отростка, отделившиеся от мозга без повреждения. Влажный орган лежал на полированном столе. Внезапно он проявил признаки жизни — сморщился, задрожал. Бледная ткань разорвалась — из разрыва выползло многоногое, блестящее темно-коричневое существо, похожее на паука или краба. Паласедрийцы тут же схватили его пинцетами, сбросили в банку и захлопнули крышку. Банку поставили на полку рядом с двумя такими же.
«Полюбуйтесь: вот ваши супостаты, Гастель Этцвейн! — сказал Ифнесс Иллинет. — Когда я беседовал с Саджарано Сершаном, он называл свой внутренний голос «асутрой». Судя по всему, асутры — беспозвоночные, умеющие взаимодействовать на высочайшем интеллектуальном уровне».
Завороженный боязнью и отвращением, Этцвейн не мог оторвать глаз от насекомого, копошившегося в банке. Существо бугрилось хитиновыми извилинами, как маленький твердый мозг. Восемь членистых ног гнездились в утолщении основания панциря, каждая заканчивалась тремя жесткими короткими щупиками. На одном — переднем — конце панциря выделялось скопление темных комочков, окруженное венчиком тонких, непрерывно шевелящихся волокон.
«Мое непродолжительное знакомство с асутрами, — пояснял Ифнесс, — позволяет заключить, что они — паразиты или, точнее, симбионты, управляющие организмами хозяев. Полагаю, однако, что в естественной среде их носителями служат не люди и не рогушкои».
Этцвейн спросил срывающимся голосом: «Вы их видели — раньше?»
«Только однажды: я добыл экземпляр из тела Саджарано».
Десятки вопросов теснились в голове Этцвейна, мерзкие подозрения, не находившие словесного выражения... может быть потому, что он страшился их подтверждения. Этцвейн заставил себя забыть жалкое, искалеченное, застывшее в судороге тело Саджарано Сершана. Переводя глаза с одной банки на другую, он не различал на хитиновых панцирях ничего, что с уверенностью можно было бы назвать глазами, но не мог избавиться от ощущения, что за ним следят, что его изучают.
«Высокоразвитые, специализированные организмы, — разглагольствовал Ифнесс Иллинет. — Тем не менее, так же, как люди, они удивительно неприхотливы и, несомненно, способны выживать самостоятельно».
Этцвейн знал ответ на свой вопрос прежде, чем задал его: «Что случилось с Финнераком?»
Ифнесс указал на среднюю банку: «Вот асутра, поселившаяся в теле Джерда Финнерака».
«Он мертв?»
«Конечно, мертв — чего вы ожидали?»
«Снова и снова, — говорил Ифнесс гнусавым тоном человека, в десятый раз излагающего прописную истину, — вы настаиваете на том, чтобы я предоставлял информацию, не имеющую для вас существенного значения или доступную без моего содействия. Тем не менее, в данном случае я сделаю исключение. Возможно, мне удастся избавить вас от тревог и замешательства, вызванных непростительной непроницательностью.
Как вам известно, мне было приказано покинуть Дердейн. По мнению представителей Исторического института, я позволил себе безответственное вмешательство в ход событий. Я убедительно обосновал противоположную точку зрения. Ситуация уникальна — меня поддержали достаточным числом голосов. Мне поручили вернуться на Дердейн, на меня возложили новые полномочия.
Я без промедления прибыл в Гарвий, где к своему удовлетворению убедился, что вы действуете энергично и решительно. Другими словами, как только население Шанта обрело достойного руководителя, оно отреагировало на угрозу своему существованию с присущими всем людям жизнелюбием и находчивостью».
«Зачем было создавать угрозу в первую очередь? Зачем захребетники натравили на нас рогушкоев? Что им нужно в Шанте? Бессмысленное вредительство!»
«Напротив, вполне осмысленное. Дердейн — изолированный от остального человечества мир, где можно незаметно экспериментировать на людях. По-видимому, асутры подозревают, что галактическая экспансия земной цивилизации приведет к неизбежному проникновению человека в сферу их влияния. Возможно, в прошлом им уже приходилось иметь дело с людьми — с плачевными для них результатами.
Не забывайте: они паразиты. Преследуя свои цели, они действуют через посредников, «загребают жар чужими руками». Для них это самая естественная, самая выгодная, интуитивно верная стратегия. Поэтому в первую очередь они создают биологическое оружие — подобие человека, способное оплодотворять человеческих самок, одновременно делая их непригодными для размножения людей. Самый экономный способ ликвидации! Вспомните, что именно такими методами люди не раз уничтожали насекомых-вредителей.
Рогушкои — выдающееся достижение. Несомненно, сотни — возможно, тысячи похищенных мужчин и женщин закончили свои дни в лабораториях ракообразных вивисекторов. Посреди ночи одна эта мысль кого угодно заставит проснуться к холодном поту. С точки зрения их создателей рогушкои — приемлемая имитация людей. Разумеется, это не так! Человек за версту распознает в них чудовищ. Тем не менее, они соответствуют своему биологическому предназначению.
Создав условия эксперимента, хороший экспериментатор некоторое время не вмешивается в события — для устранения ошибок необходимо их выявление. Поэтому сразу после высадки рогушкоев в тело Аноме водворяется наблюдатель. Та же судьба уготована ближайшим помощникам Аноме, благотворителям. Механизм, позволяющий асутре контролировать организм хозяина, еще не вполне изучен. Саджарано жаловался на «томление души», «веления внутреннего голоса», «внутреннюю необходимость». Финнерак тоже говорил о велениях совести, о внутреннем голосе, о необходимости доверять инстинктам. Очевидно, в своих лабораториях асутры научились манипулировать сильнейшими бессознательными стимулами, формирующими человеческое поведение.
В качестве биологического оружия рогушкои оказались неэффективны — эксперимент провалился. Как только мы положили конец неестественной пассивности Аноме, народы Шанта объединились перед лицом общего врага — даже дикие звери объявляют перемирие, когда им угрожают наводнение или пожар. Конечно, асутры могли завоевать Шант, снабдив рогушкоев дальнобойным разрушительным оружием. Но такое оружие дорого стоит. Рогушкои же бешено размножались на подножном корму, не требуя дополнительного вложения средств. Кроме того, основная цель эксперимента заключалась не в завоевании планеты, а в проверке и отработке методов опосредованной паразитической нейтрализации будущего противника.
Что, если людей можно уничтожить, побуждая их уничтожать друг друга? Здесь я еще не уверен в своих выводах, но мне кажется, что такова была основная идея манипуляции Финнераком. Подстегивая естественные для него дерзость и упрямство, но не вступая в конфликт с его инстинктами, а скорее чрезмерно потакая им, асутры добились того, что по вине Финнерака едва не вспыхнула межконтинентальная война.
Второй эксперимент тоже провалился — хотя применение принципа «разделяй и властвуй» свидетельствует о том, что асутры уже опасно приблизились к пониманию человеческой природы. Они, однако, недостаточно подготовились. Подозреваю, что попытка поссорить Шант с Паласедрой была поспешной импровизацией».
«Хорошо, пусть так, — Миаламбер хмурился. — Почему же они выбрали Финнерака — если, например, Гастель Этцвейн всегда оказывал более существенное влияние на события?»
«Некоторое время Финнерак производил впечатление человека, сосредоточившего в своих руках неограниченную власть, — отозвался Ифнесс. — Он контролировал Разведывательное управление, командовал Бравой Вольницей. Его звезда восходила — Джерд Финнерак пал жертвой своей удачи и своего успеха».
«Пожалуй, вы правы, — признал Миаламбер. — Между прочим, я точно помню, когда именно Финнерак перестал быть самим собой. Как-то раз он исчез на три дня...» Старый юрист замялся, бросив тревожный взгляд на Этцвейна.
В полутемной рыбацкой таверне наступила тяжелая тишина.
Этцвейн медленно опустил на стол сжатые кулаки: «Значит, так оно и есть. Я тоже сам не свой — во мне живет асутра».
«Любопытно! — заметил Ифнесс Иллинет. — У вас в ушах звучат странные голоса? Вас мучают приступы непреодолимой тоски? Вы постоянно разочарованы, подавлены? Таковы были первые симптомы разлада с асутрой, в конце концов заставившего Саджарано покончить с собой».
«У меня нет таких симптомов. Тем не менее, меня усыпили на три дня — так же, как Финнерака. Те же «парфийцы» орудовали в моем отеле. Я погиб, но асутры опоздали — цель достигнута, моя смерть ничего не изменит! Пойдемте в лабораторию и положим конец всей этой возмутительной комедии!»
Ифнесс Иллинет успокоительно приподнял ладонь: «Все не так плохо, как вы себе представляете. Я догадывался, что асутры непременно вами заинтересуются, и принял меры предосторожности. В частности, я остановился в номерах отеля «Гриндиана», рядом с вашими. Попытка приживить вам асутру была пресечена, а «парфийцы» ликвидированы. Насекомое, пожелавшее вступить с вами в симбиотическую связь, отправилось на Землю в склянке. Вы проснулись через три дня, проголодавшись и не понимая, что произошло — целый и невредимый».
Этцвейн вздохнул и опустил голову.
Ифнесс продолжал: «В Шанте асутры потерпели поражение — материально несущественное, но психологически сокрушительное. Благодаря бдительности Исторического института их эксперименты привлекли к ним внимание — а именно этого они старались избежать. Что нам удалось узнать? Мы знаем, что асутры ожидают конфликта с человечеством и готовятся к нему. Судя по всему, наступает эпоха столкновения двух галактических цивилизаций, чьи способы существования и представления о сотрудничестве поистине несовместимы... Ага! Канцлер Ста Суверенов почтил своим присутствием наше убогое пристанище. Надо полагать, он явился сообщить, что ваш планер готов к отлету. Господа, должен признаться, меня не прельщает перспектива питаться вонючей рыбой и спать на надгробии. С вашего разрешения я составлю вам компанию и вернусь в благословенный Шант...»
Книга 3. Асутры.
Глава 1
Рогушкоев и их хозяев, асутр, изгнали из Шанта. Поредевшие банды, изнуренные вылазками Бравой Вольницы и обескровленные налетами Эскадрильи, отступили на юг через Большую Соленую топь в Паласедру. Там, в унылой и бесплодной высокогорной долине, остатки меднокожей орды были уничтожены. Выжила только горстка атаманов, спасшихся на достопримечательном ржаво-бронзовом космическом корабле. Так закончилось странное вторжение в Шант.
Какое-то время победа радовала Гастеля Этцвейна. Скоро, однако, им овладело раздраженное томление — он замкнулся в себе. Этцвейн испытывал непреодолимое отвращение к ежедневным обязанностям, к общественной деятельности как таковой. То обстоятельство, что ему долго удавалось успешно выполнять совершенно чуждые ему функции, приводило его в замешательство. Вернувшись в Гарвий, он исключил себя из числа патрициев Пурпурной палаты с почти оскорбительной поспешностью. Гастель Этцвейн снова стал музыкантом, не больше и не меньше. Он тут же воспрянул духом и почувствовал себя самим собой — свободным человеком. Окрыленное состояние продолжалось два дня и кончилось разочаровывающим вопросом: «Что дальше?» Вопрос напрашивался, ответ заставлял себя ждать.
Туманным осенним утром размытые диски трех солнц лениво плавали в молочно-белом, розовом и голубом ореоле. Этцвейн шел по проспекту Галиаса. Липколисты почти прикасались к голове обмякшими влажно-сиреневыми, уже сероватыми лентами, поодаль медленно струилась к озеру Суалле излучина реки Джардин. На проспекте Галиаса, как всегда, толпились прохожие, не обращавшие внимания на еще молодого человека, недавно державшего в руках жизнь и смерть каждого из них. Будучи всесильным Аноме, Этцвейн вынужден был держаться незаметно. В любом случае он не бросался в глаза — двигался сдержанно, будто неохотно, говорил невыразительно, почти не жестикулировал и в целом производил впечатление мрачноватого субъекта старше своих лет. Глядя в зеркало, Этцвейн часто дивился явному несоответствию угрюмого, даже чуть зловещего отражения его внутреннему существу — одолеваемый сомнениями и лихорадочными мечтами, он метался от одной безрассудной идеи к другой, чрезмерно подверженный чарам красоты, воспаленный щемящей тоской о недостижимом. Таким, с изрядной долей насмешки, представлял себя Этцвейн. Только музыка сводила воедино и утоляла его несуразные и несообразные стремления.
Что дальше?
На первый взгляд ответом служило давно принятое решение. Он собирался снова присоединиться к оркестру маэстро Фролитца, «Розово-черно-лазурно-глубокозеленой банде». Тем не менее, он не ощущал уверенности в правильности такого намерения. Этцвейн остановился на набережной, провожая глазами опавшие ленты липколистов, змейками плывущие вниз по реке. Старая музыка казалась далеким отзвуком в уме, ветром юности, освежавшим только память.
Отвернувшись от реки, Этцвейн продолжил путь и скоро оказался у трехэтажного строения из черного и серо-зеленого стекла с огромными, нависшими над тротуаром малиновыми линзами в стенах — у гостиницы «Фонтеней», сразу напомнившей Этцвейну о землянине, корреспонденте Исторического института по имени Ифнесс Иллинет.
После уничтожения рогушкоев Ифнесс и Этцвейн вместе пересекли Шант в гондоле воздушной дороги, возвращаясь в Гарвий. Ифнесс вез с собой склянку с асутрой, извлеченной из тела атамана рогушкоев. Существо это напоминало большое насекомое длиной примерно двадцать, толщиной десять сантиметров — невообразимый гибрид клеща, тарантула, грецкого ореха и чего-то еще, вызывавшего смутные неприятные воспоминания. Каждая из восьми ног, поддерживавших продолговатое туловище, заканчивалась тремя чувствительными жесткими щупиками. На одном конце торса выступы лиловато-бурого хитина защищали органы зрения — три маслянисто-черных шарика в неглубоких впадинах, окаймленных щетиной. Под глазами подрагивали мелкие членистые жвала, тесно окружавшие узкое ротовое отверстие. Соскучившись в пути, Ифнесс время от времени пощелкивал по склянке, на что асутра отвечала едва заметным движением глазных бусинок. Пристальный взгляд насекомого нервировал Этцвейна. Где-то внутри блестящего коричневого тела скрывался чуткий, сложный аппарат, способный к рациональному мышлению или некоему эквивалентному процессу — аппарат, питавший к нему, Этцвейну, ненависть или аналогичное угрожающее чувство.
Ифнесс отказывался судить об эмоциональном состоянии асутры: «Догадки бесполезны. Известные факты не позволяют делать определенные выводы».
«Асутры пытались уничтожить Шант! — заявил Этцвейн. — Разве этого недостаточно, чтобы сделать выводы?»
Не отрывая глаз от дымчато-сиреневых далей кантона Теней, Ифнесс только пожал плечами. Подгоняемые порывистым попутным ветром, они летели под парусом на север, стараясь не замечать рывков и бортовой качки. Ветровой вез важных пассажиров и посему делал все возможное, чтобы побудить «Консейль», скрипучую капризную гондолу, тряхнуть стариной и проявить несвойственную ей прыть.
Этцвейн поставил вопрос по-другому: «Вы изучали асутру, поселившуюся в теле Саджарано Сершана. Что вам удалось выяснить?»
Ифнесс Иллинет отвечал размеренно и бесстрастно: «Метаболизм асутры необычен, его подробный анализ выходит за рамки моей компетенции. Учитывая недоразвитость питательного аппарата, можно предположить, что асутры — прирожденные паразиты. Они не проявляют никакой склонности к общению или пользуются способом связи, не поддающимся обнаружению с помощью человеческих органов чувств. Асутры охотно пользуются бумагой и карандашом — быстро чертят геометрические фигуры, иногда исключительно сложной структуры, но ничего, по-видимому, не сообщающие. Они нередко демонстрируют изобретательность, но их подход к решению задач можно назвать терпеливым и методичным».
«Откуда вы это знаете?» — поинтересовался Этцвейн.
«Я проводил эксперименты. Закономерности поведения можно наблюдать, создавая достаточно мощные стимулы».
«Что стимулирует асутру?»
«Возможность — хотя бы иллюзорная — совершить побег. Стремление избежать неприятных ощущений».
Чувствуя легкое отвращение, Этцвейн поразмышлял некоторое время и снова спросил: «Что вы собираетесь делать теперь? Вернетесь на Землю?»
Ифнесс Иллинет поднял глаза к лиловому небу, будто сверяясь с неким заоблачным справочником: «Надеюсь продолжить исследования. Мне нечего терять, но я могу приобрести существенное влияние. Несомненно, мне предстоит столкнуться с сопротивлением руководства института. В частности, препятствия будет чинить Дасконетта, большинством голосов возглавляющий факультет стратегической разведки. Он ни к чему уже не стремится, но может многое потерять».
«Любопытно! — подумал Этцвейн. — Вот как делаются дела на Земле». От корреспондентов Исторического института требовалось строгое соблюдение дисциплинарных правил, запрещавших любое вмешательство в дела исследуемого мира. Этцвейн знал об Ифнессе, о его работе, о его целях и проблемах только то, что можно было почерпнуть из слов и недомолвок самого Ифнесса — слишком мало, учитывая масштабы происходившего.
Ифнесс коротал время в пути, читая толстый сборник статей под названием «Царства древнего Караза». Этцвейн хранил полупрезрительное молчание. Каретка гондолы «Консейль» бежала по рельсу. За кормой остались кантоны Эреван и Майе, кантон Пособников, кантон Джардин. В осенних сумерках растворились холмы кантона Дикой Розы — впереди открылся провал Джардинского разлома. За ним высились темные склоны Ушкаделя. Гондола лихо спустилась по долине Молчания, пролетела над разломом и приблизилась к Южной станции, под чудесными хрустальными башнями Гарвия.
Станционная бригада подтянула гондолу к платформе. Ифнесс Иллинет спустился по трапу, вежливо кивнул Этцвейну и деловито направился в город.
Уязвленный и взбешенный, Этцвейн провожал глазами худощавую фигуру, исчезавшую в толпе на площади. Ифнесс явно старался не завязывать знакомства, прекращая всякие отношения, как только в них отпадала необходимость. Через два дня, глядя с набережной на знакомую гостиницу, Этцвейн не мог не вспомнить о землянине. Он пересек набережную и вошел в таверну «Фонтенея».
В трапезной было тихо. Редкие постояльцы грустили над кружками в темных углах, будто нарочно рассевшись подальше друг от друга. Этцвейн направился к прилавку, где его уже приветствовал хозяин заведения: «Смотри-ка! К нам пожаловал господин музыкант! К сожалению, не могу предложить вам сцену: сегодня выступает «Пунцово-розовато-лилово-белый ансамбль» маэстро Хессельроде. Не огорчайтесь. Скажу по секрету, вы играете на хитане не хуже любого друидийна. Попробуйте эль «Дикая роза» — за мой счет».
Этцвейн поднял кружку: «Ваше здоровье!» Эль освежил ему голову. Привычная жизнь представлялась не такой уж унылой. Этцвейн осмотрелся — вот низкая сцена, где играет оркестр. За этим столом он встретил восхитительную Джурджину Ксиаллинен. У входа, в тени, сидел Ифнесс, когда они искали Человека Без Лица. Все вокруг напоминало о событиях, казавшихся нереальными — с тех пор жизнь стала трезвой и обыденной... Этцвейн пригляделся: в дальнем углу что-то записывал в блокнот высокий человек неопределенного возраста с копной белоснежных волос. Большая линза в наружной стене, высоко над головой, озаряла его призрачными малиновыми лучами. Седовласый призрак поднес к губам бокал. Этцвейн повернулся к трактирщику: «Вы знаете, кто это — в угловой нише?»
Хозяин «Фонтенея» присмотрелся: «Как же, это у нас господин Ифнесс! Снимает лучшие номера. Странный тип — чопорный, нелюдимый, но по счетам платит без разговоров. Меркантилист родом с Одинокого мыса, кажется. Кто его знает?»
«Если не ошибаюсь, мы знакомы», — объявил Этцвейн, взял кружку и направился прямиком к землянину. Тот искоса следил за приближением музыканта — демонстративно закрыл блокнот и пригубил воды со льдом. Этцвейн вежливо поздоровался и уселся напротив Ифнесса. Если бы он стал ожидать приглашения, ему, возможно, пришлось бы допивать эль стоя. «Вспомнил былые похождения, решил заглянуть в таверну, — сообщил Этцвейн. — Вижу, вы занимаетесь тем же».
Губы землянина подернулись: «Сентиментальность вводит вас в заблуждение. В «Фонтенее» удобно останавливаться — хозяин ко мне привык. Кроме того, тут мне не мешают работать — как правило. Насколько я понимаю, вы тоже занятый человек. В вашей должности праздное времяпровождение — непозволительная роскошь».
«Я бездельничаю, сколько хочу, — возразил Этцвейн. — Позавчера я известил патрициев о том, что Пурпурной палате придется править Шантом без моей помощи».
«Вы заслужили отдых, — гнусаво пробубнил Ифнесс. — Желаю вам всего наилучшего. А теперь...» Историк многозначительно провел пальцами по блокноту, стирая воображаемую пыль.
«Проблема в том, что я не хочу бездельничать, — игнорировал намек Этцвейн. — При этом я мог бы содействовать вашим исследованиям».
Ифнесс поднял брови: «Не уверен, что понимаю сущность предложения».
«Все очень просто, — сказал Этцвейн. — Вы — корреспондент Исторического института. Вы ведете исследования на Дердейне и других планетах, вам может пригодиться помощник. В свое время мы уже сотрудничали — почему бы не продолжить славное начинание?»
В голосе Ифнесса появилась сухая резкость: «Непрактично в принципе. С работой я обычно справляюсь один. Конечно, время от времени обязанности принуждают меня покидать планету...»
Этцвейн поднял руку и прервал его: «Именно это меня больше всего интересует!» Слова эти прозвучали вполне убежденно, хотя до сих пор намерения Этцвейна не отличались определенностью: «Шант я хорошо знаю, в Паласедре побывал. Караз — дикий, пустынный континент. Мне не терпится увидеть далекие миры».
«Естественное, закономерное любопытство, — кивнул Ифнесс. — Тем не менее, вам придется удовлетворять его без моего участия».
Этцвейн задумчиво прихлебывал эль. Ифнесс, с каменным лицом, искоса следил за ним. Этцвейн спросил: «Вас все еще интересуют асутры?»
«Да».
«По-вашему, они что-то еще затевают в Шанте?»
«Я ничего не знаю наверняка, — Ифнесс вернулся к привычному нравоучительно-лекторскому тону. — Асутры испытывали на населении Шанта биологическое оружие, то есть рогушкоев. План провалился, главным образом в связи с несовершенством исполнения, но рогушкои, несмотря на примитивность, свое дело сделали — теперь асутры гораздо лучше осведомлены. У них все еще много возможностей. Они могут продолжить эксперименты, применить новое оружие. С их точки зрения, однако, более практичным может оказаться полное уничтожение людей на Дердейне».
Этцвейн никак не прокомментировал это заключение. Осушив кружку до дна, он, несмотря на явное неодобрение Ифнесса, подал трактирщику знак принести вторую: «Вы еще пытаетесь объясниться с асутрами?»
«Все подопытные экземпляры сдохли».
«И вам не удалось найти способ общения?»
«По существу, нет».
«Вы намерены поймать других?»
Ифнесс Иллинет холодно улыбнулся: «Мои цели гораздо скромнее, чем вы подозреваете. Меня беспокоит, главным образом, карьера в Институте, возможность пользоваться привычными привилегиями. Между вашими интересами и моими очень мало общего».
Этцвейн нахмурился, постучал пальцами по столу: «А перспектива уничтожения цивилизации на Дердейне вас нисколько не беспокоит?»
«Я предпочел бы, чтобы это не произошло, но мои предпочтения — не более, чем абстрактный идеал».
«Угроза реальна! — возразил Этцвейн. — Рогушкои погубили тысячи людей! Если асутры победят на Дердейне, что им помешает напасть на другие планеты? Земля тоже не в безопасности».
«Исходя из самых общих предпосылок, можно предположить такое развитие событий, — согласился Ифнесс. — Я затронул этот вопрос в представленном отчете. Мои коллеги, однако, склонны придерживаться других точек зрения».
«Какие могут быть сомнения? — возмутился Этцвейн. — На рогушкоях отрабатывалась тактика завоевания миров!»
«Вполне вероятно, но каких миров? Земных миров Ойкумены? Рогушкои — против оружия цивилизованных людей? Смехотворная идея!» Ифнесс дал понять недовольным жестом, что не желает продолжать разговор: «А теперь прошу меня извинить. Некий Дасконетта самоутверждается в Институте за мой счет — мне нужно продумать контрмеры. Рад был встретиться с вами снова...»
Этцвейн наклонился к собеседнику: «Вы знаете, откуда прилетели асутры?»
Историк нетерпеливо качал головой: «Скорее всего, они обосновались ближе к центру Галактики — там десятки тысяч пригодных для обитания миров».
«Разве не имеет смысла найти их планету, узнать о ней все, что можно?»
«Да, да, разумеется...» — Ифнесс открыл блокнот.
Этцвейн поднялся на ноги: «Желаю вам всяческих успехов в продвижении по службе!»
«Благодарю вас».
Вернувшись к прилавку трактирщика, Этцвейн выпил третью кружку эля, гневно поглядывая на Ифнесса, безмятежно потягивавшего воду со льдом и вносившего пометки в блокнот.
Покинув таверну гостиницы «Фонтеней», Этцвейн прогулялся на север по набережной Джардина, задумавшись о возможности, по-видимому, еще не приходившей в голову методичного землянина... Повернув на авеню Пурпурных Горгон, он поймал дилижанс и приказал ехать на площадь Корпорации. Выйдя у входа в Палату правосудия, Этцвейн взбежал по лестнице на второй этаж, где располагалось Разведывательное управление. Директор управления Аун Шаррах, статный мужчина, говоривший тихо и выражавшийся осторожно, умел, подобно большинству эстетов, производить впечатление небрежной элегантностью. Сегодня на нем была легкая, подчеркнуто скромная серая мантия, накинутая поверх полночно-синего костюма. Крупный сапфир сверкал на серебряной цепочке, продетой в мочку левого уха. Шаррах приветствовал Этцвейна дружелюбно, но с почтительной настороженностью, отражавшей их былые разногласия. «Насколько я понимаю, вы вернулись к частной жизни, — произнес Шаррах. — Молниеносное превращение. Вы не жалеете о своем решении?»
«Нисколько! Я другой человек, — пожал плечами Этцвейн. — Вспоминая, чем я занимался, удивляюсь самому себе».
«Вы удивили многих, — сухо заметил Шаррах, — в том числе меня». Директор Разведывательного управления откинулся на спинку кресла: «Что же теперь? Снова в оркестре?»
«Еще нет. Не могу найти себе места, заинтересовался Каразом».
«Обширное поприще для любознательного человека, — с едва заметной иронией заметил Аун Шаррах. — У вас впереди многие годы плодотворного труда».
«Я не собираюсь заниматься всеобъемлющими исследованиями, — возразил Этцвейн. — Мне хотелось бы знать несколько определенных вещей. В частности, не появлялись ли в Каразе рогушкои?»
Аун Шаррах оценивающе взглянул на посетителя: «Ваша частная жизнь быстро подошла к концу».
Этцвейн проигнорировал замечание: «Вот что я думаю. Рогушкоев пробовали применить в Шанте — и потерпели поражение. Все хорошо, что хорошо кончается. Как насчет Караза? Вдруг рогушкоев сначала высадили именно там? Может быть, формируется новая орда? Напрашиваются десятки предположений. Конечно, с таким же успехом можно предположить, что в Каразе ничего не происходит».
«Верно, — слегка развел руками Шаррах. — Разведка наша занимается в основном местными делами. С другой стороны, что мы могли бы предпринять, даже если бы захотели? Уже сейчас нам не хватает людей и ресурсов».
«В Каразе слухи дрейфуют по течению рек. В портах моряки узнают обо всем, что делается в глубине континента. Полезно было бы послушать, о чем толкуют у причалов и в прибрежных тавернах, какие вести привозят каразские суда».
«В этом есть смысл, — кивнул Аун Шаррах. — Я прикажу собрать сведения. Трех дней должно быть достаточно — по крайней мере для того, чтобы составить общее представление».
Глава 2
Тощий, смуглый, нелюдимый сорванец, сам себя назвавший Гастелем Этцвейном,[33] превратился в молодого человека со впалыми щеками и горящим, пронзительным взглядом. Когда Этцвейн играл на хитане, уголки его рта приподнимались, сообщая обычно угрюмым чертам оттенок поэтической меланхолии, но по преимуществу он был человек спокойный, внешне даже необычно сдержанный. Близких друзей у него не было — кроме, пожалуй, старого музыканта Фролитца, считавшего Этцвейна помешанным...
Уже на следующий день после посещения Палаты правосудия Этцвейн получил известие от Ауна Шарраха: «Расследование дало неожиданные результаты — уверен, что вас они заинтересуют. Жду вас в любое время».
Этцвейн немедленно отправился в Разведывательное управление.
Аун Шаррах провел его в помещение с высоким сводом под куполами шестого яруса. Линзы световых колодцев из водянисто-зеленого стекла полутораметровой толщины смягчали лавандовый свет солнц, насыщавший цвета огромного ковра работы мастеров Глирриса. Посреди зала на низком круглом столе семиметрового диаметра покоилась массивная рельефная карта. Приблизившись, Этцвейн обнаружил удивительно подробное изображение Караза. Горы, вырезанные из бледного янтаря, добытого в кантоне Преданий, были инкрустированы кварцем, изображавшим снега и ледники. Серебряными нитями и лентами в долинах, выложенных лиловато-серым сланцем, к морским берегам струились реки. Леса и болота были представлены зеленым бархатом различных оттенков, с пушистым длинным и гладким коротким ворсом. Шант и Паласедра лишь намечались очертаниями берегов с южного и восточного краев.
Аун Шаррах медленно прохаживался у северного края стола. «Вчера вечером, — сказал он, — местный дискриминатор[34] привел в управление матроса из Жирмонтских доков. Моряк поведал исключительно странную историю. Ее рассказывали горнодобытчики, спустившиеся на барже в Эрбол — это здесь, в устье Кебы». Шаррах нагнулся и опустил палец на карту: «Баржа привезла вулканическую серу отсюда, — Шаррах прикоснулся к излучине реки в трех тысячах километров выше по течению. — Район этот называется «Бурнун». Где-то здесь, на берегу Кебы, поселок Шиллинск — на старой карте он не значится... В Шиллинске владелец баржи говорил с торговцами-кочевниками с Запада, из-за гор — они спустились с перевала Кузи-Каза, кажется, здесь...»
Этцвейн, прибывший в гостиницу «Фонтеней» на дилижансе, столкнулся с Ифнессом в дверях таверны. Историк холодно кивнул и собрался было уйти, но Этцвейн решительно преградил ему дорогу: «Один момент!»
Ифнесс неохотно задержался, нахмурился: «В чем дело?»
«Вы упомянули некоего Дасконетту. Надо полагать, он уполномочен принимать важные решения?»
Ифнесс Иллинет с подозрением приподнял голову, искоса глядя на Этцвейна: «Дасконетта занимает ответственный пост».
«Я хотел бы с ним связаться. Как это сделать?»
Землянин не торопился с ответом: «В принципе есть несколько способов. Практически, в вашем случае, без моей помощи не обойтись».
«Прекрасно. Будьте добры, свяжите меня с Дасконеттой».
Ифнесс сухо усмехнулся: «Все не так просто. Если у вас есть существенная информация, способная заинтересовать Институт, приготовьте краткое изложение и представьте его мне. В свое время я буду говорить с Дасконеттой и могу передать ваше сообщение. Само собой, я не стану отнимать у него время тенденциозными призывами или тривиальными ходатайствами».
«Разумеется, — кивнул Этцвейн. — Вопрос, однако, требует срочного обсуждения. Уверен, что любая задержка вызовет порицание вашего начальства».
Ифнесс не повышал голос: «Сомневаюсь, что вы способны угадать реакцию Дасконетты. Он славится непредсказуемостью».
«Тем не менее, я считаю, что дело будет рассмотрено внимательно и без промедления, — настаивал Этцвейн. — Если, конечно, Дасконетта намерен сохранить свою должность. Есть какая-нибудь возможность связаться с ним напрямую?»
Усталым жестом землянин выразил смирение с неизбежностью: «В чем состоит ваше предложение — вкратце? Если вопрос действительно важен, по меньшей мере я смогу предложить полезные рекомендации».
«Не сомневаюсь, — сказал Этцвейн. — Но вы слишком заняты исследованиями. Вы дали понять, что не можете со мной сотрудничать, что у вас нет достаточных полномочий для решения важных проблем и что такие полномочия возложены на Дасконетту. Таким образом, с моей стороны разумнее всего немедленно обсудить ситуацию с Дасконеттой».
«Вы неправильно истолковали мои замечания, — голос Ифнесса слегка зазвенел. — Я объяснил, что не нуждаюсь в услугах помощника, и что в мои планы не входит организация экскурсии по планетам Ойкумены, призванной удовлетворить праздное любопытство Гастеля Этцвейна. Я не утверждал, что мои полномочия недостаточны или в каком-либо отношении уступают полномочиям Дасконетты, всего лишь указав на наличие некоторых условностей административного характера. Я обязан вас выслушать и узнать, что происходит — такова моя функция. Итак, что именно заставляет вас меня беспокоить?»
Этцвейн отвечал с подчеркнутым равнодушием: «Из Караза поступили сведения, заслуживающие внимания — вероятно, не более чем сплетни, но если в них есть какая-то доля истины, с моей точки зрения они нуждаются в немедленном расследовании. Поэтому я намерен просить Дасконетту о предоставлении быстроходного транспорта. Уверен, что в его распоряжении такой транспорт есть».
«Ага! В самом деле, любопытно. И в чем же состоят слухи, вызывающие у вас такое волнение?»
Этцвейн продолжал без малейших признаков волнения: «В Каразе появились рогушкои, большая орда».
Ифнесс Иллинет кивнул: «Продолжайте».
«Состоялась битва рогушкоев с армией людей, пользовавшихся, по словам очевидцев, лучевым оружием. По-видимому, рогушкои потерпели поражение, но скудных свидетельств недостаточно, чтобы сделать определенные выводы».
«Источник информации?»
«Моряк, говоривший с владельцем баржи в Каразе».
«Где, по его словам, произошло сражение?»
«Какое это имеет значение? Необходимо расследовать события на месте. Для этого требуется транспорт».
Ифнесс отвечал терпеливо и нежно, будто обращаясь к несмышленому младенцу: «Ситуация сложнее, чем вы себе представляете. Если ваш запрос получит Дасконетта или любой другой член Координационного совета, его просто-напросто возвратят мне, сопроводив язвительным замечанием по поводу моей некомпетентности. Кроме того, вам известны правила, ограничивающие деятельность корреспондентов Института — нам строго воспрещено вмешиваться в ход событий местного значения. Я нарушил это предписание, конечно, но до сих пор мне удавалось обосновывать свои действия. Если я позволю вам предъявить Дасконетте столь достопримечательное требование, меня сочтут безответственным глупцом. Таковы люди — что поделаешь? Согласен, каразские слухи немаловажны и, каковы бы ни были мои личные планы и предпочтения, я не могу их игнорировать. Давайте вернемся в таверну. Теперь вам придется изложить все факты подробно и по порядку».
Беседа продолжалась не меньше часа. Этцвейн вежливо настаивал, Ифнесс оказывал формальное логичное сопротивление, холодный и непроницаемый, как глыба черного стекла. Он не соглашался предоставить Этцвейну транспорт требуемого типа ни на каких условиях.
«В таком случае, — сказал наконец Этцвейн, — мне придется обойтись менее эффективными средствами передвижения».
Ифнесс удивился: «Вы серьезно намерены отправиться в Караз? Путешествие займет два-три года — допуская, что вы сумеете выжить».
«Все учтено, — заявил Этцвейн. — Само собой, я не собираюсь идти по Каразу пешком. Я намерен лететь».
«В гондоле? На планере? — Ифнесс поднял брови. — Над дикими просторами?»
«Когда-то, в древнем Шанте, строили гибридные летательные аппараты, так называемые «воздушные фрегаты» — с длинными гибкими крыльями, с фюзеляжем и основаниями крыльев, наполненными газом — достаточно тяжелые для планирования, достаточно легкие, чтобы парить при малейшем дуновении ветерка».
Ифнесс вертел в пальцах серебряное самопишущее перо: «Рано или поздно вы приземлитесь — что дальше?»
«Я окажусь в опасном, но не безвыходном положении. Даже обычный планер можно запустить без посторонней помощи, наподобие воздушного змея — дождавшись сильного ветра. Фрегату, чтобы взлететь, хватит легкого бриза. Согласен, предприятие рискованное...»
«Рискованное? Самоубийственное!»
Этцвейн мрачно кивнул: «Предпочел бы самолет или бронированный вездеход. Конечно же, у Дасконетты найдется что-нибудь в этом роде».
Серебряное перо в пальцах историка раздраженно дернулось: «Возвращайтесь сюда завтра. Я подыщу летательный аппарат — с условием, что все мои указания будут выполняться беспрекословно».
В Шанте даже дела соседнего кантона не вызывали особого любопытства, Караз же представлялся далеким, как Скиафарилья[35] — и гораздо менее заметным. Будучи музыкантом, Этцвейн объездил почти все кантоны Шанта — его кругозор был шире обывательского. Тем не менее, даже ему Караз казался далеким необжитым краем обожженных ледяными ветрами пустынь, вздымающихся за облака гор и головокружительных пропастей. Полноводные реки Караза, слишком широкие, чтобы с одного берега можно было видеть другой, растекались по бесконечным степям и равнинам. Девять тысяч лет тому назад на Дердейне поселились изгнанники, непокорные бунтари, диссиденты. Самые неистовые, самые неисправимые и неуживчивые бежали в Караз, чтобы навсегда затеряться в просторах, блуждая от одного дымчатого горизонта к другому. Их потомки все еще кочевали по безлюдным степям и нагорьям.
К полудню Этцвейн вернулся в гостиницу «Фонтеней», но Ифнесса не нашел. Прошел час, другой. Этцвейн вышел на набережную, стал прогуливаться взад и вперед. Он сохранял спокойствие, хотя не мог избавиться от некоторой подавленности. Этцвейн давно понял, что гневаться на Ифнесса было бессмысленно. С таким же успехом можно было грозить кулаком трем солнцам, безмятежно кружившимся в зените.
Наконец появился Ифнесс, быстрым шагом направлявшийся по проспекту Галиаса в сторону озера Суалле. Историк был чем-то не на шутку озабочен — наморщив лоб, он, казалось, собирался пройти мимо Этцвейна, даже не поздоровавшись, но в последний момент резко остановился. «Вы хотели встретиться с Дасконеттой, — произнес Ифнесс. — Вы его увидите. Подождите здесь, я скоро вернусь».
Землянин зашел в таверну. Этцвейн взглянул на небо — солнца скрылись за пеленой тяжких грозовых туч, стеклянный город сумрачно поблек. Этцвейн тоже нахмурился, нервно повел плечами.
Ифнесс вернулся в длинной черной накидке, драматически развевавшейся по ветру. «Пойдемте!» — бросил он и направился вверх по набережной.
Пытаясь не потерять достоинство, Этцвейн не двинулся с места: «Куда?»
Ифнесс раздраженно обернулся и сверкнул глазами, но ответил, не повышая голос: «Каждый из участников совместного предприятия должен знать, чего следует ожидать от другого. В том, что касается меня, вы можете рассчитывать на получение информации в той мере, в какой этого требуют обстоятельства. Я не намерен отягощать вас чрезмерными подробностями. От вас я ожидаю бдительности, благоразумия и расторопности. Теперь мы отправимся в кантон Дикой Розы».
Этцвейн почувствовал, что добился по меньшей мере какой-то уступки, и, не говоря ни слова, последовал за историком на станцию воздушной дороги.
Гондола «Кармун» нетерпеливо натягивала тросы. Как только Ифнесс и Этцвейн взошли на борт, станционная бригада отпустила переднюю тележку каретки, и гондола взмыла в воздух. Ветровой поставил парус круто к бортовому ветру, каретка зажурчала в рельсе — «Кармун» устремился на юг.
Они пролетели над Джардинским разломом: расступились поднимающиеся уступами холмы Ушкаделя. Этцвейн заметил сверкнувший на склоне, в роще деревьев-близнецов и кипарисов, дворец Сершанов. Перед ними простирались тенистые зеленые долины кантона Дикой Розы. Скоро показались крыши торгового центра кантона, Джамилио. Ветровой «Кармуна» выставил оранжевый флажок. Станционная бригада подхватила крюками заднюю тележку каретки и отвела переднюю вперед, принуждая «Кармун» опуститься к платформе. Ифнесс и Этцвейн вышли. Землянин подозвал дилижанс, дал краткие указания кучеру. Пассажиры сели в карету, быстроходец[36] побежал легкой трусцой.
Полчаса они ехали вверх по долине Джардина мимо сельских поместий гарвийских эстетов,[37] потом через сад земляничников к ветхой усадьбе. Ифнесс сдержанно обратился к Этцвейну: «Возможно, вам будут задавать вопросы. Я не вправе вам подсказывать, но будьте добры, отвечайте кратко и по существу, не предлагайте делиться дополнительными сведениями».
«Мне нечего скрывать, — достаточно сухо отозвался Этцвейн. — Если меня станут расспрашивать, я отвечу настолько подробно, насколько это согласуется с моими интересами».
Ифнесс Иллинет промолчал.
Дилижанс остановился в тени у полуразрушенной наблюдательной башни, пассажиры вышли. Ифнесс уверенно направился по тропе через заросший сад и пересек внутренний двор, мощеный бледно-зеленым мрамором. Войдя в приемный зал усадьбы, землянин остановился и жестом приказал Этцвейну сделать то же самое. Внутри не раздавалось ни звука — дом казался давно заброшенным. В воздухе пахло пылью, сухим деревом, старой олифой. Сиреневый полуденный свет струился веером из узкого высокого окна, озаряя половину потемневшего портрета в нелепом старомодном костюме...
В дальнем конце зала появился человек. Какое-то время он молча стоял и смотрел, потом сделал шаг вперед. Не обращая внимания на Этцвейна, он вкрадчиво обратился к Ифнессу на ритмичном языке. Ифнесс коротко ответил. Отойдя в сторону, оба собеседника прошли через открытый дверной проем. Этцвейн ненавязчиво последовал за ними в двенадцатигранное помещение с высоким потолком и стенами, обшитыми гладкими тонкими щитами табачно-коричневого дерева, освещенное шестью пыльными овальными окнами розовато-лилового стекла, под самым плафоном.
Этцвейн рассматривал незнакомца с нескрываемым интересом. Дасконетта поселился, как привидение, в заброшенной усадьбе? Странно, почти невероятно! Коренастый мужчина среднего роста, Дасконетта (по-видимому, это все же был он) жестикулировал резко, но в высшей степени сдержанно. Блестящие, коротко подстриженные «под горшок» черные волосы сужались между залысинами подобно носу корабля, спускаясь к широкому, выпуклому лбу. Поджатые губы превратились в почти незаметную черту между бледным носом и столь же бледным подбородком. Быстро покосившись черными глазами на вошедшего Этцвейна, Дасконетта больше не замечал его.
Ифнесс и Дасконетта обменивались размеренными фразами. Ифнесс утверждал, Дасконетта подтверждал. Этцвейн устроился на скамье из камфорного дерева и следил за разговором. Собеседники явно не испытывали друг к другу теплых чувств. Ифнесс не столько оборонялся, сколько был настороже. Дасконетта слушал внимательно, будто сверяя каждое слово с прежними утверждениями или с заявленной ранее позицией. В какой-то момент Ифнесс наполовину повернулся к Этцвейну, проявляя готовность обратиться за дополнительными свидетельствами или подчеркивая некое особое обстоятельство. Дасконетта остановил его, язвительно и односложно.
Ифнесс чего-то потребовал, Дасконетта отказал. Ифнесс настаивал. Теперь Дасконетта проделал странный фокус: достал откуда-то из-за спины, жестом человека, поднимающего документ с несуществующего стола, возникшую в воздухе легкую квадратную панель шириной больше метра, состоявшую из тысяч перемигивающихся белых и тускло-серых ячеек. Ифнесс высказал ряд замечаний, Дасконетта ответил. Оба принялись разглядывать квадратную панель, искрившуюся и переливавшуюся белыми и серыми клеточками в тонких черных обрамлениях. Дасконетта обратил к Ифнессу спокойно улыбающееся лицо.
Беседа продолжалась еще минут пять. Дасконетта сделал окончательное заключение. Ифнесс повернулся и вышел из помещения. Этцвейн вышел за ним.
Ифнесс молча маршировал к дилижансу. Этцвейн, пытаясь подавить растущее раздражение, спросил: «Что вам удалось узнать?»
«Ничего нового. Группа, определяющая политику, отказалась одобрить мои планы».
Оглядываясь на заброшенную усадьбу, Этцвейн недоумевал: почему Дасконетта прозябает в пыльном, унылом жилище? Вслух он спросил: «Значит, он не поможет?»
«Кто не поможет? В чем?»
«Дасконетта — найти средство добраться до Караза».
Ифнесс отозвался с искренним безразличием: «Основная проблема не в этом. Если понадобится, средство передвижения всегда найдется».
Этцвейн с трудом скрывал гнев и напряжение: «В чем же заключается основная проблема?»
«Я предложил провести расследование с участием организаций, независимых от Института. Дасконетта и его клика не желают рисковать «загрязнением исторической среды». Как вы могли заметить, ему удалось заручиться большинством голосов».
«Дасконетта постоянно проживает в кантоне Дикой Розы?»
Ифнесс позволил себе усмехнуться уголком рта: «Дасконетта далеко — по ту сторону Скиафарильи. Вы видели симулу — объемное изображение, говорившее с моей симулой в другом мире. Для понимания принципа связи требуется длительная научная подготовка».
Этцвейн опять обернулся к старой усадьбе: «Кто же там живет?»
«Никто. Планировка внутренних помещений соответствует планировке похожего строения на пятой планете системы Гланцен».
Они забрались в дилижанс, покатившийся назад в Джамилио.
Этцвейн продолжал: «Ваши поступки не поддаются объяснению. Почему вы утверждали раньше, что не можете отвезти меня в Караз?»
«Ничего подобного я не утверждал, — заявил Ифнесс. — Вы пытаетесь возложить на меня ответственность на основе ложных умозаключений. В любом случае, ситуация гораздо сложнее, чем вы предполагаете, и вас не должна удивлять скрытность, в моем положении неизбежная».
«Скрытность или обман? — возмутился наконец Этцвейн. — Результат-то примерно один и тот же!»
Ифнесс примирительно поднял ладонь: «Объясню, что происходит — хотя бы для того, чтобы не выслушивать ваши упреки... Я совещался с Дасконеттой не для того, чтобы в чем-то его убедить или выпросить летательный аппарат. Моя цель состояла в том, чтобы спровоцировать его, побудить к заведомо неправильному выбору. Теперь он совершил ошибку. Более того, располагая недостаточной информацией и руководствуясь ее субъективной оценкой, Дасконетта добился поддержки большинства. Теперь появилась возможность продемонстрировать факты, способные выбить у него почву из-под ног. Производя расследование, я намеренно выйду за рамки стандартных правил и ограничений, что поставит Дасконетту в чрезвычайно неудобное положение. Ему придется принять одно из двух возможных решений — увязнуть еще глубже, продолжая занимать явно опровергнутую позицию, или унизиться, согласившись с моей точкой зрения».
Этцвейн скептически хмыкнул: «Разве Дасконетта не учел такую перспективу?»
«Думаю, что нет. Иначе он вряд ли провел бы голосование и проявил полную неуступчивость. Дасконетта уверен в своей правоте, целиком и полностью полагаясь на правила Исторического института. Он воображает, что меня одолевают сомнения и опасения, что я связан ограничениями по рукам и ногам. На самом деле произошло нечто противоположное — он открыл передо мной широкий выбор многообещающих возможностей».
Этцвейн не мог разделить энтузиазм Ифнесса: «Только в том случае, если расследование даст существенные результаты».
Историк пожал плечами: «Если слухи не оправдаются, для меня ничего не изменится — Дасконетта в любом случае планировал восстановить против меня большинство и провести голосование».
«Так-так... И зачем же вы взяли меня с собой?»
«Я надеялся, что Дасконетта начнет вас расспрашивать, чтобы подлить масла в огонь и выставить меня в самом невыгодном свете. Он осторожно отказался, однако, от слишком привлекательной приманки».
«Хм! — роль, уготованная ему Ифнессом, не льстила Этцвейну. — Каковы же теперь ваши планы?»
«Я намерен изучить события, послужившие причиной сплетен в Каразе. Таинственное противоречие: зачем асутрам понадобилось снова испытывать рогушкоев? Они доказали свою бесполезность — к чему высаживать их на Дердейне дважды? Кто были люди, применившие, по слухам, лучевое оружие в битве? У паласедрийцев такого оружия нет, а в Шанте никто не организовывал военных экспедиций. Загадка, загадка! Признаюсь, меня раздирает любопытство. Так что же, скажите, наконец — где именно произошло сражение? Что говорят очевидцы? Согласен — в этом расследовании мы объединим наши усилия».
«Неподалеку от селения Шиллинск, у берегов Кебы».
«Сегодня же просмотрю справочные материалы. Завтра отправимся в путь. Задерживаться больше нельзя».
Этцвейн молчал. Оказавшись лицом к лицу с неизбежностью осуществления своего плана, он внутренне содрогнулся, встревоженный недобрыми предчувствиями. В конце концов он заставил себя задумчиво произнести: «Завтра так завтра».
Поздно вечером Этцвейн еще раз зашел к Ауну Шарраху. Тот ничуть не удивился дерзкому проекту музыканта: «Могу предложить еще один — нет, даже два результата местных розысков. Первый результат отрицателен в том смысле, что мы расспрашивали моряков из других портов Караза, и ни один не упомянул о рогушкоях. Кроме того, получено весьма неопределенное сообщение о появлении космических кораблей — говорят, их видели в районе Оргая, к западу от хребта Кузи-Каза. Больше ничего. Желаю удачи. Буду с нетерпением ожидать вашего возвращения. Хорошо понимаю ваши побуждения — хотя меня они вряд ли заставили бы отправиться в центральный Караз».
Этцвейн неловко усмехнулся: «В ближайшее время мне больше нечем заняться».
Глава 3
Этцвейн явился в гостиницу «Фонтеней» раньше условленного времени. На нем были костюм из плотного серого сукна, водонепроницаемая куртка из просмоленной рогожи — Караз был знаменит холодными туманами и дождями — и сапоги из чумповой кожи.[38] В походный мешок он положил лучевой пистолет, давным-давно полученный от Ифнесса.
Ифнесса ни в гостинице, ни в таверне не было. Снова Этцвейну пришлось беспокойно бродить взад и вперед по набережной. Прошел час. К Этцвейну сзади подъехал дилижанс. Кучер махнул рукой: «Вы Гастель Этцвейн? Извольте садиться, поехали».
Этцвейн с подозрением уставился в лицо бородачу: «Куда?»
«Поручено доставить вас по адресу — на северную окраину города».
«Кто вас нанял?»
«Некий Ифнесс».
Этцвейн залез в дилижанс. Они ехали по берегу разлившейся дельты Джардина, постепенно превратившейся в сообщающееся с океаном солоноватое озеро Суалле. Город остался позади. Прибрежная дорога пересекала мрачные пустыри, заваленные осколками и щебнем, заросшие крапивой. Время от времени попадались сараи и склады, несколько покосившихся хижин. Дилижанс остановился у старинного здания, сложенного из шлаковых блоков. Кучер просигналил Этцвейну рукой, и тот вышел. Дилижанс тут же развернулся и уехал.
Этцвейн подошел ко входной двери, постучал. Ответа не было. Обойдя строение, он обнаружил крутой каменистый склон, спускавшийся к крытому причалу на сваях — между сваями плескалась вялая озерная рябь. Сойдя к причалу по узкой тропе, Этцвейн заглянул под навес: Ифнесс Иллинет перетаскивал в парусную лодку увесистые тюки.
Этцвейн стоял и смотрел, подозревая, что Ифнесс, наконец, спятил. Отправляться на утлом парусном боте через Зеленый океан, чтобы обогнуть Караз, добраться вдоль северного берега до Эрбола и подняться вверх по течению Кебы в Бурнун было, мягко говоря, непрактично — хотя бы потому, что запасов, помещавшихся в лодке, не хватило бы даже на половину пути.
Ифнесс угадал ход мыслей Этцвейна и сухо произнес: «Учитывая характер наших исследований, мы не можем величественно лететь над Каразом в роскошной воздушной яхте. Вы готовы? Тогда залезайте в лодку».
«Готов», — Этцвейн перешагнул в лодку. Ифнесс отдал швартовы и вытолкнул лодку из-под навеса навстречу серебристому простору озера: «Будьте добры, поднимите парус».
Этцвейн навалился на фал. Парус надулся, тихо зажурчала вода — лодка двинулась. Этцвейн опасливо присел на поперечную скамью и некоторое время смотрел, прищурившись, на удаляющийся берег, после чего заглянул в кабину, заваленную принесенными Ифнессом тюками, пытаясь угадать их содержимое. Провизия? Запас пресной воды? Хватит на три дня, самое большее на неделю. Этцвейн пожал плечами и повернулся лицом к озеру. Лучи трех солнц отражались на подернутой рябью воде мириадами розовых, голубых и белых перемигивающихся искр и блесток. За кормой вырастали чудесные стеклянные шпили и купола Гарвия, приглушенно сиявшие сквозь дымку расстояния. Этцвейн подумал, что, скорее всего, больше никогда не увидит башни Стеклянного города.
В течение часа лодка шла под парусом по озеру Суалле — до тех пор, пока берега не превратились в размытую полоску на горизонте. Вокруг не было ни кораблей, ни лодок. Ифнесс буркнул: «Опустите парус, разберите мачту».
Этцвейн повиновался. Тем временем Ифнесс вытащил секции прозрачного материала, вставлявшиеся в пазы бортов и образовавшие ветрозащитный колпак над открытой частью лодки. Этцвейн молча наблюдал. Ифнесс в последний раз осмотрел горизонт, после чего приподнял крышку выступавшего из палубы ящика на корме. Этцвейн заметил черную панель с белыми, красными и синими кнопками и круглыми ручками. Ифнесс Иллинет нажал кнопку, повернул пару ручек. Раздался шум стекающей воды: лодка упруго подпрыгнула в воздух и устремилась вперед и в небо, быстро набирая скорость и высоту. Землянин снова прикоснулся к ручкам — лодка плавно повернула на запад, чтобы пролететь высоко над обнаженными отливом прибрежными топями Фенеска.
«В лодке путешествовать удобно и безопасно, — небрежно обронил Ифнесс. — Она нигде не привлекает внимания, даже в Каразе».
«Остроумное изобретение», — отозвался Этцвейн.
Ифнесс безразлично кивнул: «Точных карт Караза нет — придется руководствоваться известными ориентирами и здравым смыслом. Карты, составленные в Шанте, очень ненадежны. Лучше всего лететь вдоль берега Караза до устья Кебы — насколько я понимаю, не меньше трех тысяч километров. Потом можно следовать вверх по течению Кебы, не опасаясь потерять дорогу».
Этцвейн вспомнил огромную рельефную карту в Палате правосудия. В районе Шиллинска он заметил несколько рек: Панджорек, Синюю Зуру, Черную Зуру, Юсак, Бобол. Попытка лететь кратчайшим путем над континентом могла привести к ошибке при выборе долины, ведущей к Шиллинску. Этцвейн вернулся к созерцанию влажной прибрежной равнины кантона Фенеск, прослеживая глазами ветвящиеся каналы и протоки, радиально расходившиеся от четырех городов Северной топи. Вдали показалась кантональная граница — прямолинейный ряд стройных черных алиптов. За ними в сиреневых сумерках терялись трясины и моховые болота кантона Гитанеск.
Едва помещаясь на корточках в кабине, Ифнесс заварил чай. Сидя под носовым прозрачным щитом, свистящим и дрожащим от ветра, спутники напились чаю и закусили ореховым печеньем из запасов Ифнесса. Землянин слегка расслабился, на лице его появилось почти благодушное выражение. Раньше он, пожалуй, оборвал бы резким замечанием любую попытку завязать разговор. Теперь Ифнесс сам соблаговолил нарушить молчание: «Ну что же, отправляясь в путь, мы приняли все меры предосторожности, и никто не пытался нам помешать».
«Вы ожидали неприятностей?»
«Почти не ожидал. Сомневаюсь, что асутры все еще содержат агентов в Шанте — их вряд ли интересуют последствия фиаско. Дасконетта мог проинформировать контролеров из Института, но даже если он это сделал, мы их опередили».
«Судя по всему, у вас с Дасконеттой более чем натянутые отношения».
Ифнесс спокойно кивнул: «В такой организации, как Исторический институт, корреспондент-стипендиат приобретает влиятельное положение, демонстрируя суждение, превосходящее по проницательности мнения коллег — особенно тех, кого уже считают догадливыми и знающими специалистами. Я обвел Дасконетту вокруг пальца с такой легкостью, что начинаю беспокоиться: неужели он уготовил какой-то подвох? Как он намеревается опровергнуть мою точку зрения, если любое расследование приведет к ее подтверждению? Опасная, чреватая осложнениями ситуация!»
Этцвейн хмурился, искоса поглядывая на землянина, чьи заботы и тревоги, как всегда, представлялись ему непостижимо чуждыми: «Подвохи Дасконетты беспокоят меня гораздо меньше, чем предстоящие поиски в Каразе — может быть, не чреватые особыми осложнениями, но несомненно опасные. В конце концов, Дасконетта не каннибал и не приносит в жертву богам заблудших странников».
«У меня нет оснований для обвинения Дасконетты в ритуальных убийствах, сопровождающихся поеданием конкурентов, — слабо улыбнулся Ифнесс. — Вероятно, вы правы: следует сосредоточить внимание на Каразе. Если верить Крепоскину,[39] в верховьях Кебы достаточно спокойно, если не приближаться к истокам в отрогах Юрт-Унны. Шиллинск, по-видимому, находится в том же районе. Крепоскин упоминает о речных пиратах и называет прибрежных жителей «сорухами». Речные острова населяет выродившееся племя горионов — этих игнорируют даже работорговцы».
Внизу, за бортом, меловыми Полуденными утесами оборвались холмы Хурра — здесь бушующие валы Зеленого океана разбивались о последние контрфорсы Шанта. Час они летели над пустынными водными просторами, затем на горизонте появились смутные темные очертания: Караз. Этцвейн поежился. Ифнесс сидел спиной к ветру, размышляя над открытым блокнотом. Этцвейн спросил: «Как вы собираетесь вести расследование?»
Ифнесс закрыл блокнот, заглянул за борт, оценивающе посмотрел на небо: «У меня нет определенных планов. Требуется найти объяснение загадочным слухам. Прежде всего нужно установить факты — только тогда можно делать какие-то выводы. Мы еще почти ничего не знаем. Рогушкоев, по-видимому, искусственно вывели как биологическое средство уничтожения людей. Управляющие ими асутры — раса паразитов или, выражаясь беспристрастно, умственно развитые членистоногие, сосуществующие в симбиозе с носителями. В Шанте рогушкои потерпели поражение. Зачем их высадили в Каразе? В качестве оккупационной армии? Как охранников новой колонии хозяев? Или асутры намерены добывать какие-то ископаемые? До поры до времени остается только строить догадки».
Горы Караза громоздились на западном горизонте. Ифнесс повернул на два-три румба к северу, чтобы лодка приближалась к береговой линии по диагонали. Вечером они уже летели над белеющим барашками прибоем. Ифнесс откорректировал курс и сбавил скорость. Всю ночь лодка дрейфовала вдоль берега, следуя над полосой бледно фосфоресцирующей морской пены. В предрассветной мгле прямо по курсу выросла горбатая тень мыса Комранус, в связи с чем Ифнесс объявил карты Крепоскина практически бесполезными: «По существу он сообщает только, что Комранус существует и находится где-то на побережье Караза. Пользоваться его картами следует с изрядной долей скептицизма».
Утром лодка летела параллельно линии берега, за мысом Комранус все круче отклонявшейся на восток, мимо вереницы выступающих в море приземистых скал, перемежавшихся глинистыми пляжами. В полдень они оказались над безжизненным каменистым полуостровом, вытянувшимся на север километров на восемьдесят и на картах Крепоскина не обозначенным. За полуостровом снова блестел океан. Ифнесс решил спуститься ниже — теперь лодка парила в трехстах метрах над берегом.
Через пару часов они пересекли широкое, как море, устье Джевера — реки, опутавшей паутиной притоков бассейн Джеверман, по площади не уступавший всему Шанту вместе взятому. С подветренной стороны крутого холма прятался целый городок — сотня каменных хижин. На якоре качалась дюжина рыбацких посудин. Ифнесс и Этцвейн впервые увидели человеческое поселение в Каразе.
Руководствуясь картой Крепоскина, Ифнесс повернул на запад, вглубь материка, чтобы миновать дремучие леса, простиравшиеся на север, насколько видел глаз — полуостров Мирв. Когда за кормой остались километров сто пятьдесят непроходимой тайги, Этцвейн увидел поднимавшийся с почти незаметной опушки сизый дымок — он успел заметить три бревенчатых хижины и еще минут десять смотрел назад остановившимся взглядом, пытаясь представить себе, какие люди решились затеряться в глуши северных лесов Караза...
Пролетев еще сто пятьдесят километров, они достигли дальнего берега полуострова Мирв — в этом случае карта Крепоскина себя оправдала. Теперь они снова парили над водой. Впереди берег расступался километров на пятнадцать: здесь сливалась с океаном дельта реки Хитце, усыпанная островками с высокими отвесными берегами. Каждый островок казался миниатюрной волшебной страной изящных деревьев и мшисто-зеленых лугов. На одном красовался темно-серый каменный замок, у другого стояло на причале большое торговое судно.
Вечером небо затянулось наползавшими с севера тучами, пейзаж обволокло сливовыми сумерками. Лодка замедлилась. Поразмыслив, Ифнесс решил спуститься на защищенный от ветра песчаный пляж небольшой бухты. Тучи озарялись молниями — Ифнесс и Этцвейн натянули над палубой брезентовый навес. Скоро капли дождя уже молотили по прорезиненной ткани. Путешественники подкрепились бутербродами с мясом, запивая крепким чаем. Этцвейн спросил: «Если бы асутры напали на Дердейн, испепеляя города лучевым оружием с космических кораблей, прислали бы земляне и люди Ойкумены свои звездолеты, чтобы нас защитить?»
Ифнесс откинулся на скамье, прислонившись спиной к борту: «Трудно сказать. Координационный совет — консервативная группа. Земные планеты поглощены своими заботами. Организация объединенных миров потеряла всякое влияние — если оно у нее когда-нибудь было. Дердейн — далеко за Скиафарильей, Дердейн забыт. Если такое престижное учреждение, как Исторический институт, представит отчет, рекомендующий противодействие асутрам, Координационный совет может рассмотреть соответствующее предложение. Дасконетта, как я уже говорил, стремится преуменьшать значение событий. Он отказывается признать, что асутры — первая технологически компетентная нечеловеческая раса, столкнувшаяся с людьми, отказывается признать эпохальный масштаб происходящего».
«Любопытно! Факты достаточно красноречивы».
«Верно. Но, как вы догадываетесь, за близорукостью Дасконетты скрывается интрига. Он и его клика призывают к осторожности и советуют продолжать исследования. В свое время они собираются объявить об опасности под эгидой Института — но так, чтобы мое имя вообще не упоминалось. Я намерен сорвать их планы».
Помрачневший Этцвейн, оскорбленный несоразмерностью угрожающей его планете катастрофы и мелочно-карьеристских упований историка, решил выйти из-под навеса и подышать ночным воздухом. Гроза стихла, напоминая о себе только редкими тяжелыми каплями. Молнии бешено сверкали далеко на востоке, над Мирвом. Напрягая слух, Этцвейн не мог различить никаких звуков, кроме размеренного шума прибоя. Ифнесс тоже вышел посмотреть, что делается вокруг.
«Мы могли бы продолжить путь, но я не уверен, что в темноте смогу отличить Кебу от других, почти параллельных рек. Крепоскин приводит в отчаяние — им невозможно пренебрегать, но и доверять ему тоже нельзя! Лучше подождать рассвета». Ифнесс вглядывался в темноту: «Где-то там, дальше по берегу, руины Сузерана — города, основанного шельмфайридами примерно шесть тысяч лет тому назад... Тогда, как и сейчас, Караз был дик и почти безлюден. Враги осаждали город и отступали с потерями, но всегда возвращались — старые враги, новые враги... В конце концов очередное полчище разбойников разграбило и разрушило Сузеран, не оставив камня на камне — как пишет Крепоскин, остались только «эсмерики», впечатления жизни и смерти».
«Мне это слово незнакомо».
«Древнекаразский диалект: «эсмериками» называли комплекс ассоциаций, общую атмосферу, присущую тому или иному месту — невидимые призраки былого, растворенные во времени звуки, всепроникающее ощущение славы, музыки, трагедии, ликования, скорби и ужаса, по словам Крепоскина, никогда не исчезающее».
Этцвейн смотрел в темноту — туда, где когда-то был древний город. Если «эсмерики» существовали, их присутствие во влажном мраке ночи почти не ощущалось. Этцвейн вернулся в лодку и попытался уснуть на узкой скамье у правого борта.
К утру небо прояснилось. Голубое солнце, Эзелетта (или Этта, как его называли в Каразе), всплыло над самым горизонтом, озарив океан на востоке ложным синеватым рассветом. Этта спряталась; за ней лениво, по наклонной дуге, выкатилась розовая Сасетта, сопровождаемая чуть запоздавшим ярко-белым Заэлем и, наконец, вернувшейся на круги своя голубой Эзелеттой. Позавтракав сушеными фруктами с чаем и бросив взгляд с ближайшего мыса на россыпи камней и заросли кустарника, оставшиеся от древнего Сузерана, Ифнесс и Этцвейн поднялись на лодке в воздух. Впереди, отливая свинцовым блеском в рассветных лучах, в континентальную массу вдавалось устье огромной реки. Ифнесс объявил, что это Юсак. К полудню они пролетели над Боболом и через три часа достигли устья Кебы — Ифнесс опознал ее по меловым утесам на западном берегу и по крышам Эрбола, фактории в восьми километрах выше по течению.
Над устьем Кебы, больше шестидесяти километров в ширину, Ифнесс повернул на юг. Слепящие дорожки отражений трех солнц золотили мелкую рябь спокойных вод. В низовьях Кеба текла с юго-запада, но у самого горизонта величественной дугой изгибалась налево, к юго-востоку. Поверхность реки рассекали клиньями следов три баржи, с такой высоты казавшиеся микроскопическими — две поднимались против течения под надувшимися северным ветром квадратными парусами, одна медленно дрейфовала вниз по реке.
«Здесь карты уже не помогут, — сказал Ифнесс. — Крепоскин не упоминает никаких селений выше по течению Кебы, но пишет, что прибрежные районы населяют сорухи, воинственное племя, никогда не отступающее в битвах».
Этцвейн рассматривал аляповатые наброски Крепоскина: «В трех тысячах километров на юг, если следовать вдоль реки, мы будем в районе Бурнун и окажемся где-то здесь, неподалеку от равнины Лазурных Цветов».
Ифнесс не интересовался мнениями Этцвейна. «Эти зарисовки не дают точного представления даже о взаимном расположении ориентиров, — сухо отозвался историк. — Пролетим требуемое расстояние, приземлимся, изучим ситуацию на месте». Он взял у Этцвейна книгу, закрыл ее и отвернулся, погрузившись в какие-то размышления.
Этцвейн угрюмо усмехнулся. Он уже привык к бесцеремонности землянина и больше не позволял себе раздражаться. Пройдя вперед, Этцвейн встал на носу лодки, поглощая взглядом бескрайние темно-лиловые леса, бледно-голубые дали, обширные крапчато-зеленые болота и полузаросшие старицы, темно-серебристую ленту Кебы. Дикий Караз! Вот куда его привели страх бездействия и скуки, томление по новизне. Ифнесс? Что заставляет брезгливого, холеного землянина подвергаться походным тяготам и риску неизвестности? Этцвейн хотел было задать вопрос, но придержал язык, не желая выслушивать саркастические колкости, все равно ничего не объяснявшие.
Этцвейн снова повернулся лицом к внутреннему Каразу — где-то там, в голубых далях, скрывалась разгадка многих тайн.
Лодка летела всю ночь. Ифнесс правил, руководствуясь отражением пылающей Скиафарильи в речных водах. К полудню Ифнесс спустился ближе к реке — теперь Кеба то разливалась километров на пятнадцать, то сужалась, выбирая путь среди тысяч лесистых островков.
«Смотрите, не попадется ли поселок или, что еще лучше, рыбацкая лодка, — посоветовал историк. — Нужно расспросить местных жителей».
«Как мы их поймем? В Каразе говорят на несусветных наречиях».
«Тем не менее полагаю, что мы справимся, — гнусаво-назидательным тоном произнес Ифнесс. — В лингвистическом отношении Бурнун и бассейн Кебы единообразны. Местный диалект происходит от шантского языка».
Этцвейн с сомнением посмотрел за борт: «Как это возможно? Шант слишком далеко».
«Обстоятельства объясняются последствиями Третьей Паласедрийской войны. Кантоны Массеах, Горгаш и Парфе сотрудничали с летучими герцогами, и многие их жители, опасаясь мести Пандамонов, бежали из Шанта. Они добрались до верховьев Кебы, где сорухи переняли язык более цивилизованных пришлых беглецов, но в конце концов поработили их. История Караза, мягко говоря, безрадостна, — Ифнесс перегнулся через планшир и указал на группу разбросанных по берегу хижин, почти незаметных в зарослях высокого тростника. — Деревня! Здесь можно получить какие-то сведения — даже отсутствие информации будет о чем-то говорить». Землянин задумался: «Безвредное мошенничество часто побуждает дикарей к сотрудничеству. Неисцелимо суеверные люди с радостью приветствуют любое подтверждение их предрассудков». Ифнесс повернул ручку на панели управления — лодка замедлилась и повисла в воздухе без движения: «Давайте поставим мачту и поднимем парус. Кроме того, потребуется некоторое переодевание».
С неба спускалась чудесная летучая ладья под плещущим парусом. Этцвейн стоял у руля и делал вид, что правит. И он, и землянин напялили белые тюрбаны и приняли напыщенные позы. Лодка приземлилась на площадке перед хижинами, посреди луж, оставшихся от позавчерашней грозы. На небесных пришельцев воззрились, остолбенев, человек шесть — по всей видимости, главы семейств. Из дверных проемов хижин выглядывали неряшливо одетые женщины. Ползавшие в грязи голые дети тоже застыли, но те, что помладше, скоро захныкали от страха и разбежались к матерям. Важно выступив из лодки, Ифнесс Иллинет рассыпал по земле пригоршню синих и зеленых граненых стекляшек. Грозно указав пальцем на оторопевшего грузного, пожилого человека — по всем признакам, старейшину деревни — Ифнесс произнес на грубом диалекте, едва доступном пониманию Этцвейна: «Не бойся, подходи! Мы — добрые чародеи, никому вреда не причиняем. Но у нас есть враги. Мы хотим знать, появлялись ли они в округе?»
Подбородок старейшины дрожал, дрожала и его нечесаная грязная борода. Схватившись обоими кулаками за передок рубахи из грубого домотканого полотна, он отважился пройти несколько шагов навстречу: «Что у нас узнавать? Мы клемокопы, клемов речных собираем. Только и знаем что ныряем».
«Так оно и есть! — декламировал Ифнесс. — И все же вам известно, что почем, откуда что берется — не зря же меновой товар сложили под навесом, и немало!»
«И то правда: бывает, кое-чем торгуем — кто сушеных клемов купит брусок-другой, кто клемовое вино. Да и толченый ракушечник у нас — лучше нет! Но бедно живем, мокро — ни богатств каких, ни драгоценностей нет у нас, уж не прогневайтесь! Работорговцы, и те нами брезгуют».
«Приходилось ли вам слышать о вторжении краснокожих воинов-гигантов, истребляющих мужчин и бешено совокупляющихся с женщинами? Их зовут «рогушкоями». Кто-нибудь говорил о рогушкоях?»
«Нас не тронули, слава Священному Угрю! Торговцы сказывают: было великое сражение, битва гигантов — но век живу, ничего не слыхал ни о каких рагушках, никто о них не поведал».
«Где сражались гиганты?»
Клемокоп ткнул большим пальцем на юг: «Далече, во владениях сорухов — десять дней плыть под парусом до равнины Лазурных Цветов... Но ваша-то ладья никак в два раза быстрей долетит? А вы не научите нас, случаем, каким заклинанием ладья ваша движима? Порхать-то с места на место оно и удобнее, и суше получается».
«Некоторые вопросы лучше не задавать, — предупредил Ифнесс. — Наш путь лежит отныне к равнине Лазурных Цветов».
«Да ниспошлет вам Угорь попутный ветер!»
Ифнесс вступил на борт и, повернувшись к Этцвейну, сделал пригласительно-повелительный жест. Этцвейн налег на руль, расправил парус. Тем временем историк прикоснулся к кнопкам управления. Лодка приподнялась, оставив отпечаток на влажной земле, парус наполнился ветром — с торжественной медлительностью волшебная ладья воспарила над рекой. Запрокинув головы, клемокопы бежали вслед по берегу, а за ними, толкаясь, торопилась толпа сорванцов и женщин. Ифнесс нервно усмехнулся: «Благодаря нам в их жизни будет по меньшей мере один незабываемый день — ив придачу мы ухитрились нарушить дюжину строжайших запретов Исторического института!»
«Десять дней пути под парусом, — размышлял вслух Этцвейн. — Баржи делают не больше пяти километров в час, то есть километров восемьдесят в день. Значит, осталось примерно восемьсот километров».
«Ошибка почти в тысячу километров. Чего еще можно было ожидать от Крепоскина?» — подойдя к борту у кабины, Ифнесс попрощался с раскрывшими рты туземцами, благосклонно помахивая рукой. Скоро клемокопы скрылись за плакучими кронами рощи водолюбов. Землянин бросил через плечо: «Опустите парус, разберите мачту».
Этцвейн молча подчинился. Ифнесс явно вжился в роль странствующего волшебника и наслаждался собой. Лодка летела на юг над рекой. Вдоль берегов выстроились альмаки с серебристыми стволами — их длинные, перистые, серебрянолиловые листья отливали зеленым в такт порывам ветра. Справа и слева болотистые луга исчезали в сизой дымке расстояния. Впереди безмятежно тянулась уже казавшаяся бесконечной полноводная Кеба.
Приближался вечер. На берегах не было никаких признаков человеческого жилья — к отвращению Ифнесса, раздраженно бормотавшего себе под нос. Солнца зашли, на Караз опустились безмолвные сумерки. Историк стоял на передней палубе, с пренебрежением к опасности перегнувшись через борт и вглядываясь в темноту. Наконец на речном берегу появилась россыпь мерцающих красных искр. Ифнесс повернул лодку и стал снижаться — искры превратились в дюжину полыхающих языками пламени походных костров, неровным кольцом окружавших площадку метров двадцать-тридцать в диаметре.
«Поставьте мачту, — бодро приказал Ифнесс, — поднимите парус!»
Этцвейн задумчиво смерил взглядом людей, работавших в освещенном кострами круге. Снаружи, в полумраке, можно было различить широкие фургоны с кожаными навесами и большими, выше человеческого роста, деревянными колесами, выщербленными и покоробившимися. Очевидно, им повстречался отряд кочевников. Оседлое существование сделало ловцов речных моллюсков смирными и боязливыми. Полная случайностей жизнь бродячих племен воспитывает непостоянство темперамента и упрямство, переходящее в дерзость. Этцвейн с сомнением покосился на Ифнесса — тот стоял неподвижно, как статуя. «Ладно, — подумал Этцвейн. — Если господин Ифнесс готов рисковать шкурой ради безрассудного удовольствия позабавиться за счет дикарей, так тому и быть». Он поставил мачту, поднял большой квадратный парус, поправил на голове тюрбан и взялся за румпель. Лодка вертикально опускалась в круг, озаренный кострами. Ифнесс громко предупредил стоявших внизу: «Осторожно, осторожно! Разойдись!»
Взглянув наверх, туземцы с ругательствами отпрыгнули в стороны. При этом один старик споткнулся, упал и опрокинул чан с горячей водой на группу женщин, отозвавшихся яростным визгом.
Лодка приземлилась. Сурово выпрямившись, Ифнесс поднял руку: «Тихо! Мы всего лишь ночные волхвы. Вы что, колдовства не видели? Кто у вас предводитель клана?»
Никто не отвечал. Мужчины в свободных белых рубахах, черных шароварах и черных сапогах настороженно отступили на пару шагов. Их лица выражали готовность немедленно бежать или немедленно напасть. Женщины в расшитых орнаментами свободных длинных платьях тихо скулили хором, закатив глаза.
«Кто здесь главный? — ревел Ифнесс. — Он что, глухой? Или безногий — не может подойти?»
К лодке неохотно приблизился грузный чернобровый субъект с мрачно висящими черными усами: «Я Растипол, вождь рипшиков. Что надо?»
«Почему вы здесь? Кто будет драться с рогушкоями?»
Растипол моргнул: «Рогушкои — что за невидаль? Мы нынче ни с кем не воюем, до поры до времени».
«Краснокожие твари с ятаганами! Женщинам прохода не дают — насильники, полулюди-полубесы».
«Слыхали. Они с сорухами дерутся — не наше дело. Мы не сорухи, мы Мельхова колена».
«А когда сорухов всех перебьют, что вы будете делать?»
Растипол почесал подбородок: «Э, над этим рано голову ломать».
«Где рогушкои дерутся с сорухами?»
«Где-то на юге, говорят — на равнине Лазурных Цветов».
«Далеко?»
«Четыре дня по берегу до Шиллинска — там-то она и начинается, равнина эта. Тебе что, колдовство память отшибло?»
Ифнесс перстом указал Этцвейну: «Преврати Растипола в больного ахульфа!»
«Эй, бросьте эти штучки! — отскакивая, заорал Растипол. — Вы меня неправильно поняли. Никто никого не обижает — договорились?»
Ифнесс высокомерно кивнул: «Попридержи язык — он у тебя без привязи». Повернувшись к Этцвейну, историк повелел: «В путь!»
Этцвейн повернул румпель, другой рукой будто подгоняя к парусу невидимые воздушные волны. Ифнесс нагнулся над панелью управления. Лодка взмыла в ночное небо, красновато поблескивая килем в зареве костров. Рипшики молча провожали ее глазами.
Ночью лодка тихо дрейфовала на юг. Этцвейн уснул на узкой скамье — он не заметил, ложился ли Ифнесс. Утром, разминая озябшие, затекшие конечности, Этцвейн увидел, что историк уже стоит на корме и неподвижно смотрит вниз на сплошную серовато-молочную пелену. Лодка одиноко парила между сиреневым небом и клубящимся морем тумана.
Не меньше часа путники пили чай в хмуром молчании. Наконец три солнца выкатились на небосвод, и туман, лениво кружась и распускаясь клочьями, начал рассеиваться. В разрывах-колодцах, далеко внизу, проглядывали бесформенные островки земли и речной воды. Впереди могучая излучина Кебы плавно поворачивала к западу — туда, где с востока в нее впадал полноводный Шилл. В месте слияния рек с западного берега выступали три длинных причала — речной порт поселка из полусотни хижин и пяти-шести строений покрупнее. Ифнесс удовлетворенно воскликнул: «Ага, вот и Шиллинск! Вопреки Крепоскину, он так-таки существует!» Землянин опустил лодку на речную гладь. Этцвейн собрал мачту и поднял парус. Лодка стала приближаться к причалам, Ифнесс подрулил к ступеням набережной. Захватив бухту швартова, Этцвейн перепрыгнул на берег, историк осторожно последовал за ним. Разматывая привязанный канат, Этцвейн позволил лодке немного отплыть вниз по течению, чтобы она оказалась посреди дюжины похожих рыбацких одномачтовиков. Ифнесс и Этцвейн направили стопы в славный город Шиллинск.
Глава 4
Приземистые хижины и склады Шиллинска были неровно сложены из серого, грубо обтесанного камня, добытого в карьере неподалеку, вперемешку с кривыми балками из плавника. Рядом с причалом находился местный постоялый двор — внушительное по сравнению с хижинами трехэтажное строение. Сиреневый свет солнц обжигал серый камень и почерневшее дерево. Тени по какой-то прихоти зрительного восприятия казались зеленоватыми, оттенка цветущей воды на дне старой бочки.
Шиллинск производил впечатление сонного, почти безлюдного селения. Тишину солнечного утра нарушал только плеск речных волн на набережной. Две женщины медленно шли по тропе вдоль реки — на них были черные шаровары, темно-пурпурные блузы и головные платки глубокого ржавооранжевого цвета. У причалов стояли три баржи — одна порожняя, две частично нагруженные. Несколько грузчиков или матросов направлялись в таверну. Ифнесс и Этцвейн последовали их примеру, держась чуть позади.
Грузчики, а за ними и землянин с Этцвейном, зашли, отталкивая плечами и ногами сколоченную из плавника дверь, в помещение значительно более комфортабельное, чем могло показаться снаружи. В громадном камине пылал битумный уголь, на беленых оштукатуренных стенах темнели гирлянды и розетки резного дерева. Перед камином расселась ватага грузчиков, поглощавших рагу из тушеной рыбы с тростниковыми клубнями. В стороне, в тени, два местных жителя сгорбились над деревянными кружками. Отблески пламени резко оттеняли их широкоскулые лица — они почти не разговаривали и только с подозрением косились на грузчиков. Один мог похвастаться пышными черными усами, взъерошенными и жесткими, как щетка. Другой украсил свою внешность козлиной бородкой и массивным медным кольцом в носу. Этцвейн с любопытством наблюдал за тем, как он приподнимал кольцо краем кружки, глотая пиво. На туземцах были наряды сорухов — черные штаны и рубахи навыпуск с вышитыми эмблемами тотемов. У каждого на поясе висела кривая сабля из «гисима» — белого сплава серебра, платины, олова и меди, кованого и закаленного в процессе, давно превратившемся в тайный обряд.
Ифнесс и Этцвейн устроились за столом поближе к камину. Трактирщик, лысый и плосколицый, с одной ногой короче другой и жестким, пронзительным взглядом, проковылял к ним, чтобы узнать, чего хотят приезжие. Ифнесс объяснил: «Мы нуждаемся в ночлеге и хотели бы заказать обед из лучших блюд». Хозяин таверны провозгласил меню: пряный суп из клемов с травами, салат из кислосладких жуков, шашлык с речной зеленью, хлеб, мармелад из лазурных цветов, чай из вербены. Ифнесс, не ожидавший подобного изобилия, заявил, что его такая трапеза вполне удовлетворит.
«Вынужден предварительно обсудить вопрос о возмещении, — сказал трактирщик. — Что вы предлагаете в обмен?»
Ифнесс вынул одну из своих цветных стекляшек: «Это».
Трактирщик отступил на шаг, с презрением поднимая ладонь: «За кого вы меня принимаете? Бросовое стекло, игрушка для детей!»
«Неужели? По-вашему, какого оно цвета?»
«Цвета старого мха, с оттенком речной воды».
«Смотрите! — Ифнесс сжал стекляшку в руке, разжал кулак. — Теперь какого оно цвета?»
«Светло-рубинового!»
«А теперь? — Ифнесс проворно поднес стекло к очагу, и оно сверкнуло изумрудно-зеленым лучом. — Возьмите, отнесите в темный угол и скажите, что вы видели!»
Владелец заведения удалился в кладовую и скоро вернулся: «Оно светится сапфировым огнем и отбрасывает радужные блики!»
«Звездный камень! — заявил Ифнесс. — Их изредка находят в сердцевине метеоритов. По сути дела, отдавать такую драгоценность за пищу и кров просто глупо, но у нас больше ничего нет».
«Сойдет, — покровительственно произнес трактирщик. — У вас баржа? Как долго вы пробудете в Шиллинске?»
«Несколько дней — нужно закончить дела. Мы торгуем редкостями. Теперь мы ищем шейные позвонки рогушкоев — их целебные свойства высоко ценятся».
«Рогушкои? Это что за звери?»
«У вас их называют по-другому. Краснокожие разбойники почти человеческой наружности. У них было стойбище на равнине Лазурных Цветов».
«А, медные бесы! Ха! И эти на что-то пригодились?»
«Не могу ничего утверждать, я не лекарь. Мы всего лишь торгуем костями. Кто в Шиллинске промышляет таким товаром?»
Трактирщик отозвался каркающим смехом, но тут же притих и бросил быстрый взгляд на двух сорухов, внимательно прислушивавшихся к беседе.
«В наших краях костей столько, что они никому и задаром не нужны, — пояснил свою реакцию владелец постоялого двора. — Да и жизнь человеческая здесь стоит немногим больше. Полюбуйтесь: мать нарочно повредила мне ногу, чтобы спасти от работорговцев. Тогда за рабами охотились эски с Мурдского нагорья, по ту сторону Шилла. Нынче зеков прогнали, зато пришли хальки, и все опять как прежде, если не хуже. Не поворачивайтесь спиной к хальку — обернетесь с цепью на шее! В этом году из Шиллинска уже забрали четверых. Кто страшнее — хальки или медные бесы? Выбирайте сами».
Усатый сорух внезапно вмешался в разговор: «Медные бесы вымерли, остались одни кости — а кости, как вы прекрасно знаете, принадлежат нам!»
«Так точно!» — объявил второй сорух. Когда он говорил, кольцо его подпрыгивало над верхней губой: «Нам известна целебная сила бесовских костей бесов. Мы намерены их выгодно продать».
«Превосходно! — отозвался Ифнесс. — Но почему вы говорите, что они вымерли?»
«На равнине это всем известно».
«И кто же их уничтожил?»
Сорух дернул себя за бородку: «Хальки, вестимо — или еще какая банда, кто их знает? Всякая нечисть водится за перевалом! Без колдовства не обошлось с обеих сторон — это как пить дать!»
«Хальки волшебству не обучены, — трезво заметил трактирщик, — в работорговле оно ни к чему. За перевалом Кузи-Каза много диких, бешеных племен, но о колдовстве тамошнем я что-то не слышал».
Сорух с кольцом отмахнулся неожиданно свирепым жестом: «Это к делу не относится!» Повернувшись к Ифнессу, он вызывающе спросил: «Так вы покупаете кости или нет? Желающих предостаточно».
«Само собой, я хотел бы осмотреть товар, — уклонился Ифнесс. — Предъявите кости — тогда можно будет о чем-то говорить».
Сорухи потрясенно отшатнулись: «Нелепость, доходящая до оскорбления! Вы что же, думаете, мы таскаем товар на спине, как женщины чаргов? Мы гордый народ, над нами насмехаться опасно!»
«Никто вас не пытается оскорбить, — возразил землянин. — Я просто-напросто выразил желание осмотреть товар. Где вы храните кости?»
«Не будем усложнять положение вещей, — слегка успокоился усатый сорух. — Кости лежат на месте сражения — где еще? Мы продадим вам право на добычу костей по разумной цене, и делайте с ними что хотите!»
Ифнесс задумался на пару секунд: «Такая сделка может меня разорить. Что, если кости низкого качества? Что, если их уже растащили? Что, если их невозможно вывезти? Доставьте кости сюда или проводите нас на поле сражения, чтобы я мог оценить товар».
Сорухи помрачнели и отвернулись, стали спорить вполголоса. Ифнесс и Этцвейн принялись за еду, принесенную трактирщиком. Поглядывая на сорухов, Этцвейн сказал: «Они только и думают, как бы нас прикончить и ограбить».
Ифнесс кивнул: «Но их смущает наша невозмутимость. Они боятся ловушки, однако от приманки не откажутся — готов поручиться».
Сорухи приняли какое-то решение и наблюдали за Ифнессом и Этцвейном из-под полуопущенных век, пока те заканчивали обед, после чего предприимчивые разбойники пересели за соседний стол — от них несло болотной гнилью. Ифнесс повернулся к бандитам, ожидающе приподняв голову. Усатый попытался изобразить дружелюбную улыбку: «Все можно устроить к взаимной выгоде. Вы сможете заплатить за кости на месте сразу после осмотра?»
«Конечно, нет, — заверил его Ифнесс. — Осмотрев товар, я сообщу вам, имеет ли смысл доставлять его в Шиллинск».
Улыбка соруха задержалась еще на пару секунд, потом исчезла. Ифнесс продолжал: «У вас есть транспорт? Удобный экипаж, запряженный быстроходцами?»
Сорух с кольцом в носу презрительно хрюкнул. «Это невозможно, — ответил усатый. — В предгорьях Кузи-Каза любая телега сломается».
«Хорошо, значит потребуются оседланные быстроходцы».
Сорухи снова отстранились, чтобы тихо посовещаться. Разбойник с кольцом в носу капризно и упрямо отказывался. Усатый сперва настаивал, потом убеждал, наконец стал заискивать — и так-таки добился своего. Сорухи вернулись к Ифнессу и Этцвейну. Усатый спросил: «Когда вы намерены отправиться в путь?»
«Завтра утром, как можно раньше».
«Мы будем ждать на рассвете. Но прежде всего вы должны заплатить за аренду быстроходцев».
«Смехотворно — подумать только! — возмутился Ифнесс. — Я даже не знаю, существуют ли кости, а вы ожидаете, что я стану финансировать погоню за небылицами? Ни в коем случае, я не вчера родился».
Сорух с кольцом приготовился было яростно спорить, но усатый примирительно поднял руку: «Вы увидите кости своими глазами, а стоимость проезда будет включена в окончательную цену».
«Так-то оно лучше, — проворчал Ифнесс. — О цене договоримся по возвращении в Шиллинск».
«Выезжаем на рассвете: будьте готовы!» — сорухи вышли из таверны. Ифнесс прихлебывал горячий чай из деревянной чашки.
Этцвейн недоумевал: «Вы хотите ехать на быстроходцах? Почему не долететь до места сражения?»
Ифнесс приподнял брови: «Разве не ясно? Рыбацкая лодка посреди сухой равнины — весьма примечательный объект. Мы не сможем ее оставить без присмотра. Следовательно, у нас не будет свободы действия».
«Оставив лодку в Шиллинске, мы ее больше не увидим, — брюзжал Этцвейн. — Здешние жители — воры, все до единого».
«Я приму меры предосторожности», — Ифнесс задумался на минуту, встал и подошел к хозяину заведения. Вернувшись, он сел на прежнее место: «Трактирщик заявляет, что мы можем без опасений оставить на борту десять сундуков с сокровищами. Он берет на себя всю ответственность за сохранность лодки. Если он заслуживает доверия, мы практически ничем не рискуем». Несколько секунд историк с интересом разглядывал языки пламени в камине: «Тем не менее, придется установить защитное устройство, способное отпугнуть расхитителей чужого добра — на тот случай, если хозяин не проявит должной бдительности».
Этцвейна не привлекала перспектива многодневной тряски в седле по равнине Лазурных Цветов в компании сорухов. Он пробурчал: «Вместо летающей лодки можно было бы придумать летающий фургон — или пару быстроходцев с крыльями».
«Крылатые быстроходцы? В воображении вам не откажешь», — благосклонно отозвался Ифнесс.
Постояльцам, желающим удалиться на покой, хозяин предлагал заполненные соломой длинные деревянные ящики в тесных каморках на втором этаже. Из окна каморки Этцвейна открывался вид на пристань. Солома, однако, не отличалась свежестью — ночью в глубине постели что-то тихо копошилось. Кроме того, предыдущий постоялец помочился в углу. В полночь Этцвейн, разбуженный каким-то звуком, встал и выглянул из окна. Кто-кто крался по причалу неподалеку от того места, где была пришвартована лодка. При свете звезд Этцвейн не мог толком разглядеть темную фигуру, но неравномерно подпрыгивающая походка любителя ночных прогулок свидетельствовала о сильной хромоте. Фигура осторожно спустилась с причала в одноместный ялик и стала тихо, без плеска, грести к лодке Ифнесса. Сложив весла и привязав ялик, фигура перебралась в лодку — и принялась судорожно плясать, окруженная языками голубого пламени. Волосы незадачливого вора встали дыбом и с треском сыпали искрами. Танцуя, нарушитель скорее случайно, нежели намеренно, заступил в очередном прыжке за борт и свалился в воду. Через несколько секунд он схватился за корму ялика, перевалился в него и стал поспешно грести обратно к причалу.
На рассвете Этцвейн поднялся с соломы и направился к рукомойникам на первом этаже, откуда уже выходил Ифнесс. Этцвейн сообщил историку о ночных событиях, не вызвавших у того заметного удивления. «Я этим займусь», — заверил его землянин.
На завтрак трактирщик не подал ничего, кроме хлеба с чаем. Он хромал больше, чем накануне, и злобно косился на Ифнесса, со стуком и звоном расставляя пиалы.
Ифнесс строго обратился к хозяину: «Поистине спартанская трапеза! Ночные приключения истощили вас настолько, что вы не в силах приготовить приличный завтрак?»
Трактирщик собрался было разбушеваться, но Ифнесс опередил его: «Разрешите напомнить, что вы находитесь здесь, а не пляшете в аду под музыку голубого пламени только потому, что я предпочитаю плотно завтракать по утрам. Требуются дальнейшие разъяснения?»
«Все ясно», — буркнул владелец заведения, проковылял в кухню и скоро принес котелок с тушеной рыбой, поднос с овсяными галетами и холодец из угрей: «Хватит, чтобы утолить голод? Если нет, у меня еще есть ломоть отменного вареного эрминка и кулек свежего творога».
«Этого достаточно, — сказал Ифнесс. — Не забудьте: если по возвращении я не досчитаюсь в лодке какой-нибудь мелочи, вам снова придется отплясывать танец голубых искр».
«Вы неправильно истолковали мои наилучшие намерения! — заявил трактирщик. — Ночью я слышал подозрительный шум на причале и решил проверить, все ли в порядке».
«Если мы друг друга понимаем, больше не о чем говорить», — безразлично отозвался историк.
В таверну заглянули два соруха: «Вы готовы? Быстроходны оседланы».
Этцвейн и землянин вышли наружу, поеживаясь от утренней прохлады. Четыре быстроходна нервно топтались на привязи, похрапывая и встряхивая загнутыми назад рогами. Насколько мог судить Этцвейн, сорухи выбрали породистых, выносливых животных, длинноногих и широкогрудых. На быстроходцах красовались седла степных кочевников из чумповой кожи, с сумками для провизии и решетчатым багажником сзади, позволявшим навьючивать палатку, одеяло и теплые ночные сапоги — Ифнессу и Этцвейну, однако, эти принадлежности сорухи предоставить отказались. Угрозы и уговоры ни к чему не приводили — прежде, чем проводники нашли необходимые припасы и оборудование, землянину пришлось расстаться с еще одним стеклянным камнем-хамелеоном.
Перед отъездом Ифнесс потребовал, чтобы сорухи формально представились. Оба были варшами, то есть принадлежали к Барскому клану и почитали тотем Колоколета. Усатого звали Гульше, а того, что с кольцом в носу — Шренке. Ифнесс демонстративно записал их имена синими чернилами на полоске пергамента, добавив сверху и снизу алые и желтые иероглифы. Сорухи с тревогой следили за его каллиграфическими упражнениями. «Это еще зачем?» — не выдержал Шренке.
«Обычные меры предосторожности, — пояснил землянин. — Я оставил звездные камни в тайнике и не везу с собой ничего ценного — если хотите, можете меня обыскать. Кроме того, я наложил заклятие на ваши имена. В свое время я его сниму. Вы намерены нас убить и ограбить — это неразумно. Рекомендую заблаговременно отказаться от пагубных замыслов».
Гулыпе и Шренке хмуро молчали. Такой поворот событий их явно не радовал. «Так что же, поехали?» — предложил Ифнесс.
Все четверо вскочили в седла и выехали из Шиллинска на равнину Лазурных Цветов.
Кеба, окаймленная серебристыми альмаками, осталась позади и в конце концов исчезла за горизонтом. Со всех сторон простиралась в сиреневые солнечные дали равнина — однообразная сумятица широких ложбин и приплюснутых размытых холмов, покрытых рваными коврами сероватого темно-лилового мха и низкорослого кустарника, опушенного бесчисленными цветами, придававшими всему ландшафту глубокий лазоревый оттенок морской воды под безоблачным небом. Только на юге едва заметной голубой тенью виднелись горы.
Четверо всадников ехали весь день и перед наступлением темноты сделали привал в неглубокой сырой низине у ручейка шириной в ладонь. Вокруг походного костра установилась настороженно-дружелюбная атмосфера. Оказалось, что всего два месяца тому назад Гульше самому привелось участвовать в стычке с бандой рогушкоев: «Они спустились с Оргайских гор недалеко от Шахфе, где у хальков раболовецкая база. Медные бесы уже грабили базу дважды, убивая мужчин и уводя всех женщин, так что Хозман Хриплый, скупщик, хотел уберечь имущество и сулил полфунта чугуна за каждую отрубленную руку медного беса. Две дюжины всадников-сорухов решили разбогатеть. Я поехал с ними — но ничего мы не выручили. Стрелы от бесов отскакивают, а в рукопашном бою один бес стоит десятерых бойцов, так что мы вернулись в Шахфе с пустыми руками. Я уехал в Шиллинск на тайный совет варшей и великой битвы не видел — а в ней полегли все медные бесы, все до последнего!»
Ифнесс выразил сдержанное любопытство: «Следует ли вас понимать таким образом, что медных бесов разбили хальки? Как это возможно, если один бес стоит десятерых бойцов?»
Гульше сплюнул в костер и не ответил. Шренке наклонился поворошить угли палкой — кольцо у него в носу переливалось оранжевыми отблесками: «Говорят, бесов уничтожили колдовским оружием».
«Хальки? Где они взяли волшебное оружие?»
«Хальки тут ни при чем».
«Даже так? Кому же принадлежит честь победы над медными бесами?»
«Ничего не знаю, я тоже был в Шиллинске».
Ифнесс не стал выяснять подробности. Этцвейн поднялся на ноги, выбрался из ложбины и попробовал разглядеть, что делается вокруг, но увидел только ночную тьму. Прислушиваясь, он не уловил ни звука. По-видимому, предстояла мирная ночь — им не угрожали ни чумпы, ни дикие ахульфы. Другое дело — проводники-сорухи. Та же мысль пришла в голову Ифнессу. Тот встал на колени перед костром, подбросил хвороста в огонь и, плавно помахивая разведенными в стороны руками, заставил пламя то шумно разгораться столбом, то расползаться языками, прижимаясь к земле в такт движениям рук. Сорухи наблюдали в изумлении. «Что вы делаете?» — с почтительным ужасом спросил Гульше.
«Заурядное заклинание против напасти во сне. Теперь огненный дух начнет пожирать печень любого, кто вздумает причинить мне вред, пока я сплю».
Шренке дернул себя за кольцо в носу: «Так вы и вправду колдун?»
Ифнесс встал и рассмеялся: «Сомневаетесь? Протяните руку!»
Шренке осторожно вытянул руку. Ифнесс выставил указательный палец — из него с треском вырвалась голубая искра, прыгнувшая на ладонь соруха. Шренке издал испуганный блеющий смешок и отпрянул, чуть не свалившись на спину. Гулыне вскочил и поспешно отошел от костра.
«Пустяки, — заявил Ифнесс Иллинет, — детские забавы! Вы целы и невредимы, не так ли? Теперь вы помните о заклинании — значит, мы все будем спать спокойно».
Этцвейн расстелил одеяло и улегся. Побормотав между собой, Гульше и Шренке устроились чуть поодаль — там, где щипали мох стоявшие на привязи быстроходны. Ифнесс не торопился — он сидел еще полчаса, неподвижно глядя на тлеющие угли. Наконец землянин вздохнул и тоже лег. Этцвейн наблюдал еще некоторое время за мерцанием глаз сорухов, напяливших на ночь кожаные колпаки, похожие на капюшоны, но веки его смежались: он спал.
Второй день почти не отличался от первого. После полудня третьего дня на равнине появились крутые горбы — здесь начинались отроги хребта Кузи-Каза. Проводники совещались, указывая друг другу на известные им ориентиры. Поздно вечером всадники поднялись на пустынное плоскогорье, усеянное известняковыми утесами и останцами. Заночевать решили у огромной карстовой воронки, заполненной зеркально-неподвижной темной водой. «Мы во владениях хальков, — сообщил Ифнессу Гулыие. — Если они нападут, лучше разъехаться в разные стороны. Впрочем, вы, наверное, полагаетесь на колдовство».
«Поступим согласно обстоятельствам, — ответил Ифнесс. — Где кости медных бесов?»
«Недалеко, за первым хребтом. Разве вы не чувствуете эсмерик великой битвы, дух средоточия смерти?»
Историк отвечал спокойно и размеренно: «Рациональный интеллект, способный к полному самоконтролю, вынужден, к сожалению, поступиться инстинктивной чувствительностью, свойственной примитивному суеверному уму. В общем и в целом такой компромисс, на мой взгляд, оправдан, и представляет собой эволюционный шаг вперед».
Шренке дернул себя за кольцо в носу, будучи не уверен, следует ли воспринимать замечание Ифнесса как презрительный отзыв о его умственных способностях. Сорухи-варши озадаченно переглянулись и пожали плечами. Расстелив походные одеяла, они легли и о чем-то бормотали еще полчаса. Возникало впечатление, что Шренке настаивал на каких-то действиях, а Гулыпе упирался. Шренке прорычал пару ругательств, Гулыне отозвался примирительной фразой. Оба, наконец, замолчали.
Этцвейн тоже завернулся в одеяло, но не мог уснуть, одолеваемый бессознательной, необъяснимой тревогой. «Надо полагать, — сказал он себе, — мой ум примитивен и суеверен».
Ночью он то и дело просыпался, прислушиваясь. Как-то раз издали донеслось тявканье повздоривших ахульфов. В другой раз, отражаясь многократным эхом от гигантских каменных столбов, ночь над плоскогорьем наполнило медоточивое, прерывисто-сладострастное уханье. Этцвейн не мог угадать происхождение этого звука, но у него почему-то мурашки побежали по коже. Он не помнил, как после этого заснул, но когда открыл глаза снова, небо уже озарилось сиреневым предвестием восхода трех солнц.
Угрюмо позавтракав сушеными фруктами с чаем, четыре всадника отправились дальше, постепенно набирая высоту между осыпями стен широкого известнякового каньона, потом выехали на суховатый альпийский луг, местами поросший группами висельных деревьев, и стали снова подниматься по каменистой безжизненной долине. Над ними высился почти двухсотметровый отвесный утес с остатками кладки бруствера разрушенной крепости на вершине. Проводники задержались, с сомнением разглядывая тропу впереди.
«В замке кто-то есть?»
«Кто его знает? — ворчал Гульше. — Свято место пусто не бывает. Всякая нечисть водится — разбойники, людоеды... Того и гляди сбросят камень на голову — держи ухо востро!»
Шренке указал скрюченным пальцем: «В развалинах гнездятся лироклювы — можно ехать».
«Место сражения еще далеко?» — спросил Ифнесс.
«Час езды, осталось перевалить через бугор — его уже видно... Подстегните волов, давайте-ка теперь поживее. Лироклювы гнездятся где попало, а от старого бандитского логова добра не жди».
Искатели костей резво пустились вскачь вверх по тропе, но древняя крепость не нарушила молчания — только вспорхнули недовольные лироклювы.
Скоро они уже спускались с перевала. Гулыые показал вперед на темнеющую массу горы, прикорнувшей над обширной долиной подобно гигантскому спящему зверю: «Медные бесы подступали к Шахфе — туда, на север — если присмотреться, уже частокол видно... Рано утром на них напали люди, занимавшие позиции ночью. Бесов окружили. Сражение длилось два часа — всех бесов перебили... вместе с чертенятами и пленными женщинами, а победители построились и ушли на юг... больше их не видели... Таинственное дело! Смотрите: здесь было стойбище медных бесов. Значит, поле битвы где-то рядом... А! Чуете? Трупный запах!»
«Костей там видимо-невидимо! — Шренке лукаво ухмылялся. — Что же получается? Оправдались ваши ожидания?»
Ифнесс молча двинулся вперед, рассматривая останки погибших. Всюду валялись трупы рогушкоев, оцепеневшие в предсмертных судорогах, с неестественно вывернутыми конечностями. Разложение началось давно. Нескольким ахульфам пришла в голову блестящая идея полакомиться черной плотью рогушкоев — отважные экспериментаторы расползлись по склонам и сдохли, свернувшись мохнатыми клубками.
Ифнесс сделал большой круг, объезжая поле сражения и внимательно приглядываясь к телам. Время от времени он спешивался, подробно изучая очередную груду вонючей красновато-черной падали. Этцвейн отъехал чуть в сторону, чтобы без помех наблюдать за обоими сорухами. Ифнесс вернулся и натянул поводья рядом с Этцвейном: «Ну, что вы обо всем этом думаете?»
«Я в замешательстве — да и вы тоже».
Ифнесс покосился на музыканта, неодобрительно вскинув брови: «Почему вы считаете, что я в замешательстве?»
«Потому что раны нанесены рогушкоям не саблями и не палицами».
«Хм. Что еще вы заметили?»
Этцвейн протянул руку: «Вон тот, в нагруднике из кольчуги — явно из атаманов. У него выжжена грудь. Поселившаяся в нем асутра уничтожена. На поле еще несколько мертвых атаманов с такими же ранами. Люди, убивавшие этих рогушкоев, знали о существовании паразитов».
Землянин хмуро кивнул: «По всей видимости».
Проводники-сорухи подъехали с натянутыми улыбками. Шренке гостеприимно обвел рукой мрачный пейзаж: «Что скажете? Уйма отборных костей — никто и не думал их растаскивать!»
«Некондиционный товар! — отрезал Ифнесс. — До тех пор, пока кости не будут очищены и высушены, пока их не доставят в пригодных к погрузке связках к причалу в Шиллинск, я не могу предложить определенную цену».
Опечаленный Гулыне теребил пушистый ус. Шренке не отличался сдержанностью: «Я так и думал! Мошенничество! — закричал он. — Никто не гарантирует нам прибыль — мы впустую потратили время и средства. Ваши условия неприемлемы, я не позволю их навязывать!»
Ифнесс холодно отвечал: «По возвращении в Шиллинск я вдвойне возмещу расходы вам и вашему товарищу. Не спорю: вы сделали все возможное. Тем не менее, не могу обещать, что скуплю поле полуразложившихся трупов только для того, чтобы удовлетворить вашу алчность. Вам придется найти другого покупателя».
Физиономия Шренке скривилась в яростной гримасе — он прикусил кольцо в носу нижними, по-собачьему острыми клыками. Гулыые остановил его предупреждающим жестом: «Разумные возражения. Невозможно отрицать, что наши друзья не могут отягощать себя товаром в его нынешнем состоянии. Уверен, что мы сможем заключить взаимовыгодное соглашение. Через год кости высохнут под солнцами, падаль выветрится. Если их нужно доставить скорее, можно нанять рабов, чтобы те выварили трупы и отскоблили скелеты. А пока что давайте покинем скверное, вонючее побоище — здесь я не могу избавиться от дурных предчувствий».
«Тогда поехали в Шахфе! — прорычал Шренке. — Давно пора осушить горшок-другой медовухи из погреба Быббы».
«Один момент, — сказал Ифнесс, рассматривая противоположный склон. — Меня интересует отряд, уничтоживший медных бесов. Куда победители ушли после сражения?»
«Обратно — туда, откуда явились! — Шренке злобствовал. — Куда еще?»
«Они не показывались в Шахфе?»
«Вот приедем в Шахфе — там и спрашивайте!»
Этцвейн заметил: «Их могли бы выследить ахульфы».
«С тех пор прошел месяц, след простыл, — возразил историк. — К тому же в этих местах трудно нанять надежных ахульфов».
«В Шахфе, без сомнения, удастся что-нибудь разузнать», — предложил Гульше.
«Чего мы ждем? — торопился Шренке. — У старого Быббы вино прокиснет!»
Ифнесс задумчиво смотрел на далекий частокол Шахфе. Сорухи уже скакали вниз по пологому склону. Придержав волов, они обернулись, размахивая руками: «Поехали! Скоро вечер — Шахфе близко!»
«Что ж, — сказал Ифнесс, — заедем в Шахфе».
Шахфе, селение унылое и захудалое, пеклось в сиреневом солнечном свете. Примитивные мазанки жались одна к другой вдоль единственной улицы, выветрившейся до испещренной рытвинами скальной основы. За хижинами виднелись редкие, разбросанные по долине кожаные юрты. Господствующее положение над поселком занимало бесформенное глинобитное строение с плоской крышей — постоялый двор с кабаком. Поблизости скрипучий ветряк качал воду из колодца в бак, переливавшийся в желоб. У желоба сгрудилась на корточках шайка ахульфов, пришедших напиться. Ахульфы принесли куски горного хрусталя и уже успели выторговать тряпки — их слуховые шишки были перевязаны залихватскими горчично-желтыми бантами.
Въезжая в Шахфе, всадники миновали загон для рабов: три навеса, окружавшие огражденный внутренний двор, где томились десятка два мужчин, столько же женщин и несколько дюжин мутноглазых детей.
Натянув поводья, Ифнесс обратился к Гулыпе: «Кого тут держат, местных жителей?»
Сорух смотрел на пленников без интереса: «По-моему, нездешние — наверное, гетман сбыл лишних людей из клана. Может быть, хальки устроили в горах облаву. Кое-кого ловят на свой страх и риск и продают частные предприниматели». Гульше издал странный сдавленный смешок: «Короче говоря, люди, неспособные избежать рабства. Тут у нас никто не распоряжается — каждый заботится о себе сам».
«Безрадостное существование!» — с отвращением заметил Этцвейн.
Гулыпе недоуменно обернулся к нему, бросив на Ифнесса вопросительный взгляд — будто сомневаясь, в здравом ли уме его спутник. Землянин мрачно улыбнулся: «Кто покупает рабов?»
Гульше пожал плечами: «Нынче всех забирает Хозман Хриплый — причем платит полновесным металлом».
«Вам, как я вижу, все детали этой коммерции хорошо известны!» — не удержался от колкости Этцвейн.
«А почему бы и нет? — приподнялся в стременах Шренке. — Мы зарабатываем, как можем! По-моему, настало время объясниться начистоту!»
«Да, время настало! — сказал Гульше и выхватил тяжелый длинный нож из полированного черного стекла. — Колдовство не защитит от острого ножа — разрублю обоих, как пару спелых дынь! Слезайте с быстроходцев, встаньте лицом к загону!»
Ифнесс Иллинет вкрадчиво полюбопытствовал: «Насколько я понимаю, вы вознамерились устраивать нам неприятности?»
«Мы деловые люди! — громогласно объявил Шренке. — Нам нужно на что-то жить. Если нельзя продать кости, можно продать вас двоих — для чего, по-вашему, мы приехали в Шахфе? Я тоже неплохо управляюсь с метательным ножом. Слезайте!»
«Унизительно быть захваченным в рабство прямо перед загоном для рабов, — укоризненно покачал головой Ифнесс. — Вы не проявляете ни малейшего уважения к нашему достоинству, и хотя бы только по этой причине мы отказываемся подчиниться вашему требованию».
Шренке расхохотался. Под щетинистыми усами Гулыие прорезалась тонкая линия желтых зубов: «Спешивайтесь, живо!»
Этцвейн тихо спросил: «Вы забыли про заклятие, наложенное в Шиллинске?»
«Наши головы сто раз прокляты — одним заклятием больше, какая разница? — Гулыие потряхивал лезвием. — Ну-ка слезайте!»
Ифнесс пожал плечами: «Вынужден подчиниться необходимости... Капризы судьбы непредсказуемы». Устало спешиваясь, землянин оперся рукой на круп быстроходна. Вол неистово замычал от боли и скачком бросился вперед, опрокинув быстроходца Гулыие — усатый сорух вылетел из седла. Шренке метнул лезвие в Этцвейна, но тот уже соскочил на землю — нож просвистел над пустым седлом. Пробежав два шага, Ифнесс быстро потянулся вверх и схватил Шренке за кольцо в носу. Сползая с седла, Шренке издавал дрожащий свист, не в силах визжать от боли. «Держите его за кольцо, — проинструктировал Этцвейна Ифнесс, — и больше не позволяйте своевольничать». Землянин подошел к ушибленному падением на спину Гулыпе, со стонами и проклятиями пытавшемуся приподняться, хватаясь за землю. Ифнесс по-товарищески положил ему руку на плечо. Гулыпе судорожно дернулся и растянулся плашмя. «Боюсь, мне придется отобрать у вас нож, — вежливо обратился Ифнесс к закатившему глаза усачу. — Вам он больше не пригодится».
Этцвейн и Ифнесс вели на поводу четырех быстроходцев, поднимаясь по улице к глинобитному кабаку. Необычно возбужденный историк разговорился: «Шесть унций серебра за двух сильных, здоровых мужчин: негусто. Вероятно, нас надули. Так или иначе, неважно. Зато нашим проводникам будет полезно познакомиться с обратной стороной работорговли. Некоторым историкам такой практический опыт тоже помог бы увидеть вещи с новой точки зрения... Нет, нехорошо! Даже Дасконетта этого не заслуживает. Кроме того, если я начну продавать коллег в рабство, меня могут неправильно понять. Я почти сожалею, что нам пришлось расстаться с Гульше и Шренке. Колоритные личности!»
Обернувшись через плечо, Этцвейн взглянул на загон для рабов. Если бы не аккумуляторная батарея Ифнесса, сейчас он выглядывал бы из-за прутьев ограды. И все же... Он знал, чем рисковал, когда уезжал из Гарвия. Он сам предпочел тягостный путь, отказавшись от безопасной, полной развлечений жизни музыканта.
Ифнесс продолжал рассуждать вслух: «Сожалею, что нам не удалось расспросить сорухов подробнее... Тем временем мы приближаемся к местному странноприимному дому. По сравнению с ним даже заведение в Шиллинске кажется роскошным дворцом. Здесь не следует представляться волшебниками или исследователями. Даже купцами лучше себя не называть. Самое престижное занятие в Шахфе — работорговля. Отныне мы с вами — скупщики рабов».
Подойдя к постоялому двору, спутники задержались, чтобы осмотреть окрестности. Наступил теплый безоблачный полдень. Малые дети ползали в придорожной пыли. Поодаль, между юртами, дети постарше играли в охоту на рабов — одна ватага гонялась за другой, пытаясь накинуть веревочные петли на уворачивающихся беглецов. У желоба под ветряком три коренастые черноволосые бабы в кожаных штанах и соломенных накидках сидели на корточках и дразнили ахульфов. Бабы колотили ахульфов длинными палками по чувствительным ногам каждый раз, когда те пытались пить. В ответ ахульфы кидались комками грязи и заливались злобным лаем.
Вдоль дороги дюжина потертых личностей, тоже в соломенных накидках, но подлиннее и погрязнее, сидели на земле, предлагая прохожим меновой товар — горки темно-красной муки, жесткие полоски вяленого мяса, иссиня-черных личинок величиной с палец, копошащихся в квадратных корзинках из влажного мха, жирных блестящих зеленых жуков, привязанных нитями к воткнутым в землю палкам, сахарные стручки, вареную птицу, кардамоны, похожие на ломаную штукатурку куски соляной корки. Наверху — необъятное слепящее небо, внизу — необъятная знойная долина, далеко на востоке — группа всадников: дрожащие в серебристом мираже темные точки, за ними сиреневые клубы пыли...
Пригнувшись, Ифнесс и Этцвейн спустились в кабак через отверстие в глинобитной стене. В темном помещении пахло гниловатой влажной землей. На полке за стойкой стояли три большие бочки. Посетителей было человек пятнадцать. Они сидели на табуретах за грубо сколоченными столами с глиняными пиалами кислого гранатового вина и кружками знаменитого варева из погреба. Разговоры смолкли: присутствующие пристально, напряженно разглядывали новоприбывших. Единственным (и едва ли достаточным) источником освещения служил зияющий полуденным зноем входной пролом. Ифнесс и Этцвейн долго оглядывались, пока их глаза привыкали к полутьме.
К ним прошаркал низенький, обнаженный до пояса человек с длинными седыми волосами, в кожаном переднике и высоких сапогах — по-видимому гостей встречал владелец заведения, Быбба. Старик поинтересовался: что угодно господам иностранцам? Он говорил на гортанном диалекте, настолько непривычном для ушей Этцвейна, что тот скорее угадывал, нежели понимал значение фраз.
Ифнесс достаточно успешно подражал местному выговору: «Что вы можете предложить желающим переночевать?»
«Все самое лучшее! В Шахфе лучше нет — этого никто не станет отрицать! — без тени улыбки заявил Быбба. — Зачем вы спрашиваете, из чистого любопытства?»
«Нет. Покажите нам все самое лучшее».
«Что может быть проще? Будьте любезны, следуйте за мной». Быбба провел их по дурно пахнущему коридору мимо примитивной кухни, где булькал на огне громадный котел с кашей, на пустой внутренний двор, открытый в центральной части, но по периметру защищенный наклонной крышей: «Устраивайтесь, как хотите. Во время дождя ветер обычно налетает с юга, так что южная сторона — самая сухая».
Ифнесс величественно кивнул: «Нам это подойдет. Как насчет быстроходцев?»
«Я отведу их в стойло и принесу каждому по охапке сена — с условием, что вы в состоянии рассчитаться. Как долго вы намерены оставаться в Шахфе?»
«Пару дней — а то и дольше, в зависимости от того, как пойдут дела. Мы торгуем рабами. Нам поручено купить дюжину выносливых медных бесов. Правитель портового города на восточном берегу желает пополнить команду гребцов на своей галере. Говорят, однако, что бесов уничтожили — прискорбное известие!»
«Прискорбное для вас — радостное для меня! Бесы собирались напасть на Шахфе: что осталось бы от моей гостиницы?»
«Вероятно, победители захватили в плен какую-то часть бесов и могли бы их продать?»
«Не думаю. Но в кабаке сидит Фабраш Везучий Утопленник — он утверждает, что видел битву своими глазами. Кто может доказать обратное? Если вы ему поставите кружку-другую медовухи, язык у него развяжется — это как пить дать!»
«Удачная мысль! А теперь, во что обойдутся ночлег и пропитание для нас двоих и для наших быстроходцев?»
Ифнесс и Быбба принялись торговаться. Прекрасно понимая, что щедрость будет рассматриваться как признак неопытности и приглашение к ограблению, Ифнесс изображал неуступчивого скупого дельца. Через пять минут спорщики ударили по рукам — двух унций серебра оказалось достаточно, чтобы оплатить самое высококачественное пропитание и ночлег на пять дней вперед.
«Будь по-вашему, — сказал Ифнесс, — хотя, как всегда, я позволил записному краснобаю склонить меня к безобразному расточительству! Пора побеседовать с Фабрашем Везучим Утопленником. Кстати, каким образом он приобрел это прозвище?»
«Детская кличка, не более того. Три раза мать выбрасывала его в отстойник еще в младенчестве — три раза он упорно всплывал и выкарабкивался из грязи. Отчаявшись, она махнула на него рукой, и с тех пор называла не иначе как «везучим утопленником». Теперь Фабраш заявляет, что ничего не боится, предлагая своему бесстрашию разумное объяснение: если бы бог смерти Гаспар хотел прибрать его к рукам, то не пренебрег бы первой возможностью...»
Быбба провел гостей обратно в кабак и провозгласил: «Представляю честной компании благородных Ифнесса и Этцвейна, прибывших в Шахфе, чтобы приобрести рабов!»
Завсегдатай, сидевший в стороне, разочарованно простонал: «Теперь они будут конкурировать с Хозманом, и цены взлетят еще выше?»
«Их интересуют медные бесы. Насколько я знаю, Хриплый ими не торгует, — Быбба повернулся к высокому, тощему субъекту с унылым вытянутым лицом и похожей на черную сосульку бородкой, начинавшейся где-то около шеи. — Как по-твоему, Фабраш, сколько медных бесов выжило?»
Фабраш отвечал охотно, но вызывающе, как человек, привыкший, что ему противоречат: «В Миркильской долине, то есть вокруг Шахфе, медные бесы вымерли. Я встречался с людьми из племени чаргов с южных склонов за хребтом Кузи-Каза. По их словам, банды медных бесов объединились в одну орду и ушли на север. Через два дня я видел, как армия чародеев уничтожила ту самую орду. Всех бесов перебили, всех до единого, даже трупы продолжали расстреливать! Никогда ничего подобного не видел!»
«И что же, чародеи никого не брали в плен?» — спросил Ифнесс.
«Никого. Расправившись с медными бесами, построились и промаршировали на восток. Я спустился на поле сражения, чтобы собрать брошенный металл, но не тут-то было! Ахульфы меня опередили — все растащили, лукавые твари! Этим дело не кончилось. Обернувшись в сторону Шахфе, я видел, как в воздух поднимается — легко, беззвучно, как перышко — огромный корабль. Я только рот открыл, а он уже исчез в облаках!»
«Чудесное видение! — объявил Ифнесс. — Хозяин, подайте Фабрашу кружку медовухи!»
Этцвейн спросил: «Корабль был круглый, сплющенный, как диск, ржаво-бронзового или медного оттенка?»
Фабраш-Утопленник отрицательно мотал головой, болтая бородой-сосулькой: «Нет, нет, это был шар, черный шар невероятной величины! Но бронзовые диски тоже видели — когда в небе гремела великая битва звездолетов. Диски и черные шары жгли друг друга огненными лучами».
Ифнесс с пониманием кивнул, бросив в сторону Этцвейна предупреждающий взгляд: «Мы слышали о битве звездолетов. Восемь бронзовых кораблей сожгли шесть черных шаров над... не помню, как называлось это место...»
Трое завсегдатаев кабака одновременно поспешили поправить землянина: «Неправда, не так это было! Четыре черных шара сражались с двумя дисками! Бронзовые диски развалились на части и обрушились на землю!»
«Может быть, мы говорим о разных битвах? — удивился Ифнесс. — Где и когда происходило то, о чем вы рассказываете?»
«Позавчера! Все только и говорят, что о битве звездолетов. Неслыханное дело! У нас такого еще не бывало».
«Где именно, в каком месте?» — не успокаивался Ифнесс.
«Там, в Оргайских горах, — махнул рукой Фабраш. — Под Три-Оргаем. Я в тех краях не бывал».
«Чудеса в решете! Можно подумать, на Миркиле свет клином сошелся! — возмутился Быбба. — Три-Оргай в двух днях пути, если вол не подведет».
«Мы как раз ехали в том направлении, — сообщил Ифнесс. — Любопытно было бы узнать, что делается в Оргайских горах». Историк обратился к Везучему Утопленнику: «Вы не согласились бы послужить нам проводником?»
Фабраш дернул себя за бородку, наклонился к выпивохам за соседним столом: «Что слышно о Гогурском клане? Уже двинулись на запад?»
«Сорухов-гогуршей бояться нечего, — откликнулся приятель. — Они собрались на юг за крабами к Урман-озеру. В Оргае почти спокойно — само собой, если не считать Хозмана Хриплого, чтоб его разорвало!»
Снаружи, у выхода-пролома, послышались топот копыт, скрип кожи, грубые голоса. Старик-кабатчик выглянул на улицу, обернулся через плечо: «Кащи, тотем Синих Червей!»
Два посетителя поспешно вскочили и скрылись в коридоре, ведущем к заднему входу. Пьяный голос окликнул Фабраша из угла: «Утопленник, а ты что расселся? Будто не ты сплавил Хозману четырех девиц из стойбища Синих Червей!»
«Торговые сделки в кабаке я не обсуждаю! — огрызнулся Фабраш. — В любом случае, это было в прошлом году».
Приезжие ввалились в кабак. Потоптавшись, озираясь, в полутьме, они прошагали к столам и принялись стучать кулаками, требуя выпивки. Их было девять человек — дюжие, круглолицые, с чахлыми бородками бахромой, они носили штаны из мягкой кожи, черные сапоги с нашивками, инкрустированными кремнями, рубахи из поблекшего оливково-зеленого джута. На макушках у них торчали легкие остроконечные каски, сшитые в несколько слоев из сухих стручков и шумевшие, как трещотки, при каждом движении головы. Этцвейн слегка отшатнулся, неприятно пораженный нахальным отсутствием манер и напоминавшими скотный двор запахами, сопровождавшими появление головорезов.
Часто мотая головой — отчего резонирующая каска оглушительно трещала — старший кащ проревел: «Где ахульфово отродье, скупающее рабов втридорога?»
Фабраш испуганно отозвался: «Хозмана нет».
Кабатчик Быбба осторожно поинтересовался: «У вас есть рабы на продажу?»
«А как же! Все вы тут на продажу — кроме хозяина. С этой минуты считайте себя собственностью кащей!»
Фабраш возмутился: «Как это так? В кабаке вольному воля — таков обычай испокон веков!»
«Кроме того, — резко заявил Быбба, — я не допущу никаких потасовок. Кто сюда придет, если постояльцев будут силком уволакивать? Возьмите назад свои слова!»
Старый кащ ухмыльнулся до ушей и снова затрещал каской: «Ладно, раз вы упираетесь, придется подождать. Убыток, однако! Где Хозман Хриплый? У кащей к нему большие претензии — кому он сбывает столько наших людей?»
«Этот вопрос задают многие, а ответа еще никто не получил, — тряхнул седой гривой Быбба. — Хозмана Хриплого в Шахфе нет, и мне ничего не известно о его намерениях».
Гетман Синих Червей огорченно грохнул кулаком по столу: «Тогда тащи медовуху из погреба, да и каши подай — чую, варится!»
«Будет сделано. Чем изволите платить?»
«У нас пять мехов сальноплодного масла».
«Хорошо, несите масло, — сказал Быбба. — А я пойду в погреб нацедить медовухи».
Обошлось без кровопролития. Кабатчик затопил камин. Весь вечер Ифнесс и Этцвейн сидели в стороне и наблюдали за плотными приземистыми фигурами на табуретах, хохотавшими и спорившими в скачущих тенях беспокойного пламени. Этцвейн пытался понять: чем эти громогласные поглотители горячительных напитков отличались от обитателей Шанта, несмотря на разнообразие последних? Напряженностью эмоций, способностью самозабвенно упиваться мимолетным мгновением, не вспоминая о завтрашнем дне — свобода случайна и эфемерна, рабство закономерно и долговечно. В Каразе самые обычные слова и поступки провоцировали преувеличенную реакцию — здесь смеялись до слез, задыхаясь, до боли в ребрах, здесь ярость вспыхивала внезапным, необузданным ураганом, здесь скорбь была невыносима настолько, что смерть становилась желанным облегчением. Каждому аспекту существования кочевники и горцы приписывали огромное значение, на каждую деталь обращали пристальное внимание, ничто не проходило незамеченным. Частые потрясения, резкие перепады настроений не оставляли времени для размышлений. Этцвейн не мог не спрашивать себя: как раболов-хальк или кащ из клана Синих Червей мог стать музыкантом, если он от рождения неспособен к терпеливому сосредоточению? Дикие пляски вокруг костров, попойки и резня — таковы увеселения варваров...
В конце концов Ифнесс и Этцвейн удалились на покой — раньше остальных. Завернувшись в походные одеяла под навесом во дворе, они отдыхали после утомительного дня. Этцвейн прислушивался к приглушенной сумятице голосов, доносившихся из кабака. Он хотел бы знать, что землянин думал о битве звездолетов в небе над Три-Оргаем, но воздержался от расспросов, опасаясь язвительного или уклончивого ответа. Если асутры или их «слуги-хозяева» управляли бронзовыми летающими блюдцами, кто построил черные корабли-сферы? Чья армия людей, вооруженная испепеляющим оружием, уничтожила орду рогушкоев? Почему люди-чародеи, рогушкои, бронзовые звездолеты и огромные черные шары, летающие, как пушинки, решили драться именно здесь, в верховьях Кебы, в глуши центрального Караза, на Дердейне? Этцвейн не вытерпел и, повернувшись к историку, осторожно спросил: «Применяются ли жителями земных миров Ойкумены черные звездолеты сферической формы?»
Вопрос был сформулирован точно и кратко — Ифнесс не мог ни к чему придраться. Землянин спокойно ответил: «Насколько мне известно, нет». Помолчав, он добавил: «Я озадачен не меньше вашего. По-видимому, еще до столкновения с людьми асутры нажили себе врагов среди других обитателей космоса — возможно, человекообразных врагов».
«Такая возможность сама по себе оправдывает нарушение любых инструкций Дасконетты!» — заявил Этцвейн.
«Пожалуй, что так».
Кащи из клана Синих Червей спали снаружи, под открытым небом, каждый рядом со своим быстроходцем. Ифнесс и Этцвейн провели безмятежную ночь. В розовато-лиловых предрассветных сумерках Быбба принес им две кружки горячей медовухи с плавающими, как в супе, комками местной брынзы: «Если хотите добраться до Три-Оргая, выезжайте пораньше. Тогда к вечеру успеете пересечь Большую Пустошь и сможете провести ночь на деревьях у берегов Вуруша».
«Полезный совет, — кивнул Ифнесс. — Приготовьте нам на завтрак жареного мяса с хлебом и пошлите кого-нибудь разбудить Фабраша. Кроме того, мы предпочли бы выпить чаю — напиток из вашего погреба превосходен, но с утра крепковат».
«Фабраш тут как тут, — сообщил кабатчик. — Хочет уехать, пока Синие Черви не опохмелились. Завтрак уже готов — каша и саранчовый паштет. Я всем подаю одно и то же. Могу заварить горшок чаю из перечной травы, если хотите. Жжет язык, но голову прочищает».
Ифнесс не стал возражать: «Привяжите у входа трех быстроходцев. Мы отправимся как можно скорее».
Глава 5
Кащи из клана Синих Червей уже ворочались и просыпались, когда Ифнесс, Этцвейн и Фабраш вскочили в седла и тронулись в путь. Один из разбойников прорычал проклятие, другой приподнялся, глядя вслед отъезжающим, но предпочел не утруждать себя спросонок.
Покинув Шахфе, три всадника ехали на запад по Большой Пустоши — солончаку, простиравшемуся в необозримую слепящую даль. Копыта волов мягко опускались в едкую пыль на чуть желтоватой соляной корке. По пустоши беззвучно кружились десятка полтора смерчей: как танцоры, исполняющие павану, вихри поочередно то уносились, нервно покачиваясь, за горизонт, то стремительно возвращались — одни, высокие и стройные, змеями взвивались в безоблачное небо, другие, потеряв всякое достоинство, метались поземкой, бесцельно расползаясь и испуская дух маленькими облачками.
Первое время Фабраш часто оборачивался, опасаясь увидеть темные силуэты пустившихся вдогонку кащей — но жалкое скопление хижин скоро исчезло в пепельно-сиреневой дымке, и проводник несколько приободрился. Искоса поглядывая на Ифнесса, он осторожно произнес: «Вчера вечером мы не заключили формальное соглашение, но я полагаю, что мы странствуем как союзники, и что ни одна из сторон не попытается поработить другую».
Ифнесс поддержал его точку зрения: «По сути дела, мы мало интересуемся работорговлей. По пути в Шахфе мы продали пару отборных сорухов, но, откровенно говоря, охота на рабов — неблагодарное и рискованное занятие, по крайней мере в Миркильской долине».
Фабраш кивнул: «В наших краях переловили всех, кого могли. С тех пор, как этим занялся Хозман Хриплый, население уменьшилось наполовину. Раньше у кабака в Шахфе всегда можно было встретить приезжих — полюбоваться на чужеземные наряды, послушать незнакомый говор. В каждом клане хальков насчитывалось от трех до семи стойбищ со своими тотемами. Сорухи наведывались из округи Шиллинска, алулы — с берегов озера Ниор, горцы спускались с перевала Кузи-Каза. Мелкий работорговец вроде меня мог сводить концы с концами и даже содержать пару наложниц. Хозман Хриплый всему положил конец. Теперь, чтобы с голоду не помереть, приходится ездить за тридевять земель».
«Кому Хозман Хриплый сбывает товар?»
Фабраш раздраженно шмыгнул носом: «Хозман умеет держать язык за зубами. В один прекрасный день он получит свое! Эх, было времечко, да прошло! А теперь весь мир будто с цепи сорвался: битвы звездолетов, грабежи и погромы медных бесов, Хозман Хриплый и его сумасшедшие цены — кто ж за ними угонится? Откуда он берет столько металла? Он всех нас разорит и продаст в рабство — в Миркиле не останется ни души. Что он тогда будет делать? Уедет грабить в другие места?»
«Надеюсь познакомиться с Хозманом, — задумчиво сказал Ифнесс. — Он наверняка расскажет много любопытного».
«Хозман-то? Как же! Чумпу, измученную запором, проще заставить разговориться!»
«Поживем — увидим».
Горизонт мало-помалу прояснялся, смерчи исчезли. Помимо удручающего засушливого зноя, троих всадников ничто не тревожило. После полудня они достигли первых отрогов седого Оргая — Большая Пустошь осталась позади. Когда три солнца закатились за горы, спутники перевалили через крутой холм — их взорам открылась полноводная река Вуруш, порожденная снегами Три-Оргая и бодро струившаяся в северные просторы. Внизу, у самой воды, темнела роща приземистых скрюченных тисов. Здесь, несмотря на многочисленные следы чумп, Фабраш решил устроить привал.
«Чумпы туг везде, от них никуда не спрячешься, — объяснил проводник, — а ночевать где-то надо. Если потребуется, втроем их можно отогнать горящими сучьями».
«Значит, придется сторожить по очереди?»
«Зачем же? Пожалуют чумпы — быстроходцы станут храпеть. А я разожгу огонь поярче».
Привязав волов к дереву, Фабраш развел на берегу большой костер. Пока Ифнесс и Этцвейн собирали на ночь запас смолистых тисовых ветвей, Фабраш успел наловить, почистить и поджарить дюжину речных крабов. Кроме того, он испек на плоских камнях несколько мучных лепешек. «Ловко вы управляетесь, — похвалил его Ифнесс. — Не успеешь оглянуться, а ужин готов!»
Фабраш Везучий Утопленник уныло покачал головой: «Крабов ловить невелика наука. Вечно живу впроголодь, вот и научился. А больше я ничего не умею — так что ваши комплименты меня скорее огорчают, нежели радуют».
«Уверен, что у вас есть и другие полезные навыки».
«Ну, многие считают, что я неплохой брадобрей. Еще я умею веселить народ, изображая совокупление ахульфов, с хрюканьем и визгом — очень похоже получается. Вот и все мои достижения. Через десять лет после смерти никто обо мне и не вспомнит. Дожди и ветры смешают мой прах с пыльной землей Караза. Все же, как-никак, мне повезло — по сравнению с большинством. Я часто задумываюсь: почему мне выпало прожить жизнь Кирила Фабраша?»
«Подобные мысли время от времени посещают каждого из нас, — изрек Ифнесс Иллинет. — Тем не менее, ввиду отсутствия фактических свидетельств прогрессирующего переселения душ задавать себе такие вопросы бессмысленно». Землянин поднялся на ноги и огляделся: «Полагаю, медные бесы не заходили так далеко на запад?»
Обиженный безразличием Ифнесса к поискам смысла жизни, Фабраш сухо ответил: «Они даже до Шахфе не дошли». Проводник ушел позаботиться о быстроходцах.
Ифнесс поднял голову к вершинам темного хребта — в северном небе в лучах заходящих солнц еще горел лиловым пламенем заснеженный пик-трезубец Три-Оргая. «В таком случае битва звездолетов, возможно, никак не связана с гибелью рогушкоев, — бормотал историк. — Завтра предстоит интересный день». Ифнесс, редко жестикулировавший, решительно рассек ладонью воздух: «Если я смогу продемонстрировать звездолет — пусть даже остатки разбившегося звездолета — моя репутация спасена! Дасконетта позеленеет от злости, он уже и сейчас, наверное, локти грызет... Остается надеяться, что в сплетнях местных жителей есть доля правды — нужно во что бы то ни стало найти упавший звездолет!»
Этцвейн, в принципе не одобрявший мелочный характер побуждений землянина, заметил: «Чем один разбившийся звездолет важнее другого? Космические корабли строят много тысяч лет. На планетах Ойкумены звездолетом, наверное, и ребенка не удивишь».
«Бесспорно! — заявил Ифнесс, все еще возбужденный картиной воображаемого триумфа. — Никого не удивляют достижения человека. Другое дело — достижения иных цивилизаций».
«Какая разница? — не унимался Этцвейн. — Железо есть железо, стекло есть стекло — и на Дердейне, и на другом конце Вселенной!»
«Опять же, вы правы! Элементарные закономерности известны любым мыслящим существам. Но познание безгранично. Каждое множество очевидных на первый взгляд аксиом может быть изучено с нетривиальной точки зрения, проанализировано в новом измерении. Число возможных взаимосвязанных уровней познания бесконечно. Наши представления могут относиться к одному уровню, представления иной цивилизации — к другому. Возможно даже существование полностью независимых фаз или областей познания — достаточно вспомнить о парапсихологии. В условиях бесконечности все возможное существует: таков основополагающий принцип космоса. Например, в двигателях чужих звездолетов могут применяться неизвестные человеку эффекты — что имеет огромное значение не только в философском отношении». Ифнесс остановил взгляд на пламени костра: «Должен заметить, что увеличение объема знаний не обязательно благотворно. Изобретения нередко опасны, несвоевременные догадки — пагубны».
«Почему же вы спешите обнародовать свое открытие?» — спросил Этцвейн.
Историк усмехнулся: «Прежде всего мне, как любому человеку, свойственно такое стремление. Во-вторых, я принадлежу к замкнутому кругу специалистов — Дасконетта из него, разумеется, будет исключен — достаточно компетентных для того, чтобы контролировать распространение самых опасных сведений. В третьих, почему бы я стал отказываться от личных преимуществ? Если я предъявлю Историческому институту космический корабль, построенный за пределами Ойкумены — пусть даже обломки потерпевшего крушение звездолета — мой престиж, моя репутация будут неоспоримы!»
Этцвейн занялся приготовлением постели, подозревая, что из трех доводов Ифнесса решающую роль играл только последний.
Ночь прошла без происшествий. Этцвейн трижды просыпался — где-то вдали гулко бурчали чумпы, где-то еще дальше откликалась шайка ахульфов — но лагерь на берегу реки никто не потревожил.
Фабраш встал до рассвета, раздул огонь и приготовил завтрак — горячую кашу с перченым мясом и чай.
С восходом солнц все трое вскочили в седла и отправились на юг по берегу Вуруша, постепенно поднимаясь вглубь Оргая.
Вскоре после полудня Фабраш натянул поводья и остановил вола, наклонил голову, будто прислушиваясь, и стал медленно озираться по сторонам.
«Что такое?» — спросил Ифнесс.
Фабраш молча указал вперед на теснину, служившую входом в каменистое ущелье, потом сказал: «Где-то там черные шары спустились с неба и напали на корабли-диски. До места сражения рукой подать». Поднявшись в стременах, Везучий Утопленник блуждал глазами по склонам, поглядывал на небо.
«У вас какое-то предчувствие», — тихо заметил Этцвейн.
Фабраш нервно теребил бороду-сосульку: «Здесь, в долине, случились неслыханные вещи. Чувствуете напряжение в воздухе? Или, может быть, тут что-то не то...» Сухопарый проводник боязливо ерзал в седле, выпуклые глаза его бегали из стороны в сторону: «На меня будто что-то давит».
Этцвейн внимательно изучал окрестности. Справа и слева песчаниковые склоны были рассечены глубокими крутыми расщелинами. Обрывистые верхи пеклись в бело-фиолетовом зареве солнц. Внизу глубокие черные тени отливали бутылочно-зеленой мглой. Этцвейна насторожило едва заметное движение — метрах в тридцати, схватившись за обломок скалы, притаился крупный ахульф, собиравшийся, по-видимому, швырнуть камень в путников. Этцвейн протянул руку: «Возможно, вас беспокоит пристальный взгляд ахульфа».
Фабраш резко повернулся, раздраженный тем, что не заметил опасность раньше других. Ахульф незнакомой Этцвейну иссиня-черной породы тревожно пошевелил пучками волокон на слуховых шишках и начал медленно пробираться вверх по склону. Фабраш окликнул его на языке даду. Ахульф оглянулся, замер. Фабраш обратился к нему опять. С присущей его расе самодовольной развязностью движений, производившей комическое впечатление, ахульф спрыгнул с уступа скалы, скачками спустился на тропу, вежливо испустил «запах общительности»[40] и стал опасливо, бочком, приближаться к всадникам. Фабраш спешился, знаком посоветовав Ифнессу и Этцвейну сделать то же самое. Бросив ахульфу комок подсохшей в котелке холодной каши, Фабраш снова залопотал на даду. Ахульф ответил страстным, продолжительным монологом.
Фабраш обернулся к спутникам: «Ахульф видел битву звездолетов. Он объяснил, как все это было. Два бронзовых диска приземлились в верховьях долины, оставались там примерно неделю. Из кораблей-дисков выходили существа на двух ногах, с запахом, не похожим на человеческий. Их внешность ахульфа не интересовала. Они показывались только перед рассветом и в вечерних сумерках. Ничего не делали, просто бродили. Три дня тому назад, в полдень, высоко в небе появились четыре черных шара, заставшие врасплох хозяев бронзовых кораблей. Из шаров вырвались молнии, взорвавшие оба корабля-диска. Сразу после этого черные шары исчезли — так же внезапно, как появились. Ахульфы наблюдали за обломками, но близко подходить не посмели. Вчера с неба спустился очень большой корабль-диск. Целый час он висел над долиной, заслоняя солнца, потом каким-то образом поднял корпус менее поврежденного из двух звездолетов и улетел вместе с ним, а обломки второго корабля остались».
«Весьма любопытно! — пробормотал Ифнесс. — Отдайте этому созданию остатки каши. Мне не терпится осмотреть корпус разрушенного корабля».
Фабраш почесал подбородок — там, где начинала расти сосулька-борода: «Должен признаться, меня, как и ахульфов, одолевает нерешительность. В верховьях долины кроется что-то жуткое, противоестественное — не хочу испытывать судьбу».
«Ни к чему приносить извинения, — успокоил его Ифнесс. — Вас недаром прозвали Везучим Утопленником. Вы не откажетесь подождать нас в компании ахульфа?»
«Это другое дело. Подожду».
Ифнесс и Этцвейн направились вверх по заметно сужавшейся долине. Через полтора километра всадники уже ехали по дну тесного каньона — с обеих сторон вырастали отвесные зубчатые стены песчаника, местами образовывавшие глубокие ниши под каменными навесами. Вскоре, однако, стены каньона разошлись, окружая обширную, покрытую песком равнину. Здесь спутники увидели корпус второго корабля. В смятой наружной оболочке зияли обожженные дыры — не меньше дюжины. Недоставало целого сектора, как в торте с вырезанным куском. Из пробоин и трещин торчали скрюченные обломки металла, сочились полузастывшие вязкие жидкости. Верхнюю часть диска разнесло в клочья — всюду на песке валялись почерневшие обрывки, окруженные обводами белой, зеленой и желтой окалины.
Ифнесс зашипел от досады, но выхватил камеру и стал фотографировать остатки корпуса: «Не ожидал ничего лучшего, но если бы хоть что-нибудь уцелело — какой бы это был трофей для исследователя! Потеряна возможность сравнить наши представления с новой, чуждой космологией! Какая жалость, какая трагедия!»
Этцвейн, не ожидавший от хладнокровного землянина такой горячности, даже немного опешил. Они подъехали ближе — громадный разрушенный звездолет завораживал зловещим, неприязненным величием. Ифнесс спрыгнул с быстроходна, подобрал обрывок металла и взвесил в руке, выбросил его, подошел к пролому в корпусе и заглянул внутрь, с отвращением покачав головой: «Пепел и крошево! Все сожжено, раздавлено, расплавлено! Здесь мы не найдем ничего интересного».
Этцвейн сказал: «Вы заметили, что в диске не хватает сектора? Смотрите: он там, застрял в трещине под скалой».
Ифнесс прищурился в указанном направлении: «Вероятно, двигатель детонировал после первого залпа, и сектор выбросило взрывной волной, а под дальнейшим обстрелом основная часть корпуса сгорела и расплавилась». Историк поспешил к расщелине, куда вклинился недостающий сектор — метрах в двадцати от корабля. Наружная оболочка, деформированная, изрытая вмятинами, чудом не разорвалась — как огромная бронзовая пробка, забитая и сплющенная кувалдой, сектор закупоривал узкий проход между глыбами песчаника.
Чтобы подобраться к отброшенному взрывом сектору, пришлось карабкаться вверх по осыпи. Ифнесс потянул за край треснувшей оболочки, к нему присоединился Этцвейн. Приложив немалые усилия, вдвоем им удалось отогнуть листовой металл настолько, чтобы можно было пролезть внутрь. Из широкой щели пахнуло зловонием разложения, непохожим ни на один из запахов, знакомых Этцвейну... Этцвейн замер, поднял руку: «Тихо!»
Снизу доносился едва различимый царапающий звук; через две-три секунды он прекратился.
«Кто-то — или что-то — еще шевелится», — Этцвейн вглядывался в темноту. Перспектива лезть внутрь погибшего корабля его не привлекала.
Ифнесс долго не раздумывал. Из походной сумки он вынул предмет, никогда еще не попадавшийся на глаза Этцвейну — небольшой прозрачный кубик. Внезапно из кубика вырвался мощный сноп белого света. Ифнесс направил его в темный лаз. В полутора метрах под отверстием вдоль переборки помещения, напоминавшего хранилище, тянулась выгнувшаяся дугой скамья или полка. У противоположной стены скопилась неразборчивая груда свалившихся и скатившихся по наклонному полу предметов. Ифнесс опустился ногами на скамью и спрыгнул на пол. Этцвейн с тоской оглянулся на песчаную равнину, но последовал за историком. Рассматривая кучу предметов в углу, Ифнесс протянул руку в сторону: «Труп». Этцвейн подошел ближе. Мертвое существо лежало на спине, привалившись к стене. «Антропоморф: две руки, две ноги, голова, — сказал Ифнесс. — Ни в коем случае не человек, даже отдаленно не напоминает человека. И пахнет не так, как человеческий труп».
«Хуже», — пробормотал Этцвейн. Нагнувшись, он изучал тело. На мертвеце не было никакой одежды, кроме ремней, удерживавших три сумки, по одной на каждом бедре и под затылком. Кожа — сухая, лиловато-черная — походила на ороговевший пергамент. Голову опоясывали несколько параллельных костяных выступов или ребер, лучами расходившихся спереди от выпуклого защитного кольца вокруг единственного глаза. Напоминавшее рот отверстие находилось в основании шеи. Слуховыми органами служили, вероятно, подушечки матовой щетины на висках.
Ифнесс что-то сказал — Этцвейн не успел разобрать, что именно. Подобрав трубчатый металлический стержень, землянин подскочил к трупу и с силой опустил стержень, как копье. Этцвейн заметил внезапное движение в тени под затылком мертвеца, но Ифнесс проявил завидную прыткость — стержень воткнулся во что-то темное, округлое. Быстро оттащив тело от стены, Ифнесс снова ударил концом стержня большое восьминогое насекомое, выбравшееся из сумки.
«Асутра?» — спросил Этцвейн.
Ифнесс нервно кивнул: «Асутра — и ее симбионт».
Этцвейн снова взглянул на двуногое существо: «В нем что-то есть от рогушкоя — плотная кожа, форма головы, кистей, ступней».
«Я заметил сходство, — отозвался Ифнесс. — Родственный, параллельный продукт селекции — или исходная порода. Так сказать, один из предков рогушкоев». Землянин говорил торопливо и рассеянно, глаза его бегали. Этцвейн никогда еще не видел его в таком бдительном напряжении. «Тихо, подождите!» — сказал Ифнесс.
Длинными шагами он подкрался к переборке и посветил в узкий проход. За переборкой было что-то вроде коридора длиной метров шесть. Смятая ударом о скалу оболочка стен и потолка растрескалась в дальнем конце, через трещины бледно просачивался дневной свет.
Ифнесс тихо прошел по коридору к следующему помещению с сияющим кубиком-прожектором в одной руке и лучевым пистолетом в другой.
Помещение за коридором пустовало. Этцвейн не мог определить его назначение. Как и в первом отсеке, с трех сторон его окаймляла широкая скамья — над ней висели стойки с причудливыми, непонятными Этцвейну стеклянными и металлическими предметами. Четвертой стеной служил трещиноватый выступ скалы, продавивший насквозь наружную оболочку и переборку. Ифнесс хищно озирался, как седой встревоженный ястреб. Он наклонил голову, прислушиваясь. Этцвейн сделал то же самое. В затхлом, неподвижном воздухе ничто не нарушало тишину. Этцвейн обвел рукой помещение: «Зачем это все?»
Ифнесс раздраженно дернул головой: «На человеческих звездолетах все устроено по-другому... Здесь я ничего не понимаю».
«Смотрите! — показал Этцвейн. — Еще асутры». В стеклянной кювете на конце скамьи в мутной жидкости плавали, как громадные черные оливки, три дюжины темных овальных тел, свесившие пучки безжизненно вытянутых ножек.
Ифнесс подошел взглянуть на резервуар. С обеих сторон от кюветы отходили стеклянные трубки. Через трубки были пропущены тонкие волокна, соединявшиеся с асутрами. «Они в оцепенении, — заметил историк. — Вероятно, поглощают энергию или информацию, а может быть, просто спят или развлекаются». Землянин помолчал, заговорил снова: «Мы сделали все, что могли. Масштабы происходящего не позволяют принимать решения в одиночку, малейшая оплошность может привести к катастрофе». Ифнесс снова помолчал, посмотрел вокруг: «Какую сенсацию это произведет в Институте! Чтобы проанализировать все находки, потребуются тысячи специалистов. Пора немедленно возвращаться в Шиллинск. В лодке установлен передатчик. Связавшись с Дасконеттой, я смогу потребовать, чтобы сюда срочно выслали корабль».
«На борту есть кто-то живой, — напомнил Этцвейн. — Кто бы это ни был, вы хотите оставить его на верную смерть?» Будто в подтверждение его словам из-за смятой переборки послышались скребущие звуки.
«Щекотливое дело, — проворчал Ифнесс. — Что, если на нас набросятся двадцать рогушкоев? С другой стороны, если выжившим существом не управляет асутра, можно узнать что-нибудь полезное... Ладно, давайте посмотрим. Но будьте осторожны, не торопитесь! Нет ничего опаснее неизвестности».
Этцвейн подошел туда, где переборка прилегала к скале. Местами между искореженным металлом и камнем оставались щели, создававшие едва уловимое движение воздуха. Почти на уровне глаз темнела бесформенная прореха с рваными краями, шириной больше ладони. Этцвейн заглянул в нее. Некоторое время он ничего не видел. Потом, почти вплотную к лицу Этцвейна, внезапно появилось нечто круглое величиной с большую монету, отливающее, как перламутр, розовыми и зелеными бликами. Этцвейн, порядком нервничавший, отшатнулся, но быстро взял себя в руки и тихо сказал: «Симбионт. Я смотрел ему прямо в глаз».
Ифнесс резко выдохнул: «Он жив — следовательно, смертен. Незачем паниковать».
«Кто из нас паникует?» — подумал Этцвейн, но заставил себя смолчать. Он подыскал подходящий толстый металлический прут и стал крошить камень, расширяя отверстие. Ифнесс Иллинет стоял поодаль с загадочным выражением лица.
Песчаник, уже растрескавшийся от удара при падении сектора, откалывался большими кусками. Этцвейн работал с яростной сосредоточенностью, будто пытаясь отвлечься. Брешь становилась все шире. Забыв обо всем на свете, Этцвейн бешено нападал на скалу... Ифнесс поднял руку: «Достаточно!» Шагнув вперед, он посветил фонарем-кубиком — в проломе стояла темная фигура. «Выходи!» — Ифнесс пригласил незнакомца жестом, освещая путь.
Поначалу симбионт продолжал молча стоять — потом медленно, но решительно протиснулся через пролом. Похожий на высохший, почерневший труп, он стоял, поблескивая циклопическим глазом. На обнаженном теле не было ничего, кроме ремней и трех сумок. В сумке под затылком таилась асутра. Ифнесс обратился к Этцвейну: «Ступайте к выходу, я поведу существо перед собой».
Этцвейн направился в коридор. Ифнесс шагнул вперед и прикоснулся к руке циклопа, показывая ему, куда идти.
Существо прошло по коридору по пятам за Этцвейном в первое помещение, откуда уже был виден лоскут безоблачного неба.
Этцвейн взобрался на скамью, высунул голову наружу и вздохнул. Воздух казался удивительно чистым и свежим. А в небе, в самом зените, висел огромный, медленно вращавшийся диск-звездолет. Обращенный к трем солнцам край красновато-бронзовой оболочки переливался трехцветными слепящими отражениями. Высоко над большим звездолетом парили еще четыре диска поменьше.
Этцвейн смотрел вверх, оцепенев от ужаса. Большой диск постепенно опускался. Нырнув обратно в прореху, Этцвейн сообщил Ифнессу неприятные новости.
«Скорее! — отозвался землянин. — Помогите симбионту выбраться и крепко держите его за ремни!»
Этцвейн вылез наружу и ждал. Снизу, из темной щели, показалась лилово-черная голова с кольцевыми костистыми выступами черепа. Как только появились плечи и кожистая сумка с асутрой, Этцвейн схватил сумку и потянул ее к себе, стараясь оторвать от черного тела. Нервное волокно натянулось — циклоп гортанно буркнул, отпустил края отверстия и упал бы внутрь, если бы Этцвейн не обхватил рукой жилистую шею. Другой рукой он выхватил из-за пояса кинжал и обрубил нерв. Извиваясь и цепляясь членистыми ногами, асутра вылезала из сумки. Этцвейн отшвырнул ее на бронзовую поверхность сектора, потом напрягся и вытащил из дыры лилово-черного антропоморфа. Быстро подтянувшись, выпрыгнул Ифнесс: «Почему столько возни?»
«Я оторвал асутру — вон она удирает. Подержите-ка этого приятеля, я ее добью».
Недовольный землянин нахмурился, но подчинился. Циклоп рванулся было за Этцвейном, но Ифнесс ухватил его за ремни. Этцвейн догнал отчаянно семенящую ногами асутру, высоко поднял тяжелый камень и с силой опустил на темно-коричневое насекомое.
Тем временем Ифнесс отвел внезапно обмякшее, безвольно волочащее ноги существо за выступ скалы, чтобы укрыться от приземляющегося звездолета. На бегу схватив быстроходцев за поводья, Этцвейн последовал за ними.
Историк осведомился ледяным тоном: «Почему вы убили асутру? Теперь симбионт — порожний сосуд. Брать его с собой бессмысленно, одни хлопоты».
Этцвейн сухо ответил: «Я это прекрасно понимаю. Звездолет, однако, приземляется, а мне говорили, что асутры умеют передавать мысли на расстоянии. Вы хотите, чтобы нас поймали?»
Ифнесс крякнул: «Сообщения о телепатических способностях асутр экспериментально не подтверждены». Он посмотрел вверх, на круто поднимающуюся расщелину: «Нужно спешить... Осторожный Фабраш не станет ждать слишком долго».
Глава 6
Узкая, извилистая, усыпанная обломками скал расщелина не позволяла ехать верхом. Этцвейн карабкался впереди и тащил на поводу быстроходцев. За ним пробиралось темное одноглазое существо, растягивая и сокращая напрягавшиеся в перепонках сочленений сухожилия в непривычной для человеческого глаза последовательности. Последним шел Ифнесс, легко и спокойно перешагивавший с камня на камень с отстраненно-задумчивым выражением на лице.
Взобравшись на хребет, они повернули на юг по соседней ложбине и скоро вернулись, спускаясь по осыпи, туда, где оставили проводника. Фабраш похрапывал, прислонившись спиной к скале в удобном месте на склоне, откуда через просвет в каньоне можно было видеть часть покрытой песком равнины. На равнине уже не было ни новоприбывших звездолетов, ни остатков разрушенного корабля. Разбуженный близким перестуком копыт, Фабраш вскочил с испуганным возгласом. Ифнесс поднял руку, призывая его сохранять спокойствие: «Как видите, мы выручили из беды существо, оставшееся в живых после бомбардировки. Вы когда-нибудь встречали что-нибудь подобное?»
«Никогда! — заявил Фабраш. — Ничего себе пугало! В страшном сне не приснится. Зачем вы его взяли? Кто его купит?»
Ифнесс позволил себе слегка усмехнуться: «Редкость в своем роде, уникум! Коллекционер экзотических чучел или владелец бродячего цирка не пожалеет денег на такой экспонат. Кстати, что происходило в верховьях долины?»
Фабраш удивленно воззрился на историка: «Как? Разве вы там не были?»
«Мы скрылись за гребнем холма, — объяснил Ифнесс. — Если бы мы остались, нас могли бы заметить — и кто знает, чем бы все это кончилось?»
«Конечно, конечно, понятное дело. Ну и дела! Я, честно говоря, так ничего толком и не понял. Опустился огромный корабль и поднял остатки разрушенного диска — как прилипший к ладони листок...»
«Один кусок корпуса? — вмешался Ифнесс. — Или два, большой и поменьше?»
«Два, сначала большой, потом другой, поменьше. Когда звездолет отлетел в сторону и нырнул второй раз, я подумал: «Увы! Конец моим компаньонам-работорговцам!» Глубоко огорченный, я сидел и размышлял об удивительной жизни и невероятной удаче Кирила Фабраша, но вы тихонько подкрались и застали меня врасплох. Ха!» Фабраш скорбно покачал головой, порицая себя за недостаток бдительности: «Если б на вашем месте был Хозман Хриплый, не гулять бы мне уже на свободе! Так что вы собираетесь делать дальше?»
«Мы хотим как можно скорее вернуться в Шахфе. Но прежде всего налейте в кружку воды. Это существо провело в заточении несколько суток».
Фабраш цедил воду из седельного меха с горестной усмешкой, явно блуждая мыслями по лабиринту превратностей судьбы. Циклоп без колебаний опрокинул содержимое кружки в отверстие у основания шеи. Ему дали еще воды — он выпил четыре кружки. Когда Ифнесс протянул ему ломтик холодца из походных запасов, существо отказалось, осторожно отведя руку землянина в сторону. Сушеные фрукты, однако, оно немедленно отправило в глотку. Другие продукты, предложенные Ифнессом — соль, кусок горбового жира и молотое зерно для выпечки лепешек — существо отвергло.
Спутники перераспределили тюки с провизией и посадили лилово-черного циклопа на освободившегося вьючного вола. Почуяв нечеловеческий запах, быстроходец отпрянул и задрожал. Всю дорогу этот вол оскорбленно переступал негнущимися ногами и шумно фыркал, раздувая ноздри.
Четыре всадника спускались знакомой тропой по долине Вуруша. Приближался вечер. Циклоп вяло покачивался в седле, не проявляя никакого интереса к окружающему пейзажу. Этцвейн спросил у Ифнесса: «Как вы думаете, он шокирован происшедшим? Истощен и напуган? Или просто тупой, как рогушкои?»
«Рано делать какие-либо выводы. В свое время, надеюсь, удастся узнать гораздо больше».
«Что, если он сможет служить чем-то вроде переводчика между людьми и асутрами?», — предположил Этцвейн.
Землянин нахмурился — эта мысль еще не приходила ему в голову: «Не исключено». Ифнесс вопросительно взглянул на Фабраша, натянувшего поводья: «В чем дело?»
Проводник указал на восток — туда, где отроги Оргая постепенно переходили в бескрайнюю равнину: «Всадники — человек шесть или восемь».
Ифнесс привстал в стременах, всматриваясь вдаль: «Они едут к нам, и довольно быстро».
«Нужно спешить, — забеспокоился Фабраш. — В этих местах никогда не знаешь, кто твой друг, а кто задумал поживиться за твой счет». Подстегнув вола, он поехал размашистой рысью. Ифнесс и Этцвейн последовали его примеру, причем Этцвейн успевал подгонять плетью быстроходца, обремененного темнокожим циклопом.
Кавалькада неслась галопом по берегу реки. Ифнесс раздраженно морщился. Циклоп схватился за загнутые назад рога быстроходца, деревянно выпрямившись в седле. По мнению Этцвейна, на протяжении первых трех километров они заметно опережали преследователей, а потом довольно долго ехали примерно с той же скоростью. В конце концов, однако, расстояние между четырьмя спутниками и скакавшей по равнине бандой стало заметно сокращаться. Долговязый Фабраш бешено погонял вола, стоя в стременах и прижавшись к шее животного. Пляшущая на ветру борода-сосулька болталась у него над плечом. Обернувшись пару раз, он прокричал: «Хозман Хриплый, с раболовецкой бригадой! Спешите! Если вам дороги свобода и жизнь — спешите!»
Быстроходцы начинали уставать. То один, то другой переходил на сбивчивую тяжелую трусцу, что вызывало у Фабраша приступы истерической ярости. Быстроходцы преследователей тоже выдыхались — темп погони замедлился. Солнца кружились над западным горизонтом, поперек реки пролегли три дрожащие, сверкающие дорожки. Фабраш оценил расстояние, отделявшее их маленький отряд от раболовецкой банды, прищурился на закат и горестно возопил: «Вам не терпелось узнать секрет Хозмана? Узнаете! Не наступит ночь, как все мы станем рабами!»
Ифнесс показал вперед: «Смотрите, на берегу фургоны!»
Фабраш с надеждой выпрямился: «А! Успеем доехать, потребовать убежища... Если это не людоеды, нам повезло».
Через несколько секунд он снова обернулся: «Алулы! Узнаю их повозки. Гостеприимный народ — мы в безопасности!»
На ровной отмели у самой воды плотным квадратом выстроились пятьдесят повозок с накренившимися в разные стороны трехметровыми колесами. Сплошные деревянные колеса и опущенные борта создавали внушительную линию обороны. Единственный проход был обращен к реке. Охотники на рабов, отставшие метров на триста, отказались от погони и повернули к воде. Слышно было, как фыркают и храпят их спотыкающиеся волы.
Фабраш Везучий Утопленник первый объехал неприступную стену повозок и остановил быстроходна перед проходом. Навстречу, пригнувшись и широко расставив ноги в угрожающих позах, выскочили четверо часовых. На них были черные куртки-безрукавки, сшитые из полос чумповой кожи, и черные кожаные шлемы. Каждый держал наготове метровый арбалет: «Эй! Ступайте прочь! Мы людьми не торгуем и своих в обиду не даем!»
Фабраш соскочил на землю и вышел вперед: «Опустите самострелы! Мы едем из Оргая в Шахфе — за нами гонится Хозман Хриплый. Просим убежища на ночь!»
«Убежища? А это что за чертово отродье одноглазое? Небось медного беса привезли — наслышаны про них, пусть проваливает!»
«Никакой это не медный бес! Бесов всех перебили в сражении — вы что, не знаете? Эта тварь выжила в сожженном звездолете, мы ее нашли».
«Ну, нашли — и прикончили бы там, где нашли! Мы что тут, нанялись спасать всякую инопланетную нечисть?»
К часовым спокойно-покровительственным тоном обратился Ифнесс: «Вопрос сложнее, чем вы себе представляете. Я намерен изучить язык этого существа — если оно способно говорить. Такое знание поможет всем людям отразить нападение пришельцев».
«Пусть решает Каразан. Стойте, где стоите! Мы никому не доверяем».
Скоро навстречу приезжим вышел широкоплечий богатырь, на голову выше рослого Фабраша. Физиономия его производила не меньшее впечатление, чем массивная фигура — под высоким лбом сверкали проницательные черные глаза, нижнюю половину лица, от шеи почти до самых глаз, покрывала плотная, коротко подстриженная борода. Каразан мгновенно оценил ситуацию и презрительно повернулся к часовым: «В чем затруднение? С каких пор алулы боятся трех путников с одноглазым пугалом? Пусть ночуют». Возвращаясь, Каразан бросил мрачный взгляд туда, где поодаль, на берегу, привязали быстроходцев Хозман Хриплый и его банда. Бойцы опустили арбалеты и расступились: «Проходите. Волов отведите в загон. Спите, где хотите, только не с нашими женами».
«Премного благодарны! — заявил Фабраш. — Будьте начеку — Хозман шустрая сволочь, своего шанса не упустит. Никому не позволяйте выходить за ограду. Уйдут — не вернутся».
Этцвейна лагерь алулов заинтриговал. В нем угадывались черты варварской роскоши, в воображении народов Шанта свойственной всем племенам легендарного Караза. Зеленые, розовые и малиновые шатры были расшиты восхитительно наивными изображениями падающих звезд, комет и сказочных светил. Трехметровые опорные столбы шатров покрывала орнаментальная резьба с повторяющимися мотивами четырех тотемов — крылатого скорпиона, пушистого юркоуса, царь-рыбы из озера Ниор и ниорского пеликана.
Мужчины племени ходили в штанах из дубленой ахульфовой кожи, в блестящих черных сапогах, в расшитых безрукавках поверх белых рубах навыпуск. Замужние женщины повязывали головы лиловыми и зелеными платками и носили пестрые длинные платья. Девушки, однако, расхаживали в штанах и сапогах наподобие мужских.
Перед каждым шатром на огне кипел большой котел — по стойбищу разносился аромат тушеного мяса и пряностей. Старейшины сидели перед церемониальным фургоном, по очереди прикладываясь к кожаной фляге с тминной водкой. Рядом квартет музыкантов в тонких ожерельях из золотых бусин производил на струнных инструментах печально-бессвязный, но более или менее гармоничный шум.
Взглянув на новоприбывших раз-другой, алулы переставали их замечать. Спутники заняли отведенный им участок, развязали тюки, расстелили походные одеяла. Циклоп наблюдал за происходящим, но никак не реагировал. Фабраш не осмелился сходить к реке собрать клемов или наловить крабов и ограничился приготовлением самого простого ужина — зерновой каши с вяленым мясом. Циклоп выпил воды и засунул в глотку, без энтузиазма, немного каши. Тем временем вокруг него собрались дети, смотревшие на небывалое чудище широко раскрытыми глазами. К ним мало-помалу присоединились подростки постарше. Наконец один отважился спросить: «Он ручной?»
«Вроде бы не кусается, — отозвался Этцвейн. — Он прилетел на Дердейн в звездолете, то есть должен быть приучен к цивилизации».
«Вы его купили?» — поинтересовался другой отпрыск алулов.
«Нет, он остался в разрушенном корабле и не мог выйти. Мы его выпустили, а теперь хотим научиться с ним разговаривать».
«Он может показывать волшебные фокусы?»
«Насколько я знаю, нет».
«А танцевать он умеет? ■ — спросила девочка. — Давайте отведем его к музыкантам и посмотрим, как он кружится и кувыркается».
«Он не танцует и музыки не понимает», — заявил Этцвейн.
«Скучная тварь!»
Пришла женщина, отругала и разогнала детей — четверых путников оставили в покое.
Фабраш повернулся к Ифнессу: «Что вы собираетесь делать с чудовищем ночью? Сторожить его по очереди?»
«Не думаю, — возразил землянин. — Если он поймет, что его держат на привязи, то постарается сбежать. Мы его кормим, мы спасли его от смерти. Он это знает. Скорее всего, он останется с нами добровольно. Тем не менее, не помешает незаметно за ним наблюдать». Ифнесс обратился к одноглазому существу, пытаясь найти простейшую основу для общения — положил перед ним на землю, один за другим, три камешка, приговаривая «раз... два... три» и жестом приглашая циклопа к подражанию. Инопланетянин не шелохнулся. Ифнесс обратил внимание существа на яркие звезды в безоблачном ночном небе, показывая на различные ориентиры, даже схватил твердый сухой палец циклопа и направил на небо. «Либо он исключительно хитер, либо исключительно туп, — ворчал историк. — Как бы то ни было, если бы им управляла асутра, мы все равно не выжали бы из него никаких сведений. Жаловаться не на что».
Со стороны центрального костра кочевников доносились энергичные звуки музыки — Этцвейн пошел посмотреть на танцующих. Выстроившись в несколько рядов, молодые люди и девушки ритмично раскачивались из стороны в сторону, прыгали, вскидывая ноги, кружились по одиночке и парами с безудержным весельем. Музыка казалась Этцвейну простоватой, даже наивной, но такой же бодрой и откровенной, как танец. Среди девушек, на его взгляд, попадались настоящие красавицы, причем особой застенчивостью не отличавшиеся... Ему пришло в голову, что неплохо было бы что-нибудь сыграть — он даже повертел в руках оказавшийся не при деле инструмент нелепой, преувеличенно декоративной конструкции. Попробовав несколько аккордов, Этцвейн обнаружил, что лады на грифе расположены неудобно, а струны настроены непривычно. Он сомневался, что сможет импровизировать, предугадывая соответствие гармоний движениям пальцев, но присел, внимательно нагнувшись над инструментом, и сыграл короткую пьесу, пользуясь традиционной аппликатурой. Пьеса прозвучала странно, но интересно и даже приятно. Рядом, улыбаясь, стояла девушка: «Ты умеешь играть?»
«На других инструментах. Такого я никогда не видел».
«Откуда ты, какого тотема?»
«Я из Шанта, родился хилитом в кантоне Бастерн».
Девушка озадаченно покачала головой: «Это, наверное, очень далеко. Никогда не слышала о стране Бастерн. Вы охотитесь на рабов?»
«Нет. Мы с приятелем ездили смотреть на невиданные звездолеты».
«Я тоже не прочь взглянуть на звездолет!»
Хорошенькая, живая, одаренная прелестными формами незнакомка казалась расположенной к флирту. Этцвейн внезапно почувствовал сильное желание играть и снова наклонился над инструментом, чтобы разобраться в гармонической системе... Перенастроив струны по-своему, он обнаружил, что может брать аккорды в редко применявшемся музыкантами Шанта кодарийском ладу. Этцвейн осторожно повторил несколько фраз и в конце концов сумел кое-как аккомпанировать квартету, исполнявшему плясовую.
«Пойдем!» — сказала девушка. Она подвела его к музыкантам-алулам и передала ему переходившую из рук в руки кожаную флягу. Этцвейн позволил себе опасливо приложиться к горлышку. Водка обожгла горло — он засмеялся, пытаясь отдышаться. «Смейся еще! — приказала девушка. — Музыкант не вешает нос, даже если скорбь снедает душу. У него в глазах радужные искры!»
Один из музыкантов весьма неодобрительно поглядывал то на девушку, то на Этцвейна. Этцвейн решил вести себя скромнее. Подобрав требуемую последовательность аккордов, он присоединился к маленькому оркестру, набираясь уверенности с каждой минутой. Простецкая мелодия навязчиво повторялась снова и снова, но каждый раз слегка варьировала — задерживалась синкопой то одна, то другая доля, смещались звонкие акценты. Музыканты, по-видимому, соревновались, поочередно внося едва заметные изменения. Тем временем плясовая звучала все напряженнее и заразительнее — танцоры кружились вихрем, выбрасывая в стороны руки и ноги, дробно притопывая в отблесках костра...
Этцвейна интересовало, когда и каким образом ансамбль закончит игру. Он не хотел попасться в западню, старую, как мир: местные виртуозы, знающие условный сигнал, стараются надуть чужака, заставив его опоздать и глупо бренчать в одиночестве после заключительного аккорда. В начале последней вариации кто-то должен был подать знак — кивнуть, приподнять локоть, тихо присвистнуть, переступить с ноги на ногу... Этцвейн скорее почувствовал, нежели заметил, приближение последнего такта. Как он и ожидал, музыка внезапно смолкла. Этцвейн закончил вместе с другими, но тут же начал сольную вариацию в новом ладу, придавая первоначальной мелодии вызывающую остроту ритма и гармонии. Скоро местные музыканты не выдержали и заиграли снова, одни — ухмыляясь и подмигивая, другие — кисло поморщившись и пожимая плечами. Этцвейн засмеялся, нагнулся над уже знакомым грифом и начал вставлять пассажи и трели...
Наконец танцоры выдохлись, музыканты остановились. Девушка села рядом с Этцвейном, протянула ему флягу. Этцвейн выпил, опустил флягу на землю и спросил: «Как тебя зовут?»
«Я — Руна Ивовая Прядь, из клана Пеликанов. А ты кто?»
«Гастель Этцвейн. У нас в Шанте людей не причисляют к тотемам и кланам, только к кантонам. А еще там людей различали по цветам эмблем на ошейниках, но теперь мы ошейников не носим».
«В разных краях разные обычаи, — не возражала девушка. — Иногда очень странные. За Оргаем, на Ботгарской реке, живут шады, отрезающие девушке уши, если та заговорит с мужчиной. В Шанте тоже так делают?»
«Нет! — категорически заверил ее Этцвейн. — А у вас девушкам разрешают болтать с чужестранцами?»
«У нас все можно. В таких делах каждый сам себе судья. А почему бы и нет? — Руна наклонила голову и откровенно рассмотрела Этцвейна с головы до ног. — Наши парни поплотнее и не умеют так складно говорить. В тебе есть что-то от аэрска»[41].
Ее замечание польстило Этцвейну. Девушка явно решила отважиться на авантюру и расширить свой кругозор, заигрывая с молодым человеком из дальних стран. Этцвейн, от природы недоверчивый, в данном случае не имел ничего против. Он спросил: «Разве ты не помолвлена с тем... хмурым музыкантом?»
«С Гальгаром Юркоусом? С чего ты взял? Стану я с Гальгаром якшаться!»
«Нет-нет, ни в коем случае. Кроме того, я заметил, что он играет не в такт — что свидетельствует, конечно, об определенной ущербности характера».
«Ты чрезвычайно наблюдателен», — промурлыкала Руна Ивовая Прядь и пододвинулась поближе. Этцвейн вдохнул сладковатый аромат древесного бальзама. Девушка тихо спросила: «Тебе нравится моя тюбетейка?»
«Разумеется, — ответил Этцвейн, озадаченный непоследовательностью вопроса. — Хотя она сползла набок и вот-вот свалится».
У костра сидел Ифнесс, появившийся поблизости после окончания танцев. Теперь он предупреждающе поднял указательный палец. Этцвейн, привыкший придавать значение редким жестам землянина, подошел узнать, чего он хочет. «Будьте осмотрительны», — сказал Ифнесс Иллинет.
«Ваше беспокойство безосновательно. Я не теряю бдительности и слежу за всем, что происходит».
«Не сомневаюсь. Но помните, что в лагере алулов действуют законы алулов. Фабраш сообщил мне, что женщины алулов могут претендовать на замужество, прибегая к очень незамысловатой процедуре. Вы заметили, вероятно, что некоторые девушки носят тюбетейки набекрень? Если мужчина снимет головной убор девушки или даже просто поправит его, считается, что он посягнул на интимную часть ее гардероба. При этом, если девушка публично выражает возмущение, неблагоразумный ухажер обязан на ней жениться».
Этцвейн взглянул на Руну Ивовую Прядь, грациозно сидевшую в зареве притихшего костра. Тот факт, что ее тюбетейка еще не упала, казалось, противоречил законам физики. «Любопытный обычай», — пробормотал он.
Этцвейн медленно вернулся к девушке. Та спросила: «Странный у тебя приятель. Что ему нужно?»
Этцвейн затруднялся найти подходящий ответ: «Он заметил, что ты мне нравишься, и предупредил, чтобы я вел себя осторожно и не оскорблял твои чувства прикосновением к одежде».
Руна Ивовая Прядь улыбнулась и презрительно покосилась на Ифнесса: «Старый сплетник! Ханжа! Пусть не беспокоится — три мои лучшие подруги условились встретиться с любовниками у реки. Я тоже обещала пойти, но у меня любовника нет. Мне будет грустно и одиноко».
«Не советую гулять за оградой сегодня ночью, — сказал Этцвейн. — У нас опасные соседи — Хозман Хриплый, знаменитый поставщик рабов, и с ним еще человек шесть. Они только того и ждут».
«Пф! Шайка оборванцев! Вас не догнали, а нас, алулов, тронуть не посмеют. Они давно ускакали на север».
Этцвейн скептически покачал головой: «Если тебе станет одиноко, приходи, поговорим за фургоном, где я постелил одеяло».
Руна Ивовая Прядь вскочила на ноги, надменно вскинув брови: «Не приставай с непристойными предложениями! Подумать только! А я еще подумала, что ты похож на аэрска». Она решительно поправила тюбетейку и гордо удалилась. Этцвейн горестно пожал плечами и направился к походной постели. Некоторое время он лежал и смотрел на циклопа, неподвижно сидевшего в тени — разглядеть можно было только смутные очертания и тускло блестевший единственный глаз.
Этцвейну претило спать рядом с инопланетянином — в конце концов, о его наклонностях никто ничего не знал. Но глаза закрывались сами собой... Посреди ночи Этцвейн почему-то проснулся и тревожно приподнялся. Темное существо сидело в прежней позе. Этцвейн вздохнул и снова улегся.
За час перед рассветом Этцвейна вырвал из объятий сна оглушительный, яростный рев. Вскочив на ноги, он увидел бойцов-алулов, торопливо прыгавших с повозок на землю. Обменявшись парой фраз, они бросились к быстроходцам — скоро раздался топот удаляющихся копыт.
Фабраш пошел узнать, что происходит, и вернулся, скорбно кивая головой: «Я предупреждал их, а они меня не послушали. Поздно вечером четыре девицы вышли погулять на берег и не вернулись. Хозман Хриплый не дремлет! Алулы вернутся с пустыми руками — тех, кто попался Хозману, никто никогда больше не видел».
Действительно, всадники вернулись несолоно хлебавши — в обозримых окрестностях похитителей не было. Ахульфов-ищеек кочевники не приручали. Поисковый отряд возглавлял богатырь Каразан. Спрыгнув с быстроходна, он промаршировал прямиком к Ифнессу: «Где скрывается работорговец? Мы вернем нашу плоть и кровь в лоно родного клана — или разорвем мерзавца на куски голыми руками!»
Ифнесс жестом пригласил его обратиться к Фабрашу:
«Наш друг, тоже промышляющий работорговлей, гораздо лучше осведомлен. Надеюсь, он сможет вам помочь».
Фабраш задумчиво потянул себя за бородку: «Где прячется Хозман Хриплый, не знаю. Какого он племени, какому тотему поклоняется? Никому не ведомо. С уверенностью могу сказать только две вещи. Во-первых, он часто наведывается в Шахфе — там он скупает всех, кого накопили в загоне на раболовецкой базе. Во-вторых, никого из пойманных и купленных Хозманом больше никто никогда не видел».
«Еще посмотрим, кто кого больше никогда не увидит, — пообещал Каразан. — Шахфе, кажется, недалеко?»
«Не больше дня езды на восток».
«В Шахфе! По седлам!»
«Нам по пути, — вмешался Ифнесс, — мы возвращаемся в Шахфе».
«Тогда поторопитесь! — сказал предводитель алулов. — Некогда рассуждать и глазеть по сторонам».
Восемнадцать быстроходцев неслись размашистой рысью по Большой Пустоши. Короткие плащи низко пригнувшихся всадников плескались на ветру. Впереди показалось крапчатое темно-серое пятно на серо-фиолетовом фоне растворяющихся в дымке холмов: Шахфе.
Перед заходом солнц кавалькада ворвалась в селение и остановилась, подняв облако пыли перед постоялым двором.
Из входной дыры выглянул Быбба, при виде инопланетного существа высоко взметнувший седые брови. Спешившись, алулы сразу зашли в кабак. Ифнесс, Фабраш, Этцвейн и безмолвный лилово-черный циклоп последовали за ними.
Внутри, сгорбившись на скамьях и табуретах, угрюмо поглощали медовуху пьяные кащи из клана Синих Червей. Заметив алулов — заклятых племенных врагов — кащи, один за другим, стали тяжело подниматься и угрожающе ворчать. Фабраш обратился к хозяину: «У моих друзей дело к Хозману Хриплому. Он сегодня появлялся?»
Быбба разразился сварливыми причитаниями: «Так не полагается! Я не обсуждаю дела посетителей и постояльцев! Должны быть какие-то...»
Над коротышкой-кабатчиком наклонился шагнувший вперед Каразан: «Отвечай!»
«Не видел я Хозмана — с раннего утра!» — пробурчал Быбба.
«Ага! Значит, он тут был, рано утром?»
«Был! Своими руками подавал ему похлебку — солнца только всходили».
«Как же так? — Каразан начинал гневаться. — Перед закатом его видели на берегу Вуруша, у самых отрогов Оргая. Не раньше полуночи он был там же, у нашего стойбища. А еще до рассвета он очутился в Шахфе и сидел тут, похлебку лопал?»
Кабатчик почесал в затылке: «Все может быть... если скакать во весь дух на добром ангосском быстроходце...»
«Какой породы вол был у Хозмана утром?»
«Обычной, йерзийской».
«Может быть, он сменил быстроходна, когда приехал», — предположил Ифнесс.
Гетман алулов всхрапнул, как вол, и повернулся к Фабрашу: «Ты не обознался? Когда вы спускались с Оргая, за вами гнался Хозман?»
«Мне ли не знать Хозмана Хриплого! Сколько раз я с ним торговался — и с бандой его, и один на один!»
Сзади послышался сиплый, простуженный голос: «Кто поминает Хозмана? Надеюсь, добрым словом?»
Все обернулись. У входного пролома стоял Хозман Хриплый. Он спокойно приблизился — человек среднего роста с бледным, строгим лицом. Длинный черный плащ скрывал всю его одежду, кроме широкого красно-коричневого шарфа, обмотанного вокруг шеи.
Каразан произнес: «Вчера ночью, на берегу Вуруша, ты похитил четверых из нашего племени. Мы требуем их возвращения. Алулы не созданы для рабства — да будет известно каждому работорговцу Караза!»
Хозман хрипло рассмеялся, отвечая на угрозу непринужденностью, внушенной длительным опытом: «Постойте, любезнейший! На чем основано ваше обвинение?»
Каразан медленно подошел вплотную к скупщику рабов: «Хозман! Твое время истекло».
Разъяренный Быбба пытался просунуться между противниками: «Только не здесь! В Шахфе свои законы...»
Гетман отмел кабатчика тяжелой ладонью: «Где наши девушки?»
«Послушайте, — проворно отступил Хозман, — кто ни пропадет в Миркиле, все на меня пальцем показывают. На берегу Вуруша? Ночью? Я завтракал сегодня в Шахфе! Ищите обидчиков в горах».
«Врешь! Ты успел сюда доехать».
Хозман с улыбкой покачал головой: «Если бы у меня были быстроходцы сказочной резвости и неслыханной выносливости, стал бы я заниматься работорговлей? Я бы нажил состояние разведением волов. Отроги Оргая кишат чумпами: такова действительность. Примите мои соболезнования».
Бледный от ярости Каразан, неспособный найти брешь в защите работорговца, в замешательстве молчал. Тем временем Хозман заметил черное одноглазое существо в тени у входа, изумленно вздрогнул и напрягся: «Что здесь делает кха? Он с вами заодно?»
Ифнесс спокойно ответил: «Я поймал его под Три-Оргаем, в тех местах, где мы с вами чуть не повстречались вчера вечером».
Хозман обернулся к землянину, но глаза его не отрывались от неподвижной фигуры циклопа — «кха», как он неосторожно позволил себе его назвать. Работорговец пытался придать голосу шутливо-беззаботное выражение и даже перестал хрипеть: «Еще обвинитель нашелся! Если бы слова могли ранить, бедный Хозман уже извивался бы на земле, обливаясь кровью».
«Не вернешь девушек алулам — так оно и будет!» — взревел гетман алулов, вновь убежденный в лживости разбойника.
Хозман лихорадочно соображал, быстро поглядывая то на Ифнесса, то на циклопа. Повернувшись к Каразану, он просиял льстивой улыбкой и слащаво произнес: «Я подкармливаю нескольких чумп, выполняющих поручения. Возможно, девушки-алулы еще в сохранности. Если это так, вы обменяете четверых на двоих?»
«Четверых на двоих? Что это значит?» — рычал Каразан.
«За четверых девушек отдайте мне кха и этого беловолосого чужестранца».
«Сделка не состоится! — поспешил вмешаться Ифнесс. — Вам придется договариваться на других условиях».
«Ну хорошо, одного кха. Подумайте! Четырех красавиц за дикого, бесполезного урода!»
«Исключительно любопытное предложение! — заявил Ифнесс. — Зачем вам понадобилось это существо?»
«Среди моих заказчиков есть собиратели редкостей», — Хозман вежливо подвинулся, пропуская входящих посетителей — двух безобразно пьяных кащей, растрепанных и потных. Шедший впереди толкнул Хозмана в плечо: «Посторонись, гад! Разорил кащей? Доволен? Из-за тебя, гада, жрать нечего. Да и некому скоро будет жрать! А теперь еще проходу не даешь!»
Презрительно усмехнувшись, Хозман собрался отойти в сторону, но воин из клана Синих Червей схватил его за шарф и потянул к себе, лицом к лицу, гремя каской-трещоткой: «Смешно, а? Издеваешься?»
Подскочил седовласый Быбба: «Никаких драк в кабаке! Руки прочь!»
Махнув рукой наотмашь, кащ повалил Хозмана на пол. Быбба достал из-под передника дубинку и стал с поразительным проворством наносить удары по голове и по спине кочевника. Кащ отмахивался и ругался, но в конце концов, спотыкаясь, выбежал на улицу. Ифнесс Иллинет сочувственно нагнулся к лежащему Хозману и обернулся к Этцвейну: «Нужно ампутировать нарост».
Этцвейн мгновенно подскочил, выхватив нож. Землянин оттянул красно-коричневый шарф, а Этцвейн, прижимая коленом судорожно вскидывающего руки и ноги работорговца, разрезал ремешки сумки, подвешенной у того под затылком. Кабатчик, вытаращив глаза, опустил дубинку. Сморщившись от отвращения, Ифнесс приподнял двумя пальцами влажную асутру — уплощенное овальное членистоногое величиной с большой кулак, изрытое темно-коричневыми бороздками и чуть более светлыми выпуклыми извилинами. Этцвейн обрубил нерв. Грязные стены старого кабака в Шахфе слышали много отчаянных криков, но даже они задрожали от страшного вопля Хозмана Хриплого.
Между Ифнессом и Этцвейном протиснулась жесткая, как дерево, фигура — кха. Этцвейн приготовился ударить ножом, но кха уже выпрыгнул на улицу с асутрой в руке. Ифнесс пустился в погоню, Этцвейн за ним. Их взорам открылось неожиданно мрачное зрелище: в облаке белесой пыли черный циклоп, выпустив из ступней мощные когти, в безмолвной ярости топтал и разбрасывал во все стороны остатки асутры.
Нахмурившись, Ифнесс спрятал лучевой пистолет. Этцвейн поразился: «Он ненавидит асутру больше нас с вами!»
«Недвусмысленная демонстрация эмоций», — согласился землянин.
Из кабака донеслись новые вопли, глухой перестук ударов. Схватившись за голову, на двор выбежал Хозман, преследуемый алулами. Ифнесс с необычной для него поспешностью преградил дорогу Каразану и схватил его за руку: «Опомнитесь, подумайте о девушках! Если вы его убьете, мы ничего не узнаем!»
«Узнаем? Что мы узнаем? — орал гетман. — Он продал в рабство наших дочерей! Сам сказал! Мы их больше не увидим!»
«Не обязательно! Убить его вы всегда успеете, подождите! — Ифнесс повернулся к Хозману, пойманному Этцвейном за шиворот. — Говорите! Вам есть о чем рассказать».
«Что рассказывать? Кому? Зачем? — Хозман истерически всхлипывал. — Все равно меня разорвут на части — людоеды, звери!»
«Тем не менее, мне будет интересно вас выслушать. Вам нечего терять — говорите».
«Все это сон, — бормотал Хозман. — Сон, больше ничего. Я летал по воздуху, как бестелесный призрак. Я говорил с чудовищами. Я умер и восстал из мертвых».
«Прежде всего, — деловито прервал его Ифнесс, — где девушки, похищенные вчера ночью?»
Хозман дико взмахнул рукой и чуть не упал навзничь, потеряв равновесие: «За облаками! В царстве небесном! Оттуда никто, никто не вернется. Их унесло на волшебном челне».
«Так-так, понятно. Их увезли на летательном аппарате».
«Увезли? Их не просто увезли. Их больше нет на Дердейне!»
«Когда прилетает корабль-челнок?»
Хозман боязливо отвел глаза, хитро сморщив губы трубочкой. Ифнесс резко повысил голос: «Не увиливайте! Алулам не терпится устроить вам мучительную казнь. Не заставляйте их ждать!»
Работорговец хрипло смеялся: «Мне плевать на пытки! Я умру в мучениях — так предсказал колдун, мой повивальный дядька. Убивайте меня, как хотите, мне все равно».
«С каких пор вы носили асутру?»
«Это было давно... Так давно, что я забыл прежнюю жизнь. Сколько лет? Десять? Двадцать? В мой шатер заглянули двое — двое в черных одеждах. Таких людей в Каразе нет, нет на Дердейне. Я в ужасе поднялся им навстречу, они... они прижили мне наставницу». Дрожащими пальцами Хозман нащупал тыльную сторону шеи и покосился на алулов. Те стояли кругом наготове — каждый опустил руку на эфес кривой сабли.
«Где четыре девушки, украденные ночью?» — спросил Каразан.
«В ином, далеком мире. Что с ними теперь? Как они живут? Не знаю. Наставница ничего не объясняла».
Ифнесс жестом призвал гетмана к спокойствию и вежливо спросил: «Каким образом вы общались с наставницей?»
Хозман уставился в пространство помутневшими глазами. Слова срывались с его языка невольным, прерывистым потоком: «Невозможно описать, это особое состояние... Сначала, обнаружив на себе захребетника, я обезумел от омерзения — но только на один миг! Асутра тут же сотворила благодатное чудо — меня переполнила радость. Мрачные болота Балха источали восхитительные ароматы — воздух пьянил меня, я преобразился. В этот момент я был способен на все, ничто не могло меня остановить!» Хозман воздел руки к небу: «Блаженство длилось несколько минут. Потом вернулись люди в черном и разъяснили мои обязанности. Я быстро подчинился — за непослушание приходилось платить страшную цену. Наставница вознаграждала наслаждением и наказывала мучительной болью. Она понимала человеческий язык, но сама говорить не могла — только шипела да посвистывала. Я так и не выучил ее наречие. Но я мог говорить с ней вслух и спрашивать, если таково было ее желание. Наставница стала моей душой, частью меня самого — роднее и нужнее рук и ног. Нервы ее сплелись с моими неразрывно. Асутра заботилась о моем благополучии, не заставляла работать под дождем или в холоде. Я никогда не голодал — мой труд вознаграждался слитками червонного золота, меди, иногда даже стали».
«И в чем, собственно, состояли ваши обязанности?» — поинтересовался Ифнесс.
Хозман снова разразился лавиной слов, будто давно накипевших, ждавших первой возможности вырваться: «Обязанности? Очень простые. Я скупал рабов, здоровых рабов — столько, сколько можно было купить. В работорговле мне не было равных! Я обшарил, обчистил каразскую землю от реки Азур на дальнем востоке до бескрайних степей Дулговы на западе, до Турусских гор на южном побережье! Тысячи рабов отправил в космос Хозман Хриплый, гроза Караза!»
«Как их отправляли?»
«Ночью, когда вокруг никого не было и наставница могла предупредить об опасности, я вызывал челнок с орбиты и загружал моих рабов — порой одного или двух, иногда дюжину и больше. Рабы послушно всходили на борт, беспечные, отупевшие — им в питье подмешивают наркотик. Если нужно было спешить в другое место, я тоже поднимался на борт, и челнок стремительно уносил меня безмолвной птицей над черными облаками ночи. Например, из Оргая в Шахфе».
«И куда же доставлял рабов ночной челнок?»
Хозман показал пальцем вверх: «Там, высоко над небом, ждет летучий корабль. В нем тихо, рядами, лежат спящие рабы. Когда корабль наполняется, он улетает к миру наставниц — в сторону витков Хисторбо, созвездия Змеи. Как-то ночью мне было нечего делать — я задавал наставнице вопросы, а она отвечала «да» или «нет». Зачем асутрам столько рабов? Существа, служившие им раньше, плохо понимали указания или перестали слушаться. Так или иначе, настала очередь людей. Они должны защитить наставниц от страшного врага, притаившегося среди звезд». Хозман замолчал. Алулы, окружившие его тесным кольцом, теперь взирали на работорговца скорее не с ненавистью, а с ужасом, пораженные его невероятной судьбой.
Ифнесс опять спросил, самым безразличным тоном: «Как вызывается челнок?»
Закусив губу, Хозман отвернулся и смотрел на пыльную равнину. Ифнесс настаивал, осторожно и мягко: «Вам больше не приведется носить асутру, отравляющую мозг быстротечным блаженством. Теперь вы снова один из нас, а мы считаем, что асутры угрожают всему роду людскому».
Хозман отвечал неохотно, глухим говорком: «У меня в сумке коробка с маленькой кнопкой внутри. Когда мне нужен челнок, я ухожу в безлюдное место темной ночью и жму на кнопку до тех пор, пока челнок не спустится с неба».
«Кто управляет челноком?»
«Он движется сам, побуждаемый таинственной волей».
«Отдайте мне коробку с кнопкой».
Хозман медленно опустил руку в сумку на поясе и вынул прямоугольную коробку. Ифнесс сразу отобрал ее. Этцвейн, встретившись глазами с кивнувшим ему историком, обыскал сумку и одежду Хозмана, но нашел только три небольших слитка меди и великолепный стальной кинжал с рукояткой из резного белого стекла.
Хозман наблюдал за происходящим с недоуменно-вопросительным выражением: «Что вы собираетесь со мной делать?»
Ифнесс взглянул на Каразана. Тот покачал головой: «Хозман не человек, а кукла, игрушка на ниточках! Он не заслуживает возмездия».
«Справедливое решение, — согласился землянин. — В стране работорговцев его нельзя обвинить ни в чем, кроме излишнего усердия».
«Этим дело не кончится! — недовольно отозвался гетман. — Нам не вернули дочерей. Пусть Хозман вызовет летающий челн. Мы его захватим и потребуем девушек в обмен!»
«На борту никого нет — у кого вы будете требовать?» — спросил Хозман, но вдруг добавил: «Впрочем, вы могли бы подняться на орбиту в челноке и лично предъявить возражения хозяевам корабля».
Каразан издал тихий задумчивый звук, обратив лицо к лиловому вечернему небу — гигант в белой рубахе навыпуск и черных шароварах. Этцвейн тоже смотрел в небо, представляя себе Руну, Ивовую Прядь, среди копошащихся бурых насекомых...
Ифнесс спросил Хозмана: «Вы когда-нибудь бывали на орбитальном корабле?»
«Только не я! — содрогнулся работорговец. — Я только того и боялся, чтобы как-нибудь там не очутиться. Изредка в челноке приземлялся серый карлик с наставницей на спине. Тогда приходилось часами стоять в темноте, пока две асутры шипели и пересвистывались. После таких посещений я мог отдыхать — накопитель на орбите наполнялся, рабов увозили, и какое-то время их скупка не требовалась».
«Когда асутра с орбитального корабля спускалась в последний раз?»
«Довольно давно. Точно не помню. Мне не давали размышлять, я не считал дни».
Ифнесс задумался. Каразан грузно шагнул вперед: «Так мы и сделаем: вызовем челнок, поднимемся на орбиту, уничтожим врагов и освободим дочерей алулов! Остается дождаться ночи».
«Идея захвата корабля-накопителя напрашивается сама собой, — сказал Ифнесс Иллинет. — Успех сулит значительные выгоды, возможностью изучить технологию противника трудно пренебречь. Тем не менее я предвижу, что вы столкнетесь с трудностями, особенно в том, что касается возвращения и приземления. Допустим, вам удастся захватить корабль на орбите — но вы не умеете им управлять и можете оказаться в отчаянном положении. Рискованное предприятие. Рекомендую воздержаться».
Каразан горестно крякнул и снова воззрился на небо, будто пытаясь отыскать кратчайшую дорогу к тюрьме на орбите. Хозман, почувствовав возможность незаметно ускользнуть, не преминул ею воспользоваться. Зайдя за угол постоялого двора, чтобы вернуться к быстроходцу, работорговец застал кащей из клана Синих Червей, рывшихся в его седельных сумках. Хозман издал нечленораздельный яростный крик и бросился на широкую сутулую спину ближайшего грабителя. Второй кащ, копавшийся с другой стороны седла, не долго думая, ткнул Хозмана кулаком в лицо. Тот отбежал назад, чтобы не упасть, и ударился спиной о глинобитную стену кабака. Синие Черви снова погрузились в свое неблагородное занятие. Алулы с отвращением наблюдали за ними и собрались было вмешаться, но Каразан отозвал их: «Ахульфы делят добро ахульфа. Пусть, не наше дело».
«Ты кого ахульфами зовешь? — огрызнулся один из разбойников. — Оскорбительная кличка!»
«Только не для ахульфов, — скучающим тоном обронил Каразан. — Вам обижаться не на что».
Кащи, значительно уступавшие алулам численностью, не решались ввязываться в драку и вернулись к обыску поклажи работорговца. Каразан отвернулся и погрозил кулаком в небо.
Этцвейн, беспокойный и подавленный, обратился к Ифнессу: «Предположим, мы захватим корабль. Разве вы не сможете разобраться в приборах управления?»
«Почти наверняка не смогу. Но и пытаться не стану — в этом вы можете быть уверены».
Этцвейн уставился на землянина с холодной враждебностью: «Мы обязаны что-то сделать. Не меньше сотни — может быть, две сотни людей — томятся на орбите и беспомощно ждут, пока асутры не увезут их на чужую планету. Мы их единственная надежда».
Ифнесс рассмеялся: «По меньшей мере, вы преувеличиваете мои возможности. Подозреваю, что вас очаровала пара кокетливых глаз, и теперь вы готовы решиться на галантный подвиг, невзирая на препятствия и последствия».
Этцвейн сдержал готовый сорваться с языка гневный ответ — меткое замечание заставило его смутиться... К тому же, почему бы Ифнесс вдруг начал проявлять великодушие? С момента их первой встречи землянин неизменно отказывался заниматься чем бы то ни было, кроме своих собственных дел, всегда представлявшихся ему неизмеримо более важными. Не впервые Этцвейн чувствовал сильнейшую неприязнь к ученому-карьеристу. Их отношения никогда не были близкими — настало время окончательного отчуждения. Тем не менее, Этцвейн спокойно спросил: «Вернувшись в Шиллинск, не могли бы вы связаться с Дасконеттой и потребовать, чтобы с Земли выслали спасательный корабль? Дальнейшее промедление немыслимо».
«Я мог бы это сделать, — кивнул Ифнесс. — Кроме того, Дасконетта, скорее всего, утвердил бы мой запрос и тем самым приписал бы себе достижение, по всей справедливости не являющееся его заслугой».
«Сколько времени потребуется такому кораблю, чтобы прибыть в Шахфе?»
«Трудно сказать. Это зависит от многих факторов».
«Меньше суток? Два дня? Две недели? Месяц?»
«Учитывая все соображения, в самых благоприятных условиях корабль может прибыть на Дердейн через две недели».
Каразан, до сих пор ничего не понимавший в беседе чужестранцев, встрепенулся, когда землянин назвал возможный срок прибытия спасательной экспедиции: «Две недели! К тому времени пленных увезут — до скончания века они будут пресмыкаться перед захребетниками, потерянные на далекой, чужой планете!»
«Трагическая ситуация, — согласился Ифнесс. — Но я не могу ничего посоветовать».
«Существует разумный вариант! — не сдавался Этцвейн. — Вы как можно скорее вернетесь в Шиллинск и там потребуете помощи у Дасконетты. Я вызову челнок. Вместе с алулами мы поднимемся на орбиту и захватим корабль. Если сможем, мы приземлимся сами — если нет, останемся на орбите и будем ждать спасателей с Земли».
Ифнесс ответил не сразу: «В вашем плане есть своего рода сумасшедшая логика. Если допущения верны, он даже осуществим. Должен признать, что обстоятельства позволяют мне обойти Дасконетту и связаться непосредственно с теми, от кого зависит организация спасательной экспедиции. Таким образом, мое предыдущее возражение отпадает... Но в уравнении слишком много переменных. Мы имеем дело с неизвестностью».
«Прекрасно понимаю. Но алулы намерены захватить корабль в любом случае, а у меня есть возможность способствовать их успеху, — Этцвейн похлопал по сумке с лучевым пистолетом. — Сознавая это, как я могу остаться в стороне?»
Ифнесс пожал плечами: «Я не позволяю себе экстравагантные благоглупости — иначе меня давно уже не было бы в живых. Все же, если вам удастся посадить на Дердейне неземной звездолет или хотя бы удержать его на орбите до моего возвращения, я буду в первом ряду публики, аплодирующей вашей альтруистической браваде. Подчеркиваю, однако, что прежде всего я учитываю свои собственные интересы, ничего не гарантирую и настоятельно рекомендую вам не пускаться в космические авантюры».
Этцвейн сухо усмехнулся: «Ничего другого я от вас и не ожидал. Да, захват звездолета — дело рискованное. Но если мы не пойдем на риск, люди погибнут неизбежно. Возвращайтесь в Шиллинск без промедления. Время не ждет».
Ифнесс нахмурился: «Сегодня? Путь не близкий... С другой стороны, гостеприимство Быббы меня тоже не прельщает. Согласен — желательно поторопиться. Пусть будет так. Я возьму с собой кха. Мы отправимся сейчас же в сопровождении Фабраша».
Глава 7
Солнца уже три часа как зашли за далекий хребет Оргая, и в небе исчезли последние следы багрово-фиолетовой вечерней зари. На равнине ждали восемнадцать воинов-алулов, Этцвейн и Хозман.
«Здесь обычное место, — говорил Хозман, — и сейчас самое подходящее время. Это делается так. Я нажимаю кнопку. Через двадцать минут сверху должен появиться зеленый огонь. Тогда я отпускаю кнопку, и челнок приземляется. Рабы стоят очередью, друг за другом. Опьяненные наркотиком, они послушны, ничего не понимают, двигаются, как во сне. Открывается дверь. За ней — бледно-голубой свет. Я подхожу, подгоняя рабов ближе к двери. Если в челноке спустилась наставница, она появляется на пороге, и я должен ждать, пока асутры переговариваются. Когда разговор кончается, рабы заходят внутрь, я закрываю дверь, и челнок взлетает. Вот и все».
«Очень хорошо. Нажмите кнопку».
Хозман подчинился. «Сколько раз я этим занимался! — бормотал он. — И каждый раз дивился: куда их увозят? Что их ждет? Потом, когда челнок улетал, я долго смотрел на звезды и, казалось, говорил с ними... Но все это позади, все позади. Я отведу ваших быстроходцев в Шахфе и продам их Быббе, а потом вернусь в родные края и стану профессиональным пророком... Встаньте в очередь, потеснее. Вы должны выглядеть вялыми, рассеянными, обмякшими».
Алулы и Этцвейн построились цепочкой друг другу в затылок и стали ждать. Ночь выдалась тихая, безветренная. Километрах в восьми к северу, в Шахфе, жгли костры и масляные лампы, но отсюда их уже не было видно. Минуты тянулись долго — Этцвейн никогда еще не замечал, чтобы время шло так медленно. Каждая секунда растекалась, как плавленый воск, и неохотно исчезала в непроглядной тьме прошлого.
Хозман поднял руку: «Зеленый огонь! Прибывает челнок. Стойте наготове — расслабленно, вяло, не делайте резких движений...»
Небо тихо вздохнуло и слегка загудело — постепенно растущая тень закрывала звезды. Орбитальный челнок приземлился метрах в пятидесяти. Медленно опустился люк-трап, на землю пролился бледный голубой свет. «Пойдемте, — бормотал Хозман. — Строем, не расходитесь... Выползает наставница. Не слишком волочите ноги, торопиться тоже не надо».
Этцвейн, шедший впереди, остановился, не доходя до трапа. Дорожка голубого света вела в расплывчатый голубой сумрак. На наружном выступе у порога трапа под линейкой микроскопических цветных огоньков сидела асутра. На какое-то мгновение Этцвейн и асутра встретились глазами. Догадавшись о приближении опасности, асутра зашипела и стала поспешно пятиться к небольшому отверстию в корпусе. Одним взмахом сорухской сабли Этцвейн отрубил брюшко насекомого, преградив путь к отступлению, и с отвращением сбросил лезвием на трап судорожно шевелящиеся остатки. Алулы раздавили их сапогами.
Хозман хихикнул сумасшедшим тонким голоском: «Связь не прошла бесследно. Я чувствовал бешеную ярость: как мороз по коже!»
Каразан грузно взошел по трапу. Потолок внутреннего коридора заставил его пригнуться: «Вперед! Доведем дело до конца, пока кровь не остыла! Гастель Этцвейн, ты разбираешься в этих шарнирах, штырьках, призрачно мигающих огнях?»
«Нет».
«Заходи же! Взялся за гуж — не говори, что не дюж!»
Этцвейн поднимался по трапу последним. Его одолевала нерешительность — бесспорно, они отважились на крайне безрассудное предприятие. «Смелость города берет!» — убеждал он себя, но на пороге полной неизвестности привычные пословицы и прибаутки теряли смысл. Этцвейн обернулся к Хозману — и поразился исказившему лицо работорговца нетерпению. Казалось, тот едва сдерживал торжествующий возглас.
«Настал час его мести! — мрачно подумал Этцвейн. — Теперь Хозман отомстит всем — и нам, и асутрам. Весь Дердейн будет расплачиваться за ужас его прежней жизни... Не проще ли прикончить его сразу?» Этцвейн медлил, задержавшись на пороге челнока. Снаружи стоял явно что-то предвкушавший Хозман. Внутри алулы, с первой минуты угнетенные замкнутым пространством, начинали недовольно ворчать. Поддавшись внезапному порыву, Этцвейн соскочил на землю и схватил Хозмана за руку — тот прятал ее, почти заложив за спину. Работорговец сжимал в кулаке белую тряпку. Этцвейн медленно поднял глаза: Хозман боязливо облизывался, кончики его бровей подло опустились и дрожали.
«Вот как! — сказал Этцвейн. — Решил подать сигнал, чтобы на орбите нас встретили залпом?»
«Нет-нет! — запинаясь, оправдывался Хозман. — Это мой платок. Привычка — потеют ладони».
«Понятное дело, потеют!» — не отпускал его Этцвейн.
Из челнока выглянул Каразан. Мгновенно разобравшись, в чем дело, богатырь спустился по трапу и наклонился над работорговцем, широко открыв большие страшные глаза: «Насекомое! Никто не принуждал тебя к предательству — оно у тебя в крови!» Гетман вытащил из ножен широкую кривую саблю: «На колени, Хозман! Подставляй шею, пришло твое время».
«Один момент! — вмешался Этцвейн. — Как закрывается люк?»
«Сами догадывайтесь! — крикнул Хозман и попробовал отпрыгнуть в сторону, но Каразан поймал его за воротник плаща.
Работорговец стал причитать истеричным слезным голосом: «Мы так не договаривались! А у меня есть ценные сведения, я могу спасти вам жизнь — но если мне не гарантируют свободу, ничего не скажу! Убить-то вы меня убьете, зато потом, когда взвоете от непосильной работы на планете хозяев, вспомните последний смех Хозмана!» Закинув голову, он разразился диким издевательским хохотом: «Вас сгноят в рабстве, а Хозман — Хозман умрет в радости, обрушив на врагов лавину горя!»
Этцвейн пожал плечами: «Какое нам дело до твоей грошовой жизни? Мы беспокоимся о себе — твое предательство сорвет наши планы».
«Никакого предательства! Моя жизнь, моя свобода — в обмен на ваши!»
«Затолкните его в челнок, — посоветовал Каразану Этцвейн. — Если мы выживем, ему повезет. По возвращении, однако, придется его хорошенько высечь».
«Нет, нет, нет!» — вопил и вырывался Хозман. Каразан огрел его ладонью по голове — работорговец замолчал.
«Предпочел бы прикончить паразита, — вежливо поделился мнением Каразан. — Ну, пошли!» Встряхнув Хозмана за шиворот, гетман затащил его внутрь челнока. Разглядывая люк, служивший трапом, Этцвейн обнаружил нечто вроде внутреннего зажима и спросил Хозмана: «Что теперь? Потянуть трап на себя, а когда он закроется, опустить рычаг?»
Хозман уныло кивнул: «Больше ничего. Машина сама взлетает и находит корабль».
«Тогда приготовьтесь: отправляемся».
Этцвейн захлопнул люк — и сразу ощутил навалившуюся на ноги тяжесть. Алулы ахнули, Хозман жалобно залепетал. Через некоторое время ускорение уменьшилось. Голубое освещение мешало распознавать лица и, казалось, придавало характеру каждого человека что-то новое, доселе неизвестное. Глядя на кочевников, Этцвейн чувствовал себя пристыженным их отвагой — им ничего не было известно о возможностях Ифнесса. Этцвейн спросил Хозмана: «О каких спасительных сведениях вы говорили? Что вы знаете?»
«Ничего определенного, — мялся Хозман. — Просто знаю, как нужно себя вести, как нужно выглядеть, чтобы избежать немедленного разоблачения».
«И как же, по-вашему, мы должны себя вести?»
«Нужно ходить с обвисшими руками, с пустым невидящим взглядом — вот так, едва держась на ногах и спотыкаясь», — обмякший Хозман стоял с безнадежным выражением на осунувшемся лице, изрезанном длинными тенями морщин.
Минут через пятнадцать сила тяжести снова слегка увеличилась: челнок тормозил. Хозман нервно забормотал: «Не знаю, что и как делается внутри корабля. Но вы должны действовать беспощадно и стремительно. Неожиданность — единственная надежда».
«Корабль обслуживают серые существа с асутрами на спинах?»
«Надо полагать».
«Деритесь, и деритесь хорошо! — посоветовал Хозману Этцвейн. — Это в ваших интересах».
Работорговец не ответил. Прошло несколько секунд. Челнок вздрогнул, соприкоснувшись с чем-то жестким, и, по-видимому, втиснулся в некое углубление или гнездо со вторым, уже окончательным толчком. Люди напряглись. Люк открылся. Перед ними брезжил голубым полумраком пустой узкий коридор, где можно было поместиться только цепочкой по одному. Из потолочной панели неожиданно раздался голос: «Пройдите в приемник, снимите всю одежду. Вас освежат очищающим раствором».
«Двигайтесь, как пьяные, не понимающие инструкций», — пробормотал Хозман.
Этцвейн медленно, волоча ноги и опустив голову, прошел в дальний конец коридора, где дорогу преграждал следующий люк. Алулы последовали за ним — среди них шаркал понурый Хозман. Голос с потолка заговорил снова: «Снимите всю одежду. Одежду необходимо снять».
Этцвейн изобразил, что пытается стащить с себя куртку, но скоро изможденно опустил руки и обмяк, прислонившись к стене. В громкоговорителе послышались тихое шипение, брезгливая возня. Из отверстий в потолке вырвались струи едкой жидкости — все стоявшие в коридоре промокли до нитки. Едкий ливень прекратился, открылся люк в конце коридора. Этцвейн вошел, спотыкаясь и пошатываясь, в большое круглое помещение. Здесь их ожидали шесть двуногих существ с темно-серой бородавчатой кожей — сутулые, приземистые, напоминавшие огромных жаб. Из приплюснутых голов молочно-белыми шарами выступали пять стекловидных глаз, мускулистые ступни с серо-зелеными перепонками можно было скорее назвать ластами. На тыльной стороне шеи у каждой жабы сидела асутра.
Этцвейну не пришлось даже подавать знак. В алулах взорвалась давно копившаяся ярость — они бросились вперед, и через пять секунд служители насекомых неподвижно лежали в растекающихся лужах серо-зеленой крови, смешанных с изрубленными и раздавленными остатками их хозяев. Выхватив лучевой пистолет, Этцвейн озирался по сторонам, его ноздри возбужденно расширились. Больше никто не появлялся.
Крадучись, длинными шагами, Этцвейн пробежал к выходу в противоположном конце помещения, выглянул в узкий коридор, тянувшийся в двух направлениях. Прислушиваясь, он мог различить только тихий, низкий, размеренно пульсирующий гул. Половина алулов во главе с Каразаном направилась налево. Этцвейн шел впереди отряда, свернувшего направо. Плечи едва помещались в тесном коридоре, голова почти касалась низкого потолка. Видимо, проходы в орбитальном корабле проектировались асутрами в расчете на приземистых узкоплечих служителей-амфибий. Великану-гетману, наверное, приходилось протискиваться бочком и пригнувшись.
Впереди, под потолком, Этцвейн заметил мерцание звезд — коридор кончался крутым подъемом без ступеней. Поспешно взобравшись наверх, Этцвейн ворвался в рубку управления под прозрачным куполом. Помещение окружала низкая кольцевая скамья. На центральном участке блестело скопление заполненных разноцветными жидкостями небольших прозрачных резервуаров. Прямо напротив входа, вплотную к нижнему краю купола, продолжением кольцевой скамьи выступала низкая наклонная панель, испещренная канавками и точечными отверстиями — судя по всему, пульт управления. За пультом на скамье с мягкой обивкой лежали три асутры.
Как только Этцвейн появился в рубке, асутры вскочили на пульт и повернулись к нему, прижавшись к куполу и возмущенно шипя. Одно из насекомых приподняло передними лапками маленький черный прибор, с треском испустивший в сторону Этцвейна струю сиреневого пламени. Этцвейн, однако, уже бросился в сторону — пламя угодило в грудь кочевнику, взобравшемуся в рубку следом за Этцвейном. Этцвейн боялся пользоваться лучевым пистолетом: разряд мог прожечь прозрачный купол. Короткими перебежками, пригибаясь и прячась за прикрытиями, он приблизился к асутрам. Одно насекомое успело спрыгнуть и юркнуть в тесный лаз высотой не больше двух ладоней. Вторую асутру Этцвейн успел прибить, ударив саблей плашмя. Третья, шипя и свистя, пятилась по пульту управления. Этцвейн схватил ее и швырнул на пол, где подоспевший кочевник превратил ее каблуком в грязное мокрое место.
Человек, пораженный выстрелом асутры, лежал на спине под низким куполом рубки и смотрел на звезды. Он умирал, ему ничто не могло помочь. Этцвейн приказал двум алулам оставаться на страже. Те ответили дерзкими взглядами, оспаривая его право распоряжаться. Этцвейн игнорировал их упрямство: «Осторожно! Не стойте там, где асутра может в вас прицелиться — она прячется в лазе под скамьей. Это отверстие лучше всего чем-нибудь загородить. Не теряйте бдительности!» Этцвейн спустился в коридор и отправился на поиски Каразана.
Коридор пологой дугой спускался к центральному трюму, где на многоэтажных нарах, тянувшихся от круглой площадки к стенам подобно спицам огромного колеса, спали тяжелым наркотическим сном пленные, захваченные в Каразе. Каразан убил одного из бородавчатых серых служителей. Двое других покорно стояли в стороне. У них на загривках не было «наставниц». Не меньше двухсот человек — мужчин, женщин и детей — лежали плотными неровными рядами, как бревна в поленницах. Среди них, на площадке, стоял Каразан, хмуро поглядывая то на пятиглазых гигантских жаб, то на спящих рабов. Впервые в жизни, наверное, гетман пребывал в нерешительности.
«Пленных можно оставить в покое, — сказал Этцвейн. — Пусть спят. Гораздо важнее другое. Асутры пользуются узкими лазами с выходами на уровне пола. Одна успела скрыться в такой лаз. У насекомых есть лучевое оружие, они уже убили одного. Нужно обойти корабль, соблюдая чрезвычайную осторожность, и замуровать все опасные отверстия — по крайней мере до тех пор, пока мы не разберемся в планировке».
Каразан пожаловался: «Корабль меньше, чем я думал. Тесно, повернуться негде».
«Корабль строили асутры. С их точки зрения он достаточно просторен. Если повезет, мы скоро приземлимся. До тех пор остается только ждать и надеяться, что уцелевшие асутры не позовут своих на помощь».
«Ума не приложу, что к чему? — беспокойно оглядываясь, ворчал Каразан. — Прежде всего, с какой стати эти твари явились на Дердейн за рабами? Что, их не устраивают жабы, черные одноглазые чудища, медные бесы — и какая там еще нечисть у них в услужении?»
«Об асутрах мы не знаем ничего определенного, — сказал Этцвейн. — Одна догадка не хуже другой. Возможно, симбионты каждого типа выполняют только отдельные функции. А может быть, асутры просто предпочитают разнообразный состав прислуги».
«В конце концов, какая разница? — гремел Каразан. — Выкурить их, как клопов из щелей, и все тут!» Гетман отдал распоряжения своим людям и попарно отправил на поиски. Объявив, что он неспособен разойтись со встречными в узких коридорах и будет только мешать, Каразан отправился в более просторную рубку под куполом, погоняя перед собой двух серокожих амфибий. Там он попытался заставить их приземлить корабль на Дердейне, но ничего не добился. Этцвейн направился к челноку, остававшемуся в корабельном доке, однако не нашел в нем ничего, что напоминало бы приборы управления. Потом он занялся поисками провизии и воды и обнаружил их в мешках и баках в отдельном отсеке рядом с трюмом, где спали рабы. Воздух казался чистым и свежим — где-то в орбитальной тюрьме работала автоматическая система фильтрации и кислородного обогащения. Этцвейн надеялся, что уцелевшие асутры не догадаются или не пожелают выпустить воздух из корабля, спрятавшись в каком-нибудь герметичном отсеке. Что бы он сделал на их месте? Если с родной планеты скоро должен был прибыть транспортный звездолет, он не стал бы ничего предпринимать и ждал бы устранения проблемы лучше вооруженными и оснащенными сородичами...
Стали возвращаться пары воинов-кочевников. Они нашли двигатели, генераторы энергии и систему очистки воздуха. Удалось застать врасплох и прикончить одну асутру, сидевшую на шее пятиглазой жабы, но других насекомых не видели. В дюжине отсеков были заблокированы все проходы, слишком узкие для людей. Теперь у Этцвейна было много свободного времени. Он постепенно, внимательно изучил все помещения орбитального накопителя, пытаясь определить местонахождение аварийного убежища насекомых. Алулы, уже чувствовавшие себя увереннее, помогали ему.
Часами они бродили по кораблю, оценивая расстояния и объемы, и в конечном счете заключили, что логово хозяев орбитальной тюрьмы находилось непосредственно под куполообразной рубкой управления и занимало пространство площадью не больше одного квадратного метра и высотой чуть больше метра. Этцвейн и Каразан внимательно осмотрели наружные поверхности этой полости, размышляя над тем, как в нее можно было бы проникнуть. В стенах, изготовленных из неизвестного Этцвейну материала, не похожего ни на стекло, ни на металл, не было никаких швов или стыков. Этцвейн предполагал, что в убежище находились своего рода «каюты», жилые ячейки экипажа. Как долго асутры могли выжить в таких ячейках без пропитания? Вероятно, в том же закрытом пространстве хранился аварийный запас провианта.
Приближался рассвет. Дердейн выглядел, как огромный, окруженный звездами черно-пурпурный диск с пульсирующим анилиново-красным проблеском на востоке. Голубая Эзелетта вынырнула из-за горизонта, за ней розовая Сасетта и, наконец, слепяще-белый Заэль. Поверхность Дердейна озарилась.
По приблизительной оценке Этцвейна космическая тюрьма висела над Каразом на расстоянии трехсот с лишним километров. Прямо внизу должно было быть Шахфе, но незначительное селение невозможно различить с орбиты. С юга на север, как серебряные змеи с лиловым отливом, спящие на подстилке из темного курчавого мха, тянулись гигантские реки Караза. Далеко на юго-западе можно было заметить озеро Ниор и цепочку озер поменьше. Этцвейн не знал, какая сила удерживала корабль-накопитель на орбите и сколько времени заняло бы падение на планету, если бы асутры выключили двигатели, но поморщился, представив себе последние несколько секунд... Тем не менее, уничтожив корабль, асутры ничего не выигрывали. Этцвейн задумался о любопытном сходстве внешне столь непохожих друг на друга существ, как люди, асутры, рогушкои и кха. Всем требовались пропитание и укрытие, все пользовались светом, чтобы ориентироваться в пространстве... Средствами общения служили, главным образом, речевые и слуховые органы — не зрение, не осязание и не обоняние — по простейшим, одинаковым для всех причинам. Звук заполняет пространство, отражаясь от поверхностей и огибая препятствия, звук можно производить с минимальными затратами энергии, сочетания и последовательности звуковых колебаний бесконечно разнообразны.
Телепатия? Многие соображения позволяли подвергнуть сомнению целесообразность повседневного применения телепатической связи человеком, хотя другие существа могли пользоваться таким методом общения более последовательно. Приписывать исключительно человеку способность время от времени угадывать мысли или эмоции на расстоянии было бы нерационально. «Сравнительное изучение разумных существ было бы чрезвычайно занимательным времяпровождением», — решил Этцвейн...
Он разглядывал во всех направлениях глухо-черное, пылающее звездами небо. На скорое прибытие Ифнесса и земного звездолета можно было не надеяться. Но уже нужно было опасаться преждевременного прибытия звездолета насекомых-паразитов. Орбитальный корабль-накопитель в целом представлял собой шишковатый цилиндр, утыканный приземистыми конусами с ветвистыми мачтами из белого металла, разбросанными на пять-шесть метров один от другого. Этцвейн не преминул отметить, что накопитель, в отличие от красновато-бронзовых дисковых звездолетов, поблескивал гладким, будто полированным угольно-серым покрытием, отливавшим маслянистыми алыми, темно-синими и зелеными разводами.
Этцвейн вернулся в рубку, чтобы изучить приборы управления. Несомненно, они должны были выполнять те же основные функции, что и земное оборудование. Этцвейн подозревал, что Ифнесс, если бы у него была такая возможность, смог бы разобраться в значении странных маленьких жгутиков, выростов и канавок, емкостей с серым студнем... Снизу, из коридора, появился Каразан. Клаустрофобия вызывала в нем тревогу и раздражительность. Только под прозрачным куполом, окруженный безграничным космосом, гетман становился спокойнее: «Не могу пробить стену! Ножи и палицы бесполезны, а инструменты насекомых я не понимаю».
«Не вижу, чем асутры могли бы нам угрожать, — размышлял вслух Этцвейн, — если все их проходы замурованы. Отчаявшись, они могли бы, наверное, прожечь перегородки и обстрелять нас из лучевого оружия... С другой стороны, если бы они согласились спуститься на Дердейн, то потом могли бы улететь подобру-поздорову. Конечно, в таком случае Ифнессу не удастся заполучить их корабль, но он может и подождать до следующего раза».
«Согласен целиком и полностью! — заявил Каразан. — Не выношу висеть в пустоте, как птица в клетке. Если бы мы сумели как-то объясниться с захребетниками, то, наверное, смогли бы и сторговаться. Может быть, жабы их понимают? Попробуем растолковать им, что нам нужно — все равно больше нечего делать».
Они спустились в трюм для рабов, где в безразличной неподвижности сидели служители-амфибии. Этцвейн провел одно бородавчатое существо в рубку и жестами, указывая на пульт управления и на планету, стал объяснять жабе, что та должна опустить корабль на поверхность. Ничто не помогало. Серая тварь стояла, уставившись пятью глазами во все стороны. Складки кожи у боковых отверстий низколобой головы учащенно вздымались и опадали, свидетельствуя о неких неизвестных эмоциях.
Раздосадованный Этцвейн даже подтолкнул амфибию к пульту управления, но существо сжалось, напряглось и выделило вонючую слизь из желез по обеим сторонам спинного хребта. Этцвейн прекратил дальнейшие попытки.
Поразмышляв полчаса, он подошел к заблокированному лазу под скамьей — тому, куда сбежала асутра — и осторожно отодвинул мешки с сухими зерновыми лепешками, загораживавшие вход. Этцвейн шипел и свистел самым успокоительным и ободряющим, с его точки зрения, образом, после чего прислушивался. Ответом было гробовое молчание. Он еще раз посвистел, подождал — снова безрезультатно. Раздраженный и разочарованный, Этцвейн завалил проход мешками. Не могла же асутра, умственными способностями не уступавшая человеку, не понимать, что ей предлагают перемирие!
Почти прижавшись лицом к прозрачному куполу, Этцвейн смотрел на Дердейн, уже ярко освещенный солнцами. Вихрь перистых облаков заслонял озеро Ниор. Прямо внизу Миркильская долина тоже скрылась под облаками... Отказ асутры начать переговоры означал, по-видимому, неспособность к компромиссу или сотрудничеству. Судя по всему, паразиты не ожидали никаких уступок и сами уступать не собирались. Этцвейн вспомнил рогушкоев, сеявших смерть, ужас и разорение среди народов Шанта. Согласно первоначальному допущению, рогушкои были экспериментальным биологическим оружием, разработанным с целью опустошения и порабощения земных миров. Теперь, однако, возникало впечатление, что асутры опробовали на Дердейне медных бесов, рассчитывая использовать их в борьбе с хозяевами черных шаровидных звездолетов...
Мрачно нахмурившись, Этцвейн разглядывал Дердейн. Ситуация становилась все более загадочной и противоречивой. Этцвейн перебирал в уме вопросы, время от времени вызывавшие у него замешательство. Зачем асутрам понадобились рабы с Дердейна, если в их распоряжении уже были кха — столь же понятливые, сильные и расторопные? Почему кха с такой страстью растоптал асутру? Как асутры могли надеяться, что рогушкои устоят против технологически развитой расы? И еще: когда кха оказался замурован в отсеке расстрелянного корабля-диска, почему управлявшая им асутра не выбралась наружу сама? Размеры позволяли ей это сделать. В высшей степени любопытно! Возможно, когда-нибудь какие-нибудь обстоятельства прольют свет на эти тайны.
Время тянулось медленно. Алулы подкрепились принесенным с собой вяленым мясом и осторожно попробовали сухие зерновые лепешки из корабельных запасов. Скорее бы прибыл Ифнесс на спасательном корабле! В том, что Ифнесс вернется, Этцвейн не сомневался. Ифнесс никогда ни в чем не терпел поражения, Ифнесс был слишком горд, чтобы допустить провал... Этцвейн спустился в трюм и взглянул на длинные ряды бледных спящих лиц. Он нашел Руну Ивовую Прядь и провел несколько минут, рассматривая ее правильные черты. Прикоснувшись к ее шее, он попытался уловить пульс, но ему мешало биение его собственного сердца. Приятно было бы странствовать по степям Караза, подальше от любопытных глаз, в обществе Руны... Этцвейн медленно, неохотно отвернулся. Он побродил по кораблю, удивляясь эффективности его проектирования и точности отделки деталей. Поистине чудо техники: звездный корабль, способный переносить мыслящих существ на немыслимые расстояния!
Этцвейн вернулся в рубку управления и сел на скамью перед пультом, беспомощно разглядывая хитроумные приборы. Солнца заходили, мир под кораблем погружался в ночь.
Ночь прошла, наступил день. Хозман Хриплый лежал, раскинув руки, лицом вниз, за нарами в трюме. Веревочная петля плотно вдавилась в его шею, язык вывалился. Каразан неодобрительно поворчал, но даже не попытался искать убийц — смерть работорговца не казалась ему заслуживающим внимания событием.
Шло время. В корабле установилась атмосфера сомнения и неуверенности. Торжество победы прошло, кочевники предавались унынию... Снова Этцвейн посвистел в проход, ведущий к убежищу асутры — безуспешно. Теперь он подозревал, что все асутры сдохли. Он видел, как асутра юркнула в лаз под скамьей. Впоследствии алулы прикончили асутру, устроившуюся на шее бесхвостой амфибии. Это могло быть одно и то же насекомое.
Прошел второй день, за ним третий, четвертый. Каждое утро Дердейн украшался новым узором облаков, других изменений не было. Этцвейн уверял алулов в том, что отсутствие каких-либо событий — хороший признак, но Каразан возразил: «Не могу согласиться с твоими доводами. Что, если Ифнесса зарезали по пути в Шиллинск? Что, если он не смог связаться с соплеменниками? Или, например, ему могли отказать в помощи. Что тогда? Мы сидели бы тут и ждали — так же, как ждем сейчас. Отсутствие перемен ни о чем не говорит».
Этцвейн попытался рассказать об особенностях необычного, извращенного характера землянина, но Каразан нетерпеливо отмахнулся: «Он человек. Значит, ни в чем нельзя быть уверенным».
В ту же секунду один из часовых, день и ночь стоявших у прозрачного купола, закричал: «Корабль! Вот он летит!»
Этцвейн вскочил, задыхаясь от волнения. «Слишком рано! — думал он. — Ифнесс не мог вернуться так скоро!» Прищурившись, Этцвейн смотрел туда, куда указывала рука часового... Далеко по звездному небу, поблескивая в лучах солнц, лениво скользил бронзовый диск.
«Звездолет насекомых», — сказал Этцвейн.
Каразан мрачновато отозвался: «У нас один выход — драться. Они ожидают, что их тюрьма у нас в руках».
Этцвейн взглянул на пульт управления, оживший мерцающими, бегущими нитями огоньков. Что означала эта иллюминация? Спросить было не у кого. Если экипаж звездолета-диска пытался связаться с орбитальным кораблем и не получил ответа, асутры уже были настороже. Надежды Каразана на неожиданность обороны могли не оправдаться.
Бронзовый диск полого спускался с северной стороны, замедлился и неподвижно завис в полутора километрах от накопителя. Повисев некоторое время, он внезапно озарился зеленой вспышкой и исчез. В небе стало пусто.
Из дюжины глоток послышался одновременный резкий выдох изумления. «Это еще что? — возмутился Каразан, не обращаясь ни к кому в частности. — Со мной эти фокусы не пройдут! Со мной шутки плохи!»
Этцвейн покачал головой: «Не могу сказать, в чем дело, но предпочитаю отсутствие этого корабля его присутствию».
«Они догадались, что мы здесь, и хотят застать нас врасплох, — ворчал гетман. — Мы будем готовы!»
До позднего вечера все алулы, не занятые патрулированием коридоров, толпились в рубке управления. Но бронзовый диск не появился вновь — все понемногу успокоились и вернулись к прежнему времяпровождению.
Миновали еще четыре утомительно скучных дня. Алулы впали в неразговорчивое уныние, стали пренебрегать патрульными обязанностями. Этцвейн пожаловался гетману, но Каразан отозвался неразборчивым бормотанием.
«Распускать людей опасно! — настаивал Этцвейн. — Необходимо поддерживать дисциплину. В конце концов, поднимаясь на борт челнока, каждый понимал, на что идет».
Каразан не ответил, но через несколько минут собрал кочевников вокруг себя. «Мы — алулы! — провозгласил он. — Мы знамениты стойкостью. Настало время показать, на что мы способны. Скука и теснота — не самые трудные испытания. Все могло быть гораздо хуже».
Хмурые бойцы выслушали его без возражений и впредь стали бдительнее нести вахту.
Поздно вечером произошли события, резко изменившие положение вещей. Глядя на восток, Этцвейн заметил над багрово-серыми просторами планеты неподвижно висевший в пространстве черный шар. Не представляя себе размеров сферы, расстояние трудно было оценить. Этцвейн наблюдал за шаром минут десять, но не заметил никаких признаков перемещения. Пораженный внезапной догадкой, он обернулся к пульту управления: по нему бегали разноцветные огоньки. В рубке появился Каразан. Этцвейн указал пальцем на черный шар. Тоскливо, с надеждой, Каразан спросил: «Корабль с Земли? Мы вернемся на Дердейн?»
«Не думаю. Ифнесс обещал вернуться не раньше, чем через две недели. Слишком рано».
«Тогда чей это корабль? Опять асутры?»
«Я рассказывал о битве под Три-Оргаем, — напомнил Этцвейн. — Скорее всего, это звездолет врагов асутр. Кто они, неизвестно».
«Шар приближается, — заметил Каразан. — Скоро тайное станет явным».
Двигаясь по пологой дуге, черный сферический корабль обогнул орбитальную тюрьму, замедлился и повис в полутора километрах к югу. Точно там же, где он исчез четыре дня тому назад, с коварством ядовитого насекомого возник бронзовый диск. После мимолетной напряженной задержки диск выпустил два снаряда. Черный шар рефлексивно отреагировал противоракетами. На полпути между звездолетами вспыхнуло беззвучное сияние, затмившее солнца. Если бы не материал прозрачного купола, на долю секунды потемневший в момент вспышки, Этцвейн и Каразан могли ослепнуть.
Бронзовый диск сосредоточил на черном шаре четыре луча, вьющихся, как огненные струи. Поверхность шара раскалилась докрасна и вскрылась — видимо, система защиты отказала. В отместку черный шар испустил поток лилового пламени — дисковидный звездолет на мгновение полыхнул, как факел. Диск выпустил еще один снаряд, угодивший точно в отверстие, прожженное сфокусированными лучами. Шар взорвался. На фоне облака сверкающих брызг мелькнули черные искры летящих обломков — и среди них, как показалось Этцвейну, силуэты беспомощно кувыркающихся тел. Обломки с глухим звоном посыпались на корпус корабля-накопителя. Тяжелые удары кусков покрупнее заставляли корпус отзываться мелкой дрожью.
Черное звездное небо очистилось. От сферического корабля ничего не осталось, а бронзовый диск снова исчез.
Этцвейн глухо произнес: «Диск прячется в засаде. Мы — приманка. Асутры знают, что мы здесь. Думают, что накопитель захвачен врагами, и ждут прибытия наших кораблей».
Этцвейн и Каразан беспокойно озирались под неожиданно угрожающим звездным небом. Нехитрая затея освобождения четырех девушек, украденных Хозманом Хриплым, привела к ситуации, далеко выходившей за рамки их представлений. Этцвейн не рассчитывал участвовать в космической войне. Гетман алулов и его люди даже не сознавали безнадежности положения.
На орбите ничего не происходило. Солнца заходили, озаряя темно-малиновым пламенем бесчисленные перья облаков. В космосе ночь наступала сразу, хотя на поверхности Дердейна все еще брезжило прощальное сумеречное сияние.
Ночью Этцвейн к своему негодованию обнаружил, что патрульные спят. Он снова пожаловался Каразану, приводя прежние доводы и указывая на то, что условия не изменились. Каразан, однако, отмахнулся раздраженным жестом огромной руки от Этцвейна и его назойливых, потерявших всякий смысл опасений. «Гетман и его соплеменники деморализованы, — возмущенно думал Этцвейн. — В такой степени, что приветствовали бы нападение врагов, пленение, рабство — все, что угодно, лишь бы оказаться лицом к лицу с понятным, ощутимым противником». Мрачно насупившись, Этцвейн решил, что пытаться переубедить кочевников было бессмысленно — они больше не внимали голосу разума.
Ночь прошла, а за ней еще несколько дней и ночей. Алулы сидели под прозрачным куполом, обхватив колени руками и глядя в небо невидящими глазами. Настало время обещанного возвращения Ифнесса, но никто больше не верил ни в землянина, ни в его спасательный корабль. Единственной реальностью были космическая клетка и безжизненное звездное небо.
Этцвейн придумывал десятки способов предупредить Ифнесса, если тот все-таки появится, но отказался от всех — точнее говоря, ни один из его планов не был практически осуществим. Скоро и Этцвейн потерял счет бесконечным дням. Невозможность уединиться давно стала почти невыносимой, но апатия была сильнее враждебности. Несмотря на взаимное отвращение, Этцвейн и кочевники молчаливо терпели друг друга.
Потом атмосфера ожидания изменилась — нарастало ощущение неизбежности. Кочевники тревожно бормотали, напряженно вглядываясь в космическую пустоту широко открытыми глазами. Каждый знал: что-то должно было случиться, и очень скоро. Так и произошло. Снова появился бронзовый диск-звездолет.
Люди в рубке управления тяжело застонали от отчаяния. Этцвейн в последний раз лихорадочно обыскал глазами небо, внутренне призывая земные корабли появиться: куда запропастился Ифнесс?
Кроме бронзового диска и накопителя, над Дердейном не было никаких кораблей. Диск описал дугу вокруг орбитальной тюрьмы, остановился и приблизился вплотную — угрожающе огромный силуэт заслонил звезды. Корпуса соприкоснулись, корабль-накопитель вздрогнул. Со стороны входного люка послышался низкий пульсирующий звук. Каразан взглянул на Этцвейна: «Они здесь. У тебя есть лучевое оружие. Ты будешь драться?»
Этцвейн понуро покачал головой: «Мертвые, мы не принесем пользы ни себе, ни другим».
Каразан презрительно усмехнулся: «Значит, будем сдаваться? Нас увезут, сделают рабами».
«Это неизбежно. Рабство лучше смерти. Надеюсь, жители земных миров поймут, наконец, что медлить больше нельзя, и вмешаются. Нас могут освободить».
Каразан горько рассмеялся, сжимая и разжимая огромные кулаки, но все еще не мог принять решение. Снизу, из коридора, послышались торопливые шаги. Гетман обратился к бойцам: «Не сопротивляйтесь! Нас слишком мало. Мы вынуждены подчиниться — такова участь слабых».
В рубку управления вбежали два черных циклопа, каждый с асутрой под затылком. Расталкивая людей плечами и не обращая на них никакого внимания, они направились прямо к пульту управления. Один легко и уверенно пробежался пальцами по странным маленьким жгутикам. Глубоко внутри корабля взвыли двигатели. Прозрачный купол помутнел, почернел — через него уже ничего нельзя было разглядеть. Из коридора в рубку забежал еще один кха. Жестами он показал, что алулы и Этцвейн должны удалиться. Каразан угрюмо двинулся к выходу и, пригнувшись, стал спускаться к трюму. За ним цепочкой потянулись Этцвейн и кочевники.
Глава 8
Алулы сидели на корточках между рядами многоэтажных нар со спящими рабами. Кха, занимавшиеся своей работой, игнорировали людей. На шее каждого одноглазого существа, как непомерно надувшийся клещ, сидела асутра.
Корабль-накопитель двигался. Люди не чувствовали ни вибрации, ни толчков, ни ускорения, но сомневаться было невозможно — вероятно, человеческий мозг каким-то образом чувствовал перемещение в подпространстве. Кочевники молчали, каждый погрузился в свои невеселые думы. Кха шагали мимо — так, будто пленники не существовали.
Шло время — сколько времени? Никто не пытался узнать. Раньше часы растягивались неопределенностью и напряжением ожидания. Теперь уныние и подавленность приводили к тому же результату.
Этцвейн надеялся только на то, что Ифнесса не убили на равнине Лазурных Цветов, что тщеславие заставит его выполнить обещание и прислать помощь с Земли. У кочевников не осталось никакой надежды. Их охватила вялость отчаяния. Поодаль, напротив Этцвейна, в узком промежутке между нарами лежала Руна Ивовая Прядь. Заметив ее профиль, Этцвейн почувствовал внезапный прилив теплоты. Он рискнул своей свободой и потерял ее, чтобы выглядеть в ее глазах отважным рыцарем. Таково было бы оскорбительное суждение землянина Ифнесса. Насколько оно справедливо? Этцвейн печально вздохнул: его побуждения были сложны, он сам не умел в них разобраться.
Каразан тяжело поднялся на ноги. Постояв неподвижно секунд десять, он потянулся, выворачивая огромные руки то в одну, то в другую сторону, поигрывая мышцами. Этцвейн встревожился — на лице гетмана появилось необычно спокойное и в то же время решительное выражение. Алулы наблюдали с безразличным любопытством. Этцвейн вскочил и громко позвал Каразана. Тот, казалось, не слышал. Этцвейн потряс гетмана за плечо — Каразан медленно обернулся. Широко открытые серые глаза ничего не выражали.
Другой кочевник встал и пробормотал Этцвейну на ухо: «Отойди. Он слышит зов смерти».
Еще один из алулов посоветовал: «К нему приставать опасно — он попрощался с жизнью. В конце концов, так лучше всего и для него, и для всех нас».
«Неправда! — закричал Этцвейн. — От мертвых никому нет никакой пользы. Каразан!» Он тряс гетмана за богатырские плечи: «Слушай! Ты меня слышишь? Если хочешь когда-нибудь еще раз увидеть озеро Ниор, слушай меня!» Ему показалось, что в глазах Каразана мелькнула искра понимания: «У нас есть надежда! Ифнесс жив — он найдет нас!»
Стоявший рядом кочевник с волнением спросил: «Ты на самом деле в это веришь?»
«Если бы вы знали Ифнесса, то не сомневались бы! Землянин неспособен признать поражение».
«Может быть, — отозвался кочевник. — Но как он нам поможет, если мы затеряемся на неизвестной планете далекой звезды?»
Из груди Каразана вырвался хриплый нечленораздельный звук. С трудом подбирая слова, гетман выдавил: «Как... как он нас найдет?»
«Не знаю, — признался Этцвейн. — Но я никогда не потеряю надежду!»
Каразан сказал с укоризной, срывающимся голосом: «Глупо говорить о надежде! Напрасно ты меня будил — я слышал боевой клич смерти».
«Ты не трус, ты обязан надеяться! — настаивал Этцвейн. — Умирать легко, жить трудно».
Каразан не ответил. Он снова уселся на пол, потом растянулся во весь рост и заснул. Другие алулы переговаривались вполголоса, недружелюбно поглядывая на Этцвейна. То, что он прервал исступление «слышащего зов смерти», явно пришлось им не по душе... Этцвейн вернулся на прежнее место и скоро уснул.
Алулы вели себя враждебно. Кочевники демонстративно игнорировали Этцвейна и говорили друг с другом так, чтобы он не мог расслышать. Каразан, видимо, не разделял чувства бойцов. Он сидел поодаль от всех, то наматывая на пальцы, то разматывая плеть-нагайку со свинцовым грузилом на конце.
Примерно через сутки Этцвейн, дремавший на полу, внезапно проснулся. Вокруг него стояли три кочевника — Чернявый Хуланик, Красавчик Файро и Ганим Шиповатый Сук. В руках Ганима была веревка. Этцвейн приподнялся и сел с лучевым пистолетом наготове. Он вспомнил Хозмана Хриплого и его вывалившийся язык. Алулы молча сделали вид, что идут по своим делам.
Этцвейн поразмышлял несколько секунд и подсел к Каразану: «Твои люди хотели удавить меня во сне».
Каразан многозначительно кивнул, продолжая вертеть плеткой.
«Почему?»
Сначала казалось, что гетман не ответит. Помолчав, он произнес с некоторым усилием: «Без причины. Просто они не прочь кого-нибудь убить и выбрали тебя. Своего рода игра».
«Я в эти игры не играю! — резко и холодно заявил Этцвейн. — Пусть забавляются в своей теплой компании. Прикажи им оставить меня в покое».
Каразан вяло пожал плечами: «Какая разница?»
«Тебе все равно, разумеется. Для меня, однако, это имеет большое значение».
Каразан снова пожал плечами, наматывая и разматывая плеть.
Ситуация заставляла задуматься. У Этцвейна было лучевое оружие. Его могли убить только во сне — вероятно, не с первой попытки, может быть, даже не со второй. Алулы играют с ним, стараются довести до нервного срыва. Зачем? От скуки. Подлое развлечение, спорт варваров. Можно ли назвать такую забаву жестокой? С точки зрения кочевников жизнь чужака Этцвейна стоила не больше жизни чумпы, пойманной на потеху племени.
Напрашивались несколько вариантов. Он мог перестрелять своих мучителей, раз и навсегда положив конец всей истории. Такое решение не вполне удовлетворяло Этцвейна. Даже если асутры не конфискуют лучевой пистолет, игра будет продолжаться с пущим ожесточением — каждый из алулов будет ждать первой возможности подкрасться к нему, пока он спит.
Этцвейн встал и неторопливо пошел к выходу из трюма, притворяясь, что направляется к отхожему месту. По пути он невольно остановил взгляд на неподвижно спящей Руне Ивовой Пряди — теперь она казалась не столь привлекательной, как раньше. В конце концов дочь варваров-кочевников была ничем не лучше своих соплеменников... Не доходя до выхода, Этцвейн повернул к подсобному помещению, где хранились мешки с зерновыми лепешками и баки с водой. Остановившись в проходе, он обернулся. Кочевники вызывающе смотрели ему вслед. Мрачно улыбаясь, Этцвейн подтащил ко входу в помещение большой мешок с мукой и уселся на него. Алулы внимательно наблюдали, не выражая никаких чувств. Этцвейн встал, взял сухую зерновую лепешку, налил себе кружку воды. Снова усевшись на ящик, он стал жевать лепешку, запивая водой — и заметил, что несколько кочевников инстинктивно облизали губы. Как по команде, все они отвернулись и нарочито притворились, что засыпают.
Каразан спокойно смотрел на Этцвейна, хотя его благородный высокий лоб неодобрительно наморщился. Этцвейн игнорировал гетмана. Что, если Каразану захочется есть и пить? На этот счет Этцвейн не принял окончательного решения — скорее всего, он не отказался бы выдать гетману лепешку-другую.
После некоторого размышления Этцвейн передвинул импровизированное сиденье поглубже в полутемную кладовую — туда, где в него труднее было бы попасть брошенным ножом. Таким образом предотвращалась самая очевидная опасность. Вскоре, однако, не удовлетворившись организацией обороны, Этцвейн сложил из мешков целую баррикаду — за ней он мог прятаться от посторонних глаз, продолжая наблюдение.
Не выспавшийся Этцвейн сидел и ждал. Глаза его слипались, голова опускалась на грудь... Вскинув голову, чтобы проснуться, он заметил тихо кравшегося к кладовой кочевника.
«Еще два шага, и ты умрешь!» — предупредил его Этцвейн.
Лазутчик сразу остановился, выпрямился: «Почему я не могу налить себе воды? Я не участвую в травле».
«Ты ничего не сделал для того, чтобы остановить троих, собиравшихся меня задушить. Голодай, умирай от жажды в их компании — пока они не умрут».
«Это несправедливо! Ты нарушаешь наши обычаи!»
«Вполне справедливо. Охота есть охота, только теперь охотник — я. Ты напьешься только тогда, когда умрут Красавчик Файро, Ганим Шиповатый Сук и Чернявый Хуланик».
Изнывающий от жажды кочевник отвернулся и медленно отошел. Каразан громко произнес: «Стыдно не дать человеку напиться!»
«Стыдно должно быть тебе! — отозвался Этцвейн. — Если бы ты вмешался вовремя, все могли бы есть и пить вдоволь».
Поднявшись на ноги, гетман прищурился, глядя на вход в кладовую. На мгновение он стал напоминать прежнего Каразана, но тут же опустил плечи и поник: «Верно. Я не распорядился. Какой смысл заботиться об одной жизни, когда мы все обречены?»
«Можешь не беспокоиться, теперь я сам о себе позабочусь, — ответил Этцвейн. — Начинается новая травля. Добыча — Файро, Ганим, Хуланик».
Каразан, а за ним и остальные алулы, взглянули на трех поименованных душителей. Те вызывающе озирались, встречая всеобщее внимание надменными ухмылками.
Каразан примирительно обратился к Этцвейну: «Что было, то прошло. Все это вздор, лишняя канитель».
«Почему ты не сказал этого раньше, когда меня травили? — Этцвейн был в ярости. — Никто не получит ни еды, ни питья, пока живы трое душителей!»
Каразан сел на прежнее место. Шло время. Сначала алулы упрямо демонстрировали солидарность с тремя «охотниками», потом начали образовываться другие группы, шептавшиеся в сторонке. Хуланик, Файро и Ганим постепенно остались одни в проходе между нарами. Они сидели сгорбившись, поблескивая в тенях стеклянными ножами.
Этцвейн снова задремал — и встрепенулся, остро ощущая приближение опасности. В трюме было тихо. Этцвейн приподнялся, попятился дальше в тень кладовой. Снаружи, в трюме, алулы за кем-то пристально следили. Кто-то прижался к стене и теперь, невидимый для Этцвейна, бочком, потихоньку подкрадывался ко входу в кладовую. Кто?
Среди алулов не было Каразана.
С оглушительным, парализующим ревом вход заслонила гигантская тень. Этцвейн нажал на курок больше от неожиданности, нежели намеренно. Огненный луч звездообразной вспышкой ударил нападавшему в лицо. Приготовившийся к прыжку гетман умер мгновенно. Ударившись плечом об косяк, тело с обугленной головой опрокинулось навзничь.
Этцвейн медленно вышел из кладовой. Алулы замерли в ужасе. Стоя над трупом Каразана, Этцвейн не понимал: чего тот хотел, на что надеялся? У гетмана не было оружия. Еще недавно богатырь-кочевник был человеком большой души — простым, прямым, великодушным. Он не заслуживал отчаянной смерти в тесном трюме для рабов. Этцвейн перевел взгляд на бледные молчаливые лица алулов: «Вините самих себя! Вы не противились злу — и лишились своего вождя!»
Кочевники едва заметно напряглись, тайком обмениваясь взглядами. Перемена наступила с непостижимой внезапностью — сонные, безразличные, оцепеневшие от скуки бойцы превратились в бешеную толпу кидающихся из стороны в сторону, сцепившихся парами, падающих фигур. Этцвейн прижался спиной к стене. С воплями бросаясь в нападение, алулы совершали прыжки и пируэты, достойные заправских танцоров, резали, кололи, рубили наотмашь. Через несколько секунд все было кончено. На палубе в лужах крови лежали Красавчик Файро, Ганим Шиповатый Сук, Чернявый Хуланик и еще двое.
Этцвейн сказал: «Быстрее, пока не явились асутры! Затащите тела на нары, найдите место!»
Мертвые легли вперемешку с живыми. Этцвейн вскрыл большой мешок муки, рассыпал муку по палубе и собрал мешком впитавшуюся кровь. Через пять минут в трюме было чисто и спокойно — только немного просторнее, чем раньше. Еще через несколько минут мимо по коридору прошли, не задерживаясь, трое кха с поглядывающими по сторонам асутрами на шеях.
Утолив голод и жажду, разрядившие эмоциональное напряжение алулы снова впали в оцепенение, напоминавшее сон наяву. Этцвейн, не доверявший непредсказуемому темпераменту кочевников, решил, однако, что чрезмерная подозрительность вызовет дополнительную враждебность, и крепко заснул, предварительно привязав лучевой пистолет к ремню поясной сумки.
Он долго спал. Никто не нарушил его покой. Наконец, проснувшись, он почувствовал, что корабль больше не движется.
Глава 9
Воздух в трюме казался спертым, голубое освещение померкло. Гнетущая скука сменилась еще более гнетущим ожиданием. Откуда-то сверху слышались торопливые тяжелые шаги и обрывки гнусаво-щебечущих трелей — так переговаривались кха. Этцвейн поднялся на ноги, прошел к погрузочной рампе — туда, где часть палубы трюма наклонно спускалась к стене — и прислушался. Алулы тоже встали и боязливо поглядывали в сторону рампы. Они уже нисколько не походили на гордых воинов, когда-то, в другой жизни, встреченных Этцвейном у излучины реки Вуруш.
Свист, скрежет, дробный лязг храповиков — часть стены отделилась и опустилась, становясь продолжением рампы. В голубоватый полумрак трюма вместе с сырым воздухом ворвался пасмурный дневной свет.
Расталкивая сгрудившихся у рампы кочевников, Этцвейн выглянул наружу — и отшатнулся, пораженный, испуганный, неспособный разобраться в столпотворении форм и цветов. Прищурившись, он осмотрелся снова, пытаясь найти закономерности в неожиданных, чуждых очертаниях. Через несколько секунд Этцвейн уже осознавал перспективу открывшегося ландшафта.
Он видел крутые остроконечные холмы со склонами, поросшими глянцево-черной, темно-зеленой и бурой растительностью, напоминавшей плотную курчавую шерсть. За холмами и над ними распростерлось затянутое тяжелыми низкими тучами серое небо. Чуть ниже туч неподвижно висели рваные черные облака, местами ронявшие завесы дождя. По подножиям холмов прерывистыми ступенчатыми зигзагами поднимались ряды строений, сложенных из ноздреватых глыб светлого желтовато-серого материала. Ниже, на уровне равнины, цепочки строений сливались, образуя более плотный комплекс, тоже из грязно-белых глыб, но с отдельными, казавшимися монолитами буграми черного вулканического шлака. Проходы между строениями и вокруг них, извилистые и часто наклонные, сплетались уродливо-зыбкими кружевами. Кое-где змеились гладкие ленты пошире, служившие транспортными артериями — по ним двигались самоходные клети, грузовые экипажи, напоминавшие гигантских жуков с приподнятыми надкрыльями, и небольшие, похожие на саламандр машины, сновавшие над самой поверхностью, не прикасаясь к дорожному полотну.
Вдоль дорог торчали разделенные неравными промежутками столбы с огромными черными прямоугольными щитами без каких-либо надписей или символов. Тем не менее, возникало впечатление, что эти столбы служили указателями или дорожными знаками. По-видимому, кха или асутры могли распознавать цвета, неразличимые человеческим глазом.
Рампа спускалась на ровную мощеную площадку, окруженную бронзовым плетнем. Будучи уроженцем Шанта, Этцвейн инстинктивно, автоматически пытался обнаружить и истолковать цветовую символику, но не мог проследить никакой логики. Где-то, однако, в сумятице размеров, форм и пропорций такая логика должна была существовать — технологическая цивилизация невозможна без абстрактной символики.
Местными обитателями были кха. У каждого второго на шее висела асутра. Этцвейн не замечал ни серых пятиглазых амфибий, ни человеческих существ — кроме одного. В трюм для рабов по рампе поднималась высокая худощавая фигура в бесформенном плаще из грубого волокна. Жесткие седые волосы взъерошились над морщинистым серым лицом, как копна сена, на длинном костлявом подбородке не было признаков бороды. Этцвейн понял, что перед ним женщина — хотя ни формы ее тела, ни походка, ни жесты не позволяли определить пол. Старуха закричала гулким, привычно-сварливым голосом: «Все, кто не спит — за мной, выходите! Живо, по порядку, без толкотни! Первое правило: никогда не ждите повторения приказа!» Она кричала на почти непонятном диалекте и казалась суровой, дикой и бесчеловечной, как метель в морозной снежной пустыне. Старуха спустилась по рампе. Этцвейн осторожно последовал за ней, нисколько не сожалея об отвратительном трюме и связанных с ним кошмарных воспоминаниях.
Кочевники и Этцвейн сгрудились на мощеной площадке под огромным черным цилиндром корабля-накопителя. Над ними на узком наружном балконе с перилами стояли, как четыре черных статуи, одноглазые кха с асутрами под затылками. Старуха провела пленных к закрытому выходу огороженного бронзовым плетнем загона: «Ждите здесь! Я пошла будить спящих».
Прошел час. Пленные стояли, прислонившись к ограде, молчаливые, мрачные. Как утопающий, хватающийся за соломинку, Этцвейн заставлял себя помнить об обещании Ифнесса. Надежда позволяла с меланхолическим любопытством наблюдать за происходящим. Ощущение неприязненной чуждости незнакомого мира не проходило. Отовсюду доносились приглушенные, как пассажи флейты за стеной, окрики кха, терявшиеся на фоне шипения и свиста экипажей, быстро проносившихся по мокрой дороге прямо за оградой. Этцвейн провожал глазами восьмиколесные, подвижно сочлененные платформы. Кто ими управлял? Он не замечал в передней части машин ни кабины, ни лобового стекла — только сверху выступал небольшой полусферический прозрачный купол-пузырь, и в нем маленькая темная масса... Асутра!
Из корабля-накопителя промаршировала старуха, за ней — толпа оторопевших рабов, проспавших всю дорогу на нарах. Спотыкаясь и прихрамывая на затекших ногах, пленные озирались в унылом изумлении. Этцвейн узнал среди них Шренке, а потом и Гульше. Как все остальные, бывшие бравые разбойники-сорухи волочили ноги, опустив плечи и боязливо оглядываясь. Гульше скользнул взглядом по лицу Этцвейна, но, по-видимому, не вспомнил его. В хвосте угрюмой колонны брела Руна Ивовая Прядь — она тоже безразлично прошла мимо.
«Стой! — пронзительно заорала надзирательница. — Здесь ждем автобуса. Теперь слушайте! Забудьте прежнюю жизнь — возвращения нет. Вы на планете Кхахеи, вы родились заново, у вас впереди новая жизнь. Здесь не так уж плохо — тем, кого не забирают в лаборатории. Из лабораторий еще никто не вернулся. В любом случае, никто не живет вечно.
Тем временем вам не грозят ни голод, ни жажда, ни холод, здесь можно жить! Мужчин и здоровых, сильных женщин учат воевать. Заявлять, что вы не желаете участвовать в чужой войне или отказываетесь убивать себе подобных, бессмысленно! Война — действительность, неизбежная и окончательная. Вы должны делать все, что от вас требуется.
Не поддавайтесь унынию и скорби — это легко, но тщетно! Если пожелаете размножаться, подайте прошение одному из заступников, вам назначат подходящего партнера.
Неподчинение, халтура, своевольные отлучки, потасовки и шутовские проказы строго запрещены! За все провинности одно наказание для всех — смерть! Автобус подъезжает. Поднимайтесь по трапу и сразу проходите вперед».
Рабы набились в автобус плотной толпой. Сжатый телами со всех сторон, Этцвейн плохо ориентировался — он видел только часть узкой вентиляционной прорези. Сначала они ехали по дороге, параллельной подножию гряды холмов, потом повернули на равнину. Время от времени на фоне неба возвышались бугорчатые серые башни. Землю покрывала влажно-бархатная поросль мха — темно красного, темно-зеленого, фиолетово-черного.
Автобус остановился. Рабы вышли на обширный бетонный двор, окруженный с трех сторон строениями из ноздреватых светлых глыб грязно-желтоватого оттенка. С севера тянулась волнистая вереница пологих холмов с одним причудливо заостренным утесом осыпающегося базальта. К востоку простиралась безграничная черная топь, сливавшаяся с пасмурным горизонтом. Рядом, у самой обочины двора, покоился ржаво-бронзовый дисковидный звездолет. Все его люки были открыты, трапы опустились на бетон. Этцвейну показалось, что он узнал корабль, эвакуировавший атаманов-рогушкоев из котловины Энгх в Паласедре.
Рабов погнали в бараки. Они шли мимо нескольких длинных узких загонов, распространявших тошнотворную вонь. Одни пустовали, в других сидели и бродили человекообразные существа нескольких уродливых разновидностей. Этцвейн заметил дюжину рогушкоев. Другая группа больше напоминала кха. В третьем загоне сгорбились, обхватив руками колени, десять или двенадцать тщедушных уродов с торсами кха и нелепыми огромными головами, пародировавшими человеческие. За загонами находилось приземистое длинное строение без окон — по всей видимости биолаборатория, где проектировались экспериментальные гибриды. Так Этцвейн, многие годы размышлявший о происхождении рогушкоев, узнал наконец правду.
Пленных мужчин отделили от женщин и развели по бригадам. Каждой бригадой из восьми человек руководил один из рабов, прибывших на планету гораздо раньше. Бригадиром Этцвейна оказался тощий жилистый старик с кожей, напоминавшей кору засохшего дерева — но выносливый, непоседливый, с острыми локтями и коленями.
«Меня зовут Половиц! — заявил старик. — Первое, чему вы должны научиться — беспрекословное и немедленное повиновение. Не ждите прощения — каждый проступок карается беспощадно. Хозяева никому ни в чем не потакают. Они не наказывают, они уничтожают. Идет война. Хозяева имеют дело с сильным, опасным врагом и не расположены к милосердию. Напоминаю еще раз: каждый приказ следует выполнять точно и расторопно. Тот, кто этого не понимает, до второго приказа не доживет. Через день-другой вы сможете убедиться в справедливости моего предупреждения. Как правило, за первый месяц потери в партии новоприбывших составляют не меньше трети. Если вы цените свою жизнь, подчиняйтесь приказам без размышления.
Лагерные правила просты. Драться не разрешается. Я выношу решение по поводу любого спора, и мой приговор обсуждению не подлежит. Кроме того, нельзя петь, кричать и свистеть. Совокупляться без предварительного разрешения запрещено. Беспорядок не допускается, вы обязаны поддерживать чистоту. Улучшить свое положение вы можете только двумя способами. Во-первых, демонстрируя постоянное прилежание. Послушный, трудолюбивый работник становится бригадиром. Выдвигается также тот, кто проявляет особый талант к общению с кха. Способным петь Великую Песнь предоставляются ценные льготы. Таких умельцев немного. Каждый, кто пытается выучить язык кха, знает, что даже для приобретения самых основных навыков требуется невероятное долготерпение. Тем не менее, лучше быть переводчиком кха, чем погибнуть в первых рядах на фронте».
Этцвейн сказал: «У меня есть вопрос. С кем мы будем воевать?»
«Не задавай лишних вопросов! — отрезал Половиц. — Бесполезная привычка, признак ненадежности. Посмотри на меня! Я не задавал вопросов и прожил на Кхахеи много лет. Меня поймали ребенком в округе Шозейд еще в годы второй охоты на рабов. При мне проектировали краснокожих бойцов. Трудные были времена! Сколько нас выжило из той волны? Можно пересчитать на пальцах одной руки! Почему мы выжили?» Лицо Половица озарилось мрачным торжеством: «Потому что мы люди! Потому что судьба каждому дарует только одну жизнь, и мы взяли от нее все, что могли! Рекомендую вам то же самое — делайте все, что можете, трудитесь изо всех сил и через силу! Все остальное не учитывается».
«Вы предупредили меня о бесполезности лишних вопросов, — кивнул Этцвейн. — Я хотел бы задать нелишний вопрос. Предлагается ли нам поощрение, способное нас воодушевить? Можем ли мы надеяться снова увидеть Дердейн и стать свободными людьми?»
Хриплый голос Половица стал еще грубее: «Ваше поощрение — возможность дожить до завтрашнего дня! Надеяться? На что? На Дердейне тоже нет надежды. Все умирают там, все умирают здесь. Тебе нужна свобода? Ты свободен! Беги в холмы — тебя никто не держит. Иди, скатертью дорога! Но помни: тебе придется жевать мох и выжимать из мха отравленную дождевую воду. Распухнешь от голода, будешь выть от жажды. Выбирай — свобода или жизнь?»
Этцвейн промолчал. Половиц натянул накидку на худые плечи: «Теперь мы пойдем есть. После этого начнется обучение».
В трапезной бригада выстроилась вдоль желоба кормушки, наполненного еле теплой кашей-размазней, хрустящими холодными стеблями какого-то овоща и таблетками, казавшимися наперченными на вкус. После еды Половиц заставил подчиненных делать гимнастические упражнения и в конце концов привел их к одной из приземистых машин, похожих на гигантских саламандр.
«Нам поручена функция «нападения врасплох». Это штурмовые машины. Они движутся на вибрирующих подушках и могут развивать очень высокую скорость. Каждому члену бригады выделяется личная машина. Он обязан заботиться о ней лучше, чем о самом себе. Штурмовая машина — опасное и дорогое оружие».
«Я хотел бы задать вопрос, — сказал Этцвейн, — но не уверен, покажется ли он вам «лишним». То есть, было бы нежелательно поплатиться жизнью за простое любопытство».
Половиц остановил на нем каменный взгляд: «Любопытство — вредная привычка».
Этцвейн придержал язык. Половиц сухо кивнул и повернулся к машине-саламандре: «Водитель лежит плашмя на животе, вытянув руки вперед. Он смотрит в призму, обеспечивающую достаточный обзор. Руками и ногами он управляет движением машины. Подбородком он нажимает на курки, выпуская торпеды или стреляя огненным резаком».
Половиц показал, как работают приборы управления, после чего привел их на участок, где стояли макеты-тренажеры. Три часа они учились управлять машинами и оружием, лежа в тренажерах. Потом, после короткого перерыва, им два часа демонстрировали методы ухода за машиной, обязательные для каждого.
Небо потемнело. В сумерках моросил дождь. В унылой серой полутьме бригада побрела к баракам. На ужин в кормушку налили пустую сладковатую баланду — пленные зачерпывали ее кружками. Прихлебывая из кружки, Половиц спросил: «Кто из вас желает учить Великую Песнь?»
Этцвейн поинтересовался: «Что для этого нужно делать?»
Половиц решил, что вопрос заслуживал ответа: «Великая Песнь — повествование об истории Кхахеи, запечатленное символическими звуковыми последовательностями. Кха общаются друг с другом, насвистывая лейтмотивы-ссылки из Великой Песни, с вариациями. Переводчик должен уметь делать то же самое с помощью двойной свирели. Это логичный, изменчивый и выразительный язык, но человеку им овладеть очень трудно».
«Я хотел бы выучить Великую Песнь», — вызвался Этцвейн.
Половиц оскалил остатки зубов: «Меня твой выбор почему-то не удивляет». Этцвейн решил, что от бригадира лучше держаться подальше. Для того, чтобы выжить, здесь приходилось постоянно сдерживаться, притворяться, хитрить. Подобострастие, раболепие воспринимались как должное. «Делать нечего, — подумал Этцвейн, — придется изображать усердие».
Половиц, по-видимому, угадал ход мыслей Этцвейна. Уходя, он обронил через плечо загадочную фразу: «В любом случае я своего не упущу».
Некоторое время лагерная жизнь шла своим чередом. Солнце — или солнца — никогда не появлялись. Бесконечное однообразие сырого пасмурного полусвета подавляло внутренние стремления, стирало особенности характеров, внушало уныние и подавленность. Распорядок дня не менялся — заключенные выполняли обязательные гимнастические упражнения, тренировались, лежа в макетах штурмовых машин-саламандр, и отрабатывали норму — готовили пищу, сортировали руду, очищали, пилили и полировали болотное дерево. Постоянное внимание уделялось чистоплотности и аккуратности. Особые патрули проводили регулярные проверки бараков и наблюдали за уборкой и благоустройством лагерной территории. Этцвейн задавал себе вопрос: чья воля, чьи предпочтения отражались распорядком жизни заключенных, кто настаивал на соблюдении чистоты и благоустройстве — асутры или кха? В конце концов он решил, что таково было влияние кха. Вряд ли асутры способны были изменить внутреннюю сущность кха больше, чем это им удалось в случаях Саджарано Сершана, Джурджины, Джерда Финнерака или Хозмана Хриплого. Асутры диктовали общую политику, определяли окончательные цели и контролировали поведение. В остальном, по-видимому, они редко вмешивались в жизнь своих симбионтов.
Асутры встречались повсеместно. Примерно половина кха носила захребетников. Асутры управляли дорожным транспортом и другими машинами. Половиц с благоговением упоминал о летательных аппаратах, пилотируемых насекомыми. Некоторые признаки, однако, указывали на то, что функции водителей и пилотов носили плебейский характер — Этцвейн подозревал, что асутры не в меньшей степени, чем кха, люди, ахульфы или чумпы, подразделялись на категории, касты и уровни влияния.
В конце каждого дня разрешалось уделять один час личной гигиене, предписанным развлечениям и половым сношениям между назначенными партнерами — на полу под навесом между мужскими и женскими бараками. Час отдыха завершался, когда по крышам начинал барабанить дождь, неизменно проливавшийся с наступлением темноты. Рабы расходились по баракам, где они спали в кучах сухого мха. Слова Половица подтвердились: в лагере не было ни охранников, ни ограждения. Ничто не удерживало заключенных от побега в холмы. Этцвейну рассказали о нескольких побегах — изредка заключенные поддавались соблазну и отправлялись «на волю». Иных беглецов больше никогда не видели, другие возвращались в лагерь через три-четыре дня, гонимые голодом и жаждой, и с благодарностью выстаивали очередь к кормушке, подчиняясь общему распорядку. Ходили слухи, что сам Половиц когда-то сбежал в холмы, а по возвращении стал самым усердным рабом в лагере.
Этцвейн видел, как убили двух мужчин. Первый, высокий и тучный, не хотел заниматься гимнастикой и пытался перехитрить бригадира. Вторым оказался Шренке. Сорух с кольцом в носу впал в неистовство и напал на кха. И в первом, и во втором случае кха сжег провинившегося разрядом лучемета.
Любимым занятием Этцвейна стало изучение Великой Песни Кхахеи. Учительницей ему назначили сгорбленную древнюю старуху по имени Кретцель с лицом, изборожденным сотнями складок и морщин. Обладательница невероятной памяти, Кретцель отличалась благодушным характером и охотно развлекала Этцвейна сплетнями и шутками. В качестве учебного пособия она пользовалась механизмом, воспроизводившим хрипы, кряхтения, трели и пересвисты Великой Песни в классическом варианте. Кретцель повторяла последовательности звуков, пользуясь парой двойных свирелей, и разъясняла их значение. Она сразу дала понять, что Песнь лишь случайно напоминала музыку человеческому уху. По существу Великая Песнь представляла собой основной лексикон, сборник смысловых элементов и представлений, использовавшихся кха в процессах мышления и общения.
Великая Песнь состояла из четырнадцати тысяч напевов, а каждый напев содержал от тридцати девяти до сорока семи фраз.
«Тебе предстоит выучить простейший Первый стиль, — говорила Кретцель. — Во Втором стиле используются обертоны, трели и имитационные эхо. В Третьем в целях отрицания или привлечения внимания применяются обращения гармоний и последовательностей звуков во фразах. Четвертый стиль — вариант Второго с дополнениями-наклонениями и смысловыми контрапунктическими вариациями. Пятый позволяет исполнять фразы в различных переносных смыслах — так, чтобы они в той или иной мере напоминали фразы других напевов. Я умею играть только в Первом стиле и даже его понимаю поверхностно. Помимо пяти стилей, Кха пользуются сокращениями, тональностями-спряжениями, гармоническими ссылками и многоголосными сочетаниями двух или трех тем. Их язык устроен складно и хитроумно».
В противоположность бригадиру Половицу, Кретцель не настаивала на строгой дисциплине и рассказывала все, что знала, не умалчивая подробности. В какой степени асутры понимали Великую Песнь и пользовались языком кха? Покачивая трясущейся головой, Кретцель безразлично пожимала плечами: «Зачем это знать? Тебе никогда не придется обращаться к паразитам. Конечно, асутры понимают Песнь. Они все понимают, все на Кхахеи переделали по-своему».
Ободренный словоохотливостью старухи, Этцвейн задавал другие вопросы: «Сколько времени асутры провели на Кхахеи? Откуда они прибыли?»
«Великое горе постигло планету кха — обо всем этом повествуется в последних семистах напевах. Здесь, в Северной Тундре, было много ужасных сражений. Пора работать — или кха решат, что мы отлыниваем».
Этцвейн изготовил себе пару двойных свирелей. Как только ему удалось преодолеть инстинктивное отвращение к неестественно и фальшиво звучащим гармоническим интервалам кха, он сыграл первый напев Великой Песни с ловкостью, поразившей дряхлую переводчицу: «Способностей тебе не занимать! В Первом стиле, однако, фразы необходимо повторять точно. Ага, мои старые уши все слышат! Ты приукрашиваешь напев, и ритм напоминает привычную тебе музыку. Недопустимая ошибка! В результате Песнь теряет всякий смысл. Еще раз — и никаких вольностей!»
Несмотря на поощрение совокупления и размножения рабов, формирование постоянных связей предотвращалось. Время от времени, наблюдая за женщинами, занимавшимися гимнастикой на другом конце бетонного двора, Этцвейн замечал Руну Ивовую Прядь. Однажды, когда Половиц разрешил «вольные упражнения», Этцвейн рискнул приблизиться к ней. Руна в какой-то мере утратила былые беззаботность и беспечную грацию. Девушка смотрела на Этцвейна с недружелюбным безразличием — он понял, что Руна его не узнала.
«Я — Гастель Этцвейн, — напомнил он. — Мы встретились на стоянке у реки Вуруш. Я играл с музыкантами, а ты хотела, чтобы я сбросил твою тюбетейку — помнишь?»
Выражение на лице Руны не изменилось: «Что тебе нужно?»
«Мужчинам и женщинам не запрещается проводить время вместе. Если ты не против, я попрошу бригадира назначить тебя...»
Руна прервала его раздраженным жестом: «И не подумаю ублажать каждого встречного! Рожать детей — в гнилом болотном аду, на радость клещам-захребетникам? Еще чего! Иди утешайся с бесплодными старухами. Чем меньше проклятых душ гибнет под беспросветным серым небом, тем лучше!»
Этцвейн уговаривал ее, приводя один довод за другим, но вызвал только взрыв ожесточения. Выругавшись, Руна повернулась к нему спиной и быстро отошла. Отягощенный скорее тоской одиночества, нежели разочарованием, Этцвейн вернулся к гимнастическим упражнениям.
Дни тянулись с медлительностью, приводившей Этцвейна в бешенство. По его оценке, сутки на Кхахеи были примерно на пять часов продолжительнее, чем на Дердейне. Естественный ритм жизни нарушился: Этцвейн все чаще впадал в мрачное оцепенение, прерывавшееся вспышками истерического озлобления. Он запомнил первую дюжину напевов Великой Песни — и лейтмотивы как таковые, и способы их смыслового употребления. Теперь он пробовал выражать простейшие мысли на языке кха, выбирая и соединяя отдельные фразы. Несмотря на исключительные способности к звуковому подражанию, ему мешало почти безудержное стремление варьировать музыкальные фразы по-своему, добавляя гармонические разрешения и ритмические задержания, украшая напевы форшлагами и трелями. Импровизации приводили старуху Кретцель в отчаяние. Всплеснув руками, она снова и снова демонстрировала правильную манеру игры: «Последовательность заканчивается так, и только так! Она передает идею тщетного поиска болотных лангустов на берегу Океанской Трясины во время утреннего дождя. Ты вводишь случайные элементы из других напевов, и получается мешанина, какофония ассоциаций! Каждую ноту требуется исполнять с определенным акцентом — не громче и не тише. Иначе выходит бессмысленная болтовня, младенческий лепет!»
Этцвейн с напряжением заставлял пальцы слушаться и повторял лейтмотивы в точном соответствии с указаниями учительницы. «Правильно! — наконец заявляла она. — Перейдем к следующему напеву: Хайана, предок кха, бредет по обнаженной отливом трясине, и ему докучают щебечущие насекомые...»
Разумеется, Этцвейн предпочитал компанию Кретцель капризным наставлениям Половица и, если бы это разрешалось, проводил бы все время, разучивая Великую Песнь. «Излишнее прилежание ни к чему, — упрекала его Кретцель. — Я помню все напевы и умею с грехом пополам пересвистываться с одноглазыми в Первом стиле. Это все, чему я могу тебя научить. Если ты проживешь сотню лет, может быть, начнешь играть во Втором стиле, но никогда тебе не сравняться с кха, потому что ты не кха. А у них есть еще Третий, Четвертый и Пятый стили, идиомы и переносные значения, сходящиеся и расходящиеся многоголосные сопоставления, контраккорды, синкопы, паузы, присвисты, степени хриплости, динамические акценты и переходные глиссандо. Жизнь коротка: зачем себя утруждать?»
Этцвейн решил, тем не менее, запомнить все, что мог — обучение языку кха было приятнее любого другого занятия и помогало коротать время. С каждым днем Половиц вызывал у Этцвейна все возрастающую неприязнь. Единственным спасением становилось общество старой переводчицы. Идея побега не привлекала его. По словам Половица, подтвержденным сведениями, полученными от Кретцель, в окружающих холмах и болотах нечего было есть, а всю дождевую воду впитывал мох. Лучший способ избежать преследований бригадира заключался в прилежном изучении Великой Песни... Где пропал Ифнесс? Этцвейн уже редко вспоминал о землянине. События былой жизни мутнели, стирались в памяти, теряли смысл. Каждое утро моросящий дождь Кхахеи и бесконечно повторяющаяся дрессировка все настойчивее утверждались в сознании. Действительность ограничивалась бараками на планете с беспросветно пасмурным небом. «Рано или поздно Ифнесс вернется, — повторял себе Этцвейн перед сном, — спасение придет...» Но каждый вечер слова эти все больше напоминали молитву — пустой набор звуков.
Как-то вечером старухе Кретцель надоело повторять напевы кха. Жалуясь на воспаление десен, она бросила свирель на полку: «Пусть меня пристрелят — какая разница? Воевать я уже не могу, годы не те. Меня тут кормят, потому что я помню Великую Песнь — а мне все равно! Никогда мои кости не лягут в землю Дердейна! Ты молод, ты еще надеешься. Надежды угаснут одна за другой и не останется ничего, кроме желания жить. Тогда ты поймешь, что существование само по себе — даже такое существование — лучше небытия... Нам многое пришлось перенести в жестокие, дикие времена. Я еще не состарилась, когда асутры принялись выводить меднокожих бойцов. Поначалу им никак не удавалось их размножать, получая потомство от женщин... А зачем им это нужно было, я не знаю».
«Зато я хорошо знаю, — отозвался Этцвейн. — Рогушкоев высадили на Дердейне. Они опустошили Шант и несколько обширных областей в Каразе. Не странно ли? Асутры уничтожали людей на Дердейне и в то же время захватывают их в плен, чтобы использовать как пушечное мясо!»
«Всего лишь очередной эксперимент, — многозначительно заметила Кретцель. — Краснокожие бойцы потерпели поражение, теперь захребетники испытывают новое оружие». Старуха оглянулась: «Хватай свирель, играй напевы! Половиц кружит, как ахульф — вынюхивает, кто чем занимается. Остерегайся Половица — он любит убивать». Кретцель тоже взяла свирель: «А, мои бедные больные десны! Начнем девятнадцатый напев. Сах и Айану вьют веревку из волокон рахо и выкапывают коралловые орехи палками из черного дерева. Лейтмотивы черного дерева и жестких волокон играются грубо, с хриплым присвистом — это мы уже проходили. Не забывай прибавлять мизинцем прерывистое вибрато — иначе фраза превратится в описание «того места, откуда трясину уже почти не видно», из напева 9635».
Этцвейн играл на свирели, краем глаза следя за Половицем. Половиц задержался, проходя мимо, прислушался, с суровым подозрением глянул на Этцвейна и пошел своей дорогой.
Позже, во время гимнастических упражнений, Половиц внезапно разразился приступом гнева: «Подтянись! А теперь согнись, как положено! Ты что, разленился, ладонь к земле прижать не можешь? Не беспокойся, я все вижу! Твоя жизнь — на волоске, как куколка мотылька! Что встал столбом?»
«Жду дальнейших указаний, бригадир Половиц!»
«Знаю я твою ехидную породу! Всегда умеешь так ответить, чтобы звучало как дерзость, а придраться ни к чему нельзя было! Не утешайся сладкими мечтами, господин виртуоз! На свирели игрец нашелся! Ты у меня узнаешь, почем фунт лиха, помяни мое слово! Сто прыжков в высоту — давай, давай, быстрее, чтоб только пятки сверкали! Скажи спасибо старому Половицу, что заботится о твоем здоровье, маменькин сынок!»
Этцвейн спокойно и усердно прыгал в высоту, буквально выполняя приказ. Бледный от ненависти Половиц внимательно наблюдал, но больше не нашел к чему придраться. Не дождавшись конца упражнения, он резко повернулся и поспешил прочь. Слегка усмехнувшись, Этцвейн вернулся в каморку Кретцель, сыграл девятнадцать уже разученных напевов и с помощью проигрывателя запомнил мотивы двадцатого и двадцать первого. Без разъяснений старухи смысловое значение новых фраз он угадать не мог.
Этцвейн вел себя со всей возможной осторожностью, но Половиц не давал передышки. Терпение Этцвейна истощалось, он решил перейти в наступление. Каким-то таинственным образом Половиц почувствовал перемену настроения или догадался о происходящем в душе ненавистного музыканта. Вплотную придвинув костлявое морщинистое лицо к лицу Этцвейна, бригадир просипел: «Двенадцать человек пытались обвести меня вокруг пальца, и где они теперь? В отхожей яме! Молокосос! Тебе и не снились все проделки старого Половица! Одна ошибка, один-единственный проступок — и ты узнаешь, чего стоит благородная спесь на печальной планете Кхахеи!»
Этцвейну оставалось только притворяться. Он вежливо ответил: «Сожалею, если я чем-то вас оскорбил. Я стараюсь обращать на себя как можно меньше внимания. Вы же понимаете, что я здесь оказался не по своей воле».
«Лукавые отговорки! Вздумал за нос меня водить? — взревел Половиц. — С тобой все кончено, болтовня больше не поможет!» Бригадир ушел, а Этцвейн вернулся к занятиям на свирели.
Кретцель заметила явную рассеянность ученика и поинтересовалась ее причиной. Этцвейн объяснил, что бригадир собрался донести на него охранникам. Старуха пронзительно хихикнула: «Болван Половиц, зловредное ничтожество! Да он не стоит урчания в кишках ахульфа! На тебя Половиц не донесет — побоится соврать. Кха не дураки, все соображают! Давай-ка я тебе сыграю напев 2023 — про то, как колорезы задушили камневала, продавившего им сухомох. Пусть только Половиц осмелится на тебя палец поднять! Сыграй одиннадцатую фразу — он тут же спасует. Или нет, еще лучше! Скажи старому хрычу, что в последнее время он заметно отлынивает, и что ты поэтому разучиваешь напев Беспристрастной Инспекции. Давай, бери свирель! Забудь про Половица — повоняет да перестанет».
«Гастель Этцвейн! — заявил Половиц во время утренней гимнастики. — Приседаешь с грацией и проворностью беременного гегемота! Это даже на приседания-то не похоже, одно вихляние задом! Знаменитый виртуоз изволит задирать нос и не снисходит до наших низменных упражнений? Что молчишь? Отвечай, когда спрашивают! Сколько еще я должен выносить твою наглость?»
«Нисколько, — отозвался Этцвейн. — Если вашему терпению пришел конец, позовите надзирателя — вот он идет. По счастливой случайности я захватил с собой свирель. Пусть надзиратель нас рассудит — я ему сыграю напев Беспристрастной Инспекции».
Глаза Половица налились кровью, челюсть медленно отвисла — впрочем, он тут же захлопнул рот. Бригадир обернулся, будто собираясь позвать проходящего мимо чернокожего циклопа, и сделал вид, что сдерживается исключительно благодаря невероятному усилию воли: «Что же получается? Кха спустит в отхожую яму тебя и половину остальных колченогих кретинов. А мне придется вытягивать за уши новую бригаду, еще хуже прежней? Мы теряем время! Ну-ка живо! Еще сорок приседаний, и чтобы больше никто у меня не тухтел!»
Вечером Кретцель полюбопытствовала: «Как поживает наш друг Половиц?»
«Бригадира не узнать! — изобразил недоумение Этцвейн. — Не злобствует, не бесится, нравоучений не читает. Кроткий, пугливый, как птенчик лугового стрекача. Даже тренироваться стало интересно — каждый делает, что хочет».
Переводчица молчала. Этцвейн поднес свирель к губам, но заметил слезу на пепельной щеке старухи и опустил инструмент: «Что тебя огорчает?»
Кретцель растерла лицо руками: «Я забыла Дердейн. Стараюсь не вспоминать — память печальна, печаль убивает. Но достаточно услышать одно слово, и все былое оживает: я вспомнила луга над Эльшукайскими прудами, где у моих родителей была ферма... Маленькой девочкой я любила забегать в высокую нескошенную траву, оставляя длинные борозды — и как-то раз спугнула с гнезда пару стрекачей. Однажды я забежала дальше, чем обычно, глубоко в густую траву выше роста, а когда выбралась наружу, наткнулась на чьи-то ноги, подняла голову — и увидела ухмыляющуюся рожу Мольска, охотника на рабов. Он засунул меня в мешок, и я больше никогда не видела Элыпукайские пруды... Жить мне осталось недолго. Кости мои смешаются со здешней гнилой черной землей — ия снова буду дома, на солнечных лугах».
Этцвейн сыграл на свирели задумчивую мелодию: «Когда тебя привезли на Кхахеи, здесь уже было много рабов?»
«Наша бригада прибыла одной из первых — тогда почти всех истребляли, выращивая рогушкоев. Я спаслась, потому что выучила Песнь. Остальных замучили — в живых остались двое или трое. В том числе старый хрыч Половиц».
«И за все это время никто не убежал?»
«Бежать? Куда? Весь мир — тюрьма!»
«Если бы я мог, то как-нибудь навредил бы асутрам. И полезно, и приятно».
Кретцель безразлично пожала плечами: «Когда-то я тоже так думала, а теперь... Я слишком долго играла Великую Песнь. Иногда мне кажется, что я кха».
Этцвейн вспомнил кха, бешено уничтожавшего асутру Хозмана Хриплого у постоялого двора в Шахфе. Что вызвало в нем вспышку ярости? Если бы все кха на Кхахеи поддались такому же порыву, от захребетников не осталось бы ни следа. Этцвейн осознал, что в действительности очень мало знает об одноглазых аборигенах, о том, как они живут, каков их склад ума. Он принялся расспрашивать переводчицу, но та сразу рассердилась и раздраженно посоветовала ему прилежнее запоминать Великую Песнь.
Этцвейн возразил: «Я выучил двадцать два напева. Осталось запомнить больше четырнадцати тысяч. Я буду глубоким стариком прежде, чем найду ответы на свои вопросы».
«А я к тому времени откину копыта! — отрезала Кретцель. — Бери инструмент и кончай болтать. Заметь, что в конце второй фразы звучит двойное стаккато. Это часто применяемый символ, передающий «страстность утверждения». Кха — храбрый, отчаянный народ. Их история — бесконечная вереница плачевных катастроф. Они не сдаются. Двойное стаккато выражает именно такое упрямство, вызов, брошенный в лицо судьбе».
Старый крикун и задира Половиц с пугающей внезапностью превратился в угрюмого молчальника, уделявшего упражнениям лишь поверхностное внимание. Напряжение, нагнетавшееся угрозами бригадира, разрядилось — мрачные, скучающие рабы ежедневно повторяли давно заученные движения и приемы.
Тупая безнадежность наполняла каждую минуту существования Этцвейна. Он начинал ощущать некое самоотстранение, раздвоение внутреннего сознания и внешней рутины — ум, будто отступивший на безопасное расстояние от бессмысленности бытия, безучастно, без интереса наблюдал за функциями тела.
Даже Великая Песнь уже не помогала вернуться к действительности. День за днем Этцвейн прилежно брал уроки у старой переводчицы, день за днем запоминал новые напевы и их значение. Но тяжкая мысль о том, что ему придется всю жизнь повторять фальшивые пересвисты кха, подавляла его — вся затея представлялась бессмысленной, невыполнимой, напрасной. Ну хорошо, он выучит четырнадцать тысяч напевов — что дальше? Сидеть в конуре, как Кретцель, и натаскивать очередного узника? Бездействие приводило Этцвейна в ярость, он гневно укорял себя: «Я победил рогушкоев! Я сопротивлялся, я думал и находил решения! Смирение смерти подобно — я не покорюсь! Настало время разбудить в себе дремлющие силы и подчинить судьбу своей воле!»
Так убеждал себя Этцвейн и, воспрянув духом, замышлял восстание, саботаж, партизанские вылазки, поимку и обмен заложников, захват бронзового звездолета-диска, бесполезно простаивавшего на дворе, всевозможные способы ведения переговоров с асутрами с помощью кха... Каждый план разбивался об одно и то же препятствие — практическую неосуществимость. Отчаявшись, Этцвейн попытался организовать группу единомышленников, но столкнулся с разочаровывающим всеобщим безразличием. Откликнулся только один из заключенных, задумчивый сухопарый субъект из каразского округа Сапровно по имени Шапан — так в Каразе называли жесткий сорняк с цепкими усиками, походившими на рыбацкие крючки. Шапан, казалось, живо заинтересовался взглядами Этцвейна, и Этцвейн уже почувствовал, что наконец нашел товарища и союзника, когда Кретцель во время одного из уроков заметила между прочим, что Шапана считают самым подлым провокатором в лагере: «Из-за него сгинули человек двенадцать. Он поддакивает каждому, кто строит крамольные планы, подзуживает недовольных, а потом обо всем докладывает надзирателям-кха. Зачем ему это нужно, ума не приложу — за доносы не дают никаких поблажек. Одним словом, извращенец».
Этцвейн сначала рассвирепел, но скоро почувствовал острое отвращение к себе и впал в сардоническую апатию. Шапан подсаживался к нему, проявляя готовность составлять новые заговоры, но Этцвейн притворялся тугодумом.
Перезвон медных гонгов разбудил рабов ночью, когда сырая, тяжелая тьма еще окутывала лагерь. Доносились возбужденные трели кха, топот бегущих ног — что-то случилось, хозяева всполошились. Из-под шишковатого купола над гаражом для штурмовых машин раздался дикий улюлюкающий вой: сигнал общей тревоги. Рабы выбежали на двор. Поодаль темнела безмолвная масса транспортного звездолета. Никто ничего не понимал — заключенные бормотали, с сомнением высказывая противоречивые догадки.
Из корабля вышла дюжина кха с асутрами, вцепившимися им в загривки. Кха заметно спешили. Темнота наполнилась щебетом и свистом — кха перекликались в «сокращенносправочном» Первом стиле. Снова завыла улюлюкающая сирена. Нервничающие бригадиры построили подопечных. Тех, кто учился управлять оружием и штурмовыми машинами, погнали в транспортный звездолет — вверх по трапу в длинный, тускло освещенный трюм. От немытой палубы, покрытой гниющими органическими остатками, исходила удушливая вонь. Рабы сгрудились вплотную, упираясь подбородками друг другу в плечи и спины. Испарения десятков тел добавляли к смрадной атмосфере трюма сладковатую примесь прокисшего пота.
Корпус дрогнул, корабль взлетел. Рабы хватались за стойки, прижимались к стенам и цеплялись друг за друга, хотя падать было некуда. Одних тошнило, другие стонали похоронными голосами, третьи кричали от гнева и страха — этих заставляли молчать ударами и пинками. Крики стали раздаваться реже, глухие стоны мало-помалу прекратились.
Корабль летел час или два часа — и наконец приземлился, грубо встряхнув толпу невольников. Двигатели смолкли, звездолет замер. Задыхаясь, рабы не помышляли ни о чем, кроме возможности глотнуть свежего воздуха, и принялись колотить кулаками по обшивке с криками: «Пустите! Пустите же!»
Люк открылся, в трюм ворвался порыв ледяного ветра. Невольники инстинктивно отшатнулись, сдавив задние ряды. Раздался громкий голос: «Выходите все, по порядку! Кхахеи в опасности, время настало!»
Сгорбившись навстречу ветру и обхватив себя руками, рабы спустились в непроглядную, бушующую холодом темноту. Поодаль, справа, мигал бледный фонарь. Пронзительный голос приказал: «Вперед, к фонарю, шагом марш! По одному, из строя не выходить!»
Уставшие, не выспавшиеся люди зашевелились. Никто не проявлял желания идти, но каким-то образом все побрели гуськом к фонарю по податливо-пружинистой, слегка губчатой поверхности. Моросящий морозный дождь хлестал в лицо. Этцвейну казалось, что он движется в кошмарном сне, что все это скоро кончится и он проснется.
Нестройная колонна остановилась перед приземистым строением. Подождав пару минут, невольники двинулись дальше, вниз по наклонной рампе в тускло освещенный подземный зал. Промокшие и дрожащие, обученные воевать рабы жались друг к другу, от их грязной одежды поднимался дурно пахнущий пар. В дальнем конце зала послышались фальшивые переливы флейты — кха взобрался на скамью и обращался к толпе. К чернокожему циклопу присоединился сгорбленный старик с удивительно длинными, тощими руками и ногами.
Кха разразился последовательностью пересвистов в Первом стиле. Старик заговорил, широко открывая беззубый рот, чернеющий под зарослями усов: «Передаю смысл сказанного. Враги прилетели на звездолете. Уже соорудили укрепления. Снова супостаты стремятся захватить Кхахеи! Они убивают мудрых помощников...» Старик запнулся, прислушиваясь к переливчатым трелям кха, а Этцвейн спросил себя: «Мудрые помощники — это еще кто такие? Асутры?» Старик снова разинул рот: «Кха будут драться, и вы будете драться плечом к плечу с хозяевами-кха. Вас не забудут, о вас упомянут в Великой Песне...»
Старик слушал, но кха перестал щебетать, в связи с чем толмач обратился к толпе самостоятельно: «Взгляните вокруг себя, посмотрите друг другу в лицо — наступает лихое время. Многие из вас не увидят завтрашнего дня. Многие умрут — как их запомнят? Не по имени и не по внешности. Запомнят вашу отчаянную храбрость. В напеве Великой Песни будет сказано: в предрассветных сумерках люди выехали на штурмовых машинах, чтобы помериться силами с врагом!»
Снова засвистел чернокожий циклоп. Дряхлый толмач выслушал и перевел: «Тактика проста. Бешено, врасплох атакуют безымянные разрушители в стремительных, изрыгающих огонь машинах-саламандрах. Враг в смятении, враг бежит! Что вам осталось, кроме ярости и отчаяния? Внушайте страх! Вперед, только вперед — другого пути нет! Враги укрепились в северных болотах, орудия защищают их от атаки сверху. Но мы нападем снизу...»
Этцвейн закричал из темноты: «Кто наши враги? Люди, такие же, как мы! Зачем убивать людей и помогать асутрам?»
Старик склонил голову набок. Кха чирикал. Старик сыграл несколько фраз на двойной свирели и снова обратился к воинам-рабам: «Я ничего не знаю, так что не задавайте вопросов. Враг есть враг — неважно, как он выглядит и кем он притворяется. Вперед: убивайте, разрушайте! Такова воля кха. От себя добавлю: желаю удачи! Судьба нас подвела, жаль умирать вдали от Дердейна. Но раз уж мы должны погибнуть, почему не погибнуть храбро?»
Из толпы послышался другой голос, хриплый, издевательский: «Храбрости нам не занимать, умрем как положено — пусть твой кха не сомневается! Не зря нас привезли так далеко, не зря мы выжили так долго!»
В конце помещения появился мигающий красный огонь: «Идите на огонь, все вперед!»
Невольники мялись и топтались — никто не хотел идти первым. Кха издал трель с настойчивым стаккато. Старик заорал: «Ступайте в проход — туда, где горит красная лампа!»
Толпа повалила в туннель с белеными стенами, кончавшийся узким проходом. Каждого выходящего из прохода ловили и крепко держали двое кха. Третий кха всовывал пойманному в рот трубку и впрыскивал прямо в пищевод порцию густой едкой жидкости.
Кашляя, ругаясь и плюясь, спотыкающиеся люди выбирались на обширную мощеную площадку, полуосвещенную водянисто-серыми рассветными лучами. По обеим сторонам выстроились шеренгами неподвижные машины-саламандры. По мере того, как люди выходили вперед, их бригадиры подбегали и отводили каждого в сторону к штурмовой машине. «Давай залезай! — бесцветным голосом приказал Этцвейну Половиц, поднимая крышку люка в чуть выпуклой спине саламандры. — Езжай на север все время вверх, перевали через гряду холмов. Пусковые трубы заряжены. Взрывай укрепления врага торпедами, добивай выживших лучевым орудием. Все».
Этцвейн втиснулся в углубление, крышка захлопнулась. Лежа на животе, он прикоснулся ступней к педали акселератора. Машина заворчала, зашипела, скользнула над мощеной площадкой и то ли выехала, то ли вылетела на влажный мох.
Машины-саламандры были изобретательно устроены и опасны — верткие и гибкие, они скользили на вибрационных подушках, перетекая по неровностям поверхности, как капли ртути. Аккумуляторы энергии устанавливались в хвостовой части. Этцвейн ничего не знал о емкости аккумуляторов, но в тренировочном лагере их перезаряжали очень редко. Три пусковые трубы с торпедами были нацелены прямо вперед. В передней части чуть выступала вверх поворотная платформа с лучевым орудием. Опираясь на точечные скопления сжатого воздуха, машины могли сновать по плавно-волнистой поверхности плотного мха так быстро, что за ними трудно было уследить.
Этцвейн ехал на север, поднимаясь по пологому склону, будто обитому бархатно-черным мхом. Справа и слева скользили другие машины-саламандры — одни опережали его, другие отставали. Зелье, насильно впрыснутое Этцвейну в глотку, начинало действовать — он чувствовал мрачное воодушевление власти и неуязвимости.
Перевалив через холм, Этцвейн отпустил педаль акселератора, но машина не тормозила. «Неважно! — убеждал его отравленный мозг. — Вперед с полной скоростью! Другого пути нет!» Его надули. Осознание беспомощности охладило наркотический пыл. Этцвейн чувствовал, как по всему телу горячими уколами распространяется гнев. Они не только послали его убивать неизвестных «врагов» — нет, этого им мало! Они еще позаботились о том, чтобы он спешил умереть!
Перед ним открылась широкая долина. В трех километрах он заметил мелкое озерцо, а рядом с ним — три черных звездолета. Звездолеты и озеро окружали кольцом двадцать приземистых черных конусов — по-видимому те самые «укрепления», каковые надлежало атаковать обученным рабам.
Из-за гряды холмов стремительно выскальзывали штурмовые машины, всего сто сорок штук. Ни одну нельзя было остановить. Машина, опережавшая Этцвейна, описала широкую дугу и направилась обратно. Ее водитель высунулся из люка, размахивая руками и жестикулируя, куда-то показывая. Для озлобленного Этцвейна этого стимула оказалось более чем достаточно — он тоже повернул назад к базе захребетников, с безумной радостью крича что-то бессмысленное в вентиляционное отверстие. Один за другим остальные водители заразились той же идеей — машины разворачивались и скользили восвояси.
Над ними на гребне холма притаились четыре тяжелые бронемашины — хозяева наблюдали за происходящим. Теперь эти броневики, мигая красными огнями, ползли наперерез возвращающимся камикадзе. Этцвейн навел прицел торпеды на броневик и нажал подбородком спусковой рычаг. Бронемашина взвилась в воздух как рыба, выскочившая из воды, и с лязгом повалилась на бок. Хозяева открыли огонь — три штурмовые саламандры превратились в лужи расплавленного металла, но уже через долю секунды оставшиеся броневики опрокинулись, пораженные шквалом торпед. Из двух обгоревших корпусов выбрались кха, длинными прыжками побежавшие по мшистому склону. За ними гнались восставшие камикадзе. Саламандры вертелись, описывая круги, метались из стороны в сторону подобно ящерицам, ловящим насекомых, и в конце концов сбили всех беглецов-циклопов.
Приподняв крышку люка и размахивая рукой, Этцвейн кричал в вентиляционную отдушину: «На базу! На базу!»
Обратно через гряду холмов понеслись машины-саламандры. Им навстречу сразу же блеснули малиново-багровые лучи орудийных установок базы. «В рассыпную!» — орал Этцвейн, наполовину высунувшись из люка и яростно жестикулируя. Его никто не замечал. Этцвейн выпустил торпеду — одно из орудий взорвалось. Штурмовые машины горели от прикосновения шарящих по склону багровых лучей, но другие водители тоже не промахнулись. Через пять секунд половина машин-саламандр превратилась в кучи оплавленного дымящегося металла, но все огневые точки хозяев были подавлены. Оставшиеся в живых водители приближались к базе, не встречая сопротивления. Кто-то запустил торпеду в подземный гараж, и целый комплекс под холмом взорвался, как вулкан. Обрывки торфа и обломки бетона, вперемешку с конечностями и кусками черных тел, быстро кружась, взлетели высоко в воздух и градом посыпались на мох.
На месте базы зиял молчаливый кратер. Теперь нужно было как-то остановить штурмовую машину. Этцвейн несколько раз нажал и отпустил педаль акселератора и даже потянул ее к себе, но это не привело к желаемому результату. Наконец, когда он полностью откинул в сторону крышку люка, сработал предохранительный выключатель, и двигатель заглох. Машина остановилась. Этцвейн выпрыгнул на черный бархатный мох. Если бы в эту минуту его убили, он умер бы в полном восторге.
Другие водители тоже остановили машины способом Этцвейна и вылезли наружу. Из ста сорока человек, отправившихся в самоубийственную атаку, вернулись примерно семьдесят. Наркотик еще действовал — лица раскраснелись, глаза чернели расширенными зрачками и блестели, личность каждого казалась необычно сосредоточенной и своеобразной, каждый чувствовал себя сильным, способным на все. Мятежники хохотали, притоптывая и прихлопывая, обменивались обрывистыми фразами, одновременно пытаясь собраться с мыслями и обосновать свой неестественный оптимизм:
«Наконец-то! Свобода! Теперь наша жизнь не стоит ломаного гроша...»
«Значит, так: удерем за холмы, и как можно дальше! Пусть гонятся за нами, если посмеют!»
«Еда? Конечно, мы найдем еду! Ограбим кха!»
«Нам не простят победы! Асутры налетят стаей звездолетов и сожгут нас!»
Этцвейн вмешался: «Подождите, послушайте! За холмом — черные звездолеты. В них люди, такие же, как мы, но с другой планеты. Почему бы не встретиться с ними по-дружески и не положиться на их добрую волю? Нам нечего терять».
Дюжий чернобородый мужик по имени Корба (больше Этцвейн ничего о нем не знал) потребовал разъяснений: «С чего ты взял, что в черных звездолетах — люди?»
«Я видел, как взорвался похожий звездолет, — ответил Этцвейн. — Из него выбросило человеческие тела. В любом случае, давайте разведаем обстановку — нам нечего терять».
«Правильно! — заявил Корба. — Дожить бы до завтра, а там будь что будет».
«Еще вопрос, — сказал Этцвейн. — Важно действовать сообща и предусмотрительно, а не как шайка диких ахульфов. Нужен руководитель, человек, способный координировать действия. Как насчет Корбы? Корба, возьмешься командовать?»
Корба погладил черную бороду: «Только не я. Ты первый помянул руководство, вот и руководи. Тебя как зовут-то?»
«Гастель Этцвейн. Тогда я буду распоряжаться до поры до времени — если никто не против».
Никто ничего не сказал.
«Ну и прекрасно, — вздохнул Этцвейн. — Прежде всего давайте отремонтируем машины, чтобы они тормозили и останавливались».
«А зачем они нам, машины?» — вмешался старик с горящими глазами. Его звали Сул, он слыл заядлым спорщиком: «Пешком можно пройти там, где на машине не проедешь!»
«Что, если придется далеко ездить, чтобы найти что-нибудь поесть? — возразил Этцвейн. — Мы ничего не знаем о местных условиях. Бесплодная пустошь может тянуться на тысячу километров во все стороны. Машины дают больше шансов выжить. Кроме того, на них установлены орудия. В машинах мы — опасные бойцы, без них — банда голодающих беглецов».
«Верно! — поддержал его Корба. — С оружием, по крайней мере, мы успеем всыпать асутрам под первое число, даже если придется помирать. А помирать придется — помяните мое слово!»
Мятежники, хорошо знакомые с устройством машин, сняли панели двигательных отделений и удалили зажимы, фиксировавшие регуляторы скорости. Этцвейн поднял руку: «Тихо!» Ветер донес из-за холма еле слышное завывание странного скрипучего тембра, заставлявшее ныть зубы.
Бойцы разошлись во мнениях:
«Кого-то вызывают!»
«Нет, это сигнал тревоги!»
«Они знают, что мы здесь, и ждут нас».
«Так воют призраки — я слышал этот клич на заброшенном кладбище».
Этцвейн сказал: «В любом случае пора выезжать. Я поеду впереди. На гребне холма остановимся». Он забрался в машину, захлопнул крышку люка и поехал. Штурмовые аппараты скользили по черному бархату мха, как тени деловитой стаи огромных крыс.
Снова преодолев пологий склон холма, водители затормозили, как только впереди показалась долина. Бойцы вылезли из люков. За ними мшистый склон спускался к кратеру уничтоженной базы. Дальше, за базой, поблескивала трясина. Впереди распростерлась долина с озерцом, черными звездолетами и кольцом конусов вокруг них. По берегу озера суетились люди — человек двадцать — выполнявшие какую-то работу. На таком расстоянии невозможно было разглядеть их черты или определить, чем именно они занимались, но, судя по движениям, они торопились. У Этцвейна появилось недоброе предчувствие — будто в воздухе над долиной скопилось предгрозовое напряжение.
Со стороны космических кораблей опять взвыла дребезжащая сирена. Люди, возившиеся у воды, обернулись, застыли на несколько секунд и побежали к звездолетам.
Тут же раздался испуганный возглас Корбы — он указывал на юг, где в туманной дымке за трясиной на фоне вечно пасмурного неба угадывались очертания другой гряды холмов. Из-за тех холмов выплывали три красновато-бронзовых диска: впереди два обычных и за ними третий невероятной величины, всходивший над горизонтом подобно медной луне. Первые два диска приближались с угрожающей быстротой.
Большой корабль двигался медленнее, над самой землей. Из конических укреплений вокруг озера вырвались трескучие белые молнии, поразившие звездолет-диск, летевший впереди. Диск озарился голубым сиянием, подскочил высоко в небо и мгновенно пропал в тучах. Второй диск испустил широкую струю лилового огня, целиком охватившего один из сферических черных звездолетов. Укрепления вокруг озера отвечали новыми залпами белых разрядов, но попавший под обстрел черный шар накалился докрасна, потом добела, и осел на дымящемся мху бесформенной полурасплавленной массой. Атаковавший его бронзовый диск, судя по всему неповрежденный, проворно нырнул под прикрытие пологой возвышенности. Громадный бронзовый звездолет опустился на поверхность поблизости. Его выходные люки раскрылись, как лепестки неожиданно распустившегося бутона, и легли на мох, превратившись в наклонные выездные рампы. Изнутри стремительно выскальзывали штурмовые машины-саламандры — двадцать, сорок, шестьдесят, не меньше сотни.
Машины бросились к человеческим укреплениям, рыская черными тенями по черному мху, почти невидимые, защищенные от огня гребнем холма. Кольцо укреплений вокруг озера раскрылось: конусы стягивались к двум уцелевшим сферическим звездолетам. Но машины-саламандры уже спешили вниз по бархатно-черному склону — огневые позиции людей оказались в радиусе действия торпед. Черные конусы ощетинились белыми трескучими разрядами. Машины-саламандры часто взрывались, высоко подскакивая и кувыркаясь, но их было слишком много, и уцелевшие успевали выпускать торпеды. Одно за другим орудия-конусы превращались в рваные клочья металла. Водители штурмовых машин обстреливали также шарообразные звездолеты, но безрезультатно — злобные красные вспышки разрывов гасли, не долетая до угольно-черных корпусов.
Два бронзовых диска, огромный и обычный, поднялись в воздух, ощупывая черные шары толстыми прямыми щупальцами лилового огня. С неба прибыло подкрепление. Восемь серебристо-белых веретенообразных кораблей с выступающими из корпусов сложными устройствами или орудиями быстро спустились и повисли над двумя черными шарами. Воздух мерцал и дрожал. Лиловые струи огня затуманились, стали янтарно-желтыми, потом потускнели и исчезли, как если бы источники энергии в бронзовых дисках иссякли. Черные шары вертикально поднялись в воздух, набрали скорость, превратились в темные пятна на фоне серых облаков и скрылись за завесой туч. Серебристо-белые звездолеты повисели над озером неподвижным восьмиугольником еще три минуты и тоже исчезли в облаках.
Машины-саламандры скользили обратно, поднимаясь по рампам большого дисковидного звездолета и исчезая в трюмах. Через пять минут оба бронзовых диска взлетели и удалились за туманные южные холмы.
За исключением взбунтовавшихся рабов, ошеломленно стоявших на гребне холма, на всем обширном пространстве поля битвы не осталось ничего живого. Около маленького темного озера застыли изуродованные остатки конусных укреплений и все еще раскаленный оплавленный черный шар.
Мятежники залезли в штурмовые машины и осторожно спустились по склону к озеру. От огневых позиций людей остались бесполезные переплетения обрывков металла. Оплывший черный звездолет излучал такой жар, что никто не осмелился к нему приблизиться. Даже если в нем были запасы провианта, они, несомненно, сгорели. Вода, однако, была в двух шагах. Бойцы подошли к берегу мелкого озерца. От него исходил неприятный запах, заметно усиливавшийся по мере приближения.
«Вода есть вода, — заявил Корба. — Пусть воняет, мне все равно. Сейчас побрезгуешь — а потом где еще напьешься?» Он наклонился зачерпнуть пригоршню и сразу отскочил: «Что-то плавает! Кишмя кишит!»
Этцвейн присел на корточки и заглянул в воду. Озерцо бурлило вихрями и всплесками, вызванными движением бесчисленных юрких, напоминавших насекомых существ всевозможных размеров, от микроскопических букашек до гигантов величиной с руку. Из-под розовато-серого туловища каждой твари свисали восемь членистых ног с тремя крохотными щупиками на концах. В шерстистых углублениях спереди поблескивали черные глаза-бусинки. Этцвейн с отвращением выпрямился: «Асутры! Миллионы асутр!» Он наотрез отказался пить из этого пруда.
Этцвейн взглянул на небо. Низкие черные тучи лениво дрейфовали под сплошной серой пеленой, роняя прерывистые шлейфы дождя. Прозябшего Этцвейна передернуло нервной дрожью: «Проклятые места! Чем скорее мы отсюда уедем, тем лучше».
Один из мятежников с сомнением произнес: «Где еще мы найдем воду и пищу?»
«Питаться асутрами? — Этцвейн скорчил гримасу. — Я скорее подохну с голоду. В любом случае эти твари развились на чужой планете и, скорее всего, ядовиты». Этцвейн повернулся лицом к югу: «Звездолеты могут вернуться. Лучше убраться подобру-поздорову».
«Все это замечательно, — жаловался старый Сул, — но куда бежать? Мы обречены. Зачем торопиться?»
«Предлагаю ехать на юг. Где-то там, за трясиной, наш лагерь — ближайшее место, где можно добыть воду и пищу».
Повстанцы прищурились, глядя на Этцвейна с подозрением и в замешательстве. Корба вызывающе спросил: «Мы только что освободились — после стольких лет рабства — и ты хочешь возвращаться в лагерь?»
Другой мятежник ворчал: «Я родился в упрямом племени баготов, в семье из клана Стальных Шпор. Пусть я буду жрать насекомых и хлебать вонючую жижу, но продаваться в рабство за еду не намерен!»
«Я не собираюсь сдаваться в рабство, — возразил Этцвейн. — Вы забыли, что у нас есть оружие? Мы не вернемся стоять в очереди к лагерной кормушке — мы вернемся, чтобы взять свое и рассчитаться со старыми долгами! Будем двигаться на юг, пока не найдем старый лагерь, а там посмотрим».
«Путь далек!» — пробормотал кто-то.
Этцвейн отозвался: «В транспортном корабле мы прилетели за два часа. Возвращение займет два-три дня, может быть четыре — а что еще делать? Ложиться и помирать?»
«Верно! — одобрил Корба. — Пусть асутры спалят нас молниями — на этой промозглой планете все равно никто долго не проживет. Поедем и встретим смерть, как подобает людям!»
«Значит, по машинам! — заключил Этцвейн. — Едем на юг».
Обогнув озерцо и дымящийся корабль-шар, они поднялись по черному мшистому склону, где виброподушки уже оставили переплетения блестящих следов-дорожек, потом спустились к воронке, оставшейся от базы, и помчались дальше. «Где-то под обломками базы, — думал Этцвейн, — лежит старый Половиц, вдавленный в черный торф чужой земли. И поделом — стоило выслуживаться столько лет!» Тем не менее, несмотря на горечь возмущения сотнями несправедливостей, причиненных бригадиром ему и многим другим, Этцвейн чувствовал некое мрачное сострадание. Он обернулся, взглянув на скользящие следом машины-саламандры. Все повстанцы, и он в том числе, спешили навстречу смерти. Но сперва они успеют отомстить.
Трясина была уже близко: безграничный простор липкой грязи, местами покрытый пятнами белесо-зеленой пенистой плесени. Машины повернули и продолжали мчаться на юг по краю топи. Под тяжелыми низкими тучами моховые луга, трясина и небо сливались в мутной дали без четкой линии горизонта.
Машины скользили на юг зловещей гибкой вереницей. Мятежники не оборачивались назад. Ближе к вечеру им повстречалась болотистая заводь с грязноватой водой. Они напились, не обращая внимания на горький привкус, и наполнили той же водой баки в машинах. Потом, осторожно перебравшись вброд через мелкую заводь по самому краю трясины, они снова помчались на юг.
Небо потемнело, пошел неизбежный вечерний дождь, мгновенно поглощавшийся мхом. Машины ехали в сумерках, постепенно сменившихся непроглядным мраком. Этцвейн остановил колонну, и бойцы выбрались на мох, кряхтя от голодной усталости и со стонами растирая онемевшие мышцы. Мрачно бормоча хриплыми голосами, люди бродили вперед и назад вдоль вереницы машин. Некоторые заметили, что пенистая накипь на трясине заметно фосфоресцировала в темноте, тогда как моховой луг беспросветно чернел. Кто-то предложил ехать всю ночь: «Чем скорее мы вернемся в лагерь, тем скорее все это кончится так или иначе — утолим голод или нас убьют».
«Я тоже тороплюсь, — отвечал Этцвейн, — но в темноте ехать слишком опасно. У нас нет опознавательных огней, мы можем разъехаться кто куда. Что, если водитель заснет, не снимая ногу с акселератора? Утром мы его уже не найдем. Нужно перетерпеть голод, дождаться рассвета».
«Днем нас могут увидеть с летающих кораблей, — возразил один из самых нетерпеливых. — Других опасностей здесь никаких нет, куда ни посмотри, а пустые животы бурчат и днем, и ночью».
«Двинемся в путь, как только забрезжит заря, — пообещал Этцвейн. — Ехать в полной темноте — безумие. Мой живот так же пуст, как и у вас. За неимением лучшего я намерен спать». Он решил больше не спорить и спустился к краю бесконечной трясины.
Болотная накипь мерцала синеватой сеткой пересекающихся линий, медленно плывших и постоянно образовывавших новые узоры из неправильных ромбов. Бледные пятнышки света то и дело сновали проблесками по открытым участкам, неподвижно задерживаясь в редких пучках тростника...
Что-то быстро пробежало по грязи у самых ног Этцвейна — судя по очертаниям большое плоское насекомое, опиравшееся на плесень подушечками многочисленных широко расставленных ног. Этцвейн пригляделся: асутра? Нет, что-то другое, хотя асутры, вероятно, развились где-то в таком же болоте или озере. Возможно даже, что захребетники развились именно на Кхахеи — хотя в первых напевах Великой Песни о них ничего не говорилось...
Другие повстанцы тоже вышли на берег огромной топи и дивились странной игре света в зловещей, сырой тишине ночи. Кто-то развел на берегу крохотный костер, подкладывая в огонь сухие кусочки мха и тростника. Несколько человек поймали в грязи насекомых и теперь готовились поджарить их и съесть. Этцвейн фаталистически пожал плечами. Он занимал шаткое положение в группе мятежников — любой мог оспорить его первенство в любую минуту.
Ночь тянулась долго. Этцвейн пытался уснуть внутри штурмовой машины, но там было слишком тесно. Он вылез наружу и лег на мох. Приземистая машина почти не защищала от холодного ветра, но мало-помалу он задремал... и вскочил на ноги, разбуженный отчаянными стонами. Наощупь пробравшись вдоль вереницы машин, Этцвейн нашел трех человек, судорожно извивавшихся на земле. Их рвало. Этцвейн постоял минуту, потом вернулся к своей машине. Как он мог им помочь, чем он мог их утешить? Смерть дышала в затылок каждому, потеря трех человек казалась несущественной... Ветер крепчал, с трясины наползло облако тумана с моросящим дождем. Этцвейн снова залез в машину. Стоны отравленных слабели и в конце концов прекратились.
Наконец рассвело. На губчатом черном торфе лежали три мертвеца — трое, поужинавшие жареными насекомыми. Не говоря ни слова, Этцвейн вернулся к своей машине, и колонна двинулась на юг.
Черные болотистые луга казались бесконечными — повстанцы ехали быстро, но в почти летаргическом оцепенении. К полудню они подъехали к еще одной заводи и снова напились. Вокруг заводи, в тростниках, кое-где висели гроздья мелких плодов, напоминавших восковые шарики. Двое повстанцев осторожно потрогали их и понюхали. Этцвейн ничего не сказал, но на этот раз никто не захотел рисковать.
Корба стоял и смотрел на сплошь поросшую мхом равнину, простиравшуюся к югу. Он показал Этцвейну на далекую тень над горизонтом — то ли облако, то ли холм со скальными выходами: «К северу от лагеря торчала как раз такая скала. Похоже, мы скоро приедем».
«Боюсь, что нескоро. Корабль, перевозивший нас на базу, двигался гораздо быстрее машин. Думаю, ехать придется еще не меньше двух дней».
«Что ж, как-нибудь доедем, если с голоду не передохнем».
«От трех дней голодовки еще никто не умирал — вот если машины не дотянут, будет гораздо хуже. Этого я больше всего боюсь. Аккумуляторы не вечны».
Корба и еще несколько человек с сомнением обернулись к черным плоским машинам. «Поехали! — сказал один. — По меньшей мере увидим, что делается по ту сторону холмов — вдруг Корба не ошибся, и нам повезет?»
«Я тоже надеюсь на лучшее. Но приготовьтесь к разочарованию», — предупредил Этцвейн.
Колонна скользила по волнистому черному ковру. Нигде не было никакого движения, никаких признаков жизни — ни остатков жилищ, ни развалин древних укреплений, ни ориентиров, сложенных из камней разумными существами.
Налетела гроза. Черные тучи клубились над самой головой, машины дрожали от ураганного западного ветра. Но уже через полчаса гроза прошла, и воздух стал чище, чем раньше. Теперь было ясно, что тень на юге — внушительная возвышенность.
К концу дня колонна поднялась на гребень седла между двумя холмами. Впереди, насколько видел глаз, простирался монотонно-черный моховой луг.
Машины остановились. Люди вышли и молча смотрели на открывшуюся им пустыню. Этцвейн сухо сказал: «Нам еще ехать и ехать». Вернувшись в машину, он повел ее вниз по склону.
У него в голове сложился план. Когда темнота снова заставила их сделать привал, Этцвейн предложил его на обсуждение: «Помните корабль-диск, стоявший на дворе перед бараками? По-моему, это космический аппарат. В любом случае ценная машина. Асутры дорожат ею гораздо больше, чем жизнью шестидесяти-семидесяти рабов. Если этот корабль все еще в лагере, предлагаю захватить его и выторговать возвращение на Дердейн».
«Как мы это сделаем? — спросил Корба. — Нас заметят и обстреляют торпедами!»
«Насколько я помню, лагерь охраняют не слишком бдительно. Почему бы сразу не сделать большую ставку? Если мы сами себе не поможем, кто нам поможет?»
Один боец, кочевник из племени алулов, с горечью сказал: «Я забыл — так много всего случилось, столько времени прошло... Давным-давно ты говорил о Земле и обещал помощь какого-то Ифнесса».
«Мечты, сказки! — развел руками Этцвейн. — Я тоже многое забыл... Странно, странно! Если бы люди с Земли видели нас сейчас, мы показались бы им существами из кошмарного сна, порождениями черных болот, чуждыми и бестелесными, как блуждающие огни... Боюсь, я никогда не увижу Землю!»
«Что мне Земля! Повидать бы еще раз старый добрый Караз! — отозвался кочевник. — Если мне улыбнется удача и я попаду домой, я больше никогда не пожалуюсь на судьбу».
Другой боец проворчал: «Мне для полного счастья хватило бы куска жирного мяса».
По одному, неохотно возвращаясь к одиночеству после дружеского разговора, повстанцы разошлись, улеглись у своих машин и провели еще одну холодную, голодную ночь.
Как только рассвет позволил различить окружающую местность, колонна черных саламандр уже была в пути. Этцвейну казалось, что машина движется не так бодро, как раньше — он пытался угадать, сколько времени еще проработает двигатель. Но емкость аккумуляторов была неизвестна, неизвестно было и оставшееся расстояние до лагеря. По самой грубой оценке, ехать нужно было еще не меньше дня, но не больше трех-четырех дней.
Всюду расстилался мох — ровный, губчатый, влажный, местами почти незаметно переходивший в болото. Несколько раз машины пересекали большие лужи жидкой серой грязи. У одной такой лужи колонна остановилась — всем хотелось передохнуть и размять ноги.
Грязевой бассейн бугрился огромными смрадными пузырями, судорожно надувавшимися и лопавшимися с громкими маслянисто-всасывающими звуками. По краям бассейна гнездились колонии сочлененных пучками шоколадно-коричневых червей и быстро перекатывавшихся с места на место черных ворсистых колобков. И те и другие мгновенно погружались в грязь, если раздавался любой звук, не похожий на клокотание грязи. Этот факт заставил Этцвейна задуматься — вокруг, казалось бы, не было естественных врагов, заставлявших прятаться или защищаться существа, облюбовавшие грязевые ванны. Этцвейн знал, что над моховыми болотами не водились хищные птицы, летающие рептилии или крылатые насекомые.
Под рваным краем гниющей подушки черного мха в полутора метрах от грязевой лужи он обнаружил, однако, многочисленные маленькие норы — к ним вели узкие двойные дорожки свежих отпечатков крохотных трехпалых ног. Нахмурившись, Этцвейн с подозрением изучал следы. Из норки высунулось и сразу юркнуло обратно лиловато-бурое насекомое: асутра, еще не достигшая зрелости. Встревоженный Этцвейн брезгливо отступил на шаг. Как могли расы, сложившиеся в несовместимых условиях — человек и асутра — понимать друг друга, чувствовать какую-то симпатию друг к другу? Этцвейн не допускал такой возможности. Нейтралитет на основе взаимного отвращения? Может быть. Сотрудничество? Никогда!
Колонна продолжала путь. Теперь некоторые машины то и дело замедлялись, рывками опускаясь и приподнимаясь на виброподушках. Наконец одна упала на мох и отказалась двигаться дальше. Этцвейн посадил ее водителя верхом на саламандру, казавшуюся самой прыткой, и марш-бросок голодных бойцов возобновился.
После полудня еще две машины устало опустились на мшистую подстилку. Становилось ясно, что через несколько часов истощатся аккумуляторы всех штурмовых машин. Впереди снова показалась темная возвышенность, казавшаяся ниже знакомого гребня к северу от лагеря. «Если это опять не те холмы, — с тоской подумал Этцвейн, — мы никогда не доберемся до бараков. У нас просто не хватит сил пройти пешком шестьдесят или семьдесят километров».
Колонна повернула ближе к трясине, чтобы объехать крутую гряду, но крайний холм заканчивался отвесным утесом, торчавшим уже посреди болота. Пришлось преодолевать хребет.
Вверх по крутому склону ползли стонущие, оседающие машины-саламандры. Этцвейн первым перевалил через гребень, и его глазам открылся вид на юг... Под холмами ближе, чем в восьми километрах, раскинулся знакомый лагерь. Густой торжествующий рев вырвался из полусотни луженых глоток: «Лагерь! Вниз, к баракам! Там еда — хлеб, горячая баланда!»
Пошатываясь от напряжения, Этцвейн выбрался из-под люка своей машины: «Погодите, погодите! Глупцы! Вы забыли о нашем плане?»
«Чего тут ждать? — хрипел Сул. — Смотри! На дворе больше нет звездолета — все, он улетел! Даже если бы он там был, твой план никуда не годится. Нужно поесть и напиться. Все остальное не имеет смысла. Поехали в лагерь!»
Этцвейн не сдавался: «Нет, постойте! Мы слишком много страдали, чтобы теперь распрощаться с жизнью ни за что ни про что. Верно, звездолета нет. Но мы должны захватить лагерь, а для этого нужно напасть врасплох! Подождем до вечерних сумерек. А до тех пор сдерживайте свой голод».
«Я терпел всю дорогу, возвращаясь черт знает откуда, не для того, чтобы снова терпеть!» — заявил Сул.
«Терпи или умри! — зарычал Корба. — Когда лагерь будет наш, набьешь себе брюхо. А сейчас настало время показать, что мы люди, а не рабы!»
Старый Сул больше не спорил. Опустив пепельно-бледное лицо, он присел на край машины, что-то беззвучно бормоча сухими посеревшими губами.
Сверху лагерь выглядел непривычно затихшим, даже полузаброшенным. Несколько женщин выполняли повседневную работу. Из дальних бараков показались двое кха. Бесцельно побродив туда-сюда, они снова зашли внутрь. Двор пустовал — бригады не занимались гимнастикой. В гараже было темно.
Корба прошептал: «Лагерь опустел — нас никто не остановит».
«Подозреваю неладное, — так же тихо откликнулся Этцвейн. — Странное спокойствие».
«Думаешь, нас ждут?»
«Не знаю, что думать. Все-таки нужно подождать до темноты — даже если в лагере остались трое кха и дюжина старух, нельзя допустить, чтобы они успели передать сигнал тревоги».
Корба крякнул.
«Уже смеркается, — продолжал Этцвейн. — Через час мы сможем подъехать незаметно».
Повстанцы ждали, переговариваясь и указывая друг другу на памятные уголки лагерной зоны. В бараках зажглись фонари. Этцвейн повернулся к Корбе: «Ты готов?»
«Готов».
«Помни: мой отряд атакует бараки кха с фланга, а вы подъезжайте ко двору спереди — и подавляйте любое сопротивление!»
«Ясное дело».
Машины Этцвейна и половины других бойцов — темные, невидимые на фоне черного мха — спустились по боковому склону плеча, выступавшего из гряды холмов. Корба подождал пять минут и двинулся со своим отрядом прямо вниз, напрямик к обращенному в сторону возвышенности лагерному двору. Группа Этцвейна — на машинах, едва волочившихся по мху на теряющих стабильность подушках — обогнула с тыльной стороны шишковатые белые строения, где обосновались кха.
Бойцы ворвались в бараки и напали на семерых кха, собравшихся в одном помещении. Ошеломленные или просто безразличные, кха почти не сопротивлялись. Через пару минут их всех уложили на пол, крепко связанных ремнями. Люди, ожидавшие отчаянной битвы и не встретившие отпора, в замешательстве потеряли голову и стали вымещать раздражение, яростно пиная беззащитных одноглазых надзирателей. Этцвейн с трудом остановил их: «Что вы делаете? Они такие же жертвы, как мы с вами! Убейте захребетников, но зачем же калечить кха? Это бессмысленно!»
Прекратив избиение, повстанцы оторвали насекомых, гнездившихся под затылками кха, и раздавили их. Процесс сопровождался глухими шипящими стонами пленников, явно испытывавших ужас.
Этцвейн отправился на поиски Корбы. Другой отряд уже захватил гаражи и склады провианта, а также пункт связи, где были найдены еще четверо кха. В отсутствие Этцвейна нападавших ничто не сдерживало, и троих циклопов уже забили насмерть кольями, вырванными из оград. Больше никто не сопротивлялся — повстанцы заняли лагерь с удивительной быстротой. Многих бойцов, так и не сумевших разрядить непосильное нервное напряжение, тошнило на пустой желудок. Опустившись на колени, они сотрясались мучительными потугами, кашляя и тяжело дыша. У Этцвейна тоже начался странный звон в ушах. Он приказал остававшимся в лагере женщинам немедленно подать горячую еду и питье.
Люди поели — не торопясь, с благодарностью судьбе, удивленно обсуждая невероятную легкость победы. Никто не веселился — все слишком устали, да и ситуация скорее озадачивала, нежели воодушевляла.
Насытившись, Этцвейн ощутил непреодолимую сонливость. Ему стоило большого труда не свалиться прямо под стол. Заметив стоявшую поодаль старуху Кретцель, он подозвал ее и спросил: «Куда подевались кха? Их тут было сорок или пятьдесят, а мы нашли только одиннадцать».
Огорченно всплеснув руками, переводчица пожаловалась: «Кха улетели на корабле, тому уже два дня. Какой тут был переполох, ты бы видел! Случилось что-то важное. К добру или не к добру — кто их знает?»
«А когда вернется этот корабль — или другой?»
«Мне никто ничего не объяснял».
«Давай-ка расспросим кха».
Они направились к баракам, где лежали связанные надзиратели. Десять часовых, столь предусмотрительно расставленные Этцвейном, сладко спали, все как один. Кха не преминули воспользоваться этим обстоятельством, лихорадочно пытаясь избавиться от пут. Этцвейн растолкал спящих пинками: «Вот так вы заботитесь о своей безопасности! Спите, как мертвые! Еще минута — и вы бы уже не проснулись!»
Старый Сул, один из бдительных часовых, угрюмо возражал: «Ты сам сказал, что они такие же жертвы, как мы. По справедливости, кха должны быть нам благодарны за освобождение».
«Именно это я и собираюсь им объяснить, — заявил Этцвейн. — Тем временем, с их точки зрения мы — озверевшие беглецы, напавшие на них и связавшие их ремнями».
«Вот еще! — бормотал Сул. — Не поспеваю я за твоими рассуждениями. Языком трепать ты горазд, нечего сказать».
Этцвейн приказал: «Затяните ремни потуже!» Обратившись к Кретцель, он продолжил: «Объясни кха, что мы не желаем им зла и считаем, что асутры — наш общий враг».
Кретцель в замешательстве всматривалась Этцвейну в лицо — по-видимому, она находила его просьбу нелепой и бессмысленной: «Зачем ты хочешь, чтобы я им это говорила?»
«Чтобы они нам помогли — или по меньшей мере не мешали».
Старуха покачала головой: «Я сыграю, но они не обратят особого внимания. Ты не понимаешь кха». Переводчица достала двойную свирель и насвистела несколько фраз. Кха прислушались, но поначалу не отреагировали. Помолчав несколько секунд, они обменялись дрожащими трелями и глиссандо, похожими на далекий щебет поссорившихся птенцов.
Этцвейн с сомнением разглядывал одноглазых пленников: «Что они говорят?»
Кретцель пожала плечами: «Они поют в «иносказательном» стиле — меня такому не учили. В любом случае, по-моему, они тебя не поняли».
«Спроси их — когда вернется корабль?»
Кретцель рассмеялась, но послушалась. Каждый из циклопов молча смотрел на нее немигающим радужным глазом. Через некоторое время один кха что-то быстро чирикнул и снова замолчал. Этцвейн вопросительно взглянул на переводчицу.
«Это отрывок из напева 5633 — ссылка на глупую шутку, поставившую всех в неудобное положение. Ответ можно перевести, как насмешку. Кха спрашивает: какое тебе дело? Зачем тебе, человеку, об этом знать?»
«Понятно, — кивнул Этцвейн. — Они не желают заниматься практическими вопросами».
«Кха достаточно практичны, — возразила Кретцель. — Но ситуация недоступна их пониманию. Помнишь ахульфов?»
«Конечно».
«Для кха люди — что-то вроде ахульфов. Непредсказуемые, смышленые, но неразумные твари с врожденной склонностью к непостижимым выходкам».
Этцвейн недоверчиво хмыкнул: «Спроси их еще раз. Пообещай, что их освободят, когда корабль вернется».
Кретцель сыграла на свирели довольно сложный пассаж. Последовал небрежный краткий ответ: «Через несколько дней прибудет звездолет с новой партией рабов».
Глава 10
Восставшие рабы приобрели кров и пищу. Все понимали, однако, что передышка наступила ненадолго. Некий Джоро предлагал устроить за холмами тайник и перевезти туда запасы провианта. Таким образом он надеялся выжить до тех пор, пока не подвернется возможность устроить еще одно ограбление лагеря: «Мы отсрочим свою гибель на несколько месяцев. Кто знает, что произойдет за это время? Может быть, прилетят наконец спасательные корабли с Земли!»
Этцвейн горько рассмеялся: «Теперь я хорошо усвоил то, что должен был понимать с пеленок — тот, кто не заботится о себе сам, умирает рабом. Это неопровержимая аксиома. Никто нас не спасет. Если мы останемся в лагере, нас, скорее всего, перебьют как скотину через пару дней. Если мы убежим и будем прятаться на моховых лугах, протянем месяца два — в промокшей одежде, дрожа от холода — а потом нас все равно прикончат. Придерживаясь первоначального плана, мы в лучшем случае захватим огромное преимущество, а в худшем — умрем достойно, как подобает людям, причинив врагу столько вреда, сколько в наших силах».
«Наилучший вариант маловероятен, наихудший — почти неизбежен, — брюзжал Сул. — Я устал от сказочных проектов».
«Поступай согласно своему разумению, — вежливо отвечал Этцвейн. — Если тебе так хочется, отправляйся за холмы. Тебя никто не держит».
Корба сухо заметил: «Пусть каждый, кто желает уйти, уходит сейчас, не откладывая. Остальным предстоит много работы, а времени и так уже в обрез».
И Сул, и Джоро, тем не менее, предпочли остаться в лагере.
Как-то днем к Этцвейну подошла Руна Ивовая Прядь: «Помнишь меня? Мы с тобой подружились на стоянке алулов. Может быть, в тебе еще теплится огонек той дружбы? Я, наверное, поседела от рабской жизни, покрылась морщинами. Как ты думаешь?»
Этцвейн, поглощенный сотнями забот, смотрел вдаль, стараясь придумать подходящий, ни к чему не обязывающий ответ. Наконец он сказал с невольной сухостью: «Для девушки на этой планете привлекательность хуже уродства».
«А! Уродство было бы спасением! Когда-то мужские руки тянулись со всех сторон, чтобы скинуть с моей головы тюбетейку, и я была счастлива — хотя и притворялась, что сержусь. А теперь, даже если я начну танцевать голая посреди двора, на меня никто не взглянет!»
«Уверен, что внимание ты привлечешь, — успокоил ее Этцвейн. — Особенно если хорошо станцуешь».
«Издеваешься? — печально спросила Руна. — Почему ты не хочешь меня утешить — обнять, улыбнуться? Смотришь на меня так, будто я жирная баба с носом картошкой!»
«Я не смеюсь, у меня и в мыслях этого не было, — заверил ее Этцвейн. — Но ты должна меня извинить — нужно готовиться».
Прошло еще двое суток. Напряжение росло с каждым часом. Утром третьего дня над южной трясиной появился звездолет-диск. Корабль приблизился и завис над лагерем. Поднимать тревогу или отдавать приказы не было нужды — все повстанцы заняли условленные позиции.
Звездолет висел, производя низкое гудение, заставлявшее дрожать стены. Этцвейн, в гараже, покрылся холодным потом, представляя себе возможные варианты провала.
Откуда-то из корабля донеслось мягкое громкое уханье, через несколько секунд отразившееся эхом от холмов. Звуки прекратились, но звездолет продолжал висеть. У Этцвейна, надолго затаившего дыхание, начинали ныть легкие.
Корабль дрогнул и стал медленно опускаться на лысую площадку у мощеного двора. Этцвейн выдохнул и чуть наклонился вперед. Наступал критический момент.
Когда звездолет прикоснулся к обнаженной почве, она заметно продавилась под его весом. Прошла минута, другая. Этцвейн боялся, что команда корабля заметит какую-нибудь мелочь, отсутствие какой-нибудь формальности... Люк открылся и лег на землю наклонной рампой. Из корабля спустились двое кха, каждый с асутрой, оседлавшей тыльную сторону шеи наподобие крохотного темного жокея. Циклопы остановились у основания рампы, глядя на бараки. Спустились еще двое кха — все четверо стояли и ждали.
Из складского помещения выехала пара самоходных платформ — такова была обычная процедура после прибытия корабля. Платформы слегка повернули, чтобы проехать ближе к рампе. Этцвейн и еще три человека вышли из гаража ленивой походкой, будто бесцельно прогуливаясь, и направились к кораблю через двор. Другие небольшие группы повстанцев появились в разных концах лагерной территории, постепенно приближаясь к звездолету.
Передняя платформа остановилась. С нее соскочили четверо людей — и тут же набросились на четверых кха. Еще четверо, со второй платформы, подбежали с ремнями наготове. Повстанцы договорились по возможности не убивать кха, чтобы остался кто-то, способный управлять звездолетом. Пока восемь человек боролись с четырьмя жилистыми циклопами у основания рампы, Этцвейн и его отряд забежали по рампе в корабль.
Команда звездолета состояла из четырнадцати кха и двух дюжин захребетников. Некоторые асутры безжизненно плавали в стеклянных сосудах, похожих на кювету, найденную Ифнессом и Этцвейном в отвалившемся отсеке корабля под Три-Оргаем. Стычка у рампы продолжалась недолго. Остальные кха и асутры практически не оказали сопротивления. Кха казались оцепеневшими от неожиданности или просто уставшими и сонными — понять их ощущения было невозможно. Угадать отношение хозяев-насекомых к происходящему было труднее, чем заставить камень разговориться. Освобожденных рабов снова раздражал излишек неразряженного напряжения — как атлета, приготовившегося поднять тяжелую штангу и обнаружившего, что она бумажная. Несмотря на облегчение, они чувствовали себя обманутыми, радость победы омрачалась невозможностью выместить гнев.
В огромном центральном трюме ютились почти четыре сотни мужчин и женщин всех возрастов и сословий. По большей части они выглядели как удрученные, нездоровые бедняки.
Этцвейн не терял времени на рабов. Он собрал всех кха, вместе с асутрами, под куполом рубки управления. Приковыляла срочно вызванная Кретцель. «Переведи им мои слова, — сказал Этцвейн, — и убедись в том, что меня хорошо поняли. Мы хотим вернуться на Дердейн. Все, что от них требуется — отвезти нас на родную планету. Не больше и не меньше. После возвращения никакие требования предъявляться не будут. Им сохранят жизнь и отдадут звездолет. Если они откажутся отвезти нас на Дердейн, мы их убьем без промедления и без сожаления».
Кретцель нахмурилась, пожевала губами, потом вынула свирели и стала играть.
Кха никак не реагировали. «Они что, не понимают?» — нервно спросил Этцвейн.
«Понимать-то понимают, — вздохнула переводчица. — Решение уже принято, ответ последует. Это церемониальное молчание».
Один из кха, обратившись к Кретцель, насвистел несколько фраз в Первом стиле — нарочито-разборчиво, но с некой презрительной, даже издевательской небрежностью.
Кретцель обернулась к Этцвейну: «Нас отвезут на Дердейн. Корабль вылетит сейчас же».
«Спроси: достаточно ли на борту еды и питья?»
Кретцель повиновалась и получила ответ: «Он говорит, что запасов, конечно, хватит на один рейс».
«Скажи ему еще вот что. Мы принесли в корабль торпеды. Если нас попытаются обмануть, мы взорвем себя вместе с ними».
Старуха сыграла на двойной свирели. Кха безразлично отвернулись.
В жизни Этцвейна было много моментов торжества и радости, но никогда еще он не чувствовал такого восторга, как на пути домой, возвращаясь с дождливой черной планеты Кхахеи. Несмотря на усталость, он почти не спал. Не доверяя кха, он боялся их хозяев-паразитов и никак не мог поверить, что одержал окончательную победу. Среди сопровождавших его повстанцев надежным помощником он считал только Корбу и позаботился о том, чтобы он и Корба никогда не спали в одно и тоже время. Для того, чтобы поддерживать в соратниках постоянную бдительность, Этцвейн предупредил их, что асутры хитроумны, злопамятны и никогда не смиряются с поражением. В глубине души, однако, он уже верил, что его злоключениям пришел конец. Опыт научил его видеть в асутрах безучастных реалистов, незнакомых с такими эмоциями, как озлобление или жажда мести. После поражения рогушкоев в Шанте асутры с легкостью могли уничтожить Гарвий, Брассеи и Масчейн разрядами лучевых орудий, но не стали тратить время. По мнению Этцвейна, все указывало на то, что он добился невозможного без помощи неизъяснимого Ифнесса, и сознание этого факта придавало особый привкус его торжеству.
Этцвейн проводил много времени в рубке управления. В полете купол не позволял разглядеть ничего, кроме глухого мрака, время от времени смутно подергивавшегося чем-то вроде пенистых всплесков. Окружающие звезды изображались на панели управления маленькими черными кружками на светящемся ядовито-зеленом фоне. Три тесно расположенные черные точки, с каждым днем становившиеся крупнее и расползавшиеся в стороны, были обведены окружностью, как мишень. Этцвейн догадывался, что таким образом обозначались Сасетта, Эзелетта и Заэль.
Условия, царившие в трюме, производили подавляющее впечатление. Прозябавшие там пленники ничего не знали и знать не хотели о чистоте, порядке и личной гигиене — трюм вонял, как огромный нужник. Этцвейн узнал, что болыиинство рабов, очутившихся в звездолете, родились на Кхахеи и выросли в трудовом лагере. В те годы, когда асутры выводили рогушкоев, чудовищные эксперименты на людях считались заурядным делом, не нарушавшим ход повседневной жизни. Асутры, каковы бы ни были их достоинства, не проявляли ни брезгливости, ни жалости — Этцвейн предполагал, что эти ощущения свойственны исключительно людям. Он пытался возбудить в себе сострадание к рабам, но смрад и бедлам в трюме практически не позволяли что-нибудь сделать. По прибытии на Дердейн этому человеческому скоту суждено было провести остаток жизни в нищете и унижении. Некоторые, наверное, предпочитали даже вернуться «домой», на Кхахеи.
Звездолет дрейфовал в космосе. Сверху танцевали три солнца, внизу пестрела островами облаков дымчатая, серовато-фиолетовая поверхность Дердейна. По мере того, как корабль спускался, Этцвейн начинал узнавать привычные очертания — Бельджамарский архипелаг, острова Удачи, Шант и Паласедру, Караз — огромный, раскинувшийся на полмира континент.
Этцвейн нашел реку Кебу и озеро Ниор. Когда корабль опустился еще ниже, он смог различить вершины Три-Оргая и под ними излучину реки Вуруш. С помощью Кретцель он дал понять одноглазым навигаторам, что желает приземлиться в Шахфе. Звездолет опустился на пологий склон к югу от селения. Откинулись люки-рампы. Шатаясь и спотыкаясь, ослепленные сиянием дня люди расходились по сухой каменистой земле родной планеты. Каждый нес котомку еды и столько металла, сколько мог поднять — достаточно, чтобы безбедно прожить многие годы на обделенном рудами Дердейне. Этцвейн взял тридцать стержней блестящего красноватого сплава из двигательного отсека. По его представлениям такого богатства должно было хватить с лихвой на оплату возвращения в Шант.
Подозрительный до конца, Этцвейн настоял на том, чтобы кха вышли из корабля и оставались снаружи, пока все люди не разойдутся. «Вы привезли нас на Дердейн, — сказал он им. — Нам не нужен ваш звездолет, нам больше ничего от вас не нужно. Но что помешает вам сжечь беглецов лучами лилового огня?»
Кретцель передала ему ответ упрямо стоявших кха: «Вы нам тоже не нужны ни живые, ни мертвые. Убирайтесь из корабля!»
Этцвейн пригрозил: «Либо выходите на равнину, либо мы оторвем и раздавим ваших захребетников — похоже на то, что вы их очень цените и уважаете. Мы не для того страдали, рисковали и надеялись, чтобы сделать глупость и попасть под расстрел в последнюю минуту».
В конечном счете восемь кха согласились покинуть корабль. Этцвейн с отрядом единомышленников отвели их на полтора километра вверх по склону и там отпустили. Циклопы спокойными шагами направились обратно к звездолету. Тем временем Этцвейн и его товарищи нашли укрытие и спрятались среди скал. Как только кха взобрались по рампе и люк закрылся, бронзовый диск взмыл в воздух. Этцвейн следил за уменьшающимся блестящим блюдцем, пока оно не исчезло в слепящей сиреневой бездне неба. Только тогда какой-то тугой узел развязался у него в груди — Этцвейн поверил, что вернулся на Дердейн. Колени его подкосились, он присел на камень. Невероятная, смертельная усталость нахлынула волной, из глаз покатились горячие слезы.
Глава 11
В Шахфе прибытие толпы людей, тащивших сокровища, вызвало беспорядки и излишества. Одни перепились до бесчувствия медовухой из погреба Быббы, другие азартно торговались с кащами из клана Синих Червей, все еще рыскавшими по окрестностям. Всю ночь продолжались шумные перепалки — угрозы и проклятия перемежались пьяными рыданиями и возгласами боли. Наутро нашли не меньше дюжины трупов. Как только начало рассветать, группы земляков отправились в родные края — кто на север, кто на восток, на юг и на запад. Не попрощавшись с Этцвейном, алулы уходили к берегам озера Ниор. Руна Ивовая Прядь бросила взгляд через плечо — Этцвейн встретился с ней глазами, но так и не понял, что она хотела передать загадочным взглядом. Когда отряд кочевников исчез в пыльном зареве солончаковой пустоши, Этцвейн отыскал на постоялом дворе трактирщика Быббу.
«У меня к вам два вопроса, — сказал Этцвейн. — Во-первых, где Фабраш?»
Быбба отвечал уклончиво и неопределенно: «Кто следит за каждым бродягой? С работорговлей покончено. Старые рынки пустуют, Хозман Хриплый пропал без вести. Все разорились, обнищали. Как Фабраш соизволит появиться, так вы его и найдете. Никогда не знаешь, куда он запропастился и когда вернется».
«Я не могу ждать, — возразил Этцвейн, — в связи с чем должен перейти ко второму вопросу. Где мой быстроходец? Я хочу, чтобы его немедленно оседлали и приготовили в дорогу».
Быбба изумленно выпучил глаза: «Ваш быстроходен? Что вы мне сказки рассказываете! Слыхом не слыхивал ни про каких ваших быстроходцев!»
«Ошибаетесь! — резко сказал Этцвейн. — Мой друг Ифнесс и я привели в ваше заведение быстроходцев и оставили их на ваше попечение. Будьте добры вернуть, по меньшей мере мне, не принадлежащее вам имущество».
Трактирщик недоуменно покачал головой и поднял глаза к небу, всем своим видом выражая целомудренное неведение: «В ваших краях, может быть, какие-то свои обычаи. У нас в Шахфе все руководствуются практическими соображениями. Дарованное добро возвращению не подлежит».
«Дарованное добро, говорите? — Этцвейн заметно помрачнел. — Видать, вы не прислушивались к тем, кто вчера вечером платил за выпивку металлом? Вам не рассказывали об отчаянных храбрецах, захвативших звездолет, чтобы вернуться на Дердейн? Вы что думаете, я потерплю мелкое воровство? Приведите быстроходна, или я вам устрою такую взбучку, что вас мать родная не узнает!»
Седовласый Быбба невозмутимо достал из-за стойки дубинку: «Взбучку, значит, устраивать вознамерился? Я тебя проучу, птенец желторотый! Не таких еще колачивал на своем веку! Вон из трактира и проваливай из Шахфе!»
Этцвейн извлек из поясной сумки небольшой лучевой пистолет, давным-давно полученный от Ифнесса — на Кхахеи никто не отобрал у него это оружие, хотя случая воспользоваться им так и не представилось. Направив разрядник на окованный железом кассовый сундук трактирщика, Этцвейн прикоснулся к спусковой кнопке. Вспышка, взрыв, крик ужаса! Оцепеневший Быбба уставился на большое пятно почерневшей, обожженной глины — туда, где в углу только что стоял сундук, полный наторгованного металла. Этцвейн протянул руку, отнял у трактирщика дубинку и огрел его по спине: «Быстроходна, живо!»
Оплывшее лицо Быббы заострилось от злобы и страха: «Ты уже лишил меня всего накопленного многолетним трудом! А теперь хочешь отнять последнее?»
«Никогда не обманывай честного человека! — заявил Этцвейн. — Такой же вор, как ты, посочувствовал бы твоей потере. Мне до нее нет дела. Верни мое имущество!»
Сдавленным, дрожащим от ярости голосом Быбба приказал вертевшемуся поблизости пареньку-служке привести оседланного быстроходна. Тем временем Этцвейн вышел на задний двор, где обнаружил сидевшую на скамье старуху Кретцель. «Что ты тут делаешь? — спросил Этцвейн. — Я думал, ты уже на пути к Элыпукайским прудам!»
«Путь далек, — прошепелявила старуха, натягивая на плечи рваную накидку. — Я припрятала кусочек-другой металла, на пропитание хватит до поры до времени. Кончится металл — потащусь на юг. Только я не дойду. Не приведется мне повидать зеленые луга за чистыми прудами. А если даже дойду, кто вспомнит девчонку, украденную Мольском?»
«А Великая Песнь? Кто в Шахфе поймет, о чем ты играешь на своих свирелях?»
Кретцель пригнулась, чтобы солнечные лучи падали на костлявые плечи: «Великая Песнь! История далекого мира. Наверное, забуду я ее. А может быть и нет. Как-нибудь посижу на солнышке, согреюсь... да сыграю на свирели про славные дела минувших дней — и ни одна душа не разберет, чего это я играю? Хе-хе».
Привели быстроходна — тщедушное животное, ничем не напоминавшее статного породистого вола, на котором Этцвейн приехал в Шахфе. Изношенная сбруя и потертое седло тоже не радовали глаз. Этцвейн указал на эти очевидные недостатки, и паренек принес ему в качестве возмещения пару мешков муки и мех с медовухой.
Этцвейн заметил знакомое лицо — поодаль у стены кабака стоял Гульше, хмуро и внимательно наблюдавший за приготовлениями в дорогу. «Сорух послужил бы хорошим проводником, — подумал Этцвейн, — но как только я засну, он препроводит меня на тот свет». Такая перспектива заставила Этцвейна невольно вздрогнуть. Он попрощался с Гульше галантным взмахом руки и вскочил в седло. Несколько секунд он сидел и смотрел вниз, на Кретцель. Сколько драгоценных познаний хранила ее дряхлая голова! Он никогда ее больше не увидит, а вместе с Кретцель умрет история целого мира... Старуха подняла глаза, их взгляды встретились. Этцвейн отвернулся, чтобы скрыть накатившиеся слезы жалости. Так он уезжал из Шахфе — в спину ему смотрели разбойник Гулыпе и переводчица Кретцель, один с упрямой ненавистью, другая с прощальным сожалением.
Через четыре дня быстроходец взобрался на выступающий из равнины гребень песчаника, и Этцвейн увидел внизу струящееся полотно Кебы. Шиллинск, по его приблизительным расчетам, находился где-то южнее, так как он потерял дорогу, пересекая равнину Лазурных Цветов. И действительно, километрах в восьми выше по течению Этцвейн заметил выступающий из-за мыса портовый причал Шиллинска. Подбодрив быстроходца стременами, он спустился по склону и повернул на юг.
Постоялый двор в Шиллинске не изменился с тех пор, как он его покинул. У причала не было ни грузовых судов, ни барж, но Этцвейн не слишком торопился — в Шиллинске было тихо и спокойно, а он ничего так не хотел, как покоя и тишины.
Когда Этцвейн вошел в трактир, хозяин наводил лоск на свою стойку мешочком трепела и маслянистым лоскутком чумповой кожи. Он не узнал Этцвейна, и Этцвейн этому не удивился. В лохмотьях кхахейского раба он ничем не напоминал нарядного щеголя, приехавшего с Ифнессом в Шиллинск.
«Вы меня, наверное, не помните, — обратился к трактирщику Этцвейн. — Несколько месяцев тому назад я наведывался сюда с кудесником Ифнессом на волшебной лодке. Если не ошибаюсь, вам тогда пришлось пережить неприятный инцидент».
Хозяин поморщился: «Не стоит об этом напоминать. С кудесником Ифнессом шутки плохи. Кстати, когда он заберет свою лодку? Она все еще у причала».
Этцвейн широко открыл глаза: «Ифнесс не уехал на лодке?»
«Дверь открыта, смотрите сами — лодка там, где вы ее оставили», — подтвердил хромой трактирщик и с достоинством добавил: «В целости и сохранности, согласно полученным указаниям».
«Превосходно!» — Этцвейн был чрезвычайно доволен. В свое время он внимательно наблюдал за тем, как Ифнесс пользовался приборами управления, и представлял себе, как взойти на борт, не опасаясь удара электрическим током. Он указал на двор: «На привязи стоит быстроходен. Будьте добры, примите его в качестве вознаграждения за труды, вместе с седлом. Мне нужно только перекусить и переночевать. Завтра я отправлюсь дальше в лодке».
«Вы вернете ее Ифнессу?»
«По правде говоря, не имею ни малейшего представления о том, что с ним случилось. Он должен был давным-давно вернуться в Шиллинск и отплыть вниз по течению. Не знаю, жив ли он... Если Ифнесс все же здесь появится и спросит обо мне или о лодке, он будет знать, где меня найти».
Кудесник или нет, Ифнесс был человеком, а значит мог погибнуть. Между Шахфе и Шиллинском путника подстерегали сотни опасностей — чумпы, шайки обезумевших от голода ахульфов, разбойничьи банды, охотники за рабами... Следовало ли отправиться на поиски Ифнесса? Этцвейн глубоко вздохнул. Караз необъятен — зачем пускаться в заведомо безнадежное предприятие?
Хозяин постоялого двора приготовил сытный ужин: фаршированную речную рыбу под терпким зеленым соусом. Отдохнув, Этцвейн вышел к причалу посмотреть на реку в темнеющих лиловых сумерках. Шант и Гарвий были гораздо ближе, чем он надеялся.
Утром он подплыл к лодке на ялике и осторожно нажал на кнопку выключателя системы электрозащиты сухим концом деревянного весла, после чего, еще осторожнее, положил палец на планшир. Ни разрядов, ни фонтанов голубых искр, заставивших трактирщика плюхнуться в реку, не последовало.
Этцвейн привязал ялик к швартову и отчалил. Течение подхватило лодку, поплывшую на север и медленно отдалявшуюся от берега. Этцвейн поднял парус — Шиллинск скоро превратился в горстку игрушечных домиков на призрачносолнечном берегу.
Настало время решающего эксперимента. Этцвейн поднял крышку пульта управления и внимательно рассмотрел правильные ряды кнопок и круглых ручек. Напрягая память, он слегка повернул ручку, обозначенную крохотной непонятной надписью «Азсепзог». Лодка тихо взмыла в воздух, но ее сразу стало относить ветром к крутому берегу. Этцвейн поспешно опустил парус — день выдался спокойный, и столкновения удалось избежать.
Покрутив другие ручки, он быстро разобрался в их назначении. Описав широкую дугу, воздушная ладья полетела на восток, к Шанту.
Под килем проплывали сизые равнины и темно-зеленые болота. Впереди серебрилась река Бобол, за ней — полноводный Юсак.
Ночью Этцвейн достиг восточного побережья Караза — под ним шумел прибой Зеленого океана. На самом берегу мерцали редкие желтые огни какого-то селения. Впереди, в спокойных черных водах, радужными блестками отражались звезды.
Этцвейн сбавил скорость и заснул. Когда он открыл глаза, на юго-востоке в рассветных сумерках уже темнела земля Шанта.
Этцвейн пролетел высоко над кантонами Гитанеск и Фенеск и начал спускаться, когда показалось озеро Суалле. Уже можно было различить башни Гарвия — горсть сверкающих самоцветов. Берега сходились, вдали показались рыбацкие мачты. Этцвейн опустил лодку на воду, поднял парус и, пользуясь попутным ветром, устремился к столице, оставляя за кормой бурлящие струи.
Ветер, однако, скоро стих — лодка тихо скользила по почти зеркальному озеру. Разомлевший в полуденных лучах Этцвейн не видел нужды торопиться, ему даже претила мысль о том, что в какой-то момент придется привязать лодку к пристани и выйти на берег. «В эту минуту наступит конец моим приключениям», — думал он, охваченный странной грустью. Сколько бед он пережил, сколько дней провел в черной тоске! Но он взял от жизни все, что мог, невероятно расширив кругозор и обогатив представления.
Лодка плыла по безмятежным водам, и башни Гарвия уже высились, как гордые часовые в праздничных регалиях. Берег встречал Этцвейна знакомой картиной — среди хмурых портовых зданий и складов он узнал ветхий крытый причал, где Ифнесс прятал свою лодку. Этцвейн круто повернул румпель — вода слегка забурлила. Этцвейн опустил парус, и лодка нежно прикоснулась к причалу.
Крепко привязав швартовы, Этцвейн поднялся по тропе на дорогу и остановил проезжавший дилижанс. Кучер поглядывал на него с подозрением: «Чего тебе? Милостыни от меня не дождешься, сам побираюсь. Дальше, по дороге в город, странноприимный дом — туда и обращайся».
«Я не прошу милостыни, мне нужно в город, — отвечал Этцвейн, забираясь в дилижанс. — Отвезите меня в гостиницу «Фонтеней» на проспекте Галиаса».
«Как насчет оплаты?»
«С собой у меня денег нет, но когда мы приедем в гостиницу, вам заплатят — даю вам слово».
Дилижанс тронулся. Этцвейн пересел поближе к козлам: «Что делается в Гарвии в последнее время? Меня не было в городе несколько месяцев».
«Ничего особенного. Обе палаты, и Зеленая, и Пурпурная, взяли и обложили всех налогами. У них теперь, видите ли, грандиозные планы почище тех, что при Аноме... Без ошейника оно приятнее, конечно, хотя в нашем деле и простудиться недолго — но патриции и кантональные власти хотят, чтобы я за свободу платил. Спрашивается, что лучше: дешевое послушание или разорительная независимость?»
Начинало темнеть. Дилижанс катился по вечерним улицам, казавшимся узкими и причудливо-старомодными, до боли знакомыми и в то же время чужими, неприветливыми. На Кхахеи Гарвий был туманной мечтой — но стеклянный город, вопреки всему, существовал. Здесь, в Гарвии, планета кха представлялась кошмарной абстракцией — но она, тем не менее, существовала. Где-то еще, в пучине космоса, должен был существовать мир, населенный людьми из черных шаров-звездолетов. Но Этцвейн чувствовал, что убедиться своими глазами в реальности этого отдельного существования ему уже не приведется.
Дилижанс остановился перед гостиницей «Фонтеней». Кучер вызывающе смерил Этцвейна глазами: «А теперь будьте добры заплатить».
«Одну минуту!» — Этцвейн зашел в таверну. Владелец заведения расположился за столом, строго, но с одобрением посасывая вино из собственного погреба. Нахмурившись, хозяин воззрился на представшее перед ним привидение в грязных лохмотьях, но быстро узнал Этцвейна. Последовал изумленный возглас: «Надо же! Гастель Этцвейн нарядился нищим! У нас сегодня карнавал?»
«Карнавал не предвидится — я вернулся из поездки, полной неожиданных приключений. Сделайте одолжение, заплатите докучливому кучеру. Кроме того, я срочно нуждаюсь в комнате, ванной, цирюльнике и чистой одежде. Хорошо пообедать тоже не помешает».
«С величайшим удовольствием предоставлю вам все, что пожелаете!» Хозяин щелкнул пальцами: «Эй, Джаред! У нас остановится Гастель Этцвейн — позаботься!» Снова повернувшись к Этцвейну, он спросил заговорщическим тоном: «Угадайте, кто у нас сегодня играет? Придет через полчаса!»
«Друидийн Дайстар?»
«Увы! Нет, не Дайстар. Фролитц и его «Розово-черно-лазурно-глубокозеленая банда»!»
«Рад слышать! — от всего сердца сказал Этцвейн. — Именно Фролитца мне больше всего хотелось повидать».
«Ну так что же, устраивайтесь поудобнее. Чует мое сердце, вечер удастся на славу!»
Этцвейн мылся с остервенением — впервые с тех пор, как он отправился в порт из гостиницы «Фонтеней», ему привелось погрузиться в горячую ванну. Принесли свежее белье и новый костюм. Цирюльник подстриг и побрил его. Что делать с вонючими лохмотьями? Этцвейн хотел было сохранить их как сувенир, но, поразмыслив, выкинул тряпье в мусорный ящик.
Спустившись в зал таверны, он обнаружил Фролитца, оживленно беседовавшего с хозяином гостиницы. Увидев Этцвейна, старый музыкант вскочил и обнял его: «Вернулся, негодник! Где ты пропадал столько времени? Говорят, искал приключений и нашел по заслугам? Вечно тебе не терпится мутить воду где-нибудь у черта на рогах! А теперь, смотри-ка — возмужал и... как бы это сказать? Полон таинственных истин! Какую музыку ты играл и кому?»
Этцвейн рассмеялся: «Я выучил двадцать первых напевов Великой Песни — а всего их четырнадцать тысяч!»
«Ну-ну! Лиха беда начало! Мне пришлось нанять другого хитаниста, смышленого парня из кантона Язычников, но ему не хватает беглости. Не думаю, что он когда-нибудь научится по-настоящему играть. Если ты вернешься на старое место, Чаддо возьмет кулисный контрабас. Как по-твоему?»
«Во-первых, сегодня я не смогу играть — если я заиграю, вы своим ушам не поверите! Во-вторых, я проголодался, как зверь. В Каразе я питался одной зерновой кашей. В-третьих... в-третьих ничего. Будущее зияет пустотой».
«Посторонние интересы вечно отвлекают тебя от музыки! — назидательно произнес обиженный Фролитц. — Полагаю, ты явился сюда не играть, а судачить со своим компаньоном — не помню, как его зовут. Я его частенько вижу последнее время... Помяни черта! Вот он идет собственной персоной — как всегда, к дальнему столику в углу. Советую тебе игнорировать этого типа».
«Непременно последую вашему совету, — пообещал Этцвейн, не в силах скрыть напряжение в голосе. — Тем не менее, я должен перемолвиться парой слов с Ифнессом и присоединюсь к вам позднее».
Лавируя между столами, Этцвейн направился к нише стеклянной стены слева от входа в таверну и встал напротив землянина: «Никак не думал, что встречу вас здесь».
Ифнесс Иллинет вопросительно поднял спокойные серые глаза и коротко кивнул: «А, Этцвейн! Вы меня застали в неудобный момент. Я спешу. Быстро пообедаю и сразу уеду».
Этцвейн опустился на стул и долго всматривался в строгое лицо историка, будто пытаясь высосать глазами тайны, хранившиеся под копной белых волос: «Ифнесс, один из нас сошел с ума. Вы или я?»
Землянин раздраженно отмахнулся: «По существу это не имеет значения. В любом случае наши мнения одинаково разойдутся. Но, как я уже сказал...»
Этцвейн не слушал его: «Вы помните обстоятельства, в которых мы расстались?»
Ифнесс нахмурился: «Почему бы я их забыл? События имели место в северной части центрального Караза — не могу точно сказать, на какой день после нашего прибытия. Насколько я понимаю, вы занялись космическим пиратством, чтобы заслужить расположение девицы из варварского племени — или что-то в этом роде. Кажется, я предупредил вас об опасности такой авантюры».
«В общем и в целом так оно и было. При этом вы обещали организовать спасательную экспедицию».
Официант поставил перед историком супницу. Приподняв крышку, Ифнесс Иллинет понюхал содержимое, помешал его половником и наполнил тарелку горячим зеленоватым супом из моллюсков и душистых водорослей, после чего слегка нахмурился и вернулся к разговору, заметив отвлеченным тоном: «Так о чем же мы? Да, об обстоятельствах... К числу обстоятельств относились кочевники-алулы и некто Хозман Хриплый. Руководствуясь галантными побуждениями, вы изъявили желание захватить космический челнок неизвестной конструкции и освободить красотку, пленившую ваше воображение. Я выразил свое мнение, посоветовав вам отказаться от непрактичного, по сути дела самоубийственного плана. Рад видеть, что вы последовали моему совету».
«Я запомнил происходившее несколько иным образом, — возразил Этцвейн. — Я предложил захватить челнок. Вы заметили, что такое приобретение заинтересовало бы земных специалистов, и что спасательный корабль сможет прибыть через две-три недели».
«Совершенно верно. Я затронул этот вопрос в разговоре с Дасконеттой. С его точки зрения подготовка подобных операций выходила за рамки полномочий, возложенных на него Институтом, и на этом обсуждение закончилось». Историк попробовал суп и посыпал его щепоткой тертого сухого перца: «Так или иначе, конечный результат оказался не менее удовлетворительным, и вам больше не о чем беспокоиться».
Этцвейн с трудом сдерживал нараставший гнев: «Каким образом результат «оказался не менее удовлетворительным», если асутры погрузили нас, вместе с рабами, в звездолет и увезли на далекую планету?»
«Я выразился в самом широком смысле, — отвечал Ифнесс. — Меня самого работа завела в области, весьма далекие от первоначальных интересов». Историк взглянул на наручный хронометр: «У меня есть еще несколько минут. Асутры, привезенные мною с Дердейна, а также другие особи, были внимательно изучены. Если вас это интересует, могу поделиться результатами исследований».
Этцвейн откинулся на спинку стула: «Что ж, расскажите об асутрах».
Ифнесс неторопливо поглощал суп, аккуратно набирая ложку за ложкой: «Имейте в виду, что мои выводы лишь отчасти основаны на точных данных, полученных в ходе наблюдений и общения с подопытными экземплярами. Другими словами, рассматривайте их как наиболее вероятную гипотезу. Асутры — очень древняя раса, их история намного продолжительнее человеческой. Мы знаем, что эти паразиты — потомки более примитивных болотных членистоногих, по-видимому, тоже паразитировавших на других организмах. Асутры накапливают информацию в кристаллах, расположенных в брюшной полости. Эти кристаллы растут по мере роста асутры. Крупное брюшко означает, что асутра обладает существенными познаниями. Чем крупнее брюшко, тем выше ранг отдельной особи. Асутры способны общаться с помощью нервных радиочастотных импульсов, то есть телепатически. Группа особей, располагающих специализированной информацией, способна решать сложнейшие интеллектуальные задачи.
Общеизвестно, что мыслительные способности развиваются на протяжении периодов постоянного и продолжительного ухудшения условий обитания. Асутры производят и всегда производили невероятно многочисленное потомство — одна взрослая особь способна вынашивать около миллиона мальков. Каждый малек относится к одному из двух возможных типов, по-разному движущихся в воде. Для формирования жизнеспособного потомства необходимо соединение двух мальков разных типов. На ранней стадии развития асутры перенаселили болота. Количество паразитов значительно превысило количество доступных симбионтов, возникла жесткая конкуренция. Соревнование постепенно привело к одомашниванию симбионтов, к постройке своего рода загонов и яслей, а также к искусственному сдерживанию роста популяции самих паразитов.
Важно понимать, что асутры динамичны, что их побуждает к действию мощный психический стимул — почти сексуальное стремление обладать и управлять здоровым, способным к выполнению разнообразных функций симбионтом. Внутренняя необходимость паразитизма играет в асутрах фундаментальную роль, подобно стремлению растений поворачиваться навстречу солнечным лучам или стремлению человека искать съестное, когда он голоден. Только учитывая эту страсть к преобладанию над другим организмом, можно придти к какому-то отдаленному пониманию деятельности разумных паразитов. Следует отметить, что многие, если не все теории, первоначально выдвинутые нами в отношении асутр, оказались наивными и ошибочными. Рад возможности заявить, что мои исследования пролили свет на истинное положение вещей.
Завидное умственное развитие асутр, их способность к быстрому накоплению информации и, помимо прочего, врожденная предрасположенность к хищническому образу жизни сделали их историю сложным и драматичным процессом. Они пережили множество эпохальных перемен. Когда-то, очень давно, в их популяции преобладало стремление к созданию искусственных сред — химическому синтезу питательных веществ, электрическому возбуждению и удовлетворению стимулов, разработке воображаемых, полностью абстрактных отраслей знания. Наступил период апатии, когда асутры плавали в морях питательной взвеси, выделенной биомеханизмами. В другую эпоху асутры выводили оптимальных симбионтов, но раса генетических инженеров была захвачена и по большей части уничтожена более примитивными, но более активными асутрами-варварами, выходцами из первородных болот. Но цивилизация паразитов-варваров оказалась мертворожденной — они практически вымерли, а выжившие гибридные потомки обеих рас занялись межпланетными исследованиями.
На планете Кхахеи они обнаружили среду обитания, почти идентичную их собственной, причем кха оказались совместимыми симбионтами. Асутры установили контроль над Кхахеи, и с течением веков этот мир стал их второй отчизной.
Тем не менее, на Кхахеи асутры столкнулись с совершенно неожиданным и неблагоприятным для них обстоятельством. Мало-помалу кха приспособились к асутрам, и роли хозяина-паразита и носителя-симбионта начали меняться. Вместо того, чтобы оставаться преобладающим участником пары «хозяин-носитель», паразит стал постепенно переходить в подчиненное положение. Кха стали использовать паразитов в неподобающих, оскорбительных с точки зрения хозяев целях — например, в качестве узлов управления горнодобывающими машинами, обрабатывающими механизмами, транспортными средствами и так далее. В других случаях кха применяли матрицы соединенных разумных насекомых как вычислительные и справочно-информационные устройства. По существу именно кха, а не асутры, расширяли круг своих возможностей за счет асутр, а не наоборот. С точки зрения паразитов такое положение вещей было неприемлемо. Началась война, и асутры, оставшиеся на Кхахеи, были порабощены. С тех пор хозяевами стали кха, а слугами — их симбионты-насекомые.
Асутры, изгнанные с планеты кха, остро нуждались в новых подчиненных симбионтах. Они прибыли на Дердейн. Люди, населявшие эту планету, оказались не менее способными, надежными и производительными носителями, чем кха, и в то же время отличались большей управляемостью, не оказывая существенного сопротивления. Климат Дердейна, однако, слишком засушлив для водолюбивых паразитов. На протяжении двух или трех столетий асутры перевозили десятки тысяч людей на свою первую родную планету, «вживляя» их в чуждые человеку структуры существования. Но они не забывали о Кхахеи, манившей их идиллическими моховыми лугами и восхитительными трясинами. Паразиты развязали очередную войну, поставив своей целью полное уничтожение кха и используя людей в качестве пушечного мяса.
Кха никогда не были многочисленны и понимали, что длительная война на истощение рано или поздно привела бы к их полному вымиранию. Необходимо было каким-то образом отразить угрозу, найти средство против атакующей человеческой массы. В качестве эксперимента кха изобрели рогушкоев и высадили их на Дердейне, надеясь подорвать ресурсы паразитов, уничтожив рассадник их рабов. Как известно, эксперимент провалился. Естественно, кха пришло в голову применять людей как бойцов в войне с асутрами, но и в этом им не сопутствовала удача — их полки обученных воинов-рабов восставали и отказывались драться».
Этцвейн потребовал разъяснений: «Каким образом вы все это узнали?»
Ифнесс ответил безразличным жестом. Он уже покончил с супом и теперь поглощал мясное ассорти с пикулями: «Я воспользовался возможностями Исторического института. Между прочим, Дасконетта проиграл — мне удалось преодолеть его педантичную непреклонность и представить вопрос на рассмотрение Координационного совета, где мои взгляды получили поддержку энергичного большинства. Миры Ойкумены не могут допустить порабощения людей инопланетными расами — таков основополагающий принцип земной политики. Я сопровождал флотилию исправительного назначения в номинальной должности советника главнокомандующего, но фактически руководил экспедицией.
По прибытии на Кхахеи мы обнаружили, что обе стороны, кха и осаждающие их асутры, истощены и разочарованы бесконечной войной. Появление в уравнении сил третьей, неизвестной и опасной составляющей оказалось последней каплей, переполнившей чашу терпения. В северных широтах нам удалось прервать сражение звездолетов и принудить противников к прекращению военных действий — трудное, но справедливое решение. От кха мы потребовали сдачи всех паразитов и немедленной репатриации всех захваченных в рабство людей. Асутры прекратили попытки повторного захвата Кхахеи и тоже согласились вернуть всех симбионтов-людей на Дердейн. Таким образом было найдено элегантное, простое решение чрезвычайно сложной проблемы — решение, доступное пониманию всех вовлеченных сторон. Такова, вкратце, ситуация на данный момент». Ифнесс поднес к губам чашку чая из вербены.
Этцвейн сгорбился на стуле. Он вспоминал серебристобелые звездолеты, отогнавшие бронзовые диски кха от черных сферических кораблей, принадлежавших, оказывается, рабам паразитов из другого мира. С горькой насмешкой над собой он вспоминал объяснившиеся, наконец, оцепенение и беззащитность лагеря кха, иллюзорную легкость победы. Звездолет, захваченный повстанцами с мрачной решимостью борцов за правое дело, готовых погибнуть, но отомстить врагу — звездолет этот на самом деле прибыл, чтобы отвезти их обратно на Дердейн! Неудивительно, что кха практически не сопротивлялись!
Ифнесс Иллинет произнес тоном вежливо озабоченного врача: «Вы, кажется, огорчены. Мой отчет чем-то вас обидел или разочаровал?»
«Нет, конечно нет! — вздохнул Этцвейн. — Как вы изволили заметить, достоверная информация уничтожает массу заблуждений».
«Теперь вы понимаете, что я был поглощен важными приготовлениями и не мог посвятить достаточное время освобождению алулов. Надо полагать, они снова мирно кочуют по берегам Вуруша». Ифнесс взглянул на хронометр: «А вы чем занимались после того, как наши пути разошлись?»
«Мои приключения, пожалуй, несущественны, — сказал Этцвейн. — Претерпев некоторые лишения, я вернулся в Шиллинск. Кстати, ваша летающая лодка снова в Гарвийском порту».
«Очень любезно с вашей стороны. Дасконетта послал за мной в Шиллинск космомобиль, и я, разумеется, воспользовался случаем сэкономить время». Ифнесс снова посмотрел на хронометр: «Вы должны меня извинить, мне пора. Наше сотрудничество продолжалось много лет, но я сомневаюсь, что мы когда-либо встретимся еще раз. Я покидаю Дердейн и не намерен возвращаться».
Этцвейн печально откинулся на спинку стула и ничего не сказал. Он думал о далеких мирах, о полноводных реках и кочующих племенах. Он вспоминал ужас, царивший на борту транспортного звездолета, и смерть богатыря Каразана, он видел черный бархат моховых лугов и лилово-черную трясину Кхахеи, слышал голоса Половица и Кретцель... Ифнесс уже поднялся. Этцвейн задержал его: «В Шахфе осталась старая женщина по имени Кретцель. Она помнит четырнадцать тысяч напевов Великой Песни кха. Ее знания умрут вместе с ней».
«Вы правы, — нахмурился Ифнесс. — Я сообщу в лингвистический отдел, и с Кретцель проведут интервью — не сомневаюсь, что на выгодных для нее условиях. А теперь...»
Этцвейн выпалил: «Вам нужен помощник, связной?» Он не собирался ничего такого говорить — слова вырвались сами собой.
Улыбнувшись, Ифнесс покачал головой: «Я не могу назначать знакомых на должности. Это было бы непрактично. Гастель Этцвейн — прощайте!» Землянин вышел из гостиницы.
Одинокий и молчаливый Этцвейн просидел за столом минут пятнадцать, потом поднялся и подсел к другому столу около сцены. У него пропал аппетит, но он заказал бутыль крепкого вина. До его сознания дошло, что рядом играет музыка — Фролитц и «Розово-черно-лазурно-глубокозеленая банда» исполняли приятную, слегка печальную пьесу на мотив, заимствованный у горцев кантона Лор-Асфен.
Фролитц подошел к столу Этцвейна и положил руку ему на плечо: «Он уехал — ну и ладно. Чужестранец оказывал на тебя губительное влияние, ты даже о музыке позабыл. Теперь его нет, и все вернется на круги своя. Пошли, сыграешь на хитане!»
Этцвейн смотрел на дно бокала с прохладным вином, изучая отблески разноцветных огней: «Его нет, но сегодня играть я не могу — душа не лежит».
«Душа? — фыркнул Фролитц. — Кому нужна душа, как бы она ни лежала? Играют руками и головой, а заиграешь — мигом развеселишься».
«Так-то оно так. Но пальцы мои огрубели, забыли инструмент. Не хочу позориться. Сегодня посижу, послушаю, выпью пару бокалов вина, а завтра посмотрим». Этцвейн не отводил глаз от входной двери, хотя прекрасно знал, что Ифнесс никогда не вернется.