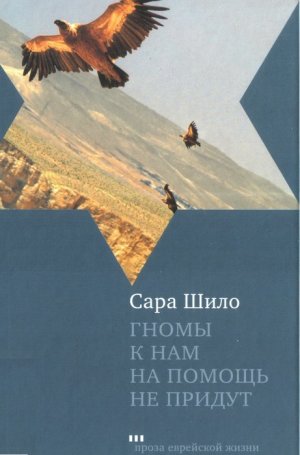
Симона Дадон
Кто бы мог подумать, что «катюша»[2] застанет меня на улице? Шесть лет я гулять не ходила, как робот жила. Дом — работа — базар. Дом — работа — дом. Поликлиника — дом — работа. И вот тебе на. Стоило Симоне один-единственный раз с протоптанной дорожки сойти, как ее раз — и «катюшей» накрыло.
Как всегда по вторникам, я оставила им на столе кускус с курицей, тыкву, хумус и все такое прочее. И вот «катюши» сыплются мне на голову, и о чем же она, моя голова, в это время думает? Успели, думает, они кускус съесть до того, как первая «катюша» упала, или же так, голодные, в бомбоубежище и спустились?
Я представляю себе, как они бегут в бомбоубежище и мысленно их пересчитываю: Коби, Хаим, Ошри, Эти, Дуди, Ицик. «Идите домой, — говорю я своим ногам, — идите домой!» Но они не идут.
Я сижу на качелях на детской площадке. Сижу себе на детских качелях, отталкиваюсь ногами от земли — и качаюсь. Вперед-назад, вперед-назад. А вокруг — тьма египетская. Когда упала первая «катюша», весь свет в нашем поселке сразу погас. Только в поселке на соседней горе огни еще горят. Во всех домах у них там свет есть, даже в курятниках. И в деревне по ту сторону границы тоже горит. Ну а я вот сижу себе здесь — и качаюсь. «Эй-симона-мона-из димуона. Эй-симона-мона-из димуона». А когда качели останавливаются, начинаю петь:
Пою и плачу…
Когда падает вторая «катюша», я ору. Падаю на землю и ору. Что есть мочи ору, но сама своего крика не слышу. Потому как не горло мое кричит — сердце кричит. Потом — живот. А когда выкрикиваюсь, меня рвать начинает. Лежу на земле и блюю. И в темноте даже не вижу, что выблевываю. Потом и блевать становится нечем, одна вода выходить начинает. А потом и вода кончается. Но когда я встаю, вдруг чувствую, что железяка, которая у меня внутри шесть лет сидела, — отвалилась!
Господи, как хорошо-то! Вышла она из меня, железяка эта проклятующая, что в сердце моем торчала и в лед его превращала. И как я с замороженным сердцем шесть лет прожила?
Я сажусь на качели, снимаю с головы платок, вытираю им рот и отбрасываю платок подальше. В той стороне, где упала вторая «катюша», стоит наш дом. Мне хочется побежать туда и убедиться, что все целы — Коби, Хаим, Ошри, Эти, Дуди, Ицик, — но вместо этого мои ноги снова толкают землю. Как будто хотят ее раскачать. «Эй-симона-мона-из-димоны-моны». Не слушаются ноги, не идут домой.
Я сижу спиной к нашему кварталу. С верхнего шоссе слышны крики, там бегают люди. Скоро появятся машины — те, что развозят жителей поселка по бомбоубежищам, — приедут кареты «скорой помощи», пожарные…
Ноги мои останавливают качели и начинают идти. Но идут они совсем не туда, где стоит наш дом, а в противоположную сторону. Сама не понимаю, куда они меня тащат. Я обхожу стороной ступенчатые дома и спускаюсь к дому Рики, но мои ноги в ихнее убежище не идут, а ведут меня вместо этого дальше по спуску.
Эх, разделиться бы сейчас частей на двадцать. Расставила бы их по всему поселку — ив одну из них какая-нибудь «катюша» да попала бы. Чтобы я наконец-то исчезла.
Я раскидываю руки, подымаю глаза к небу и открываю рот. В точности как та марокканская девочка, которая выбегала во двор и ловила ртом дождинки. Высовывала язык на всю длину и делала из него тарелку. Чтобы на нее упала хоть одна капля. Та девочка радовалась дождю; для нее он был — как подарок с неба. А я… Я радуюсь «катюше», которая на меня упадет.
Стало тихо. «Катюши» вдруг прекратились. В смысле, это у нас тут стало тихо. Ну а эти-то там небось «катюшу» для меня сейчас заряжают. Ну а Бог — он сидит на небе и смотрит на Симону, которая хочет к нему попасть. Хоть бы он там им помог, что ли, выстрелить как следует! Только чтобы не покалечило. Лежать в больнице — Боже упаси. И чтобы не в инвалидном кресле. Я и сейчас-то уже полуживая. Ну так пусть уж и вторую половину жизни у меня заберут. Господи, дай Ты им, пожалуйста, побольше разума. Чтобы прицелились получше и не промазали.
Да что же это за жизнь-то такая, а? Чтобы умереть — и то везение требуется.
Зачем мне спускаться в убежище? Зачем вставать завтра утром? Чтобы снова вкалывать? Бедные мои домашние обязанности. Что же они делать-то будут, когда Симона к звездам улетит? Как же они без Симоны жить-то будут? Шиву[3], наверное, по ней сидеть будут, не иначе.
Те мои домашние обязанности, которые я не успела выполнить утром, сидят себе сейчас небось нога на ногу и ждут, пока я с работы вернусь, из яслей. И как только я в дом войду, они все сразу на меня набросятся. Одна за другой. И будут со мной играть. Я ведь для них все равно что мячик тряпичный. Им-то что? У них-то ведь сил много. Сидели себе весь день дома, отдыхали и поджидали, пока Симона придет.
Как только белье погладишь — оно тебя сразу же раковине перебрасывает. Раковина, как только опустеет, отфутболивает тебя метле. Метла — ванне, младшеньких купать. Ванна — плите, ужин готовить. Плита — обратно раковине. А потом надо еще и белье с веревки снять. И сложить его к тому же. Затем к нитке с иголкой бежать. Ни на секунду не отпускают меня обязанности мои. Играют в меня — и смеются надо мной. Пока не попадаю я в лапы к последней из них, которая уж и не знает даже, кому меня передать. Видит она физиономию мою унылую, понимает, что мне уже не до смеха, и — позволяет рухнуть на кровать. И нет больше нашей Симоны.
Ну вот и все. Без четверти четыре. Пора вставать.
Если я встаю без четверти четыре — все успеваю. А вот если на полчаса позже — весь день насмарку идет. Только вот до пяти я как неживая. Руки как палки, будто они на шарнирах; ноги не держат; в нижней части спины страшно болит. И начинается настоящее соревнование: что у Симоны заболит сильнее. Пятки — точно копыта у лошади, которую только что подковали. А левое колено — просто огнем горит.
Когда муж умирает, жену надо снова девушкой делать — такой же, какой она до знакомства с ним была. Чтобы все можно было заново начать, с той же точки. А не бросать ее посреди пустыни одну, с детьми, когда она уже страшно устала от всех этих бесконечных родов и все тело у нее — в пятнах.
Четыре утра. Домашние обязанности — они тихие, шума не производят. А вот если близнецы проснутся — утру конец. Даже когда у них одеяло на пол падает, я все равно к ним не подхожу. Не дай Бог проснутся.
Иду развешивать белье. Зимой это настоящий кошмар. Ну а летом — ничего, терпимо. Руки не ледяные. И не темно, как зимой. Когда я вечером развесить не успеваю — развешиваю утром. Сушу на веревке весь вчерашний день. Хорошо еще, что стиральная машина счищает с одежды всю грязь. А то по этой грязи — все как на ладони видать. Сразу понимаешь, кто что надевал, кто что ел, кто что делал, кто куда ходил, кто как спал. Прямо как семейная «Едиот ахронот»[4].
Веревка на сушилке — движущаяся: ездит на колесиках. Я вешаю белье, толкаю его — и оно от меня отъезжает. Вот скоро солнце встанет, пить захочет — и всю воду из белья выпьет.
Масуд ушел — и вся моя кровь вместе с ним ушла. Господи, какая же я дура была. Думала: ушла моя кровь вместе с ним в могилу — и на этом все кончилось. Не знала я, что перед тем, как уйти, он мне кое-что внутри оставил.
Я все плакала да плакала, ничего не ела; точно без памяти все время была. Даже и не думала об этом вообще. Вон уже и посторонние замечать стали, что подзалетела я, — а до меня все никак не доходило. Видела, как они все на меня смотрят, и не понимала, что ихние глаза говорят. Выходила из дома, вглядывалась им в глаза, и у всех в глазах было одно и то же написано. С ума, думаю, что ли, они все посходили? Смотрят на меня, как будто я беременная. Смотрят на вдову, а видят беременную. В общем, не могла я этого понять и не думала себе ни о чем. Пока в один прекрасный день наша повариха Рики не заперлась со мной в перерыве на кухне и не огорошила меня. Я как это услыхала, чуть со стыда не померла. Даже из кухни выходить боялась. Обо мне, оказывается, в поселке уже целый месяц судачили. Подзалетела, мол, бедолага, в самый последний момент. Но Рики эта, она хоть иногда и бывает злющая, но если у тебя беда, никто тебе, кроме нее, не поможет.
— Вот что, — говорит, — Симона, слушай меня внимательно. Будешь тут у меня на кухне сидеть, пока не очухаешься. Ты мне тут давай ни про вчера, ни про завтра не думай. Ты думай только об одном: что когда ты отсюдова выйдешь, то пойдешь с гордо поднятой головой. И будешь людям в глаза без стыда смотреть. Ты пойми, это ж не преступление, что ты беременная, не преступление. Ты же никому ничего плохого не сделала, правда? Ты давай больше никого не слушай, только меня. То, что с тобой случилось, — это счастье. Счастье, понимаешь? Ребенок, который будет носить имя отца, — это счастье! Сейчас тебе, конечно, кажется, что это беда. Но через полгода, когда ты уже будешь знать, что у тебя там внутри сварганилось, ты на это совсем по-другому смотреть будешь, поверь мне. Ну а то, что люди болтают, — пусть это мимо тебя пролетает. Не давай ты ихним словам в свои уши залетать, поняла? Если бы я могла, я бы тебя даже сейчас маслом намазала. Чтобы к тебе никакая дрянь не липла. Да сиди же ты, сиди! Куда ты? И давай не стой мне тут над кастрюлей! А то от твоих слез у меня суп пересоленный будет. Ну вот, так-то лучше. Вот ты уже и улыбаешься, молодец! Ну и куда, скажи на милость, ты опять собралась? Нет уж, дорогая моя, сегодня я тебе убираться не дам!
Она сунула мне в руку чашку чая с полынью, вышла из кухни, собрала стаканы из-под кофе на поднос и сказала:
— Ну вот что, девки, хватит уже тут рассиживаться. Пора приниматься за работу. Гномы-то ведь, они к нам на помощь не придут и убираться за нас не будут.
Тогда я еще не знала, что он вживил мне в утробу двух сыновей. Один мужик от меня ушел, а вместо него два других пришли. Через семь месяцев после того, как его не стало. И оба, как две капли воды, похожи на него. А на меня — нисколечко.
Я оставила им на плите три кастрюли. Каждый день перед уходом я оставляю им обед в трех кастрюлях. Вчера вот, например, приготовила им рис, горох и рыбные котлеты с подливкой. Сегодня — кускус. А на завтра замочила белую фасоль, чтобы суп им сварить. Они его любят. И еще картошку с жареной рыбой сделать хотела.
Люди вот думают: Масуд умер, а я жива. Ничего подобного. Совсем даже наоборот. Это Масуд на самом деле жив, а я — умерла. Как только он меня покинул, так и мне сразу конец пришел. Кончилась моя жизнь. Люди его, бывало, «королем фалафеля» называли, а я его королевой была. А теперь что? Его-то вон до сих пор так «королем фалафеля» и кличут, его место никто не занял. А я? Кончилось то времечко, когда я была королевой.
Как только у тебя мужик помирает, тебя сразу проверять начинают. Сильно ли ты его любила? Пока он жив — на это всем наплевать. Пока человек жив, ты можешь у него хоть всю душу вынуть, можешь про него что хошь говорить, на весь поселок можешь его ославить. Никто даже и бровью не поведет. Но вот как только он помирает — тут сразу приходить начинают. Каждые пять минут приходят и проверяют. Чтишь ты его память или нет? Когда ты с мужем, ты только с ним одним и живешь. Но как только шива кончается, у тебя в доме сразу целая толпа поселяется. Ну и зачем же они все к тебе приходят? Да только чтобы проверить тебя, вот зачем. Хорошо ли ты себя ведешь? И ведь не ленятся, вовсю стараются, ни на минуту тебя в покое не оставляют. Сидят, ушки на макушке, слезы твои пересчитывают. Вынюхивают, выглядывают. Не засмеялась ли ты часом, не дай Бог? Не надушилась ли одеколоном? Не накрасила ли губы? Как будто хотят, чтобы ты вместе с ним померла. Он мертвый? В земле лежит? Вот и ты давай по земле мертвая ходи.
И упаси Господи, если на тебя мужчина какой поглядит. Даже секунды две, не больше. Прямо на месте его и порешат. Чтобы честь твою не замарал.
Когда они видят, что тебе плохо, им тоже тяжело становится. И сердце у них сразу чернеет. Ну и что же они делают, чтобы им полегчало? Да жалость тебе свою на голову выливают, вот что. А жалость эта ихняя — она точно вода в ведре после мытья полов. Черная вся. И вот, выплеснут они на тебя эту жалость свою — и сердце у них сразу такое чистое становится пречистое, ну прям блестеть начинает. Вот, думают, какие мы хорошие, добрые. А ты стоишь себе, до ниточки промокшая, и вся от этой ихней воды в грязи.
Ну а если тебе даже от этой мокрой жалости убежать и удается, тебя еще одна опасность подстерегает: во вдовий сахар вляпаться.
Я вот как вдовою стала, сразу себе сказала: к вдовам не суйся, не вырвешься. Но куда там, они уже тут как тут. Вдовы-то ведь наши, для них это прям как настоящий праздник, когда в поселке новая вдова появляется. А как же! У нас ведь теперь с ними судьба общая. Одной формы и цвета, как говорится, она у нас теперь. И хотят они от тебя только одного: чтобы ты к ним ходить начала. Чтобы сидела ты с ними и слушала, как они тебя своей вдовьей науке обучать будут.
Вот поэтому-то я уже шесть лет, когда по улицам хожу, под ноги себе смотрю. Очень и очень внимательно смотрю. Чтобы, не дай Бог, на вдовье дерьмо не наступить.
Нет, не могу я больше тут с раскинутыми руками стоять и «катюшу» ждать. Нет у меня больше на это силушки. Только одно у меня в жизни было, ради чего мне было руки раскидывать. Но кончилось оно — и опустились мои рученьки.
Ну и куда же наша госпожа Симона направляется ночкой темною? Куда, скажите на милость, несут ее ноженьки? Да на стадион футбольный, вот куда. На самый-пресамый край поселка. Здесь, правда, «катюши» еще никогда не падали, но, даст Бог, сегодня и сюда прилетят. И вот Симона снимает с плеча сумку, бросает ее наземь и стоит на футбольном поле. Трава на поле — сухая: нету у них тут в стране воды. Все время только и делают, что плачутся: «Нету у нас воды!» Только для футбольного поля вода и находится. Но на счастье Симоны сегодня траву не поливали. И вот стоит она на этой траве, и вдруг на нее находит. Рот у нее словно сам собой раскрывается — и она петь начинает:
— Возьми меня к себе, ангел смерти! — кричит Симона.
Но не приходит к ней ангел смерти. Вместо него приходит безумие.
Бедные вы мои, нечастные вы мои деточки. Ну ничего, коли помру, авось и вас наконец уважать начнут. Может, даже денег вам каких дадут. За то, что «катюшей» меня прихлопнуло. У нас ведь в стране как: кого арабы убьют, тому почет и уважение. Как королю какому. Ну а если свихнется кто, то и всей его семье каюк. Ну кто, скажите, на моей Эти жениться захочет, если узнает, что у нее мама с приветом?
Где же мне тут прилечь-то, а? Смотрите-ка, какую мне кровать роскошную приготовили! Даже зеленой простыней накрыли. В полкилометра длиной. Я ложусь в самом центре, там, где начинается игра, внутри белого кружка. Только вот беда: не хочет трава с Симоной дружить. Не успевает Симона на траву лечь, как все тело у нее сыпью покрывается и чесаться начинает. Как будто она снова краснухой заболела.
Симона встает и идет к воротам. Почему к воротам? Да потому что там травы нет. И потому что Симона там — как мяч в конце игры. Как гол, который Бог забил на восемьдесят девятой минуте.
Я снимаю туфли, кладу их возле ворот и снова ложусь. Из-за сетки на воротах небо выглядит, как противень с пахлавой, а звезды — как миндаль, которым ее посыпали. Я ложусь на бок, сворачиваюсь в клубок и слышу, как плачут ноженьки мои, от туфлей опроставшись. «Не жалеешь ты нас, — скулят, — не слушаешь наших жалоб. Засовываешь нас в туфли свои и заставляешь тебя целый день на себе таскать».
Да как же все это случилось-то со мной, а? Раньше, бывало, меня все «нашей Симоной» величали. А теперь я уже не «наша Симона» никакая, а просто-напросто лошадь ломовая. Раньше как к кому ни приду — меня сразу обхаживать начинают, в красный угол сажают. Еще бы! Симона-то, она ведь тогда веселая была, смеялась все время. Ну и досмеялась, дурной глаз накликала. И не отвяжешься от него теперь. Шесть лет Симону преследует.
Раньше, помню, стоило мне чего попросить — и через пять минут оно у меня уже было. Да какое там через пять минут — быстрее даже. И каждый, у кого хоть капля мозгов была, рядом со мной постоять мечтал. На случай если счастью вдруг захочется покрасить мою жизнь в розовый цвет. Чтобы и им тоже чуток досталось. Только потому и обнимали они меня все, только потому подарки мне и дарили, чтобы увидело счастье, что они возле меня стоят, — и на них бы перешло.
Каждое утро я совершала обход поселка. Зайду в фалафельную, возьму денег из кассы — немного брала, лир двадцать, не больше, только для того, чтобы, как говорится, не пересохнуть в дороге от жажды, — и в путь. Наизусть все знала — когда обеденный перерыв в банке, когда на почте, когда в школе. С одними гоняла чаи, с другими пила растворимый кофе, с третьими черный кофе из маленьких чашечек потягивала. И дразнила девчат всякими своими вещицами. То чулки им шелковые покажу, которые в городе купила, то новые духи, то прическу свою модную, которую у нас еще никто здесь не видывал, то браслет, который мне Масуд подарил. Ну а если там и мужики были, то и им немножко голову кружила, шутковала с ними, как говорится. А потом еще куда-нибудь шла. Приду, например, в ясли, возьму какого-нибудь ребеночка на руки — просто так, для удовольствия, — а потом сажусь с ними и чаи распиваю. А что? Мне же ведь работать не надо. Зачем нашей Симоне работать?
Масуд, бывало, утром встанет — и уборку мне делать помогает. Я сначала кастрюли на плиту поставлю, а потом мы с ним дверь на ключ запрем, чтобы никто, не дай Бог, не увидел, как он уборкой занимается — потому как для мужика это позор страшный, если кто его со шваброй и тряпкой увидит, — и глядь, часам к десяти с уборкой уже и закончили. Потом его мать к нам приходит — с ребенком посидеть, пока я гулять буду. Ну а он тем временем хумус для фалафеля делает. Ему-то ведь это в сущие гроши обходилось, буквально в гроши. А деньги в кассу так и сыпались.
Куда ни приду, люди сразу работать перестают, шутят со мной, про беды свои забывают. Мечтать начинают, чтобы у них тоже все, как у меня, было. А что? Разве это плохо? Вот, например, когда я перед девчатами своими вещицами хвасталась. Да им же от этого только лучше было. Я им, как говорится, закиснуть не давала. Как покажу им какую-нибудь новую вещицу, которую из города привезла, — так они тоже у Бога просить начинают, чтобы он им такую же дал. И глядишь — через месяц, через полгода, ну, самое большее, через год, у них тоже что-нибудь такое появляется. А они и рады. Да и мужики наши опять же. Как прослышат, что Масуд мне что-то купил, — тоже подкапливать начинают. Чтобы женам своим тоже что-нибудь этакое подарить.
Но не стало моего Масуда — и не стало у меня больше денег. Он ведь у меня на черный день никогда не откладывал, все мне отдавал. А я… Да что там греха таить… Я ведь денег никогда не считала, все до последнего спускала. Но вот ушел мой Масуд — и посмотрите, что со мной стало. «Ну, пожалуйста, ну, прошу вас, сделайте такую милость, возьмите меня на работу в ясли! Хоть на подмену!» А полгода в яслях проработала — и на тебе, двойню родила. А как после родов вернулась, тут как раз Хани уволилась и меня вместо нее на постоянную взяли, в старшую группу. С Ализой Фадида мы там работаем. Восемнадцать детей у нас в группе с ней. Самый младшенький — Ави; ему год и два месяца. А самая большая — Мири; ей два года и семь.
Утром, в полседьмого, я бегу в ясли, а в полпятого — ползу домой. И вот буквально ни одного дня не проходит, чтобы кто-нибудь у нас на работе не напомнил мне о тех временах, когда я еще королевой была. Всю ихнюю зависть, которая у них ко мне накопилась и которую они все эти годы в сердце своем таили, всю эту зависть они мне теперь, как ссуду, возвращают. Да еще с процентами. Причем не сразу — а порциями такими. И когда они этот свой долг выплачивать закончат, не ведаю. На прошлой неделе даже подумала: «Еще один раз кто-нибудь что-нибудь такое скажет, я в них халатом ка-а-к запущу — и домой убегу!»
Какой же это был день? Понедельник? Вторник? Нет, не вторник. Может, четверг? Да какая разница? Что в них, в этих днях-то для меня такого особенного, чтобы мне их еще и по именам помнить? Все они лежат у меня на плечах, как гора, и поперемешались друг с дружкой, как белье в стиральной машине. Вроде бы это рукав, а вроде бы и штанина. А может, и полотенце. А может, и простыня. Нету у меня больше ни одного денька, чтобы я его с утра до вечера запомнила. И нету у меня теперь ни одного денька, чтобы сверкал он и выделялся изо всех других. Чтобы мне захотелось его не в машинке постирать, а на руках. Чтобы его другое белье не покрасило.
В общем, какая разница, какой это был день? Помню только, что это случилось после обеда. Мы как раз детей пеленать закончили, по кроваткам их разложили и сели чаю попить. И тут вдруг Рики из кухни как выскочит — все руки в мыльной пене — да как начнет кудахтать:
— Эй, Сильви, поди-ка сюда. К нам тут сейчас Иегуда придет. Ну, этот, из горсовета, из отдела техобслуживания. С минуты на минуту здесь будет. Это вообще-то я его Дворе позвать велела. Вроде как чтобы он нам тут канализацию проверил. На самом-то деле я хочу, чтоб он нам над песочницей навес поставил. Дай-ка мне вот этот халат. О! Как раз то, что нужно. Стало быть, так. Возьмешь на руки Шломи и выйдешь с ним к Иегуде навстречу. Я тебе уже говорила, помнишь? В общем, ты должна его уговорить, чтобы он нам над песочницей зонтик построил. Ну, как они обычно в детских садах делают. Только встаньте с ним так, чтобы он в мое окно не глядел, поняла? А вы, девчонки, надушите-ка ее. Только быстро, а то он уже сейчас придет. Да что это вы сонные-то какие, а? Можно подумать, это не вы детей, а они вас спать уложили. Да! И подрумяньте-ка ее немножко. Еще чуть-чуть. А ты, Сильви, давай-ка волосы распусти. Мы, девчонки, сегодня гуляем. Все, чем нас Бог наградил, — все сегодня напоказ выставим. Нет, другой ребенок не подойдет, только Шломи. Он ведь сын его сестры. Сыну своей родной сестры он же не откажет, верно? Ну давайте, давайте, ведите его уже сюда. Он, наверное, еще и уснуть-то толком не успел. Сла-а-денький ты мой! Ну-ка попей немножко чайку. Знаешь, кто к нам сейчас придет? Твой родной дядя придет, дядя Иегуда. Хочешь поздороваться с дядей Иегудой? Подожди-ка, Сильви, не выходи пока. Пусть он чуток поближе подойдет. Ну? Не забыла еще, что делать? Сделай вид, что ребенку хочется в песочек поиграть. Все, давай. Иди.
Сильви взяла Шломи на руки и вышла, а Ализа с Леваной прилипли к окну возле плиты и стали подсматривать. Там у нас за окном куст такой растет, с желтыми цветочками, и за этим кустом их совсем не видно. Ну а я села возле кухонной двери — спиной к ним — и думаю: ведь раньше-то, бывало, на такие поручения Рики всегда посылала меня… Приду к ним, помнится, вся из себя разряженная — и выбиваю для яслей все, что попросят. А Рики приговаривает: «Да на свет еще, Симона, такой мужик не родился, чтобы он тебе в чем-нибудь да отказал! И вообще, — говорит, — девки, вам всем учиться у нее надо. В смысле: как с мужиками управляться. От нее вон никогда не услышишь: ой, да ведь он же меня убьет!»
В общем, не стала я вместе с ними в тот день в окно смотреть. Зачем? Что я там увижу? Разве что жизнь мою, на две половинки разрубленную.
Левана и Ализа говорили вполголоса, чтобы Иегуда их не услышал, но Рики трещала не переставая. Сорока настоящая, да и только.
— Смотрите-ка, — говорит, — смотрите, как я ее научила! Видите, как она хихикает? Погодите-погодите, это только начало. Как говорится, рюмка коньяка для аппетита. Чтобы у него голова немножко кругом пошла. Я ей все-превсе рассказала, что делать надо, во всех подробностях. Вот, смотрите, сейчас она ему ребенка на руки передаст, а сама будет босоножку застегивать. Ну, что я вам говорила? Видите? Она его уже за руку держит, чтобы не упасть. А он-то, он-то… Глазами на нее так и зыркает, так и зыркает. Гляди-ка, Ализа, гляди, как она с ним в кошки-мышки играет. То что-нибудь спрячет, то что-нибудь покажет. Не подает ему, как говорится, все порции на одном подносе. Ой, глядите! Глядите, как она голову откинула. Это чтобы он ее шею получше разглядел, понимаете? А сейчас вон, видите? Волосы за ухо заправляет. Смотрите-ка, смотрите, как его глаза за ней следят. Куда она им прикажет, туда и смотрят. Видите, как он на ее сережку вылупился? Нет, вы только на нее посмотрите! Она ребенку руку гладит. Это чтобы Иегуду — ненароком так — коготками зацепить. Чуть-чуть пощекотать и чуть-чуть царапнуть. Чтобы он и сладость ее почувствовал и чтобы ему одновременно немножко больно было. Ой, смотрите, они уже прям как семейная пара какая! Ну фу-ты ну-ты! Муж, жена и ребенок. Видишь, Левана, как он к ней близко стоит? Еще бы. Отойди он хоть на полметра — ее запах ощущать перестанет, только пот свой нюхать будет. А сейчас, видите, она вроде как у халата вырез поправляет. Это она ему так грудь свою показывает. Чтобы понял, что у нее там не пусто. А сейчас, глядите-ка, глядите, словно жалюзи на глаза опустила. Чтобы, когда она их снова подымет, он на цвет ее глаз внимание обратил. А теперь он ей какую-то историю рассказывает, а она, смотрите-ка, руку на сердце положила — и смеется, смеется… Прям на каждое его слово. Он ведь, девки, смерть как рассказы рассказывать любит. Ему ведь даже на самом-то деле и женщина целая не нужна — одних ее ушей за глаза хватит. Ну ладно, будет уже, будет. Пора и про песочницу заговорить. Только бы она не забыла, что делать надо. О! Видите, взяла у него ребенка и вся из себя такая грустная-грустная стала, будто сейчас заплачет. Я ей велела сказать ребенку, что, мол, не могу я тебе, Шломи, сегодня разрешить в песочке играть, прямо на палящем солнце. Вот когда нам горсовет над песочницей навес построит, тогда сможешь играть хоть целый день. Ну, девчата, теперь нашему Иегуде больше отступать некуда. Теперь он просто обязан Сильви пообещать, что зонтик поставит. Чтобы она опять повеселела. Ведь когда женщина грустит, для мужика это все равно как войну проиграть. Вон, смотрите, он аж весь вспотел. Видите, как ворот рубашки поправляет? Он у него прямо к загривку приклеился. Ждет, пока она опять улыбнется. Господи, да куда же это она так торопится-то, а? Подождать, что ли, чуток не могла? Ну, все! Унесли у него тарелку, унесли… Слишком быстро унесли. Прямо во время еды. Видите, как он ее глазами ищет? И решить-то толком не успел, что делать, а тарелку уже раз — и унесли. Видите? Он теперь ни про какой навес и говорить не хочет. Он у нее, можно сказать, закипел почти, а она его взяла да и с огня сняла. Нет, девчата, ну вы представляете? Он уж и про канализацию-то нашу не помнит. Совсем позабыл, зачем пришел. В общем, не видать нам теперь этого зонтика как своих ушей, не видать. Да-а, девчата, это вам не Симона. Вот кабы сейчас к нему она вышла, он бы нам тут не один, а дюжину зонтиков построил. Да-а, ничего не поделаешь. Нету у нас больше такой, как Симона, нету. Только вы, девчата, глаза-то на Сильви особо не пяльте, когда она вернется, не надо. А то она переживать будет. Да и вообще, уже без четверти два. В полтретьего и детки просыпаться начнут. Гномы-то ведь к нам на помощь не придут. И убираться за нас не будут.
Я слышала все, что она говорила, каждое слово. От кого же еще она могла этой науке научиться — как мужиками вертеть — если не от меня? Стоит себе там и толкует про меня так, будто я уже покойница. Даже про мертвых и то так не говорят, как она про меня говорила. Ей ведь и в голову не приходит, что ее слова подействовали на меня, как вода, которую на сковородку с кипящим маслом плеснули. Так и слышу, как вода эта на сковородке шипит. Даже когда я эти слова про себя произношу, меня и то как огнем обжигает.
Мы сидели обедали, а мне кусок в горло не лез. И вся кровь к голове прилила. Хотелось сбежать домой и больше никогда в ясли не возвращаться. Да только как же я эти ясли брошу? Кто же меня тогда на работу возьмет, если я посреди года уйду? Кто на меня посмотрит, если Рики про меня языком трепать начнет? Господи, как я тогда радовалась, что она меня на работу устроила, как радовалась! Чуть руки ей не целовала. И почему, когда человека в тюрьму сажают, он всегда «спасибо» говорит?
Луна смотрит на Симону, лежащую в воротах, и что же она там видит? А видит она, что Симона — это вратарь, который прыгнул в правый угол ворот, чтобы схватить мяч. А мяч возьми — да и в левый угол залети.
Через год после того, как ушел мой Масуд, вся его родня меня бросила. Не приходят ко мне больше братья его, сердятся на меня. Как будто это я виновата, что у них дело с фалафелем не пошло. Не понимаю я этого, не понимаю. Ну скажите, при чем тут я? Я, что ли, решаю, хорошо пойдут фалафельные дела или нет? Я, что ли, должна людям говорить, чтоб они фалафель у них покупали? Ну, допустим, я даже в чем и виновата. Допустим. Но Масуд-то? Он-то им что сделал? Неужели они даже на могилку к нему прийти не могут в годовщину его смерти? Стыда у них нет, вот что я вам скажу. Только из-за того, что все свои деньги в фалафельную вложили, а дело у них так и не пошло, только из-за этого меня одну с детишками и бросили.
Вот ихняя мать, она не такая, как они. Она не считает, что в жизни все только деньги решают. Когда Масуд был жив, она все время подозревала, что ему со мной плохо, и смотрела на меня косо. А как умер, сразу ко мне переменилась. Увидит меня на рынке — и давай обнимать-целовать. Приедет ко мне на машине с невестками своими — Рахелью, Яфой и Шошаной, — увидит, что те отвернулись, и деньги мне в руку сует. Я-то обычно не беру, обратно ей в сумку кладу. А она плакать начинает, про детей спрашивает. Как, мол, они там, здоровы ли? Не забыла даже, как их зовут. По именам всех называет, одного за другим. Даже про младшеньких спрашивает. А ведь она их в последний раз видела, когда они еще в колясочке лежали. «Держись, — говорит, — Симона, будь сильная, здоровая». И все по-мароккански со мной разговаривать норовит[6].
Она и на могилку к нему ходит, я знаю. Люди вон, как с кладбища придут, рассказывают: видели, мол, ее там, приходила.
Да что же я им такого сделала? За что они меня все бросили? Кто у меня тут в поселке и есть-то, кроме родни Масуда? Да никого у меня тут больше нету. Я ведь к нему сюда совсем одна приехала, из Ашдода. Моя мама, она еще в Марокко померла. А отец, да смилостивится над ним Аллах, погиб в автомобильной аварии шестнадцать лет назад. Умер прямо на месте. Ну а четверо моих братьев, они все там же, в Ашдоде. Как каторжные работают, не разгибаются.
Ну и кто же теперь у нас лучший друг Симоны? А дурной глаз, вот кто. Только он один у нее и есть. С тех пор, как его люди на бар мицву[7] Коби привели, так он от меня и не уходит. Через два дня после бар мицвы взял да и Масуда у меня забрал. А с ним вместе и корону с моей головы. Ну а как корону-то он у меня забрал, так и головушка моя наземь покатилась.
И зачем только люди на нашу бар мицву дурной глаз привели, не понимаю. Ну чего им, скажите, там не хватало? Мы же их там как королей принимали. Они ведь о таком и мечтать не могли. Да и как, скажите, они могут о таком мечтать? Если ты никогда ничего такого в жизни не видывал, то и представить себе этого не сможешь.
Четыре автобуса я для них заказала. Один автобус родню Масуда и ихних друзей привез, а три других — гостей из нашего поселка. Каждый автобус полный круг сделал, всех до одного подобрал. Каждые два метра останавливался. Чтобы никому, не дай Бог, пешком идти не пришлось, чтобы никто в дороге не устал. И ведь это вам не простые автобусы были. Туристические! Чистые, с приятным запахом в салоне. Дворцы, а не автобусы. Люди из них потом и вылезать-то не хотели. Для них там такое угощение было, какое только в аэропланах подают. И напитки там тебе разные, и орехи, и фрукты, и шоколад самый дорогой. Ну все чего только душенька не пожелает. И музыка им там всю дорогу играла. И анекдоты они друг другу в микрофон рассказывали. Всю дорогу пили да орехи грызли, а как с автобуса слезли — в такой красивый зал торжеств попали, какого в жизни своей не видывали.
Как входишь — перед тобой сразу лестница мраморная. По бокам от нее — два фонтана с водой. Перед входом в зал две девушки стоят, каждому красный цветок на одежду прикрепляют. А в зале, куда ни глянь, сплошные зеркала. Чтобы все могли на себя глядеть и запоминать, какие они в тот день красивые были. И вот смотрятся люди в эти зеркала, смотрятся и глядь: причесываться начинают, улыбаться, разговаривать друг с дружкою вежливо так. Рюмку подымут — чтобы лехаим[8] сказать, — а сами в зеркало подглядывают. Чтобы увидеть, как они рюмку подымают. Все время в зеркала так и косятся, так и косятся. И прихорашиваются все время. Чтобы выглядеть красиво. Если там, к примеру, какой-нибудь крале чего не понравилось и она морду кривить начинает — ее недовольная морда на нее сразу из зеркала глядит. А если она от одного зеркала отвернется, то сразу же в другом зеркале себя видит. Понимает она в конце концов, что никуда ей от зеркал не убежать, и меняет недовольное лицо на довольное.
А еда на бар мицве у Коби какая была! Какая еда! Самая лучшая! Не курица вам какая-нибудь — мясо одно. Да еще с четырьмя видами гарнира. Плюс десять сортов салата. По пятьдесят лир мы тогда заплатили на человека. В смысле, по тогдашним деньгам. Ну кто еще, скажите, шесть лет назад по пятьдесят лир за человека платил?
А деньги ихние, которые они нам надарили? Да они нам даже четверти расходов не покрыли. Гости-то, когда они деньги по конвертам рассовывали, думали небось, что кладут достаточно, чтобы нам расходы покрыть. Куда там! Они просто такого размаха никогда в своей жизни не видывали. Никто из них даже не подозревал, во сколько нам это обошлось.
Когда я ту бар мицву вспоминаю — как они смеялись там все, танцевали, — ну никак не могу я в толк взять, зачем они с собой еще и дурной глаз привели. Ведь каждый мужик в тот вечер королем себя чувствовал, а каждая баба — королевой красоты. Самый лучший оркестр я для них позвала, не поскупилась. С Йом Кипура и до самого Лаг ба-омера[9] только бар мицвой этой и занималась. Зал искала, приглашения рассылала, наряды покупала, с фотографом договаривалась, музыку устраивала. По разным местам ходила, присматривалась, и каждый раз мне казалось — ну все, нашла, что искала. Но сразу «да» никогда никому не говорила. «Мне, — говорю, — надо с мужем посоветоваться», — и ухожу. Приду домой — и всю ночь думаю. Представляю себе, как в этом зале бар мицва пройдет. Коби представляю, родню, гостей, зажигание свечей, танцы. Ну и себя, ясное дело. Как я там смотреться буду. И если мне казалось, что в этом зале я, как алмаз, сверкать не буду, то наутро я шла новый зал искать, получше. Или платье пороскошнее. Или цветы покрасивше. И так каждую мелочь. Искала, спрашивала, смотрела — и, в конце концов, выбирала только самое-самое.
Если Масуд не соглашался что-нибудь покупать, потому что это было слишком дорого, я его уговаривать начинала. Медленно уговаривала, терпеливо. Словно тесто его сердце месила. Когда оно было слишком густое, я в него слез подбавляла — и оно размягчалось. Обычно я делала это по утрам. Во-первых, чтобы нам никто не мешал. А во-вторых, когда мужик после ночи глаза открывает, он на тебя так смотрит, будто первый раз видит. По утрам вы с ним прямо как Адам и Ева в раю. Так что для уговоров это время — самое подходящее. «Масуд, — говорю, — ну сам посуди. Ты ведь все свои деньги только благодаря им и заработал, так? За счет фалафеля, который они у тебя едят. Ну так и давай теперь, верни им свой должок. Они же потом все равно к тебе в фалафельную придут, верно? Чтобы про бар мицву с тобой покалякать. А заодно и кошельки из карманов достанут. Фалафеля у тебя купят, напитков каких-нибудь. Вот все деньги к нам обратно и вернутся. Уже через три месяца все окупится, вот увидишь».
Но какое там три месяца. Он и трех деньков-то после бар мицвы не прожил. Даже трех дней — и тех Господь ему не оставил.
Ну зачем? Зачем они с собой этот дурной глаз привели, а?
Бедный мой Коби. Даже шабат-хатана[10] у него нормального не было. Вместо шабат-хатана ему, бедняжке, шиву сидеть пришлось.
Объявление о бар мицве Коби было в золотой рамке, а объявление о смерти Масуда, которое на стене нашего дома повесили, — в черной. Всего через два дня после бар мицвы люди к нам снова пришли. Только уже пешком. А мы сидели на полу. В надорванной одежде. И с надорванным сердцем.
Когда ко мне пришли и сказали, что он умер, я сразу же бросилась к двери. Хотела бежать в центр поселка, увидеть все собственными глазами. Не поверила тому, что люди говорили. Но мне не дали. Схватили — трое или четверо, не помню уже — и затащили обратно. В гостиной, на столе все еще букет цветов стоял — большой такой, с бар мицвы, — а на голове у меня все еще красивая, покрытая лаком прическа была. Двадцать заколок-невидимок ее придерживали. Я пошла в ванную, все заколки из прически повытаскивала, волосы в раковине вымыла, все с себя поскидала, переоделась — и снова в гостиную вернулась. Только одно забыла — красный маникюр с ногтей смыть. И вот, как только мои золовки, сестры Масуда, это увидели, у них у всех сразу такие лица сделались, как будто из-за моего маникюра сейчас конец света настанет. Схватили они меня под руки и прочь увели. Рахель и Яфа мне руки держали, а Шошана ацетоном ватку смачивала. Целую тонну ацетона на меня извели. Думала, они мне этим ацетоном все ногти растворят. До сих пор, когда похороны Масуда вспоминаю, у меня в носу запах ацетона стоит. Сами-то похороны я запомнила плохо. Только один этот запах и помню.
Через месяц я взяла ножницы, пошла в ванную, отрезала себе волосы — они у меня тогда до пояса были, — надела на голову вдовий платок… И не стало больше «нашей Симоны».
Завтра утром мы как раз должны были к Масуду на кладбище идти. Только вот грохнется сейчас на меня «катюша», положат меня на доску и тоже в могилку бросят. Ну а детки мои… Что ж… Они и без меня проживут. Чего же им, спрашивается, не жить-то? Взять вот, к примеру, Эти. Учится она хорошо. Ее, может быть, даже в интернат определят. Как дочку Рики. Ицик и Дуди — те уже большие. Да и вообще — Ицик, он даже с такими руками, как у него, не пропадет. У него просто выхода другого не будет. За Хаима с Ошри я тоже не боюсь. Я только одного боюсь — разговоров людских. Люди-то, они ведь как языками трепать начнут, их не остановишь. В общем, за близнецов я не боюсь. Даже если помру. Они же думают, что ихний отец — Коби. Вот пусть с Коби и живут. С Божей помощью, он ведь когда-нибудь женится, верно? Сколько же он может со мной-то жить? Хватит уже. Ну а как женится — будет у них тогда и мама новая, молоденькая. Только бы люди языками не болтали.
Мне снова начинает мерещиться, что они там голодные. Если бы я сейчас с ними была, я бы так не сидела. Побегла бы на кухню, сняла бы с плиты кастрюлю — чтобы поели чего, животы свои наполнили. Только из-за этой проклятой боеготовности они до сих пор к кускусу и не притронулись. Весь день на улице проболтались. Один раз домой забегли, я им матбухой[11] хлеб намазала, — и снова сбегли. Я им говорю: «Куда вы? Погодите! Давайте пообедаем!» А они не слушают.
Раныпе-то у нас все только за столом ели; никто из-за стола и встать не смел, пока Масуд не встанет. Но теперь все изменилось. Забегают на кухню по одному, хватают куски, едят прямо из кастрюль, а грязные тарелки на столе оставляют. Коби много раз пытался их всех вместе за стол усадить, да куда там. Только Ошри и Хаим его еще и слушаются. Да и то потому только, что думают, будто он им отец. Маленькие они еще — вот и верят всему. Вот было бы хорошо, если бы они продолжали называть его папой, даже когда повзрослеют.
Только одно у меня сейчас в мыслях: ели они там или нет? Как подумаю, что голодные сидят, у меня просто все внутри переворачивается.
Когда ты рожаешь, когда из тебя в больнице ребенок вылезает, его живот прикреплен к твоему веревкой, через которую он из тебя ест. Но потом эту веревку — прямо у тебя на глазах — обрезают. Чтобы ты раз и навсегда усвоила: с этого момента никто, кроме тебя, его не накормит. Не дашь ему поесть — умрет. Можешь для него ангелом жизни стать, а можешь — ангелом смерти. Когда он у тебя в животе сидел, то вместе с тобой ел. И никто тебя не спрашивал, хочешь ты или не хочешь, чтобы он у тебя еду забирал. Воздух, который ему нужен, он после рождения, слава Богу, сам из мира берет. Хоть и плачет из-за того, что сам это сделать должен: не привык еще пока. Но вот еда — дело другое.
Каждый ребенок, который из тебя выходит, оставляет у тебя в животе жирного червяка. Ну а если детей у тебя шесть, то и червяков в животе тоже шесть. И когда дети голодные, эти червяки буянить начинают. Даже если ты сама сытая и тебе ничего в рот не лезет, даже если ты на еду и смотреть-то не можешь, потому что тебя из-за беременности тошнит, — червяки у тебя в животе все равно есть просят. Потому что ты для своих детей как питательная трубка: просто обязана им еду приготовить. И нет тебе ни минуты покоя. Мужик, какую бы работу он ни делал, у него, по крайней мере, хоть передышки бывают. Целую неделю может отдыхать — и ничего. А от плиты в отпуск не уйдешь. Хочешь не хочешь, а еду на стол поставь.
Вот и тело твое. Стоит тебе одного ребенка родить — и все. Оно уже никогда больше таким, как прежде, не будет. Даже если у тебя живот сдуется и ты опять сможешь те же самые брюки и лифчик носить, все равно. Какой ты была, ты уже никогда больше не будешь.
Говорят, когда мужик в тебя первый раз входит, это прямо не знаю какой важности событие. Дескать, тело твое в этот момент раскрывается и это тебя женщиной делает. Ничего подобного. Никакое это не важное событие. Ведь куда мужик, по сути, входит-то? Только в прихожую и больше никуда. И только из уважения ему дают еще и красную ленточку перерезать. Вроде того, как наши председатели горсовета и рабочего комитета делают, когда у нас в поселке что-нибудь новое построят. Из одного только уважения к мужикам все это и делается. Ну и еще для того, чтобы к ребенку, который из тебя вылезет, мужик хорошо относился. Чтобы он был уверен, что побывал в тебе первым. И чтобы из ревности ребенка не убил. Но на самом-то деле твое тело раскрывается по-настоящему только тогда, когда ты рожаешь, когда из тебя ребенок выходит. Когда он прямо из твоего нутра вылезает, вместе с кровью и водой. И вот этого-то мужики никогда не поймут. Ну не способны они, хоть тресни, понять, что это значит — видеть лицо существа, которое в твоем теле сидело. И ведь не один день сидело, и не два. Почти целый год! Девять месяцев ты его внутри себя чувствуешь, но увидеть не можешь. Мучаешься из-за него, рвет тебя, таскаешь его в своем животе, видишь, как у тебя вены вздуваются и как твое лицо коричневыми пятнами покрывается. Да к тому же по три-четыре раза за ночь по-маленькому бегаешь. Но сделать ничего не можешь. Не можешь же ты ему сказать: «Эй, ты! Сидеть у меня внутри я тебе, так и быть, позволяю, но это не означает, что ты должен мне на мочевой пузырь давить». Объяснить ему, что ты не любишь сардин пряного посола с овощами, которые он заставил тебя в магазине купить, ты тоже не можешь. Целых десять банок сардин так и лежат в кухонном шкафу нетронутые. Попросить его, чтобы тебя из-за него не тошнило — каждый день ровно в четыре часа, как по расписанию, — тоже нельзя. В общем, не с кем тебе разговаривать. И что же из этого следует? А то, что пришла ты в этот мир лишь для того, чтобы произвести на свет тех, кто будет здесь жить, когда ты отсюда уйдешь. И что явилась ты в этот мир только для того, чтобы страдать и молчать. Вот так ты матерью и становишься: учишься держать рот на замке, терпеть боль и не кричать.
Когда из тебя вылезает ребенок, твоя грудь тоже начинает на него работать. Ты для него прямо как холодильник с молоком. И ты абсолютно ничего не понимаешь. У тебя просто нет времени понимать. Все бегом да бегом. Точь-в-точь как когда мы в Израиль приехали. Живешь ты себе преспокойненько в Марокко, живешь и не сомневаешься, что жизнь твоя закончится там же, где началась. Как у твоей мамы, бабушки и дедушки. И вдруг к тебе приходят и говорят: «Мы уезжаем в Израиль». На следующий день ты уже сидишь в машине и едешь в Касабланку. Вот и Касабланка. А вот и лагерь в Марселе. А через неделю ты уже плывешь на пароходе «Иерусалим» и учишься танцевать «Хаву нагилу». Сколько раз я вспоминала тот день, когда папа нам сказал, что мы в Израиль едем… Во всех подробностях вспоминала, по минутам.
Все, что в твоей жизни происходит быстро — утром сделала то-то, потом поехала туда-то, потом нам сказали то-то, — ничего из этого ты до конца своих дней так и не поймешь. Проглотила ты это, не прожевав, и как оно в тебя целым вошло, так целым наружу и вышло.
Когда родился Коби, я хотела только одного: чтобы Бог меня снова девочкой сделал. Потому что я превратилась в самый настоящий дуршлаг. Вроде того, в котором я кускус делаю. Вся в дырках, сверху донизу. Из дыры, которая снизу, у тебя сначала вода течет. Потом тебе туда руки врачей и медсестер забираются. Потом оттуда ребенок выходит. Потом — кровь и послед. И наконец, тебя зашивают. А сверху у тебя и другие дырки есть. Только они раньше закрытыми были. Однако теперь и из них тоже течь начинает. Раньше я даже и не знала, сколько у меня дырок в груди. Оказалось, три справа и четыре слева. Если ребенок спит слишком долго, молоко начинает течь само по себе. Ничего-то у тебя внутри больше не остается, все наружу выливается. Двадцать лет подряд мама, бабушка и тетки внушают тебе, что ты должна быть все время закрытой. Когда писаешь в туалете, делай это тихонько, а то, не дай Бог, кто услышит, как из тебя струйка вытекает. Твою ежемесячную кровь тоже никто видеть не должен. Рот, когда зеваешь, рукой прикрывай. Всю жизнь только и делают, что закрывают тебя да закрывают. Да! Еще и про ноги не забудь! Когда сидишь, колени вместе держи. Чтобы ты была, как дерево — одноногая. Но после свадьбы тебе начинают всё наоборот говорить. Ночью дорогу мужу открой, а во время родов — сразу всем открывай. Не только мужу, но и ребенку. И любому другому, кто в операционную входит.
Через три дня после родов твои глаза тоже начинают наружу вытекать и даже разрешения у тебя не спрашивают. Даже если тебе и плакать-то не хочется, они все равно на мокром месте. А когда я Коби родила, думала, что облысею. Каждое утро вся подушка в волосах была. Но мать Масуда мне говорит: «Ты разве не знаешь, что ребенок забирает у матери всю красоту? Не плачь, доченька, отрастут твои волосы». И правда: выпали и отросли. И потом, когда рожала, тоже: выпадали — и отрастали. Только после того, как родились близнецы, моя красота больше ко мне так и не вернулась. Но теперь мне это уже все равно. Кто на меня сейчас посмотрит? Масуд, что ли, из могилы своей? Даже Эти и та на меня больше не глядит. Правда, она и на себя-то в зеркало не глядит. Да и Коби в последнее время… Как только меня увидит, глаза отводит. А когда спать ложится, сразу их закрывает и ко мне спиной поворачивается.
Ну а что же все это время видят мужики? Да только одно и видят: что они туда вошли, а оттуда ребеночек вылез. И от гордости раздуваться начинают. Распирает их от этого прямо, мужиков-то. Грудь у них так сильно воздухом наполняется, что они даже выдохнуть не могут. Того и гляди, лопнут. И все только из-за того, что они тебе туда кое-что впрыснули, а из этого «кое-чего» взял да и человечек получился. А вот с ихним собственным телом в это время ничего не происходит. Ни один волосок с места не сдвигается. И какой же вывод они должны из этого сделать? А такой, что жизнь — это игра. Забил гол — и кричи «ура!». Талит[12] на себя накинул, ребеночка на руках во время обрезания подержал, рюмашку за его здоровье опрокинул, посмеялся — и свободен.
Земля — как лед. Даже воздух и тот не такой холодный, как земля. Я кладу под голову сумку. Сейчас я — футбольный мяч, который забили в ворота. Он лежит и видит все футбольное поле. Половина людей на трибунах ревет от радости — из-за того, что мяч в ворота попал, вторая половина из-за того же самого плачет, ну а те, кто сейчас на стадионе не сидят, — им на мяч наплевать. Все равно им — попал он в ворота или нет. Для них — все едино.
Я прижимаю колени к груди, натягиваю на них подол, втягиваю голову в воротник, утыкаюсь носом в разрез платья, слышу, как бьется мое сердце, делаю глубокий вдох и вдруг понимаю, что снова ощущаю запах своего тела! Господи, даже нос — и тот у меня от крика раскрылся! А ведь я уж и позабыла, что такое запахи. Даже когда нос в коробку с шафраном совала, и то ничего не чувствовала. Ацетон этот похоронный у меня в носу все остальные запахи перебил. Шесть лет еду готовила, а ни вкуса, ни запаха не чуяла.
Когда я была маленькая, я страшно любила лежать, свернувшись калачиком. Лежишь себе, поджав ноги, и внешнего мира вокруг тебя как будто нет. Весь мир теперь — это ты сама. Уши тебе Бог дал только для того, чтобы слышать твое сердце. Нос он тебе дал, чтобы вдыхать запахи твоего тела. Твои глаза закрыты и ничего видеть не желают. Не на что им вокруг смотреть: мира больше нет, он исчез. А руки… Они путешествуют по твоему телу и добираются до таких мест, до которых нос добраться не может.
Собаки. Я слышу собачий лай и поднимаю голову, чтобы расслышать его получше. Нет, это не собаки. Это машина с громкоговорителем. Она еще далеко, и отсюда плохо слышно, но и так понятно, что это не отбой воздушной тревоги. Ну вот, теперь слышно лучше. Машина уже на шоссе, как раз над моей головой. «Просим всех оставаться в бомбоубежищах!» Понятно. Пытаются докричаться до стариков, оставшихся дома. Хотят им прямо в уши залезть. Чтобы они испугались и в бомбоубежища спустились. А старики сидят себе дома да приговаривают: «Все в руках Аллаха. Что человеку на небесах написано, то и будет».
Только Симона да старики не хотят в бомбоубежище идти. Не дорога им собственная жизнь. Да и на кой им, скажите, ею дорожить? Вот если, например, у человека деньги кончились. Разве же он станет от воров дверь запирать? Да пусть приходят, сколько хотят. Все равно ведь взять нечего.
Я представляю себе, как мои детки сидят в бомбоубежище. Дуди и Ицик, наверное, сели рядом. Ицик конечно же взял с собой свою птицу. Все время только с ней и возится. Как будто она его жена. Только бы соседи на него не рассердились. Прямо и не знаю, почему Дуди так прилип к Ицику. Лучше бы дружил с Коби. Тот еще до бар мицвы мужиком стал. Они с Эти сейчас, наверное, младшеньких укладывают. Те небось из-за «катюш» расплакались. Правда, для них это, конечно, обстрел уже не первый, но сегодня он был самый сильный. Никогда у нас еще такого взрыва, как от второй «катюши», не было.
Я представляю себе, как Коби берет их на руки и крутит в воздухе. Делает им «карусель». Я слышу, как они хохочут. Он их очень любит. Да и Эти тоже, чтоб она была здорова. Всю душу им отдает. Как увидела, что у матери на них времени нету, так сразу заместо матери им и стала. Дает им все, в чем они нуждаются.
Но если Эти всего лишь их старшая сестра, то Коби для них — отец. Они ведь не знают, что он ненастоящий их отец. Ну и что? Что тут такого? Они ведь выбрали его себе в отцы сами. Ну и хорошо, и слава Богу. Молодой, красивый, здоровый. Зачем же я буду их такого отца лишать, если они сами так решили? Разве не они его папой назвали? Пришел он как-то раз из школы, дверь открыл — ему тогда еще и пятнадцати не было, — а они к нему как бросятся — прямо как две овечки — и давай кричать: «Папа! Папа!» Зачем же мне у них отца-то отбирать? Это какое же надо сердце иметь, чтобы так поступить? Неужели же мне их — маленьких таких и сладеньких — на кладбище отвести и сказать: «Видите, детки, этот камень? Под этим камнем, в земле, ваш папка гниет». Так, что ли, я должна сделать, да? Или, может быть, я должна им его фотографию показать и сказать: «Ошри и Хаим, рыбоньки мои, берегите эту фотографию как зеницу ока, целуйте ее. Это ваш папочка, Масуд». Но что же это за папа такой, если он только фотография? Разве фотография живого отца заменит? Или там, например, надгробная плита с именем его, к которой можно только поплакать сходить?
Вот так вот мой Масуд и стал для них дедушкой. Я им сказала, что назвала их Хаимом и Ошри в честь него. Они знают, что по-мароккански «Масуд» — это то же самое, что на иврите «Ошри»[13], и что имя Хаим означает «жизнь». То есть я как будто смерть Масуда ихними жизнями заменила. Про своего дедушку Масуда они знают буквально все. И как он в нашем поселке «королем фалафеля» был, и как помер он в своей фалафельной. Но если смотреть на фотографию дедушки и слушать рассказы о его жизни — это еще туда-сюда, то папа может быть только живой. Одним словом, так получилось, что они у меня сами решили, что сиротами не будут.
Что случилось? Почему вдруг такая тишина? Все время одни войны да войны. С тех пор как мы в Израиль приехали — только войны да войны. И вот тебе на. Именно сейчас, когда Симона умереть захотела, у них вдруг «катюши» кончились.
Ой! В нашем поселке свет зажегся. Мышки спят в бомбоубежищах, а у них в домах огни загорелись. Все в этом мире наоборот. Когда нам сказали, что объявлена боеготовность и велели по домам расходиться, мы в бомбоубежище и полчаса не просидели. Вылезли и давай по улицам разгуливать. И вот тут-то как раз «катюши» и прилетели. А когда все опять в бомбоубежища спустились, «катюш» вдруг не стало.
Пол-армии следит, чтобы люди из убежищ не вылезали. И все в них покорно сидят, задыхаются, боятся наружу высунуться, чтобы, не дай Бог, в них ракета не угодила. Только одна Симона лежит на земле и молится, чтобы в нее попали. Пусть даже сразу несколько «катюш» прилетят и гол ей забьют. Или даже пять голов! Чтобы уже сегодня ночью жизнь Симоны наконец-то закончилась. Не хочу, чтобы для меня наступило еще одно утро. Не хочу!
Я не плачу. Когда я еще за жизнь обеими руками держалась — чтобы не сбежала она от меня, — плакала постоянно. Дня не проходило, чтобы плошку слезами не наполняла. Но сейчас, когда я умереть хочу, зачем мне плакать?
Зачем нам держаться за эту жизнь? Разве же это жизнь? Ну что в ней, скажите, такого особенного? Рики говорит: «За каждые четверть стакана сладкой жизни мы получаем пять стаканов страха. Этот страх убивает сладость и заставляет всех друг дружку бояться».
Каждый день мы работаем в яслях по восемь часов. Кормим детишек, поем им песни, рассказываем им сказки, бегаем за ними, чтобы утереть им носы, — весь день с рулоном туалетной бумаги в руках; берем их на руки, чтобы успокоить, когда плачут; меняем пеленки; собираем игрушки; лица и руки им моем — всем восемнадцати, одному за другим, — а потом кормим их обедом и снова меняем пеленки. Ну просто конвейер какой-то, да и только. Как на заводе. Одного за другим на руки берешь и меняешь. Потом расставляем раскладушки, укладываем их спать, делаем уборку, будим их, снова меняем им пеленки, кормим полдником и начинаем готовиться к приходу матерей. Чтобы, когда они после работы за детьми придут, те уже стояли у выхода готовые — одетые и с рюкзачками в руках. А у девчат, которые в две смены работают, есть время заниматься своими делами только во время двухчасового перерыва между сменами.
Короче говоря, работаем, как проклятые. И вот, казалось бы, нам за это все должны «спасибо» говорить и мы должны с гордо поднятой головой ходить. Куда там. В действительности мы в постоянном страхе живем. И кого мы только не боимся. Да всех подряд боимся. Матерей наших боимся; перед инспекторшами из Комитета работающих матерей со страху немеем; а уж перед нашей директоршей Дворой с ее истериками — вообще от ужаса дрожим. А она, хоть директорскую зарплату и получает, практически ничего не делает. За день раза два от силы по телефону поговорит, пару бумажек на столе с места на место переложит — и все.
Рики говорит, что, когда наша директриса к своим инспекторшам не ездит, ее надо прямо с утра на «мрамор» в кухне[14] класть и, как яйцо, крутить. Если будет крутиться быстро, значит, яйцо крутое и весь день насмарку пойдет, а если медленно, значит, яйцо всмятку. Потому что бывают дни, когда из нее один желток льется, и мы ее только зря боимся. Но если на нее находит, тогда берегись. Если, например, ребенку какому глотать трудно, она ему лицо с двух сторон как сдавит, чтобы у него рот открылся, и давай ему ложку прямо в глотку запихивать. Ей плевать, что ребенок подавиться может или что его вырвет. Не отвяжется от него, пока полгруппы реветь не начнет. Некоторые дети плачут от страха, что она и к ним тоже подойти может, а некоторые — из-за того, что другие дети плачут. Ну а мы? А что мы? Мы — ничего. Стоим себе, молчим да переглядываемся. Разве мы можем кому-нибудь это рассказать? И разве станет нас кто-нибудь слушать? Ведь всем же известно, что у нее это из-за немцев, чтоб им пусто было, и с этим уже ничего не поделаешь. Мы и знать-то не знаем, что с ней там случилось, но как только номер у нее на руке увидим, сразу затыкаемся. Потому что этот номер, он для нас как приказ: мол, что бы она там ни вытворяла и как бы ни бесилась, все надо молча сносить. Между прочим, у нее и настоящая справка от врача имеется. Ну, что она неизлечимо больная. Она ее еще до приезда в Израиль получила.
Двора — она полная противоположность Рики. Рики, та изо всех сил старается, чтобы из продуктов, которые нам из комитета присылают, как можно больше еды наготовить. А чтобы ей на готовку хватило, она еще и из курятника своей свекрови яйца таскает — целыми лотками иногда. Хоть ей за это и не платит никто. И всегда на плиту самые большие кастрюли, какие у нее только есть, ставит. А все зачем? Да чтобы на тарелках у детей после еды хоть что-нибудь да оставалось. Потому как если нам после еды будет нечего с тарелок в мусор выбрасывать, как же мы тогда узнаем, что наши детки наелись?
Двора же, когда у нее крыша едет, она даже видеть не может, если у кого-нибудь в тарелке что-то осталось. Само-то по себе оно, конечно, понятно. Настрадалась она там, за границей, не приведи Господи. Но мы-то почему из-за нее страдать должны? Взять вон, к примеру, нашу Мири. Ей, бедняжечке, еще и трех годков не исполнилось, а Двора ее как за ротик схватит и как давай ей насильно еду запихивать. И все только из-за того, что та ест медленно. На самом-то деле Мири и без Дворы все это могла бы прекрасно съесть. Да только вот наша Двора об этом не знает. Не знает она, кто у нас тут ест медленно, а кто быстро, кто из детей пудинг любит, а кто до него ни в жисть не дотронется. Ведь что он такое, пудинг-то этот? Да творог обыкновенный и больше ничего. Просто в него немножко малинового соку добавили, вот он и порозовел. Но ведь не каждый же способен по утрам творог есть, правда?
Двора, даже когда она яйцо всмятку, все равно не знает, что с детьми делать. Ну не чувствует она детей — и все тут. Купит, например, какую-нибудь куклу и велит нам детей на ковер посадить. Ну, мы сажаем. Восемнадцать детей. На ковер размером два на полтора. Она хочет, чтобы у нее дети как солдаты себя вели. Чтобы они не шевелились даже. Сядет на стул и давай с ними, как с умственно отсталыми, разговаривать. То вдруг пищать начинает, как маленькая, а то куклу на руки возьмет и давай что-нибудь петь. А потом эту самую куклу на верхнюю полку кладет, чтобы дети ее не сломали. Но к чему, скажите, двум десяткам детей одна-единственная кукла? Что они с ней делать-то будут? Только перессорятся друг с дружкой и плакать начнут. Ну а когда у нее припадка нету и она решает с нами посидеть, у нее все время рот до ушей. Как будто ей его с двух сторон растянули и прищепками защемили.
Вот так вот все время от страха и дрожим. Если, конечно, Двора куда не уходит. Ну, когда Рики чего-нибудь такое придумывает, чтобы ее из яслей выманить. В банк там, например, ее отправляет или в горсовет. Чтобы она нам спокойно работать дала.
Нет, ну почему мы все время ее бояться должны, а? Да кто она такая, эта Двора? Кто она такая? У нас в яслях это прямо в поговорку вошло. Как только она за калитку выходит, мы сразу галдеть начинаем: «Да кто она такая? Кто она такая?» Как будто нас тоже кто за рот схватил и мы ничего другого сказать не способны. И так пока Рики в кухонное окно не выглянет и не крикнет: «Девчата, к нам гости пришли!»
И вот, как только Двора в калитку входит, мы снова дрожать начинаем. Если кто-то из девчат в это время сидит — даже если она только на одну минутку присела, — сразу же вскакивает и начинает изображать, что работает. Например, что-нибудь громко петь. Иногда, когда Двора входит, она сразу четыре разных песни слышит. Потому что каждая из нас поет что-нибудь свое. Не важно даже, где тебя ее приход застал. Хватаешь детей в охапку — и давай песни распевать.
Ну а довольна-то она когда-нибудь бывает? Бывает. Когда нашу домашнюю еду лопает. Просто обожает печенья уплетать, которые мы после субботы из дома приносим. Вот тогда мы сразу для нее хорошими становимся. Набьет себе полный рот ореховым печеньем, которое Сильви испекла, и давай нам иврит поправлять:
— Не «ихний» надо говорить, а «их». Не «хвартук», а «фартук». И не желаю больше слышать слово «ложу». Поймите же вы! Дети — они табула раза, чистая доска. Что услышат — сразу запоминают. Наша святая обязанность — учить их говорить правильно. «Кладу» надо говорить, Сильви, а не «ложу», «кладем», а не «ложим». И чтобы я больше никогда не слышала у нас в яслях ни одного слова по-мароккански, ясно? Да-да, и Леване тоже передай. Пусть она по-мароккански с мужем своим разговаривает. По ночам.
Засмеется, как будто сказала что-то смешное, и отчаливает к себе в кабинет.
Этот кабинет, его специально для нее построили — на том месте, где у нас раньше прихожая была. И все только для того, чтобы у нее там стол был. И телефон с замочком. И чтобы ей было где эту свою доску повесить. Ну, на которой она записывает, что мы сделать должны. Сидит, короче, она у себя в кабинете, смотрит на распорядок дня, на недельное меню, и за нами наблюдает. Потому что у нее по бокам два таких окошка есть. Правое выходит на младшую группу, а левое — на старшую. Вот через них-то она за нами и следит. Чтоб мы делали все в точности, как у нее на доске записано.
Как только она ореховыми печеньями себе рот набьет, так сразу обо всем на свете забывает. Даже о том, что надо заказать семь новых хвартуков. Или как она их там называет? Фартуков, что ли? Ну не важно. А если ей Сильви в это время что-то сказать пытается, она ее даже не слушает. Хотя, если говорить по правде, на иврите она бойко калякает, ничего не скажешь. Что есть, то есть. Рики про это говорит так: «Привезли нас, репатриантов, сюда, в Израиль, перемешали маненько, а потом на противень бросили и в печку сунули. А когда вынули, мы даже и остыть-то еще толком не успели, как нас вжик — и ивритом, как ножом, на две половинки разрезали. На тех, кому иврит поправляют, и на тех, кто поправляет».
Так вот, если вы принадлежите к тем, кому поправляют, тогда послушайте, что вам Симона скажет. Лучше уж тогда вам ночью во время ракетного обстрела в футбольных воротах сидеть.
Однако страх перед Дворой, это, по крайней мере, страх только перед одной-единственной бабой, да к тому же такой, чьи закидоны ты уже знаешь наизусть. Они для тебя не новость. Но вот матери наши… Их у нас целых восемнадцать, и каждый день в полседьмого утра они все, как штык, своих детей в ясли приводят. Суют нам свои пакеты — с одеждой, пеленками, мешочками всякими, — и у каждой свой собственный закидон.
Дети, они еще и проснуться-то толком не успели, а им уже надо с матерями расставаться. И вот они или плакать начинают, или же у них такое выражение лица делается, будто они даже и знать не хотят, где находятся. Вроде бы и не спят уже, но и не проснулись еще; вроде бы и не грустные, но и не веселые. Стоят себе в сторонке с таким видом, словно не видят и не слышат ничего, и молчат. Тебе, конечно, сразу же им помочь хочется, заняться ими, но тебе не до них, тебе надо слушать, что матери говорят, причем все хором. Так что тебе нужно не два уха иметь, а целых восемь. Одна говорит, что ее ребенку нельзя свеклу есть, вторая — что он у нее всю ночь не спал, третья — что у него попка красная и что в пакете для него мазь лежит, четвертая сует тебе в руку лекарство, которое надо в холодильник положить и два раза ее ребенку дать, а еще одна просит помыть соску, которая у нее по дороге упала. И так десять минут подряд. У Дворы на доске это называется «Прием детей». Не знаешь даже, кого и слушать-то, не знаешь, кого из детей на руки взять. Хотя по разумному-то их вообще всех сразу на руки брать надо, одновременно. Потому как любой ребенок, когда его приводят в ясли в полседьмого утра, конечно же хочет с рук матери на твои перейти. А главное, и рассусоливаться-то особенно некогда. Потому что у матерей времени в обрез. Им вот-вот надо уже будет бежать. Без пятнадцати семь приезжает автобус, который отвозит их на работу.
Когда матери уходят, глаза у них как будто на спину перемещаются. Они думают, что мы тут только и делаем, что развлекаемся. На работе-то вон, говорят, их в ежовых рукавицах держат, не пикнешь. Которые за швейными машинками сидят, те даже руку поднимать должны, чтобы бригадирша их в сортир отпустила. И вот сидят они себе там, на заводах своих да на фабриках, и завидуют нам черной завистью. «Кофе, — думают, — наверное, сейчас там распивают да сплетни сплетничают. А детей наших небось без присмотра бросили».
Ну а если даже случайно такой день и выпадает, когда у Дворы приступа нету, тогда нам матери портить жизнь начинают. Часов этак в девять или десять сваливается тебе вдруг на голову какая-нибудь мамаша и заявляет, что ей надо ребенка на прививку вести. А когда утром приводила, сказать не могла. И верно, зачем говорить-то? И вот как только она в ясли входит, у нее глаза сразу в фотоаппарат превращаются и все вокруг фотографировать начинают. Кто плачет, у кого из носа течет, у кого пеленка мокрая из штанишек торчит, что каждая из нас делает. И все, что она увидела — с того момента, как дверь входную открыла, — у нее в голове, как на пленку, записывается. А когда после поликлиники она на работу возвращается, сразу другим матерям обо всем докладает. Все расскажет, ничего не пропустит. И мало того что не пропустит — еще и от себя прибавит. Еще бы! Настал, как говорится, ее звездный час. Все только и ждут, чего она им там понарасскажет. А как же? Посреди рабочего дня с фабрики ушла — вот и давай теперь за это своими рассказами расплачивайся.
В четыре часа матери приходят за детьми. У Дворы рабочий день уже закончился; Рики кухню вымыла и тоже ушла. Только мы с детьми в яслях еще и остались. Ждем, когда матери с работы придут, и уже заранее знаем, что сейчас начнется. И точно. Не успевают они в дверь войти, как сразу же на нас набрасываются и вопят. Особенно Шоши. Ну очень нервная мамаша. Такая даже и ударить может. Ну а как только Шоши разорется, гак и все остальные тоже ей подпевать начинают.
Мои руки закоченели от холода. А тут еще и ветер поднялся. Только ветра мне сейчас и не хватало. Еще, чего доброго, моя «катюша» в другую сторону полетит. И ноги тоже замерзли. Синие вдовьи шелковые гольфы разве от ветра защитить могут? Они ведь только до колен доходят.
Люди вот мне говорят: «Да будет уже тебе, Симона, хватит. Шесть лет уже прошло, а ты все траур соблюдаешь. Уже давно можешь какой угодно цвет носить». А я не хочу. Да кто они такие, чтобы мне указывать, какой мне цвет носить и когда мне траур прекращать? Услышьте же вы меня наконец, услышьте! Хоть один раз в жизни меня услышьте! По крайней мере, хоть сейчас, когда я сижу здесь посреди ночи, под обстрелом, на этом футбольном поле. Симона в трауре не по мужу своему! Не по мужу своему Симона в трауре! Симона в трауре по жизни своей, на две половинки разрезанной. Ну как вы такую простую вещь не понимаете? И рано еще Симоне траур по жизни прекращать. Рано, ясно вам? Вот когда Симона помрет, тогда и траур ее закончится. Уйдет вместе с нею в землю — и закончится. Недолго уже ждать осталось.
В голове у меня все плывет. Лучше мне, наверное, пока не вставать. И куда же плывет моя голова? А туда, где наше с Масудом счастье было записано на одной и той же бумажке.
Когда мы приехали в лагерь в Марселе, нам сказали, кто сколько там пробудет, и измеряли время количеством субботних схинот[15]. Если, например, тебе говорили, что ты пробудешь в лагере четыре схины, ты знала, что проведешь в нем четыре субботы. Пока не прибудет пароход. Но мой папа пошел, кого надо подмазал, и мы сели на пароход всего через две схины. Вот здесь-то меня мое счастье и настигло: семья Масуда села на тот же пароход. «Иерусалимом» он назывался. В лагере-то я Масуда и не видела и не слышала, но на пароходе, как только его голос в первый раз услыхала, он меня сразу точно огнем обжег. Вошел этот огонь в уши мои и опалил меня изнутри. Первый раз в жизни я такой огонь в своем теле почувствовала.
Мне тогда всего пятнадцать было, и я все больше молчала, но в тот день меня как будто подменили. Добрался огонь Масуда до зерен смеха в животе моем, нагрел их, и стали они, как зерна кукурузы, на сковородке скакать: прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок. Когда зерна жарят, коричневая кожурка у них лопается, они раскрываются, и из них белая жижица вытекает. Мягкая такая, воздушная, легкая. Вот и смех мой на пароходе точно таким же был. Как только голос Масуда заслышу и как только почует его голос, что мои зерна затвердели, он их снова на своем огне нагревает и они опять прыгать начинают. Куда бы голос Масуда на пароходе ни шел, мой смех повсюду за ним следовал.
Нет, тогда он еще со мной не разговаривал. О чем ему было со мной разговаривать? Тогда он все больше со своими братьями общался да с товарищами. Но хотя слов его я издалека разобрать не могла и о чем он там с ними говорил, не знала, этот его голос меня просто с ума сводил.
Мы были с ним тогда совсем детьми и ничегошеньки-то еще не понимали, но уже тогда начали друг дружку искать. Как только я его голос на верхней палубе заслышу, сразу же из каюты выхожу и делаю вид, что на море гляжу или на белых птиц. А если его голос в столовую идет, мой смех сразу же за ним бежит. Войдет Масуду в ухо, пощекочет его изнутри — и он тоже смеяться начинает. А потом встает и на палубу выходит. Всю дорогу от Марселя до Хайфы мой смех был как лопнувшие зерна кукурузы, морской солью посыпанные, а смех Масуда — как красные виноградины, из которых сок вытекает и сразу в вино превращается. Мой смех и его смех как будто тоже пассажирами «Иерусалима» стали. И хотя мы с ним там даже слова друг дружке не сказали, мой смех и его смех поженились уже тогда. Чтобы никогда уже больше не расставаться.
Правда, один раз наши глаза все-таки встретились. Всего только один-единственный раз. Увидали мы друг дружку, замерли, и наши взгляды сцепились, как застегнутая доверху молния. Но потом молния расстегнулась — и мы разошлись с ним в разные стороны.
А когда мы с парохода сошли, мой огонь погас.
Мы поехали на юг, в Ашдод, а их повезли на север. Два дня после этого мои зерна все еще горячими были и лопаться продолжали. Но через два дня я опять холодная стала. Зерна у меня в животе затвердели, и стал он у меня все время болеть. Что мы могли с ним поделать, если чиновники решили нас в разные стороны раскидать? Меня — сюда, а его — туда. Но наше с Масудом счастье нас все-таки не покинуло. Через полтора года мои братья случайно встретились с ним в ашдодском порту и привели к нам домой. Просто так привели, только потому, что мы вместе на пароходе плыли. Они ведь даже понятия не имели, что мы с ним друг для дружки значили.
Господи, чего бы я только сейчас не отдала, чтобы Масуда за руку подержать. Бывало, возьму его руку в свою и веду ее в путешествие по моей коже. Как в нашу брачную ночь, когда у нас все в первый раз произошло. Никогда не давала его руке одной по мне гулять. Его рука была автомобилем, а моя — водителем. Как малого ребенка, обучала я его, как до моего тела дотрагиваться. Особенно я любила его левую руку на себя класть, ту, где у него мозоль на мизинце была. Сама его рука была как масло, но мозоль эта как будто рисовала на мне всякие рисунки.
Нет, совсем уже наша Симона с глузду съехала. Сидит в футбольных воротах и чем, скажите на милость, занимается? Камешек из земли пытается выковырять! Захотелось ей вдруг гольф с себя снять, камешек в него завернуть и к ноге приложить. Как будто это левая рука Масуда, с мозолью. Да разве же тут чего из земли выковыришь? Камни тут в земле очень крепко сидят. Тут ведь все время нервные мужики топчутся, а у них ноги — как кувалды.
Моя рука, Масуд, лежит на твоей руке. Мои глаза закрыты, рот — тоже. А наши руки в это время странствуют по моему телу. Куда же они сегодня отправятся? Где они уже только не побывали! В ста разных путешествиях были. И по короткому маршруту ходили, и по смешному; и по опасному, и по извилистому; и прямо ходили, и задом наперед; и по маршруту в форме восьмерки, и по влажному маршруту тоже. А кроме того, были у нас с ним и еще два заветных маршрута — «маршрут Масуда» и «маршрут Сими»[16]. Возьму, бывало, его руку в свою, а он мне шепчет: «Сими! Сими! Дай мне руку свою. Я — твой, а ты — моя»[17]. И мое тело сразу же в газировку превращается. Как будто меня всю пузырьками газа заполнили.
Нет, сначала-то я этих ночей боялась. Думала, что не хочу с Масудом в одной постели лежать. Так боялась, что даже заболевала. То у меня вдруг горло ни с того ни с сего разбаливалось, а то и вовсе трясти начинало, как будто у меня лихорадка. Ну и что же я сделала? А свой второй ум на помощь призвала, вот что. Он у меня в пальцах живет. Потому что когда я еще маленькой была и без мамы осталась, я уже тогда поняла, что голова, она только для школы и хороша. А в жизни она ничего не смыслит. Для жизни от камней и то пользы больше, чем от головы. Только в одних пальцах и содержится тот ум, который мне для жизни нужен. Легкие они у меня, сильные и делают все, что я им прикажу. Вот этими-то своими пальцами я думать и стала. Как? Да очень просто. Сначала побарабанила ими по столу. Вроде как когда на машинке печатают. Потом положила руки себе на плечи — правую на левое, а левую — на правое. Потом пробежала пальцами по каждой руке сверху донизу, пока пальцы обеих рук друг с дружкой не встретились. А потом положила их себе на грудь, и стали они с моим сердцем разговаривать.
— Прекрати уже, — говорят, — Симона, болезни на себя накликивать. Ну сама подумай, зачем тебе болеть-то? Какая тебе от этого польза? Ты лучше, как с Масудом в постель лягешь, просто забудь, что ты человек, и все. Пусть твоя голова станет маленькой-премаленькой — чтобы в ней места ни для каких мыслей не оставалось, а твой ум пусть сделается крошечным-крошечным, как у птички. А потом просто закрой глаза — и твое тело само за тебя все сделает. Ну что там такого, в этой постели, происходит-то? Да ничего особенного. Лежат себе два животных и ведут себя по-животному. Всего-то и делов. Так что когда ты завтра проснешься и вспомнишь, что произошло, не пугайся. Наступит утро — и все рассется, как дым.
И все равно, даже после этого я еще долго по утрам со страхом просыпалась. Вдруг, думаю, с кровати встану, а я уже не человек, а кошка. Или там еще животное какое? Может, у меня и тело-то все уже мехом обросло? Тем более что и пахло от меня по утрам, как от животного. Стою, бывало, и ванной перед зеркалом, смотрю на свои всклокоченные, перепутавшиеся волосы и вижу, что глаза у меня уже прямо какие-то нечеловеческие. Да и язык во рту тоже ворочался с трудом. Как будто никак не мог в толк взять, почему я ночью так громко орала. Ну а когда я из дома выходила, все время по сторонам озиралась. Как будто я маленькая девочка, которая в первый раз дорогу переходит. У меня было такое чувство, словно на мне все большими буквами написано и все это видят. Вот так вот все время от страха и дрожала. Пока не поняла наконец, что бояться мне нечего. Потому что никто на самом деле ничего не видел и, во что я ночью превращалась, не догадывался.
Жили мы тогда в маленькой — всего полторы комнаты — квартирке, и каждый раз, как я выходила на улицу и шла в магазин за продуктами, мне с трудом удавалось справиться со своим лицом. Я была точно бутылка с содовой, которую сильно потрясли. Стоит из нее пробку вынуть — и полбутылки на землю выльется. В первый месяц после свадьбы моя бутылка была все время закрыта пробкой. Я смотрела на людей и думала: «Как же это может быть? Если они все тоже этим по ночам занимаются, почему же у них тогда лица у всех такие пресные?» Взять вон хотя бы Яффу, которая возле нас жила. Я все время на нее смотрела и пыталась найти у нее на лице хоть какие-нибудь оставшиеся от ночи следы.
Ты тогда еще на стройке штукатуром работал, и я тебе каждый день еду приносила. Вообще-то я приходила, чтобы с тобой повидаться. Не могла дождаться, пока ты с работы вернешься. Но приходила я и еще по одной причине. Чтобы поглядеть на Циона, мужа Яффы. Он тогда тоже на вашей стройке работал. Я хотела проверить, нет ли и у него тоже каких-нибудь признаков животного. Но никаких признаков не было. И еще одного я никак понять не могла. Как, думала я, после такой бессонной ночи у всех остальных людей еще и силы работать находятся? Я вот, например, от усталости просто умирала. Искупаюсь, бывало, оденусь, свои длинные, до пояса, волосы расчешу, в косу их заплету, продуктов в лавке куплю, еду приготовлю, на работу ее тебе отнесу, в нашей маленькой квартирке приберусь и, если делать больше нечего, ложусь и сплю до твоего прихода.
Только через какое-то время, когда я уже на третьем месяце беременности была — я тогда Коби в животе носила, — я вдруг поняла, что не все этим всю ночь напролет занимаются. Боже, какой я тогда была дурой! Какой наивной дурочкой я была!
Господи, а может быть, перед тем, как меня «катюша» убьет, Ты мне хоть ненадолго голову поменяешь, а? Нет, правда. Вместо той головы, что у меня сейчас, вернешь мне на время голову той наивной дурочки? Ну прошу Тебя, Господи, сделай такую милость! Хоть на одну минуточку верни мне голову той Симоны, которой было всего восемнадцать и у которой не было еще на плечах ни всех этих забот и горестей, ни страха перед будущими горестями и заботами. Лежат они у меня на плечах, как пудовые гири, и не дают моей голове вращаться. Хоть на одно короткое мгновенье посади мне на плечи тот вертлявый волчок, который верил, что у всех людей на Земле все происходит абсолютно одинаково и что все только притворяются квелыми, чтобы никто не догадался, где они по ночам путешествуют.
Как я любила, Масуд, когда ты лежал возле меня и медленно расплетал мне косу. Если ты делал это слишком быстро, я притворялась, что ты сделал мне больно, и вздрагивала. И все только для того, чтобы ты еще раз зажег в моем ухе свою спичку и прошептал: «Тихо, тихо, кисонька моя». Твои пальцы были как ноги четырех босых гномов, поднимавшихся по моей лестнице — с самого низу до самого верха, — а голос твой, совсем как тогда на пароходе, снова вызывал у меня смех. Потом я поворачивалась к тебе лицом и укладывала свои руки спать у тебя под мышкой. Волосы у тебя там были как волоски на початке кукурузы, который от листьев очистили, и это было самое нежное изо всех мест на твоем теле, трогать которые я не стеснялась. Потом я подносила руки к носу, чтобы узнать, как пахнет сегодня твой пот. Обнюхивая свои руки, я вдыхала запахи твоего рабочего дня. Я даже просила тебя не мыться в душе, когда ты приходил с работы. Каждый день запах у тебя был разный, и я всегда знала, когда ты чего-то испугался, когда кто-то сказал тебе что-то хорошее, когда кто-то тебя разозлил или когда день у тебя выдался легким. Сам-то ты мне никогда ничего не рассказывал, а когда я спрашивала, говорил «все нормально» — как будто сплевывал застрявшую в зубах кожурку от семечек, — и больше из тебя ни одного слова вытянуть было невозможно.
А знаешь, Масуд, я ведь чувствую сейчас твой запах! Честное слово, чувствую! Не запах масла, в котором ты жарил фалафель, а твой прежний запах, когда ты еще штукатуром был. Ты вернулся ко мне, Масуд. Мне не хочется открывать глаза. Мне достаточно одного твоего запаха.
О чем же нам с тобой поговорить? Мы ведь уже целых шесть лет не разговаривали. Шесть лет я с тобою в ссоре была, даже на фотографию твою глядеть не хотела. Хотела только одного: поскорее тебя забыть. Но сегодня я хочу, чтобы мы помирились. Ведь еще одной ночи для этого у меня уже не будет.
Как мне рассказать тебе про тот день, когда у меня забрали твое тело и закопали его в землю? Как рассказать тебе про Симону, чье тело осталось здесь, на Земле?
В тот день возле твоей могилы вместе со мной стояли все наши маленькие тайны и секреты. Те, про которые вслух не говорят. И никто, кроме меня, их, естественно, не видел. Я привела их с собой, чтобы они смогли с тобой попрощаться, но ты оказался сильнее меня и все они попрыгали к тебе в могилу. Ни один из них не захотел остаться со мной, и шесть лет я о них не вспоминала. Похоронила — и похоронила. Но сегодня я их всех из могилы повытаскивала. Одного за другим. Все наши маленькие секреты и тайны, которые ушли от меня вместе с тобой.
Помнишь, Масуд, как однажды ночью я начала кормить Эти грудью, а она только два раза пососала и уснула? Я говорю тебе:
— Отнеси ее в кроватку, она уже спит.
А ты мне — шепотом, чтобы она не проснулась:
— Смотри, Сими, какие у нее ручки. Видишь она пальчики в кулачки не сжимает, раскрытыми их держит. Это значит, что она ничего не боится. Поверь мне, я знаю, что говорю.
В другой раз я тебе сказала:
— Иди посмотри, как Коби спит. Прямо как убитый. Голову на подушку положит и до самого утра не шевелится.
А ты:
— Ну, теперь понятно, почему он у нас такой сильный по утрам просыпается.
А помнишь, как мы увидели, что Ицик и Дуди вместе в кровати спять, спина к спине? Ты тогда сказал:
— Давай закроем дверь, не будем им мешать…
Дай-ка мне твою руку, Масуд. Давай вспомним, как мы делали это когда-то. Нет, не правую, другую. Вот она, твоя рука. Пусть она отправится в самое длинное путешествие. Пусть она придет в то место, где зарождается жизнь. Скоро на меня упадет «катюша», и я пойду туда, где теперь живешь ты. Сегодня ночью мы уйдем с тобой вместе, рука об руку. Вдвоем уйдем. Не позволим больше нас разлучить — чтобы ты был там, а я — здесь.
Нет, не буду открывать глаза, пока мы не придем домой. Я очень хочу, чтобы ты сейчас пошел со мной домой. Чтобы я поверила, что ты действительно воскрес из мертвых, что перепрыгнул через эти долгие шесть лет и пришел ко мне. Ну что? Ты идешь или нет? Это — лестница нашего дома. Иди ты первым. Открывай дверь и входи. Шесть лет — это и много, и мало. Но теперь, когда ты со мной, этих шести лет как не бывало. Как будто прошло только одно мгновенье.
Какую хочешь дверь открывай. Теперь обе квартиры наши. Два с половиной года назад нам отдали квартиру семьи Эльмакайес, которая переехала в Тверию. Стену между квартирами сломали и сделали из них одну. Тогда у нас были тут выборы и многие переехали на новые квартиры. Семья Амселем переехала в один из ступенчатых домов. Даганам и Битонам, как и нам, сделали одну квартиру из двух. Румыны, что жили под нами, переехали в новый дом, возле «Скорой помощи». Одним словом, все, у кого на плечах была голова, или переехали, или расширились.
Постой, погоди, куда ты? Почему ты не открываешь дверь? Почему не заходишь? Из-за этой истории с выборами, что ли? Да не волнуйся ты так. Я тебе все расскажу. Вот, слушай; я уже рассказываю. Как-то раз, перед выборами, приходят ко мне и спрашивают: «Хочешь?» Я говорю: «Ну было бы неплохо». Это все, что я им сказала. «Было бы неплохо». Ну и что тут такого? Ведь во время выборов, в кабинке, твоих рук никто не видит и что ты там в урну бросаешь, не знает, правда? Да и всех-то делов — бумажку с нужным именем в урну положить. Подумаешь! Чего ты вдруг в потолок-то уставился? Что ты хочешь этим сказать? Что мы до сих пор так и должны были в двухкомнатной квартирке ютиться, да? Ну ладно, хватит тебе уже в потолок глядеть. Да, я проголосовала за кого нужно. Признаю. Ну и что? Да по мне — пусть они там хоть провалятся все! Плевать мне, каких они там бумажек в урну накидают и чье имя будет на этих бумажках чаще других красоваться.
Вообще-то, если честно, я на эти выборы даже и идти-то не собиралась. Но тут слышу: стучат. Открываю: они. На машине за мной приехали, как за королевой. Ну, я в чем была, в том и поехала: без сумки, без карманов. Только паспорт с собой взяла. Ну, привозят они меня на избирательный участок, суют мне в руки свою бумажку, а я, как за занавеску зашла, думаю: «А что, если мне ихнюю бумажку подменить? Взять да и кинуть вместо нее бумажку, которую ты бы хотел, чтобы я кинула?» Но потом я испугалась. «А вдруг, — думаю, — они ее достанут и догадаются, что я их бумажку своей подменила? Ведь ихняя бумажка, она уже не новая; на ней пятна от пальцев есть. Они в момент подмену распознают. И вообще. Может, они сейчас там на часы смотрят и думают: что это, интересно, она там столько времени делает?» В общем, стою я там, возле избирательной урны, и дрожу как осиновый лист. Никак не могу решить, что мне делать. Ну а потом все-таки взяла да и бросила в урну бумажку, которую они мне сунули. Села в их машину, отвезли они меня, куда я попросила, а через четыре месяца после выборов нам квартиру расширили. Чтобы для детишек больше места было.
Ну и чего же ты, Масуд, хочешь, а? Хочешь у нас эту квартиру забрать, что ли? Чтобы мы снова вернулись в маленькую? Между прочим, люди говорят, что мы ее совсем не из-за выборов получили. Говорят, что все это просто россказни. Говорят, что мы ее получили из-за того, что в поселке новые дома построили и было куда людей переселить. А еще говорят, что сделали это для того, чтобы министерство строительства поняло наконец, что многие нуждаются в жилье и что надо строить больше новых домов. Даже Эдри — и те получили. Хотя все прекрасно знают, за кого они голосуют. Ну ладно тебе, хватит уже в потолок-то глядеть. Открывай уже давай. Только заходи тихонько, чтобы дети не проснулись. А то еще, не дай Бог, тебя увидят. Как я им объясню, что ты вернулся только на одну ночь?
Здесь у нас раньше кухня была, но Ицик ее в свою комнату превратил. Даже и не знаю, как он сюда кровать свою втащить ухитрился. Мы с Коби на него кричали, но он нас не послушал. Изо всех сил надавил — она и пролезла. Здесь теперь даже для швабры места нету. А вон там, в раковине, — птица его. Хорошо, что она сейчас спит, а то я ее страх как боюсь. Я и его-то самого боюсь. Целыми днями только на нее и смотрит. Будто она ему жена. И разговаривает только с ней да с Дуди. Школу бросил, по улицам шляется. Вот до чего докатился. Хорошо еще, воровать не начал. Ну ладно, хватит уже возле него стоять, пошли дальше. Да, такой уж он у нас, Ицик. Не знаю, почему он так лежит. Никогда раньше не видела, чтобы он так лежал. Не ведаю, что у него на уме. У него лицо все время как каменное. Я как-то раз сюда зашла, а тут такая вонь, что я сразу выбежала. И больше не заходила. Совсем уже взрослый стал. Я и не заметила, как он вырос. И что бриться начал, тоже не знала. И как он этими своими руками бриться ухитряется, не понимаю. Даже не знаю, как это я проглядела, что он так вырос. Ему вон уж и бар мицву устраивать пора. Но какая там бар мицва. Как же он без отца к раввину-то пойдет? Да и денег у меня на это нету.
Ладно. Ты, Масуд, пока проходи, а я возле него еще чуток постою.
Постой! Тебе туда одному нельзя. Подожди меня. Это комната Дуди. Он в своей кровати никогда до утра не долеживает. Встает посреди ночи и идет в новую половину квартиры спать, к братьям своим. Это вот их комната. Хотя места теперь и много, они все равно все вместе спят. Прямо как селедки в бочке. Эти — та уже большая. Вон она, на второй кровати лежит. А Дуди — на соседней кровати, видишь? Ну а это новенькие наши. Постой-ка, я приподыму одеяло, чтобы ты мог получше разглядеть. Их зовут Хаим и Ошри. Они близнецы. Перед тем как уйти, ты оставил их мне в животе. Я назвала их в честь тебя. Так что поздравляю вас, господин Дадон. Пять с половиной лет назад у вас родились двое сыновей. Знаешь, я себя сейчас прямо как медсестра в больнице чувствую. Как будто я вышла в коридор, чтобы сообщить тебе, кто у тебя родился.
Нет, Масуд, я не разрешаю тебе их на руки взять. Я не хочу, чтобы до них мертвец дотрагивался. Живые и мертвые, они ведь, знаешь, друг с другом не очень-то хорошо уживаются.
Ой, проснулись. Почему они тебя дедом называют? Это потому, что они тебя своим дедушкой считают. Только, смотри, не напугай их мне.
Куда ты? В нашу комнату? Это правильно. Тебе надо немного отдохнуть. Я тоже с тобой пойду.
Постой, погоди. Ты что, уже собрался уходить? Да нет же, это не мой любовник. Ты посмотри на него хорошенько. Это ж Коби! Наш с тобой Коби. Ты что, своего первенца, что ли, не узнал? Он просто со мной в одной кровати спит. Нет, я мужиков в дом не вожу. Только твоему сыну спать с собой и позволяю. С тех пор как близнецы родились, мы с ним не разлучаемся. Ты не представляешь, какой он у нас молодец. Ему еще и четырнадцати не было, а он мне уже с малышами управляться помогал, по ночам не спал. И что бы я без него делала, даже и не знаю. Эти, например, та всегда как убитая спала. Проснется, бывало, утром и говорит: «Что же ты меня не разбудила? Я бы тебе помогла». Один только Коби меня с близнецами и выручал. Бутылочки им давал, пеленки менял, купал. Ни на минуту меня не бросал. Сейчас ему уже девятнадцать. Работает, зарплату домой приносит. Просто загляденье, а не сын.
Почему он спит со мной? Да из-за Ошри и Хаима. Чтобы они думали, что он их папа. Чтобы у них тоже папа и мама были, которые в одной комнате спят. Как у всех других детей.
Так что, как видишь, жизнь продолжается, да-а. Ты вон, помню, как чего случится, встанешь посреди комнаты, бледный весь, ноги поширше расставишь и говоришь: «Все, Симона! Если такое произошло, значит, конец света уже близко». А вот и нет. Ты вон сейчас в могиле лежишь, а у нас тут двое мальчишек бегают. Или вот, например, на меня погляди. Лежу я сейчас тут, на стадионе, и «катюшу» жду. И что ты думаешь? Если Симона умрет, конец света наступит? He-а, не наступит.
Смотри, какой у нас Коби красавец стал. Видишь, как он с бар мицвы изменился? Ну сам подумай. Зачем мне нужно каких-то мужиков искать, если у меня Коби есть? Зачем мне другой отец для Хаима и Ошри? Смотри, какой у него нос. Тонкий, как у девушки. Наклонись-ка чуть-чуть поближе. Видишь, у него под носом горка такая маленькая есть? Точь-в-точь как у тебя. А рот? Посмотри, какой у него рот. Такой же, как у тебя на пароходе был, когда я тебя первый раз увидела. А губы? Видишь, какие у него губы? Припухлые такие и ярко-красные. Точно их помадой накрасили. И смеются все время. Как будто ему всегда весело. Даже когда у него на сердце тяжело, по нему все равно не видно. И подбородок у него сильный. И уши красивые. Маленькие такие, как у девочки. Когда ты смотришь на его нос, рот и уши по отдельности, они могут тебя с толку сбить. Смотришь на них и не понимаешь, то ли это мужчина, то ли женщина. От его лица просто голова кругом идет. Но посмотри на все это вместе и что ты увидишь, а?
Что, сбежать хочешь? Увидел Коби в собственной постели и опять решил, что конец света наступил, да? Иди-ка лучше ко мне. Полежи со мной в футбольных воротах. Ладно, не пойдем домой. Я понимаю, как тебе тяжело возвращаться туда, откуда ты ушел шесть лет назад. Но я тебе еще кое-что сказать хочу. Когда Ицик родился, ты тоже думал, что наша жизнь кончилась. Но она не кончилась. Полтора часа я там лежала одна, с раздвинутыми ногами. Почему одна? Я тебе скажу почему. Потому что все, как нашего ребенка увидали, так сразу и сбегли. И даже не сказали мне ничего. А медсестра, та вообще. Как только пальцы у него на руках и на ногах увидала, как завизжит. Все на ее крик сбежались, схватили ребенка и унесли. А меня так и оставили лежать с ногами в воздухе. Даже не зашили. Только послед вынули и ушли. И унесли ребенка так быстро, что даже посмотреть на него не дали. Да если бы у меня даже чудище с тремя головами родилось, все равно так убегать нельзя. Прямо как собака я какая-то там лежала. Даже хуже, чем собака. Потому что если б я собакой была, то хоть бы язык высунула да голову ему облизала. И никто бы мне в ухо не визжал. Ну а ты? Ты-то в это время где был, а? К мамочке своей побежал. Плакаться… Конечно, ты же считал, что конец света наступил. Даже и не спросил меня потом, что я там пережила. Ну так я тебе сейчас скажу. Пока я там лежала, а они где-то с моим ребеночком бегали, у меня ужасно ноги затекли и я была холодная, как лед. И мне страшно хотелось пить. И чего я только не делала: и орала, и плакала… Но меня никто не слышал. Только стены одни. Мне, Масуд, тоже тогда казалось, что конец света наступил. Думала, так там с раздвинутыми ногами и помру. Слава Богу, уборщица тамошняя меня в конце концов услыхала. Попить мне дала и врачей позвала, чтобы зашили.
Ты вон после этого целых полгода кидуш[18] делать не хотел. Не мог на нашего ребеночка смотреть и кидуш в субботу делать. Я даже на него рубашки большие надевать стала. Чтобы рукава ему ручки прикрывали и чтобы тебе на них все время глядеть не приходилось. Но ничего не помогало. Ты его как только видел, сразу морду воротил. Так что мне снова пришлось тебя за руку брать — чтобы ты понял, что жизнь продолжается, — и я почти сразу забеременела. И все только для того, чтобы к тебе опять румянец вернулся. Года не прошло, как я тебе здорового ребенка родила. Дуди. Повезло мне. Сын у меня родился. Услышал Господь мои молитвы.
Каждый раз, как ты к матери сбегал, я со стыда помирала. Скажешь, бывало: «Я тут ненадолго к матери заскочу, ладно? Может, ей там с курятником надо помочь или еще чего» — и исчезаешь. Сильного из себя изображал. А она вроде как слабая была, в помощи твоей нуждалась. Но я-то знала, почему ты к ней сбегаешь, знала. Не сумела я тебе нормальную жизнь обеспечить, вот ты и бегал. Сядешь на автобус — и через пятнадцать минут уже у нее. И сидишь там по полдня. Ешь, пьешь, газету читаешь, спишь — а домой не идешь. Так что мне приходилось самой за тобой туда ездить. Приеду, бывало, а вы сидите там на кухне и воркуете. Как две сытые голубки. А я вроде как голодная кошка, которая вам на голову свалилась. И ты меня даже взглядом не удостаивал. Только на Коби и смотрел. Или на Эти. Или на Ицика. Если я с ними приезжала. И мама твоя туда же. Никогда не забуду, как она на меня однажды поглядела, когда встала, чтобы чай мне приготовить, и к тебе спиной повернулась. Глаза у нее, как две ледышки, были. Она, правда, не сказала ничего, но я-то знала, что у нее на языке вертится. Ее слова как будто у нее за зубами стояли. Как дети в яслях возле забора стоят, когда на улице трактор работает. Я прям будто слышала, как она мне говорит: «Когда мой сынок жил со мной, он у меня как сыр в масле катался. Но теперь, когда ты его у меня забрала, не я, а ты его холить и лелеять должна. Видела бы ты его сегодня, когда он сюда пришел. Белый был весь, как мертвец. А сейчас вишь какой? Опять румянец на щеках играет». Правда, через пять минут, когда с чаем вернулась, подобрела. Смотрит на меня уже по-новому и как будто говорит: «Ничего не поделаешь, доченька. Такие уж они, мужики, как дети малые. Такова жизнь. Терпи Масуда, какой он есть, и все будет хорошо».
Да и сестры твои тоже. Что Шошана, что Яффа, что Рахель — один черт. Все из одного теста сделаны. Войдут, бывало, расцелуют, и давай щебетать. «Ой, какое у тебя платье красивое! Где купила?» «Ой, какой Коби симпатичный!» «Ой, смотрите, как Эти выросла, прямо красавица. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить». Ну просто соловьями заливаются, да и только. Но когда они все это щебетали, у них на губах все время ухмылка такая кривая вертелась. Как будто они мне говорили: «Вот, значит, как ты о своем муже заботишься, да? Понятно, понятно. Ну и что, скажи на милость, проку от всей этой твоей красоты и от платьев твоих, если тебе приходится за ним к свекрови бегать?»
Вот какую цену мне приходилось платить, чтобы тебя у твоей матери выкупить.
В поселке-то у нас про это не знал никто. Наоборот. Говорили, что я тебя в ежовых рукавицах держу и что кручу тобой как мне вздумается. Помню как-то раз в кино пришла, а Шушан у меня за спиной говорит:
— Кто? Масуд Дадон, что ли? Да он даже если пукнуть захочет, и то сначала домой сбегает и у жены разрешения спросит.
Ну, вот и ушел от меня мой Масуд. Как пришел, так и ушел. Даже и не оглянулся перед уходом. Да и вообще все время отворачивался. Как будто не хотел на меня смотреть. Так и не узнал, что со мной за эти шесть лет приключилось. И даже не спросил, как я без него тут справляюсь. Сбежал к себе обратно в могилу, а меня не взял. А ведь я без «катюши» к нему пойти не могу.
Все. Ни спины его у меня больше нету, ни руки… Даже запах его — и тот от меня ушел.
Если бы я могла, сейчас бы сняла с ворот сетку и положила ее себе на плечи. Только как же я это сделаю? Ведь мне нечем ее срезать. У меня с собой только сумочка, которую я шесть лет не открывала. А может быть, в ней маникюрные ножницы есть? Кстати, а что в ней есть вообще?
Нет, не могу я ее сейчас открыть. Пока не могу.
Я снова утыкаюсь носом в вырез платья. Хочу уснуть. Пусть сон заберет меня к себе.
Я прихожу на кладбище и ищу там могилу Масуда, но никак не могу ее найти. Ее нигде нет. Там, где была его могила, растут теперь шесть высоких колючих репейников. Ничего не могу понять. Я трогаю земле в том месте, где должна быть могила, и вижу, что она плотная, что ее еще ни разу не копали. Мои красные ногти ярко выделяются на фоне колючек. С другой стороны кладбища слышен голос нашего раввина. Он читает псалмы. И как это я не заметила, что на кладбище другие люди есть? Я трогаю голову, чтобы убедиться, что она покрыта платком и в мой палец впивается заколка. Не понимаю. Откуда вдруг на голове у меня оказалась прическа, которую я сделала для бар мицвы Коби? Я поднимаю голову, чтобы посмотреть, чью могилу пришли навестить, и вижу, что это не раввин никакой, а пчела, которая жужжит так, словно молится.
Я иду по центру нашего поселка. У меня красивая прическа, на мне расклешенная желтая юбка и черная блузка с желтым воротником. Вхожу в фалафельную. Масуд поворачивается ко мне спиной, а я говорю:
— Масуд, бросай все и пошли со мной. Прямо сейчас.
Но он не отвечает. Я слышу, как сзади кто-то смеется. Это его отец. Он говорит:
— Шмуона! Шмуона! Как дела, Шмуона?
Точь-в-точь как он смеялся надо мной, когда еще был жив. Я оборачиваюсь и вижу, что он сидит на высоком ящике, на котором раньше сидела Эти, когда приходила в фалафельную помогать Масуду, и, как ребенок, играет с кассовым аппаратом: нажимает на кнопку, раздается звонок, и выдвигается ящичек с деньгами. Он его задвигает и снова нажимает на кнопку.
— Смотри, — говорит, — Шмуона, что я делаю. Видишь?
Я поворачиваюсь к Масуду, подхожу ближе, но он по-прежнему стоит ко мне спиной и режет овощи для салата. Я говорю:
— Бросай все дела и пошли домой!
А он показывает ножом на большой таз, и говорит:
— Смотри, сколько хумуса я сегодня наготовил. Тут на тысячу лир будет. Разве тебе не жалко тысячу лир? Ты что, не знаешь, что сегодня раввин Кахане[19] приезжает? Слышишь, громкоговоритель проверяют? Он вот-вот уже приедет, и все его слушать придут. Жалко такой случай упускать. Я сегодня половину выручки Дня независимости сделаю.
— Масуд, — хнычу я, — я есть хочу. Сделай мне несколько шариков.
А он говорит отцу:
— Что это с ней сегодня? Она в жизни моего фалафеля не ела. Никогда даже к прилавку не подходила.
И голос у него такой, будто он выиграл в лотерею десять миллионов лир, но своему счастью еще не верит. Я начинаю упрашивать его, как маленькая:
— Ну пожалуйста, Масуд, сделай мне фалафеля.
А он:
— Через полминуты будет готов. Сколько шариков ты хочешь? Четыре?
Он так рад, что кажется, вот-вот плясать начнет, и делает шарики очень быстро. Они выходят у него очень красивыми. Я говорю:
— Я хочу много.
Но он на меня не смотрит. Тогда я говорю:
— Я хочу их все, и чтоб ты сделал их только для меня. — А сама смотрю на хумус и думаю: «Как же я все это съем?» — Если, — говорю, — кто-нибудь за фалафелем придет, скажи, что закрыто. Я съем все, что ты сделаешь, и мы сразу пойдем домой. У нас мало времени.
И тут его отец говорит:
— Смотри, Шмуона, как красиво уложены деньги. Кучками, видишь? Это я их тут так разложил. Все их для тебя разгладил; сотни положил на сотни, полусотенные — на полусотенные, десятки — на десятки, а однолировые — на однолировые.
Мне не хочется на него смотреть, потому что он умер от инфаркта еще до открытия фалафельной и из них двоих только один Масуд сейчас живой. Масуд подходит ко мне с шариками фалафеля — на каждом пальце у него надето по шарику — и я начинаю есть прямо с его пальцев. Шарики горячие и обжигают мне рот. Я съедаю все, но мне хочется еще. Однако он больше не жарит и смотрит мне в глаза неподвижным взглядом, словно его глаза остекленели. Только губы движутся.
— Ешь, — говорит, — Сими, на здоровье, сколько хочешь. Ешь, ешь.
А потом опускает глаза и смотрит в пол. И голос у него становится такой, будто он хлебнул скисшего молока. Или будто деньги, которые он выиграл в лотерею, оказались фальшивыми.
— Я, — говорит, — Симона, сегодня домой не приду. Когда с хумусом разделаюсь, с отцом уйду. Я сегодня умру, Сими. Я сегодня умру, так и знай.
Я начинаю бить его по голове. Он вот-вот упадет на плиту, на которой стоит кастрюля с подгоревшим маслом. Он не кричит на меня, не отбивается, только старается устоять на ногах. Но чем больше я его луплю, тем он все больше и больше уменьшается в размере. Когда он становится ростом с маленького ребенка и доходит мне до пояса, я хватаю его и хочу поднять на руки. Одной рукой я держу его под коленками, а вторую за спину завела. Но он тяжелый. Хотя ростом он и уменьшился, его вес не изменился. Я поднатуживаюсь, ноги Масуда отрываются от земли, и я направляюсь к выходу: хочу отнести его на руках домой, чтобы он не ушел с отцом. Запахи масла и кинзы, впитавшиеся в его одежду, меня просто убивают, но, несмотря на это, я утыкаюсь носом в его рубашку и не вижу, где выход из фалафельной. В конце концов мне все-таки удается донести его до двери, но тут на меня набрасывается его отец и отнимает у меня сына своего. И все время со смехом приговаривает:
— Шмуона, Шмуона, как у тебя сегодня дела, Шмуона? — А потом перестает смеяться, хватает меня за руку и говорит: — Иди-ка сюда, Симона. Забирай все деньги из кассы. Они нам больше не понадобятся. Что мы там с ними делать будем? Бери, бери, не стесняйся. Давай откроем кассу вместе.
Он берет меня за палец и нажимает им на кнопку, но ящик не выдвигается. Звенит, но не выдвигается.
Я открываю глаза и понимаю, что все это мне приснилось. Уже утро. Светает. Во рту у меня сухо. Трава на футбольном поле покрыта росой. Как будто она всю ночь меня слушала и плакала от жалости. Я переворачиваюсь на живот и слизываю с травы росу. Ночная влага, она самая чистая. Я сажусь, беру сумку и открываю ее. Внутри пахнет «нашей Симоной» — духами и пудрой. Я вижу там тушь для ресниц, которая за шесть лет уже засохла, увеличивающее зеркальце, пинцет, пузырек с лаком, флакончик духов и белый платок в пакетике для шабат-хатана. И еще там есть пара новых шелковых чулок, чтобы было во что переодеться, если будет затяжка. Все эти вещи сидят у меня в сумке и смотрят на меня. Я засовываю руку поглубже, до самого дна, и нащупываю там что-то твердое. Только не могу понять, что это. Вынимаю и вижу, что это нож, завернутый в салфетку. Я взяла его на бар мицве Коби. На память.
Я расстегиваю молнию маленького кармашка и вынимаю из него спичечный коробок. Открываю его и вижу кольцо, которое Масуд дал мне на свадьбе. Оно лежит на ватке, как больной на смертном одре, с которого уже никогда не встанет. Я не надеваю его на палец, а вместо этого кладу в рот и сжимаю зубами. Затем закрываю сумку и хочу встать, но ноги меня не слушаются. Я хватаюсь обеими руками за штангу ворот и с трудом ставлю себя на затекшие от долгого лежания ноги.
Из-за небольшого холма, на котором стоит кладбище, показывается солнце. Его нижнюю половину скрывают кладбищенские деревья, а верхняя освещает землю у меня под ногами, и образовавшееся вокруг световое пятно выглядит как ковер. От футбольного поля до могилы Масуда всего каких-нибудь пятнадцать минут ходу, но сегодня я туда не пойду. Не буду устраивать ему очередных поминок. Приду туда как-нибудь в другой раз, одна, разрою землю возле могилы, положу туда кольцо, чтобы оно лежало рядом с Масудом, засыплю его землей и разведусь с ним наконец.
Я хочу выйти из ворот, но руки мои словно приросли к штанге. Я стою, продолжая держаться за нее, и вдруг вспоминаю тот день, в яслях, который мы не забудем никогда. Когда все наши детки, которые до этого только ползали, подарили нам бесценный подарок: позволили нам увидеть, как они в первый раз пошли. Господи, какой это был день! Мы назвали его «Днем первого шага». Все вдруг разом взяли да и пошли! Как сейчас вижу Шломи, вставшего на ноги первым. Он сделал два шага, ухватился за стол и, как ни в чем не бывало, взял из тарелки банан. Как будто до этого сто лет только и делал, что ходил. После Шломи пошла Зива. До этого она только на четвереньках ползала и вдруг как встанет! Постояла-постояла, расставив ноги, посреди комнаты, закачалась и свалилась. Еще раз встала — и опять шлепнулась. Но на третий раз, когда уже поняла, что ноги так широко расставлять не надо, сделала один шаг и села на попку. Вообще-то она у нас пошла поздновато. Ей тогда уже год и пять месяцев было. Ну а после Зивы и другие начали на ноги вставать. Мы так очумели, что даже их спать уложить забыли. И со столов убрать забыли. Вообще обо всем позабыли. Развеселились — просто ужас. Стали их хватать, в щечки и в ножки целовать и посреди комнаты ставить, чтобы они и дальше ходить продолжали. А потом, кто бы вы думали, встал? Ави! Ему тогда всего десять месяцев было. Встал себе и стоит в сторонке. Вцепился в стол, качается, смотрит на других детей и смеется. Я на секунду отвернулась, а потом случайно в зеркало взглянула и глазам своим не поверила: он уже идет! Правда, поначалу он этого испугался. До следующего стола доковылял, свалился и заплакал. Но через полчаса ходил уже так же бойко, как и все остальные. Ну, думаем, если даже такой карапуз, как Ави, пошел, — не иначе как Бог решил у нас сегодня в яслях чудо сотворить. Когда матери пришли забирать детей, они поначалу нам не поверили, но, как только увидели, что мы правду говорим, вместе с нами смеяться стали. Отовсюду только и было слышно: «Иди ко мне! Иди ко мне!»
Наконец мне удается оторваться от штанги и мои ноги отправляются в путь. Во рту у меня обручальное кольцо, и я дышу через нос. Воздух пропитан запахом нового утра, и он возвращает силу моим ногам.
Не доходя до кладбища, я останавливаюсь. Нет, не хочу я хоронить кольцо возле Масуда, не хочу рыть для него там могилу, не хочу сидеть по нему шиву, а потом всю жизнь устраивать по нему поминки.
Я сажусь на землю, достаю нож, оставшийся у меня с бар мицвы, выкапываю ямку, разжимаю зубы, смотрю, как кольцо падает на дно, и засыпаю его землей.
Потом я встаю и иду в сторону кладбища. Пройдя пять или шесть шагов, я оборачиваюсь. То место, где я закопала кольцо, отсюда пока еще видно. Я прохожу еще немного и снова оборачиваюсь. Солнце светит мне в спину. Я начинаю искать могилу кольца глазами, но теперь я уже не уверена, где она. Может быть, вон там. А может быть, и тут. Нет, наверное, все-таки там. Да, точно! Она — там. Я прохожу еще чуть-чуть и оборачиваюсь в последний раз. Солнце светит мне в глаза, и ничего больше не видно. Прощай, кольцо. Даже если я захочу к тебе вернуться, я уже не смогу тебя найти.
И вдруг со стороны кладбища я слышу голоса. Это голоса моих детей. Кто же это там? Эти, что ли? А это чей голос? Ицика? Или Дуди? А может быть, Коби? Нет, по-моему, это Хаим и Ошри. Как же это может быть? Ведь еще только пять утра, от силы полшестого. Еще даже и машина не приехала, которая людей из бомбоубежищ по домам развозит. Вот так да! Кто бы мог подумать, что они в такую рань встанут, чтобы к отцу на могилу пойти?
Дуди и Ицик Дадон
— Дай ее сюда! Дай, тебе говорят! Ну кто так птиц держит, а? Ты же ее так убьешь. Отдай, сказал. Смотри, что ты с ней сделал. Ты ей так крыло сломаешь. Она же нежная. Нежная она! Ты что, не понимаешь, что ли?
— Но Ицик, ты же сам говорил, что она сильная. Ты сказал, она самая сильная в мире. А теперь совсем другое говоришь. Ты все время другое говоришь!
— Сильная-то она сильная, это верно. Но и нежная. С ней осторожно надо. С ней надо сначала думать и только потом делать. Помнишь, сколько у нас времени ушло на то, чтобы ее из гнезда достать? И сколько нам пришлось по крышам полазать, пока мы ее гнездо нашли? Короче, с ней терпение нужно, понимаешь?
— Осторожно, она тебе в руку срет.
— Ну и пусть себе срет, мне все равно. У нее даже какашки и те красивые. У нее все красивое, ничего не противное. Она как королевна. Королевна всех птиц. Слушай, а ты видел, как она писает?
— Да у нее и писек-то нету.
— Откуда ты знаешь?
— Я за ней слежу. Из нее только одни белые какашки вылезают. Слушай, а дай мне ее тоже подержать, а? Ну дай, что ли. Я от тебя все равно не отстану. Ты же обещал, что она будет поровну наша.
— Да бери, бери. Только осторожно, ладно? Смотри, как она у меня сидит. Видишь, я ее не боюсь. Всю руку ей даю, не сгибаю. Чтобы она стоять могла.
— Не, Ицик, я так не могу. Я не могу, чтобы она у меня на руке стояла. Возьми-ка ее лучше ты. На, бери. У тебя руки как будто специально для этого сделаны. У тебя просто рука ничего не чувствует, поэтому ты и можешь ей всю руку подставлять. Она вон тебе ее уже всю продырявила, клювом своим, а тебе хоть бы хны. Даже и не пикнул ни разу. Смеешься, как будто она тебя целует.
— Ладно, давай ее сюда. Тебе ее надо в перчатках брать. Есть такие перчатки специальные, для инвалидов. Их в «Керен кайемет»[20] выдают, чтобы они могли из земли репейники выдергивать. Мы туда с тобой как-нибудь сходим и возьмем. А теперь дай-ка ей немножко мяса. Только немножко, чтобы не привыкала. Нам оно еще понадобится, когда мы ее дрессировать будем. Только ты его порежь. Она ведь как королевна ест, маленькими кусочками. Я должен придумать, что с ней делать. Нам нужен какой-нибудь кожаный ремешок, чтобы привязать ее за ногу.
— А что, шнурки разве не подойдут? Я думал, мы свяжем несколько шнурков, и все. Я даже их принес.
— Ты что, Дуди, какие шнурки? Она же королевна. Королевен шнурками не привязывают. Шнурок ей лапку порежет. Нет, она, конечно, сильная, это правда. Но и нежная тоже. Она мне дороже всех на свете. Я для нее все, что угодно, сделаю. Помнишь фильм про Кес?[21] Все, что там Кес просила, я ей тоже это дам. Я ей такой дворец отгрохаю, она из него улетать не захочет. Понял? Чего ты мне рожи-то корчишь?
— Какие еще рожи? У меня палец болит. Я его, наверное, сломал, когда упал.
— Где упал? Ты же вроде не сильно упал.
— Да нет, это не из-за нее. Это когда я нес книгу про птиц. Мне показалось, что ты свистнул, — ну я и сиганул в кусты. За книгу испугался. Даже изо рта ее выронил. А там из земли торчала железяка, черт бы ее подрал.
— Ладно, ладно, посиди тогда немного, отдохни. Только смотри, не плачь у меня, понял? И отдохни как следует. Потому что тебе сегодня надо будет еще кое-что сделать.
— Какое еще «кое-что»? Ты же сказал: «Это все». Опять ты все время разное говоришь! Сначала сказал: «Мы только ее принесем — и все». Потом сказал: «Мы только книжку возьмем, чтобы точно знать, что она самка». А сейчас опять «кое-что»? Ты и про книжку говорил, что она «кое-что». А у меня теперь палец раздулся, как сосиска. Во, смотри. Знаешь, как ноготь болит?
— Честное слово, Дуди, это в последний раз. Только это — и все. Чтобы нам было чем ее привязать. Без этого мы не сможем ее дрессировать. Нам только одно это и осталось — кожаный ремешок.
— А почему мы тогда назад-то идем? Десять метров прошли — и уже возвращаемся? Зачем же мы дорогу-то переходили? Из-за Морди, что ли? Чтобы тебе с ним не здороваться? Тебе что, жалко, что ли, с ним поздороваться, да? Еще подумает про нас чего. И Коби скажет.
— Ну и что? Да кто он такой, этот Коби-то твой? Отец он мне, что ли?
— А если он разозлится? И Хаим с Ошри… Они тоже…
— Что Хаим с Ошри? Ну что Хаим с Ошри? Да они еще сосунки совсем. Вот увидишь! Когда-нибудь они поймут, кто такой этот Коби.
— Не, Ицик, так нельзя. Если Коби разозлится, он нам деньги на кино давать перестанет. А я без кино не могу.
— Ладно, хватит уже ныть. Ты лучше на нее посмотри. Она нас слушает. Видишь, как смотрит? Будто все понимает. И то, что было, понимает и чего еще даже не было. И ей все абсолютно до лампочки. Смотри, как она мой палец лапкой держит. Сдохнуть можно. Она сильная. Но и нежная тоже. Слушай, а как ты думаешь, она знает, что она только наша и больше ничья? Эй, ты куда? Нам же сюда.
— Не-е, Ицик, я к этим солдаткам-инструкторшам в квартиру больше не полезу. Я зарок дал. Больше я туда ни ногой. Папой поклялся.
— Ты что, Дуди, совсем уже, что ли? Не поймешь тебя, честное слово. Ты ее хочешь или нет? Как мы ее без кожаного ремешка дрессировать-то будем, а? Ладно, не ссы. Чего ты так распсиховался? Не боись, я уже обо всем подумал. В понедельник все солдатки пойдут в Дом культуры, так? Они там ликбез проводят, читать-писать учат. Ну, куда еще наша бабушка ходит.
— Откуда ты знаешь, что она туда ходит? Мы ж ее сто лет не видели.
— Я ее на прошлой неделе видел. Она туда с другими бабками входила. Они в четыре начинают. Так что тебе бояться нечего. И вот еще что. Чтобы я больше от тебя не слышал, что ты папой клянешься. Нет у нас папы, понял? Нельзя клясться тем, кого нет. Ты меня понял или нет?
— А если какая-нибудь солдатка заболеет и дома останется? Что тогда? Или там, к примеру, ей на занятия идти не захочется и она больной притворится? Короче. Я хочу, чтоб ты пошел со мной. Сначала постучимся в дверь, и, если никто не откроет, тогда я залезу. А с чего ты взял, что у них кожаный ремешок есть?
— Будь спок, я знаю.
— Да откуда у них кожаный ремешок?
— Оттуда. Помнишь эту, высокую? Ну, которая в босоножках с ремешками до колен ходит? Она в шесть утра встает, чтобы их завязать.
— A-а, эта? Конечно, помню. Ее Шуламит зовут. Она с Лиат дружит.
— Ну вот. Мы эти ремешки у нее и отрежем. С обеих босоножек. Свяжем их один с другим — ничего лучше и не надо. Она ведь все равно их уже не надевает. Над ней все из-за них смеются.
— Что, правда, что ли? Слушай, а точно! В них ноги и в самом деле на мясо похожи. Когда его перевязывают, чтобы в субботнюю осину положить.
— Вот эти ремешки и отрежешь. Раз — и готово.
— Ладно, я им тогда заодно еще и книжку верну. Положу ее в шкаф, и все. Как будто она там так и лежала. Только вырву две наших страницы.
— Ты чего, вообще уже? Не понимаю я тебя.
— Но ты же сам сказал, что мы ее вернем. Вот, ты опять другое говоришь. Ты сказал: «Мы только на соколов посмотрим и вернем». И еще сказал, что мы не воры.
— He, Дуди, ты точно умом тронулся. Если мы ее сейчас подложим, они сразу поймут, что это мы. Короче, забудь ты про эту книжку, понял? Мы ее как-нибудь потом вернем, когда они еще куда-нибудь слиняют. Не, мы ее лучше в школу вернем. Как будто это они сами. Как будто они ее там забыли. Дай-ка мне лучше немножко мяса. А то она опять голодная. Видишь, как орет? Только, знаешь, есть одна загвоздка. У них там, когда радиола сломалась, им еще заодно и жалюзи починили. Так что через окно больше не влезешь. Такие дела.
— Знаешь, Ицик… Если там будет Лиат, мне конец. Я не могу, когда она мне в глаза смотрит. Не могу — и все тут. Если она меня там поймает, она, может, даже плакать будет. Она, может, потом и не скажет ничего. Но эти ее глаза… Я не могу, когда она мне в глаза смотрит. Убивают они меня просто, эти глазищи ее.
— Снова-здорово. Да пойми ты, дурья башка. Она же тебя таким макаром просто за жабры держит. Лиат утром. Лиат в полдень. Лиат танцует. Лиат в кино. Лиат в школе. Лиат в центре поселка. Лиат лежит в постели и видит сны. Не Лиат, а прямо индийский фильм какой-то. Ты вон за одну ее улыбку на все, что угодно, готов, а сам у нее даже в прихожей не был. Она тебя на порог не пустила. Нет уж, дудки. От меня ни одна баба не дождется, чтобы я так в нее втюрился. Черта с два. Да и вообще. Она скоро из армии дембельнется и домой уедет. А про тебя даже не вспомнит.
— Вечно ты, Ицик, одни гадости говоришь. Если ты людей не любишь, я что, тоже от них бегать должен, да? Ну что с того, что Лиат мне по ночам снится? Тебе-то какое дело? И улыбка ее… Чего ты к ней привязался? Что ты в этом понимаешь? Тебе-то она, может, и улыбается, а со мной она хохочет, понял? И смотрит на меня этими своими глазищами. Короче, не полезу я к ней в квартиру, ясно? Не полезу и все, хоть режь. Я туда только через дверь войду. Да и то, если только Лиат меня сама пригласит.
— Не полезешь, значит?
— Не полезу.
— Дурак ты, Дуди, и не лечишься. Бегаешь все время, как идиот, за перелетными птичками. Не пойму я тебя. Ты что, не знаешь, что они добровольцы? Нет? Они через полгода обратно к себе в Америку вернутся, и больше ты их никогда не увидишь. Ты что же думаешь; кто-нибудь из них к тебе придет, скажет: «Ай лав ю, Дэйвид!» — и предложит поехать с собой? Да ни в жисть ты эту Америку не увидишь, понял? Разве что фотография твоя туда полетит, и все. Ну, эта, где они на гитаре играют, а ты сзади притулился. Только фотография одна в Америку и полетит, понимаешь? Фотография! И вообще, на кой они тебе, эти инструкторши, сдались-то? Убей Бог, не понимаю. Они ж только спят и видят, как бы отсюдова сдернуть. Посмотри вон на них в пятницу, когда они в школу приходят. С самого утра только и делают, что на часы смотрят да минуты считают. А если ты завтра с ними на улице повстречаешься, они на тебя даже не взглянут. Как будто ты воздух.
— Ну ладно тебе, Ицик. Хватит!
— Я еще не кончил. Послушай, что тебе Ицик говорит: он тебя плохому не научит. И эти вон тоже. Которые сюда на два года на заработки приезжают. От них тоже проку никакого. Они ведь почему сюда все едут-то, а? Да потому, что у них деньги кончились и они в большом городе жить не могут. А у нас в поселке можно и без денег прожить. Вот они и приезжают. И смотрят на тебя так, словно только что из миквы[22] вылезли. Как будто они все из себя чистенькие такие и как будто Бог просто чего-то там перепутал и по ошибке бросил их после миквы в мусорку. Каждый день только и делают, что деньги подсчитывают, которые здесь заработали, и дни считают, чтобы поскорее в город слинять. Все они отсюдова убегут, Дуди, все до единой. Поверь мне. Да еще и смеяться над тобой потом будут. Смотрите, мол, какой этот Дуди придурок. Думал, что тоже отсюдова выберется. Не понимает, дурачок, что он всего-навсего жалкая курица. Куда ему из своего курятника бежать-то? Два метра по двору пробежит — и ку-ку. Короче, слушай, что тебе Ицик скажет. У меня к тем, кто приезжает и уезжает, доверия нету. Не дождутся они от меня, чтобы я им свое сердце на блюдечке преподнес. Чтобы они делали с ним, что захотят. Приехали, побыли, отчалили — ну и скатертью дорога. Я их и до приезда сюда знать не знал и после отъезда знать не хочу. И запомни раз и навсегда: самое дорогое, что у нас есть, это наша родня. Усек?
— Родня, говоришь, да? А что ж ты тогда, как только я про папу заикнусь, сразу говоришь: «У нас папы нету»? И Коби тоже. Как только я скажу «Коби» — ты сразу прям до неба подпрыгиваешь. Как будто тебя собака укусила.
— Коби, Коби… Я же тебе тыщу раз говорил: Коби думает только о себе. Сколько можно повторять?
— Ну хватит уже, Ицик, надоело. Достал ты меня своими разговорами. Ладно, полезу я, полезу. Только в последний раз, понял? И не сейчас. Я жрать хочу просто помираю. Я не могу туда голодный лезть.
— Это не страшно. Там и поешь. У тебя времени на все про все хватит. Зайдешь к ним на кухню и чего-нибудь перехватишь. А я тебя возле лавки Коэна подожду. Минут за семь-восемь вполне управишься. И поесть успеешь, и все остальное. Только ремешки срезать не забудь.
— Ты чего, совсем уже, что ли? Какая у них там еда, у солдаток-то у этих? Ты просто у них дома никогда не был. Да нету у них там ничего. И на кухне тоже шаром покати. Едой и не пахнет, одной только плесенью. Она у них зимой завелась, черная такая. Они, правда, перед Песахом стены побелили, но запах все равно остался. И чего они там весь день едят — ума не приложу.
— Ну Коэна этого тоже, как назло, теперь ничего не купишь. Он нам в долг больше не дает. Вот если б ему Коби заплатил, тогда бы дал. Черт, как у него из лавки хлебом несет… Ладно, пошли домой, чего-нибудь перекусим. Как только ты сказал, что они там все время голодные сидят, мне тоже сразу есть захотелось. А потом уж и за ремешками пойдем. Времени должно хватить: у них занятия только в семь заканчиваются. Короче, пошли полопаем. А заодно и птицу в кухонный шкаф посадим. Кстати, ты там дырки для воздуха сделать не забыл? А то смотри у меня.
— Не забыл, не забыл. Пять штук проделал.
— Ну, тогда она не задохнется. Посадим ее в шкаф, закроем дверцу на гвоздь — и пусть сидит. Только имей в виду — нам надо, кровь из носу, до шести управиться. А то еще, не дай Бог, стемнеет, и тебе придется там свет зажигать.
Дуди
Я думаю, если бы Ицика не было, я бы ни за что в жизни не стал лазить по квартирам. Если бы у него не было таких рук и ног, он бы, наверное, лазил вместо меня. Но Ицик есть; и он мой старший брат; и мы похожи с ним, как близнецы. Если он снимет панамку, нас не различишь. Поглядишь на наши лица — и не поймешь, где Ицик, а где Дуди. Только вот руки и ноги у него не дай Бог никому. Но тут уж ничего не поделаешь. Из живота матери таким вышел.
Без Ицика я бы никогда не научился по домам лазить. Без него я просто ноль без палочки. Даже если я сто раз на какой-нибудь дом залезу, или там, например, на скалу, или на забор, и даже если я сделаю все в точности, как он мне сказал, — все равно, когда мне надо будет лезть куда-нибудь еще, я без него этого сделать не смогу. Потому что он стены читать умеет, а я нет. Ему стоит только один раз на какой-нибудь дом снизу вверх поглядеть, и он сразу видит, что на стене написано. Без понятия, что он там на этих стенах видит. Я бы просто залез — и все. А он сначала думает. Только молча. Так было и в тот раз, когда мы решили залезть к солдаткам.
Я тогда увидел, что он замолчал, и стал слоняться взад-вперед, пинать ногами камни, причесываться, потом пошел отлить, а когда вернулся, Ицик уже лежал на земле — как жук на спине — и перебирал руками и ногами в воздухе. Будто взбирался наверх. Только при этом продолжал лежать на земле. Он же от нее оторваться не может, верно? Ну вот. Перебирал он руками и ногами перебирал, а глаза его в это время — медленно так — поднимались вверх, и он ставил руки и ноги в точности, куда надо. Одним словом, он делал на земле то, что я через пару минут должен был делать на стене. А потом говорит:
— Видишь вон ту решетку на окне у Хазана? Поставишь на нее правую ногу и залезешь по ней до верха окна. Только смотри, не засовывай ногу в решетку слишком глубоко, а то, когда станешь ее вытаскивать, у тебя опять ботинок с ноги свалится, как в прошлый раз. Потом подними руки, ухватись за трубу и подтянись — чтобы поставить левую ногу на карниз над балконом, который Эдри себе недавно соорудил. Только осторожнее, понял? Навес этот — пластмассовый и скользкий. И правую ногу на него не ставь. Продолжай держаться за трубу — только чуть повыше, — подними правую ногу и поставь на бетонный выступ. А остальное уже пара пустяков. Там окошки такие маленькие есть. Где птицы гнезда вьют. Ну вот. Ты левой ногой на самое нижнее окошко встань, руку подыми, за следующее окошко ухватись, а потом и вторую ногу подтяни. Потом ухватись обеими руками и продолжай лезть, как по лестнице, пока не долезешь до железяк, на которых у солдаток бельевые веревки натянуты. А там перекинешь ноги через перила — сначала одну, потом другую, — и ты уже на балконе.
Как он мне сказал, так я и сделал. На мое счастье, босоножки Шуламит прямо на этом самом балконе и валялись. Я два пальца в знак победы поднял, он мне в ответ «Ура!» одними губами прошептал, и я побежал в комнату к Лиат. Но она была закрыта на ключ. Что мне еще было там делать? Я вернулся на балкон, Ицик показал мне руками, что все спокойно, я сбросил ему босоножки, а потом ухватился за трубу и съехал по ней вниз.
С девяти лет я с ним этим занимаюсь. Сначала у меня ничего не получалось: кружилась голова, темнело в глазах, я падал, ударялся, один раз даже руку себе чуть не сломал. Но Ицику — как об стену горох. Я плачу, кричу, мне больно. А он и бровью не ведет. И не то чтобы он не хотел мне помочь. Очень даже хотел бы. Просто у него все из рук выпадает.
Как-то раз он дождался, пока я перестану плакать, и говорит:
— Я знаю, Дуди, что тебе мешает. Просто как только у тебя начинает что-нибудь получаться — ну там, к примеру, если ты на один метр вверх подняться сумел или еще что-нибудь такое, — ты сразу думаешь: «Все! Это уже победа!» И у тебя сразу голова работать перестает. Вот представь себе такую картину. Джону Уэйну надо застрелить трех индейцев. Выхватывает он из кобуры револьвер, бах-бах-бах — и все они валятся на землю. Еще даже до того, как успели его увидеть. И вот он от счастья прямо из штанов выпрыгивает. Входит в киношку, где мы с тобой сидим, садится рядом, видит себя на экране и радуется, как малый ребенок. Вот, мол, какой я молодец и герой! Но тут откуда ни возьмись еще один индеец к-а-ак выскочит, к-а-ак лук натянет… Бах! И первой же стрелой его убивает. Понял, к чему я клоню?
В общем, воспитывал он меня так воспитывал, и в конце концов я научился. И когда у меня получалось, он клал мне на плечо свою руку. Не хлопал по нему, как делают обычно, а просто клал руку. Нет в жизни ничего приятнее, чем его рука на моем плече. Одно плохо: мне это сразу об отце напоминает и плакать хочется. Но Ицик, он как только это замечает, сразу свою руку убирает, и мы сидим с ним какое-то время молча. Потому что мы об отце никогда не разговариваем. Зачем нам о нем говорить? Что умерло, то умерло.
Только ради него я у людей и ворую. И все время себе говорю: «С завтрашнего дня перестану». Но Ицик, он не считает, что воровать нехорошо. У него всегда на все объяснение есть. Ты вот, например, думаешь, что правое — это хорошо, а левое — это плохо. Но Ицик тебе в два счета докажет, что все как раз наоборот. У него даже свои заповеди имеются. Насчет того, когда можно воровать.
1. Можно воровать, если мы потом возвращаем украденную вещь в целости и сохранности.
2. Можно воровать, если другому человеку не нужно то, что мы украли.
3. Можно воровать у того, кто сам у других всю жизнь ворует. Это, можно даже сказать, наша святая обязанность — что-нибудь у такого человека стибрить. Взять вон, например, Асулина, из универмага. Он все время завышает цены. В городе можно купить то же самое в два раза дешевле; но люди в город ездят редко и об этом не знают. И вот месяц назад мы с Ициком подрядились разгрузить для Асулина батарейки. Ицик говорит: «Они мне нужны». И зачем уж они ему понадобились, не знаю. Ну он взял да и повалил коробку с открывашками для консервов. Как будто случайно, из-за того, что у него руки такие. Ну Асулин из своего кабинета вышел и пошел ему помочь поставить коробку на место. А я тем временем сунул несколько батареек себе в карман и потом пошел им помогать, будто ничего не случилось. Но как только мы из универмага вышли, меня аж затрясло всего. А Ицик говорит: «Хочешь пойдем посмотрим, какую он себе виллу отгрохал? Откуда у него, по-твоему, деньги на виллу, если он у других не крадет?»
4. Можно воровать, если воруешь для кого-то другого. Это не воровство. Это все равно как если у кого-нибудь что-нибудь взять и кому-нибудь другому отдать. Ицик говорит, что если какому-то человеку какая-то вещь не нужна и он может без нее обойтись, тогда ее вполне можно взять и отдать тому, кто нуждается в ней больше.
5. Иногда мы воруем краденое. Это тоже разрешается. Например, как-то раз Ицик мне говорит: «Эта книга — она ведь все равно не их, верно? Солдатки же ее не купили, так? Видишь, тут печать стоит? Это они у себя в школе взяли, где они учились».
6. Можно красть у того, кто сделал нам что-нибудь плохое.
7. Можно воровать ради великой цели. Однажды Ицик говорит: «Ты только подумай, Дуди, сколько людей погибло от рук террористов. А теперь представь себе, что мы приходим к Шуламит и говорим: „Если ты отдашь нам свои босоножки, то твоя лучшая подруга Лиат не погибнет в теракте“. Разве она их нам после этого не отдаст?»
А когда мне становится стыдно, что мы крадем, и я говорю, что это несправедливо, Ицик сразу переводит разговор на Бога.
— Несправедливо, говоришь, да? А ты что же, думаешь, Бог всем по справедливости все роздал? Поровну? Разве Он сам этим нам не показывает, что справедливости не существует? Он-то вон никогда разным людям одних и тех же карт не сдает. Только десять заповедей Своих всем поровну и раздал. Вот ты мне сам давай скажи, почему один человек рождается во дворце, а другой — в юрте? Не знаешь? То-то. А все потому, что Бог тоже ворует. У одних берет, а другим отдает. Чтобы Ему не скучно было на этот мир смотреть. Поэтому, когда мы воруем, Он радуется. Это означает, что мы правильно поняли правила Его игры.
Вот так вот он мне все время мозги и вправляет, и, когда он рядом со мной, я любому его слову верю. Но когда остаюсь один, я не могу думать, как он. Когда я прихожу домой и вижу фотографию папы, мне сразу плакать хочется. Потому что смотрит он на меня с фотографии и как будто говорит: «Вот ты кем, оказывается, стал, сынок. Преступником». И что я ему на это отвечать должен? То, что мне сегодня Ицик сказал, что ли?
— Ты, — он сказал, — Дуди, по закону все время жить не можешь. Ты должен решить, когда ты по закону будешь жить, а когда нет. Вот что такое, по-твоему, «хороший человек»? Думаешь, «хороший человек» — этот тот, кто всегда по закону живет? Чтобы Бог был им доволен? Ни фига подобного. Люди, к твоему сведению, только притворяются, что думают о Боге. На самом же деле они думают только о себе. Да-да-да. Слушай, что тебе Ицик говорит. Люди — они везде и всегда думают исключительно о себе. И думают, что, когда умрут, в рай попадут.
Ицик
Помню, когда я еще был маленьким, я все время себя спрашивал: «О чем, интересно, Господь Бог думал, когда решил сделать так, чтобы у меня руки и ноги расти перестали? Причем еще тогда, когда я в животе у матери сидел». Ведь Бог, Он же всевидящий, и нет в мире такого места, куда бы Он проникнуть не мог. Нам, людям, Он сделал такие глаза, которые видят только маленькую часть этого мира — только то, что находится перед нами. Но о себе-то ведь Он позаботился гораздо лучше, так? Не знаю уж, правда, как Он там о себе позаботился, но одно я знаю точно. Нет во всей нашей Вселенной ничего такого, чего бы Он не видел. Бог, Он видит все, и на много километров вперед.
И еще Он сделал так, что мать не может видеть, что происходит с ее ребенком, когда тот сидит у нее в животе. Хоть ты тресни, не может. Единственное, что она может, — это надеяться на Бога. Вроде как наша слепая Сулика. Когда она в одиночку переходит дорогу, все, что она может, — это только молиться, чтобы Бог над ней смилостивился. Так и мать. Пока ребенок сидит у нее в животе, она ничем ему помочь не может. И только когда он из нее вылезает и когда она уже ничего исправить не способна — вот только тогда она его наконец-то и видит. Ну а после того, как она его увидела, она ведь уже не может сказать: «Он не мой». Потому что как же она скажет «Он не мой», если все видели, как он вылез у нее из живота? И не просто вылез, а еще и связан с ней веревкой. Вот так вот, с самого начала, Бог и дает ей понять, что она — маленькая и слепая, а Он — большой и видит все.
Когда я был маленьким, я часто лежал на полу. Приклеюсь к полу, как коврик, и лежу по полдня. Когда меня утром приводили в детский сад, я сначала пытался делать то же, что делали другие дети, но у меня ничего не получалось. А когда у меня что-нибудь не получалось, я ложился на пол, закрывал глаза и представлял, как я сижу в животе у мамы и слышу, как Бог приказывает, чтобы у меня перестали расти пальцы. Сегодня, например, говорит: «Пусть вот этот палец у него не растет». Через неделю: «А теперь пусть вот этот». И так каждую неделю показывает на разные пальцы. Я представлял, как Он идет своей бесшумной походкой, а ангел, который за Ним повсюду летает, записывает Его приказы у себя в блокноте. В этом блокноте нарисованы мои руки и ноги, и возле них написано, что пальцы, которые на них только что появились, должны перестать расти.
И вот как только я все это себе представлял, мне становилось ужасно обидно и я начинал беситься. Бился головой об пол, колотил по полу руками и ногами, изо всех сил лупил себя по коленкам, вопил, как резаный, чтобы заглушить мысли в голове, и так до тех пор, пока тело у меня не начинало болеть сильнее, чем сердце. И когда я чувствовал, что мое тело болит так сильно, что больше уже терпеть невозможно, я сразу же успокаивался и начинал прислушиваться к сердцу. Сначала оно билось очень быстро, потом все медленнее и медленнее, а вокруг себя я слышал шаги людей, ходивших по полу. Пол, он постоянно слышит, как мы по нему ходим, и я сам в этот момент тоже превращался в пол. Мне это нравилось. Я лежал и слушал все эти звуки, а мои щеки в это время пытались разогреть плитки на полу. Однако плитки всегда побеждали мои щеки и, вместо того чтобы от них разогреться, наоборот, их охлаждали. Я втягивал воздух в ноздри, вдыхал запах своего пота и, как только чувствовал, что он стал холодным, сразу же с пола вставал и снова старался вести себя, как все другие дети.
Когда я лежал на полу, дети сначала пытались меня поднять: уговаривали, кричали на меня, тащили за руки, — а потом вставали возле меня в кружок, затыкали уши и начинали орать, все громче и громче: «Ицик! Ицик!» Как будто я футболист на футбольном поле. Хотели, чтобы я и дальше так лежал. Орали все, даже девчонки, и так продолжалось до тех пор, пока не приходила воспитательница и не уводила их от меня.
И вот однажды мне решили выделить постоянное место. Помощница воспитательницы взяла меня за руку, отвела к кухне — туда, где находились швабры, тряпки, щетка и ведро — и говорит:
— Ицик, если тебе захочется лечь на пол, ложись теперь всегда только здесь. Тут ты никому не помешаешь, и никто тебя таким не увидит. Только постарайся, пожалуйста, держать себя в руках и не приходить сюда слишко часто.
Она объяснила мне это таким же спокойным голосом, каким объясняла детям, которые описались или обкакались, что это надо делать в туалете и что стыдно делать это рядом с другими людьми; и с этого момента я стал ходить только туда. Вместо того чтобы нюхать свой пот, я теперь каждый день дышал запахом половых тряпок и хлорки и незаметно для себя к этим запахам пристрастился. Даже сейчас, когда я хочу успокоиться, я иду в ванную, наливаю в раковину «Сано-Икс» с лимонным запахом, вдыхаю его — и моя голова сразу перестает думать.
Поначалу я за это Бога ненавидел. Я ненавидел Его за то, что Он сделал меня таким, какой я есть, чтобы Ему было над кем посмеяться. Чтобы Он мог видеть, как у меня все будет валиться из рук; как у меня будет идти кровь, когда я попытаюсь сделать что-нибудь в первый раз; как я упаду, когда попробую идти, — потому что ноги у меня тоже не такие, как у всех других людей. А может быть, Он просто хотел увидеть, как меня будет прошибать холодный пот — пот, который Он сам же в мое тело и впрыснул, — когда я буду пытаться быть таким же, как другие люди.
И вот каждый раз, как я об этом думал, я Его проклинал. Как только о Нем вспомню, сразу в сердцах выругиваюсь. На иврите Его ругал, по-арабски, по-мароккански и даже всякие необычные ругательства для Него изобретал. И в синагогу Его, по субботам, тоже ходить перестал. Чтобы Он понял, что я под Его дудку плясать не собираюсь. Ведь Богу от нас надо только одного. Чтобы мы к Нему в синагогу ходили и гимны Ему там распевали. Про то, какой Он хороший.
И действительно, кому же это не понравится? Вот если, например, какому-нибудь человеку дать такую книгу, в которой будет про него написано все-превсе и которую, если она на пол упадет, все сразу поднимать бросятся, как будто это не книга, а младенец какой-нибудь, и будут ее тщательно осматривать, не случилось ли с ней чего, а потом еще ее и поцелуют — прямо в грязь, которая к ней на полу прилипла; и если в этой книге к тому же будет говориться, что петь надо только про Него одного — про то, какой Он добрый и сильный, и про то, что все должны делать только то, что Он им приказывает… В общем, если кому-нибудь такую книгу дать, разве же Он не захочет, чтобы все люди ее хором читали? Конечно же захочет. Хоть весь свет обойдите, а такого человека, который от этого откажется, не найдете.
Но четыре месяца назад, когда мне исполнилось тринадцать — хотя мне даже и бар мицву не сделали, — мне вдруг пришла в голову одна мысль. Даже и не знаю, откуда она у меня взялась. Может быть, мне послал ее сам Бог? Увидел, что я не хочу Ему подчиняться, и вложил мне ее в голову? Короче, я вдруг подумал: а что, если Бог просто-напросто решил создать новую породу человека? Вот с такими вот руками и ногами, как у меня. Создать — и посмотреть, что из этого выйдет. Может быть, Он хотел создать такого человека, которому ничего из того, что понаизобретали люди, не подходит. Ни их приборы, ни их посуда, ни их инструменты, ни их оружие. И одежда их ему не подходит, и шнурки на ботинках, и карандаши, и ластики, и лезвия для бритья. А что, почему бы и нет? Может быть, Он просто хотел узнать, как такой человек выйдет из положения? Какие он для себя новые инструменты изобретет? Ведь вон даже и тфилин[23], который придумали специально, чтобы с его помощью привязывать человека к Богу, даже тфилин — и тот ему не подходит. Потому что прежде, чем он сможет привязать себя к Богу, ему еще надо придумать, как это сделать. А ведь тфилин — это не такая вещь, которую тебе может наложить твой брат.
Нет, на самом-то деле я, конечно, не знаю, чего Бог в действительности хотел. Если бы Он сделал меня дураком, я бы, наверное, подумал, что Он просто хотел надо мной посмеяться. Но так как Он вложил в мою голову очень много ума, чтобы я мог думать о всяких там разных вещах, я думаю, что, по-видимому, Он все-таки хотел на мне что-то такое проверить. Может быть, Ему просто надоело смотреть на людей, которые миллион лет подряд делают одно и то же, и, когда я сидел в животе у матери, Он решил, что я, Ицик Дадон, буду первым представителем новой породы людей. И сделал меня таким, какой я есть. А теперь все время за мной наблюдает.
Дуди
Сегодня мы идем в овраг. Мы идем через большие скалы и ушли уже довольно далеко, так что домов почти не видно. Нам не холодно и не жарко. У Ицика на голове большая панамка. Она выглядит на нем, как каска, и доходит ему до самых ушей. Он не снимает ее вообще и даже спит в ней. Он стирает ее только в овраге, под струей родника и, как только постирает, прямо так, мокрую, на голову и надевает. Мне ужасно хочется ее с него снять, потому что она его уродует — не меньше, чем его пальцы, — но Ицику наплевать на то, как он выглядит. Он ведь за всю свою жизнь даже ни разу на себя и в зеркало-то не взглянул. Ходит по улицам так, будто его никто не видит. Ицик, он вообще с людьми жить не может. Я вот наоборот. Если бы вокруг меня были только люди — одни только люди, и все, — мне больше ничего не надо. А для него все люди — предатели. И не только люди, но и все вещи вообще. Как-то раз он мне сказал:
— Наша одежда, она нас тоже предает. Вот, например, Коби. На Песах он подарил тебе свою синюю рубашку, так? И вот как только он тебе ее отдал, я на тебя посмотрел и вижу: она сидит на тебе так, словно ты Дуди, но только в рубашке Коби. Как будто ты просто в нее нарядился, чтобы выглядеть, как он. На следующий день то же самое. Опять ты выглядишь, как Дуди, надевший рубашку Коби. То есть рубашка — она пока еще не забыла, чья она. Но вот проходит месяц — и все. Перестала рубашка быть рубашкой Коби и перебежала к Дуди. И теперь, когда ты ее надеваешь, она уже полностью твоя; по ней уже не видно, что она перешла от одного человека к другому. Или вот, взять, например, машины. В точности то же самое. Помнишь, как Реувен Амар продал свой пикап Махлуфу? Я вон поначалу каждый раз как этот пикап видел, думал, что это Амар едет. Даже, когда видел в окне голову Махлуфа, все равно думал, что он едет в пикапе Амара. Но через пару-тройку месяцев я увидел этот пикап на улице и думаю: «Все. Забыла машина человека, который на ней три года ездил. Теперь это машина Махлуфа». Так и все другие вещи. Мы думаем, что они только наши и больше ничьи, а они нас берут да и предают. А теперь, Дуди, сам мне скажи. Если даже машины и одежда нас предают, как же тогда человеку другого человека не предать?
Мы спускаемся по склону оврага. Я иду впереди: прокладываю дорогу, чтобы Ицик не упал. Я иду так, что со стороны может показаться, будто у нас у обоих проблемы с ногами. Как только я слышу, что он начинает тяжело дышать, сразу делаю вид, что мне надо отлить, или что я устал, или что нога болит, и мы садимся отдохнуть на какой-нибудь камень.
И тут вдруг он начинает говорить. Сначала очень медленно. Как будто его слова — скалы и у него не хватает силенок поднять их все сразу за один присест.
— Слушай, Дуди, — говорит он.
Знаю я это его «слушай, Дуди». Начинается со «слушай, Дуди», а чем кончится, никогда заранее сказать невозможно. Однажды, например, чуть не закончилось полицией.
— Вот представь себе, Дуди, — все так же медленно продолжает Ицик. — Представь себе, что ты — террорист. Куда ты пойдешь? В наш дом?
— Не знаю. Что я тебе такого сделал, что ты меня террористом обзываешь?
— Нет, ты послушай. Вот, допустим, мы с тобой сейчас террористы. Куда мы пойдем?
— Что за дурацкие вопросы ты задаешь?
— Да послушай ты. Давай-ка вот, закрой сейчас глаза и хорошенько подумай.
Мои глаза закрылись сами собой. Такую власть имеет надо мной Ицик. Руками-то я смогу справиться с ним, даже если буду больной. Потому что его собственные руки — бракованные. Но когда мы с ним разговариваем, он побеждает меня двумя словами.
— Короче, Дуди. Сейчас мы с тобой террористы, так? Ты и я. Террористы, понял? Ну, представил уже? Видишь нас? Тысячу раз мы с тобой тренировались, и от этих тренировок наше сердце стало крепким, как сталь, и от страха больше в пятки не уходит. И вот наш час пробил. Ночью мы перелезаем через забор на границе, и нас не ловят. От израильской армии нас отделяет меньше двухсот метров, но, несмотря на все свои прожектора, они нас не видят. Ты слушаешь?
— Знаешь, Ицик, скажи что-нибудь по-арабски, а? А то я никак не могу представить, что я террорист.
— Ахлан ва-сахлан, тфадалу, Аллаху акбар! Аллаху акбар! Рух мин хон! Итбах эль-яхуд![24]
— Здорово! Вот теперь я вижу, что мы террористы. И на головах у нас — куфии.
— Сейчас, Дуди, двенадцать часов ночи. Мы идем уже долго, почти всю ночь. Километров двадцать-тридцать уже прошли, и на спинах тащим оружие и взрывчатку. Иногда мы ползем по земле; в полном молчании ползем. Нас по-прежнему не ловят, и мы продвигаемся вперед. У нас есть карта, но мы ее не вынимаем. Во время тренировок мы выучили ее наизусть и найдем дорогу даже в темноте. Мы доходим досюда, до оврага, залезаем на большую скалу и ложимся на нее. Мы чувствуем исходящий от нее холод. Потом мы проходим мимо красного дерева. Видишь?
— Вижу.
— Сейчас мы видим огни. Можешь приоткрыть глаза. Только не полностью. Пусть они будут больше закрыты, чем открыты. Вот так, правильно. Сейчас мы видим дома, дороги, водонапорную башню, но мы с этим поселком незнакомы. Мы тут ничего не знаем. Понимаешь?
— Чего мы тут не знаем?
— Ну мы ведь тут в первый раз, так? Откуда же мы можем здесь чего-нибудь знать? Мы не знаем, где тут живут румыны, а где сефарды, где дома, в которых живут тунисцы, а где дома, в которых живут только марокканцы. Короче, ничегошеньки мы тут не знаем. Мы нездешние. Мы не знаем здесь ничего. Кто тут люди, кто тут дети, кто тут старики — ничего.
— Ну ладно. Пусть будет ничего.
— А теперь, Дуди, слушай меня внимательно. Если ты увидишь лица людей из поселка, то все, что мы с тобой сделали, пойдет насмарку. Потому что когда ты видишь людей, ты начинаешь думать: этого я люблю и поэтому к нему не пойду, а вот с этим я, наоборот, хочу поквитаться. Ты — террорист, и у тебя тут нет ни родни, ни друзей, никого. Понял?
— Чего ж тут непонятного? Понял, конечно.
— Ну вот. А теперь ты должен выбрать дом. Ты должен решить, в какой ты дом войдешь. Ну? В какой? Говори.
— Ну, я думаю, если я террорист и если я иду по оврагу, то я зайду в первый же дом, который увижу. То есть в дом, который стоит к оврагу ближе других. Поднимусь вот по этой тропинке и войду в него. Короче, чего тут особенно думать-то? Вон туда зайду, в «поезд»[25]. Правильно?
— He-а, Дуди, неправильно.
— Почему это неправильно? Чего-то я не въезжаю. Зашли бы в «поезд» — и дело с концом.
— А я тебе скажу почему. Вот сейчас я террорист, так? И вот я выбираю какой-нибудь дом. Я знаю, что я здесь умру. Но я не хочу умереть в каком-нибудь случайном месте. Ведь человек умирает только один раз в жизни, верно? И еще я знаю, что меня придут фотографировать и я попаду в газету.
— В какую еще газету?
— Обязательно попаду в газету. Чтоб я такое сделал и в газету не попал? В газету ведь каждый попасть хочет, разве нет? И вот я ищу самый подходящий для этого дом. А для фотографии — для нее, Дуди, любой дом не подходит. Кроме того, не забывай, что я еще хочу и нанести удар. Мы ведь террористы, так? Ты еще не забыл, что мы террористы, правда? Ну вот. Зачем же мы в этот «поезд» попремся? Ну, прикончим, например, какую-нибудь семью, а на нас все к-а-ак возьмут да к-а-ак набросятся. И нам крышка. Услышат, что мы пришли — и как все разом из квартир повыскакивают… Ну, понял теперь?
— То есть ты хочешь сказать, что мы в «поезд» не пойдем, так? Да ты просто не знаешь, как они все там от страха трясутся. Ну эти, у которых квартиры на первом этаже. Вон хотя бы того же Рафи возьми. У него дома как только услышат, что террористы на нашу территорию проникли, так сразу за топоры хватаются. Его отец их под кроватью прячет. Они с ними даже спят. Он их, наверное, из «Керен кайемет» принес. Ну чего ты молчишь-то? Оглох, что ли? Говори уже, куда мы пойдем. Ты еще не сказал, куда мы пойдем. В ступенчатые дома, что ли? Чего ты головой-то трясешь? Как это понимать? «Нет», что ли? А куда? Только не говори, что к нам домой.
— Не боись, Дуди; наш дом я не выберу ни за что. Ни за какие коврижки туда не пойду. Даже если бы мне и захотелось в наш дом пойти, я бы все равно туда не пошел. Из-за одного только мусора не пошел бы. Вот если бы у нас возле дома чисто было, и если бы на стенах не было всякой дряни накорябано, и если бы там еще не воняло так сильно, тогда еще, может быть — может быть! — я бы его и выбрал. И то не уверен. Знаешь что? Давай-ка поднимемся наверх, на нашу улицу. Посмотрим на него.
Мы медленно поднимаемся по тропинке наверх. Проходим мимо высоких деревьев с желудями, доходим до нашей улицы и видим наш дом.
— Никогда бы я его не выбрал, — говорит Ицик. — Никогда. Ты только на него посмотри. Настоящая помойка. Весь мусор, который многодетные семьи выбрасывают, у нас прямо под окнами валяется. Если бы хоть немножечко убрали, я бы еще, может, и подумал. Но в такой дом, как наш, я в жизни не пойду. Пусть сначала уборку сделают. Это в первую очередь. А потом еще пусть и побелят. Они ждут, что за них это местные власти сделают. Давно бы уже могли сами побелить. Можно, например, развести побелку пожиже — и тогда обойдется гораздо дешевле. Две упаковки хватит на весь подъезд. Только надо не переборщить с водой. А то побелка может быстро облететь.
— Ты что же, Ицик, хочешь, чтобы террористы пришли в наш дом, да? Нет, ты скажи, ты правда этого хочешь? Совсем уже с глузду съехал, что ли? Не дай Бог, тебя еще Коби услышит. Думаешь, я молчать буду, да? Как он только с работы вернется, я ему сразу все расскажу.
— Коби? Да что от него толку-то, от Коби твоего? Денег тебе на киношку дал — а ты уж и растаял. А если вдруг террористы к нам в дом все-таки придут — что тогда? Думаешь, Коби тебе поможет? Да он, как только увидит, что они в дом заходят, сразу же в свой шкаф к-а-ак сиганет — только его и видели. Или не видишь, что он все время тренируется, как в шкафу спрятаться? И это, по-твоему, мужик называется, да? Вот если бы наш папа был живой, он бы тебе знаешь что сказал? Он бы сказал: «Спрячься-ка ты, сынок, в этом шкафу сам. Пусть уж лучше ты будешь жить, а я помру».
— Можно подумать, ты лучше Коби знаешь, что делать. Тоже мне, умник выискался.
— Да я хоть террористов не боюсь. Не дрожу перед ними от страха, как все у нас тут в поселке. Пусть приходят, когда захотят. У Ицика для них подарочек заготовлен. Если будешь делать, что я тебе скажу, сам увидишь: они еще пожалеют, что к нам пришли. Пожалеют даже, что на белый свет родились. — И он начал рассказывать мне свой план. — Наша соколиха, — говорит, — она хоть убить их и не может, зато глаза выклевать очень даже может. И не надо, чтоб она на всех нападала — достаточно одного командира. Потому как всем известно: если у террористов убить командира, им сразу хана. Усек? — Я кивнул. — Ну вот. А нам с тобой за это медаль дадут. Медаль — это как пить дать. Только я хочу, чтобы ты с этим парнишкой поговорил. Ну как его там? Который еще в бомбоубежищах рисует. И на этих… На бетонных таких ограждениях вокруг мусорных баков. Пусть он и у нас тоже чего-нибудь такое намазюкает. Все лучше, чем побелка. Заодно и все эти царапины закрасит. И ту дрянь, которую Моти намалевал, когда «Бейтар» проиграл.
— Майкл, что ли?
— Какой Майкл? Это Моти Абарджиль сделал.
— Да нет, я про парня, который рисует. Его Майкл зовут. Я у него дома тыщу раз бывал. Он меня даже один раз кофе напоил. Майкла я беру на себя. Я ему сам скажу, что он нарисовать должен. Если, к примеру, ему сказать: «Нарисуй снежные горы» — он нарисует снежные горы. И деревья может нарисовать. И воду. Как она со скалы падает — словно в кино. Он так в доме у Симы нарисовал. Или, например, ему говорят: «Нарисуй нам море с лодками». И он рисует море с лодками. Да пусть хоть Стену Плача нарисует, если хочет.
— Стену Плача? А Стена Плача-то здесь при чем?
— Да нет, он просто на Песах в Иерусалим ездил и теперь до смерти хочет Стену Плача нарисовать. Одну уже нарисовал. Маленькую такую, у себя в комнате. Но если ему дать стену побольше, он нам такую Стену Плача отгрохает — камни будут как настоящие! Мамой клянусь. Только если ты рукой до стены дотронешься, тогда и догадаешься, что они ненастоящие. Он тебе там и харедим[26] нарисовать может, со спины. В черной одежде и в круглых шапках. Как они в стену записки кладут. И траву на стене. В общем, что скажешь, то и нарисует.
— А сколько ему на это времени понадобится? Ну, чтоб Стену Плача изобразить?
— Дня три-четыре, я думаю. Может, неделю. И все это совершенно бесплатно! Может, к примеру, Стену Плача на закате нарисовать. Или с голубым небом. Или с птицами. Короче, что ты ему говоришь, то его рука и делает.
Ицик слушал, слушал, подождал, пока я закончу, а потом говорит:
— Да чего ты так на эту Стену Плача-то запал, а? Подумаешь! Тоже мне! Стена как стена. Бог-то тут при чем? Ты мне вот лучше помоги. Я не знаю, как мне мою соколиху назвать. По ночам из-за этого не сплю. Не может же она без имени жить, правда? Она вон со мной даже спит уже, а я до сих пор не знаю, как ее зовут. Никак не могу ничего придумать. Хоть тресни. У меня от этого мозги скоро расплавятся. Не могу я так. Она ж не собака. Она хищная птица. Собаке вон крикни «Блэки» — и она сразу прибежит. «Бобби» крикни — тоже прибежит. Короче, какое имя ей ни скажи, сразу прибежит и хвостом завиляет. А моя птица — она благородная. Она в небе живет. Она вон даже срет когда — и то в небе летает.
— Имя не можешь придумать? Ха! Подумаешь! Да я тебе хоть сто имен назову. Я в девчачьих именах лучше всех разбираюсь.
— Только не Лиат. И этих американок твоих, из Центра абсорбции, тоже не надо. Короче, имена девчонок, которые тебе нравятся, мне даром не нужны. Мне нужно, чтобы имя было такое… Ну, благородное, понимаешь? Не как у какой-нибудь там обычной девчонки.
— Лиат, она тебе не обычная. Даже Коби и Морди, когда ее в День памяти увидели, и то…
— Да отстань ты от меня со своими Морди и Коби. Мне нужно такое имя, которое, как только его скажешь, так сразу и представишь себе, как она летит. Или как садится куда-нибудь. Или как еду клюет. Или как она тебе когтями руку царапает, когда от голода злая становится. Она хоть и сильная и никого не боится, но еще и нежная. Как только цвет ее перьев увидишь — сразу понимаешь, что девчонка. Только не надо мне опять про Коби талдычить. Если Ицик с тобой о чем разговаривает или если он там чего сделать задумал — ты Коби про это ни-ни, понял? Он нам теперь больше не брат. Мать его в отца превратила. Для Ошри и Хаима. Не может же он нам одновременно и братом быть, и отцом. Он что, Бог?
— Далила.
— Что «Далила»?
— Давай назовем ее Далила.
— Далила? Это которая из Торы, что ли?
— Ну да, жена Самсона. Далила. Ты чего? Всего два месяца в школу не походил и уже забыл, кто такие Самсон и Далила?
— Забыл. Совсем из башки вылетело. Далила. А что? Мне нравится. Очень даже благородное имя. И не грубое такое. Нежное. Как она сама. Далила. Ну спасибо тебе, Дуди. Здорово ты придумал. Я бы ни в жисть до такого не додумался. Далила. Знаешь, а давай сейчас в мясную лавку к Моше сгоняем? Еды ей принесем. Ты же его просил для нас откладывать что на выброс? Ну вот. А потом будем ее к имени приучать. Помнишь, как тот мальчишка в фильме? Как он ей кричал: «Кес! Кес!» — и она к нему сразу летела? Но для этого ее дрессировать надо, понимаешь? Это может очень много времени занять.
Мы возвращаемся домой. Ицик всю дорогу о чем-то думает. Голова у него работает, как бетономешалка, и все мысли, которые приходят ему в голову, они такие, как бы это сказать, увесистые, что ли. Если, к примеру, из его головы вылезает какая-нибудь мысль, то всего через два-три дня она уже превращается во что-нибудь стоящее. А вот если мне какая-нибудь мысль приходит в голову, то она больше на ветер похожа. Дунет этот ветер на целофановый пакет, который кто-то на улице бросил, и тот взлетает. Взлетает — и начинает вверх подниматься. Все выше, и выше, и выше… Пока не обратится в муху и не исчезает из виду. Так что через пять минут никто уже и не помнит, что из головы Дуди вылетела какая-то мысль.
Ицик
Когда я просыпаюсь утром, я хочу только одного: чтобы кто-нибудь принес мне гору.
Пусть возле моей кровати стоит большущая такая коричневая гора, усыпанная белыми валунами. Чтоб как только я глаза открою и спущу с кровати ноги — чтоб там стояла такая гора, и я, Ицик Дадон, к-а-ак встану на ноги, да к-а-ак расколю ее на части! Своими собственными руками расколю. Руками, про которые Бог решил, что это будет новая разновидность рук.
Я думаю про гору, которая будет стоять утром возле моей кровати. Эта гора, она вообще-то мне ничего не сделала: не трогала меня, не мешала мне и даже совсем меня не знает. И не подумайте, что она какая-то там особенная. Нет, это вам не гора Синай. Как она называется, никто не знает. И вот я — такой, какой я есть, — к-а-ак встану с кровати да к-а-ак расколю ее одним ударом на две части! А потом снова спать лягу. Полежу себе немножко в кровати, отдохну, а когда отдохну, встану и буду уже нормальным человеком, каким меня все по утрам видеть и хотят.
Люди, с которыми ты живешь, хотят, чтобы ты утром просыпался, как свежеиспеченный хлеб. Ну, такой, которому можно пока еще любую форму придать. Когда просыпается Эти, она похожа на мышь, которая выглядывает из своей норки и никак не может решить, чего хочет: то ли из этой норки вылезти, то ли юркнуть назад — туда, где провела всю ночь. Она стоит неподвижно; рот у ее приоткрыт — будто она хочет что-то сказать; пальцы на руках растопырены — каждый палец врозь; и такое ощущение, что она все еще досматривает последний сон. Наконец, она делает два шага, останавливается и входит в туалет. Входит и забывает, что должна из него еще и выйти. Выходит только тогда, когда мы уже думаем, что она там уснула, и начинаем ломиться в дверь. Потом она подходит к ванной и останавливается у входа. Все проходят мимо нее и заходят без очереди, но она стоит и ничего не говорит. Когда же она наконец свой рот открывает, из него вылетает какой-то птичий писк. Даже если она только «да» говорит — когда ее кто-нибудь о чем-нибудь спрашивает, — все равно, как птица, пищит.
Я на Эти могу хоть все утро смотреть. Мне бы очень хотелось хоть раз в жизни проснуться так же, как она. Ведь когда ее видишь, такое впечатление, что она сидит в темном зале и смотрит фильм; и еще не родился на свет тот Шушан, который бы вывел ее из зала за то, что она заплатила только за половину билета. Мне ужасно хочется знать, какие фильмы показывают в ее снах. Будь она мальчишкой, я бы только с ней в овраг и ходил. Она бы мне с Далилой помогала. И никакой Дуди мне бы тогда нужен не был. Ведь мало того что ему надо все тысячу раз объяснять, так потом приходится еще и проверять, понял он тебя или нет.
С тех пор как я перестал ходить в школу, я просыпаюсь по утрам только ради Эти. Стоит мне на нее посмотреть — и всю мою утреннюю злость сразу как рукой снимает. Но как только я вспоминаю, что она стала для Ошри и Хаима матерью, и что до школы она должна отвести их в детский сад, и что она, наверное, даже и снов-то своих больше не видит, и что она вообще уже в какую-то старуху превратилась — носится весь день словно какая-то взрослая тетка, — как только я все это вспоминаю, опять злиться начинаю. Мало того что Коби вдруг в отца превратился, так еще и Эти ни с того ни с сего матерью заделалась.
Как только она уходит с Хаимом и Ошри, я начинаю думать, чем бы ее порадовать. А что, если я ей еще раз новые батарейки для транзистора принесу? Когда ей нечего делать, она берет старенький транзистор, который когда-то стоял у папы в фалафельной, залезает с ним под одеяло, ставит на маленькую громкость и слушает. Однажды, когда она уснула, я вынул батарейки из ее школьного рюкзака, лизнул их и понял, что они вот-вот сядут. Через два дня мы с Дуди раздобыли новые, и ночью я подложил их ей в рюкзак. Когда она утром их нашла, то страшно обрадовалась. Только вот никак не могла понять, откуда они взялись. Наверное, подумала, что их гномы принесли.
Дуди
Каждый четверг, когда наступает ночь, мы с Ициком дожидаемся, пока все улягутся спать, тихонько пробираемся в ванную, и я его брею.
Сначала я смачиваю ему лицо водой, а затем покрываю его отросшую за неделю щетину пеной. Каждый его волосок я знаю наизусть. Пока ты никого не бреешь, то думаешь, что все волосы на лице одинаковые. Но когда ты начинаешь человека брить и видишь волосы с близкого расстояния, оказывается, что они растут стайками и что у каждой стайки есть свое определенное место. Одна растет справа, другая — слева, третья — снизу. А есть еще волоски, которые не хотят сбиваться в стаи и растут сами по себе.
Я беру в руку бритву, смотрю, в какую сторону растут волосы, и срезаю их, двигаясь в противоположном направлении.
Когда я брею Ицика, он закрывает глаза, подставляет мне лицо и полностью отдается в мои руки. Я могу вертеть его голову как хочу, и он мне не мешает.
Мне приходится быть осторожным. Кожа на лице — это ведь не фанера какая-нибудь. Бритва должна срезать только волосы, но не должна резать кожу. Однако вся беда в том, что волосы растут прямо из кожи и ее очень трудно не задеть. Когда я брил Ицика в первый раз, я порезал его местах в пяти или шести. Но теперь уже со мной такого не случается. Лезвие бритвы его кожи хоть и касается, но не режет.
Во время бритья мы молчим, а потом всю неделю делаем вид, что ничего этого не было.
Ицик держит руки по швам и закрывает глаза, а я закрываю рот, и мы сливаемся в одно существо. Как будто между стеной и раковиной, где мы стоим, находится только один человек, и этот человек бреет самого себя.
Когда я его в тот раз порезал, он даже не пискнул, а когда я заклеивал ему ранки бумажками, даже не вздрогнул. Только я один и вскрикнул, когда его порезал. Если бы меня кто тогда услышал, подумал бы, наверное, что это я сам порезался.
Когда я его брею, мой нос заполняется запахом пены, и этот запах сразу перебивает все другие в ванной. И запах плесени на потолке, и запах хлорки, которую мама льет, не жалея, и запах самого Ицика, от которого несет Далилой.
Вообще-то сначала он попытался бриться самостоятельно. Подошел как-то раз ночью к моей кровати, разбудил меня и попросил привязать ему к руке резинкой рукоятку бритвы. Думал, что сумеет сделать это сам. Но уже через десять минут вернулся. Все лицо в белой пене, а глаза — черные-пречерные и злые, как у черта. Они всегда у него такие становятся, когда у него что-нибудь не получается и он психовать начинает. Я сразу все понял, молча встал, и мы пошли в ванную. Он стоял перед зеркалом и смотрел в него невидящим взглядом. Казалось, что его глаза вот-вот просверлят в зеркале дырку. Моя рука дрожала. Я порезал его, вскрикнул и стал промокать кровь туалетной бумагой. Даже и не знаю, сколько времени все это продолжалось. Наконец мы закончили и вернулись в свои кровати, но в ту ночь мне заснуть так и не удалось. Все мое тело словно окаменело, а руки дрожали. Чтобы их согреть, я засунул их под мышки — левую под правую подмышку, а правую под левую, — но от этого они только затекли и как будто наполнились колючками. «Что же теперь будет? — думал я. — Каждую ночь, что ли, теперь так будет, да? Каждую ночь я теперь его брить буду? Ну почему? Почему мой брат уродился таким? Хорошо бы ему умереть, когда он еще был маленьким! А еще лучше, если бы он умер сразу после того, как вылез из маминого живота! Я бы тогда родился — а у меня никакого брата и нет!»
Иногда я замечаю, что Коби смотрит на него точно так же. Как будто он ему противен. Может быть, поэтому он ему бар мицву делать и не стал. Мне вон в следующем году тоже тринадцать исполняется, и вот мне-то уж Коби сделает ее обязательно. Я же не Ицик. Мне он просто обязан бар мицву сделать.
Утром я пошел в школу и перед уходом с Ициком даже не попрощался, а после школы до самого вечера слонялся по улицам. Даже и не помню толком, где был и что делал. А когда пришел домой, сразу лег в постель и стал ждать. Но в ту ночь он не пришел. Потом прошло еще два дня, а он все не приходил. Тем временем у него уже новая щетина отрастать начала. Наконец в четверг приходит. Мы снова пошли в ванную, и, как только вошли, он сразу закрыл глаза и лицо у него стало такое спокойное-спокойное, будто он спит. И вдруг я неожиданно для себя почувствовал, что мне это начинает нравиться. В смысле нравится его брить. Даже и не знаю, как это объяснить. Как-то вот так вот, ни с того ни с сего, раз — и понравилось.
Ицик всегда дышит медленно. Я очень хорошо знаю, как он дышит. Сначала мы дышим вместе. Он делает три вдоха и выдоха, и я тоже. Когда наши животы вздуваются, они соприкасаются. Но затем он вдруг дышать перестает. Я выдыхаю, а он — нет. Мне становится страшно. А вдруг, думаю я, воздух у него внутри так и останется и никогда наружу не выйдет? И от страха начинаю дышать очень быстро. Вдыхаю и выдыхаю три-четыре раза подряд, и мне начинает казаться, что воздух у меня вот-вот кончится. Но тут я вдруг слышу, что Ицик наконец-то выдыхает, успокаиваюсь и снова начинаю дышать нормально, вместе с ним.
Кожа Ицика и моя сделана из одного и того же материала: мы оба такого же цвета, как мама. Мой нос и нос Ицика — это один и тот же нос. Нос нашего отца. Когда мне нравится какая-нибудь девчонка, я первым делом встаю к ней в профиль. Чтобы она увидела, как линия моего лба плавно перетекает в линию носа. Рот у Ицика тоже такой же, как у меня. Только он всегда держит его закрытым. Как будто боится, что у него украдут зубы. Я же свой рот не закрываю даже на секунду, а мой язык к тому же все время бегает по губам, как бегала папина рука, когда он в фалафельной протирал прилавок. А когда я Ицика брею, мой язык вылезает изо рта и начинает извиваться во все стороны, как будто хочет мне помочь.
Особенно я люблю брить Ицику кости, которые идут к подбородку. Но сам подбородок я люблю брить меньше. Потому что там нет ни одного одинакового участка. Подбородок брить труднее всего. Бритва скользит по его лицу, и я стараюсь на нее не смотреть. Когда я на нее не смотрю, моя рука бреет лучше.
Пока я брею Ицика, все время смотрю на его закрытые глаза. Нет в человеке ничего более прекрасного, чем кожа глаз, когда они закрыты. Закрытый глаз похож на младенца в животе матери. Сам глаз, который движется под кожей, — это ребенок, сидящий в воде, а кожа глаза — это материнский живот. Иногда мне страшно хочется потрогать Ицику глаз, чтобы почувствовать, как он движется под кожей.
Когда я кончаю брить Ицику подбородок, я смываю ему с лица пену, вытираю его полотенцем и провожу рукой по его коже, чтобы убедиться, что везде гладко. Мне страшно хочется побрызгать его одеколоном Коби, но я боюсь, что он меня за это убьет. Потому что, как только он имя «Коби» слышит, сразу психовать начинает. И что ему такого сделал Коби, даже и не знаю. Он ведь с нами почти и не разговаривает совсем. Как только поест, сразу идет с мамой спать, в их комнату. Чтобы Ошри и Хаим думали, что у них папа и мама есть. Маленькие они еще. Что им скажут, тому и верят.
Когда Ицик выходит из ванной комнаты, я начинаю рассматривать себя в зеркале. Нет, мне самому пока еще брить нечего. Я возвращаюсь в свою комнату, ложусь в постель, кладу пальцы на глаза, трогаю веки и представляю, что это материнские животы, внутри которых сидят младенцы. Потом мои пальцы спускаются ниже, и я начинаю трогать волоски, которые растут в низу материнских животов. От этого меня бросает в жар, и, когда я чувствую, что вот-вот взорвусь, я кладу ладони на глаза — как будто укрываю матерей с младенцами одеялом — и засыпаю. Сны, которые мне после этого снятся, я рассказываю Ицику, но ему самому сны про девчонок никогда не снятся. Все его сны какие-то дурацкие. Когда мы с ним еще спали в одной кровати, я все время просыпался, потому что он из-за этих своих снов постоянно ворочался.
Ицик
В последний раз я кормлю Далилу, перед тем как лечь спать. Сегодня у меня для нее есть две мышки, которые попались в расставленные мной мышеловки. Поймать этих мышей мне удалось не сразу. Первые три от меня убежали, а одна даже укусила за руку. Одну мышку Далила получит сейчас, а вторую я оставлю ей на утро.
Я сажаю ее вместе с мышеловкой в кухонный шкаф, бью по палочке, которая открывает мышеловку, и быстро убираю руку. Потом бью по дверце шкафа, и она захлопывается.
Далила и мышь сидят в шкафу, а я стою возле него и слушаю. Я слышу, как она разрывает мышь на части.
Когда ты живешь на границе, у тебя уши не такие, как у всех остальных людей. Они становятся у тебя, как у кошки, так что ты можешь определять все по слуху. Ты точно знаешь, когда по ту сторону границы взорвался наш снаряд, а когда, наоборот, к нам сюда летит «катюша». Или, например, когда это всего лишь рев самолета. Ты даже можешь сказать, где именно эта «катюша» упадет. Когда она еще только по воздуху летит и воет. Правда, когда «катюши» падают несколько дней подряд, уши начинают тебя подводить. Они устают. Когда обстрел заканчивается, то еще в течение двух дней после этого ты продолжаешь вздрагивать от каждого звука. Дверь от ветра хлопнет — тебе кажется, «катюша» взорвалась. Радио заговорит — ты думаешь, это машина с громкоговорителем по улице едет и всем в бомбоубежище спускаться приказывает. Даже собачий лай — и тот иногда за громкоговоритель принимаешь. Я уж не говорю о свадебной стрельбе в арабской деревне. Короче, после этого твои уши надо на какое-то время в сумасшедший дом помещать. Чтобы они там снова в норму пришли. Вон у Ализы, например — ну, которая вместе с мамой в яслях работает, — ночью со стены навесной шкаф свалился. Они в нем красивую посуду хранили, которую им на свадьбу подарили. Так они всю ночь даже боялись пойти туда посмотреть. Думали, что в дом попала «катюша» или что, может быть, к ним террористы забрались. Только утром увидели, что шкаф валяется на полу, а вся посуда в нем разбилась вдребезги.
В шкафу у Далилы стало тихо. Схрумкала мою мышку и даже глазом не моргнула.
Скоро в нашем доме начнется ночь.
До того как на нас напали террористы, для каждой семьи в нашем доме ночь начиналась в разное время. Но после нападения для всех в доме она стала начинаться в один и тот же час. Я сижу в своей кровати и слушаю, как в доме начинается ночь.
Сначала я слышу, как на балконе у Даганов — они этажом выше живут — кричат, чтобы Моше немедленно шел домой. Потом они отключают холодильник от розетки и начинают толкать его к входной двери. Но мало того что он у них тяжеленный, так еще и без колесиков. Не то что наш. К нашему холодильнику колесики приделал Коби.
Их кухня находится прямо над моей комнатой. До того как они начали по вечерам подтаскивать холодильник к двери, я думал, что потолок у меня над головой — это небо и что над мной никого, кроме Бога, нету. Но после нападения террористов неба у меня больше не стало. Теперь, когда я разговариваю с Богом, все время помню, что между нами вклинились эти чертовы Даганы, и меня это ужасно бесит. Разве можно поверить, что у тебя над головой небо, когда наверху стоит такой грохот? То у них холодильник в дверь кухни не пролазит, то плитки на полу крошиться начинают, то они все друг на дружку орут — из-за того, что кто-то из них вовремя дверь не открыл. Или, например, один из братьев вдруг как завопит:
— Почему это я должен один за всех вкалывать?! Расселись тут, понимаешь, как начальники, и только ценные указания даете!
Я слышу их очень хорошо. Их кухонный балкон находится прямо над нашим, и все отлично слышно. Они замолкают только после того, как на них рявкает отец.
Через десять минут все стихает. Значит, дотащили. С этого момента их квартира превращается в тюрьму. Теперь до самого утра из нее никто не выйдет и никто в нее не войдет.
Иногда они доводят меня до настоящего бешенства, и я начинаю мечтать о том, чтобы террористы пришли и расстреляли им к чертовой матери их входную дверь. Я представляю себе, как пули пробивают дверь, проходят через заднюю стенку холодильника, разносят на своем пути все в пух и прах и застревают в большом кочане капусты. Все, что находится в холодильнике, разлетается в разные стороны, а брызги от молока и матбухи стекают по стенкам.
Когда Даганы передвигают свой холодильник, их слышит весь дом. А когда история с холодильником заканчивается, наступает очередь Илуза и Коэна. Они приделали по обе стороны входной двери железные кольца и каждый вечер просовывают в них металлические засовы. От этого тоже поднимается жуткий грохот. Наконец и они оказываются запертыми в своих тюрьмах и для них тоже начинается ночь.
Ну а у Битонов сейчас, наверное, смотрят телевизор, и Альберт сидит с «Калашниковым» на коленях. Чтобы семья чувствовала себя в безопасности. Правда, в рожке у него нет ни одного патрона, но ни его мать, ни сестры об этом не знают. Он сказал об этом только Дуди. А пока он не раздобыл автомат и не стал с ним вот так вот по вечерам сидеть, его мать вообще по ночам не спала.
Я думаю об Альберте Битоне и знаю, что мой брат Коби сейчас направляется к шкафу. И хотя его шагов я не слышу, я абсолютно точно знаю, что он туда идет. Обычно он делает вид, что подошел к шкафу случайно, как будто просто проходил мимо. Чтобы никто ничего такого не подумал. Я вижу, как он прислоняется к шкафу спиной, со всей силой на него надавливает, чтобы проверить, крепкий ли, потом отпирает дверцу ключом, снова ее запирает и уходит, ни разу не оглянувшись. Он считает, что этот шкаф предназначен только для него одного, а все остальные пусть хоть сдохнут.
Потом я представляю себе Эти. Она как бы ненароком подходит к окну, выходящему в сторону оврага, откуда пришли террористы, и, притворяясь, будто ей просто захотелось постоять у окна, начинает вглядываться в темноту. Мне все время хочется ей сказать: «Не бойся, Эти, у меня есть отличный план, как их победить». Но я молчу. Я знаю, что она меня боится. И Далилу тоже.
Раньше я вот тоже все время по вечерам к окну подходил. Однако вся беда в том, что как только ты к нему подходишь, то больше отойти не можешь. Стоит тебе возле него всего пару секунд постоять, и ты уже не будешь спать до самого утра. Так и останешься там стоять, всматриваясь в темноту и пытаясь разглядеть террористов. Так что в конце концов тебе уже всякая чепуха мерещиться начинает. Увидишь, например, какое-нибудь дерево — и думаешь, что это человек. Сердце у тебя начинает колотиться, как бешеное, но потом ты присматриваешься и понимаешь, что это всего лишь дерево. Привиделось, думаешь ты, никого там конечно же нету. И отходишь. Но как только ты отходишь, тебе сразу начинает казаться, что теперь-то они уж точно там появились. Вот ты от окна два шага сделал — и появились. Ты снова бросаешься к окну, чтобы увидеть, как они под нашим домом ползут, со всеми этими своими гранатами, но как раз в этот момент у тебя как назло схватывает живот. Ты бросаешься в туалет, и за пять минут из тебя выходит столько, сколько обычно накапливается за целую ночь, а потом снова возвращаешься к окну. И так каждый день. Хочешь от окна отойти — и не можешь. Отходишь только для того, чтобы спустить свой страх в унитаз.
С тех пор как я принес домой Далилу, я больше у окна не стою. Потому что никаких террористов я теперь не боюсь. Как только слышу, что она кончила есть, сразу ее из шкафа вынимаю и Дуди зову — чтобы он ее привязал и все за ней в шкафу убрал. Он привязывает Далилу к крану, затыкает раковину пробкой и наливает в нее немного воды. Получается что-то вроде озерца. Чтобы Далиле ночью было что попить. И чего мы только для нее в эту раковину не натаскали. Даже маленький лесок ей там соорудили. Чтобы она чувствовала себя как на воле и не подумала бы, что она человек. Потому что еще один человек нам не нужен. У нас тут и так уже людей слишком много. Мы налили на раковину немного жидкого цемента и воткнули в него красивый кусок дерева, а из оврага я принес несколько больших листьев, желудей и круглых камешков. Самые красивые камешки для Далилы подобрал: в роднике нашел.
И вот стоит наша Далила в своей раковине, как в овраге, и красоту наводит. Сначала начинает об дерево клюв чистить. Одну сторону — потом другую, одну — потом другую. Ну в точности как наш парикмахер Эдмонд, когда он бритву об кожаный ремень точит. Причем когда она все это делает, у нее крылья сзади сложены — совсем как у Шмуэля Коэна, когда он в субботу из синагоги возвращается и руки за спиной держит.
Потом она поднимает ногу и начинает взбивать перья на шее. Они шевелятся у нее, как живые, и в конце концов становятся такими же пышными, как мамина прическа на фотографии с бар мицвы Коби. Но прическа Далилы — это вам не то что мамина; она не одноразовая, не на один день. Мама вон один раз в душ сходит — и нет у нее больше никакой прически. И краска у нее с волос смывается, так что седые волосы видно. А Далила — она никогда не меняется. И прическа у нее на голове всегда одинаковая, и цвет волос всегда один и тот же.
После того как она заканчивает свои перья взбивать, начинает приводить их в порядок. Я зрелища лучше этого не знаю. Быстро-быстро так клювом своим каждое перышко — раз-раз-раз. Ни одного не пропускает. А в самом конце делает то, на что я люблю смотреть больше всего. Начинает свою голову так вот поднимать и опускать, поднимать и опускать. Как будто внутри шеи у нее механизм какой-то сидит, который ей голову в движение приводит. Мы, люди, так не можем. Кто знает, может быть, так она свои мысли в порядок приводит. Как перья. Может быть, из-за этого они разложены у нее в голове в идеальном порядке и никогда друг с другом не смешиваются. И никакая грязь к ним не липнет.
Когда мы ее выдрессируем, я буду каждую ночь ее на окно высаживать. Чтобы она там сидела, смотрела на овраг и террористов ждала. А я буду себе в это время преспокойненько спать. Как Бог, закончивший сотворение мира.
Я слышу, как Битон спускается к двери нашего подъезда, чтобы ее запереть. Она железная и закрывается на цепь с замком. В точности как в курятнике у нашей бабушки. Эту дверь нам тоже после нападения террористов поставили. Звяканье цепи и замка — это звук, после которого окончательно начинается ночь. Теперь до самого утра никто из дома не выйдет и никто в него не войдет. До без четверти шесть, когда за рабочими начнут подвозки приезжать. И вместе с нами здесь всю ночь будет наш страх сидеть. Как Далила с мышью в кухонном шкафу.
Дуди
Когда папа умер и родились близнецы, нас стало семеро, и «Амидар»[27] дал нам квартиру семьи Эльмакайес, которая переехала в Ашдод. Их дверь была напротив нашей. У нас тогда буквально все в поселке с квартиры на квартиру переезжали. Все хоть ненамного, но свою жилплощадь увеличили. По улицам все время сновали люди с коробками и стульями в руках. Коби сказал, что квартиры стали раздавать только из-за выборов и что вообще-то, даже когда нас было только шестеро — когда еще наш папа был жив, — нам уже тогда должны были добавить как минимум пятьдесят шесть квадратных метров, и только из-за того, что папа отказался бросать бюллетень за кого надо, только поэтому мы тогда ничего и не получили. Но когда папа умер, Коби пообещал кое-кому, что мама проголосует за кого положено, и подрядчик из «Амидара» прислал к нам домой рабочих. Они сломали стенку и сделали нам из двух квартир одну.
Наша квартира имеет форму бабочки. В ней все повторяется по два раза. Две кухни, две комнаты побольше, две комнаты поменьше. И еще есть длинный коридор. Когда ты стоишь в конце этого коридора, тебе кажется, что две половинки квартиры отражаются друг в друге как в зеркале. Потому что все у нас тут в двойном количестве.
Когда нам расширили квартиру, мы сначала хотели, чтобы у каждого был свой угол, отдельно от других, и спали каждый в своей комнате. Но через месяц снова стали спать вместе. Потому что кому же охота только стены своей комнаты видеть, когда он спать ложится? Я вот, например, если ночью не слышу, что возле меня еще два или три человека сопят, вообще уснуть не могу.
Пока Ицик не принес Далилу, он тоже спал с нами вместе, но, когда принес, сказал, что поселит ее в старой кухне. «Там, — говорит, — для нее есть вода и ее ночью никто не услышит». А потом и кровать свою туда перетащить решил. Мама и Коби на него орали, требовали, чтобы он от птицы избавился, но их крик на него не подействовал. Тогда они попытались уговорить его по-хорошему. И чего они только ему не говорили — и что в Торе написано, что на кухне спать нельзя, и что в кухне даже и мезузы нету, — но и это тоже не помогло: он сделал вид, что их не слышит. Как-то раз, когда они были на работе, он взял свою кровать и потащил на кухню. Это с его-то руками. Никто из нас ему не помогал. Он падал, натыкался на стены, по руке у него текла кровь — потому что он порезался об кровать, — но мы только стояли и смотрели. Вообще-то нам хотелось ему помочь, но мы боялись, что на нас рассердится Коби.
Когда Ицик втащил наконец свою кровать в кухню, она заполнила собой все помещение. Как только раздвижную дверь открываешь, сразу на кровать натыкаешься. Даже пола под ней не видно. Ну а Ицик привязал свою птицу к раковине и спит теперь возле нее.
Ицик
Вот уже полдня, как я лежу в кровати и не шевелюсь. Ночью мне снились террористы. Месяца не проходит, чтобы они мне не приснились. Во сне я слышу крики и взрывы, вижу террориста, направляющего на меня ружье; или, например, мне снится, что я лежу на полу, а террорист пинает меня ботинком в голову. Грязь с его ботинка попадает мне в глаза. Однажды мне приснилось, как они хватают Эти за горло, затыкают ей рот тряпкой и ломают ее транзистор. В другой раз — как вся наша семья лежит на кроватях мертвая. У каждого в голове дырка от пули, и по подушкам течет кровь. Еще я видел папу. Он тоже лежал у нас в квартире, и на лице у него тоже была дырка. На том же самом месте, где и укус. Как будто он специально ожил для того, чтобы умереть еще раз — только на этот раз уже вместе с нами и от рук террористов. Но сегодня ночью мне приснилось то, что еще не снилось никогда. Мне впервые приснилось, что террористы стоят возле нашего дома и чего-то ждут. Я ужасно этому обрадовался. Неужели это наконец случилось? Неужели мой план сработал и мне удалось их сюда заманить? Неужели они пришли прямо к нам домой?
Мы с Далилой смотрим на них из окна нашей квартиры, расположенной на пятом этаже. Под фонарем стоят три толстых террориста. Даже и не знаю, как им, таким жирным, удалось сюда добраться. Они поднимают головы и смотрят на флажки, которые я повесил на окне. Террорист, который посередине, — вылитый Шушан из кинотеатра, только с куфией на голове, а двое других — усатые и ни на кого не похожи. Они явно ничего не боятся: стоят себе, расставив ноги, и смеются. От смеха у них даже выступили на глазах слезы. Того и гляди, от хохота прямо описаются. Террорист с лицом Шушана обнял двух других за плечи, а те поддерживают руками трясущиеся от смеха животы. Я жду, что Далила на них нападет, но она не шевелится. Они ее не интересуют. Наконец тот, что с лицом Шушана, убирает руки с плеч двух других, разворачивается и уходит, а вслед за ним уходят и эти двое. Они не боятся повернуться ко мне спиной. Их спины увешаны гранатами, и — так как они продолжают смеяться — гранаты у них на спинах трясутся.
Террористы растворяются во тьме, а я смотрю в окно потрясенный. Они стояли там и смеялись, а она на них даже не среагировала! Как это может быть?! Такое ощущение, что она стала железная. Ее перья, которые раньше были мягкими, теперь сделались колючими, и она смотрит на меня так, будто не узнает. Глаза у нее как стеклянные. Это выводит меня из себя, и я выбрасываю ее из окна. И тут она вдруг превращается в настоящую птицу и улетает. Я больше ее не вижу. Она тоже растворилась в темноте.
Я слышу, как мама гремит чем-то на кухне. Я открываю глаза и вижу, что ночь подходит к концу. Далила сидит привязанная, и никаких террористов с гранатами в комнате нет.
Я начинаю думать про свой сон, и у меня вдруг возникает вопрос. Как мне объяснить Далиле, что она должна выклевать командиру террористов глаза? Раньше мне этот вопрос почему-то в голову не приходил.
Я закрываю глаза и начинаю думать о животных, обитающих в Израиле. Не только о птицах, но и обо всех вообще. О больших и о маленьких, о птицах и о рыбах. Животным, думаю я, нет ну абсолютно никакого дела до того, что тут происходит, и, когда на нас падают «катюши», они вместе с нами в бомбоубежища не бегают. Наверное, в Израиле лучше всего быть не человеком, а муравьем. Муравей, он, во-первых, не боится войны. А во-вторых, он ничего не понимает. Упадет на него «катюша» — умрет, а не упадет — он о ней и думать не будет.
Я слышу, как мама уходит в ясли, и снова засыпаю.
Когда я открываю глаза, в комнате уже совсем светло и вокруг стоит полная тишина. Все ушли.
Во рту и в горле у меня страшно пересохло. Мне очень хочется в туалет и чего-нибудь поесть. Я смотрю в потолок. В голове у меня вертятся все новые и новые вопросы. Почему, например, воюют солдаты ЦАХАЛа?[28] Что ими движет? Страх? Ненависть? Или, может, они сражаются за свою честь?
Вот, например, Далила. Она никого и ничего не боится. Она ведь летает в небе. Чего же ей бояться? И чувство чести у нее тоже врожденное. Для этого ей ничего делать не надо.
Я начинаю думать про ненависть, и у меня сразу возникает куча новых вопросов. Что такое ненависть? Как она приходит к человеку? Где она размещается в человеческом теле? Как ее внушают солдатам? Впрыскивают как укол — один раз и на всю жизнь? Или она как еда и человека нужно подпитывать ею постоянно?
Или вот, скажем, Далила. У нее ненависть есть или нет? А любовь? Я приподымаю голову с подушки и смотрю на нее. По ней никогда не видно, грустно ей или весело. У нее на морде все время одно и то же выражение: будто она злится. И оно никогда не меняется. Это все из-за того, что у нее так глаза расположены. Поэтому и кажется, что она злится. У нее между глазами перья такие черные растут, и из-за них она похожа на человека, который злится. Как будто у него на лбу кожа сморщилась. Из-за этих-то перьев все время и кажется, что она сердится. Не родилась еще на свет та птица, которая ее улыбнуться заставит.
Только у людей бывают выражения лица. Лицо человека — как экран в кинотеатре: на этом экране можно посмотреть фильм, который идет у человека внутри. Но Далила, она гордая. Невозможно даже и догадаться, что происходит у нее внутри. Она этого никогда не показывает. Люди же — их лица все время врут. Например, внутри у человека бушует злость, а на лице у него такое выражение, как будто он доволен. Или, скажем, он встречает на улице кого-нибудь, кого любит — ну там, девушку какую-нибудь, о которой всю жизнь мечтал, или что-то в этом роде, — и радуется. Но лицо у него при этом остается равнодушным. Как только Бог дал людям выражения лица, чтобы по ним можно было даже без слов понять, что творится у них внутри, люди сразу стали этим злоупотреблять и использовать свои лица для вранья.
Далила — она, конечно, никогда тебя не спросит «Как дела?», ей все равно, что с тобой происходит. Она не пачкает себя людскими проблемами и заботами. Но с другой стороны, ты тоже ее не должен об этом спрашивать и надевать на свою физиономию притворное выражение лица. Вот уже семь месяцев как она у меня живет, а я до сих пор так и не знаю, что происходит у нее внутри. Не знаю даже, любит она меня или нет. И никогда не узнаю.
Если бы она понимала наш язык, я бы взял ее с собой послушать раввина Кахане. В смысле когда он еще раз приедет выступать к нам в поселок. Чтобы он впрыснул в нее ненависть. Только вот одного я боюсь. Если она поймет то, что скажет Кахане, она может по ошибке напасть на Хасана, который работает у нас в банке замдиректора. Потому что Хасан — араб, а для Кахане все арабы без исключения — террористы. Все до единого.
Когда я увидел Кахане в первый раз, мне было семь лет. В тот день мы с Дуди играли в центре поселка и вдруг видим: все бегут в фалафельную. Мы тоже побежали. Мы ведь не знали, что там увидим. Откуда нам было это знать? На полу фалафельной лежал наш папа, и под глазом у него был пчелиный укус. Если бы я не видел этого собственными глазами, ни за что бы не поверил, что обычная пчела может свалить взрослого человека с ног.
Я встаю с кровати. Чтобы не упасть, мне приходится ухватиться рукой за «мрамор» возле раковины. Голова у меня болит так, словно сегодня Йом Кипур[29]. Сейчас, наверное, уже часов двенадцать. Я иду в туалет. У меня на одежде нет ни одной пуговицы, только резинки. Чтобы я мог одеваться и раздеваться сам. Я снимаю штаны и трусы. У меня есть один длинный палец. Он почти нормального размера, но только загнут на конце. Я называю его Элиягу, потому что он похож на Элиягу — дедушку Рафи, — который все время ходит сгорбившись. А ноготь на этом пальце похож на его кипу, которая вечно сидит у него на голове набекрень. С помощью «Элиягу» я снова надеваю трусы и штаны.
Я иду на кухню. Мама оставила нам на обед три кастрюли. Я приподнимаю крышку на одной из них, пересчитываю куски курицы и беру два куска: один себе, другой — Далиле. И когда я вижу, как она сидит в раковине и пожирает курицу, меня вдруг осеняет. Мясо! Ради мяса Далила сделает все, что угодно!
Дуди
Из Центра абсорбции я принес Ицику три гирлянды флажков. Одну — чтобы повесить у нас на окне, а две других — чтобы развесить на деревьях в овраге. С целью заманить в наш дом террористов. Вообще-то он хотел, чтобы я украл эти гирлянды в здании рабочего комитета, но по их стене совершенно невозможно подняться. На эту стену может залезть только ящерица. К счастью, я знал еще одно место, где их можно раздобыть. Когда Ицик пристал ко мне с этими флажками, я пошел к Салли, которая на добровольных началах работает в Центре абсорбции координатором, и сказал:
— Меня прислал Иегуда из отдела техобслуживания. Он хочет, чтобы я отнес эти флажки в горсовет. Нет-нет, Гидеона звать не надо. Я сниму их сам.
Она без лишних слов принесла мне лестницу и даже подержала ее, чтобы не качалась, а в конце еще и спасибо сказала.
После этого мы с Ициком вернулись домой и пошли на кухню, где он спит с Далилой. Ицик сказал, что для дрессировки Далилы мы должны изготовить маску террориста. Он хотел, чтобы я сделал себе лицо араба. Из белой такой пластмассовой миски, в которой папа мыл эту свою штуковину. Ну, с помощью которой он делал шарики фалафеля. Я говорю:
— Белый цвет для маски араба не годится.
А Ицик:
— Не страшно. Сожжем несколько спичек и покрасим ее.
Вся посуда из папиной фалафельной лежит в шкафу в старой кухне, где спят Ицик и Далила. Всю остальную посуду мама давно перенесла в новую кухню, но посуду из фалафельной оставила в старой. И в самом деле, зачем она ей в новой кухне? Она ее даже и видеть-то не желает.
Я взял ножик и проделал в миске две дырки для глаз. Ицик ведь своими руками сделать этого не может. Потом с помощью спичек я покрасил маску в черный цвет. Потом взял у Эти фломастер и нарисовал террористу нос. Потом из проволочной подушечки, которой мама чистит плиту, я сделал ему черную бороду и брови и приклеил их к маске клеем «Момент», который мы стащили у Асулина. Потом я сделал террористу усы. Чтобы прикрыть ему рот. Потому что этот рот получился у него как у клоуна — смеющийся такой. Как будто он совсем о смерти не думает. У меня это случайно вышло, когда я ему рот ножом прорезал. Но с усами он стал таким, каким нужно. Как будто он знает, что его ждет, и понимает, что скоро умрет. Потом я взял белую майку и сделал ему куфию, а к ней привязал черный шнурок, чтобы закрепить ее на голове. Чтобы мне не надо было ее все время рукой придерживать. Хотя в конце концов мне все равно пришлось ее придерживать.
Я назвал его Дауд, но у Дауда было только лицо. Тело у него было мое. Я стоял перед зеркалом в ванной, поглаживал Дауду бороду, тренировался говорить по-арабски и старался испытать такую же ненависть, как он. Чтобы она чувствовалась, даже если моих глаз видно не будет. А потом я сказал все арабские ругательства, которые только знал. Сначала тихо, потом громче. Открыл кран с водой, чтобы меня не было слышно, и проорал их что есть мочи.
Чтобы научить Далилу выклевывать глаза, мы взяли хлеб, положили его на час в воду и перемололи вместе с мясом в маминой мясорубке. Получилась густая такая масса, которой мы на маске дырки для глаз залепили. Только об одном мы с Ициком не подумали: как же я с залепленными глазами смотреть буду. Дома-то оно еще туда-сюда; дома я и с завязанными глазами все найду. А вот на улице… И еще мы не подумали о запахе. Потому что после того, как мясо находится на улице несколько часов, оно начинает вонять так сильно, что лучше уж засунуть голову в унитаз с говном.
Дуди и Ицик
— А ты надень ее на себя. Давай я встану на Заячьей скале и буду отпускать ремешок, а ты наденешь маску. Идет?
— А что? Думаешь, испугаюсь, да? На, держи Далилу. Только когда будешь отпускать ремешок, отпускай его на всю длину. Чтобы она смогла до меня долететь. Понял?
— Ладно, Ицик, не надо. Давай уж лучше я эту маску надену, а ты Далилу выпустишь. У тебя она лучше знает, что делать. Она как будто к твоему мозгу привязана. Короче, я готов. Только меня от этого запаха тошнит.
— Ладно, перестань уже ныть. Считаю до семи и отпускаю. Только стой прямо и держи маску крепко. Раз, два…
— Слушай, Ицик, а это обязательно, чтобы столько мяса было?
— Хватит уже языком трепать. Испугался, что ли? Я ее уже отпускаю. Только имей в виду: я отпущу ремешок сразу. Чтобы ей ничего лететь не мешало. И стой у меня прямо, понял? Стой, как электрический столб! Только попробуй у меня пошевельнуться! Четыре, пять…
— Погоди, Ицик, на меня мухи садятся. Им этот запах не мешает. Ну все, стою прямо, не шевелюсь.
— Шесть! Только попробуй пошевелись!
— Да не шевелюсь я, не шевелюсь.
— Семь! Мясо, Далила, мясо! Фас!
— Придурок! Ты мне все испортил! Теперь все пропало! Если бы я взял с собой Эти, она бы мне и то лучше помогла.
— Да она твою Далилу терпеть не может. Она что, тебе не говорила?
— Я же ей настоящий Йом Кипур устроил. Она весь день от голода вопила. И что? Ты на нее только погляди. Жрет прямо с земли, как королевна. Ни запах ей не мешает, ничего. Как будто издевается.
— Ну я же тебе говорил, чтобы ты сам маску надел.
— Ты сказал: «Ладно, не надо».
— Ну, Ицик, я же чуть со страху не помер, когда увидел, как она на меня летит. Знаешь, что будет, если она мне в глаз когтем попадет? Даже если только один разок царапнет. Я же после этого кино смотреть не смогу. И потом, ты что же думаешь, что террористы твои, они придут и будут тебе тут стоять, как электрические столбы, да? Размечтался. Думаешь, они поскидают с себя все свои бомбы и скажут по-арабски: «Ицик приказал нам не шевелиться. Сказал, чтобы мы стояли тут столбом и ждали, пока Далила прилетит». Так, что ли? И еще. Больше никакого мяса не будет, понял? Хватит! Не будем мы ее больше на мясе дрессировать.
Ицик велел мне сходить к Моше за мясом. Три дня подряд я ему твердил, что Моше нам больше не дает, но он ничего и слышать не желал. И мышеловка его ловить мышей перестала. Я решил ему напомнить, что Моше хочет стать совладельцем Далилы, хотя и знал, что он опять разозлится. А по мне, пусть хоть пять совладельцев будет. Какая разница? Но как только я об этом заикнулся, он сразу как отрезал:
— Никаких совладельцев! Нет, нет и нет! Сколько можно повторять? Никаких совладельцев не будет! Знаем мы этих совладельцев. Только один может быть «королем фалафеля». Король вообще может быть только один. Если разделить на несколько человек, то что останется? Ничего. Как можно разделить корону на пять частей?
— Но, Ицик, разве будет лучше, если мы не сможем ее дрессировать? Или если она от голода помрет?
— He помрет. Такие, как она, так быстро не помирают. Я знаю, что говорю. Она ведь королевна птиц. Покажи мне какую-нибудь другую птицу, которая как она по небу летает. Даже и не знаю, как тебе это лучше объяснить. Вот смотри. Например, завтра ты женишься, так? Твоя жена для тебя — королевна всех женщин. Ровно поэтому ты ее и выбрал; ровно поэтому на ней и женился. Но у тебя для нее нету хлеба. И вот ты начинаешь работать на заводе. Но тут вдруг завод заболевает. Приезжают всякие там заводские врачи на красивых машинах и в красивых костюмах и говорят: «Увольте двадцать рабочих, и завод выздоровеет». А тебя, Дуди, приняли на работу последним. Значит, что? Правильно: уволят первым. И вот ты проработал всего два дня, а тебя уже увольняют. Чтобы ты не мешал заводу выздоравливать. Ты идешь в собес, а тебе говорят: «Ты здоров? Ну так и иди себе, работай». А ты и так все время работу ищешь, не отлыниваешь. Каждый день на биржу труда ходишь. Но работу нигде найти не можешь. А твоя жена в это время сидит дома с маленьким ребенком. И оба они голодные. Ну? Что ты сделаешь, а?
— Не знаю.
— Я тебе скажу, что ты сделаешь. Ты придешь ко мне. И будешь плакаться, что вам есть нечего. Но ведь я же твой брат, правда? И что я тебе скажу? Я скажу тебе так: «Не плачь, Дуди. Иди к Моше. Он тебе даст еды. Только вот он сказал мне, что хочет быть совладельцем твоей жены». Ну? Что ты скажешь, если я тебе такое предложу, а? Ты этого хочешь от своего родного брата услышать, когда в беду попадешь? Да? Ты согласился бы, чтобы он совладельцем твоей жены стал? Нет, не согласился бы. Ты бы ему в морду дал. Изуродовал бы его всего.
— Не болтай. Как это ты его, интересно, изуродуешь, а? Ты что, Самсон, что ли? Ну давай, изуродуй меня. Вот, смотри. Я стою перед тобой, как электрический столб, не шевелюсь. Ну? И что ты мне сделаешь?
— Ты мне лучше вот что скажи. Ты ему что-нибудь еще про Далилу говорил?
— Говорил, не говорил… Не помню я, что я ему говорил. Что я ему скажу? Ну, про дрессировку-то уж точно не говорил. Честное слово. Не боись. Про это я никому не скажу.
— Смотри, она уже почти все съела.
— Ну и на здоровье. Пусть себе ест.
— Слушай, Дуди. Если увидишь, что кто-нибудь идет, кинь маску в кусты, ладно? Чтобы не увидели. А когда уйдут — достанешь. Ну ладно, хватит уже ей есть.
— А чего они здесь такого увидят-то? Что она испорченное мясо ест, что ли? Подумаешь! Они же все равно ни о чем не догадаются.
— Дуди, ты не можешь знать, догадаются они или не догадаются. Ты не можешь на это рассчитывать. Люди, они и сами не хотят, чтобы ты на них рассчитывал.
— Да тебя послушать — так все люди одинаковые. Тебе только волю дай, ты всех людей на помойку повыбрасываешь.
— Да как же ты, Дуди, можешь на них рассчитывать, если они ничего в жизни не понимают? Они ведь даже не знают, сколько им жить осталось. Вот смотри. Сейчас человек стоит, так? А через секунду он раз — и упал. Но когда он еще стоял, разве он об этом думал, а? Разве он думал: «Господи, это последняя секунда моей жизни». Ничего подобного. Он думал совсем о другом. Он думал: «Надо пойти отлить». Только об одном этом он и думал. Или, например, что жарко ему. Или что он пить хочет. Ты просто не знаешь, чем люди заполнены. Так я тебе скажу. Чепухней, вот чем. А у нас с тобой есть великие идеи, понимаешь? Не то что у других. Про них никто и не узнает никогда. И в газетах про них не напишут.
— Да дались тебе, Ицик, эти газеты. Зачем мне фотография в газете, если твоя птица мне глаз выцарапает?
— А что, если я тебе скажу, что нас с тобой сюда сам Бог прислал? Чтобы мы подготовились к приходу террористов. А? Тебе это в голову никогда не приходило? Ты хоть вообще когда-нибудь о Боге думал? Да может, это Он лично мне эту идею в голову вложил. И что я теперь, по-твоему, делать должен? Претензии Ему предъявлять, что ли? За то, что Он не дал мне ни кожаного ремешка для Далилы, ни мяса, ни флажков? Нет, Дуди. Я не из тех, кто претензии предъявляют, ясно тебе? Я Богу никогда не жалуюсь. Если хочешь, чтобы Он тебе помог — жаловаться нельзя. Если Он над тобой смеется — ты тоже над Ним смейся. И знаешь, что будет? В конце концов Он будет уважать тебя даже больше, чем тех, кто Его боится.
Ицик
Когда я хочу понять, что такое Бог, я сажусь возле муравейника и пытаюсь выбрать себе какого-нибудь муравья. Чтобы за ним наблюдать. На первый взгляд это проще простого. Но на самом деле это в тыщу раз труднее, чем кажется.
Во-первых, он бежит. А во-вторых, есть и тыщи других таких, как он. Так что ты все время теряешь его из виду. Кроме того, скучно же все время смотреть только на него. Только и делает, что бегает да бегает. А тут вдруг появляется какой-нибудь другой муравей, который что-нибудь тащит, и тебе страшно хочется узнать — что же это он там такое тащит? Ну вот ты на него на секунду и отвлекаешься. Но пока ты на него смотришь, твой муравей исчезает. Ты больше не можешь отличить его от других. Временами тебе кажется, что ты его узнал. Да вот же он, думаешь ты, залезает в муравейник! И начинаешь ждать, пока он вылезет обратно. Но из муравейника вылезает очень много муравьев, и ты никак не может понять, кто же из них твой? Этот? Или, может, вон тот? Точно сказать никогда нельзя. До этого он, по крайней мере, хоть тащил какую-то еду, и по ней его можно было опознать. Но теперь это уже невозможно.
Я сижу в полуметре от них и знаю, что они не могут меня видеть. Так и с Богом. Мы все время думаем, что Он от нас прячется. Или, к примеру, что Он очень далеко. А Он совсем не прячется. И вовсе Он не далеко. Просто Он такого размера, что даже когда Он рядом с нами, мы Его не видим. Взять тех же муравьев. Даже если они поднимут глаза кверху, они все равно не смогут увидеть, где кончается мой ботинок. Но допустим, я хочу, чтобы они знали, что в полуметре от них сидит Бог. Что мне нужно для этого сделать? Есть два возможных способа. Первый — это показать им, какой Бог добрый. Второй — показать им, какой Бог злой. Но в любом случае надо точно знать, что у муравьев считается добром, а что злом.
Проще всего понять, что у них считается злом. К тому же зло доставляет больше удовольствия. Сам не знаю почему. Вот, например, Ошри и Хаим. Они очень любят строить в детском саду высокие башни из кубиков. Но еще больше они любят пинать эти башни ногой, чтобы те развалились. Когда они строят башню, то сидят такие серьезные, озабоченные. А когда разрушают — просто визжат от радости.
И вот я думаю: «Дай-ка я полью муравейник водой из бутылки». Что произойдет, известно заранее. Некоторые из муравьев умрут сразу. Некоторые попытаются вылезти наружу — и тоже умрут. Ничего не случится только с теми, которые в этот момент находятся вне муравейника. И вот когда они все это увидят, то, возможно, возьмут да и задумаются. Отчего это, подумают, другие муравьи так вдруг разбегались? И что это, интересно, находится вон там, на расстоянии всего одного метра от нас? В общем, начнут они задавать себе всякие вопросы и, может быть, в результате придут к выводу, что я — их Бог. Вот если бы я сделал им что-нибудь хорошее — например, насыпал бы возле муравейника кучку еды, — они бы тогда ни о чем не задумались. Просто взяли бы еду из моей кучки и потащили к себе в муравейник. Вот, например, если кто-нибудь выиграет в лотерею, разве он станет спрашивать Бога: «Господи, за что?!» Ясное дело, не станет. А задумываться ты начинаешь, только когда с тобой случается что-нибудь плохое.
Возможно, вы скажете, что Бог злой, что Он жестокий. Но это не так. Он ничуть не злее меня, когда я сижу возле муравейника. Просто Он по нашим меркам слишком большой. Вот, к примеру, захочу я сейчас с каким-нибудь муравьем поговорить. Разве я смогу? Смогу с ним поговорить? Разве я могу положить ему руку на плечо и сказать: «Слушай, браток, а жарковато сегодня, правда?» Нет. Я — Бог. Я этого муравья создал и, значит, разговаривать с ним не могу. Не знаю, почему Бог не сделал нас такими же, как Он сам. Может быть, мы получились такими маленькими, потому что Он хотел видеть нас всех одновременно. Но из-за этого Он теперь страшно одинок. Да и вообще, из этой Его затеи — создать людей — ничего путного не вышло. Потому что людей, которые в Бога не верят, больше, чем людей, которые в Него верят.
Пойдем дальше. Если я хочу выбрать себе какого-то муравья, я должен сделать так, чтобы он отличался от других. Чтобы у него на теле был какой-нибудь знак, который бы сразу бросался в глаза. Но такой, чтобы сам муравей от этого не умер. Короче, сколько я об этом ни думаю, всегда прихожу к одному и тому же выводу: когда я еще сидел в животе матери, Бог решил меня пометить. Чтобы Ему было видно меня издалека и Он бы не перепутал меня с кем-нибудь другим. И еще я думаю, что иногда, по ночам, Он очень переживает. Из-за того, что не может жить в мире, который сам же создал. И я Его очень хорошо понимаю: ведь тот, кого Бог избрал, понимает страдания Бога лучше, чем все остальные.
За то, что Он меня избрал, я Ему очень благодарен. Поэтому, когда Он вкладывает мне в голову какую-нибудь идею, я не спрашиваю себя, зачем Он это сделал. Вместо этого я просто стараюсь найти способ, как именно сделать то, чего Он хочет.
Дуди
Я сплю и вдруг чувствую на себе руку Ицика. Я переворачиваюсь на живот, но он меня не отпускает.
— Отстань! — кричу я.
— Не ори, — говорит он, — ты так весь дом разбудишь. Я что, каждый день тебя бужу, что ли? Уймись. Если я тебя разбудил, значит, есть причина. Понял?
— Ты мне такой сон испортил, такой сон…
— Какой еще сон? Что тебе приснилось?
— Не помню. Ничего не помню.
— Так чего ж ты хнычешь?
— Потому и хнычу. Если бы помнил, не хныкал бы. Постой-постой, вспомнил! Лошадь! Я видел лошадь. Она была очень красивая: вся черная и с белым таким пятном на лбу. Я на нее залез, и тут вдруг такая песня зазвучала… Мне прямо плакать захотелось. А больше ничего не помню. Загубил ты мой сон, загубил.
— Небось еще и девчонку симпатичную видел, да? В черной юбке такой до пола. Передник белый, а волосы — длинней, чем у Эти. Угадал? Наверное, стояла на балконе и плакала из-за того, что ты уходишь.
— Откуда ты знаешь? Откуда ты можешь знать, что мне приснилось? Мы что — и во сне с тобой всегда вместе, да? Как в жизни?
— Да какие там, Дуди, сны. Я всю ночь глаз не сомкнул. Просто мы с тобой в кино ходили, помнишь? Вот из этого фильма весь твой сон и вышел. Там как раз одна такая девчонка была, забыл? Ну, которая еще плакала перед самым перерывом. Перед тем, как Шушан нас с тобой выгнал. Жалко только, что он раньше нас не выгнал. Чтобы тебе разные глупости в голову не лезли.
— Слушай, а точно. Как же это я забыл, а? Ну зачем ты меня разбудил? Сплю себе, как убитый, ни о чем не думаю. Так нет, надо обязательно прийти и меня разбудить. Чего случилось-то? Говори уже. Хватит мне тут мозги фильмами пудрить. Ты же сказал, что-то случилось. Нет?
— Сначала скажи, какого цвета перья на голове у Далилы.
Я решил, что он окончательно сбрендил. Сам же говорил, что, когда все будет готово и когда мы Далилу выдрессируем, мы ее просто на окно посадим — и все. А сами будем спать, как короли. Так и сказал: «как короли». А теперь приходит среди ночи и требует, чтобы я сказал, какого цвета перья у Далилы. Вцепился мне в руку — да крепко так, будто сам уже хищной птицей стал — и не отпускает. Между прочим, пальцы у него — они и в самом деле кривые, как птичьи когти.
— Ну-у… какого у нее цвета перья на голове… — говорю. — Самого обычного. Такого же, как и на теле.
— Ладно, — сказал он. — Пошли на нее посмотрим.
Вот, смотри, — продолжал Ицик, когда мы пришли в его комнату. — Раньше у нее на голове перья были такие, как и везде, верно? Мы ее поэтому за самку приняли, так? И в той книжке про птиц было написано, что она самка. А теперь погляди, что с ней стало. Я уже несколько дней на нее смотрю и глазам своим не верю. У нее на голове перья самца появились, видишь? Еще дня два, и у нее вся голова станет, как у самца. Короче. Я хочу, чтобы теперь на нее посмотрел ты. Может, мне все это просто мерещится, а?
— А ведь правда, — говорю я. — У нее и в самом деле серые перья появились. И еще такие… ну, синеватые, что ли.
— Да что же это такое? — взвыл Ицик. — Что же это делается? Сначала у нее изменился цвет хвоста. Ну, я подумал, что из-за летней жары. Потом покраснел живот. Я опять подумал, что это пустяки. Она же девчонка, правда? Вот ей и захотелось красное платье с черными точками. Поносит-поносит и снимет. И станет такой, как раньше. А потом смотрю — старый цвет не возвращается. И мало того что не возвращается, так она еще и в самца превращаться начала! Вот так вдруг ни с того ни с сего взяла меня да и предала! Нет, ты скажи мне, Дуди, как такое может быть, а?
— Ну не надо так, Ицик, перестань, — попытался я его успокоить, видя, что он весь дрожит. — Ты же знаешь, почему она начала меняться.
— Замолчи! — крикнул он. — Не говори ничего!
— Нет, — разозлился я, — не замолчу! Ты мне мой самый лучший сон испортил! Я тебе все скажу, понятно? Это все из-за твоей дурацкой дрессировки. Да ты ее просто замучил, на волю не отпускаешь, жизни не даешь радоваться. Даже салаг в армии — и то так не мучают. Говорил, что она королевна, что она в небе летает. Говорил, что она с Богом на одном этаже живет, дверь в дверь. Королевной всех птиц называл. Даже какашки, говорил, у нее красивые. А сам? Посмотри, что ты с ней вытворяешь. Пограничницу из нее какую-то сделал. Что это за королевна такая, если она весь день от голода орет? Если бы ты ее кожаным ремешком не привязал, она бы от тебя уже давно в небо улетела. Точно бы улетела. А привязанная она — куда улетит? В раковину, что ли? Она просто хочет тебе этим сказать, что больше твоей рабыней быть не желает и по твоей указке жить не будет. Сама теперь будет решать, что ей делать. Вот поэтому-то у нее перья и изменились. Ты ведь, если тебе чего в башку взбредет, ты сразу думаешь, что ты прям гений незнамо какой. Как рогом упрешься — трактором не сдвинешь. А ведь она птица, у нее рта нету, она тебе «нет» сказать не может. Вот она теперь тебе этими своими перьями «нет» и говорит.
Семь вечера. Мы с Ициком сидим в опустевшей школе. Целый день мы думали и гадали, как сюда попасть. Нам нужно было позарез добраться до этой книжки. Ну, про птиц. Которую я в учительскую подложил. Только мы не знали, как войти: школа была закрыта. Но, на наше счастье, в полседьмого пришел Цион Ашемеш и оставил дверь открытой. Мы юркнули вслед за ним, спрятались и стали ждать, пока он уйдет. Ицик все время боялся, что Далила закричит. Наконец Цион ушел и мы пошли в учительскую. Книга лежала на том же самом месте, где я ее оставил. Мы нашли в ней нужные страницы, и все подтвердилось. Оказалось, что Далила действительно превращается в самца.
Я вижу, что Ицик вот-вот начнет психовать, и мне становится не по себе.
— Слушай, — говорю, — а может, в фильме про Кес она тоже в самца превращается, а? Мы же его до конца не досмотрели, верно? Если бы тогда Шушан в перерыве на сцену не залез и не заорал бы «Братья Дадон, немедленно покиньте помещение кинотеатра!»… Может, в конце концов оказалось бы, что с Кес произошло то же самое? А? Как ты думаешь?
Помню, как мы стоим с Ициком возле входа в кинотеатр — с одним билетом на двоих, — разглядываем фотографии и вдруг он говорит:
— А знаешь, Дуди, когда смотришь какой-нибудь фильм, то как будто в другой мир попадаешь. Нет, правда. Словно ты в раю. Небо такого цвета, просто с ума сойти. Снег — белый-пребелый. А лошади? Таких лошадей в жизни не бывает. Только в кино. Одно только жалко — что сторож в этом раю не ангел какой-нибудь, а эта сволочь Шушан. Ладно. Давай все равно попробуем как-нибудь проскользнуть.
Он вошел первым и показал билет. Шушан оторвал ему корешок и пропустил. Но когда я, стараясь не смотреть на Шушана, попытался прошмыгнуть вслед за Ициком, Шушан крепко ухватил меня за штанину.
— О, кого я вижу! — радостно воскликнул он. — Никак месье Дадон к нам пожаловали? И куда же это вы, худенький вы наш, так нагло прете, позвольте вас спросить? Разве вы не знаете, что для того, чтобы войти в кинотеатр, нужно, так сказать, посадить свой карман на небольшую диету, а?
Он посмотрел на Ицика, который ждал меня и не проходил, и ехидно продолжил:
— Видите ли, месье Дадон, дело в том, что я пропускаю людей исключительно по их ногам. Именно по этой причине, изволите ли видеть, я здесь на детском стульчике и сижу. Раньше вы все пробирались сюда без труда, потому что я смотрел только на ваши головы. И пока я на них смотрел, внизу у меня сразу несколько безбилетников пролезали. Однако теперь, месье Дадон, ваш покорный слуга Шушан поумнел. Теперь у него все просто: две ноги — один билет. Как в Ноевом ковчеге. Правую ногу показал, левую показал, на обеих брюки одинаковые, обувь одинаковая — значит, проходи. Потому что, изволите ли видеть, месье Дадон, голова, она, как бы это вам сказать, дело такое, обманчивое; ее куда угодно засунуть можно, а вот ноги — их от земли не оторвешь: летать-то мы ведь еще не научились, правда? Такие вот дела, месье Дадон. Приклеены мы к нашей земле-матушке, приклеены. Чтобы не забывали, откуда пришли и куда уйдем.
Я сделал вид, что сейчас заплачу, и Шушан, вспомнив про нашего папу, устыдился. Увидев это, я сразу затараторил:
— А вы пустите нас по одному билету, господин Шушан, а? У нас ведь на каждого по полбилета, так? А это все равно что один билет на полфильма, правда? А в перерыве мы уйдем.
— Нет, — отрезал Шушан, сразу забыв про нашего папу. — Даже и не думайте. У меня, месье Дадон, изволите ли видеть, с арифметикой проблем нету. Если сложить полфильма и еще полфильма — одного билета не получится. Не получится и все тут. Вот скажите мне такую вещь. Когда вы на свет появились, вы Бога тоже попросили, чтобы Он вас по одному билету пустил, да? Может быть, вы Ему поклялись, что каждый из вас только по полжизни проживет?
Я видел, что Ицику страшно не нравится, как Шушан говорит про Бога, и что он начинает злиться.
— Но ведь для вас же это одни и те же деньги, — взмолился я. — Разве нет? Ну, пожалуйста. Что вам стоит?
— Хорошо еще, что ваш папа этого сейчас не видит, — укоризненно сказал Шушан. — Он бы от стыда за вас умер. Он, к вашему сведению, того, что ему не причиталось, никогда ни у кого не просил. Да-с. И сам, между прочим, никому ничего бесплатно никогда не давал.
Я уже готов был и в самом деле расплакаться, и мне хотелось только одного — уйти, но Ицик схватил меня за руку и удержал. Для него это уже было делом принципа. Между тем Шушан не унимался:
— Знаете, в чем проблема этой страны? Нет? В том, что здесь надо всем постоянно все объяснять. А я никому ничего объяснять не обязан, ясно? Особенно всякой там мелюзге! Где это видано, чтобы дети так со взрослыми разговаривали, а? И где это слыхано, чтобы они свои головы так высоко задирали? Дети, они голов задирать не должны. Дети должны смотреть туда, куда им и положено, — вниз. Нет, ну разве я не прав? — обратился он за поддержкой к Шуле, вошедшей в кинотеатр.
— А фильм еще не начался? — спросила она.
— Нет, нет, — успокоил ее Шушан. — Начнется только через две минуты. Кстати, как там дела у Циона?
Поговорив с Шулой, он снова повернулся ко мне:
— Н-да. Так на чем же мы, месье Дадон, остановились? Ах да. Так вот. Если ребенок доходит отцу только до колен, пусть он на одни его колени и смотрит. Большего ему видеть не положено. А если ему захочется на что-то пожаловаться, пусть жалуется отцовским коленям. Потому что так устроен мир. Поелику ребенок есть не что иное, как плод недозрелый, и слушать, что он там вякает, нет никакой нужды: он еще этого не заслужил. И ежели отец говорит ребенку что-нибудь умное, это входит ребенку не через уши, а проникает прямо в его маленькую головку. Падает на него, так сказать, сверху. Так что если даже ребенку уже тринадцать, он все равно не имеет права поднимать голову и смотреть отцу в глаза.
Я украдкой взглянул на часы Шушана. «Черт! — подумал я. — Вот-вот уже киножурнал начнется, а мы все еще здесь торчим. Да и Ицик, того и гляди, распсихуется. Уж я-то его знаю. Кончится тем, что нас выгонят отсюда обоих».
— Господин Шушан, — сделал я последнюю попытку. — Но ведь вы же все равно уже билет Ицику оторвали, правда? Так может быть, вы нас все-таки пропустите, а? Всего только один разок? Ну что вам, жалко, что ли?
Однако Шушан был неумолим.
— Ну что, месье Дадон? — спросил он, посмотрев мне в глаза, когда двери в зале захлопнулись и из-за них послышалась музыка киножурнала. — Вы уже что-нибудь надумали или нет? Может, уже скажете вашему брату, чтобы заходил? А то он так все начало фильма пропустит.
И тут, на наше счастье, в кинотеатр вошла Рахель.
— Рахель, — обратился к ней Шушан ласково, — я прав или нет?
Я подумал, что теперь-то уж он пропустит нас наверняка, но он решил помариновать нас еще немножко.
— Ну-ка, месье Дадон, давайте считать вместе. Пара чулок. Так? Пара новых туфель на высоких каблуках. Так? Ну и сколько же это будет? Правильно. Один билет. Вот скажите мне, прекрасная Рахель. Не бойтесь, не бойтесь, фильм еще не начался. Это пока только киножурнал. Вот эти вот два умника хотят тут у меня по одному билету пройти. Чтобы только полфильма посмотреть, до перерыва. Ну? Что вы на это скажете?
— Как тебе не стыдно, Шушан? — упрекнула его Рахель, заходя в кинозал. — Они же сироты. А ты жмотничаешь.
— Тоже мне! — фыркнул ей вслед Шушан. — Подумаешь.
Но слова Рахели на него подействовали.
— Ладно, — сказал он наконец неохотно, — проходите. А то уже скоро фильм начнется. Только чтобы тихо у меня, понятно? И чтобы не мешали никому! Кстати, кино, я вам доложу, так себе. Про какого-то мальчишку с птицей. Мне его, наверное, по ошибке прислали.
Однако даже после этого он дал нам войти не сразу. Потребовал, чтобы сначала мы поклялись, что уйдем.
— Чтобы в перерыве стояли у меня тут, как штык! Ясно вам? А то знаю я вас. Эдак и к Ною тоже придут и скажут: «Пусти нас, пожалуйста, к себе на ковчег, спаси нас, пожалуйста, от потопа. Правда, у нас билеты только вот досюда, но мы там слезем, честное слово! Мы не вруны какие-нибудь».
Когда мы наконец-то вошли в зал, я быстро нашел хорошие места и предложил Ицику сесть позади маленького мальчика — чтобы ему было лучше видно, — но Ицик все никак не мог успокоиться.
— Я ему еще покажу! — кипятился он. — Вот увидишь! Чтобы он больше не смел у меня так про Бога говорить! Можно подумать, что он с Богом прямо дверь в дверь живет. Да Бог на него небось и глядеть-то не хочет.
Он замолчал только после того, как кто-то в зале крикнул, чтобы он заткнулся и пригрозил переломать ему кости, а как только замолчал, быстро успокоился и стал смотреть на экран. Я — тоже. Но экранный «рай» — как называл его Ицик — был на этот раз каким-то странным. Потому что весь фильм мальчик только и делал, что получал от всех по башке. От учителя, от брата, от футбольного тренера — ну просто от всех вокруг. И все только потому, что у него не было отца, который мог бы его защитить. Однако Ицик ничего этого не замечал. Как только он перестал психовать, он видел на экране только одно: мальчика и его соколиху. Он сидел и, как загипнотизированный, смотрел на то, как мальчик ее дрессирует, и на то, как он у всех подряд ворует. У всех подряд и все подряд. Причем даже безо всяких наших заповедей.
Кто же мог знать, чем этот просмотр для нас закончится?
На улице начинает темнеть. Мы в школе совершенно одни. Вдруг Ицик встает и куда-то идет. Понятия не имею куда. Я спрашиваю, но он не отвечает.
Мы приходим в мастерскую, где проводят уроки труда. Он берет со стола ножницы Симхи, и почти в тот же самый момент, ну максимум через секунду после этого на поселок со страшным грохотом падают две «катюши». Мы стоим там, в мастерской, с Далилой и с ножницами, и тут вдруг к-а-ак бабахнет! И сразу же вырубилось электричество.
В полной темноте мы спускаемся в школьное бомбоубежище. В обычные дни оно служит спортзалом. Тут хотя бы есть свет: недавно установили новое аварийное освещение. Честно говоря, я этим «катюшам» даже рад. Может, из-за них Ицик возьмет да и забудет, что он собирался сделать? И то, что я ему сказал про Далилу, тоже.
Как бы не так. Плевать ему и на «катюши», и на электричество. Пусть хоть два часа еще падают — ему до лампочки.
— Как мы только отсюда вылезем, — говорю я ему, — я пойду и у кого-нибудь спрошу, чем закончился фильм.
Но он меня даже не слушает. Его опять заклинило. А чем кончаются фильмы, его не интересует в принципе. «Я тебе сам скажу, чем там все кончилось», — говорит он мне обычно. Он вообще всегда сам-с-усам. А уж если что-нибудь втемяшилось в его башку, ему хоть кол на голове теши.
— А может, — говорю я робко, — дня через два перья у нее снова такого же цвета станут, а? Возьмут да еще раз цвет поменяют?
Но он не отвечает. Я больше не знаю, что сказать, и замолкаю.
Он дает мне кожаный ремешок и велит привязать Далилу к лавке. Я привязываю. Потом он просит меня снять у него с головы панамку. Я снимаю и кладу ее ему на колени. Он сажает в нее Далилу и говорит:
— А теперь состриги ей все перья. На голове и на туловище. Типа как ты бреешь меня. Мне плевать на то, что у нее изменился цвет перьев. И мне все равно, что написано в этой книге. Потому что она у меня не такая, как все. Я выбрал ее лично и лично сделал ее королевной. И я не дам ей превратиться в самца!
Я беру ножницы, но руки у меня трясутся, и я не могу стричь. Она ведь нежная. Он же сам говорил, что она хоть и сильная, но нежная.
— Это опасно, — говорю я. — Чего ты к ней привязался? Оставь ее в покое.
Но он вскакивает, начинает совать мне Далилу и орет:
— Стриги, я сказал! Стриги!
— Я не могу! — кричу я, пятясь назад.
— Стриги ее! Брей! — вопит он, наступая на меня.
Но тут кожаный ремешок натягивается до предела, и Ицику приходится остановиться. Я бросаю ножницы на пол, но он их подбирает и начинает насаживать на свои пальцы. Он возится с этим битый час и, когда ему наконец это удается, садится на лавку и начинает стричь Далиле голову. Рука у него очень большая, а голова Далилы размером с яйцо. И вот этой своей ручищей, которая ничего не способна отрезать в принципе, он сидит и пытается ее стричь, а она в это время клюет его во вторую руку. Но эта рука у него ничего не чувствует. Он даже разрешает Ошри и Хаиму втыкать в нее булавки. Они приходят от этого в дикий восторг. Ляжет, бывало, на кровать, притворится спящим, и они начинают втыкать. Втыкают, втыкают, втыкают — а ему не больно.
Я стою, смотрю на Ицика и Далилу и ничего не могу поделать. Вообще ничего. Господи, думаю я, хоть бы меня сейчас тут не было. Хоть бы я ничего этого не видел. Но я вижу. Все происходит очень быстро и прямо у меня на глазах. Я вижу, как голова Далилы вдруг начинает отваливаться. Еще бы ей не отвалиться! Даже у человека она бы от этого отвалилась. А потом я вижу, как голова Далилы падает в панамку, наполненную кровью. Раз — и упала.
Какое-то время Ицик тупо на нее смотрит, а потом начинает плакать. Сначала беззвучно, без слез, а потом у него в глазах появляются и слезы.
Когда мы идем к выходу из школы, он утирает слезы кулаками, которые все еще облеплены пухом и перьями Далилы, а я иду и думаю: «Далила умерла. Далила умерла. Он ее убил. Она умерла».
На улице я ухожу, оставляя Ицика одного.
Я сижу на дне оврага, возле родника. Вокруг кромешная тьма. Я знаю, что должен теперь сделать. Далила умерла. Она умерла, а вместе с нею рухнул и наш план. И значит, теперь я должен снять флажки. Только я знаю, где они висят.
Я продолжаю сидеть до тех пор, пока не чувствую, что у меня накопилось достаточно сил, чтобы подняться наверх. Я пью воду из родника и начинаю медленно, стараясь в темноте не упасть в какую-нибудь яму, подниматься по склону оврага. Наконец я дохожу до красного дерева, на котором висит гирлянда. Я не знаю, как мне на него в этой темноте залезть, и начинаю прыгать, пытаясь ухватиться за гирлянду. Приходится подпрыгнуть раз сто, пока мне не удается ухватиться за один из флажков, но, когда я с силой тяну его вниз, другой флажок цепляется за ветку и рвется. Я снова начинаю подпрыгивать. Наконец, я хватаюсь за ветку, пригибаю ее к земле и едва успеваю отвязать от нее гирлянду, как она с силой распрямляется и царапает мне лицо. Не страшно, до свадьбы заживет. Я тяну за конец гирлянды и стаскиваю ее с дерева. Порвался всего только один флажок. Точнее, надорвался. Как раз между морской полоской и небесной[30]. Если бы я продолжал тащить гирлянду и дальше, он бы разорвался совсем, надвое. Меня начинает колотить дрожь. Я понимаю, что за это надо извиниться, только не знаю, перед кем. Не просить же прощенья у кусочка ткани с рисунком. Мне кажется, что из темноты доносится голос Ицика.
— Нельзя, — говорит он, — Дуди, просить прощенья у кусочка ткани с рисунком. Нельзя. Ты что, не понимаешь, что ли?
Меня злит, что он высказывает мою собственную мысль, которая пришла мне в голову еще до того, как он успел раскрыть рот. В конце концов я решаю попросить прощения у Герцля[31] и кричу:
— Герцль, прости меня! Герцль, прости меня!
Я представляю себе, как он стоит себе там, за границей, на этом своем балконе, на котором он стоит всегда[32], и кричу еще громче:
— Герцль, я сделаю вместо этого новый флажок! За каждый порванный флажок я сделаю десять новых!
Всю дорогу домой я продолжаю кричать: «Прости меня! Прости меня!»
Неожиданно начинается ужасно противный ветер, который все время дует с разных сторон, но я продолжаю подниматься по склону оврага. Вокруг меня, в тишине, возвышаются большие черные скалы. И как только я ухитрялся лазить по ним в тот день, когда вешал флажки? Сам не понимаю. Как только я приближаюсь к какой-нибудь скале, она вдруг увеличивается в размерах. Может, это из-за темноты? Или из-за ветра? Из-за того, что он проникает в скалы?
Каждая скала, мимо которой я прохожу, словно говорит: «Эй, кто это тут идет? Уж не младший ли брат Ицика? Сейчас его с тобой нет, и он не скажет тебе, как на меня залезть. Посмотрим-посмотрим, как ты залезешь без него».
Я смотрю на небо и вижу звезды; они следуют за мной по пятам. А когда я опускаю голову, у меня появляется ощущение, что они привязали меня к себе невидимой нитью.
Я то залезаю на скалы, то спускаюсь с них, но теперь уже смотрю только вперед и больше не поднимаю голову, чтобы увидеть звезды. Не хочу, чтобы они подумали, что я в них не верю.
Я иду очень быстро. Я больше не должен прислушиваться к дыханию Ицика за своей спиной; мне больше не нужно его дожидаться.
А вот и рожковое дерево. Сам не заметил, как до него дошел. А вон и флажки, которые я развесил на самых высоких ветках. Прямо над моими флажками висит луна, и я рад, что она рядом с ними. Я подхожу ближе, обхватываю ствол дерева руками и начинаю карабкаться вверх. Лезть в темноте, оказывается, даже легче, чем при свете: руки сами нащупывают на коре углубления и выступы. Я долезаю до самой верхушки. Может, хоть на этот раз все флажки будут целыми? Нет. Некоторые из них уже дырявые — просто потому, что провисели тут так долго, — и за каждый порванный флажок я снова прошу прощения у Герцля. А также у царя Давида, Авраама, Исаака и Иакова. И у четырех матерей[33]. И у Агари. За то, что ее бросили в пустыне умирать с Исмаилом. И у солдат ЦАХАЛа. У тех, которые служат на севере, у тех, которые служат на юге, у тех, которые служат на востоке, у тех, которые служат на западе, и у тех, кто не служат ни там, ни там, ни там, ни там, а лежат под землей или вознеслись на небо. А под конец я прощу прощения у Лиат. Хотя и знаю, что она меня за это никогда не простит.
Как здорово, думаю я, что я это сделал! Потому что после рожкового дерева я уже могу идти прямо домой. Да и зачем это вообще нужно, чтобы террористы к нам в дом приходили? «Катюш» нам, что ли, мало? Тем более что Далила умерла и выклевывать им глаза теперь больше некому. Еще, не дай Бог, в плен нас всех возьмут. И маму, и Ошри, и Хаима, и Эти. И даже Коби.
— Коби! Коби! — говорю я вслух, и никакой Ицик на меня больше не орет.
Я думаю о маме, которая родила меня здоровым, и об Ицике, который считает, что я родился только для того, чтобы служить для него чем-то вроде магазина запчастей. Как будто Бог специально сделал так, чтобы мои руки стали его запасными руками. Это меня злит, а вместе со мной начинает злиться и ветер. Он свистит еще сильнее, как будто сзывает в овраг на шабаш всю свою родню — братьев, сестер, дядьев, племянников, — и они тут же слетаются к нему со всех сторон.
Я поднимаюсь по тропинке, по которой мы обычно спускаемся из дома в овраг, прохожу мимо высоких деревьев с желудями, и от усталости уже не только не слышу звука ветра, но даже не чувствую своего собственного тела: ни ног, ни рук, ни лица.
И вдруг в поселок возвращается электричество. Я еще не выбрался из темного оврага, но уже отсюда вижу, как осветился наш поселок. Как будто в комнате, в которой погасили свет, зажегся экран телевизора.
А вот уже и наши дома. Я снова начинаю чувствовать свои руки, ноги и лицо и говорю:
— Мысли Дуди — это вам не ветер. Больше никто мне мои мысли не подменит.
Справа и слева от меня стоят два дома, а между ними — наш собственный. Он похож на невесту, которая весь день наряжалась в салоне для новобрачных, готовясь к встрече со своим женихом. Возле входа Майкл нарисовал снежные горы и падающую воду, а во всех окнах дома горит свет.
На нашем окне висят флажки. Я смотрю, как они трепыхаются на ветру и думаю: а может, уже и не надо их снимать? В самом деле, зачем? Ведь они же больше не заманивают к нам в дом террористов, а выглядят просто как самые обычные флажки, которые повесили в День независимости и забыли снять.
Лицо у меня заледенело от ветра. Мне страшно хочется спуститься в наше бомбоубежище и рухнуть там на какой-нибудь матрац. Но если я сейчас, посреди ночи, когда все спят, туда спущусь — весь поцарапанный и в такой грязной одежде, — люди или умрут от страха, или забьют меня от злости до смерти. А ведь я… Мне хочется только одного: поклясться при всех, что я больше никогда не буду лазить по чужим квартирам и влезать к людям в окна. Теперь я буду входить только через двери.
— Клянусь папой… — говорю я вслух и вдруг вспоминаю, что Ицик сказал, что мы папой клясться не можем, потому что у нас папы нет. — Нет, есть! — кричу я ему. — Есть! Есть! Есть! У нас есть наш мертвый папа! И я помню о нем всегда!
Не проходит и дня, чтобы я не думал об отце. Не проходит и дня, чтобы я не чувствовал у себя на плече его руку. Как подушка, лежит она на моем плече и согревает меня. Помню, как он снимал мне обертку с «артика»[34] — медленно-медленно, чтобы не сколупнуть шоколад, — а потом оборачивал палочку бумагой, чтобы не капало, и «артик» становился похож на банан. И еще я очень хорошо помню день его смерти. Я помню все. Неужели Ицик думает, что я могу это забыть? Разве я могу забыть, как папа лежал на полу фалафельной? Вокруг него толпились люди; они кричали и пытались меня от него отогнать — не хотели, чтобы я это видел, — но я снова и снова протискивался через толпу и смотрел, смотрел, смотрел… Потому что папа был там самый красивый из всех. Хотя они были живые, а он лежал на полу мертвый.
И тут вдруг я вспоминаю, что завтра у папы шестая годовщина со дня смерти. Из-за ракетного обстрела, наверное, никто к нему на могилу идти не захочет. Ну и пусть. Если завтра из страха перед «катюшами» никто на кладбище не пойдет, тогда я, не спрашивая ни у кого разрешения, пойду туда один. Ведь все равно я в бомбоубежище не сижу. Да и в самом-то деле не стоит, наверное, никому выходить в такие дни на улицу и разгуливать по кладбищам.
Когда я прохожу мимо футбольного поля и начинаю приближаться к кладбищу, мне вдруг приходит в голову, что именно там я поклясться и должен. Потому что это самое подходящее место. Именно там я поклянусь папе, что никогда в своей жизни больше не буду воровать, никогда в своей жизни больше не буду лазить по чужим квартирам и никогда в своей жизни больше не буду заходить в дома через окна. Только через двери. И вот я подхожу к кладбищу и говорю:
— Папа!
Вообще-то это только начало моей клятвы, но дальше этого у меня почему-то не идет. Ну не выходит изо рта ничего, кроме «папа», и все тут. Как будто мой рот заполнился одним-единственным словом. Сам не пойму, что это со мной. Иду и говорю: «Папа! Папа! Папа! Папа!» И никак не могу остановиться.
Коби Дадон
Нет, ну скажите, можно таким именем подписываться, а? Коби Дадон! С одной длинной палки начинается и другой такой же палкой кончается[35]. Как будто в мое имя засунули два костыля. Вот была бы у меня, например, в имени хоть одна буква ламед — моя подпись сразу бы стала смотреться по-другому. Ламед поднималась бы кверху, доставала до предыдущей строки, перекручивалась, спускалась вниз и присоединялась к следующей букве. Как, например, в фамилиях Афлало, Эльмакайес, Илуз, Амселем, Лило. И тогда моя подпись сразу бы стала нормальной. Кстати, мне даже и двух-то ламедов не надо — как в «Афлало» и «Лило». Вполне хватило бы и одного.
И почерк тоже… Ну вот скажите, почему моя подпись никогда не занимает много места? Все мои подписи не больше трех с половиной сантиметров. Я много раз измерял их линейкой. И скучные они какие-то, как будто составлены из спичек. То ли, например, подпись Исраэля Тальмона. И как ему только это удается? Подписывается так, будто пишет по-английски. Я его подпись даже черной ручкой обводил — чтобы понять, как он это делает. И к тому же все его подписи как минимум восемь сантиметров в длину и три с половиной или даже четыре сантиметра в высоту. Я все его подписи в письмах тоже линейкой обмеряю. Сначала измеряю длину, а потом высоту. Когда же я начинаю подписываться сам, у меня так никогда не выходит. Даже если я сижу в точности как он и точно так же держу ручку. Буквы у меня никогда друг с другом не соединяются, и в моем имени нет ни одной буквы, которую можно было бы увеличить. Если, например, я увеличиваю две буквы далет, то мое имя превращается в «Коби Цацон», а если букву куф, то создается впечатление, будто это подпись первоклассника. Короче, что бы я ни делал, как бы ни старался, у меня ничего не получается.
Сегодня с внутренней почтой должны прибыть складские документы: бланк номер триста двадцать восемь — для оформления заказов из отделов и бланк четыреста двенадцать — для оформления выдачи товаров со склада. Господи, сколько я сил положил, чтобы на эту должность устроиться! И что же меня подвело? Да подпись моя, вот что. Нет у меня еще пока такой подписи, за которую меня на заводе могли бы уважать.
Если к нам на завод придет даже самый умный в мире человек, и если он будет ходить по нашему заводу целый день, и если вы потом его спросите: «Ну? Кто тут после Тальмона главный?» — он наверняка скажет: «Начальники отделов, бригадиры, заведующий отделом кадров» — или что-нибудь в этом роде. И будет не прав! Или вот, например, если вы его спросите: «А скажи-ка, кто здесь все решает? Начиная с мелочей вроде кнопок для доски объявлений и кончая кадровыми вопросами? Кто здесь определяет, кого на работу принимать, а кого нет, кого увольнять, а кого оставлять, кому увеличивать зарплату, а кому не увеличивать?» Он в мою сторону даже и не посмотрит. Даже если я сам ему скажу, что это я, он в ответ только улыбнется. Короче говоря, мне в этом смысле опасаться нечего. Я могу ходить по заводу совершенно спокойно, потому что знаю: никто тут ни о чем не догадывается.
Первые полгода я был для них никто. Так, парнишка какой-то, которого приняли на работу вместо «бедняжки Розетт». Меня даже и по имени-то никто не называл. А мой станок называли «чудовищем». И никто не хотел на нем работать. Как только мы в цех придем — а смена у нас в десять вечера начиналась, — девчата, одна за другой, к нему подходят и плюют на него. Плюнут — и расходятся по своим местам, а я потом возле него стою и на их слюну любуюсь — как она по нему стекает. Мне очень хотелось попросить их, чтобы они больше этого не делали, но у меня не хватало храбрости. Хотя, по правде говоря, даже и без этой их слюны работать там было противно, потому что никто даже и не пытался сделать цех уютным. Но все равно, когда я собирался по вечерам на работу, я всегда одевался так, как будто иду на какое-нибудь торжественное мероприятие. Потому что в такой одежде я чувствовал, что не останусь там навечно, что мне удастся когда-нибудь сделать карьеру, что я не буду двадцать или тридцать лет стоять на самой низкой ступеньке социальной лестницы. Ведь, как всем хорошо известно, человека встречают по одежке. Так что если будешь одеваться в грязную, провонявшую подгоревшим маслом одежду, то и кончишь соответственно.
Беда только в том, что от этих бесконечных ночных смен у меня начала болеть спина и мне стало трудно стоять прямо. Однако попросить, чтобы меня перевели на сидячую работу, я не решался: боялся, что выгонят. Мне ведь все и так постоянно говорили: «А, это ты, что ли, вместо Розетт работаешь?» И смотрели на меня так, будто это я виноват, что она ударилась головой.
Уже в самый первый день работы на заводе я узнал, что, когда пластмассовая оболочка провода рвется, подача электричества сразу прекращается и станок останавливается. Станкам ведь все равно. Плевать им на то, что из-за них вся жизнь человека может под откос пойти.
Розетт работала за моим станком. Дело было в полчетвертого утра. Полчетвертого утра — это такое время, когда уже начинаешь сходить с ума. Потому что тебе кажется, что смена никогда не кончится. За какие-нибудь полминуты ты успеваешь взглянуть на часы раз десять. Сначала посмотришь на часы, потом на окошки в потолке — а вдруг уже светать начинает? — потом снова на часы, и так по многу раз. Но рассвет все никак не наступает, а стрелка на часах как будто застыла. Так что тебе начинает казаться, что время остановилось и что Бог ушел спать, забыв сказать Своему помощнику, чтобы тот перевел стрелку.
Если бы, например, кто-нибудь пришел к нам в цех часа эдак в два или три и предложил бы нам подписать бумагу, что мы согласны проспать целый год без перерыва, мы бы, наверное, к нему сразу в очередь выстроились. Только чтобы расписаться. Но вот в полчетвертого… В полчетвертого — после того, что произошло с Розетт, — у нас в цеху никто уже спать не мог. Как только это время приближалось, воздух в цеху как будто наэлектризовывался, все моментально просыпались и поворачивали головы в мою сторону. Как будто каждую ночь устраивали по Розетт поминки. Хотя она и не умерла.
Как и все в этот час, я тоже стоял и думал про Розетт, и мне в голову лезли тысячи разных мыслей. Мне хотелось прекратить этот проклятый грохот станков. Хотелось взять топор и изрубить их к чертовой матери на куски.
Это случилось в четверг. Розетт стояла на том же самом месте, где потом стоял и я, и подталкивала руками бегущий провод. Все говорили, что руки у нее были замечательные — сразу чувствовали, где провод слишком тонкий, а где он, наоборот, толще нормы на четверть миллиметра, — и, видимо, в какой-то момент она тоже взглянула на окошки в потолке, чтобы проверить, не начинается ли рассвет. Но тут ее длинные волосы зацепились за шестеренку и их стало затягивать внутрь. Как будто они тоже провода. А станок — он за пять секунд протаскивает тридцать сантиметров; и если в него попадает какой-то предмет, то прежде чем вылезти с другой стороны, он проходит через мясорубку шестеренок. Станку ведь все равно, что жрать — провода или волосы. В общем, тащил он ее так за волосы тащил — и в конце концов она ударилась об него головой.
Когда во время перерыва мы шли пить кофе, в разговорах снова и снова всплывала одна и та же тема: почему никто не подбежал и не выключил станок? И каждый раз, как об этом заходила речь, все начинали возмущаться:
— Вот если бы нас не заставляли стоять друг к другу спинами, как каких-то роботов, так что мы даже не можем поглядеть друг другу в глаза, кто-нибудь ее обязательно бы да увидел. А так? Разве в этом грохоте что-нибудь услышишь?
Правда, четыре человека, стоявшие от нее справа и слева, сразу же к ней бросились, но они были далеко. Пять секунд — это слишком мало. Что можно сделать за пять секунд? Слишком мало это, пять секунд.
Однако постепенно страсти вокруг истории с Розетт улеглись и жизнь на заводе вернулась в прежнее русло. В перерывах люди снова стали шутить и устраивать друг другу розыгрыши. Один раз, например, подсоединили к «бераду»[36] электрический провод от станка, и, когда кто-нибудь наливал себе чай, его било током. Несильно, конечно: ток был слабый. И кассету эту свою — с песней «Цветок в моем саду» — тоже снова слушать начали. По сто раз в день. Дослушают, перемотают, и опять включают. А через какое-то время я заметил, что они перестали обращать внимание на технику безопасности. Уже через полчаса после начала работы многие стали снимать с себя защитные очки и наушники. Потому что в цеху было слишком жарко. Только волосы еще подбирать продолжали. Без этого на заводе никак.
Одним словом, про историю с Розетт стали понемногу забывать. Правда, когда кто-нибудь из наших ее навещал, а потом приходил и рассказывал что да как, про эту историю снова начинали судачить. Однако «поминок» в полчетвертого утра больше уже никто не устраивал; с этим было покончено.
Да и станок они мой в конечном счете тоже простили. И не просто простили. Оказалось, что он даже считается у нас в цеху самым лучшим и за него началась конкуренция. Все теперь старались пробить карточку пораньше, чтобы занять его первым.
Подвозка высаживала меня у дома в четверть седьмого, и мама к этому времени уже давно была на ногах. Она давала мне стакан чаю, и я замертво падал на кровать, которая еще сохраняла ее тепло и запах, причем этот запах был уже не таким кислым, как когда она еще кормила близнецов грудью. Я ложился на ее сторону кровати и спал часов до трех-четырех, а ночью снова шел на работу. И так каждый день на протяжении десяти месяцев. Пока на заводе не появился Тальмон.
Сегодня на заводе уже нет никого, кто бы меня не знал. И нет ни одного человека, который бы не приходил ко мне излить душу. Вообще-то даже когда я был еще ребенком, люди уже тогда мне все рассказывали. Сам не знаю почему. Я вот, например, о своей жизни никогда никому не рассказываю. Но зато я умею хранить в тайне то, что доверяют мне другие. Не то что некоторые, которые посплетничать любят.
Думаю, именно поэтому Тальмон меня из цеха и забрал. И по той же причине определил на склад. Причем уже через три дня после того, как стал директором. Вообще-то, когда он вызвал меня к себе в кабинет, все решили, что он хочет меня уволить. Да и сейчас еще есть тут у нас такие, кто думает, что он меня вот-вот выгонит. Потому что со стороны может показаться, будто у нас с ним отношения, как у кошки с мышью. Но неужели они не понимают, что это только так кажется? Глаз у них, что ли, нету? Разве они не видят, что я все время поднимаюсь вверх по служебной лестнице?
Правда, поначалу можно было действительно так подумать. Потому что работу он дал мне трудную, не то что в цеху. Я должен был таскать тяжелые предметы и раскладывать их по полкам. Одним словом, пришлось попотеть. Вот все и решили, что это он меня так наказывает. Но ведь потом-то все изменилось. Сначала Тальмон поставил у меня в подсобке автомат с водой; потом выделил мне самый лучший обогреватель; а потом даже стол и стулья из своего собственного кабинета — и те мне отдал, когда новые получил. Так неужели же они не видят, что мы с ним неразлей вода? Да и зарплата у меня теперь в полтора раза больше, чем у них. Сижу себе в подсобке в пиджачке — прямо как «белый воротничок» какой-то — и не помню уже даже, когда и потел-то в последний раз. Потому что он ко мне еще и коротышку Сисо приставил, чтобы тот вместо меня большие катушки с проводами таскал. Но они как будто ничего этого не видят. Нет, ну конечно, всякое бывает. Например, иногда Тальмон срочно вызывает меня в какой-нибудь цех и начинает при всех распекать: мол, я заказал не то, что нужно. Или там, скажем, сижу я себе спокойненько в столовой и обедаю, а он вдруг появляется в дверях и приказывает мне следовать за ним. Но ведь это же он только так, для виду делает. Представление, как говорится, для них устраивает. А они, наивные, думают, что он меня не любит и уволить хочет. Кого уволить? Меня уволить?!
Когда он меня отпускает, я снова возвращаюсь в столовую и, пока иду к своему столику, смотрю по сторонам и думаю о том, как много здесь сидит людей, которых приняли на работу только благодаря мне. Хотя есть и такие, которых благодаря мне уволили. В смысле, мы с Тальмоном их уволили, я и он. И вот когда я об этом думаю, на душе у меня сразу становится спокойно.
Чем бы мне тут заняться, пока посылки не прибудут? Когда я начал работать на складе, я превратил его в аптеку. Раньше здесь был проходной двор. Но я попросил Тальмона, чтобы он дал указание входить в помещение склада только в моем присутствии, и он со мной согласился. Если кому-нибудь надо взять что-нибудь с полки, приходите и берите. Но только под моим присмотром. И кофе теперь в помещении склада больше никто не пьет. Только в подсобке, за моим столом. Тут можете сидеть сколько влезет. Пейте, проливайте — Коби не против. Но на склад без меня — ни-ни. А сегодня еще и бланки для оформления заказов привезут. Так что теперь всем их придется заполнять. Написал, чего тебе надо, и сиди жди, пока Коби подпишет. Дважды теперь будут думать, прежде чем заказывать.
Часы показывают семь. Я вынимаю из нижнего ящика стола листки бумаги, которые остались у меня от первой встречи с Тальмоном. Прежде чем мне довериться, он задал мне тысячу разных вопросов. Я рассказывал ему о своей собственной жизни и о нашей семье — причем не только то, что каждый у нас в поселке знает, но даже то, чего здесь не знает никто, — и сам не верил, что все это со мной происходило. Говорю, говорю, а сам думаю: «Неужели это и вправду со мной было?» До встречи с Тальмоном я не говорил об этом ни с одной живой душой и с тех пор постоянно об этом разговоре вспоминаю. Как я у него там, в кабинете, сижу и про свою жизнь ему рассказываю и что он мне на это говорит.
Выслушав мой рассказ — про меня и про моих родственников, — он начал говорить сам. Никогда не забуду того, что он мне тогда сказал.
— Я, — говорит, — Коби, хочу сразу перед тобой все свои карты раскрыть. У меня просто нету другого выхода. Я обязан здесь кому-нибудь свои карты показать, и я решил, что этим человеком будешь ты. Дело в том, что у вас в поселке я человек совершенно новый, а в этой должности всего только три дня. То есть карты у меня на руках пока еще очень слабые. У меня даже такое ощущение, словно я сюда только что репатриировался. А мне необходимо освоиться тут как можно быстрее, я не могу терять ни дня. Вот смотри, что я тебе покажу.
Он достал из портфеля какую-то бумажку и положил ее передо мной.
— Видишь? Завод существует всего четыре с половиной года, но за это время тут сменилось уже шесть директоров. Я — седьмой. Шесть директоров за четыре с половиной года, представляешь? Вот давай посчитаем. Получается, что каждый директор проработал в среднем всего девять месяцев. Это меня очень и очень беспокоит. Причем заметь, все они были хорошими начальниками и умными людьми. Все до этого возглавляли отделы на головном предприятии и добились там больших успехов. Но не успели сюда попасть, как с треском отсюда повылетали, да еще и с понижением в должности, так что могут теперь на своей карьере поставить крест. Ну а я хочу проработать здесь не меньше пяти лет, понимаешь? Как минимум пять лет.
Он взял чистый лист бумаги, написал на нем год, до которого хотел доработать, и подписался. Так я впервые увидел его подпись. Но оказалось, что он еще и рисовать умеет. Он подвинул к себе листок с именами бывших директоров и нарисовал на нем наш завод. Как будто он стоит на острове, посреди моря, а по воздуху летят шесть человек. Все — головой вниз, и у каждого портфель в протянутых руках. Как будто они вот-вот в море упадут.
Когда я пришел к нему в кабинет, я думал только об одном: уволит он меня или не уволит? Уволит или нет? Ни о чем другом даже и думать не мог. Но когда я увидел, что увольнять он меня не собирается, я стал судорожно соображать, чего же он от меня хочет. «Будь осторожен, Коби, — сказал я себе. — Это тебе не фильм какой-нибудь. Директор устраивает перед тобой представление, но оно происходит не на экране, а в жизни».
— Я вот, Коби, уже два дня тут сижу и всех подряд обзваниваю, — продолжал тем временем Тальмон. — Куда уже только не звонил. И знаешь, почему, оказывается, все они отсюда вылетели? Я тебе скажу. Из-за того, что местным властям не угодили, вот почему. Как это там говорится? «Остерегайтесь власть предержащих»?[37] Вот именно. Однако это не просто; совсем не просто. И неверно думать, что все уволенные директора были дураками. Тот, кто так думает, сам дурак. Нет, все они были очень даже умными людьми. И все равно их сняли. Поэтому я должен быть умнее всех их, вместе взятых, понимаешь? И ты мне в этом должен помочь. Чтобы я смог тут побыстрее освоиться и поскорее набраться ума.
Пока он говорил, он все время что-нибудь писал или рисовал, так что в результате весь стол у него оказался заваленным бумагой. Возьмет, например, чистый лист бумаги, напишет на нем одно-единственное слово, а внизу проведет черту. На листе, на котором он подсчитывал сколько каждый директор проработал в среднем, его карандаш даже бумагу порвал. А когда он сказал, что все предыдущие директора были умными, то взял папки с их делами и на каждой написал «умный». А еще он сказал, что рабочие на заводе — как фрукты, уложенные в ящик. Если один фрукт гнилой, его надо сразу же выбрасывать. А то и другие рядом с ним тоже загниют.
Он постоянно вставлял в свою речь какие-нибудь заковыристые выражения или цитаты. Например, сказал:
— Я обязан знать, что тут происходит — и у меня за спиной, и у меня под носом. Как говорится, «у мудрого глаза его — в голове его»[38]. Представь себе, что я слепой, которого ты переводишь через дорогу.
После чего взял бумагу и нарисовал, как я перевожу его через дорогу.
И кто бы мог подумать, что директор завода может так хорошо рисовать? Взять, например, нашего бывшего начальника, Цвику. Да у него даже и половины талантов Тальмона не было. Все время был какой-то усталый, злой и на подъем тяжелый. А Тальмона я не видел усталым ни разу. Когда бы ты с ним ни повстречался, он всегда свежий и бодрый — как будто только что на работу пришел.
Когда его стол оказался полностью завален бумагами, он выбросил их в корзину и говорит:
— Будешь теперь работать на складе. Это будет как бы твой собственный кабинет. Со столом и всем прочим. Фалафельная — это не для тебя.
А потом сказал, что я должен докладывать ему обо всем, о чем говорят рабочие, а также о том, что услышу в горсовете, в рабочем комитете и на рынке. Причем рынок его почему-то интересовал особенно сильно. Он все время повторял, что хочет знать, о чем люди болтают на рынке. И даже сейчас мне время от времени об этом напоминает. «Ты, — говорит, — про разговоры на рынке не забыл?» Как будто у нас в поселке людям больше и делать-то нечего, кроме как в четверг с утра пораньше на рынке собраться и трепаться там до посинения.
После нашего разговора он пошел делать обход завода, а я тем временем вынул из корзины бумажки, которые он выбросил, и унес их к себе. Включая рисунок с двумя кружочками, который он нарисовал последним. В одном кружочке он изобразил нас обоих на вершине горы. Мы стоим связанные веревкой и смеемся. А во втором кружочке мы висим с ним на этой же веревке мертвые, а над самим кружочком — большой жирный икс.
Мне страшно хочется посидеть у него в кабинете хотя бы еще один разок. Я буквально на все ради этого готов. И мне хочется, чтобы все было в точности как в тот раз. В то время у него не было еще этой его нынешней секретарши, Леи. Его секретаршей тогда была Хали. Но уже через месяц я дал ему добро на то, чтобы Хали уволить, и он посадил вместо нее Лею, которую привел со своего прежнего места работы. Однако теперь я очень сильно жалею, что мы выгнали Хали. Потому что эта Лея… Если ты, например, хочешь пройти к Тальмону в кабинет, она на тебя смотрит так, как будто ты муха какая-нибудь, и у тебя сразу все желание пропадает. Не было вокруг него тогда еще и всех этих людей, которые к нему сейчас зачастили и с которыми он по заводу расхаживает. И самоуверенности этой его нынешней тоже еще не было.
Я разглядываю его рисунки и вспоминаю, как он на меня в тот день смотрел. Расспрашивал меня о жизни и смотрел так, словно в целом мире для него важнее меня человека нету. Как будто разложил передо мной на столе все свои карты, а в этих картах написано: «Я, Исраэль Тальмон, без Коби ничего в своей жизни добиться не смогу. Без Коби я полный ноль». Он, кстати, и до сих пор еще к моему мнению прислушивается. Правда, не всегда. Например, я ему сказал, что Циона увольнять не стоит, но он все равно его уволил. За то, что тот заикнулся о сверхурочных. Наверное, решил, что он гнилой фрукт и его надо срочно из ящика вынимать. Но иногда он меня все-таки слушает. Например, доверяет мне людей для черных работ набирать и время от времени всякие вопросы мне задает. Короче, мы до сих пор с ним той веревкой связаны, которую он на своем рисунке изобразил, и я вижу, что он по-прежнему чувствует себя слепым, который не может ходить без палки.
Мне очень хочется, чтобы он еще раз раскрыл передо мной все свои карты; чтобы сказал уже наконец этой Лее, как я ему помогаю; чтобы на праздничном собрании перед Рош а-Шана или Песахом — когда он рассказывает о том, каких успехов добился наш завод за отчетный период, зачитывает производственные показатели и произносит тост, поднимая пластмассовый стаканчик, — чтобы он сказал им уже, кто я такой на самом деле; чтобы сказал, что без Коби он бы не смог продержаться на заводе целых два года; что без Коби он бы не увеличил количество рабочих мест с двадцати четырех до семидесяти трех, а количество заказов с пятидесяти до двухсот двадцати; что без Коби он не смог бы построить дополнительный, второй, корпус — а вместо этого упал бы в море и его услали бы в какую-нибудь дыру, безо всяких перспектив на дальнейшее продвижение по службе. Так нет же. Он никогда никого не выделяет и дает всем понять, что для него все важны одинаково, и в конце собрания, так и не сказав обо мне ни одного хорошего слова, запевает какую-нибудь песню — вроде «Те, кто сеют в слезах» или, там, «Тот, кто хорошо потрудился в канун субботы», — как будто тут не завод, а школа какая-нибудь. А потом поправляет на голове кипу и уходит. Все остальные тоже встают и начинают расходиться, а я сижу и чувствую, что ничего уже больше не понимаю — ни что такое добро, ни что такое зло — и все вокруг мне кажется черным.
Но потом я говорю себе, что на самом-то деле я вовсе не только белая палка в руке у Тальмона, что я умею сидеть и помалкивать, что терпения у меня столько, сколько ни у кого в мире больше нету, разве что у камней; и что на Тальмоне для меня свет клином не сошелся, — и мне сразу становится легче. Он не знает и никогда не узнает, что у меня есть секрет и что именно этот-то секрет и дает мне силы никому не рассказывать, сколько я для него сделал, и держать язык за зубами, когда он относится ко мне в присутствии других, как к дерьму.
Я беру тряпку и протираю стол. На моем столе никогда ничего не лежит — все только в ящиках. Даже вид одной-единственной бумажки на столе и то меня раздражает.
Я смотрю на часы и жду, пока стрелка дойдет до полвосьмого. Мы всегда встречаемся с ней ровно в полвосьмого.
Наконец я достаю из второго ящика стола белую целлофановую папку и начинаю просматривать лежащие в ней бумаги. Потом я беру одну из них — с чертежом — и начинаю обводить его линии ручкой. Сначала обвожу стены. Потом кружочки, которые показывают, как открываются и закрываются двери. Потом кровати, диваны, кухню, раковины и плиту с газовыми горелками. А затем — квадратики, обозначающие холодильник и обеденный стол. Ни одной детали не пропускаю.
Я думаю, что смог бы нарисовать ее уже не глядя. Достаточно только взять листок чистой бумаги — и я нарисую ее в точности, как на чертеже.
Наши с ней отношения продолжаются уже год и два месяца. Правда, когда я вошел в нее в первый раз, мне захотелось сбежать.
Как только мы приехали в Ришон-ле-Цион и высадили людей, мне вдруг страшно приспичило. Морди говорит:
— Слушай, а давай зайдем вон туда. Я притворюсь, что хочу купить квартиру, а ты пока поищешь сортир.
Когда мы вошли, нас встретила девушка. Морди с ней заговорил, а я пошел искать туалет.
Нашел я его без труда — он оказался совмещенным с ванной, — но когда я в этот туалет-ванную зашел, я чуть не умер. На крышке унитаза лежал зеленый коврик, а на полу, вокруг ножки унитаза — еще один, тоже зеленый. Я растерялся; разве такие туалеты бывают?!
Чтобы не испачкать коврик на полу, я снял туфли, и медленно, осторожно присел на унитаз, но как только сел — сразу заплакал. Сижу на унитазе, сру — и плачу. Подтираюсь — и плачу. Воду из бачка спускаю — и снова плачу.
Я закрыл крышку унитаза, положил на нее коврик, сел на него и понял, что не могу с него встать. Как будто я столетний старик и у меня совершенно нету сил. А вокруг меня все ну просто сверкало. Кафель с красными, фиолетовыми и розовыми цветочками. Большая розовая раковина. Зеркало с маленькими лампочками, вращающееся в разных направлениях, чтобы можно было видеть себя со всех сторон. Зеленые полотенца — под цвет ковриков — с узором из листьев. Новое мыло. Большая блестящая ванна с позолоченным краном. А возле ванны — еще один коврик лежит!
«Господи Боже мой! — думал я. — Ковры! В ванной комнате! Неужели же в ванной бывают ковры?!»
Окно было приоткрыто, и сквозь него проникал чистый воздух. Пол был не черный. На потолке не было никакой плесени. Нигде не было даже малейшего намека на сырость. Все было белое, новое, и никакого тебе черного, тарахтящего, как трактор, бака для разогрева воды.
Я встал с унитаза и подошел к раковине.
Я стоял возле раковины, мыл руки и плакал. Утирал слезы — и снова плакал.
Чтобы не видеть свое заплаканное лицо, я развернул зеркало к потолку, а потом взял полотенце и накрыл им лицо, как будто наложил на него компресс.
Постояв так какое-то время, я открыл глаза и стал тщательно протирать раковину полотенцем, и только тогда, когда убедился, что она снова блестит, надел туфли и вышел.
У меня было такое ощущение, что я вот-вот грохнусь в обморок, но Морди, наоборот, выглядел страшно довольным. У него был такой вид, как будто он только что выиграл в лотерею. Я сделал ему знак, что давай, мол, уже, пошли отсюда, но он явно не хотел уходить. Я вышел на улицу и стал его ждать.
— Ты чего? — накинулся он на меня, когда наконец-то вышел из подъезда. — Пожар, что ли? Ну ты даешь. Я ведь ее уже почти уломал, чтобы она нас кофе напоила.
Когда мы шли мимо строящихся домов, он все еще продолжал говорить про девушку, а я все время оборачивался, чтобы еще раз посмотреть на рекламный щит с зеленой надписью КВАРТИРА-ОБРАЗЕЦ. Морди мне что-то говорит, говорит, над чем-то смеется, а у меня перед глазами только этот щит и стоит.
Наконец мы подошли к какому-то дому, и Морди бросил в почтовый ящик бумаги, которые дала ему девушка. Я аж похолодел. Мне страшно захотелось засунуть туда руку и вытащить бумаги обратно, но я сдержался. Мне не хотелось, чтобы Морди догадался, что творится у меня на душе. Я не сказал ему ни слова, взял у него сигарету, и мы пошли гулять по городу.
В Ришон-ле-Ционе я был в первый раз в жизни, но, когда мы ходили по улицам, я ничего вокруг себя не видел. Мои глаза как будто остались там, в квартире-образце. Мне казалось, что я все еще стою в ванной перед зеркалом и плачу. Иду по улице, а сам вижу только одно: зеркало и свое плачущее в нем лицо.
Как назло в этот момент у меня начала болеть спина. Обычно боль возникает где-то в районе пяток и поначалу она слабая. Однако потом она усиливается и начинает подниматься к центру спины. Поднимается, поднимается, поднимается — как будто нащупывает точку, где можно закрепиться, — и когда, наконец, эту точку находит, легонько меня укалывает. Как будто помечает карандашом то место на стене, где собирается дрелью дырку просверлить. Однако еще до того, как боль принесла свою дрель и начала сверлить меня по-настоящему, я успел дать торжественную клятву. «Клянусь всем, что у меня есть, — сказал я себе, — клянусь Ошри и Хаимом, что мое лицо никогда больше в этом зеркале плакать не будет. Клянусь, что Коби Дадон будет стоять перед зеркалом в квартире-образце и смеяться».
На мое счастье, уйдя за дрелью, боль так обратно и не вернулась, но битва с болью меня не на шутку вымотала. Я чувствовал, что у меня совершенно нет никаких сил.
Мы вернулись в наш микроавтобус и стали есть то, что Морди положили с собой его мама и Фанни.
— Я им просто обеим сказал, что мне с собой взять нечего, — со смехом рассказывал он. — Вот они обе мне еду и приготовили. А что? Обе меня все время пилят — вот пусть обе и балуют. Два раза помучили — два раза побаловали, разве это не справедливо?
Потом он показал мне новые фотографии сына и сказал:
— У нас с тобой, Коби, котелки варят одинаково. Хорошо, что я тебя тогда в военкомате встретил. Ну, когда тебе повестку прислали. Ты что, в самом деле, что ли, хотел в армию идти? Ну и зря. Эти вон, которые в армии отслужили, думают, что они там мужиками стали. Ни фига подобного. Как были детьми, так и остались. Жизни не знают. Вот когда тебе еще шестнадцати лет не исполнилось, а тебя уже сынок папкой кличет, — это, брат, совсем другой коленкор. Ну что, как тебе мой Лиор? Сразу видно, что мужик, правда?
Я смотрел на фотографии его сына и продолжал твердить про себя свою клятву. «Клянусь, — повторял я снова и снова, — что буду стоять в квартире-образце перед зеркалом и смеяться! Клянусь, что Ошри с Хаимом, как и сын Морди, тоже будут смеяться на фотографиях! Клянусь, что я их обязательно сфотографирую!»
В четыре часа мы забрали людей, которых привезли утром, и поехали назад. Я сидел сзади, дремал, и мне снилась песня:
Прошел целый месяц, прежде чем мне удалось взять новый отгул. Чтобы накопить часов, я стал работал сверхурочно. Тогда я все еще стоял за станком; это было еще до истории со складом. Наконец подхожу как-то раз к Морди и спрашиваю:
— Слушай, а когда ты в следующий раз в Ришон-ле-Цион едешь?
— Я там каждый четверг, — отвечает. — А что? В Ришон-ле-Цион, что ли, втюрился? Да, брат, второго такого города на всем свете не сыщешь. Даже Тель-Авив — и тот рядом с ним бледнеет.
— Слушай, — говорю. — А можно я с тобой тоже ездить буду? В последний четверг каждого месяца? Идет?
После этого отступать мне было уже некуда. Потому что, с одной стороны, я поклялся Хаимом и Ошри, а с другой — договорился с Морди.
Восемь часов утра. Я вынимаю из связки тетрадку, в которую все записываю, но тут вдруг мне говорят, что завод закрывается. Армия сообщила, что возможен ракетный обстрел. Оказывается, ночью несколько наших снарядов по ошибке попали в какую-то арабскую деревню, и теперь опасаются, что арабы нанесут ответный удар. Их радио сообщило, что погибла женщина и пять детей. В нашем районе всех отправляют по домам, и в восемь пятнадцать завод будет закрыт.
Я вместе со всеми выхожу из проходной и жду, когда приедет подвозка. Тальмон, который прибыл на завод буквально за несколько минут до этого, стремительно садится в машину и включает зажигание. Один из бригадиров у него о чем-то спрашивает, но он крутит руль, кричит: «Завтра. Пусть подождут до завтра. Не горит» — и уезжает. С такой скоростью слинял, как будто на заводе пожар.
Народ говорит, что на этот раз дело, по-видимому, серьезное. Ведь просто так целый завод закрывать не будут. Автобусы вон подогнали, людей по домам развозят. Но я, хоть убей, этого не понимаю. Ну на шиша, скажите, им нужно эту боеготовность объявлять? Ведь все равно же никто в бомбоубежище сидеть не будет. Особенно в такой день. Солнце вон так и сияет. И не жарко при этом. Как будто к солнцу подсоединили термостат, чтобы оно светило, но не жарило. Кто же в такой день захочет в бомбоубежище париться?
В поселке настоящее столпотворение, прямо как в большом городе. Вся дорога запружена машинами. Отовсюду едут автобусы, маршрутки, такси. Школа, детские сады, магазины позакрывались, и людей развозят по домам — учителей, воспитательниц, работников собеса. Через полчаса здесь останутся только жители поселка. За исключением тех, что уезжают в центр страны, к родственникам. Вон они, с чемоданами бегут.
Вместе со всеми я спускаюсь в бомбоубежище. Поначалу народ лузгает семечки, пьет кофе, ест принесенную из дома еду, но, когда еда и питье кончаются, люди начинают выползать наружу. Я смотрю на часы. Прошло ровно тридцать пять минут. Сначала выходят мужчины. Стоят на улице и курят. Не могут больше тут сидеть, вместе со всей этой детворой. Затем начинают вылезать и все остальные. Женщины идут к соседкам пить чай, а дети выходят на улицу и стоят рядом с отцами. Уже к десяти часам в бомбоубежище не остается ни одного человека. Люди разгуливают по улицам, словно они миллионеры, которым не надо работать. Папа Рафи и Шушан сидят в центре поселка и играют в нарды, а вокруг них столпилось человек десять. Стоят, следят за игрой, а рядом бегают их детишки. Даже глава рабочего комитета Реувен и тот стоит вместе со всеми и курит. На ногах — домашние тапочки, а физиономия довольная-предовольная — как у кота, объевшегося сметаной.
Ничего не поделаешь, так уж человек устроен. Пока жареный петух его в одно место не клюнет, ему кажется, что ничего не произойдет. Если, например, сейчас тихо, он думает, что и дальше так будет.
На часах полпервого. Я, как и все, слоняюсь по улицам. Руки у меня спрятаны в карманах. Я просто обязан прятать их от людских глаз. Никто ни в коем случае не должен их видеть. Взять вот, например, мой рот. Он полностью под моим контролем. Без моего разрешения из него не вылетит ни одного слова. Как у меня на складе. Или там, например, глаза. Они тоже меня беспрекословно слушаются. А вот руки — нет. Не могу я с ними справиться, и все тут. Делают все, что им вздумается, и постоянно меня выдают. Не знаю даже, куда их при людях и девать-то.
После поездки в Ришон-ле-Цион я на наш поселок даже смотреть больше не могу. И разговаривать мне здесь ни с кем не хочется.
Помню, в последний День независимости мы с Морди и малышами стоим и любуемся на фейерверк. И вдруг он говорит:
— Видишь вон те? Которые поднимаются выше всех? Странные они какие-то, честное слово. Смотришь на них, смотришь — и все время ждешь, что они взорвутся и из них что-нибудь вылетит. Но никогда ничего не вылетает. Падают на землю — и все.
И вот после поездки в Ришон-ле-Цион я думаю, что народ у нас в поселке даже еще хуже, чем этот фейерверк. И наш папа не исключение.
А может быть, мне сейчас к Морди сходить? Посидим, поболтаем. Я делаю несколько шагов по направлению к его дому, но останавливаюсь. Нет, не могу. Я должен вернуться на завод. Ведь сегодня же вторник, а по вторникам с семи до восьми пятнадцати я навожу порядок в ящиках своего письменного стола, после чего делаю записи в тетрадке. Пишу, сколько я за неделю отложил на квартиру, подсчитываю, сколько у меня накопилось всего, и смотрю, сколько мне осталось еще. И только после того, как убираю тетрадку обратно в стол, — только после этого мой рабочий день и начинается. Но сегодня, из-за боеготовности, я ни порядок в столе навести не успел, ни в тетрадку ничего не записал. Значит, мой день так и не начался. Нет, я просто обязан сейчас туда вернуться и это исправить.
Наш поселок находится на возвышенности, а завод стоит в низине, в промзоне. Через двадцать пять минут я уже оказываюсь внизу, у заводских ворот. В промзоне — мертвая тишина, как будто сегодня суббота. Хорошо еще, что у меня с собой ключ. Причем даже не один, а целая связка. Весом в полкило, не меньше. Я смотрю на небо, и мне вдруг становится страшно. Настолько страшно, что, когда я пытаюсь открыть ключом выходящую на улицу дверь склада, у меня ничего не получается. Рука дрожит так сильно, что мне приходится придерживать ее второй рукой. В прошлом году, на праздник Лаг ба-омер, «катюша» упала именно здесь, в промзоне. А что, если она опять сюда прилетит? Меня ведь здесь никто не найдет. Да и искать-то не будут. Скажут: «Слава Богу, что ракета упала не на поселок» — и на этом успокоятся.
Нет, долго мне здесь оставаться нельзя. Максимум пять минут. Зайду, запись в тетрадке сделаю — и назад.
Я стремительно вбегаю в подсобку, выдвигаю ящик стола, достаю тетрадку и вписываю сумму, которая накопилась за неделю. Неделя выдалась очень удачная: я собрал целых сто двадцать долларов. Всего у меня теперь семь тысяч. Тютелька в тютельку. Я еще раз проверяю свои подсчеты. Да, все правильно. Семь тысяч долларов. Ровно половина. Осталось еще семь тысяч — и я смогу наконец-то отсюда выбраться. Я ставлю дату — и вздрагиваю. Сегодня у меня день рождения! Мне исполнилось девятнадцать. И именно в этот день я дошел до середины своего пути! Я подчеркиваю дату двумя черточками. Господи, какой потрясающий день! У меня уже есть семь тысяч долларов — половина первого взноса за квартиру! У меня такое ощущение, будто я влез на вершину горы, смотрю вниз и вижу то место, где начнется моя настоящая жизнь. Все, что мне осталось сделать, — это спуститься по склону. И каждый доллар, который я откладываю, приближает меня к цели. Какое счастье, что я не пошел в армию! Сколько бы времени зря потерял.
Я смотрю на календарь, висящий на стене. Когда день кончается, я ставлю возле него икс; в конце каждого месяца отрываю страницу; каждый год вешаю на стену новый календарь. По календарю хорошо видно, как проходит время. А вот по часам — нет. Часы — они всё врут. Когда ты смотришь на циферблат и видишь, как по кругу движется стрелка, тебе кажется, что она делает это впервые. Как будто это самый первый час на Земле. По циферблату ведь не видно, что стрелка уже делала это и раньше. Поэтому ты и не чувствуешь, что время идет. Вот если бы стрелка была ножом и после каждого круга отрезала от циферблата маленький кусочек, тогда другое дело. Тогда каждый прошедший час оставлял бы на циферблате свой след, не проходил бы совершенно незаметно.
Прежде чем уйти, я подхожу к календарю, чтобы поставить возле сегодняшего дня икс, но когда я это делаю, то вдруг замечаю, что сегодня еще и моя дата по еврейскому календарю — четырнадцатый день месяца сиван. То есть сегодня у меня сразу целых два дня рождения — по европейскому календарю и по еврейскому. Вот это да! Две этих даты у меня еще ни разу не совпадали.
Но и это еще не все. Завтра, в пятнадцатый день месяца сиван, день памяти нашего отца! Почему же мама ничего не сказала? Обычно она напоминает мне об этом недели за две. Чтобы я успел подготовиться. И вдруг я осознаю, что она вообще со мной не разговаривает. Уже целую неделю ни одного слова от нее не слышал. Все время молчит да молчит. Сегодня, когда я проснулся, она посмотрела на меня так, что я испугался. А вдруг, думаю, я что-нибудь про квартиру во сне сболтнул? Нет, не может быть. Я ведь как сейф: все храню внутри. Почему же она тогда молчит? Вон и в бомбоубежище сегодня тоже. Вошел — а она на меня даже не посмотрела. Может, это из-за того, что я не устроил Ицику бар мицву? Может быть, она просто не знает, как со мной об этом заговорить? Она ведь знает, что я не папа, который ей ни в чем не отказывал. Вот и боится, что скажу «нет».
Сам-то я про эту бар мицву даже не заикаюсь. Ни с мамой, ни с Ициком. Странно, что и Ицик со мной об этом не заговаривает. Хотя с тех пор, как он бросил школу и принес в дом эту свою птицу, его больше ничего в жизни не интересует. Как будто для него на этой птице свет клином сошелся. Из-за нее он даже в старой половине квартиры спит. И где! В кухне! Чтобы у нее там раковина была. Да и на себя тоже рукой махнул, опустился совсем. Как будто сам уже в какое-то животное превратился. Клетка со зверями и то так не воняет, как эта кухня его. Но если я сейчас дам маме денег на бар мицву — даже только половину той суммы, которую потратили на мою собственную, — это будет все равно как четыре месяца не откладывать на квартиру.
Да, бар мицву мне тогда отгрохали королевскую, ничего не скажешь. Никому больше такой не делали. Ни в чем недостатка не было, ломилось все прямо. Только ведь, как известно, бочки меда без ложки дегтя не бывает. Вот и у меня так было. Испортил мне папа мою бар мицву, испортил. Всего через два дня после нее взял да и умер.
На бар мицве мне все хором говорили, что я стал мужчиной, и так сильно хлопали по плечу, что я один раз даже чуть не упал. «Ты, — говорят, — Коби, у нас теперь настоящий мужик!» — и хлоп! А я стою и улыбаюсь, как дурак.
Целых два дня я потом королем себя ощущал. В нашем поселке ни одного человека не было, который бы о моей бар мицве не слышал; все только об этом и говорили. Весь дом у нас был завален цветами и подарками, мы все ходили нарядные, а у мамы на голове была красивая прическа. Я расхаживал по поселку в новом пиджаке, в начищенных до блеска ботинках, с новыми часами на руке, и, куда ни приду, меня все поздравляют. «Мазл тов тебе, Коби! — говорят. — Мазл тов!» И вот через два дня приезжает к нам в поселок знаменитый раввин Кахане. Ну, народ, само собой, пошел его послушать. Весь центр поселка в тот день людьми заполнился. А я смотрю — в сторонке его сопровождающие стоят. Подошел к их главному и говорю:
— Давайте я вам помогу.
Подозвал двух мальчишек, которые там крутились, и велел им помочь трибуну для выступления установить. Потом старшего сына Абутбулей увидел и говорю:
— Хочешь тут порядок охранять? Я тебе за это лиру дам. Пол-лиры сейчас, пол-лиры потом. Идет? Кто будет хулиганить — бей.
А потом еще и Альберта Битона подрядил, чтобы он им с электричеством помог.
Короче, через десять минут они без меня уже обойтись не могли. Как будто я стал их начальником. Все время подбегали и спрашивали: «Как сделать то? Как сделать это?» А сами даже не знали, как меня зовут. Ну а незадолго до конца выступления Кахане я свистнул Дуди — он там с друзьями возле телефона-автомата играл — и говорю:
— Слушай, сгоняй по-быстрому к папе в фалафельную, ладно? Принеси для них чего-нибудь попить.
Я был уверен, что папа не откажет. Подумаешь, несколько бутылок. Жалко ему, что ли? Но наш папа — он никогда не понимал, на какую лошадь ставить надо. Из-за этого так и кончил.
В общем, приношу им попить. И не просто приношу, а каждую бутылку лично открываю и прямо в руки даю. Ну, сидим, пьем, разговоры разговариваем, то да се. И они про Кахане такие вещи рассказывают, которых у нас тут никто отродясь не слыхивал. Ну я, конечно, сижу и притворяюсь, что мне это до лампочки — будто я только и делаю, что каждый день истории про важных людей слушаю, — а сам от счастья чуть из штанов не выпрыгиваю. Они же ведь не знали, сколько мне лет. Думали, семнадцать или даже восемнадцать. Потому что я тогда уже бриться начал. Ну и решили, наверное, что меня к ним из горсовета прислали.
Короче, сидим мы с ними так, сидим, а один из них вдруг и говорит:
— Да-a, не везде нам так помогают, не везде. Шкойэх! Шкойэх![39]
Я не понял, что такое шкойэх, но виду не показал. Только подумал про себя со смехом: «А ведь с меня за это время даже ни одной капли пота не упало!»
Когда раввин кончил выступать, они пошли с ним танцевать, а потом подвели меня к нему и он меня благословил. Только почему-то Яаковом назвал. После этого народ начал расходиться, а Кахане и его люди стали свои вещи в машину грузить. Ну погрузились они и поехали, а я стою и им вслед смотрю. И вдруг, когда их машина до поворота доехала, один из них из окна высунулся и мне рукой помахал. Я прямо опупел. Неужели они про меня до сих пор не забыли? Может быть, они потом и еще кому-нибудь про меня расскажут? И в этот момент кто-то крикнул:
— Коби, беги скорей в фалафельную! Там твой папа на полу лежит!
Я ничего не понял. На каком полу? Почему лежит? Но побежал. Прибегаю и вижу: папа действительно лежит на полу — в луже масла, — а рядом с ним пустая кастрюля из-под масла и большой нож, весь в листьях петрушки. Глаза полузакрыты, а под левым глазом — огромная опухоль. Позднее Альберт Битон нашел в масле пчелу. Видимо, она-то папу и укусила.
После отъезда Кахане центр поселка на какое-то время опустел, но, когда разнеслась весть о случившемся, снова заполнился людьми. Я стоял и смотрел, как папу волокут из фалафельной — как будто он не человек, а мешок с хумусом — и кладут на землю. Рубашка у него задралась, живот обнажился, а я смотрел на этот его живот и думал, что сейчас умру от стыда. Сам не знаю, почему на меня это так подействовало. Мне страшно хотелось подойти к нему и прикрыть ему живот, но я стоял и не мог пошевелиться. И еще мне хотелось, чтобы все наконец заткнулись и перестали вокруг папы бегать. Потому что он смотрел на всех своими полузакрытыми глазами, как будто он наш учитель Библии, Ехиэль, а мы его ученики и как будто он ждет, пока в классе наступит мертвая тишина. Мне хотелось крикнуть: «Вы что, не видите? Он же ждет, пока вы замолчите!» Но все вокруг продолжали галдеть. И только папа, у которого жирные от масла волосы прилипли к черному асфальту, лежал посреди всего этого гвалта молча и не шевелился.
Чико наклонился над ним и стал дышать ему в рот, а в это время кто-то из толпы крикнул:
— Уведите детей! Уведите отсюда его детей! Они не должны этого видеть!
Однако никто даже не пошевелился. В самом деле? Зачем? Когда такое интересное кино показывают. Пойдешь уводить детей — и самое главное пропустишь.
Время от времени кто-нибудь в толпе спрашивал:
— Где «скорая»? Когда уже наконец прибудет «скорая»?
Но к тому моменту, как «скорая» подъехала, все уже и без врачей знали, что папа умер.
Когда все кончилось, меня, Ицика и Дуди проводили домой, и когда мы подошли к нашему подъезду, то увидели маму. Несколько соседок крепко держали ее за руки, а она кричала и пыталась вырваться. Видимо, хотела бежать в центр поселка, увидеть папу. Но они ей так и не дали. Отвели домой, положили на диван и стали брызгать на нее водой.
Похорон папы я не помню; они совершенно стерлись у меня из памяти. Помню только, как после похорон мы вернулись домой. Когда мы поднимались по лестнице, все соседи высыпали наружу. Словно весь дом превратился в одну большую семью.
В квартире все было вверх тормашками, и я не знал, куда притулиться. Куда ни сяду, меня сгоняют. На улицу тоже не выйдешь. В конце концов меня усадили на матрас, лежавший на полу.
Начали приходить люди. Придут, постоят, посидят и уходят, а вместо них приходят новые. Я сидел на матрасе, смотрел снизу вверх на лица людей, проходивших мимо меня бесконечной чередой, и мне казалось, что я задыхаюсь. Как будто они выпили в квартире весь воздух.
Я встал с матраса и пошел в туалет. Там была очередь, но меня пропустили первого. Я быстро сделал то, что нужно, умылся, намочил волосы, надел кипу, в которой был на бар мицве, закрепил ее заколками, посмотрелся в зеркало и сказал:
— Папа умер. Папа умер.
Я сказал это, чтобы заплакать, но плакать мне не хотелось. Из глаз у меня не вытекло ни единой слезинки. Тогда я стал думать, какое мне сделать выражение лица, чтобы все подумали, что я скорблю по отцу, и начал корчить перед зеркалом разные гримасы. Я стоял там и гримасничал до тех пор, пока в дверь не стали колотить.
Когда я выходил из туалета, я вдруг вспомнил, что рубашка у меня порвана, и прикрыл дыру рукой. И зачем им нужно было рвать на мне рубашку? Не понимаю. Совсем ведь новая была. Ну порвали они мне ее — и что?
Я вернулся на свой матрас. Если на бар мицве люди со смехом хлопали меня по плечу, то теперь все подходили ко мне со скорбными физиономиями и пожимали руку. Но говорили почти то же самое:
— Теперь, Коби, главой семьи будешь ты. Придется тебе становиться мужчиной.
Мамины братья, приехавшие на похороны из Ашдода, тоже сказали, что я должен быть мужчиной, а напоследок попросили:
— Ты уж, Коби, давай — ее тут одну не бросай.
Я понятия не имел, что им на это ответить, и мне хотелось только одного: чтобы они от меня отвязались. Пусть, думаю, идут лучше с мамой поговорят, или с бабушкой, или с папиными братьями. Я кивнул головой, опустил глаза, прикрыл лицо рукой и стал дожидаться, пока они уйдут.
Когда мы читали кадиш, я стоял рядом с папиными братьями и чувствовал, что не одинок. Я ведь не знал еще тогда, что произойдет потом; не знал, что через год они покажут свое истинное лицо; не знал, что они бросят нас с мамой одних, и я останусь единственным мужчиной в доме.
Месяца через полтора-два мама вернулась домой в слезах. Вместе с ней пришла Рики Амар. Она тоже в маминых яслях работает. Они сразу прошли к маме в комнату, а через какое-то время Рики вышла и пошла на кухню ставить чайник. Мы увязались за ней. А она и говорит:
— Дети, я должна вам кое-что сообщить. Ваша мама ходила в поликлинику, и ей сказали, что она беременна. Так что теперь вы должны ее беречь. Помните: ей нельзя перетруждаться.
В первый момент я ничего не понял. Как это — мама беременна? Как она могла забеременеть? Только потом до меня дошло, что это произошло еще до папиной смерти.
Как только я это понял, я ужасно на папу разозлился. Сам даже не знаю почему. Разозлился — и все тут. Он даже стал мне после этого противен. Вот, например, есть такие футболисты, которые, уже после того, как игра закончилась, подбегают к воротам и забивают гол. Их не волнует, что на поле нет игроков, а в воротах нет вратаря. Им главное — забить. И чтобы кто-нибудь это увидел. Но я таких футболистов терпеть не могу. Они вызывают у меня отвращение.
Я закрываю тетрадь и запираю ее в ящике стола. Скорее бы уже отсюда выбраться. Завод без грохота станков — это хуже, чем кладбище. Такую тишину я слышал здесь только однажды — когда пришел сюда в первый раз, чтобы посмотреть, где мне предстоит работать. Мне было тогда шестнадцать лет и два месяца.
В воскресенье в шесть утра вхожу в цех[40] — вместе с бригадиром и другими рабочими — и вижу: станки, станки, станки. Стоят в полутьме, как скалы. А что, думаю, здорово. Постоим тут немножко, поболтаем, посмеемся — вот и рабочий день прошел. И вдруг станки все разом как включатся, да как зашевелятся — и те, за которыми стояли мужчины, и те, за которыми стояли женщины, как будто станки — это животные, которые всю субботу спали, а сейчас вдруг взяли да проснулись. Грохот стоял просто оглушительный, и мне страшно захотелось обратно в школу: найти свой выброшенный школьный рюкзак и снова сесть за парту. То же самое было в мой первый рабочий день и потом еще целый месяц подряд. Все время хотелось вернуться в школу. Но когда пятнадцатого числа я пошел в банк и увидел, что на мой счет пришла зарплата, возвращаться в школу мне сразу же расхотелось. Я вдруг с гордостью почувствовал себя мужчиной, который способен прокормить семью. Примерно так же, наверное, чувствует себя первоклассник, который проходит мимо своего бывшего детского сада. За забором он видит свою воспитательницу и играющих в песочнице детей и понимает, что возвращаться туда ему уже больше нет никакого смысла.
Когда я получил повестку в армию, я понял, что армия тоже не для меня. Хорошо, что я встретил в военкомате Морди. Он научил меня, что делать. А позднее мне помог еще и Тальмон. Уж не знаю, с кем он там поговорил — я слышал, что его брат в армии большая шишка, — но уже через неделю мне по почте пришло освобождение.
Я выхожу из подсобки, иду по коридору и прохожу мимо кабинета Джамиля. Джамиль — это мой секрет, о котором Тальмон никогда не узнает.
Джамиль работает у нас бухгалтером. Как только он появился на заводе, сразу же понял, что к чему. Еще на собеседовании у директора понял. На следующий день после того, как его приняли, я иду к себе на склад, а он подходит ко мне и шепчет: «Спасибо». Меня аж в жар бросило. Он ушел к себе в кабинет, а я стою, как столб, и не могу очухаться. Он сказал «спасибо»! Как же он догадался? Как сумел понять, что Тальмон ко мне прислушивается? И почему он решил, что его приняли благодаря мне? Может быть, он знал, что у него был конкурент-еврей?
В детском саду наша воспитательница любила загадывать нам загадки, и был у нас там один мальчик — Моти Иперган, — который всегда угадывал правильно. Какую загадку она ни загадает — он угадывает. Сейчас, говорят, в армии, в разведке служит. И неудивительно. Вот и Джамиль такой же. Голова у него всегда работает быстро и безошибочно. Он моментально схватывает то, чего никто другой понять не может, и говорит всегда только то, что нужно. И еще у него есть дипломы. Бухгалтера, налогового инспектора и еще какие-то. И во всех написано, что он закончил учебу с отличием.
Когда Джамиль сидел на собеседовании у Тальмона, я вошел, сделал вид, что хочу навести порядок в шкафу, и посмотрел на потолок. Это наш с Тальмоном условный знак. Если я смотрю на потолок, значит, человека надо брать.
За неделю до этого Тальмон дал мне список кандидатур, и я провел большую подготовительную работу. Ходил, расспрашивал, подслушивал, аж до рабочего комитета дошел. Поговорил там с председателем, с заместителем — и в конце концов все выяснил. Узнал, как говорится, в какую сторону ветер дует. Оказалось, что среди кандидатов были такие, которых из комитета прислали только для проформы. Например, пообещали человеку еще во время выборов и теперь вынуждены были дать ему рекомендацию. Но при этом очень не хотели, чтобы Тальмон его принял. Потому что на предыдущем месте работы этот человек зарекомендовал себя плохо: что ему ни поручали, все проваливал. Но так как они сами ему отказать не могли, то решили свалить это на Тальмона. Чтобы он лично сказал этому человеку «нет». А рабочий комитет тут как бы ни при чем.
Иногда, когда Тальмон проводит собеседование, я посылаю ему в кабинет записку, но иногда он вызывает меня к себе лично. Я вхожу, делаю ему условный знак, и после этого мы с ним никогда об этом больше не разговариваем. Причем бывают такие случаи, когда принять решение проще простого. Например, когда на работу приходит устраиваться зять председателя горсовета или там, скажем, человек из какой-нибудь уважаемой семьи, с которой лучше не ссориться. Но Тальмон ничего этого не понимает. Иногда у меня такое ощущение, что он и слепой, и глухой одновременно.
Чтобы помочь Тальмону, мне приходится время от времени буквально на уши становиться. Однажды даже к Морди за помощью обратился. Я знаю, что он регулярно подвозит секретаршу председателя горсовета. Противная такая тетка с постной рожей. Ну вот я ему как-то раз и говорю:
— Слушай, Морди, поговори ты с ней как-нибудь при случае, ладно? Ну, когда будешь про подвозку договариваться. Анекдот там ей какой-нибудь расскажи или еще чего-нибудь. Идет?
Короче говоря, я буквально на все готов, чтобы Тальмону помочь. Но ему от меня надо только одно: чтобы я писал ему записки и подавал знаки. А как только дело сделано и я возвращаюсь к себе на склад, я больше его не интересую.
Вообще-то говоря, я взял Джамиля в бухгалтерию только для того, чтобы насолить его главному конкуренту — моему двоюродному брату Габи. Он тогда только-только закончил учиться и вернулся обратно в поселок. Он знал, что у него есть только один конкурент — араб из соседней деревни, — и не сомневался, что возьмут именно его, а не араба. Сидел себе в кабинете у Тальмона с таким видом, будто должность у него уже в кармане.
Если бы Морди узнал, что я порекомендовал не еврея, а араба, он бы, наверное, меня убил. Потому что он все время твердит, что ни одному арабу верить нельзя. «Даже, — говорит, — если араб пролежал сорок лет в могиле, ему все равно веры нету». А по мне, что араб, что еврей — без разницы. Да пусть человек хоть бедуином будет — мне до фонаря. Если он сделал мне что-нибудь хорошее, я отплачу ему за это добром. Но вот если он причинил мне зло — он у меня в жизни ничего не получит.
Когда Габи сидел на собеседовании, я приоткрыл дверь кабинета Тальмона, просунул голову внутрь и посмотрел в пол. В смысле: «Этого — не брать!» А потом убрал голову и захлопнул дверь. Даже «здравствуйте» Тальмону не сказал. Еще чего! Чтобы папины родственники у нас на заводе работали? Только через мой труп! После того как мы остались без отца, а они нас из-за этой проклятой фалафельной взяли да и бросили? Нет уж, дудки. Дырку от бублика они у меня получат, а не работу.
Когда Джамиль проработал на заводе две недели, он сделал мне предложение.
— Слушай, — говорит, — а давай я буду тебе людей приводить. Ты будешь устраивать их на работу, а они тебе за это от первой получки будут по десять процентов отстегивать.
Я говорю:
— Двадцать.
Уж не знаю, сколько он там думал наварить на этом сам — никогда его об этом не спрашивал, — но, поторговавшись, мы сошлись на том, что я будут получать пятнадцать.
После этого я решил посоветоваться с ним насчет квартиры в Ришон-ле-Ционе. Она у меня уже тогда из головы не выходила. Прихожу к нему, кладу на стол пакет с бумагами, а сам так волнуюсь, что не могу из себя ни слова выдавить. Однако мне даже не пришлось ему ничего объяснять. Он сам задал мне все необходимые вопросы, достал своими длинными пальцами бумаги из пакета, открыл ящик стола, вынул оттуда калькулятор и лист бумаги и буквально за несколько минут составил мне накопительную программу. Я смотрел на цифры, которые он написал на листке, и мне хотелось целовать ему руки. Ведь теперь, благодаря ему, у меня был план, как претворить свою мечту в жизнь!
Когда Джамиль впервые принес мне деньги, я целый день проносил их в кармане и никак не мог решить, что с ними делать. Дома не спрячешь: найдут. Кроме того, дома всегда кто-нибудь есть. В банк тоже не понесешь. Банковские служащие сразу маме донесут. Или еще, чего доброго, в «Амидар» стукнут и там потребуют, чтобы я заплатил наконец за квартиру. Здесь ведь люди язык за зубами держать не умеют. Встречаю, например, вчера в центре поселка, возле супермаркета, учительницу Ицика, а она мне и говорит:
— Ты знаешь, что он уже два два месяца в школу не ходит? Если так будет продолжаться, я попрошу, чтобы к вам инспекторшу из районо прислали или нашу новую ответственную по борьбе с детским хулиганством.
И все это прямо при людях, чтобы все слышали!
Всю ночь я думал, что делать с деньгами, а когда утром пришел на завод, попросил совета у Джамиля. Он предложил хранить деньги у него.
— Я, — говорит, — буду их для тебя в доллары переводить, и они будут лежать у меня. Пока ты четырнадцать тысяч на первый взнос не наберешь.
А что? — подумал я. Ведь я же про него все знаю, и он про меня все знает. Чего же мне бояться?
Так наши с ним судьбы и оказались накрепко связаны.
С тех пор пятнадцатого числа каждого месяца я снимаю со своего счета в банке зарплату и половину отдаю Джамилю, а он превращает мои деньги в доллары и хранит их у себя.
Правда, самих этих долларов я никогда не видел. Когда я устраиваю кого-нибудь из деревни Джамиля на работу, он пишет мне записку, что отложил для меня столько-то и столько-то, и все. То есть я вижу одни только цифры. Но меня это совершенно не беспокоит. Я знаю, что Джамиль человек абсолютно честный и что его слово — кремень. А кроме того, если я храню деньги в долларах, я не могу их потратить. Нет, ну разумеется, мне хочется их когда-нибудь увидеть. Хочется подержать их в руке, пересчитать, положить в карман. Хочется почувствовать их, как говорится, на своем теле. Но я дал Джамилю слово, что никогда к нему в деревню не приду, а мое слово тоже кремень.
На заводе о наших отношениях никто даже и не догадывается. В столовой я никогда рядом с ним не сажусь, а он, в отличие от всех остальных, никогда не приходит ко мне в подсобку пить кофе. Я дал ему слово, что не приду к нему в деревню, а он дал мне слово, что, если я даже буду его умолять, он мне ни за что моих денег не отдаст — ни единого доллара. Пока не накопится вся сумма. Я сам попросил его дать мне такое обещание после того, как мама завела со мной разговор о частных уроках для Ицика.
— Если он, — сказала она мне как-то раз, — не будет ездить в город к репетитору, даже и не знаю, что из него получится. Целыми днями только с этой своей птицей и возится. Ну что же это такое?
Я помню, как она с укором посмотрела мне в глаза, когда я ответил, что у меня на это денег нет. Но я свои глаза в сторону не отвел. Я же ведь ей не соврал. Дело ведь не в том, что мне денег жалко. Дело просто в том, что я обязан откладывать. На стены, на раковину, на плиту, на ванну, на ковер.
Когда я принял решение откладывать, мне вообще стало эти слова выговаривать гораздо легче — в смысле, что у меня денег нет. Я даже и себе это иногда говорю. Например, когда мне хочется купить новый пиджак. Наша семья живет на половину моей зарплаты, на пособия для детей и на те гроши, что мама получает в яслях, и у нас дома все уже давно привыкли, что денег ни на что нет. Даже Дуди — и тот у меня больше денег не просит. А ведь я знаю, что ему очень хочется, чтобы у него карманные деньги были. Правда, раз в две недели я все-таки даю им денег на кино. С этим ничего не поделаешь. Кино — это святое. Без кино тут можно сдохнуть. Но это все. Ни телевизор, ни электропечь, ни новую одежду никто меня купить уже давно не просит. Знают, что подходить ко мне с этим бесполезно. И земельный налог я нашему горсовету тоже больше не плачу, и счета за воду. Один раз нам даже ее отключили. Но я к ним пошел, поплакался, и в результате половину долга они мне скостили, а воду подключили снова. «Амидару» я тоже платить перестал. Уже целый год как за квартиру не плачу. Они мне даже угрожали. Но меня это не волнует. Я и с ними тоже как-нибудь договорюсь.
Для дома я тоже почти ничего не покупаю. Потому что наша квартира — не квартира. Теперь-то я уже знаю, как выглядит настоящая квартира. А наша — это просто свинарник. Для того-то я на заводе и вкалываю, чтобы нас отсюда вытащить. И себя, и маму, и близнецов. Ицик, Дуди и Эти могут позаботиться о себе сами. Я вон в возрасте Эти уже работал. И потом, я ведь на себя денег тоже не трачу, правда? Думаете, я не хочу купить маме красивую цепочку, новый браслет, часы? Очень даже хочу. И увидеть ее лицо, когда она открывает коробочку с подарком, тоже хочу. Но я не папа. Он был как малый ребенок: хотел, чтобы мама всегда была им довольна. Вот и давал ей денег на что ни попросит. Но я умею сидеть тихо и хранить тайну… Если я решаю молчать — из меня клещами слова не вытащишь. Но когда придет время, я принесу маме самые красивые драгоценности в мире — ключи от новой квартиры.
Про эту квартиру я с ней никогда не говорил. Она узнает о ней только тогда, когда будет держать в руках ключи. Мы поедем в Ришон-ле-Цион вместе — она, я, Хаим и Ошри — и не возьмем отсюда ни одной тряпки. Там у нас все будет новое и чистое.
Она откроет дверь и выронит ключи. Ей захочется присесть, и она попросит принести ей стул. Но я посажу ее не на стул. Я усажу ее в кресло, которое стоит в гостиной. Потом я принесу ей из кухни стакан холодной воды и на лице у нее снова появится румянец. И у нас начнется совершенно новая жизнь — с новыми простынями, полотенцами и кастрюлями. Я куплю туда все новое.
Каждый день она входит в нашу спальню, падает на кровать и жалуется, что у нее болит все тело. Я лежу в полуметре от нее, и мне страшно хочется ей сказать: «Мама, бросай ты уже эти свои ясли. Денег у нас хватит. Не надо тебе больше работать». Но я себе этого не позволяю. Вместо этого я закрываю глаза и представляю, как она лежит на кровати в Ришон-ле-Ционе. Кровать большая, деревянная и такого же цвета, как платяной шкаф. Мечта, а не кровать.
Каждый раз, как я приезжаю в Ришон-ле-Цион, я брожу по улицам — часа этак полтора — и заглядываю в окна. Смотрю, какая у людей в домах мебель стоит, чем они занимаются, что покупают, как друг с другом разговаривают, что они делают, когда их дети возвращаются из детского сада или школы. Смотрю — и стараюсь все запоминать. Когда мы сюда переедем, мне это пригодится.
Я хожу по улицам и представляю себе, как на улице Герцля останавливается автобус и из него выходит мама. Она хорошо выспалась, искупалась в новой ванне, красиво оделась, и лицо у нее снова такое же, как на фотографии, сделанной на моей бар мицве. В руке у нее красивая сумка. Только не та, белая, с которой она была на бар мицве, а новая, и в ней кошелек, полный денег. Она заходит в магазины и покупает все, что ей вздумается. В Ришон-ле-Ционе у нее будет прекрасная, человеческая жизнь. Я уже даже знаю, в какую она будет ходить парикмахерскую и в каких магазинах будет покупать одежду. А свой платок и траурное одеяние она выбросит.
Я езжу в Ришон-ле-Цион каждые четыре недели. Дома у нас об этом никто не знает. В пол-одиннадцатого я иду на стройку, чтобы узнать, как она продвигается. Я не хочу, чтобы строительство закончилось слишком быстро: мне нужно время, чтобы собрать деньги. Я смотрю на дома и знаю, в каком из них находится моя будущая квартира. Я хочу только ее одну — квартиру-образец. Никакие другие квартиры в этих домах меня не интересуют. Я готов взять ее такой, какая она есть, со всем ее содержимым.
Прежде чем войти в квартиру-образец, я сажусь на ступеньки, снимаю туфли и вытряхиваю из них песок. В Ришон-ле-Ционе земля не такая, как у нас. Как будто ты попал в другой мир. И земля там у них не такая, и воздух не такой, и даже солнце светит не так, как в нашем поселке. Потом я снова надеваю ботинки, завязываю шнурки, встаю, вхожу в квартиру и начинаю делать обход. Хочу увидеть, какие здесь за последний месяц произошли изменения. Захожу в спальню, в мамину комнату, в комнату близнецов, в ванную. Одним словом, в каждый угол заглядываю: боюсь, как бы мне тут чего не попортили. Ковровое покрытие на полу, например. Вон сколько людей тут по нему топчутся. Как жаль, что я не могу запереть эту квартиру на замок. Чтобы никто там больше ни до чего не дотрагивался.
— Слушай, — сказал я однажды Яфит. — А давай постелим на ковровое покрытие целлофановую пленку?
— Ну, у тебя, Коби, и шуточки, — засмеялась она. — Умереть от тебя просто можно.
— Ну тогда, — говорю, — давай хоть туалетную бумагу из ванной комнаты вынесем. Чтобы в ней больше никто унитазом не пользовался. Тут ведь и другие туалеты есть, поменьше. Вот в них пусть и ходят.
Но и это мое предложение ее тоже насмешило.
Каждый раз, как я прихожу, я смачиваю тряпку и счищаю с выключателей накопившуюся за месяц грязь. Вообще-то в квартире чисто: пол блестит; окна тоже; пыли нигде нет. Но уборщица почему-то не протирает выключатели.
Яфит мне просто поражается.
— Если бы я не умирала здесь от скуки, — сказала она мне однажды, — я бы с тобой даже и разговаривать-то не стала.
Поначалу она всегда смотрит на меня как на сумасшедшего, но к концу своего дежурства всегда соглашается сделать то, что я попрошу.
В полдвенадцатого я выхожу прогуляться по городу. В двадцать пять минут второго Яфит запирает дверь изнутри и оставляет для меня ключ на маленьком балконе. Ровно в полвторого я возвращаюсь, беру ключ, кладу его в карман — чтобы люди подумали, что я пришел со своим ключом, — отпираю замок, вхожу, запираю дверь изнутри, бросаю ключ на обеденный стол и иду на кухню попить воды.
Яфит спит в одной из комнат. Как всегда на животе и положив одну ногу на другую. Она никогда не снимает туфель, и я попросил ее, чтобы она не клала ноги на покрывало. Поэтому ее ноги висят в воздухе.
Она носит очень облегающие джинсы, и, если бы Морди ее увидел, он бы, наверное, не сдержался. Но меня она совсем не возбуждает. Я воспринимаю ее как учительницу, которая заменяет других учителей. Сегодня идет в класс к одному, завтра — к другому. Короче, всего лишь затыкает дыры там, где нужно.
Она рассказывает мне про себя буквально все. Кому же, как не Коби, ей про это рассказывать? И вот каждый раз, как я приезжаю, выясняется, что у нее опять новый парень. Нет, мне такая баба не нужна. Я не хочу такую, которая со всеми подряд путается. Притворится еще, что она моя, а сама возьмет да и другого в дом приведет. Пока меня дома не будет. Такие женщины, они все фальшивые.
Но из меня ей ничего вытянуть не удалось. Она не знает, откуда я приезжаю, и не знает, что мой папа умер. Когда она однажды спросила меня, чем он занимается, я сказал, что он «ресторатор». Услышал это слово как-то раз в Ришон-ле-Ционе и решил его по случаю употребить. В другой раз она спросила, когда я собираюсь внести свой первый взнос.
— На меня, — говорит, — в конторе давят.
— Не волнуйся, — отвечаю. — Просто у папы сейчас много работы. Как только он освободится, сразу заплатит. Примерно через месяц. Ну, самое большее — через два.
Я не боюсь, что за это время мою квартиру продадут кому-нибудь другому. Яфит сказала, что ее продадут в самую последнюю очередь. Это ведь квартира-образец.
Постояв в дверях комнаты, где лежит Яфит, я вхожу, она встает, чмокает меня в щеку, и мы идем на кухню. Она поит меня кофе и расспрашивает, как у меня дела на работе.
Я всегда ей что-нибудь привожу — цветы, например, или какие-нибудь красивые фрукты, — и она всегда этому радуется. Вываливает старые фрукты из тарелки на столе и кладет вместо них мои, а цветы ставит в вазу.
Перед тем как мы с ней уходим, я иду в ванную комнату и смотрю на себя в зеркало — проверяю, какое у меня выражение лица. По правде говоря, пока что мне хвастаться нечем. Не то выражение, не то. Не соответствует оно пока еще моей клятве.
Когда мы выходим из квартиры, Яфит позволяет мне ее запереть, и, когда она дает мне ключ, я испытываю просто какое-то неземное блаженство. Как-то раз, во время своих прогулок по городу, я купил красивый брелок. Очень долго его искал, пока нашел. Вообще-то он пластмассовый, но такое впечатление, что сделан из стекла. А внутри у него — маленький букетик сухих цветов.
Я знаю, что должен вернуть Яфит ключ, но с каждым разом сделать это мне становится все труднее и труднее. Я стою и чувствую, что не в силах его отдать. Как будто этот ключ с брелком — мой ребенок, которого я едва-едва успел подержать за руку, и вот теперь должен оставить на целый месяц одного.
— Ну давай уже, Коби, скорее! — сказала мне Яфит в прошлый раз. — Я тороплюсь. Мне сюда в четыре часа снова надо будет возвращаться.
Но когда она увидела, как мне тяжело, то решила меня немножко подбодрить.
— Слушай, — говорит, — Коби, а может, ты поговоришь с соседями, чтобы они в подъезде не мусорили, а? Давай ты вместо меня на заседание домкома сходишь? А то после того, что случилось в субботу, у меня больше нет никакого желания видеть этого Марковича с третьего этажа.
Я пообещал ей поговорить с соседями, отдал ключ, и она ушла, но после ее ухода я еще минут пятнадцать стоял, как истукан, и не мог сдвинуться с места. Мне страшно хотелось ее спросить, что такое домком, что это за заседания такие они там устраивают и о чем именно они на этих заседаниях говорят. Это же ведь не завод, а простой дом, правда? Так зачем же в обыкновенном доме заседания проводить? Но я ее так ни о чем и не спросил. Потому что в Ришон-ле-Ционе я вообще никому никаких вопросов никогда не задаю. Только смотрю, слушаю и на ус мотаю. А то еще догадаются по моим вопросам, что я нездешний. Если же буду молчать, не догадаются. Потому что я одеваюсь, как они. Как будто я местный.
Кроме того, мне даже и спрашивать-то особенно не надо, потому что из разговоров с Яфит я и так узнаю все, что мне нужно. Научился у нее даже покупателям квартиру показывать.
Яфит часто ходит развлекаться по вечерам, возвращается поздно и иногда приходит невыспавшаяся. В таких случаях я говорю ей, чтобы она пошла в спальню и немного полежала, а сам в это время дежурю вместо нее. И вот однажды она пошла полежать, и тут вдруг приходит пожилая пара. Я постучал Яфит в дверь — мол, давай уже, приводи себя в порядок и выходи, — а сам тем временем стал ходить с ними по квартире. И вот когда Яфит из комнаты вышла, она просто глазам своим не поверила. Какой вопрос они мне ни задавали, у меня на все был ответ.
В общем, практически все, что умеет делать она, я тоже теперь умею. Даже знаю, что надо делать, когда муж и жена начинают спорить.
— Если один из супругов, — сказала мне как-то Яфит, — квартиру купить хочет, а второй — нет, я им в жизни ничего такого не скажу, чтобы они еще больше во мнениях разошлись. Наоборот, возьму иголку с ниткой и начну образовавшуюся между ними дырку штопать. В смысле, постараюсь помочь им к согласию прийти. Ты видел когда-нибудь, как в носке дырку штопают? Втыкают иголку с одной стороны дырки и протягивают нитку до противоположного края. И так зашивают дырку вдоль и поперек, пока она не исчезает. Для этого надо очень много терпения. Причем втыкать иголку нужно только там, где ткань еще крепкая. Иначе штопка быстро порвется.
— Точно! — говорю. — У меня мама именно так и штопает.
— «У меня мама именно так и штопает», — передразнила меня Яфит. — Сосунок ты еще, Коби, младенец совсем. Еще скажи, что ты со своей мамочкой каждый вечер дома сидишь.
Я обиделся, но проглотил обиду и смолчал.
Когда клиенты уходят, ничего не купив, Яфит тоже обижается, но тоже проглатывает обиду молча. Делает вид, что ей все равно. И только через какое-то время говорит:
— Ну и пусть уходят, и не надо. Я перевидала здесь уже столько людей, что сразу знаю, кто из клиентов — серьезный, а кто пришел просто так, чтобы мне мозги поканифолить. Я их уже насквозь вижу. Все им тут, видите ли, не так. И что? Я с ними спорить не собираюсь. Не нравится, пусть сделают ремонт. По сравнению со стоимостью самой квартиры, он обойдется им в сущие копейки.
Особенно мне понравилось, когда Яфит сказала:
— Одному тебе мне эту квартиру показывать не пришлось. Пришел и говоришь: «Покупаю!» Как это может быть? Не понимаю. Ты же ведь до этого даже не был ни в одной комнате. Как же ты мог в эту квартиру так втюриться? Ты что, через стены видишь, что ли? Или, может быть, тебе так сильно дверь понравилась? Или окна?
Когда я поехал с Морди в Ришон-ле-Цион во второй раз и сказал ему, что хочу снова сходить в квартиру-образец, он подумал, что это из-за девушки, которая там сидит. Когда мы высадили людей, я, как бы невзначай, ему говорю:
— Слушай, а ты не мог бы отвезти меня в район новых домов?
Я думал, что он не придаст этому никакого значения, но он вдруг взял да и раскипятился. Остановил машину и давай мне нотации читать.
— Если, — говорит, — это все из-за той девушки, — как ее там зовут? Яфит, что ли? — так вот если это из-за Яфит, я тебя туда не повезу, понял? Ты мне друг, и я не позволю тебе мои ошибки повторять. Пойми, я ведь тогда еще совсем ребенком был и думал, что это только игра. Ну, Фанни там и все такое, понимашь? Я же не знал, что с жизнью своей играю. Ну а теперь уже поздно руками махать. Натворил делов — расплачивайся. Вот я и расплачиваюсь. И буду расплачиваться по гроб жизни. Нет, я, конечно, ничего плохого про Фанни сказать не могу: она женщина хорошая. Только вот жизнь моя, Коби… Как бы это тебе получше сказать? Безмозглая она какая-то, понимаешь? Видишь вон тот магазин? — Он дал задний ход, проехал несколько метров и остановился напротив магазина, на который показал. — Теперь представь себе. Входит туда пятнадцатилетний парнишка. И у него с собой деньги. Первый раз в жизни он пришел в магазин с деньгами. Ну вот. Входит он в этот магазин и берет с полки первое, что попадается ему на глаза. А оно вдруг раз — и выскальзывает у него из рук. И разбивается. Он еще даже и по магазину-то толком походить не успел, по сторонам не огляделся. А оно уже разбилось. Ну? И что же ему остается делать? Только одно. Заплатить и уйти. И взять с собой то, что разбил. Чего ты так на меня смотришь? Думаешь, если Морди все время шутит, значит, ему хорошо? Нет, браток, не значит. У Морди, чтобы ты знал, душа болит не переставая. И больше всего на свете ему хочется снова зайти в тот магазин.
Я сидел и не знал, что сказать. В самом деле. Скажу, что дело не в Яфит, — придется рассказать ему про квартиру. Но ведь про квартиру я ему рассказать не могу, правда? Про нее знает только Джамиль. Но Морди мое молчание не смутило. Наоборот. Когда ты молчишь, ему еще больше говорить хочется.
— Ты ведь уже не ребенок, Коби, — сказал он наставительно. — Поздно тебе уже в игры играть. Тебе пора за ум браться и жену себе подыскивать. Только не такую, а заграничного производства. Как у Элико. Посмотри вон, как он теперь живет. А ведь за него любая бы пошла. Стоило бы ему у нас в поселке только свистнуть — сразу бы целая толпа набежала. Но он легких путей искать не хотел. Решил, как говорится, горячку не пороть. Сначала в армии отслужил. Потом годик в Тель-Авиве покрутился. А как понял, что ему в Тель-Авиве ничего не светит и что он там себе стоящую бабу не найдет, взял да и в Норвегию рванул. А в Норвегии, брат, там тебе не то что тут. Там тебя, когда ты с самолета сойдешь, никто спрашивать не будет, откуда ты родом, кто твой папа и не марокканец ли ты часом. Нет, Коби, в Норвегии языками зря не треплют. Там на человека смотрят, а не на его происхождение. На тело его, на силу, на красоту. А красота, брат, она и в Африке красота: любая девчонка в мире ее оценит. Короче. Выучился Элико по-ихнему и стал рыбой торговать. И всего за полгода кучу денег заработал. Ну а потом поискал-поискал — и нашел в точности, что хотел. Красивую и богатую. Но заметь: не шибко красивую и не шибко богатую. Чтоб не очень-то нос задирала.
Он завел мотор. Я решил, что он наконец-то закончил, и включил радио. Зазвучала реклама:
Но Морди выключил радио и говорит:
— В общем, съездил парень за границу, сорвал там красивый цветок, вернулся домой и поставил этот цветок в банку с водой. И теперь он для этого цветка и папа, и мама, и братья, и подруги. И что интересно — его жена очень даже хорошо понимает, кто в доме главный. Она знает, что королева в доме — это свекровь, а она сама всего лишь принцесса. Но разве ж ей от этого плохо? Да нисколечко. Он ведь ее тоже холит и лелеет. Просто у каждой в доме свое место. Но что, Коби, в этой истории самое потрясное, так это то, что невестка и свекровь даже и поговорить-то друг с другом толком не могут. Потому что одна говорит только по-норвежски и по-английски, а вторая — только по-мароккански, по-французски и на иврите. То есть на двоих у них целых пять языков, а ни одного общего нету. И чтобы сказать друг-другу одно-единственное слово, им переводчик требуется. Ну и кто же, по-твоему, этим переводчиком служит? Элико, естественно, кто же еще? Но ведь он же себе не враг, чтобы им все подряд переводить. Ему главное, чтобы дома мир и спокойствие были. Вот небось и переводит только то, что считает нужным. Короче, гений он, этот Элико, самый настоящий гений!
Морди все болтал и болтал, а я молчал и думал: «Господи, как же мне от него отвязаться? Как мне попасть в квартиру-образец?»
Когда-то мы учились с ним в одном классе и он был совершенно другим человеком. Даже и не помню, чтобы он тогда что-нибудь говорил. Но теперь его рот открывается буквально каждую секунду. Чтобы засмеяться, чтобы закурить, чтобы поесть, чтобы плюнуть, чтобы поболтать, чтобы запеть, чтобы попить, чтобы рассказать анекдот, чтобы свистнуть. Он даже письма, которые получает, и те зубами открывает. Наверное, эта привычка выработалась у него во время поездок. Человек, чьи руки весь день лежат на руле, глаза смотрят на дорогу, а ноги давят на газ, тормоз и сцепление, подобен парализованному. Единственное, что у него не занято, — это рот.
В результате всех этих разговоров с Морди мне приснилось, как девушка заграничного производства пришла в квартиру-образец.
Мы ехали домой, я клевал носом и сквозь дрему слышал голос Морди:
— Еще до вашего возвращения из-за границы ты должен ей объяснить, что вы с матерью просто не разлей вода. Скажи ей, что ты и мать — как сиамские близнецы. Так что пусть она на эту тему даже и не вякает.
И вдруг я очутился в гостиной квартиры-образца. Там были большой, обитый коричневым вельветом диван и полированный стол. На столе стояли большая пепельница песочного цвета и тарелка с фруктами. На тарелке были нарисованы верблюды, бредущие по пустыне. В углу стоял маленький столик, на нем — черная ваза с цветами. На полу — большой ковер с кружочками, а на окне — портьеры цвета растворимого кофе с большим количеством молока. Они спускались до самого пола, на котором стоял огромный цветочный горшок с декоративным деревом.
Я подошел к тумбочке, на которой стоял телевизор, и стал смотреть на картину, висящую над диваном. Там была изображена река, по которой плыли цветы. Они плыли по воде и не тонули и вдруг превратились в зеленые кастрюли, на которых сидели девушки в белых и желтых платьях. Потом кастрюли с девушками снова стали цветами, а потом — опять кастрюлями. Но мне нравились и цветы, и кастрюли. Эта картина позволяла тебе самому выбирать, что ты хочешь на ней видеть.
Кто бы мог предположить, что цветы можно сажать не только в землю, но и в воду? — думал я. Наверное, все это происходит за границей. И действительно, художник на картине подписался по-английски.
Я просто обожаю эту картину. Каждый раз, как я прихожу в квартиру-образец, я сажусь перед ней на стул и долго на нее смотрю. Иногда по полчаса. Такое ощущение, что эта картина не висит на стене, а медленно движется, и от этого на душе у меня почему-то становится спокойно. Насмотревшись, я закрываю глаза, а когда открываю их снова, мне кажется, что я вижу эту картину повсюду.
Я смотрел на картину и вдруг снова услышал голос Морди:
— Прихожу я как-то раз к Элико в гости. Его жена сидит в гостиной и кормит ребенка из бутылочки. Не женщина, а фарфоровая кукла какая-то. Мать поит меня чаем с домашними печеньями. А сам Элико сидит себе в этом тихом раю и балдеет.
Я усадил женщину заграничного производства на диван. Она пила кофе и смотрела телевизор. Волосы у нее блестели, как пепельница, и были такого же светло-коричневого цвета, а на одежде — кружочки той же расцветки, что и на ковре, только поменьше. Она сидела на диване и неслышно дышала. Я тоже старался дышать неслышно, как она, а потом вдруг поплыл по реке, как цветы на картине, и провалился в глубокий сон.
Когда я открыл глаза, был уже вечер, и мы въезжали в поселок.
Я возвращаюсь с завода в поселок и всю дорогу думаю о квартире в Ришон-ле-Ционе.
Поселок, как и промзона, словно вымер. В центре — ни единой души. Время — полвторого. Наверное, все пошли обедать. Я умираю — хочу пить; поскорее бы дойти до дома. И вдруг вижу, что по улице, которая спускается от центра поселка к поликлинике, идет женщина. Господи, да ведь это же мама! Точно! Она! Правда, я вижу ее со спины, но платок, платье и туфли — сто процентов ее. Только как же это может быть? Ведь боеготовность же объявили. Куда же она идет? Может, это все-таки не мама, а какая-то другая женщина? Просто одета, как мама? А может, мне ей свистнуть? Нет, нельзя. Дома — это еще туда-сюда, там никто посторонний не услышит. Но на улице мамам свистеть не принято. Правда, все вокруг сейчас закрыто. Но черт его знает — может, кто-нибудь стоит у окна и смотрит. Ну тогда, может быть, крикнуть ей, позвать? Тоже нет. Что я буду ей кричать? «Мама!»? Но ведь я же ее мамой больше не называю. Как только отцом для Хаима и Ошри стал. Потому что если я при них ее мамой назову, они сильно удивятся. В общем, «мама» не подходит. С другой стороны, я и Симоной ее тоже называть не могу. Как-то это будет по отношению к ней неуважительно, если я стану ее Симоной называть. Ее ведь так только чужие называют. А может, крикнуть ей «Сими!»? Как папа?
Вообще-то я уже давно хотел попробовать. Еще когда в школе учился. Все время представлял себе, как она приходит домой, а я говорю: «Сими». Причем так, чтобы слышали Ошри с Хаимом. Дверь открывается, она входит, а я ей: «Сими!» Как, интересно, она отреагирует? Но каждый раз, когда она приходила, я молчал. Не мог ее «Сими» назвать — и все тут. Это имя у меня буквально в горле застревало. У меня было такое ощущение, что сказать ей «Сими» — это все равно что в субботу огонь зажечь. Думать-то ты об этом можешь сколько угодно, но вот сделать — ни-ни. Даже если ты не носишь кипу, не ходишь в синагогу и по субботам на море ездишь. Держишь в руке коробок, а чиркнуть спичкой не можешь: рука отказывается.
А вот у мамы с моим именем никаких проблем нет. Когда Ошри и Хаима рядом нету, она называет меня Коби, а при них говорит «папа». «Скажите папе», «идите к папе», «не шумите, папа спит».
Я продолжаю смотреть маме вслед. Знаю, что, если назову ее Сими хотя бы один-единственный раз, мне сразу станет легче. После этого имя «Сими» будет вылетать у меня из рта безо всякого труда. Но здесь, на улице, я этого сделать не могу. Подожду-ка я лучше с этим до Ришон-ле-Циона. Там ведь нас никто не знает. Как только мы туда приедем, я дам ей ключи от новой квартиры и скажу: «Поздравляю тебя, Сими! С новосельем!» И ничего страшного не случится. Папа, что ли, из могилы встанет, чтобы мне пощечину дать? Не встанет. Ну а мама… Она будет так рада новой квартире, что даже и внимания не обратит.
Пока я думаю, как мне позвать маму, она успевает дойти почти до конца улицы. Она идет с белой сумочкой, которую я помню еще по бар мицве. Она не вынимала ее из шкафа с тех пор, как умер папа. У этой сумочки две белые лямки, прикрепленные к ней большими золотыми кольцами. Застежка у сумочки тоже золотая; даже отсюда видно, как она сверкает на солнце. Только вот как-то странно видеть ее с сумочкой, она ведь никуда с сумочкой не ходит. Когда идет на работу, берет с собой целлофановый пакет, а на рынок ходит с большой хозяйственной сумкой, в которую бросает кошелек. Почему же она сегодня-то с сумочкой?
Она переходит дорогу и скрывается из виду. Куда же она все-таки пошла? Что у нее там за дела? Может, она идет в гости к Сильви? Дом Сильви находится как раз там. Но ведь она в гости практически ни к кому не ходит. Что же это с ней сегодня случилось?
Неожиданно я чувствую острый приступ голода. Ладно, надо идти домой.
Я поднимаюсь по лестнице, вхожу в квартиру и направляюсь на кухню. Ошри, Хаим и Эти спят. На кухне я разогреваю кускус и кладу его на тарелку вместе с большим куском тыквы. Но еда не лезет мне в горло. Я подношу ко рту ложку, полную кускуса, но не могу заставить себя его проглотить. У меня перед глазами все время стоит мама, идущая вниз по улице. Сумочка у нее при ходьбе раскачивается и бьет ее по заду.
Я чувствую, что больше не могу. Я должен это прекратить. Мне надо немедленно пойти в ванную.
Я снимаю пиджак и туфли, вхожу в ванную, вставляю в ручку двери швабру, чтобы никто не смог открыть дверь снаружи, раздеваюсь догола, кладу одежду на раковину, задергиваю занавеску, открываю воду на полную силу и сажусь на пол. Пол холодный, а вода горячая, почти кипяток. Она хлещет меня по голове, и я пригибаю голову, чтобы она била меня по спине. По спине гораздо приятнее.
Я смотрю на своего зверька и вдруг понимаю, что не могу до него дотронуться. Он лежит съежившись, как будто ему угрожает опасность, а я не в силах ему помочь. Я не могу взять его в руку, когда перед глазами у меня стоит мама, идущая по улице. Что же мне делать? Я закрываю глаза и пытаюсь представить себе женщину заграничного производства. В конце концов мне это удается, но она получается у меня какая-то бесплотная. Как будто под одеждой у нее совершенно пусто, один воздух. Тогда я обращаюсь к Яфит: «Может, хоть ты мне его подержишь?» Но и с Яфит у меня тоже ничего не получается. Она брезгливо морщится, говорит, что я чокнутый, и презрительно заявляет, что в такую квартиру, как наша, она в жизни своей не пойдет. Тогда я представляю, как Яфит сидит на диване в квартире-образце. Она встает с дивана, идет в спальню, вылезает из туфель на высоких каблуках, ложится прямо в одежде на кровать, поворачивается ко мне спиной и начинает болтать ногами. Я вижу, что на ногах у нее нет чулок, беру его в руку и начинаю массировать. Вниз-вверх, вниз-вверх, вниз-вверх. Сначала моя рука движется очень медленно, и мне хочется, чтобы это никогда не кончалось, но кровь у меня начинает пульсировать все сильнее, дыхание становится все более учащенным, и я чувствую, что больше терпеть не могу. Вот сейчас… сейчас… сейчас все кончится… Я пытаюсь сдерживать свою руку, чтобы она продолжала двигаться медленно, но тут вдруг губы у меня пересыхают, сердце начинает колотиться, как бешеное, тело напрягается, как пружина, готовая вот-вот распрямиться, и я понимаю, что сдерживаться больше не в силах. Моя рука начинает двигаться все быстрее и быстрее, я вскрикиваю и выстреливаю.
Я продолжаю сидеть под душем, пока горячая вода в баке не заканчивается и на спину мне не начинает течь холодная. Я закрываю кран, встаю, выхожу из душа, вытираюсь, одеваюсь, вынимаю палку из ручки двери и выхожу из ванной, даже не посмотревшись в зеркало. Мне холодно. Кран в раковине подтекает, и рубашка, лежавшая на раковине, намокла; на животе у меня большое мокрое пятно. Брюки внизу тоже подмокли, потому что на полу в ванной была вода. Я иду в свою комнату, переодеваюсь во все сухое, ложусь на кровать и с головой укрываюсь одеялом.
Только бы она сейчас не пришла. Только этого мне сейчас и не хватает, чтобы она вернулась домой. Какой поганый день. И зачем только армия объявила эту боеготовность? Не понимаю. Отняли у нескольких тысяч людей целый день, перевернули его вверх тормашками, вытряхнули из него все содержимое и вернули пустым. И вот теперь люди должны слоняться по улицам и ждать, пока им с неба что-нибудь на голову свалится. Лучше бы уж нам вообще ничего не сообщали. Живем себе и живем. Ну а если нам суждено умереть, то уж лучше умереть в самый обычный день, когда мы на своем привычном месте — на работе, в школе. И жить так лучше, и умирать тоже, когда ты на своем привычном месте. Я очень сердит на армию. Под одеялом становится жарко. От постели хорошо пахнет. Я смотрю на простыню. По-моему, мама опять ее поменяла. Не понимаю, что на нее нашло. Каждый день меняет. Уже целую неделю так. И откуда у нее только силы берутся — каждый день стирать и новую стелить?
Я закрываю глаза и вижу себя, маму и Ошри с Хаимом, когда они были еще совсем маленькими. Целых полтора года они спали вместе с нами. Мы — по сторонам, как ограда, а они в середине. «Как козлята в загоне», — говорила мама. И все время мы были с ней в каком-то полубреду: когда ты сам не понимаешь, спишь ты или бодрствуешь. Иногда я видел, что она лежит с открытыми глазами, и заговаривал с ней, но она не отвечала: спала. А один раз, помню, она их покормила, и я подумал, что она уснула, а она вдруг говорит:
— В Марокко у тети Таму была змея. Когда тетя кормила ребенка грудью, змея приползала и начинала сосать молоко из ее второй груди. Эта змея выросла у тети дома, так же, как и я. Она жила в соломенной корзинке, стоявшей в углу, а по субботам садилась вместе с нами за стол и ела схину. Дом у нас был соломенный: из соломы, смешанной с глиной. Однажды мы возвращаемся, пытаемся открыть дверь и не можем. Оказалось, что змея обвилась вокруг ручки и не дает нам войти. Потом выяснилось, что в доме была гадюка. Она спасла нас от гадюки.
Я не знал, верить всем этим маминым рассказам или нет. Она вообще много рассказывала про змей. Говорила, например, что в Марокко был рынок, где их продавали. И почему-то всегда рассказывала эти истории, когда мы были в спальне. Не знаю почему. Может, змеи ей снились?
А вот мне не снилось ничего. Когда кто-то из близнецов просыпался, я сразу это чувствовал и клал на них руку или совал им в рот выпавшую соску. Я всегда помнил, кто из них поел, а кто покакал. Мама же не помнила этого никогда. Она вообще все это время была как пьяная. Я будил ее и близнецов, она садилась, и я подкладывал ей две подушки. Одну — под поясницу, а вторую под шею, потому что шея у нее постоянно болела. Я подавал ей близнецов, забирал их у нее, переодевал, купал… Ошри молчал, только когда ел или когда был в воде. Перед сном я ставил на стул корыто с холодной водой и, когда он начинал плакать, я подливал в корыто кипящую воду из чайника и сажал его туда. Не мыл с мылом, а просто сажал в корыто, чтобы он успокоился. Раздев его, я заворачивал его в полотенце, чтобы он не замерз. Я не мог слышать, как он плачет: у меня от этого просто сердце разрывалось. Мне казалось, что он на меня сердится, как будто я сделал что-то не так. Когда я держал его, завернутого в полотенце, на руках, моя тень на стене доходила почти до потолка. В спальне у нас обычно свет не горел; мы оставляли свет только в туалете. Правда, когда в квартире был хоть какой-нибудь свет, Дуди не мог заснуть; поэтому мы сначала весь свет в квартире выключали, ждали, пока он заснет, и только потом включали свет в туалете, оставляя его дверь немного приоткрытой. Пока я держал Ошри завернутым в полотенце, он плакал, но как только вода касалась его тела, сразу замолкал. Я делал все так, как меня учила мама. Сначала смачивал ему водой лицо, три раза проводя по нему рукой сверху вниз и произнося благословение «Авраам, Исаак и Иаков». От этого на душе у меня сразу становилось благостно и покойно. Потом я лил ему воду на животик, переворачивал и, поддерживая рукой за грудку, чтобы его головка была высоко и он не захлебнулся, возил взад-вперед по воде, лил ему воду на спинку и на попку, снова переворачивал на спину, давал ему оттолкнуться от краев корыта ножками и крутил в воде, как на карусели. А когда вода остывала, я вынимал его из корыта, передавал на руки маме и она его одевала.
Вся наша спальня пропиталась запахом близнецов. Боже, какой это был запах! Ни один другой запах в мире с этим не сравнится. Если мне не удавалось успокоить их с помощью соски, я брал их на руки и они начинали тыкаться губами в мою рубашку, ища мамину грудь. Тогда я передавал их маме. Блузка у нее всегда была нараспашку; она даже перестала ее застегивать. Я смотрел, как близнецы раскрывают губки, видел, как красненькие колечки их ротиков обхватывают красные кружочки на маминой груди — и это зрелище меня буквально завораживало. Мне нравилось, как мама сдавливала грудь пальцами, чтобы выжать из нее молоко, нравилось слушать, как они сладко причмокивают, когда сосут, и я просто обожал смотреть на мамино лицо, когда они начинали сосать синхронно. Я видел, что ей так же хорошо, как и им самим. Я ложился на бок, протягивал близнецам палец, и они хватались за него своими ручками, не переставая сосать. Я же тем временем гладил их свободной рукой по головкам. Господи, какие у них были прекрасные волосики! Гладишь их, и такое ощущение, что они тоже гладят тебя.
После того как папа умер, мама больше никогда о нем не упоминала. Я все время ждал, что она хоть что-нибудь про него скажет, но она молчала. Даже в дни его памяти и то ухитрялась о нем ничего не сказать. Говорила только о том, кому что надо сделать и кто будет сидеть с близнецами, пока мы будем на кладбище. И никогда по нему не плакала. По маме своей, которая умерла, когда они еще жили в Марокко, плакала часто. А вот по папе — никогда. Я же думал о нем постоянно, и иногда, когда мамы в спальне не было, входил туда и ложился на папину сторону кровати. Он всегда спал на левой стороне. Я перегибал подушку надвое, как обычно делал он, клал на нее голову и старался как можно сильнее вытянуть ноги. Мне хотелось, чтобы они, как и папины, тоже достали до края кровати. Наш папа был высоким, выше всех своих братьев и остальных родственников, и каждый раз, как я видел, что мои ноги немного удлинились, я радовался. Но даже сейчас, когда во мне уже метр шестьдесят восемь, мои ноги все равно короче, чем его. Когда я их вытягиваю, мне кажется, что его ступни выглядывают из-под моих.
Иногда мама говорила со мной лежа с закрытыми глазами. Однажды, не открывая глаз, говорит:
— Коби, дитятко мое, разбуди, пожалуйста, Эти. Пусть теперь она мне тут поможет, а ты пока приляг и поспи. Тебе ведь утром в школу. Как же ты будешь учиться?
Я сходил в комнату к Эти, а потом вернулся и сказал, что она спит как убитая и я не смог ее разбудить.
Когда я смотрел, как мама кормит близнецов, меня постоянно мучил страх, что молоко у нее в груди кончится и что в следующий раз ей будет нечем кормить. Чтобы молоко у нее не пропало, я поил ее кофе с молоком.
Когда я стоял на кухне и кипятил молоко, я любил закрывать глаза и склоняться над кастрюлькой. От молочного пара кожа у меня на лице становилась нежной, как у младенца. Когда я слышал, что молоко закипает, я открывал глаза, выключал огонь, разливал молоко по чашкам, клал в каждую пол-ложечки растворимого кофе и две ложечки сахара, вынимал из верхнего шкафа пакет с миндальными орешками, брал из него три или четыре орешка и нес все это в спальню. Миндальные орешки принесла нам Рики. Она велела мне их спрятать и давать только маме. Сказала: «Это для того, чтобы молоко не было водянистым. Чтобы оно было белое-белое».
Мы сидели с мамой в кровати, пили кофе и смотрели на малышей. Когда они спали, мы не могли оторвать от них глаз. Нам хотелось смотреть на них вечно.
До рождения близнецов мама говорила очень громко, а часто даже кричала, но, когда вернулась после родов из больницы, стала говорить гораздо тише. Боялась разбудить близнецов. Мне нравилось, что у нас в доме стало тихо.
Покормив близнецов грудью, мама укладывала их головки себе на плечи и хлопала им по спинкам, чтобы они срыгнули, и как раз сегодня мне приснился про это сон. Мне снилось, что мама прижимает к плечу ребенка, и этот ребенок я. Как же я мог об этом забыть? Впрочем, с этими снами — с ними всегда так. Когда ты изо всех сил пытаешься их запомнить, они забываются, а когда ты напрочь их забываешь, они вдруг берут да и всплывают у тебя в памяти. Я гугукал, а мама хлопала меня по спинке и по попке, чтобы я срыгнул, и вдруг приподняла меня повыше, взглянула на мои штаны, увидела, что у меня там набухло, и стала хлопать еще сильнее. Снова по спинке, и снова по попке, опять по спинке, и опять по попке. Все сильнее, сильнее, сильнее и сильнее… И вдруг я взял да и кончил. А она говорит: «На здоровье, сынок!» Почему я позволил ей хлопать себя по спине? И почему не почувствовал, что кончил?
Господи, опять начинается эта боль в спине! Как будто мне вогнали в нее шуруп. Причем на этот раз не так, как всегда: без карандаша и без дрели. Просто взяли молоток и с силой вбили мне его в спину.
Я пытаюсь не сдаваться. Расправляю простыню на кровати, надеваю пиджак и, держась за стену, направляюсь по коридору к выходу. По пути я прохожу мимо комнаты Ошри и Хаима и слышу, как они меня зовут, но не откликаюсь и ковыляю дальше. Тогда они выходят из комнаты и бегут за мной. Я дохожу до выхода и сажусь, чтобы обуться, но из-за спины у меня ничего не получается. Ошри и Хаим моментально все понимают, хватают каждый по ботинку, надевают мне их на ноги, склоняются над ними так низко, что почти утыкаются в них носами, и начинают завязывать мне шнурки. Это занимает у них кучу времени. Они стараются делать все в точности, как я их учил, пытаются завязать узлы как можно крепче, чтобы они не развязались, а я смотрю на них, и от одного их вида боль у меня как будто начинает проходить сама собой. Господи, до чего же они прелестные.
Со стены на меня смотрит фотография папы. Как назло я сел прямо напротив нее. Терпеть эту фотографию не могу. Давно уже надо было ее отсюда снять. Не успеваешь войти в дом, как в тебя сразу впиваются папины глаза, и надо все время себя убеждать, что он тебя не видит. Кроме того, когда я смотрю на его лицо, я вижу, насколько сильно Хаим и Ошри на него похожи, и не могу их считать только своими детьми. Такое впечатление, что после смерти папино лицо отнесли в мастерскую, где копируют ключи, и сняли с него две точных копии.
Наконец они заканчивают завязывать шнурки и целуют меня с двух сторон в щеки. Я могу различить их даже по поцелуям. С той стороны, где меня поцеловал Ошри, мокро.
Я встаю и хватаюсь за дверь. Что же мне им сказать? Я иду в старую половину квартиры и подхожу к шкафу. Хаим и Ошри следуют за мной.
— Это шкаф, в котором вы будете прятаться от террористов, — говорю я. — Если вы услышите сильный взрыв, это значит, что на нас напали террористы. Но вы не должны этого пугаться, потому что Коби о вас позаботился. Встаньте на стул, достаньте сверху ключ, откройте дверцу и залезайте внутрь. Одна девочка так сделала, спряталась за дверцей шкафа — и террористы ее не нашли. Вот и вас тоже не найдут. Внутри есть бутылка масла. Вылейте его на пол. Террористы подскользнутся и умрут. А сами закройтесь в шкафу и сидите тихо, пока я вас отсюда не заберу.
Я говорю им все это, несмотря на то что знаю, что забирать их из шкафа буду вовсе не я.
Мне страшно хочется сказать им, что в один прекрасный день я заберу их отсюда навсегда. Не только из этого шкафа и не только из этой квартиры, но и из этого поселка вообще. Мне хочется им сказать, что мы уедем в Ришон-ле-Цион, что в Ришон-ле-Ционе не будет ни «катюш», ни террористов, что там никто даже и не представляет, что у нас тут творится, и что, даже когда про нас сообщают по радио, они все равно не понимают, о чем речь…
Хаим и Ошри убегают, притаскивают стул и влезают на него. Им страшно хочется залезть в шкаф прямо сейчас. А я смотрю на них, и мне хочется плакать. Когда они радуются, мне почему-то всегда хочется плакать. И не только когда я смотрю на них. С чужими детьми у меня тоже так. Когда я вижу, как маленькие дети радуются, мне сразу хочется плакать.
Я снова направляюсь к выходу, но они меня не отпускают. Хотят, чтобы я все время был с ними. Я ведь для них папа. Я снимаю с руки часы, которые мне подарили на бар мицву, и говорю:
— Вот, возьмите. С помощью этих часов вы должны проверить, сколько времени у вас уйдет на то, чтобы добежать от кровати до шкафа.
Они поражены: не могут поверить, что я отдал им свои часы. Взвешивают их на ладони, прикладывают к уху, отнимают друг у друга. Но мне некогда, я должен спешить. Чего доброго, мама вернется. Хорошо еще, что Эти спит. Я должен идти к Джамилю. Прямо сейчас. Возьму у него свои деньги. Только это одно меня и спасет. Довольно я ждал. Больше ждать невозможно. Сколько человек может ждать? На что мне еще здесь надеяться? Заберу у Джамиля свои доллары, полечу в Норвегию и женюсь. Найду себе девушку с деньгами. Чтобы хватило на квартиру. Для этого даже норвежский учить не надо. Морди сказал, что девушки и так оценят мою красоту. Заработаю кучу денег; вернусь с женой в Израиль; прямо из аэропорта, с чемоданами, поеду в Ришон-ле-Цион, заплачу первый взнос и подпишу договор о покупке квартиры. Нет, я просто обязан это сделать. Мое терпение иссякло. Ни дня больше не могу оставаться в этой дыре.
Чтобы Хаим и Ошри не поссорились, когда будут замерять время, я объясняю им, кто из них побежит к шкафу первым, а кто будет стоять с часами, выхожу на лестничную площадку и начинаю спускаться по лестнице, держась одной рукой за перила, а другой опираясь о стену.
Я подхожу к дому, где живет Морди, и свищу. Морди высовывается из окна и кричит, что сейчас спустится. Я стою возле его микроавтобуса и жду.
Он выходит из дома, подходит ко мне, открывает для меня дверцу, обходит вокруг и садится за руль.
— Трогай, — говорю я. — Поехали отсюда.
Морди переключает скорость и жмет на педали. Он ничего не спрашивает: видит, что я не в себе.
Через две минуты мы выезжаем из поселка. Я показываю ему головой, чтобы он свернул налево, а через какое-то время делаю знак, чтобы повернул направо. Морди делает все, что я прошу, и продолжает молчать.
Еще через десять минут мы подъезжаем к деревне Джамиля и я прошу Морди остановиться. Он тормозит и кладет мне на плечо руку.
— Может, хоть объяснишь мне, в чем дело? — спрашивает он. — Почему мы здесь остановились?
Но я молчу и отвожу взгляд. Он убирает руку, и я выхожу из микроавтобуса. Морди не уезжает. Я делаю ему знак рукой, чтобы трогался, и иду по дороге, но он медленно едет за мной.
— Ты что, хочешь, чтобы я оставил тебя здесь одного? — говорит он мне из окна. — Среди арабов?
— Не волнуйся, — отвечаю я, — поезжай. Я иду к человеку, который работает у нас на заводе. А тебе сейчас лучше быть дома, с семьей. Тебя там Фанни с ребенком ждет. Боеготовность же объявили, забыл?
Я стараюсь говорить все это с бодрой улыбкой, чтобы Морди подумал, что все в порядке, и перестал за меня беспокоиться.
Наконец он понимает, что все его уговоры напрасны, и уезжает.
Я вхожу в деревню Джамиля. На улице мертвая тишина; вокруг — ни души. Куда же мне идти? Я ведь никогда тут не был. И зачем только я попросил Морди уехать? Решил, видите ли, что это мое личное дело и что я сам прекрасно справлюсь. Думал, что это пара пустяков. Вот дурак! Ну почему, почему, почему я не приехал сюда вместе с ним? Зачем я дал ему уехать? Рассказал бы ему про квартиру в Ришон-ле-Ционе, приехали бы, взяли бы деньги, и дело с концом.
Мне трудно распрямить спину, и я иду согнувшись в три погибели. Боль не отпускает и заставляет меня делать то, что она приказывает. Если я делаю то, что ей не нравится, она сразу же лупит молотком по шурупу, торчащему у меня в спине, и меня сразу как током пронзает. Поэтому я послушно делаю все, что велит шуруп. С ним не поспоришь.
Вдруг я замечаю, что все дома, мимо которых я иду, недостроенные. Все вокруг растет, меняется, строится. В одном доме начали возводить лестницу на крышу, но еще не сделали ступеньки; в другом — закончили обкладывать камнем одну из стен и начали обкладывать следующую; в нескольких местах поставили сваи и начали укладывать шлакоблоки. В одном только два ряда положили, а в другом уже три. Повсюду песок, щебень, доски, плитки. Ничего не понимаю. Почему тут только одни недостроенные дома?
Куда же мне идти? Направо? Налево? Да еще и темнеть, как назло, начинает. Куда ни посмотришь — все стремительно становится черным — дома, закрытые магазины, мусорные баки, белье, висящее на веревках, — как будто кто-то вдруг взял да и украл все другие цвета. Господи, только темноты мне для полного счастья сейчас и не хватает.
Мне страшно хочется лечь спиной на что-нибудь жесткое. Ничего, кроме этого, мне не помогает. У себя на складе я обычно запираю дверь и лежу на полу до тех пор, пока боль не проходит. Но здесь даже и лечь-то некуда; тут нет ни одного тротуара. Я сажусь на землю, начинаю снимать пиджак, чтобы не запачкался, и вдруг слышу детские голоса. Я встаю, вижу на другой стороне улицы стайку детей и направляюсь к ним, но, когда начинаю переходить дорогу, меня снова прихватывает и я скрючиваюсь, как дряхлая старуха.
Увидев, что я иду по направлению к ним, дети тоже идут мне навстречу. Их примерно семь или восемь. Когда они подходят ближе, я спрашиваю, где живет Хури.
— Какой Хури? — говорит один из них, знающий иврит. — У нас тот много Хури.
— Джамиль. Джамиль Хури.
— У нас тут много Джамилей Хури.
— Ну, такой, с голубыми глазами.
Мальчик смеется, переводит то, что я сказал, другим, и они тоже начинают смеяться.
— У всех наших Хури голубые глаза, — говорит он.
Только когда я поясняю, что Джамиль работает у нас на заводе бухгалтером, мальчик наконец-то понимает, о ком речь, и говорит, что они меня к нему проводят.
Сначала они идут очень быстро, почти бегут, но, когда видят, что мне трудно за ними поспевать, замедляют шаг. Они окружают меня со всех сторон и все время что-то лопочут. Мне очень хочется понять, о чем они говорят и над чем смеются, но, хотя некоторые слова мне знакомы, ни во что членораздельное они у меня в голове не складываются. Их арабский слишком сильно отличается от марокканского, на котором говорят наши старики.
Ну почему я позволил Морди уехать, почему? О чем я, идиот, думал? Почему не попросил его пойти со мной? Почему, почему, почему? Вся моя голова уже утыкана этими «почему», как гвоздями, и с каждым новым «почему» невидимый молоток словно загоняет мне в голову новый гвоздь. Ударит по нему раза два, чтобы тот вошел по самую шляпку, а потом переворачивается другой стороной и выдирает его назад своим гвоздодером. Ну не знаю я, почему так поступил, не знаю, не знаю!
Дети стоят у меня за спиной. Я говорю им «спасибо» и жду, пока они уйдут, но они не уходят. Господи, хоть бы этот треклятый день начался заново: пусть снова настанет утро, я опять приду на завод, еще раз пробью карточку… Как я посмотрю Джамилю в глаза, когда он откроет дверь и увидит меня в компании всех этих детишек? Ну зачем, зачем, зачем я сюда пришел?! Зачем нарушил свое честное слово?! Я ведь обещал, что никогда в этой деревне не появлюсь; поклялся, что про наш договор никто не узнает… Я помню, как он посмотрел на меня своими голубыми глазами и сказал:
— Одно из двух, Коби: или ты мне доверяешь, или нет. Третьего не дано.
Дети стучатся в дверь. Через какое-то время она открывается и на пороге появляется Амин. Он один из наших подрядчиков: организует подвозки для работников завода, живущих в деревнях.
— Абу Джамиль, — говорит ему один из мальчиков, — тут пришел какой-то еврей, спрашивает Джамиля.
Я вхожу, Амин пожимает мне руку и идет звать Джамиля. Так вон оно что. Амин — отец Джамиля! Вот это да. Мне это даже в голову никогда не приходило. Но если он — его отец, то, может быть, все обстоит совсем не так, как я думаю? Может быть, я до сих пор просто видел только одну сторону медали? Может быть, Амин тоже в курсе нашей сделки, да и вся семья Джамиля вообще? А может быть, они уже и все мои деньги давно потратили?
Я стою в прихожей и разглядываю коридор. Везде чисто, прибрано. Только почему-то из стены торчит раковина. С мылом и полотенцем. Не в ванной, а вот так вот прямо посреди коридора.
Наконец приходит Джамиль и ведет меня в одну из комнат. Входим. Комната маленькая. На полу сидит очень толстая женщина, занимающая собой полкомнаты. У нее голубые глаза и голубое платье. Оно огромное и лежит вокруг нее на полу, словно она сидит в бассейне с водой. Перед ней расстелена целлофановая пленка, а на ней — мертвый баран. Коротким ножом женщина отрезает от него куски мяса, режет его кубиками и бросает в глубокий поднос. Я понимаю, что это мать Джамиля.
Она достает из барана печень и спрашивает:
— Хочешь попробовать? Печень можно есть сырой. Это очень полезно. Будешь есть ее сырой — станешь сильным.
Она режет печень на кусочки и один из них кладет себе в рот. Прямо так, с кровью.
Джамиль стоит неподвижно и не сводит с матери глаз. Он выглядит точно так же, как на работе. На нем белая выглаженная рубашка, застегнутая на все пуговицы, и у него, как всегда, совершенно непроницаемое лицо. Он никогда не смеется и не плачет, и ты никогда не знаешь, что он чувствует. Я смотрю на него и на его мать и не могу понять, что между ними общего. Он — такой образованный, хорошо одетый, а она — сидит на полу в старом платье и босая.
Мы проходим мимо матери Джамиля и заходим в другую комнату, которая находится позади этой. Я сажусь на диван, а он — на стул.
— Я тебе ничего не дам, — говорит он, глядя в окно. — Побудешь тут у нас немного, поешь, попьешь, и мой брат отвезет тебя домой. А завтра утром проснешься и забудешь все, как дурной сон. Потерпи, Коби, потерпи. Ведь осталось уже совсем немного. Еще чуть-чуть — и ты сможешь пойти сделать первый взнос. Так долго копил — и все зря? Тебе самому-то не жалко?
Он переводит взгляд с окна на мое лицо, а я смотрю в его голубые глаза и не знаю, что ему сказать.
Все мои деньги лежат у него под замком, и я чувствую, что никакие мои просьбы и мольбы этот замок не отомкнут. Он ведь дал мне честное слово, а его слово — кремень. Нет, конечно, я мог бы на него сейчас наорать или даже вообще тут все разгромить, но он не дает мне для этого никакого повода. Вот если бы он сам на меня заорал, крикнул бы, например: «Как ты смел сюда прийти?» — или что-нибудь в этом роде, тогда бы мне было легче. Я бы устроил ему скандал, отнял у него свои деньги и ушел. На все про все ушло бы не больше пяти минут. Но он не кричит; он сидит молча, и я чувствую, что бессилен против его молчания.
Боль в спине не проходит. Диван старый и просевший, и мне трудно на нем сидеть. От боли я дергаюсь, и Джамиль думает, что я хочу встать. Он встает первым и направляется к выходу, но я крепко вцепляюсь в ручку дивана и продолжаю сидеть.
Неожиданно передо мной возникает лицо Морди.
— Ну что? — спрашивает он презрительно. — Так и будешь все время под его дудку плясать, да? Ты что, ему поверил, что ли? Он же тебя, как липку, обдерет. Ты что, ребенок малый, чтобы верить каждому встречному и поперечному? Да еще арабу! Уму непостижимо. Взял да и отдал свои деньги арабу. Нет, вы только на него посмотрите. Разве я тебе не говорил, что ни одному арабу верить нельзя? Не говорил?! Даже если араб в могиле сорок лет пролежал, ему все равно верить нельзя. Семь тысяч долларов на помойку выбросил! Семь тысяч долларов!
И тут я вижу маму, идущую по улице. Белая сумочка бьет ее по заду. Потом перед глазами у меня всплывает наш матрас с коричневыми пятнами, появившимися на нем по моей вине. Затем возникает Яфит. Она ехидно смотрит на меня и отдает ключи от квартиры-образца какому-то человеку. Увидев, как он берет у нее ключи, я прихожу в бешенство, издаю вопль, отрываю от ручки дивана державшийся на соплях деревянный шарик, вскакиваю, бросаюсь на Джамиля и бью его этим шариком по голове.
— Что ты делаешь? — кричит он, пытаясь уклониться от удара.
— Верни мне мои деньги! — ору я. — Где ты спрятал мои деньги?
Но тут силы меня покидают, и я опускаюсь на стул. Моя спина буквально разламывается от боли.
Я слышу звук хлопнувшей двери и открываю глаза. Я лежу на полу, в голове у меня шумит, но боли в спине нет. Шуруп в ней больше не торчит. Я вообще ее больше не чувствую. Как будто она улетела. Но зато у меня теперь сильно болит нога. Как будто боль из спины перетекла в нее. Видимо, падая, я ее подвернул.
Рубашка у меня расстегнута, живот торчит наружу, пиджак под мышками порвался. Я пытаюсь встать, но ноги меня не держат, и я снова опускаюсь на пол.
Дверь открывается. Я поворачиваю голову и вижу мать Джамиля. В руке у нее нож. Я закрываю глаза. Сейчас она вырежет у меня печень, съест ее и станет сильной.
Мать Джамиля уходит, и входит он сам. Как ни в чем не бывало, помогает мне встать, усаживает на стул и молча вкладывает мне в руки целлофановый пакет, в котором лежит коричневый конверт. Возле глаза у Джамиля небольшая ссадина от шарика, но его лицо по-прежнему ничего не выражает. Никогда не подумаешь, что это человек, которому ты только что чуть не выбил глаз. И как только он ухитряется сдерживаться? Не понимаю. Неужели кровь у него в жилах никогда не закипает? Смотрит на тебя своими голубыми глазами, словно ничего не произошло.
Я открываю пакет, достаю конверт и вижу, что на нем написано мое имя, а чуть ниже несколько столбцов цифр. В конверте лежат доллары. Я начинаю их пересчитывать, но, когда дохожу до тысячи, останавливаюсь. Нет никаких сомнений, что все мои семь тысяч здесь. Мне стыдно смотреть Джамилю в глаза. Я кладу доллары обратно в конверт, а конверт — в пакет. Пакет выскальзывает у меня из рук и падает на пол.
Я обхватываю голову руками и начинаю плакать. Я рыдаю взахлеб, как ребенок, и никак не могу остановиться. И откуда вдруг во мне столько воды? Она льется у меня из глаз сплошным потоком, и я ничего не вижу. Я хочу остановить этот непрекращающийся потоп и не могу. Ничего не остается, как ждать, пока он не прекратится сам.
В голову мне начинают лезть какие-то дурацкие мысли. Надо срочно заплатить за воду, думаю я, а то еще возьмут да отключат. Потом мне вдруг становится страшно. А что, если из меня течет не вода, а кровь? Что, если моя кровь обесцветилась, превратилась в воду и теперь вытекает у меня из глаз в виде слез? И я ничего не могу с этим поделать. Все, что я могу, — это сидеть на стуле и ждать, пока она вытечет из меня полностью.
Джамиль снимает у меня с ноги ботинок и носок, а затем уходит и вскоре возвращается со своим братом. Его зовут Зохир. Он работает в больнице медбратом. Сам Джамиль — худой и поджаристый, но брат — его прямая противоположность. Он может раздавить меня одним пальцем. Нога сильно болит; она вздулась и посинела, но я стараюсь терпеть боль молча: мне неловко перед Зохиром. Он начинает бинтовать мне ногу, и мне хочется, чтобы это длилось бесконечно. Пусть он бинтует меня, и бинтует, и бинтует… У него замечательные руки — пухлые и гладкие, как у младенца. Такое впечатление, что в нашем мире все перевернулось с ног на голову и теперь не взрослые ухаживают за детьми, а дети за взрослыми. Мне хочется целовать ему руки, хочется, чтобы он принес побольше бинтов и обмотал ими все мое тело снизу доверху.
В комнату входит мать Джамиля и Зохира. Она протягивает мне стакан чая и обезболивающую таблетку. Все трое начинают говорить между собой по-арабски, но теперь я уже не пытаюсь вслушиваться в их разговор и искать знакомые слова. Я больше не желаю ничего понимать. Пусть говорят только на своем языке. Мне все равно, куда делся конверт с деньгами; я даже видеть его сейчас не хочу. Я хочу совершенно другого. Я хочу, чтобы меня накормили, уложили спать и решили, что со мной делать. Хочу, чтобы положили меня в кровать, разбудили завтра утром и проводили на работу. Хочу, чтобы забирали у меня зарплату и хранили ее для меня. Хочу, чтобы нашли мне женщину, на которой я смогу жениться, и все время говорили мне, как жить и что делать.
Зохир надевает мне поверх бинта носок, и они с Джамилем ведут меня в другую комнату. Одна моя рука лежит на плече Джамиля, а вторая на плече его брата. В комнате стоит накрытый стол. Меня подводят к нему и сажают на стул. Начинают приходить другие люди. Откуда они все вдруг взялись? Где они были до сих пор? Каждый из них подходит ко мне и здоровается. Они не хотят, чтобы я вставал на больную ногу, и подходят сами. Я пожимаю руки отцу Джамиля и его братьям. После этого все рассаживаются, и мы начинаем ужинать. Минуты через две раздается сильный взрыв.
Черт! Как же я мог забыть, что объявили боеготовность?
Я вскакиваю и кричу:
— Надо бежать в бомбоубежище!
— Какое еще бомбоубежище, — говорит Джамиль. — У нас здесь не так, как у вас. Бомбоубежищ нету. Садись-садись, не волнуйся, ешь. В этой комнате стены толщиной почти метр. Это самая лучшая комната в доме.
Я сажусь, и мы продолжаем есть, как будто ничего не случилось. Мясо, рис, салаты… Внезапно раздается новый взрыв. Никогда не думал, что у них тоже падают «катюши». Сам не знаю почему. Честно говоря, у меня это как-то в голове не укладывается, что в арабской деревне тоже могут падать «катюши». Однако и после второго взрыва никто никуда не бежит. Все как ни в чем не бывало продолжают спокойно есть.
Через несколько минут приходит худой низкорослый человек и начинает что-то быстро говорить.
— Это брат отца, — объясняет мне Джамиль. — Он директор школы. Он говорит, что у вас в поселке упали две «катюши» — причем вторая явно в самом центре — и что после этого сразу погасло электричество. Он смотрел с крыши своего дома. Там ездят пожарные машины и кареты «скорой помощи».
Директора школы сажают за стол и дают ему тарелку.
— Я, — говорит он на иврите, — этой «катюше» кричу: «Лети сюда! Упади к нам в школу!» А она не хочет.
Директор весело смеется, и все остальные за столом тоже, но, увидев, что я смотрю на него с недоумением, он поясняет:
— В школе сейчас никого нету. За эту «катюшу» мы получим от правительства компенсацию — миллион лир, не меньше. А на две «катюши» я смогу даже новый спортзал построить. К нам тогда со всех деревень приезжать будут.
Любой нормальный человек на моем месте сейчас, наверное, испугался бы за судьбу своих близких. Ведь наш дом стоит всего в пятидесяти метрах от центра поселка. По идее я должен был бы сейчас все бросить и бежать туда сломя голову, чтобы узнать, не случилось ли с ними чего. Я смотрю на Джамиля. Он явно не понимает, что он мне сказал. Он ведь не знает, где находится наш дом. Не знает и не узнает. Я не собираюсь ему ничего рассказывать. И я не хочу думать о том, что случилось с моими близкими; не хочу знать, кто из них жив, кто мертв; не хочу заниматься их денежными делами; не хочу думать за них, где они будут жить и что они будут делать. Я просто сижу себе и ем барашка, которого разделывала мать Джамиля. Как будто я один из жителей этой деревни, который ест барашка каждый день. Я окунаю питу в маленькую плошку с соусом и стараюсь не думать ни о каких бомбоубежищах.
Зохир протягивает мне еще одну питу и говорит:
— Ешь, ешь, не стесняйся.
Я снова окунаю питу в плошку. Так же, как и все остальные. Я начинаю ощущать вкус еды и чувствую, что зверски голоден. Мне тут нравится. Я сижу и ем вместе со всеми, как равный.
Вдруг я замечаю, что на меня смотрит младший брат Джамиля. Смотрит и беззвучно смеется, чтобы никто из взрослых его смеха не услышал. Только я вижу этот его смех, и только я знаю, что он играет под столом с мячиком. Отец просит его подойти. Видя, что я продолжаю на него смотреть, мальчик толкает мячик, и тот подкатывается к моим ногам. Хочет, чтобы я его посторожил. Он подходит к отцу, и тот кладет ему на тарелку большой кусок мяса. Когда он снова садится за стол, я откатываю мячик здоровой ногой обратно в его сторону. Судя по всему, он тут самый младший. Все о нем заботятся, он все время в центре внимания. Мы едим, не глядя друг на друга, но наши ноги под столом катают мячик. Я поднимаю голову от тарелки, вижу, что глаза и губы у него опять смеются, и мне тоже вдруг становится весело. Теперь я тоже беззвучно смеюсь, и этого никто, кроме мальчика, не видит. Он опять откатывает мне мячик, однако на этот раз я его не возвращаю: прижимаю ногой к полу, закатываю под стул и продолжаю есть. Но когда я вижу, что мальчик нетерпеливо ерзает на стуле и все время поглядывает в мою сторону, я снова отфутболиваю мячик ему. Мальчика зовет его дядя; он встает и идет к нему. Мячик опять у меня под стулом.
— Сколько мальчику лет? — спрашиваю я Джамиля.
— Какому мальчику? — не понимает он.
Только когда мальчик снова садится, до него наконец доходит:
— A-а… Ты имеешь в виду Амира? Он у нас тут самый младший. В этом месяце ему исполняется тринадцать.
Эти Дадон
Когда упали «катюши», я обо всем забыла. Сначала взорвалась первая «катюша», совершенно ужасная, после чего сразу погасло электричество, а потом еще одна, ужаснее и громче первой в миллион раз — и я все забыла. Все остальные, кто там был, тоже забыли. Взрослые и старики, дети и младенцы — мы все всё забыли. И заорали.
Но после нашего крика, который заполнил собой кромешную тьму лестничной клетки, превратившую нас в многоногое, многорукое, многоротое дрожащее от страха существо, память вернулась. И вдруг дети начали звать родителей, а родители — детей, и кто-то крикнул:
— Почему закрыто бомбоубежище?
И чудище всеми своими многочисленными ртами спросило-обвинило-взмолилось:
— Почему закрыто бомбоубежище?
Тут один из голосов завопил:
— Где ключ? Надо принести ключ!
И чудище ответило эхом:
— Ключ!
Потом чьи-то руки встретились и спросили друг друга:
— Это ты, Элико? Это ты?
— Где Мейталь? Я не вижу Мейталь.
— Мама, — пискнул откуда-то голос, — я здесь!
И сразу после этого чудище зашевелилось и стало распределяться по семьям. Его члены начали отрываться от туловища и с мольбой выкрикивать имена отсутствующих детей, и эхо этих имен носилось в темном подъезде шестиэтажного дома, как безумный, потерявший управление лифт, который то поднимался вверх, то опускался вниз и бодал чудище в голову.
Потом чудище возопило снова:
— Где ключ? Пусть кто-нибудь уже принесет ключ! Ведь, того и гляди, еще одна «катюша» упадет!
И когда этот вопль перерос в вой, одна из голов чудища отделилась от него и отправилась вверх по лестнице на поиски ключа.
Затем чудище распухло еще сильнее, и его члены, включая новоприбывшие, стали рыдать, жаловаться и обвинять: «Почему ты остался дома? Ты что, не слышал, что падают „катюши“?» — «Я чуть не умерла, пока тебя нашла!» — «Не кричи на него так. Ты что, не видишь, какой он бледный?» — «Откуда ты знаешь, что он бледный? В этой темноте ничего не видно». — «Дайте ему пройти!» — «Дайте пройти!» — «У него есть ключ! Дайте ему пройти! У него есть ключ!» Но вместо того, чтобы расступиться, чудище сгрудилось еще больше и притиснулось ко входу в бомбоубежище. В конце концов, чей-то спокойный и уверенный голос все-таки сумел размягчить тело чудища и пролезть сквозь него.
И бомбоубежище наконец-то открылось.
Стены в бомбоубежище были голые, а свет фонарей и свечей резко контрастировал со светом того прекрасного солнечного дня, который больше походил на праздник или на субботу, чем на обычный будничный день. Свет в бомбоубежище был слабым и желтоватым, как выцветшие лохмотья, и казался Золушкой, какой она была до появления феи.
Маленькие дети жались к родителям, но смотрели на них так, словно не верили, что это и в самом деле их мамы и папы — как будто обнимавшие их руки казались им незнакомыми, — а мы все чувствовали себя так, словно находились в чреве кита.
Я дрожала, мне не хватало воздуха, а живот был точно мешок, наполненный острыми камнями, которые били меня изнутри и тянули к земле. Я села на пол, оперлась холодным и тяжелым, как железо, лбом на руку, и стала растирать заледеневшие щеки.
Я видела, как люди вокруг меня что-то говорили и как их губы шевелились, но ничего не слышала. Марсель что-то сказала, передала мне на руки своего сына Ашера, а затем протянула бутылочку и бумажную пеленку. Личико у него было красное, глазки — опухшие, и держать его было трудно, потому что он сильно брыкался, но как только я поднесла к его маленькому разинутому ротику бутылочку, он сразу же перестал сопротивляться, прижался ко мне, закрыл глазки и стал жадно сосать.
Шум у меня в голове начал постепенно стихать. «Держи бутылочку повыше, — сказала Марсель, коснувшись моей головы рукой, — а то он так воздуха наглотается. Что я могу поделать? Когда Иегуда нужен, его никогда рядом нету». Ашер продолжал мирно сосать. «Ладно, — сказала она, — пойду пока посижу с Моран. А ты давай мне тут, хватит уже, успокаивайся. Дрожишь вон прямо вся». Камни у меня в животе размягчились и округлились, как речная галька.
Так и не допив молоко в бутылочке до конца, Ашер уснул и только время от времени продолжал причмокивать губами. Пока он сосал, я чувствовала, как мне давит лифчик. Я не знала, надо ли вынимать бутылочку у него изо рта, но не решалась обернуться и спросить у Марсель: боялась, что он проснется. Кроме того, мне вообще не хотелось поднимать голову и видеть сидевших вокруг людей. Мне было хорошо и так. Мне хотелось смотреть только на Ашера, как будто в бомбоубежище никого, кроме нас, не было.
Но, увы, мы были там не одни. За спиной у меня надрывалась Моран. Она боялась, что через круглые вентиляционные отверстия в стене могут залететь «катюши». «Да не бойся же ты, глупенькая, — пыталась успокоить ее Марсель. — Это ведь не окна. Это для того, чтобы сюда заходил воздух. Трубы такие для воздуха, понимаешь? „Катюши“ через них влететь не могут. Давай ты не будешь на них смотреть, ладно? Отвернись, отвернись, не смотри. Лучше вон посмотри на Элико. Видишь, какой он молодец? Видишь, как тихо сидит?»
Однако Моран не унималась. Запах страха, исходивший от чудища, члены которого растеклись по всему бомбоубежищу, действовал на нее так же угнетающе, как и на всех остальных.
Ашер вспотел, его волосы намокли и прилипли к голове, и я вдруг увидела, что по ним ползет большая вошь. Я никогда не видела вшей так близко и впервые смогла подробно разглядеть все части ее тела: голову, лапки, коричневую спинку. Вши всегда вызывали у меня омерзение и, как назло, именно сейчас, когда моя затекшая рука лежала под головой Ашера, одна из них ко мне и приползла. Она гуляла по его волосам, как Красная Шапочка по лесу, и было такое ощущение, что из-за кустов сейчас выскочит серый волк. Мне вдруг ужасно захотелось почесать голову — мне вообще всегда хочется чесаться, когда кто-нибудь возле меня чешется или упоминает вшей, — но для того, чтобы почесаться, у меня не было свободной руки.
Моран громко взвыла и побежала к выходу.
— Шлепни-ка ты ее хорошенько, — предложил кто-то, обращаясь к Марсель. — А то она у тебя так никогда не уймется.
Потом послышались крики из другого конца бомбоубежища: там скандалили из-за матрасов и одеял. Потом какие-то люди стали ссориться из-за места. Потом стали откреплять прикрепленные цепями к стене двухэтажные железные кровати и укладываться на них. Некоторые размягчали концы свечей и прилепляли их к кроватям. Я смотрела на лица людей, белевшие в полутьме, и мне казалось, что я вижу фотографию, которую нам показывали в классе в день Катастрофы. Я пыталась это видение прогнать, говорила себе, что все сравнения хромают, что это совсем не одно и то же, но видение отказывалось уходить. Перед глазами мелькали ряды двухэтажных кроватей, на которых лежали скелеты в полосатых костюмах, тележки, нагруженные белыми трупами, забор из колючей проволоки, из-под которого тянулась худая дрожащая рука в надежде, что кто-нибудь положит в нее корку хлеба; и мне казалось, что эта рука — моя.
Тут снова послышались крики. Несколько человек стали ругать Шмуэля Коэна за то, что он унес ключ от бомбоубежища.
— Нет, ну ты представляешь? — возмущенно сказала Марсель, повернувшись ко мне. — Запер после обеда бомбоубежище, взял ключ и пошел домой спать! Так бы, наверное, до утра и проспал, если бы его «катюши» не разбудили. Иегуда пошел искать ключ, приходит, а в квартире темно, никого нет: Циона с детьми уехала к сестре в Беэр-Шеву, а Шмуэль сидит на кровати с ключом, зажатым в руке, и дрожит. И на что он только надеялся, не понимаю. Думал, что этот ключ спасет его, что ли?
— Да я же из-за детишек бомбоубежище запер, — оправдывался Шмуэль, опустив голову и глядя в пол, — из-за детишек. Они тут черт знает что устроили. Ваши, между прочим, детишки, не мои.
Сказав это, он поднял глаза и посмотрел на стоявших вокруг.
— Мы из-за тебя чуть не погибли! — крикнул чей-то голос. — Чуть не погибли!
— Вообще-то, — сказал еще один голос, — мы и сами кое в чем виноваты. Уже давно надо было сходить в горсовет и потребовать, чтобы здесь починили канализацию.
— И порядок мы могли бы навести, — поддержал его третий голос. — Одеял каких-нибудь притащить, женских журналов…
— Ну ладно, — сказал кто-то, — хватит уже на Иегуду наезжать. Дети тут действительно могли все растащить и поломать. Тут ведь сторожа нету, охранять некому.
После этого народ стал понемногу успокаиваться и устраиваться на ночлег. Люди ложились на матрасы и поворачивались друг к другу спинами, как будто отделяли себя от соседей воображаемыми перегородками. Я прислонилась к стене и смотрела, как они укладывают спать своих детей. На одном из матрасов положили «валетиком» сразу четверых, головой к ногам. «Ложись-ложись, моя сладкая, — говорила своей дочери одна из женщин. — Как только ты уснешь, у тебя сразу чесаться перестанет». Постепенно дети начали засыпать, как будто сон открыл дверь в свое жилище и стал впускать их к себе одного за другим, — и, когда он впустил последнего из них, наступила ночь.
Еще не было даже восьми; наверху все еще вечер, а у нас в бомбоубежище уже наступила ночь. Она свалилась на нас так же внезапно, как внезапно начинается дождь, когда небо совершенно чистое и на нем есть только одно-единственное облачко. Как будто время в бомбоубежище отделилось от времени снаружи, забыв о часах и минутах, побежало быстрее, и теперь остается только ждать, пока оно остановится передохнуть, чтобы обычное время смогло его догнать. И только когда оно его догонит, про нас сообщат в новостях. Возможно, даже первой строкой.
Я все видела, слышала и ощущала запахи, но оставалась как в тумане, и у меня было такое чувство, будто это не я, а какое-то странное существо. Это существо состояло из грудного ребенка и бутылочки, которую держала рука какой-то девочки, и хотя я знала, что у этой девочки были мама и братья, в бомбоубежище никого из них не было. А не было их там потому, что в темноте я по ошибке забежала в дом номер 122. Так маленькая девочка принимает в толпе другого человека за папу и дергает его за рукав. Мои ноги до сих пор помнят, как они бежали в темноте, когда упала первая «катюша».
И тогда пришел Иегуда, муж Марсель, который работает в отделе техобслуживания горсовета. Это он открыл нам бомбоубежище, а потом куда-то исчез. Увидев его, все стали вставать — сначала мужчины, потом женщины. Я видела его через узкий просвет между стоявшими передо мной людьми, и его открывающийся и закрывающийся рот выглядел как красная пещера, затерявшаяся в густых зарослях бороды и усов.
— Амселем-старший ранен, — сказала рот Иегуды. — Его отвезли в больницу. Пока еще неизвестно, что с ним. Ну, Амселем-старший, помните? У его жены в прошлом году еще выкидыш на шестом месяце был.
Я сразу поняла, о ком идет речь: жена Амселема раньше работала с мамой в яслях — но до некоторых дошло не сразу. Возможно, они даже и знали его в лицо, но с его именем в их сознании это лицо не связывалось. Те, кто поняли, о ком говорил Иегуда, взялись провести всех остальных по извилистым тропинкам памяти, чтобы помочь им соединить имя Амселема с его лицом.
— Ну как же вы его не помните? Амселем-старший. Ицик Амселем.
— Это который из магазина хозтоваров, что ли?
— Да нет же, не этот, не из магазина.
— Ну тогда это, наверное, Меир из «Амидара». У которого жену Сюзи зовут.
— Это какая-такая Сюзи? Кто ее отец?
— Дочка Элиягу Амара, что ли?
— Точно.
— Ну так бы сразу и сказал, что это дочка Элиягу.
— Я так и сказал. У нее еще есть сестра Мазаль. Ну эта, которая прихрамывает.
— A-а, так, значит, это ее муж. Вон оно что.
— Кто? Сын Хасивы?
— Какой сын Хасивы? Который чуть в лотерею миллион не выиграл?
— Нет, не этот. Это его старший брат, Ицик. Он работает в авиационной промышленности.
Было такое впечатление, что люди стоят над картой и пытаются найти на ней дорогу, ведущую к Амселему, и каждый раз, как выяснялось, что она ведет в тупик, поиски начинались заново. По бомбоубежищу носились десятки имен и версий. Со всех сторон только и было слышно:
— A-а, это тот, который встречался с Симхой из дома, где живет сумасшедшая?
— Нет-нет, это тот, у которого дочка невестки гуляла с арабом. Между прочим, очень образованный мужик. Только что вернулся из Румынии. Выучился там на зубного врача.
— Да нет же. Это тот, у которого брат на новом грузовике «вольво» работает, с десятью передачами.
— Слушай, а это, часом, не тот, у которого ребенок как раз накануне Мимуны[41] родился? Он его в роддоме оставил. Ты что, не слышала? Ужас!
Бомбоубежище гудело, как улей. Напряженные, озадаченные, помятые лица выглядели в тесном пространстве, как мандарины, чья тонкая кожура вот-вот лопнет под напором сока, который только и ждет, чтобы брызнуть наружу, и я знала, что мое лицо выглядит точно так же.
Через какое-то время споры затихли и люди снова занялись своими делами. Одни предлагали соседям бутылки с водой и чистые пеленки, другие — туалетную бумагу и пакеты для мусора, третьи — таблетки от головной боли и одеяла, а кто-то даже решил поделиться своим матрасом: «Бери, бери, не стесняйся, нам и двух матрасов хватит. Пусть детишки поспят вместе. Так даже лучше: быстрее согреются». Вскоре возник еще один спор — о том, какой из ракетных обстрелов был сильнее. «По-моему, самый ужасный из всех был этот», — решительно заявил кто-то, но немедленно встретил отпор: «Ничего подобного. Ты что, забыл, какой жуткий обстрел был в прошлом году на Лаг ба-омер?»— «Ты имеешь в виду „катюши“, которые упали в промзоне? — защищался первый голос. — Которые еще так страшно выли? И на которые все бегали поглазеть? Чепуха. Даже и сравнивать нечего». У того и другого немедленно появились сторонники, как будто все убежище разделилось на две спортивных команды: «Он прав!» — «Прав? Какое там прав!» — «Прав, прав. Действительно, нечего сравнивать». У меня было ощущение, будто они играют в карты и каждый пытается выдернуть из колоды более сильную карту. Слушая их, я невольно начала предаваться воспоминаниям. Стала думать о том, сколько мне было лет, когда террористы пришли впервые, что произошло, когда они пришли во второй раз, где я была и что делала во время всех последующих бесконечных обстрелов, боеготовностей и проникновений террористов на нашу территорию, а потом я огляделась вокруг и подумала, что у каждого из нас появилась новая карта, которой мы сможем сыграть в будущем.
— Я принес вам тут несколько фонарей, — сказал Иегуда, — но если кто-то предпочитает пользоваться свечами, попрошу быть с ними поосторожнее. Не дай Бог, еще что-нибудь загорится.
— А как там снаружи? — спросил кто-то. — Много разрушений?
— Да, и про Амселема расскажи, — послышался еще один голос. — Как он там?
Однако перед тем, как отвечать на вопросы, Иегуда решил нас сначала немного успокоить:
— Прежде всего я хочу сказать, что утром из горсовета привезут и будут раздавать хлеб. Это первое. Второе. К нам сюда лично едет начальник генштаба. И третье. Электрическая компания делает все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить освещение. Одним словом, осталось потерпеть совсем немножко и все будет хорошо. Часа через три-четыре уже должны все починить.
По лицам людей я видела, что они готовы поверить абсолютно всему, что скажет Иегуда. «Ты можешь даже приврать, — словно говорили их глаза. — Ври, ври, если хочешь, ничего страшного. Мы все равно тебе поверим, как мы верим тому, кто рассказывает сон».
«Да, да, да, — говорила я ему мысленно вместе со всеми, — сейчас, когда мы уже знаем, что не умерли; сейчас, когда мы сидим тут, свободные от всех своих ссор и забот, долгов, профессиональных обязанностей и домашних заданий; сейчас, когда у нас куча свободного времени, когда время больше никуда не бежит, а сидит тут вместе с нами на матрасе; сейчас, когда мы можем наконец забыть обо всем и представить, что мы исполнители главных ролей в фильме о жизни и смерти; сейчас, Иегуда, мы готовы слушать тебя бесконечно, не прерывая и не вступая с тобой в пререкания, и готовы поверить буквально каждому твоему слову».
Иегуда прокашлялся, погладил бороду, и его красная пещера снова раскрылась. В бомбоубежище воцарилась мертвая тишина. Наверное, такая тишина была перед тем, как Моисей приказал морю расступиться. Может быть, подумала я, Иегуда кашляет потому, что не уверен, стоит ли напоминать нам о том, где мы были и что делали, когда упала вторая «катюша», и что в это время делал он сам? Он же понимает, что слышать это нам будет неприятно, и не хочет, чтобы мы чувствовали себя рядом с ним трусами. Интересно, а когда он пойдет в другие бомбоубежища, он расскажет там о том, что происходило здесь у нас, или нет? О том, как мы стояли возле закрытой двери бомбоубежища и орали, и о том, что он единственный повел себя, как мужчина, и пошел искать ключ? Впрочем, решила я, в конце концов это не имеет никакого значения. Все равно ведь завтра весь поселок будет знать об этой истории, и, когда жена и дочь Коэна вернутся из Беэр-Шевы, им будет стыдно выходить на улицу. А если кто-то из Коэнов из дома все-таки выйдет, люди будут бросать на них косые взгляды и перешептываться. «Смотри, кто идет. Эта та самая, чей муж во время ракетного обстрела взял ключ от бомбоубежища и пошел спать». — «Ой, да никак это дочка Коэна из дома номер 122. Ну этого, который у них бомбоубежище запер». — «Вы только поглядите на него. Из-за него люди чуть не погибли, а ему хоть бы хны».
В конце концов Иегуда, по-видимому, решил, что упоминать об этом здесь не стоит. Вместо этого он вывел нас из бомбоубежища и повел в центр поселка, и мы отправились туда вслед за ним, как будто тоже не боялись ходить по улицам в такую ночь.
— От взрывной волны, — сказал он, — окна супермаркета лопнули, и вся улица засыпана битым стеклом. А вторая ракета разорвалась всего в ста метрах отсюда, может, даже в восьмидесяти. Да-да, не больше восьмидесяти. Во всяком случае, ближе, чем от всех других домов.
Чудищу, которое слушало Иегуду, это явно понравилось. Сейчас, когда оно находилось в безопасности, ему было приятно узнать, что смерть была от него так близко, но каким-то чудом прошла стороной.
— Восстановить центр поселка, — продолжал Иегуда, — будет непросто. Это займет несколько месяцев. Даже в телефонную будку — и в ту осколки попали. Сейчас повсюду полно военных, но утром в супермаркете поставят сторожа, чтобы там ничего не разворовали, и как только станет поспокойнее, сразу начнут ремонтировать. Между прочим, нам страшно повезло, что из-за боеготовности супермаркет был закрыт. Представьте, что бы случилось, если бы вторая «катюша» упала в обычный день — например, вечером в четверг, когда супермаркет битком набит людьми. — Он немного помолчал, давая нам возможность получше представить, что бы тогда было, и сказал: — Хоть убейте, не понимаю, как председатель горсовета всегда ухитряется приезжать на место происшествия первым. Как только что-нибудь случается — не важно где, — он как будто из-под земли вырастает, — и по его голосу было невозможно понять, то ли он восхищается председателем горсовета, то ли его, наоборот, сильно огорчает, что ему никогда не удается за председателем угнаться.
После председателя Иегуда переключился на Амселема-старшего, причем о ком идет речь, сейчас уже никому в бомбоубежище объяснять было не нужно. Оказалось, что Амселема ранило осколками первой «катюши», которая упала на тротуар в районе Мешек-Эзер.
— Переходи он дорогу на полминуты раньше, — сказал Иегуда, — наверняка бы погиб. А так в него попали только осколки. Так что ему еще повезло. — Однако слушавшее его многорукое, многоногое и многоухое существо этим рассказом было явно не удовлетворено и выглядело разочарованным. Чтобы оно поверило, что Амселем и в самом деле был на волосок от гибели, Иегуда, кашлянув, добавил: — Да какое там полминуты! Даже четверти минуты у него не было. Перейди он дорогу всего на десять секунд раньше — и «катюша» угодила бы прямо в него.
На этот раз чудище благодарно загудело, и Иегуда перешел к подробностям.
— Люди хотели ему помочь, но ничего не могли сделать, потому что было темно. Тогда я сел в машину, развернулся, заехал двумя колесами на тротуар и осветил его фарами.
Поскольку чудище уже знало, кто такой Амселем-старший, и знало, что плечи и шея у него такие широкие, как будто носят на себе не маленькую голову, а весь земной шар, а также знало, как выглядит пикап отдела техобслуживания и как Иегуда умеет ездить на нем с полуоткрытой дверью и спрыгивать с него, как с лошади, которая сама умеет остановиться в нужную минуту, — поскольку чудище все это уже знало, оно представило себе эту картину очень наглядно.
— По правде говоря, зрелище открылось ужасное, — сказал Иегуда. — Крови было так много, что мы даже не поняли, куда его ранило. Кровь была буквально везде — на лице, на руках, на ногах. Хотя, может быть, это просто от того, что он себя трогал и она размазалась. Однако сознания он не потерял. Только получил шок. Мы пытались с ним говорить, но он не отвечал. Наконец минут через двадцать пять приехала «скорая» и его увезли. С ним поехал Ави Свисса, муж его сестры Эсти. Но его жене еще ничего не сказали. Она в положении, и боятся, что у нее снова будет выкидыш, как в прошлый раз. Скажут ей только тогда, когда выяснится, что с ним.
В полутьме бомбоубежища мы как будто слышали звук удаляющейся сирены «скорой помощи» и видели, как фонари пикапа освещают образовавшуюся от падения «катюши» воронку, валяющиеся вокруг куски металла, согнувшийся столб, из-за которого во всем поселке прекратилась подача электричества, лежавшее рядом со столбом расщепленное надвое дерево и двух убитых взрывом кур, принадлежавших Зиве и Шими.
— Я видел их собственными глазами, — сказал Иегуда, почему-то положив руку на сердце и закрыв глаза, ставшие свидетелями этого ужасного зрелища. — Своими собственными глазами, — повторил он, — я видел, как они лежали там убитые.
Он закончил свою речь именно этим словом — словно он был портнихой, которая примеряла на женщине новое платье, но в самый последний момент взяла да и оторвала у платья воротник, — и как только это слово прозвучало в гулком пространстве бомбоубежища, людей как будто прорвало.
— На этот раз мы молчать не будем! — крикнул кто-то.
— Да-да, на этот раз мы им покажем, кто мы такие! — поддержал его еще один голос.
— Это им так не пройдет! — пригрозил третий.
Они грозили и призывали к мести, как будто пытались этими угрозами и призывами заглушить свой стыд. Потому что им было ужасно стыдно за то, как они вели себя, когда упали «катюши», — орали, тряслись от страха, толкались у входа в бомбоубежище, пытались протиснуться в него первыми. И в не меньшей степени им был стыдно за то, что они превратились в коллективное многоголовое чудище.
Иегуда подошел ко мне, наклонился и взял у меня спящего Ашера, и я наконец-то снова увидела свои руки. Они были мокрые, красные и болели. «Не переживай, — сказал он перед тем, как уйти, — скоро я пойду в ваше бомбоубежище и скажу твоим, что с тобой все в порядке». Две моих руки, которые так часто держали Ошри и Хаима — одного справа, а другого слева, — были пусты.
Я старалась, старалась изо всех сил, но так и не могла ничего вспомнить. Я все еще находилась внутри чудища и продолжала дышать вместе со всеми, думать вместе со всеми и вести себя, как все.
Первое, что я почувствовала, — что мне надо в туалет. Я взяла поминальную свечу и пошла. Пол, как всегда, был залит водой. Я шла на цыпочках, но все равно промочила ноги. При свете свечи унитаз выглядел ужасно и садиться на него не хотелось. Я закрыла железную дверь на засов, расставила ноги пошире, выгнулась вперед, как будто исполняю танец живота, и помочилась стоя. Я научилась делать это в школе, где унитаз тоже всегда грязный.
Я оставила свечу на полу и вышла. Перед дверью уже выстроилась очередь. Возле лужи стояли три человека и смотрели в пол. Я тоже опустила голову: туалет — неподходящее место для встреч. Когда я вернулась, у меня было такое ощущение, что я отсутствовала несколько часов, и поначалу мне показалось, что все уже спят, но потом я заметила, что некоторые еще шевелились. Одна из женщин растирала своему ребенку руку, которая свалилась с матраса и затекла, другая приводила в порядок прическу, третья подтянула колени к животу и обняла их, четвертая потрогала рукой сломавшийся каблук. С другого конца бомбоубежища мне помахала Марсель, и я направилась к ней. Моран и Ашер спали поперек матраса, и на нем оставалось место для меня. Я села, прислонилась спиной к стене и закрыла глаза. Мне не хотелось ни с кем разговаривать, и я надеялась, что все подумают, будто я сплю. И тут вдруг я разом вспомнила все. Вспомнила, что завтра шестая годовщина со дня смерти папы и что мы планировали пойти на кладбище, но теперь, из-за «катюш», наверное, не пойдем. Вспомнила про Дуди, Ицика и их птицу. Вспомнила про маму и про Коби. Вспомнила про неизвестно куда исчезнувших Ошри и Хаима. И наконец, вспомнила про ложь, которая поселилась в нашей семье и стала, по сути, одним из ее членов, как будто она была еще одним ребенком, родившимся после близнецов. Ложь, которая полностью изменила всю нашу жизнь.
В бомбоубежище было тихо. Почти все спали или делали вид, что спали. Мужья и жены лежали, не касаясь друг друга: их разделяли лежавшие между ними дети. Там и сям слышались покашливания, и было такое впечатление, словно по бомбоубежищу носится веселая пылинка, которая перелетает из одного горла в другое и радуется, что ей удалось заставить так много людей закашляться. Марсель спала рядом со своими детьми и во сне сама выглядела, как маленькая девочка, которая уснула, когда плакала. На одном из ее пальцев была надета соска Ашера, на другом — резинка, которая скрепляла волосы Моран, а на третьем — обручальное кольцо, и казалось, что у нее на руке сразу три обручальных кольца, как если бы она вышла замуж не только за Иегуду, но и за своих детей и как если бы в этой руке она держала всю свою семью.
Прежде всего, думала я, надо найти Ошри и Хаима.
Вчера я, как обычно, забрала их из детского сада и повела домой, и как только Ошри ухватился за мою правую руку, а Хаим за левую, их мягкие ладошки сразу заставили меня обо всем забыть. И о том, что утром у меня было плохое настроение. И о том, как бесконечно тянулись уроки в школе. И о своем страхе, что учительница меня вызовет и догадается, как мне трудно читать. И о том, как я мечтала, чтобы мне разрешили на уроках только слушать и ничего не говорить. И о том, как мне страшно не хотелось, чтобы на перемене кто-нибудь ко мне подошел, дотронулся и предложил дружить. И о том, что каждый раз, как ко мне кто-то приближался, моя рука сразу лезла в рюкзак и нащупывала там транзистор — потому что, кроме него, мне больше никто не нужен. Обо всем этом я моментально позабыла, как только почувствовала в своих руках маленькие ручки близнецов и как только они стали просить меня поиграть с ними в «Угадайку». В «Угадайке» я обычно должна отличить их одного от другого, не видя.
Сначала я должна была различить их на ощупь. Шесть лет назад мама отдала мне свой цветной головной платок, потому что, став вдовой, она больше не могла его носить, и с тех пор он всегда лежит на дне моего рюкзака. В этом рюкзаке все постоянно меняется. Тетрадки, книжки, листы бумаги, контрольные, карандаши, ластики, бинты, вата — все это приходит и уходит, и только две вещи находятся там постоянно — мамин платок и транзистор. И вот я повязала этот платок на глаза, а они стали давать мне потрогать какую-то из частей своего тела — руку, ногу, ухо или волосы, — и я должна была угадать, кто это. В этой игре я не ошиблась ни разу, и они никак не могли понять, как это мне удается. Ведь они прекрасно знают, что у нас в поселке их и без платка-то на глазах все путают, а воспитательница в детском саду даже прикрепляет каждому из них булавкой на рубашку бумажку с именем.
Потом я должна была угадывать при помощи «свечи». Я закрыла глаза, сжала руку в кулак и оттопырила вверх большой палец, как будто это свеча, а Хаим и Ошри стали по очереди на «свечу» дуть, чтобы ее «загасить», и по их дыханию я должна была догадаться, кто из них дует. На этот раз я ошиблась три раза подряд и угадала только на четвертый. Теперь я знаю, что, когда мой палец словно покалывают приносимые ветром издалека крошечные, почти неощутимые, как воздух, капельки дождя, — это дыхание Ошри.
И наконец, я должна была их различить, когда они сидят у меня на спине. Один из них залезал на забор, прыгал мне на спину, обнимал меня за шею, а я должна была покрутить его в воздухе, опустить на землю и, не открывая глаз, сказать, кто он. По весу я отличить их не могу, потому что они весят абсолютно одинаково — буквально грамм в грамм, — и когда мама ходит с ними в поликлинику на обследование, медсестра всегда этому страшно удивляется. Однажды она даже спросила:
— Вы уверены, что не дали мне взвесить одного и того же ребенка дважды?
Но, в отличие от Ошри, Хаим, когда я его кручу, очень пугается и начинает меня душить, и я сразу догадываюсь, что это он.
Я сидела в бомбоубежище, а ложь сидела напротив меня. Мы сидели лицом к лицу и смотрели друг на друга. Эту ложь никто не придумывал, она родилась сама по себе, без чьей-либо помощи. Ей не нужно было даже прятаться. Она пришла к нам домой и заявила: «Я ложь. Вызывали?» И как будто сама испугалась своих слов. Разволновалась, смутилась и чуть не скатилась вниз по лестнице. Мы разрешили ей войти, закрыли за ней дверь, окружили ее и сказали: «Только не надо так шуметь. Мы и так знаем, что ты неправда. Нет никакой нужды так орать. Мы все тут знаем, кто ты и зачем ты пришла».
Тогда она была еще маленькая, совсем кроха, и ее было очень легко проглотить. Ведь она состояла всего из одного слова. Такую маленькую ложь может проглотить любой. Она была как маленькая таблетка аспирина, от которой горько во рту, только если ее разжевать. Но такие таблетки никто не жует. Зачем их жевать, если они такие маленькие? Проглатываешь — и забываешь.
Это случилось еще до того, как Хаиму и Ошри исполнился годик. Сначала они говорили «ба-ба-ба», а потом вдруг стали говорить «па-па-па», и я спросила маму: «Почему они говорят про папу, если у них папы нету?» Ведь, казалось бы, их первым словом должно было стать слово «мама». Но это слово они научились говорить намного позже, и, даже когда научились, им было трудно его произносить. Они смешно складывали губы, и у них выходило что-нибудь вроде «мюмя» или «мямя». Даже слово «тити» — так они называли меня — они и то научились говорить раньше.
Однажды Коби вернулся домой из школы, взял их на руки и стал кружить в воздухе. Сначала они испугались, но потом начали визжать от радости, и Коби их передразнил: «па-па-па». И все. С этого момента он стал для них папой. После этого каждый раз, как он приходил домой, они хором кричали: «Па-па-па-па» и тянули к нему ручки, чтобы он их покружил.
Однако по мере того, как Хаим и Ошри подрастали, подрастала и ложь. Я видела, как она растет и распространяется по нашему дому, без разрешения пролезая в каждую щель, и начала ее бояться. Я боялась, что она проникнет ко мне в голову, и дала себе клятву, что буду с ней сражаться. Однако, как сражаться с ложью, я не знала, и, пока я думала, что мне делать, в нашем доме все изменилось. Мама с Коби стали спать в одной кровати, как муж и жена; Коби, в отличие от всех своих друзей, перестал интересоваться девочками; плюс к тому он начал нами командовать, как будто не был всего лишь нашим братом, и мама позволяла ему на нас кричать. Она даже не сделала Ицику бар мицву. Да и как она может ее сделать, если все деньги, которые зарабатывает, отдает Коби.
Я не знала, что делать с ложью, и начала уже было приходить в отчаяние, но, на мое счастье, мы стали проходить в школе историю Иакова. Из этой истории я узнала, что он тоже пострадал от лжи. Сначала из-за лжи он получил право первородства, а потом его обманом женили на девушке, на которой он не собирался жениться. И вот когда я об этом узнала, я решила сочинить для близнецов сказку, которая сумеет победить ложь, поселившуюся в нашем доме.
Одного я никак не могла понять: почему Хаим и Ошри сами не видят, что это ложь. Почему, думала я, они никак не могут этого понять? Ведь если бы они захотели, они бы смогли выяснить правду безо всякого труда. Разве так трудно заметить, что Коби слишком молод, чтобы быть для меня, Ицика и Дуди отцом? И разве они не знают, что никто из нас его папой не называет? В конце концов, они могли бы просто взглянуть на фотографию, сделанную на бар мицве Коби, и сразу бы заметили, что что-то не так. Но когда я вгляделась в эту фотографию внимательнее и увидела на ней папу, я вдруг подумала, что человек, который никогда за близнецов не волновался, не радовался их рождению, да и вообще умер, так и не узнав о том, что им предстоит родиться, — такой человек, наверное, все-таки не может считаться их настоящим отцом.
Я встала с матраса. Колени у меня болели. Мне хотелось размять ноги, походить, потому что от долгого сидения мое тело устало, но в бомбоубежище невозможно было даже шагу ступить. Было такое ощущение, что людей стало больше; как будто за время сна людская масса разбухла и поднялась, как булочки на противне. Я стала вертеть головой, чтобы размять мышцы шеи, но голова у меня закружилась, и мне пришлось схватиться за стену. Моя блузка сильно помялась, и у нее оторвалась верхняя пуговица. Чтобы она не распахнулась, мне пришлось придерживать ее рукой. Марсель проснулась, посмотрела на меня, сразу все поняла и что-то шепнула Агуве. Та порылась в сумке и протянула ей булавку.
— Теперь можешь не волноваться, — сказала Марсель, скрепив мне ворот.
Я сняла с косы резинку, расплела ее, прочесала волосы пальцами, разделила их на три длинных змейки, взяла одну из змеек в одну руку, а две других — во вторую и начала заплетать косу заново. Мне нравилось чувствовать, как змейки извиваются, скользят из одной руки в другую и переплетаются между собой. Когда я закончила заплетать косу, я провела пальцами по всей ее длине, чтобы проверить, достаточно ли она гладкая, и снова закрепила резинкой. От этого моя голова словно ожила, и по затылку растеклась приятная истома.
Потом я снова распустила косу, разделила волосы на две равные части и начала заплетать уже две косы, но, когда закончила заплетать вторую, обнаружила, что у меня нет для нее резинки. Марсель сонно улыбнулась и протянула мне резинку своей дочери. Я улыбнулась ей в ответ, и на ее лице появилось такое выражение, какое бывает у младенца, когда перед началом субботней трапезы отец окунает мизинец в серебряный кубок с вином и дает ему его пососать. Я вспомнила, как это делал папа, когда Дуди был еще грудным ребенком.
Вчера было очень жарко. Хаим и Ошри уснули, а я подошла к закрытой двери комнаты Ицика и стала слушать, как он разговаривает со своей птицей. Он говорил с ней так, как мужчины в фильмах говорят со своими возлюбленными. Они с Дуди дали ей женское имя Далила, думая, что она самка. Они просто не знали, что в детстве самцы соколов по расцветке бывают похожи на самок. Я узнала об этом совершенно случайно, когда слушала по радио передачу Азарьи Алона и он вдруг заговорил о соколах. Правда, что он рассказывал потом, я не знаю, потому что сразу же выключила транзистор. Терпеть не могу этих соколов.
К птице Ицика я никогда не подхожу, даже когда Ошри умоляет меня пойти вместе с ним в старую кухню посмотреть на нее и начинает тянуть меня за руку. Да и к самому Ицику я тоже стараюсь не приближаться. Не знаю почему. Скорее всего, из-за его рук. Иногда мне кажется, что он специально выставляет их напоказ, чтобы все увидели, какие они страшные. И еще я боюсь, что он посмотрит на меня своими пронзительными, словно прожигающими тебя насквозь глазами и по выражению моего лица решит, что не только его руки, но и он сам тоже вызывает у меня отвращение, хотя на самом деле это не так.
Я вынесла мусор, спрятала мусорное ведро в кустах и пошла к маме в ясли. Мои ноги не шли, а бежали, как будто им тоже не терпелось поговорить с мамой и как будто они хотели помочь мне убежать от моих вечных спутников — сомнений, которые никогда со мной не расстаются и всегда преследуют меня по пятам. Вот и сейчас, обнаружив, что я ушла из дому, они начали вопить на всю улицу: «Вернись! Что ты делаешь? Как тебе не стыдно?» — и я знала, что они вот-вот бросятся за мной в погоню. Но сделала вид, что их не слышу, и продолжала бежать.
Все дети в яслях сейчас спят, думала я, и я смогу с ней спокойно поговорить. Скажу ей, что так больше нельзя и что надо рассказать близнецам правду, прежде чем другие дети, в школе или на улице, не наговорят им каких-нибудь гадостей. Через несколько месяцев они пойдут в первый класс и тогда уже будет поздно. «Ты, — скажу я ей, — никогда не училась здесь в школе и знаешь о ней только то, что слышишь на родительских собраниях. Ты даже не представляешь себе, какими жестокими могут быть здешние дети». И чтобы окончательно прогнать свои сомнения, я представила себе, что именно Ошри и Хаим могут вскоре услышать на переменах.
— Мой брат Цион поклялся Торой, что ваш отец умер.
— Всем известно, что Коби — всего лишь ваш брат.
— Нет у вас никакого отца.
— Во всем нашем поселке только вы одни не знаете, кто ваш отец.
И наконец, самое страшное, что им могут сказать:
— Все знают, что ваша мама трахается с Коби.
— Баба, та еще потерпеть и может, а вот мужик — нет, — услышала я голос поварихи Рики и остановилась. — Для мужика неделя — это все равно что вечность.
Я не хотела, чтобы они меня увидели, и пошла, прижимаясь к стене. Зарешеченная дверь была закрыта. Как и обычно в это время, они сидели на детских стульчиках за маленьким столом возле входа. Были слышны взрывы хохота, но знакомого маминого смеха, который обычно звучит так, словно она пытается его выкашлять, я не слышала. Как, впрочем, и звонкого смеха Ализы.
— Еще не родился тот мужик, который получит мое тело до свадьбы, — заявила Сильви.
Левана сказала что-то по-мароккански, и все снова засмеялись.
— Ну все, девки, хватит вам рассиживаться, — объявила Рики. — Гномы за нас убираться не будут.
Я услышала, как они ставят стол на место, и напомнила себе, зачем сюда пришла, но перед глазами у меня вдруг возник мужик, о котором они говорили. Он был похож на букву гимел — ג, с которой в иврите начинается слово «мужик», и чем-то напоминал сокола Ицика. Голова у него была маленькая, глаза выпуклые, а одна нога выкинута вперед. Он держал руки в карманах и плотно прижимал их к телу, как будто ему было трудно терпеть. Потом я увидела женщину. Она была похожа на букву алеф[42] — א. Ее руки были вскинуты кверху, ноги раздвинуты; она самозабвенно исполняла танец живота, а длинные волосы покрывали еще не округлившиеся ягодицы.
Неожиданно зарешеченная дверь открылась, и меня обрызгало водой. В дверях появилась Левана со шваброй в руке.
— Ну ты меня и напугала, — сказала она. — Входи, входи. К маме пришла? Только подожди, я положу сухую тряпку, чтобы ты не наследила.
Я пошла в группу мамы и Ализы. Дети спали на раскладушках, и в воздухе словно парили их спящие души. Пахло мочой и овощным супом. Одна раскладушка стояла пустая, и ее провисший зеленый брезент как будто приглашал меня лечь на него и уснуть.
Мама и Ализа были в детском туалете. Они вынимали из рюкзаков детей чистые и сухие белые пеленки и смачивали их в ванночке, предназначенной для стирки грязных пеленок. В первый момент они меня не заметили, но, когда мама подняла голову и увидела, что я стою в дверях, она решила, что случилась какая-то беда, и на лице у нее появилось испуганное выражение. Я поклялась ей, что дома все в порядке, и она снова стала смачивать пеленки.
— Эти, детка, постой пока тут в дверях, чтобы какая-нибудь мамаша случайно не зашла, — попросила меня Ализа. — Мы уже скоро закончим.
— От них в жизни «спасибо» не услышишь, — сказала мама. — Никогда тебя не поблагодарят. Ни за скатерть, которую мы сшили для кукольного уголка, ни за что вообще. Их интересует одно — сколько в пакете вонючих пеленок. Не успевают прийти, как сразу суют нос в пакет и давай пеленки считать. Можно подумать, там не дерьмо лежит, а брильянты.
Мама окунула в грязную ванночку очередную чистую пеленку.
— Если у какой-нибудь мамаши в пакете меньше четырех грязных пеленок, она сразу же на нас набрасывается и начинает орать. «Почему, — кричит, — вы моему ребенку пеленки не меняете? Он что, у вас тут — весь день так обоссанный и ходит?!» Они думают, что если у детей попки красные, значит, это обязательно мы виноваты. А попробуй им скажи, что это из-за того, что они сами своим детям забывают по вечерам пеленки менять, — на части разорвут.
Мама распрямилась, положила руки на поясницу и сказала:
— Ну все, хватит. Надо пойти кофейку попить. А то у меня уже спина отваливается.
Ализа сделала мне знак головой, чтобы я сменила маму. Я посмотрела на них обеих и хотела было сказать, что пришла не за этим, но промолчала, взяла у мамы из рук сухую пеленку и нагнулась над ванночкой. Из воды на меня смотрело мое лицо, как будто оно упало туда вслед за маминым.
— Ализа пеленочки все замочила, — стала декламировать Ализа голосом, в котором перемешались горечь и сладость, — Розетт дала, Шуле дала, Анат дала, Яффе даже две дала, и только для Симы не хватило. Но Ализа походила-походила, поискала-поискала и для Симы тоже нашла.
Я смотрела на свое отражение в воде, искажавшееся каждый раз, как я окунала в нее пеленку, и думала: «У Мошико пока только две грязных пеленки, но это нестрашно. Одну намочим — будет три. А когда он проснется, заменим ему ту, в которой он спит, и станет четыре. Так что его мама останется довольна». И вдруг я с ужасом поймала себя на мысли, что начинаю рассуждать в точности, как они.
Ализа намылила руки, передала мне мыло, вымыла руки под краном, вытерла их и посмотрелась в зеркало. На ее лице уже не было выражения горечи и обиды. Она достала из кармана халата пинцет и стала ловко выщипывать себе брови.
— Мой руки, — сказала она, продолжая глядеться в зеркало, — и пошли немножко посидим. Кто работает, тому и отдых полагается.
Я поняла, что, если заговорю сейчас с мамой о том, что пришло время сказать Хаиму и Ошри правду, она посмотрит на меня, как на ребенка, который ни в какую не хочет расставаться со сломанной куклой, и скажет: «Эх, Эти, Эти… Ничего-то ты в жизни еще не понимаешь».
Ну что ж, подумала я, значит, рассказать близнецам об всем я должна сама. И с этой мыслью пошла домой.
Я попыталась представить себе, что происходит сейчас в бомбоубежище, где сидят наши. Коби, наверное, стоит у двери, как будто собирается уйти, и на лице у него такое выражение, какое бывает у манекена в витрине магазина, который убеждает себя, что не имеет никакого отношения к этой шумной и грязной улице. Как будто он стоит и думает: «Я здесь только временно. Это все не для меня». Ошри и Хаим лежат на матрасе, но они такие маленькие, что даже вместе занимают меньше, чем полматраса. Я вспомнила, как однажды они забрались в корыто для стирки белья, свернулись калачиком и сказали, что так они лежали в животике у мамы. Дуди все время слоняется взад-вперед и ищет какого-нибудь мальчишку, с которым можно поболтать, или девочку, с которой можно познакомиться. Ицик кричит Дуди, чтобы тот подошел и помог ему с птицей, которая всех ужасно раздражает. А мама ходит по бомбоубежищу и уговаривает всех сесть рядом с ней и угомониться, чтобы, когда все это кончится, люди не трепали про нас языками. Если же Ошри и Хаим сейчас не в бомбоубежище, то, наверное, она сидит и тихонько молится, чтобы пришел Иегуда и сказал, что видел их в другом бомбоубежище, как и меня.
А правда, вдруг подумала я, где они сейчас? Я никак не могла вспомнить, где была до начала обстрела и где рассталась с близнецами.
Я вернулась домой из яслей с новой ложью и приготовила уроки по Библии, а когда прошел вечер, ничем не отличавшийся от других, и наступила ночь, я заснула рядом с Хаимом и Ошри. Через несколько часов я проснулась, встала, поправила им одеяло и посмотрела на часы. Была уже глубокая ночь. Дуди спал. Я вышла в коридор, приложила ухо к двери комнаты, где спали мама и Коби, но ничего не услышала. Мне страшно хотелось ее открыть и заглянуть внутрь, но я не осмелилась.
Я легла в кровать, но никак не могла уснуть. Встала и вышла на балкон. Там висело белье, мама вывесила его вечером, и бельевые веревки выглядели словно линейки в тетради, на которых было написано: «мамино платье» или «брюки Ицика», а прищепки — как запятые. Мамино платье, запятая, штаны Ицика с резинкой, запятая, две рубашки Дуди и Ицика, запятая, белая рубашка Коби, запятая, носки Ошри и Хаима, запятая, моя школьная юбка, запятая, простыня мамы и Коби, точка. На простом и понятном языке наша одежда сообщала всему миру, что мы — члены одной семьи. Однако за этим явным сообщением, которое могли прочитать все желающие, скрывалось еще одно, тайное, которое было понятно только нам одним и гласило: «В жизни этой семьи не было ни единого дня, когда на одной веревке одновременно висела одежда всех ее членов без исключения — папы, мамы и шестерых детей».
Я тихонько вошла в комнату, где спали Ошри и Хаим, и еще раз поправила им одеяло. Спать мне совершенно не хотелось. Я взяла свой школьный рюкзак и пошла к шкафу Коби. Я проходила мимо этого шкафа много раз, но никогда его раньше не открывала. Ведь он не мой.
Вскоре после смерти папы Коби вынул из шкафа все полки и стал учиться в нем прятаться. Залезет, посидит и вылезает. Опять залезет, опять посидит и опять вылезает. В результате шкаф совершенно расшатался, но Коби это не смущало. Кроме того, он стал замерять время, которое необходимо, чтобы добраться до шкафа из любой точки в квартире, залезть в него и закрыться изнутри. Он делал это с помощью часов, которые ему подарили на бар мицву, и постоянно бегал к шкафу то из туалета, то из кухни, а один раз даже помчался туда, когда мы все сидели за столом и ели. Вскочил ни с того ни с сего и убежал, круша все на своем пути, а затем вернулся и сообщил, сколько времени у него это заняло. Он прекратил эти свои тренировки, только когда во время одного из его набегов у шкафа отвалилась ножка, но интереса к шкафу не потерял. Подложил вместо ножки камень и стал приставать к маме, чтобы она ее починила. Братья отца с мамой тогда еще не поссорились, и она обратилась за помощью к одному из них, дяде Аврааму. Тот пришел, положил шкаф на бок, прибил ножку гвоздями, и только тогда Коби успокоился. Его совершенно не волновало, что мы все в шкафу не поместимся (только когда из шкафа повыбрасывали всю старую одежду, включая мамины нарядные платья, в нем стало чуть больше свободного места). Однако никто из нас с ним заговорить об этом не решался. Мы смотрели, как он тренируется, и с грустью вспоминали то время, когда папа был еще жив и прятаться нам было никуда не нужно.
Я разулась, залезла в шкаф, села на пол, скрестила ноги и закрыла дверцы, оставив только маленькую щелку для света. В шкафу могли поместиться не больше двух взрослых или трех детей. Я подняла глаза кверху, чтобы посмотреть, какой он высоты, и увидела, что в потолке торчит гвоздь, на гвозде висят мужские трусы, в трусах — бутылка с маслом, а рядом на потолке какая-то надпись синими чернилами. Я привстала, чтобы ее прочесть, ударилась головой о бутылку и узнала аккуратный почерк Коби. Там было всего шесть слов. «Не забудьте вылить масло на пол». Я смотрела на надпись и бутылку и вдруг вспомнила одно давнее утро.
Это было в год смерти папы, на Хануку. В тот день мама пожарила нам пончики и ушла в ясли. Ошри и Хаим тогда еще не родились, и ложь в нашем доме еще не жила. Самой младшей в семье была папина смерть. Ей было всего полгодика. Она была младенцем, от которого пахло свежевырытой могилой, и никто еще не знал, каким этот младенец станет, когда вырастет. Между тем он рос очень быстро. В первый месяц он только неподвижно лежал на спине и плакал, но еще через месяц стал уже переворачиваться со спины на живот и обратно, ползать и сваливать вещи на своем пути. За ним нужно было все время следить, чтобы он не разрушил то, что существовало до его рождения, но он был очень проворным и гораздо быстрее нас находил вещи, которые папа берег и которые было очень легко свалить. Он все трогал, щупал, засовывал в рот, пробовал на язык, выбрасывал, ломал, уничтожал и рвал, и мы тогда еще не знали, как от него все это защитить. Нельзя было оставить его без присмотра не только на одну минуту, но даже на одну секунду.
Даже когда мы выходили из дома, мы брали его с собой. Когда мы собирались в школу, он забирался в бутерброды, которые мама давала нам с собой. По ночам он проникал в наши сны, будил нас, и мы просыпались в слезах. Когда мы по утрам открывали глаза, то видели, что он уже проснулся и стоит возле кровати, как будто хочет напомнить, что он все еще здесь, и как будто мы просто обязаны увидеть его до того, как увидим солнце. Он смотрел на нас своими невинными младенческими глазами и как будто говорил: «А что я такого сделал?»
После обеда Коби взял глубокую сковородку с маслом, в котором мама жарила пончики и которое к этому времени уже успело остыть, пошел в коридор, вылил масло на пол и стал кататься по нему так же, как мы катались по коридорам школы. Я стояла в дверях ванной и хохотала: полгода я так не смеялась; а Дуди и Ицик ждали, пока Коби даст покататься им тоже. И тут с работы вернулась мама.
Это случилось за неделю до рождения близнецов, и живот у мамы был уже огромный — самый большой из всех, которые я когда-либо в своей жизни видела. Увидев, что мы смеемся, а Коби растянулся на полу в луже масла, она вскрикнула «О Господи!», закрыла рот рукой и заплакала. Мы бросились к ней, сгрудились вокруг нее и по тому, как она на нас смотрела, поняли вдруг, чем мы, по ее мнению, тут занимались: разыгрывали представление о том, как умер наш папа.
Коби объяснил маме, что вылил масло на пол всего лишь для того, чтобы узнать, сколько его понадобится, когда к нам придут террористы, а потом велел нам вымыть пол и ушел переодеваться, однако ни тогда, ни потом отчистить пол от масла нам полностью так и не удалось. Не удалось и забыть, какими глазами на нас смотрела мама.
Я сидела в шкафу в восточной позе, и над головой у меня раскачивалась бутылка с маслом. Я открыла рюкзак и вынула целлофановый пакет с транзистором. Это был маленький папин транзистор, у которого давно отвалились все кнопки и который я нашла в мусорке позади фалафельной. Потом я достала носок, в котором храню батарейки, чтобы они не разрядились раньше времени, вынула их из носка, лизнула языком, какое-то время поколебалась, стоит ли мне их сейчас вставлять в транзистор, а затем все-таки вставила, включила его и зубами передвинула остатки ручки настройки до того места, где обычно говорит «радиоженщина».
Я назвала ее «радиоженщиной», когда услышала ее голос в первый раз, и только позднее узнала, что ее зовут Реума, то есть «смотрите, что…». Мне нравилось произносить это имя. «Реума, Реума, Реума», — все время повторяла я на разные лады и гадала, кто же мог придумать ей такое странное имя, и было ли оно дано ей с самого рождения, или ее назвали так позже, когда она впервые сказала что-нибудь вроде «смотрите, что он принес», или «смотрите, что там лежит».
Через месяц после того, как умер папа, нас повезли на ежегодную экскурсию в Иерусалим и на обратном пути наш экскурсовод, указав пальцем на две высоких антенны, показавшиеся мне огромными, как Эйфелева башня, сказал:
— Отсюда передают новости.
И хотя мы посетили много интересных мест, больше всего на свете мне захотелось побывать именно в этих башнях, и я страшно жалела, что нас туда не повели. С того дня каждый раз, как я прижимала к уху транзистор, я говорила себе, что радиоженщина будет терпеливо ждать, пока я закончу учиться, научусь говорить на иврите так же хорошо, как и она, и привыкну употреблять все эти ее красивые слова, которые звучали для меня так, словно они прибыли из заморских стран. Я повторяла их по нескольку раз кряду, пока не понимала, что они значат, а перед сном фантазировала, как пойду к Реуме. Представляла, как я поднимаюсь на башню — которая чем выше ты на нее влезаешь, тем становится все тоньше и тоньше, — добираюсь до маленькой комнатки под самым небом, где есть место только для одного стула, вижу Реуму, которая сидит и ждет моего прихода, и говорю:
— Ну вот и все, Реума, теперь ты можешь спускаться вниз. Я пришла тебя сменить.
Сначала я скажу ей несколько слов, в которых есть буква хет. Я тренировалась произносить эти слова каждый раз, как они встречались мне в текстах Библии, и, чтобы сказать хет правильно, вспоминала, как ела мороженое в лавке Шимона. Я представляла себе, как кладу ложку с мороженым в рот, как оно у меня во рту округляется и проскальзывает в горло. А потом я скажу ей букву аин, которая напоминает круглую монету, медленно выкатывающуюся из горла, и каждое слово, которое я произнесу, будет как блестящая спелая виноградина.
Я воображала, как Реума встанет со стула, усадит на него меня, покажет мне микрофон и другие приборы, а потом уйдет и оставит меня одну. И больше я никогда оттуда не уйду. Потом я впервые в жизни придвину к себе микрофон, зазвучит музыка, всегда предшествующая новостям, и мой голос скажет:
— Говорит радиостанция «Голос Эти с иерусалимских небес». Прослушайте заголовки старостей, потому что новости меня не интересуют. Меня интересуют только старости, о которых никто никогда не рассказывает, а если о них все-таки и рассказывают, то всё врут.
Когда новости по радио кончились, я вылезла из шкафа и отправилась спать. Утром я пошла в школу, но в половине девятого объявили боеготовность и нас распустили по домам. Мама тоже пришла из яслей, и вместе с соседями мы спустились в бомбоубежище, но, поскольку ничего страшного не произошло, мы вернулись к себе домой и после обеда я вместе с Хаимом и Ошри легла спать. Когда я проснулась, в доме никого, кроме нас троих, не было. Даже мама куда-то исчезла, хотя я и не помню, чтобы она говорила, что куда-то собирается. И тогда я решила, что сейчас самое время рассказать близнецам про папу, только никак не могла придумать, с чего начать. Ладно, подумала я в конце концов, начну-ка я со сказки, которую они уже знают.
Мы сели на мою кровать, я сняла с подушки наволочку, засунула в нее руку, покопалась там немножко и — р-р-аз — вытащила из нее сказку. Я всегда так делаю, когда рассказываю им сказки; они это любят.
Я вытащила руку из наволочки, немножко разжала кулак и заглянула в него. Близнецы сразу придвинулась поближе, чтобы увидеть, что в нем есть, но я быстро его сжала, чтобы они не подглядывали, и сказала:
— Вы не представляете, что я там нашла. Сказку про женщину, которая превратилась в осьминога!
Они подпрыгнули на кровати так, что заскрипели пружины, и шлепнулись вниз, как два лопнувших шарика.
— Только пообещай, что будет хороший конец, — сказал Ошри.
— Да, — поддержал его Хаим, — поклянись! А то я не буду слушать.
После чего заткнул уши и заорал:
— Не буду, не буду, не буду, не буду!
— Я тоже не буду! — завопил Хаим. — Я буду кричать и не буду тебя слушать! А-а-а-а-а-а-а!
Он кричал «а-а-а-а-а-а», пока у него не кончился воздух, а затем его сменил Хаим, и они замолчали только после того, как я пригрозила, что, если они будут так вопить, я не буду ничего рассказывать.
— Сегодня, — сказала я, — я сделаю конец у сказки длиннее, чем обычно, и буду продолжать рассказывать до тех пор, пока он не станет хорошим. А сейчас положите ручки на колени и приготовьтесь внимательно слушать.
Они послушно сделали то, что я им велела, и, глядя на их полные ожидания лица, я вдруг пожалела о своем поспешном обещании сделать конец хорошим. Я посмотрела в окно у них за спиной; через него в комнату проникал мягкий послеполуденный свет.
— В общем так, — объявила я. — Сказка называется «Женщина, которая превратилась в осьминога».
Близнецы сразу расслабились, руки у них сползли с колен, и я начала рассказывать.
— Много лет тому назад жила-была одна женщина. Она была совершенно обыкновенная. Как все. У нее было две руки, две ноги, живот, спина, лицо, два глаза, один нос и два уха. Короче говоря, все у нее было точно таким же, как и у всех остальных женщин в мире.
— Ты забыла про волосы! Ты все время забываешь сказать про ее волосы.
— И про одежду ты тоже ничего не сказала. Расскажи нам про ее одежду.
— Точно! — сказала я. — Хорошо, что вы мне напомнили.
Они притихли и приготовились слушать дальше.
— У женщины были прекрасные каштановые гладкие-прегладкие длинные волосы, и каждому, кто ее видел, хотелось протянуть руку и погладить их. И у нее было много разноцветной одежды, буквально всех цветов радуги. Какой бы цвет вы ни назвали, можете не сомневаться, что платье такого цвета у нее было. И красное, и синее…
— И желтое!
— И зеленое!
— Да. И голубое, и розовое, и фиолетовое. И кроме того, на платьях у нее были всякие разные узоры. И цветы были, и сердечки, и кружочки, и треугольнички…
— И звезды! Ты забыла сказать «звезды».
— Да-да, и звезды тоже. Короче говоря, у этой женщины было все. И еще у нее были дети и муж. Но однажды случилось несчастье: к ней пришла колдунья. Во рту у нее был только один зуб; он был кривой, длинный и шатался; а на носу у нее росла противная бородавка. Колдунья летала по небу, а затем спустилась и стала заглядывать в окна, и когда дошла до окна женщины, то увидела, сколько у нее всего есть, и страшно разозлилась. «Почему, — подумала она, — эта женщина такая веселая, а мне совсем не весело? Почему у нее такая красивая одежда, а у меня такая противная и дырявая? Почему у нее такие прекрасные длинные гладкие волосы, а у меня такие противные и зеленые? И почему у нее есть муж и симпатичные дети, а у меня нет?»
— А пусть она тоже выйдет замуж.
— Ведь у всех женщин, которые выходят замуж, есть дети, правда?
— Ну, сама-то она как раз очень этого хотела. Да только никто не хотел на ней жениться.
— Потому что она была противная!
— И злая!
— Правильно. Потому что она была злая и противная. И вот она решила заколдовать мужа этой женщины, чтобы он умер. Чтобы вот так вот просто взял да и умер ни с того ни с сего.
На лестничной площадке послышались тяжелые шаги. «Наверное, бабушка Даганов пришла навестить своих внуков», — подумала я. Ошри встал на кровати и сказал:
— И тогда он упал и умер. Смотри, Эти, я покажу тебе, как он умер. — Он отошел к краю кровати и упал на нее ничком. — Он ведь так упал, да?
— Ты мне ногу отдавил, — сказал Хаим. — Так не умирают. Правда же, Эти, так не умирают? Я тебе покажу, как умирают. Когда ты умираешь, ты не прыгаешь. У тебя нету сил, чтобы прыгать, когда ты мертвый. Ты просто валяешься на полу. — Он слез с кровати, пробежал несколько шагов и упал на спину. — Видел, как моя голова шмякнулась? Вот как надо умирать. А еще изо рта вываливается язык. — Он высунул язык и стал смешно коверкать слова. — Правда же, Эти, он вываливается?
— Хватит, — сказала я. — Если не будете сидеть на кровати с руками на коленях, я больше рассказывать не буду.
Они снова уселись на кровать, обняли колени и приготовились слушать.
— Никто не видел, как умер этот человек, — сказала я, надеясь, что голос у меня не дрожит, — потому что в этот момент он был совершенно один. Только одна колдунья видела, как он умирал, и злобно смеялась. Так смеялась, что чуть не умерла со смеху. Ха-ха-ха, хи-хи-хи, хо-хо-хо, ху-ху-ху…
Как всегда в этом месте, они плотно прижались друг к другу и заткнули уши.
— Все, — объявила я. — Колдунья кончила смеяться. Больше уже затыкать уши не надо.
Они недоверчиво вынули пальцы из ушей, но опустили руки только после того, как убедились, что колдунья действительно больше не смеется.
— И вот колдунья села на свою метлу и полетела обратно в небо. Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж…
— Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж, — подхватили близнецы, — ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж…
— Когда муж женщины умер, она выбросила всю свою красивую разноцветную одежду и стала носить только черное и синее. Так делают всегда, когда кто-то умирает: перестают носить другие цвета. Но колдунья открыла крышку мусорки, засунула туда руку…
— Фу, какая гадость!
— Фу, как там воняет!
— …и вытащила оттуда всю красивую одежду женщины: и ее платья, и ее кофточки, и ее юбки… Но они ей не подошли. Они сидели на ней очень плохо.
— Потому что она была горбатая.
— Потому что у нее были кривые ноги.
— Верно. И вообще, это был не ее фасон. А у женщины было очень много работы. С раннего утра и до позднего вечера она должна была готовить, убирать, стирать — причем делала все это в одиночку. И кроме того, ей надо было ходить на работу. Но ей все равно хотелось, чтобы в доме оставалось все как раньше, когда еще был жив ее муж. В пятницу она готовила рыбу, делала восемь сортов салата, большую кастрюлю субботней схины и пекла в печке домашний хлеб. «Мои дети ни в чем нуждаться не будут! — часто повторяла она. — Я испеку им самое вкусное печенье». Но ей было очень тяжело, потому что она делала все это в одиночку.
Я сделала маленькую паузу. Близнецы сидели тихо и ждали продолжения.
— Когда дети у женщины болели, — сказала я, — она водила их в поликлинику; кроме того, она ходила в банк и в супермаркет, а каждый четверг отправлялась на рынок. И все это тоже в одиночку.
— Потому что ее муж умер.
— Да, упал и умер.
— И вот однажды, зимой, когда было холодно-прехолодно и у женщины не было денег на бензин для печки, у нее кончились силы. Она чувствовала, что устала, и все тело у нее болело. Когда все уснули, она стала плакать и проплакала почти всю ночь. Она плакала так сильно, что ее слезы намочили ей платье и потекли на пол. Они затопили весь дом и стали вытекать из-под двери наружу.
— И потекли по лестнице.
— А потом вытекли на улицу!
— Колдунья увидела, что слезы женщины вытекают на улицу, и стала смеяться…
— Только больше не показывай, как она смеется, ладно?
— Мы боимся, когда она смеется.
— …а потом она полетела на метле. Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж..
— Ж-ж-ж-ж-ж…
— Ж-ж-ж-ж-ж…
— Хватит, хватит! — попыталась я их успокоить. Но они не унимались. Жужжание явно доставляло им удовольствие.
— Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж…
— Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж…
Я смотрела на их маленькие обнажившиеся зубки и ждала, пока им надоест. Мне хотелось, чтобы сегодня они слушали меня так, как еще не слушали никогда: чтобы они слушали не сказку, а правду.
Я вспомнила, что обещала им хороший конец. Именно сегодня они потребовали от меня хорошего конца.
— Ну вот, — сказала я, когда они наконец-то замолчали и внимательно на меня посмотрели, — колдунья переоделась в старуху, надела на голову красивый платок, пришла к женщине и спросила: «Что случилось? Почему ты так горько плачешь?» — «Ничего не случилось, — ответила женщина. — Слава тебе, Господи, все в порядке. Просто мне что-то попало в глаз». И пригласила колдунью к столу. Дала ей чаю с полынью, ореховых печений, варенья, и когда колдунья выпила весь чай и съела все печенья — буквально ни одного не оставила, — она сначала женщину поблагодарила. «Большое тебе спасибо, — сказала. — Дай тебе Бог здоровья. — А потом опять ее спрашивает: — Но что же с тобой все-таки случилось? Не бойся. Мне ты можешь рассказать все. Я старая и за свою жизнь много чего наслушалась. И я умею хранить тайны». Она специально говорила очень приятным голосом, чтобы женщина подумала, будто она хорошая, и женщина ей все рассказала. И вот когда она это сделала, ей стало гораздо легче, потому что, когда с кем-нибудь что-нибудь случается, он обязательно должен это кому-нибудь рассказать. Вы же мне рассказываете, что с вами в детском саду происходит, правда?
— Правда, — ответили они одновременно.
— Ну вот. А у этой женщины не было никого, с кем бы она могла поделиться горем. С тех пор как умер ее муж, она осталась совершенно одна, с детьми, и к ним в дом никто не приходил. Колдунья выслушала ее рассказ, утерла ей слезы, успокоила ее и говорит: «Не бойся, я тебе помогу. Это моя профессия. Я — фея».
— Она соврала! Она соврала! Не надо было ее слушать.
— Да, она все наврала! Она была не фея! Она была плохая!
— Но ведь женщина не знала, что она колдунья. Откуда же ей было это знать? Когда мы встречаем плохих людей, по ним не всегда видно, что они плохие. А колдунья к тому же говорила очень сладким голосом. И не просто сладким, а прямо сахарным таким, даже медовым. И вот она говорит: «Я тебе помогу. Я дам тебе еще две руки, и ты будешь успевать делать все свои домашние дела: и готовить, и мыть посуду, и подметать, и чистить плинтусы, и вешать белье. Короче, успеешь переделать все, что нужно».
Я увидела, что они напряглись, приготовившись ответить на вопрос, который я обычно им в этом месте задаю, и что Ошри уже даже открыл рот, чтобы успеть ответить первым, потому что обычно Хаим его всегда опережает. Я сделала еще одну маленькую паузу и продолжила:
— «Когда я приделаю тебе еще две руки, — сказала колдунья, — у тебя их станет…»
— Четыре! — крикнул Хаим.
— Я тоже хотел сказать «четыре», — надулся Ошри.
— Ну так скажи сейчас, — попыталась я его утешить. — Как будто Хаим еще ничего не сказал.
— Но он же уже сказал. А я хочу сказать первым.
— А ты скажи последним. Ты будешь первым с конца. Это тоже важно. Есть люди, которые всегда хотят быть последними, хотят сказать последнее слово, чтобы все запомнили только то, что сказали они.
— Ты это просто так говоришь. Ты всегда на его стороне, всегда!
Ошри лег на живот и стал лупить руками по кровати. Это уже вошло в традицию, и я даже на какое-то мгновенье забыла, что сегодня необычный день. Но когда он стал бить Хаима, мне пришлось его оттащить, посадить рядом с собой и обнять, чтобы он успокоился. Но он не успокаивался.
— Ну вот что, — сказала я, — пока вы не утихомиритесь, я рассказывать не буду. — И положила себе на рот руку, как будто заперла его на замок.
— Мой рот закрыт на ключ, — сказал Хаим.
— Мой рот заклеен клеем, — сказал Ошри. — Теперь я первый с конца.
Только после этого я стала рассказывать дальше.
— Женщине, — сказала я, — эта идея понравилась. Ей захотелось, чтобы колдунья и в самом деле сделала ей две дополнительные руки, чтобы ей легче было заниматься домашней работой, но та вдруг сказала нечто очень неприятное. Хотя и продолжала говорить вежливо. Она сказала: «Только имей в виду: это не просто так. За это тебе придется отдать мне какую-нибудь часть своего тела. Только если ты отдашь мне какую-то часть своего тела, я сделаю тебе еще две руки». Женщина думала-думала и, наконец, решила, что может отдать колдунье…
— Свои волосы! — радостно закричали Хаим и Ошри.
— Верно. Она подумала: «Все равно они отрастут заново. Я могу их отдать, а они снова станут красивыми и длинными. Тем более что у меня много работы по дому и мне трудно их каждый день расчесывать». Но колдунья не стала делать ей красивую прическу, как в парикмахерской. Она забрала у нее прекрасные волосы вместе с корнями, чтобы они уже больше никогда не выросли, отдала ей вместо них свою щетину, надела себе на голову ее волосы, как парик, и улетела в окно.
— На метле! Ж-ж-ж-ж-ж-ж.
— Ж-ж-ж-ж-ж-ж.
— Да, на метле. Теперь четырьмя руками женщина могла делать многое из того, что раньше не успевала: очень быстро развешивала белье; ставила на огонь сразу две кастрюли; во время мытья полов поднимала и ставила на стол сразу четыре стула; одновременно купала двух детей; одновременно намыливала их двумя кусками мыла; одновременно вынимала их из ванны и одновременно оборачивала их в два полотенца. А утром в четверг перед работой ходила на рынок с четырьмя сумками: одна для овощей, одна для…
— Фруктов!
— Одна для рыбы и еще одна…
— Для галантереи, которую продает Махлуф!
— Верно, для галантерейных товаров Махлуфа. Но однажды, в точно такой же день, как сегодня — даже погода была такая же, — она почувствовала в животе два толчка и поняла, что у нее там сидят два ребеночка.
— Они были близнецы?
— Такие же, как мы?
— Да, такие же, как вы, два сына. Она была беременна и начала толстеть. С каждым днем она становилась все толще и толще, и в конце концов ей стало трудно двигаться. Хорошо еще, что у нее было четыре руки, чтобы заниматься домашними делами. Без четырех рук она бы ни за что все переделать не успела. Через девять месяцев она пошла в больницу, и у нее родились близнецы. Она принесла их домой, и хотя они были симпатичные, ей было…
— Ей было снова грустно!
— У нее не было сил!
— Да, у нее совершенно не было никаких сил. Потому что после рождения близнецов она не успевала переделать все даже четырьмя руками. И тогда она снова села и стала плакать. Плакала-плакала, и ее слезы вытекли…
— На улицу.
— Да, прямо на улицу.
— И тут колдунья пришла к ней опять. Правда, Эти, она пришла к ней опять? Только не показывай, как она смеется, ладно?
— А мне все равно. Я заткну уши и ничего не услышу.
— Ладно, не буду показывать, как она смеется. Только обещайте, что вы не будете изображать, как она летит на метле. Обещаете?
— Обещаем.
— Ну вот. Колдунья снова притворилась доброй женщиной, но теперь уже ей даже не пришлось много говорить. Как только женщина ее увидела, она сразу стала думать: «Что же мне ей отдать, чтобы она сделала мне еще две руки? Я ведь обязательно должна ей что-то отдать». Думала-думала и решила, что отдаст ей среднюю часть своего тела — живот, спину и все прочее. «У меня ведь все равно больше детей не будет, — подумала она, — вот пусть и забирает мой живот. Я ведь все равно по ночам больше не сплю, у меня бессонница, вот пусть и берет мою спину. А близнецов я могу кормить молоком из бутылочки, как делают все остальные, так что я могу обойтись и без… ну, в общем, без средней части тела». И вот у нее…
— Только пусть теперь я скажу, сколько у нее стало руков.
— Ну, сколько?
— Пять!
— Нет, не пять! Не пять!
— Ну, шесть, шесть. У нее стало шесть руков. Это все из-за тебя. Я просто боялся, что ты скажешь первым.
— Правильно, шесть. Только надо говорить не «руков», а «рук». В общем, теперь у женщины было шесть рук, но не было ни живота, ни спины. У нее осталось только сердце. И больше она не плакала. Теперь она могла держать обоих близнецов, давать им молоко из бутылочек, менять им обоим одновременно пеленки, и еще оставалось две руки, чтобы складывать белье и зашивать порвавшуюся одежду старших детей.
— Как нам, когда у нас штаны порвались.
— Из-за того, что мы на полу валялись.
— А когда близнецы засыпали, — сказала я, глядя на их наивные личики, которые ничего не подозревали и полностью мне доверяли, — и когда старшие дети тоже шли спать, она за десять минут перемывала все полы в доме тремя швабрами и тремя тряпками одновременно. Но недолго она радовалась…
— Что? Опять стала грустная?
— И опять начала плакать?
— Да. Снова стала плакать и вытирать слезы руками — всеми руками сразу, — но даже шести рук ей для этого не хватило. Потому что она посмотрела на себя в зеркало — в первый раз за все это время посмотрелась в зеркало, — и что же она там увидела?
— Увидела, что она страшная, да?
— Страшнющая такая, многорукая!
— Точно. Она увидела в зеркале, что она страшная, что у нее есть только голова, шесть рук и две ноги. Почти всю ночь она просидела на кровати и проплакала.
— И слезы вытекли на улицу.
— И снова пришла колдунья.
— Да, колдунья пришла опять, но на этот раз уже не притворялась доброй. Ей было плевать на то, что женщина плачет, и она не хотела возвращать ей то, что у нее забрала. «Если, — говорит, — ты не хочешь быть страшным чудовищем, какого еще никто никогда не видывал, тогда отдай мне свои ноги, а я тебе за это дам еще две руки, и ты превратишься в осьминога. Ну а что такое осьминог, знают все».
— А женщина спрашивает: «Осьминог? А кто это — осьминог?»
— Ты неправильно говоришь. Она должна бояться. Она должна сказать: «Какой еще такой осьминог?! Что это еще за осьминог такой?!»
— Верно, женщина не знала, что такое осьминог, и это слово ее напугало. Но колдунья объяснила ей, кто это, успокоила ее и показала ей фотографию осьминога.
— Такую же, какую ты показывала нам?
— Да, она у меня в кармане. Вот. Это осьминог. У него восемь рук.
— Смотри, что ты наделал! Ты ее порвал.
— Ничего я не рвал, она уже и так была рватая. Правда же, Эти, она была рватая? Скажи ему, что ты дала мне ее такую.
— Эти! А пусть осьминог будет теперь у меня, ладно?
— Когда сказка кончится, я тебе его отдам.
— Нет, ты его еще больше порвешь. Правда, Эти? Правда, что он его еще больше порвет?
Я пообещала им, что склею фотографию осьминога, и они снова приготовились слушать.
— Ну вот. Посмотрела, значит, женщина на эту фотографию, и осьминог показался ей красивым. Вокруг него было синее море, и он не был похож на странное уродливое чудище. И она тут же согласилась. Не раздумывая. Отдала колдунье свои ноги, а вместо них получила еще две руки, и стало их у нее…
— Восемь!
— Правильно. У нее стало восемь рук. В точности, как у осьминога. И так она превратилась в осьминога. Посмотрелась она в зеркало, а у нее голова и восемь рук. Потом она посмотрела на колдунью и вдруг увидела, что та выглядит в точности, как раньше выглядела она сама. Ведь колдунья взяла у нее и волосы, и лицо, и все тело. Взглянула она на себя в зеркало еще раз и испугалась. «Все, — думает, — теперь мне уже никогда не стать нормальной женщиной». И говорит она колдунье: «Знаешь что? А возьми еще и мое сердце. Зачем оно мне теперь нужно? Только болит все время из-за всех этих моих мучений. Бери-бери, не нужно оно мне больше». Ну и отдала ей сердце. И что же у нее осталось? Только голова и восемь рук. И голова ее все время думает: «Что же мне теперь делать? Что же мне теперь делать?» Потому что это все, о чем она могла думать. Ведь тела у нее больше не было, и про тело ей не надо было думать. И ног, чтобы танцевать, у нее не было; и живота у нее больше не было, так что ей не хотелось вкусных пирожных, мороженого и шоколада; и рта у нее больше не было, и она не могла больше смеяться над анекдотами; и сердца у нее не было, и ей больше не хотелось обнять своих детей восемью руками и не хотелось рассказывать им сказки, которые они любили. Только одни руки у нее и остались, и они делали то, что приказывала им голова. А приказывала она им только трудиться. С утра и до вечера — трудиться, трудиться и трудиться.
Я так увлеклась своим рассказом, что даже не заметила, как близнецы скисли. С отчаяньем в голосе Ошри тихонько спросил:
— А колдунья над ней смеялась, да?
Хаим же выпрямился и заявил:
— Но ведь ты же сказала, что конец будет хороший. А этот конец нехороший!
— Он плохой! Этот конец плохой!
— Он страшный и противный.
— Да постойте же вы, — попыталась я их успокоить, — я же еще не кончила.
По правде говоря, я уже забыла про свое обещание и понятия не имела, что говорить дальше.
— Ладно, — сказала я, — я буду рассказывать до тех пор, пока конец не станет хорошим. Только сидите тихо.
— Я все время сижу тихо. Это только он все время кричит.
— Неправда, не ври.
— Эти, он говорит, что я вру.
— Ладно, перестаньте, — прервала я их. — Сейчас как раз начинается самое главное. Поэтому сидите тихонько и слушайте. Ну вот. И тут случилось нечто неожиданное. Вы еще не забыли, что колдунья забрала у женщины сердце? Женщина его отдала, а колдунья его взяла, правильно? Ну и как вы думаете, что же произошло?
— Женщина умерла. Ведь у нее не было сердца.
— Без сердца ведь жить нельзя, правда? Раз — и ты умираешь.
— Нет, — сказала я, — она не умерла.
Я еще не знала, что скажу дальше, но знала, что обязательно должна найти какой-то резкий поворот сюжета, чтобы сказка закончилась хорошо. И тут я придумала.
— Колдунья, — сказала я, — сделала так, чтобы женщина смогла жить без сердца.
— Она превратила ее в рыбу, да? — подсказал мне Ошри. А Хаим сказал:
— Точно. Мы же видели в супермаркете, что, когда рыб убивают, они все равно продолжают прыгать.
— А у осьминогов тоже сердца нету, правда?
— Правда. Зачем оно им?
— И носа у них нету?
— И носа тоже. Потому что у них не бывает соплей.
Они рассмеялись.
— Ладно, я скажу вам, что случилось. Просто у колдуньи стало теперь доброе сердце.
Они посмотрели на меня с удивлением.
— И она перестала быть колдуньей?
— Она стала доброй женщиной?
— Я первый это сказал. Правда, Эти, я первый это сказал?
— Правильно. Колдунья попыталась засмеяться своим злым смехом, но у нее ничего не вышло. Ее смех получился добрым. Она попыталась взлететь на метле, но и это у нее не получилось. Как только она залезла на метлу, сразу с нее свалилась, а метла сломалась. И сердце у нее было теперь мягкое-мягкое. Ну такое, как…
— Как масло, да?
— Как банан?
— Да, мягкое, как желтый-прежелтый банан. И ей хотелось теперь всем помогать. Только об этом она теперь все время и думала: как бы кому помочь. Ну вот. Когда женщина это увидела, она сначала не поверила. «Может быть, — подумала она, — колдунья снова притворяется?» Но когда она поняла, что это взаправду, что колдунья действительно превратилась в добрую женщину, она стала просить ее, чтобы та вернула ей ее тело. Потому что она по нему ужасно скучала и очень сильно жалела, что согласилась его отдать. Но долго ей просить не пришлось, потому что колдунья сразу согласилась. Ведь она же была теперь добрая. И все-превсе ей вернула: и волосы, и тело, и ноги. А когда она все это вернула, женщина попросила вернуть ей еще и сердце. «Может быть, ты отдашь мне и мое сердце тоже? — спросила она колдунью. — Оно мне теперь понадобится».
Я замолчала и стала ждать, пока они что-нибудь скажут, но они только теснее ко мне прижались. Может быть, они боялись, что я снова скажу что-нибудь страшное и все испорчу.
— В общем, — сказала я, — колдунья стала теперь такая добрая, что отдала женщине и сердце тоже. И сразу умерла. Шлепнулась на пол — и окочурилась.
— Раз — и окочурилась!
— Так ей и надо!
— Да! За все, что она натворила.
— А это уже конец, да? Больше к ней колдунья не придет?
— Конечно, не придет. Она же в могиле.
— А из могилы ведь вылезти нельзя, правда?
Я обняла их и почувствовала, что новый конец их немножко смущает.
— Эти, а кто же теперь выполнял за женщину всю ее домашнюю работу?
— Да. Кто теперь все это делал?
— Ну как кто? — сказала я. — Дети ее. Даже близнецы уже могли ей теперь по дому помогать. Они ведь были очень хорошие и уже достаточно взрослые.
— Как мы, да? Помнишь, как мы помогли тебе мусорное ведро нести?
— Не болтай. Ничего это не как мы. К нам ведь никакая колдунья не приходила, правда?
— Да. И у нашей мамы никто не умирал. Правда же? Это ведь только в сказке у нее муж умер, да?
— Эти, почему ты плачешь?
— Эти, я боюсь, когда ты плачешь. Ты ведь сказала, что этот конец хороший. Почему же ты плачешь?
— Эти, не плачь. Ведь колдунья же умерла. Как только ей сердце вынули, она сразу плюх — и окочурилась.
— Вот, смотри. Я тебе покажу, как она окочурилась. Ну Эти! Ну, посмотри, что ли, на меня. Почему ты не смотришь?
— Нет, ты лучше посмотри на меня. Подвинься, ты! Ты не умеешь окочуриваться. Я окочуриваюсь лучше.
— Ой, гляди! Она смеется.
Что было потом? Потом мы пили чай с полынью, и близнецы макали в него кунжутное печенье. Они это любят. Как сейчас вижу погружающиеся на дно кусочки печенья, перемешанные с листочками полыни, и плавающие на поверхности чая светлые зернышки кунжута. За окном начало темнеть. Ошри притащил стул и залез на него, чтобы включить свет, а потом у меня частичный провал в памяти. Помню только, что услышала взрыв, что бежала в темноте по улице с такой скоростью, с какой никогда раньше не бегала, что вбежала в дом, который приняла за наш, что стояла вместе со всеми перед запертой дверью бомбоубежища, что взорвалась вторая «катюша», что все стали орать и что я орала вместе со всеми.
Я не помнила, почему вышла на улицу и где в это время были близнецы.
Когда я была в их возрасте, я каждый день после школы бегала в фалафельную и всю дорогу приговаривала: «Папа, папа, папа, папа». Тогда это еще было не больно.
С семи лет я стала ему помогать. Каждый раз, как я входила в фалафельную, я видела, что он стоит за перегородкой возле плиты, и, хотя из-за этой перегородки были видны только его волосы, я знала, что вот-вот увижу и его всего. Мне нравилось это ожидание.
Я никогда не ходила к нему за перегородку. Снимала со спины рюкзак, бросала его на пол, наклонялась, подтаскивала деревянный ящик из-под овощей, приподнимала его с одной стороны и ставила на рюкзак. Затем я запихивала под ящик лямки рюкзака, подтаскивала еще один ящик, ставила его на первый так, чтобы он не шатался, вставала на цыпочки и клала на ящик маленькую цветную подушечку. Услышав, что я пришла, папа оборачивался, но, прежде чем обернуться, всегда говорил свою коронную фразу: «Осторожнее с железяками!» Он постоянно беспокоился, что я поранюсь колючей и ржавой окантовкой ящиков. Потом я выходила на улицу, залезала на пустую железную банку из-под соленых огурцов, а с нее — на окно, поворачивалась спиной к подушечке, которую положила на ящики, и плюхалась на нее попкой. Теперь я была готова к работе и, обернувшись, могла видеть всего папу целиком. Он меня — тоже. При виде меня его всегда наполняла радость. Морщины у него на лбу сразу разглаживались, и он становился похож на стакан, в который наливают апельсиновый сок: чем больше в нем сока, тем оранжевая линия поднимается все выше и выше. Таким я запомнила его лицо, когда он поворачивался ко мне и видел, что я сижу на ящиках.
Потом я выдвигала из кассы ящичек с деньгами. Он всегда застревал, и, чтобы его выдвинуть, надо было немножко подвигать его вправо и влево. Он был разделен на квадратные ячейки. Я открывала пакетики с монетами, высыпала их содержимое в ячейки, а затем разглаживала и укладывала в ящик денежные купюры. Купюры были тихие и серьезные, как и изображенные на них лица, а монеты напоминали озорных детей, которые бегают и кричат.
Я сидела на ящиках и ждала, пока начнут приходить старшеклассники. Каждому, кто проходил мимо нашей фалафельной, приходилось делать над собой большое усилие, чтобы не зайти, потому что папа начинал жарить фалафель еще до прихода покупателей и по улице разносился умопомрачительный запах. Папа никогда не боялся, что наделает слишком много фалафеля и не сможет его распродать. Он знал, что запах фалафеля сильнее всех других запахов в центре поселка и обязательно притянет клиентов. Это был один из его патентов, и за одно только это он был достоин звания «короля фалафеля». Каждый день он наполнял центр поселка этим запахом, и не было ни одного человека, который бы проходил мимо и не почувствовал, что голоден. Кроме того, папа никогда не продавал вчерашний холодный фалафель. Только свежеприготовленный и горячий.
В год его смерти мне было одиннадцать лет, и я помогала ему не только за кассой, но и при обслуживании покупателей. К этому времени я уже успела хорошо изучить все его трюки и, когда он умер, хотела рассказать о них его братьям — Морису, Аврааму, Пинхасу, Шими и Эли. Они договорились с мамой, что возьмут фалафельную на себя и будут каждый месяц отдавать ей определенную часть доходов. Однако никто из них меня ни разу ни о чем так и не спросил.
На следующий день после окончания шивы они пришли в фалафельную и единодушно решили, что в таком виде она больше существовать не может и что надо срочно сделать ремонт. Договорившись сложиться и сделать ремонт самостоятельно, они поменяли полы, покрасили стены и сделали потолок с гипсовой лепниной; купили новую сковородку, блестящие тарелки из нержавейки для салатов и большой холодильник; повесили на стену огромное зеркало, а над входом — неоновую вывеску «Наш фалафель просто клад! Заходи и стар и млад!»; поставили в углу аквариум с золотыми рыбками и пластмассовыми цветами; расширили вход, чтобы клиенты могли входить и самостоятельно брать со стойки салаты, а также ввинтили три новых лампочки. Но хотя люди, проходившие мимо фалафельной, и говорили: «Очень красиво. Молодцы!» — однако фалафель не покупали.
Все их расчеты оказались неправильными. Их было пятеро, и они решили, что будет вполне достаточно, если каждый из них будет работать в фалафельной только один день в неделю. Кроме того, они почему-то решили, что в пятницу открывать не надо, так как это короткий день. Они не знали, что в пятницу многие работают так же, как в любой другой день недели, и, когда люди увидели, что по пятницам фалафельная теперь закрыта, они стали покупать фалафель в других местах.
После того как папа умер, я по инерции какое-то время все еще продолжала после школы приходить в фалафельную, но как только видела вывеску «Наш фалафель просто клад!», к горлу у меня подкатывали слезы, я забиралась в росший неподалеку куст с желтыми цветочками, садилась на землю, клала голову на рюкзак и плакала, пока не засыпала. Однако через месяц после того, как они открылись, я все-таки нашла в себе силы не расплакаться и подойти поближе. На новой вывеске уже была трещина, а из всех рыбок в аквариуме осталась только одна. В этот день работал дядя Авраам, и было сразу видно, что он ничего в этом деле не понимает, но потом я приходила еще несколько раз и пришла к выводу, что остальные мои дядья понимают в этом ничуть не больше. Было видно, что фалафель для них — это всего лишь пита, в которую надо бросить несколько шариков, а уж клиенты пусть сами добавляют что хотят. Как я могла им объяснить, что папа делал фалафель для каждого клиента индивидуально? Например, про одного из них он говорил, что тот любит только толстые питы, и всегда старался найти для него самую толстую из всех. Когда этого клиента приходилось обслуживать мне, я, подражая папе, делала то же самое. Про одну женщину он сказал, что она не любит, чтобы у нее текло из питы, и, прежде чем заполнять ей питу фалафелем и салатами, он отрывал от питы сверху небольшой кусочек и клал его на дно, а потом еще и заворачивал питу в две салфетки. Были клиенты, которые перед тем, как купить фалафель, просили дать им один шарик на пробу; были такие, которым папа клал сверху дополнительный шарик; были такие, кто любил, чтобы в пите было побольше тхины, и не боялись, что она порвется; были такие, которые предпочитали слегка подгоревшие шарики; другие, наоборот, просили, чтобы шарики были недожаренными; были жадные — те заказывали только полпорции, даже если были страшно голодные, однако папа всегда накладывал им чуть больше, чем они просили; были и такие, кто считал себя знатоком и пребывал в уверенности, что папа готовит для него не так, как для всех, — те еще в дверях кричали: «Сделай мне, как я люблю!» — однако им-то как раз папа делал самую заурядную порцию. И наконец, было шесть или семь водителей такси, которые, еще не доехав до фалафельной, сигналили в клаксон, и к тому моменту, как они подъезжали, для них уже была готова роскошная порция, упакованная в пакет вместе с каким-нибудь прохладительным напитком.
Люди не знали, как папа хорошо в них разбирается, потому что он говорил мало, но, когда ему удавалось их удивить, он украдкой бросал на меня победный взгляд и подбородок у него при этом слегка дрожал.
Когда папа умер, мне было одиннадцать лет. В тот день я сидела на высоком стуле возле кассы и на голове у меня была новая прическа, которую мне сделали по случаю бар мицвы Коби. Эта прическа мне ужасно не нравилась, как и платье, в котором я там была, и мне вообще хотелось поскорее об этом неприятном событии забыть. О том, как некоторые из гостей щипали меня за щеки, как будто я еще маленькая; а другие гости, наоборот, бесстыже пялили на меня глаза, словно я уже взрослая; а особенно о том, как все вокруг меня фальшиво улыбались и эти их улыбки многократно отражались в многочисленных зеркалах.
В тот день в фалафельной было очень много народу. Все наперебой хвалили папу за то, что он отгрохал такую бар мицву, какой у нас в поселке еще никто ни разу не устраивал, и непрерывно совали мне деньги, а я считала их, давала сдачу, и у меня даже не было времени отойти от кассы. И тут вдруг пришел Дуди с приятелем. Он сказал, что Коби послал его за кока-колой для сопровождающих раввина Кахане, и сразу полез в холодильник, но папа заявил, что бесплатно кока-колу не даст.
— С какой это стати, — возмутился он, — я должен давать им бесплатно?
Через какое-то время пришел сам Коби. В это время я подметала на заднем дворе, чтобы кошки не набежали, и слышала, как он сказал:
— Почему ты ему не дал? Это же для очень важных людей.
— Потому что я бесплатно не даю, — ответил папа. — Пусть сюда хоть сам Бегин[43] приедет, я ему тоже без денег не дам.
— Да? — сказал Коби. — Вот поэтому-то ты и проведешь всю свою жизнь в фалафельной!
К тому моменту, когда я вернулась с заднего двора, Коби уже успел вытащить из холодильника не меньше десяти бутылок кока-колы и, как только я вошла, сразу же сунул несколько бутылок мне в руки. Я не знала, что мне делать, и вопросительно посмотрела на папу, но он не сказал ни слова, повернулся ко мне спиной, уткнулся глазами в плиту и сделал вид, что занят приготовлением фалафеля. Коби пошел к выходу и крикнул, чтобы я шла за ним, как будто он уже взрослый и имеет право приказывать, а когда мы пришли на площадь, стал открывать бутылки и раздавать их людям Кахане. Потом он сел вместе с ними, и они стали беседовать, а я стояла рядом и слушала. Люди, приехавшие с Кахане, все время его цитировали и на разные лады восхваляли. Они сказали, что для народа Израиля он как отец родной, а народ Израиля для него как его собственные дети, и что всех своих детей ему очень жалко, а потом стали рассказывать, как они до нас добирались. Оказалось, что они ехали очень долго и по дороге у них лопнуло колесо, и когда они вылезли из машины, то увидели потрясающе красивый город Иерихон. Кахане сказал, что именно оттуда пророк Элиягу вознесся на небо и что ему очень жаль, что там нет ни одного еврейского поселения. Он пообещал, вернувшись домой, сделать все, чтобы там построили хотя бы одну ешиву. Еще они сказали, что очень расстроились из-за этого лопнувшего колеса, но сам Кахане совершенно не огорчился. Потому что он никогда о себе не думает; только о народе Израиля.
После этого они пошли в толпу и, вскидывая кулаки вверх, стали скандировать: «Народ Израиля жив!» — и на их желтых рубашках тоже был изображен кулак, желтый на черном фоне, но люди их всерьез не воспринимали. Я собрала пустые бутылки, надела по бутылке на каждый палец и по теневой стороне улицы пошла мимо магазинов обратно в фалафельную. Я уже почти дошла, как вдруг заработал громкоговоритель и я снова вернулась на площадь.
Кахане оказался самым обыкновенным человеком с черной бородой и в кипе, который говорил на очень странном иврите — с сильным американским акцентом — и немного заикался. Он постоянно вставлял в свою речь какое-нибудь изречение из Торы, но поначалу говорил очень тихо, и его практически никто, кроме моряка Сисо и его друзей, не слушал. Люди на площади продолжали заниматься своими делами. И вдруг он как заорет:
— Евреи! Дочери Израиля оскверняют себя, связываясь с арабами. Арабы отнимают у нас наши заработки, наших дочерей и нашу страну!
В его голосе звучали одновременно и мольба, и укор, и, услышав его вопль, люди стали выходить из магазинов, а те, кто гулял по площади, остановились и стали слушать.
— Я говорю то, о чем вы думаете сами, — крикнул Кахане в рупор, обращаясь к толпе, стоявшей перед ним с кошелками, пакетами и детскими колясками, и воздел руки к небу. — Все остальные — лицемеры и трусы! Евреи! Мы должны очистить нашу страну от врагов!
Раздались жидкие аплодисменты. Кахане сделал паузу, затем два раза выкрикнул название соседней арабской деревни, погладил бороду и сказал:
— Разве это арабская деревня? Нет, это не арабская деревня! Это еврейская деревня, в которой временно проживают арабы!
Народ засмеялся, и многие стали аплодировать. Бутылки, надетые на мои пальцы, сталкивались друг с другом и позвякивали, но я не боялась, что они могут разбиться. На площадь стекались все новые и новые люди. Они смотрели на Кахане с восхищением и надеждой, а некоторые даже начали скандировать его имя.
Когда я вернулась домой, мама сидела в гостиной с несколькими женщинами и выглядела так, словно бар мицва еще не закончилась. На голове у нее была высокая прическа, глаза были накрашены, а щеки нарумянены. Они о чем-то разговаривали и меня не заметили. Я прошла в комнату, где мы все тогда спали вместе — Ицик, Дуди, Коби и я, — легла на кровать, укрылась одеялом до подбородка и стала думать, что Кахане имел в виду, когда сказал, что дочери Израиля себя оскверняют.
Я проснулась от крика, вскочила с кровати, вышла в гостиную и увидела, что мама бежит к выходу. Она наткнулась на бутылки, которые я оставила у двери, выбежала на лестничную клетку и с криком «Масуд!» бросилась вниз по лестнице. Я, как была босиком, побежала за ней.
Когда площадь в центре поселка заполнилась людьми, папа находился в фалафельной и продолжал находиться в ней даже после того, как площадь уже опустела, но, когда он умер, люди в поселке никак не могли понять, отчего это произошло. Целый год после этого все только и делали, что гадали, что было сначала, а что потом:
масло или пчела?
нож или падение?
сердце или ожог?
кровь или укус?
Как в песенке Хад-гадия[44], в которой рассыпались и перепутались все строки, было совершенно невозможно понять, почему ангел смерти пришел к папе прямо посреди рабочего дня. Мы знали только, что он лежал на полу в фалафельной, и у каждого на этот счет была своя собственная теория. Мама утверждала, что это произошло из-за дурного глаза. Коби сердился на нее и говорил, что папу убило масло. Дуди и Ицик, которым было тогда соответственно шесть и семь, видели нож, лежавший возле папы, царапину и укус пчелы. Врачи же сказали, что, по-видимому, у него просто остановилось сердце.
Я была тогда еще маленькой и подумала, что, возможно, папино сердце остановилось просто потому, что не хотело, чтобы он пошел на площадь вместе со всеми другими, чьи сердца слились там в одно общее сердце-чудище. Не хотело — и остановилось. А он из-за этого упал на пол — и умер.
Я вышла из бомбоубежища и пошла к нашему дому. Было темно. Я поднялась по лестнице. Мне не хотелось снова сидеть в бомбоубежище. Дверь Коэнов была настежь, как и все остальные. Буквально все двери были открыты. На каждом этаже словно разверзлись пещеры, каждая со своим собственным запахом. Наша дверь тоже была открыта.
Я пошла на кухню, на ощупь нашла спички, лежавшие на «мраморе» возле раковины, и зажгла горелку на плите. Затем вынула субботнюю свечу, поставила ее на блюдце и зажгла. На стене коридора висела фотография папы по пояс, навеки заключенная в позолоченную резную рамку. Рядом висела наша семейная фотография, сделанная на бар мицве Коби, где мы все глупо улыбались. Мама уже давно умоляла эту фотографию снять. «Не могу, — сказала она однажды, — видеть эту смеющуюся дурочку, которая еще не знает, что через два дня ей на голову упадет потолок». Я сняла фотографию со стены и пошла в гостиную. На столе стояли тарелки с кускусом, который мама готовит по вторникам. Я попробовала из каждой тарелки. В одной тарелке он оказался слишком острым, в другой — пересоленным, в третьей еще теплым, а в четвертой холодным и противным. Я посмотрела на свечу, прикрыла ее рукой, и увидела, что ее пламя в верхней части становится оранжевым. Ну и пусть, подумала я. Пусть она сгорит. Пусть хоть все здесь сгорит. Я так резко встала со стула, что он с грохотом упал, и вдруг услышала какой-то звук. Освещая себе дорогу свечой, я пошла по направлению к шкафу Коби, который стоял в самом конце коридора, и вдруг поскользнулась на масле. Свеча замигала и чуть не погасла. Но тут свет в квартире неожиданно зажегся, и я увидела, как дверцы шкафа распахиваются. Из глубины шкафа на меня смотрели два маленьких личика — Ошри и Хаим.
— Эти, а кого мы боимся сейчас? — спросили они хором.
Я потушила свечу, стараясь не упасть на скользком полу, подошла к шкафу, сняла сандалии и залезла внутрь; потом закрыла дверцы, оставив только узкую щелочку для света, и почувствовала, что вот-вот зареву. Но я не заплакала. Вместо этого я решила рассказать им еще одну сказку.
И чего они только в шкаф не нанесли: и две подушки, и водяной пистолет, и буханку хлеба, в которой выгрызли всю мякоть, так что осталась только корка.
Мы сидели в утробе шкафа, тесно прижавшись друг к другу, и они наперебой рассказывали мне, что произошло с ними в течение нескольких последних часов: как раздался сильный взрыв и стало темно, как они залезли в шкаф и, выполняя указание Коби, разлили возле него масло, как они услышали второй взрыв и как все соседи в доме заорали, потому что не знали, что надо залезать в шкафы.
Я не понимаю, как они не испугались — я бы на их месте просто умерла со страха; и я не знаю, когда Коби успел рассказать им про шкаф и масло — я даже их об этом не спросила. Я их только поцеловала и сказала:
— A y меня для вас новая сказка есть. Только на этот раз взаправдашняя, про нашу семью.
Мне не хотелось начинать сказку ни со смерти папы, ни с бар мицвы, с которой обычно начинала свой рассказ мама. Я не считаю, что надо обязательно начинать с бар мицвы. Можно подумать, что бар мицва — это какая-то высокая гора, а смерть папы — глубокая пропасть, и только если залезть на вершину горы, можно прочувствовать всю глубину падения.
Я прижала головки близнецов к себе и стала поглаживать им пальцем над бровями. Они это очень любят и обычно сразу закрывают глаза. Но хотя глаза у них закрылись и на этот раз тоже, они не уснули. Они слушали. Я знала, что они меня слушают.
— Эта сказка необычная, — сказала я тихо. — Такую сказку вы еще никогда не слышали. Ее надо рассказывать не сначала, а с конца. Да, только так ее и нужно рассказывать. И концом этой сказки будете вы. Видите, какой у нее будет хороший конец.
Январь 2000 г. — август 2005 г.