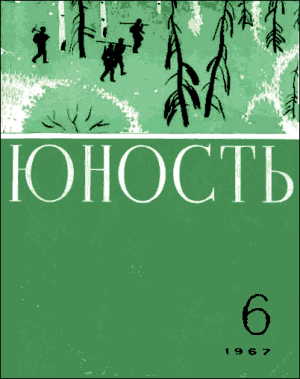
Пролог
Странное происшествие в цирке «Аэрос» осенью 1956 года
Советский цирк, гастролирующий в Лейпциге, давал шефское представление для воинов, своих земляков.
— Нашу программу мы начинаем с выступления эквилибриста Льва Осинского — фронтовика-орденоносца, бывшего сержанта противотанковой артиллерии! — объявил ведущий.
На манеже установили белоснежную колонну-пьедестал высотой в два с половиной метра. Погас свет, и прожекторы осветили статую, застывшую на колонне. Вот она ожила.
Осинский нагнулся, оперся правой ладонью о пьедестал, медленно выжал стойку, легко перешел во «флажок».
Солдаты дружно зааплодировали.
Артист снова исполнил стойку на одной руке. Из пьедестала начал выдвигаться длинный, тонкий стержень, поднимая артиста в стойке все выше и выше к куполу, опутанному сетью тросов и трапеций...
На уровне второго этажа стержень стал вращаться. Все быстрее и быстрее. Продолжая стоять на правой руке, Осинский плавно описал левой несколько кругов в такт вальса.
Снова раздались аплодисменты.
Сейчас стержень должен остановиться, уйти внутрь пьедестала, а артист — встать на ноги и раскланяться...
Свет погас неожиданно. Мотор остановился так резко, что Осинский чуть не потерял равновесие.
«Что случилось?..»
Умолк оркестр. В амфитеатре кто-то ахнул. Зрители заволновались.
Прошла минута. В кромешной тьме артист продолжал стоять на одной руке на верхушке длинного, дрожащего стержня.
Загорелась спичка, вторая, третья... Одна за другой они вспыхивали в разных концах зала.
Осинский слышал, как в наступившей тишине солдатские руки торопливо похлопывали по карманам, нащупывали коробки.
«Спуститься по стержню невозможно: он весь в масле... Сорвешься... Что делать?..» . Стержень уже ходил ходуном во все стороны.
Рука затекла. В глазах рябило от вспыхивающих то тут, то там огоньков. Кто-то поджег газету, еще одну, еще... Осинский почувствовал запах гари. В глаза резко ударил луч карманного фонарика. Осинский до боли зажмурился, чудом удержав равновесие.
— Саша! Лестницу! — вдруг сообразил он. — Она за кулисами, у выхода.
Униформист Андреев бросился за кулисы, чиркнул спичкой. Лестницы не было! А ведь он только что поставил ее сюда. Андреев обежал все закулисное помещение. Лестница исчезла.
Прошла еще минута.
У Осинского кружилась голова. Цирк поплыл, закачался из стороны в сторону.
«Сейчас упаду!.. Больше не выдержу!.. Где же Саша?..»
А униформист ощупью, натыкаясь в темноте на аппаратуру, разыскивал выход из-за кулис в пожарную комнату.
«Буду считать до пятидесяти, до ста, до тысячи — до тех пор, пока не принесут эту проклятую лестницу!»
— Свет! Дайте свет! — кричали солдаты.
В пожарной комнате лестницы не оказалось. Андреев, покраснев от натуги, отчаянно жестикулируя, кричал немцу-пожарнику:
— Лестница! Понимаете, лестница! Где в цирке еще есть лестница?
— Gibt es im Zirkus noch Leitern[1]? — в свою очередь, закричал немец, волнуясь не менее униформиста. — Ja, ja[2]!
— Я? Я? — радостно воскликнул униформист Андреев. — Где? Где?
— Ja, aber nur weit im Hof. Hol Sie schneller her[3]! — крикнул пожарный и первым бросился вниз по ступенькам.
«Пятьдесят пять... Пятьдесят шесть... Пятьдесят семь...»
— Свет! — ревел цирк.
«Сто десять... Сто одиннадцать... Сто двенадцать...» Внизу у колонны раздались крики.
Запыхавшиеся униформист и немец-пожарник притащили лестницу.
Осинский с трудом отдышался и с переводчиком направился к электробудке. В ней сидел молодой худощавый немец.
— Что случилось? Почему погас свет? — спросил переводчик.
— Испорчено! Капут! — ответил электрик, виновато улыбаясь и показывая на пробку.
Осинский вывернул пробку, проверил ее — цела! Электрик побледнел. Он никак не ожидал этой проверки.
— Нет! Нет! Другая!
Осинский вывернул и другую. Цела! И третья цела! Все пробки были целыми.
В будку ворвался взбешенный директор цирка «Аэрос» Лангельфельд и схватил электрика за ворот с такой силой, что затрещала рубаха.
— Ты ест мерзавец! Ты ест сволочь! — закричал он и отшвырнул парня в угол, на корзину с лампочками. — Не волнуйтесь, герр Осинский! Мы будем знать, кто таскаль лестниц, зачем таскаль, когда таскаль! Я ест не только директор, не только трессер слони, я ест детектив!
За кулисами, у гардеробных, Осинского ожидали взволнованные солдаты:
— Что случилось? В чем дело?
— Ничего особенного, ребята. Небольшая авария, перегорели пробки.
Солдаты не расходились, восторженно разглядывая Осинского.
— Автограф у вас можно попросить?
— Конечно, можно. С удовольствием.
К артисту протянулись руки с записными книжками, карандашами, самопишущими ручками. Кто-то подал носовой платок.
— Распишитесь, пожалуйста... Вы, наверное, с детства мечтали стать артистом цирка?
— Нет... Все вышло случайно. Мне было тринадцать лет. Я потерял родителей, воспитывался в детдоме, в Уральске. Однажды в городок приехала бродячая труппа... Это было в тысяча девятьсот тридцать седьмом году...
Часть первая
Левка становится «человеком-змеей»
Глава I
В городском саду
Три неразлучных босоногих друга: загорелый крепыш Левка, тощий, длиннорукий и горбоносый Миша Кац и хрупкая, беленькая Сабина — увидели на круглой тумбе серую рукописную афишу:
ГОРОД УРАЛЬСК, ГОРСАД, РАКОВИНА
СО 2-го ИЮНЯ И ЕЖЕДНЕВНО!
Проездом обратно в столицу!
Большая эстрадно-цирковая программа!
Жонглеры АБАШКИНЫ, каскадеры.
ЧЕЛОВЕК-АКВАРИУМ или ЧЕЛОВЕК-ФОНТАН.
Акробаты, клоунада! ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ!
Ежедневно борются три пары!
ИЗВЕСТНЫЙ БОРЕЦ ЯН ДОЙНОВ
ВЫЗЫВАЕТ БОРОТЬСЯ ЖЕЛАЮЩИХ
ИЗ МЕСТНЫХ ЛЮБИТЕЛЕЙ.
Перед борьбой парадный выход всех борцов.
Борьбой будет руководить арбитр
известный московский спортсмен П. ЛАРСОН.
Ведет программу ПАНИЧ. Партия баяна ПАНИЧ.
Начало представления в 8 вечера.
Начало борьбы в 9 ч. 15 м. вечера.
Окончание в 10 час. 30 мин. вечера.
СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!!!
Дирекция
На цирковое представление детдомовцам купили двадцать билетов. Бросили жребий. Левка попал в число счастливчиков.
В городской сад ребята пришли задолго до начала представления. Они сразу заметили широкоплечего атлета с лицом гориллы. Очень загорелый, в ярко-зеленой шляпе и белой майке, он сначала сидел в кассе: продавал билеты, — потом встал на контроле.
— На шее-то крестик, гляди! — шепнул ребятам Миша Кац.
— Не то, что у тебя, некрещеного, — пошутил Васильев.
— Проходите, проходите, пацанье, что уставились? — сказал борец, обнажив ряд крупных зубов.
— Ребята, на уши гляньте, — тихо сказал Васильев. — Жуткое дело!
Уши силача походили на пельмени, все хрящи были переломаны от бесконечных схваток на ковре.
Атлет надорвал билеты, и ребята уселись на скамью, с нетерпением ожидая начала.
— Вот бы пощупать его уши! — мечтательно сказал Левка. — Интересно, жесткие они или мягкие.
— Подойди, пощупай! — предложил кто-то из детдомовцев. — Такую плюху получишь, что сто раз перекувырнешься!
— Да, здоровый бычище, — сказал Миша Кац. — Вы думаете, они по-взаправдашнему будут бороться? У них заранее все подстроено. И роли распределены, как в театре. У них есть и герои, и комики, и злодеи.
— Ну да! — не поверил Левка.
— Я тебе говорю. Отец объяснял. Он-то знает точно! Всю жизнь в центральном проходе Одесского цирка главным билетером простоял. Они заранее сговариваются, кто на какой минуте под кого ляжет.
— Не бреши!
— Не верь, твое дело!
На эстраду хромающей походкой вышел человек в черном лоснящемся костюме и, поклонившись, сказал:
— Привет! Привет всем впереди сидящим! А также позади стоящим!
Зрители зааплодировали. На сцену выставили табурет с баяном, покрытым куском желтого бархата.
— Первым номером нашей программы — «Турецкий марш» в исполнении известного баяниста-виртуоза Панича, то есть меня!
Кончив играть, баянист раскланялся и объявил:
— Следующим номером нашей концертной программы...
В этот момент за спиной у Левки, прямо над его ухом, раздался оглушительный звон и стук. Левка обернулся и не поверил своим глазам. За ним сидели... его любимые киногерои: длинноусый тощий Пат в котелке и коротышка Паташон в своей неизменной чаплашке на бритой голове. Паташон бил в большие медные тарелки, Пат — в огромный барабан. Ударяя в него войлочной колотушкой, он вопил:
— Ой-та-ри-ра-ра! — вторил Паташон, продолжая нещадно колотить в тарелки.
Зрители дружно захохотали и захлопали. Никто и не заметил, когда артисты успели занять места на скамейке. Панич очень рассердился на клоунов:
— Будьте любезны, не поднимайте шума! Эти места не для вас! Эти места для публики!
— У нас сегодня выходной! Мы сегодня публика! — закричали артисты. — Значит, это наши места!
— А билеты у вас есть?
— Мы их отдали билетеру у входа!
— Сейчас узнаю! — строго сказал Панич и скрылся с эстрады.
Артисты растерялись.
— Ребята! — обратился Пат к Левке и Мише Кацу. — Одолжите нам, пожалуйста, свои билеты. Мы их предъявим и тут же вернем!
Едва ребята успели вручить билеты, как вернулся Панич.
— Никаких билетов вы контролеру не отдавали!
— Прошу не оскорблять! Вот наши билеты!
Панич извинился перед артистами, убедившись, что все в порядке.
— Ну, а если бы у нас билетов не было? — спросил Пат.
— Тогда бы я вас за шиворот и вон!
Пат и Паташон уставились на Левку и Мишу Каца и начали хохотать. За ними весь зал. А Левка и Миша Кац громче всех.
— А ну-ка, проверьте билеты у этих ребят! — хором закричали Пат и Паташон и побежали на сцену. Панич с извинениями вернул билеты ребятам и тоже поднялся на эстраду.
— Я продемонстрирую факирский номер под названием «Человек-аквариум» или «Человек-фонтан!» — объявил он.
Вынесли аквариум с лягушками и рыбками, ведро и поднос со стаканами. У ног баяниста поставили большое корыто. Панич зачерпнул стакан воды и выпил его залпом. За ним — второй, третий, десятый... Ребята не верили своим глазам, удивленно глядели на Панича, который все пил и пил воду.
Зал хором считал количество выпитых стаканов:
— Двадцать девять... Тридцать...
— В первый раз такой номер вижу, — сказал Миша Кац, — тридцать девять... сорок... Только от отца слышал...
Панич пил стакан за стаканом. Потом вставил в рот какую-то трубочку и выпустил через нее три высоких фонтана. Вставил новую — выпустил четыре. Новую — пять!
Артист подошел к аквариуму.
— Какой ужас! — брезгливо сказал за спиной Левки чистенький старичок. — Неужели и лягушек будет брать в рот? Это же негигиенично!
Старичок угадал. Артист глотал лягушек и выплевывал их в корыто, предварительно вежливо осведомившись у зрителей:
— Как пожелаете, товарищи? Чтобы лягушки выходили изо рта вперед головками или задними лапками?
В заключение номера Панич пил какую-то желтоватую, маслянистую жидкость, поджигал щепочку, прыскал на нее точно так, как делают хозяйки во время глаженья, и изо рта извергалось пламя.
— Неужели керосин? — удивился Васильев.
— Не может быть. Тут какой-то фокус! — сказал Левка.
— Какой фокус? Не чувствуешь разве? — пошевелил ноздрями Миша Кац. — Мне отец про такие номера рассказывал! Артисты так и называются: «керосинщиками».
Закончив номер, Панич объявил:
— Знаменитый атлет Ян Дойнов продемонстрирует упражнения с гирями и красоту фигуры!
Дойнов оказался тем самым силачом в ядовито-зеленой шляпе и белой майке, что сидел в кассе. Сейчас он был в одних трусах.
— Демонстрируются мышцы! — объявил Панич после того, как Дойнов пожонглировал гирями и штангами. — Бицепсы и трицепсы!
Атлет заложил руки назад за спину, сжав кисти вместе. На руках проступили могучие мускулы. Потом, положив руки на голову, согнув локти, Дойнов заиграл мышцами.
— Вот это сила! — завопили детдомовцы.
— Знаменитый танец «Ойра-ойра»! — объявил Панич.
Под кожей Дойнова в такт музыке заплясали мышцы.
— Для следующего трюка попрошу на сцену нескольких желающих! — пригласил Панич.
Левка и Миша Кац выскочили первыми. На эстраду выкатили легкую двухколесную тачку с одной оглоблей, к концу которой была прибита небольшая рейка.
— «Римская колесница»! — объяснил Панич. — Прошу усаживаться!
В тачку забрались человек двенадцать. Атлет повернулся к «колеснице» спиной, развел в сторону лопатки и захватил ими рейку. Громко задышав, он двинулся вперед и прокатил колесницу по сцене несколько кругов.
Зрители зааплодировали так, что Паничу с трудом удалось объявить антракт.
— Вот это силач! — восторгались детдомовцы, гуляя по саду. — Скорее бы борьба начиналась! Конечно, Дойнов всех уложит!
На одной из аллей громко возмущался чистенький старичок:
— Это же «дикая» бригада! Жульничество! Частная антреприза! В наше время! Самозванцы! Халтурщики! А номер с лягушками? Антисанитария! Тьфу!
— Чего же вы не ушли? — спросил старичка Миша Кац.
— Как же я уйду, не посмотрев борьбы, хлопчик? — рассмеялся вдруг старичок. — Знаю, что это липа, лавочка, а все равно каждый день ходить буду! Обожаю борьбу!
После третьего звонка ребята вернулись на свои места.
— Начинаем открытие чемпионата французской борьбы, организованного мною для борцов-профессионалов всех категорий! — объявил здоровенный толстяк в косоворотке. — Парад-алле! Маэстро, марш, прошу!
Панич заиграл «Марш гладиаторов». Неторопливой походкой, чуть вразвалку выходили борцы. Кто в линялых трусах, кто в поношенных трико разных цветов, с наколенниками на ногах. Описав круг, борцы выстроились в ряд, безразлично рассматривая зрителей. Самым красивым и молодым среди них был Дойнов. Но на арену его вызвали последним. Арбитр объявил:
— Вызываю на ковер премированного борца-геркулеса Яна Дойнова-Донца, ловкого, как рысь, гибкого, как змея, в весе ста шести килограммов, и непобедимого колосса Хаджи Мурата-второго, неоднократного победителя чемпионатов французской борьбы, мастера ураганного темпа, в весе ста пятидесяти килограммов.
В зале оживленно загудели:
— Слон!
— Бегемот!
— Туша!
— Гора!
Это была, конечно, самая интересная схватка. Дойнов блестяще владел техникой: вертелся вьюном, стоял на голове, пируэтами уходил от партнера. Лучше всего у него получались «мосты». Лысый, большеголовый Хаджи Мурат-второй, вызывая всеобщую ярость зрителей, ставил подножки, мучил «двойными нельсонами», зажимал Дойнову рот, нос, кусал его за ногу, бил с размаху по шее — отпускал «макароны» — пыхтел и рычал, как зверь.
— Есть! — наконец торжествующе пробасил Хаджи Мурат-второй и, хрипло, зловеще захохотав, уложил Дойнова на лопатки.
— Неправильно! За ковром! Не считается! — ревели зрители.
Арбитр пошел совещаться с судейской коллегией. Они долго о чем-то спорили. Арбитр вернулся и объявил решение:
— За время схватки борцы к фактическому результату не пришли! Однако, по существующим для данного матча правилам, жюри считает возможным победу засчитать Хаджи Мурату-второму, как проявившему большую инициативу! Правильно!
— Неправильно! Долой Хаджи Мурата-второго! Сапожники! — завопили зрители.
Дойнов неожиданно поднял руку, и все стихло:
— Прошу реванш!
— Реванш! Реванш! — закричали зрители.
После долгого совещания с членами жюри арбитр объявил:
— Решительная схватка без ограничения времени между Дойновым и Хаджи Муратом-вторым разрешается! Завтра пара будет бороться снова.
Зал заревел от восторга. Арбитр объявил состав пар, и борьба закончилась.
— Каждый день будем ходить! Любыми способами прорываться! — произнес разгоряченный, счастливый Левка, подходя к детдому.
Глава II
Счастливый день
Две недели спустя Левка, Сабина и Миша Кац возвращались с прогулки в детдом. Палило солнце. Они шли босиком, вздымая клубы пыли.
— Неужели и сегодня пойдете на борьбу? — спросила Сабина. — Неужели не надоело?
— Неужели пропустим? — сказал Левка. — Финальные схватки! Четыре пары! Без ограничения времени! До окончательного результата! Удивляюсь, как тебе борьба не нравится!
— А что хорошего?
— А что хорошего? — переспросил Левка и завопил: — Смотри! Эй ты, презренная «подкладка», Железная Маска, борец Кац Мурат-третий!
— Что, трусливое животное, Красная Маска, борец Осинский?
— Я, чемпион детдома Уральского, в весе двухсот семидесяти килограммов, вызываю тебя, Фому Неверующего, на «буревую» схватку!
— Я, чемпион мира и его окрестностей, в весе тысячи пудов, принимаю твой вызов!
Друзья покатились по траве. Мгновенно уложив Мишу Каца на лопатки, Левка поставил на его хилую грудь ногу и закричал, совсем как арбитр:
— На первой секунде, приемом «тур-де-бра» — броском через плечо — победил атлет-геркулес Осинский! Правильно!
Сабина громко смеялась.
В детдоме их встретили возбужденные ребята.
— Левка! Где ты пропадал? Тебя Донец ищет!
— Дойнов? — страшно удивился Левка. — Зачем?
— Он приходил в детдом, — перебивая друг друга, рассказывали ребята, — хочет кого-нибудь усыновить!
— Как так — усыновить?
— Ему пацан нужен для номера. Такой, чтобы гнуться мог. Мы ему про тебя рассказали, как ты стойки жмешь. И про Сабинку, как она танцует. Пошли скорей!
Всей ватагой ребята отправились в городской сад.
— А клоун им не нужен? Клоун не нужен? — горячо расспрашивал по дороге Миша Кац.
— Нет, про клоуна ничего не говорил...
— А может, говорил? Может, вы не расслышали?..
Борцы репетировали в раковине на матах. Дойнова среди них не было. Ребята спросили арбитра:
— Вы Дойнова не видели?
— Сейчас придет! — ответил арбитр и скомандовал борцам:
— Теперь в стойки! Пируэты на голове! Обратные парады! Классические призы!
Борцы старательно выполняли все упражнения.
— Ух ты! — сказала Сабина. — Работать-то как приходится!
— Это ты верно сказала, девочка, работать! — раздался сзади чей-то голос. — Цирк — это труд.
Ребята обернулись и увидели «злодея» — громадину Хаджи Мурата-второго, сидящего верхом на скамье. Борец уплетал телячью ногу. Перед ним стояло несколько кружек пива и глубокая миска со сметаной. Он уже не казался таким страшным, как во время матчей.
— В цирке завалишь трюк — сорвался, разбился насмерть! Тут не схалтуришь, все на чистом масле! А уж о спиртном и говорить нечего. Даже пива ни-ни! Режим!
— А это что? Режим? — вежливо осведомился Миша Кац, указав на кружки с пивом.
— Худею, — горько вздохнул и жалобно пробасил великан. — Сегодня взвесился — всего сто сорок три кило! Расстроился — ужас: мне никак в весе сбавлять нельзя! Должность такая! Вот и приходится пиво со сметаной смешивать. Полкружки сметаны на полкружки пива. Верное средство. Да вот не помогает что-то!..
Подошел Дойнов.
— А, артистов привели...
Борцы и детдомовцы окружили ребят.
Дойнов быстро ощупал Левку с ног до головы своими сильными руками, раскрыл ему рот, оглядел зубы.
«Совсем как барышник лошадь!..» — подумал Левка.
— Стойку жмешь?
Левка кивнул.
— Руки-в-руки стоял?
— Нет.
— Ладно, попробуем! Держись туго!
— Как это туго?
— Не расслабляй мышцы!
Атлет легко поднял Левку, поставил к себе на плечи, протянул свои железные ручищи ладонями вверх.
— Жми.
Левка оперся на ладони Дойнова. Дойнов захватил его запястья, а Левкины ноги рывком оттолкнул плечами. Мальчик выжал стойку. Ребята разинули рты:
— Вот это да! Ай да Левка! Ай да артист!
— Никакой он не артист! — сказал Дойнов, опустив Левку на пол. — Трюк вышел благодаря моему опыту. Очень неверный трюк. Руки-в-руки надо почувствовать!
«Не примет! — испугался Левка. — Не чувствую!..»
— А ты, пацанка, что умеешь? — спросил Дойнов Сабину.
Девочка выгнулась колесом назад и обхватила себя руками за щиколотки. Дойнов скривил рот.
— Щупловата маленько... Совсем дохленькая.
Левка увидел, как расстроилась Сабина.
— Я поправлюсь, товарищ борец, — сказала она чуть не плача и умоляюще посмотрела на силача. — Я... пиво буду пить... со сметаной смешивать!..
Все рассмеялись. Дойнов спросил:
— А шпагат умеешь?
Сабина сделала шпагат.
«Как бы меня не заставил!» — испугался Левка. Сердце его забилось часто-часто.
— А ты, пацан, гнуться можешь?
— Пробовал.
— Гнись.
Левка согнулся. Дойнов очень удивился.
— Природные способности! — оживились борцы.
«Слава богу! — обрадовался Левка. — Только бы про шпагат не спросил!..»
— А как насчет шпагата? — тут же спросил Дойнов.
Левка покраснел, увидел встревоженное лицо Миши Каца, подумал в страхе: «Не возьмет!.. Отправит назад!.. Рискнуть, что ли?..»
— Шпагат умеешь, спрашиваю?
— Умею.
— Тогда садись! Что резину тянешь?
Левка сел и тут же почувствовал резкую боль между ногами и под коленями. Казалось, с хрустом надорвались все связки и сухожилия, лопнула не то кожа, не то штаны. Он попробовал подняться, но не смог. В глазах поплыли разноцветные круги.
— Вставай!
— Не могу!
Дойнов легко, как котенка, поднял Левку за шиворот и посадил на пол. Боль не утихала.
— Ты, чмур! — выругался Дойнов. — Мог разорвать пах! Но ничего, сможешь шпагат делать, выйдет из тебя каучук!
— Чего-чего? — спросил Левка, задрав голову.
— Не знаешь? Гнуться будешь туда-сюда. Как резиновый. Кто вперед гнется — тот клишник, кто назад— каучук. Варишь мозгой? А я тебя и вперед и назад научу. И вправо и влево. Ляжешь в постель, сумеешь левой ногой почесать за правым ухом. Человеком-змеей будешь! Гуттаперчевым пацаном! Можешь подняться?
Левка еле встал.
— Алле за мной!
Они вышли на улицу. Дойнов купил Сабине и Левке по стакану газированной воды с сиропом.
— Угощайтесь! А вечером приходите на программу. Поговорим после борьбы.
Дойнов снимал небольшую комнату неподалеку от городского сада. Вся она была заставлена фикусами, пальмами, в двух клетках прыгали канарейки. Стены борец украсил афишами.
Из большого кофра Дойнов вытащил два выцветших, стареньких матросских костюмчика с якорями.
— Приложьте, приложьте к себе! Красотища, а не костюмчики! В трумо, в трумо гляньте! Хороши!
— Очень красивые! — сказали восхищенные ребята.
— Будут ваши! А тебе, пацаняга, вдобавок еще и шляпу нацепим! Знай наших!
— Я не хочу шляпу, — сказал Левка.
— Ничего не понимаешь! — рассердился Дойнов. — Шляпа — символ артиста! На-ка, мерь!
Дойнов снял шляпу и передал ее Левке. Тот примерил. Она тут же съехала ему на нос.
— Идет тебе! — восхитился Дойнов. — Ты в ней просто как граф! Как херувим! Глянь в трюмо, глянь! А великовата, — так не беда! Из газеток обруч соорудим, внутрь подложим! Ежели договорюсь насчет вас в детдоме, с завтрашнего дня афидерзей! Переедете ко мне! Ну как, рады?
— Ясное дело, рады.
— Еще бы не рады! Какой макака не желает артистом стать? Красивая жизнь! Цветы! Поклонники!
Дойнов вытащил из кофра толстый альбом с фотографиями. С первой страницы приветливо улыбалась красивая женщина в клоунском костюме, расшитом блестками.
— Моя жена — клоунесса! — с гордостью сказал Дойнов. — А вот и я сам!
Рядом с женой Дойнова стоял огромный клоун в клетчатом сюртуке до колен, коротких полосатых брючках и больших тупоносых ботинках.
— Так вы еще и клоун? — удивились ребята.
— Да еще какой! — похвастался Дойнов. — Пат и Паташон мне в подметки не годятся! Слабаки! Бездари!
— А это что за ребята? — спросил Левка, указав на фотографию мальчика и девочки в матросках.
— У меня работали, — нахмурился Дойнов. — Сбежали, охламоны! Вы теперь вместо них будете!
— А почему сбежали? — спросил Левка.
— Паскуды, вот и сбежали! Переманил их один подлец!
— А что они делали?
— Пацан со мной этюд, а паразитка — каучук. Жаль, что их костюмы для работы вам не подойдут. Все навыворот получается: ты будешь каучук, а она — этюд! Придется новые шить! Но ничего, выдюжу!
— А почему вы сейчас в цирке на арене не работаете?
— Так... Есть причины... — уклончиво ответил Дойнов. — У нас теперь свое дело будет, повыгодней. Бригада будет что надо! Павел и Валерия Абашкины — салонные жонглеры. Я — три номера, ты — один, Сабина со мной — этюд, Панич — «Человек-фонтан», баян, конферанс! Загинай пальцы! Лихо? То-то! Нешто это в госцирке будешь иметь? Там человеку заработать как следует не дадут! Будут посылать по разнарядке, куда хотят, да еще не дай бог в коллектив засунут. А у нас житуха вольная. По морям, по волнам, нынче здесь — завтра там! Куда захотел, туда и поехал. Вольные птицы! Кумекаешь? Варишь мозгой? То-то!..
Ребята вернулись в детский дом очень поздно. На лестничной площадке Левку поджидал Миша Кац.
— Ну как? — спросил он с волнением. — Говорил насчет меня? Не надо клоуна?
— Говорил. Ничего не выйдет, Миша... Он сам клоун... И жена его клоун...
— Эх, жаль... А я-то надеялся... — вздохнул Миша.
Глава III
Репетиции
На другой же день Дойнов забрал Левку и Сабину из детского дома. Репетировать начали во дворике.
— Каучук — особый жанр, — объяснял Левке Дойнов, — у тебя должны расходиться позвонки. Но не слушай, ежели кто треп пустит, что это для роста плохо! Болтают!
— Как? — испуганно спросил Левка.
— Не бойсь! Ты знаешь, что каждый человек к вечеру становится ниже ростом?
— Ну да? — не поверил Левка.
— А как же! Не слыхал, темнота? За счет жидкости между позвонков. За день человек находится, намыкается, его позвоночный столб на сантиметр-полтора дает усадку. Отдохнет тело за ночь, утром снова подлиньше стал! На себе проверь! Смерься утром и вечером — увидишь! А ежели артист, кто работает каучука, повиснет руками на турнике, расслабит мышцы, повисит минуты две, его тело вытянется на десять—пятнадцать сантиметров, а то и побольше! Так должно стать и у тебя! Потренируемся. Ничего страшного. Увидишь. Помять тебя, конечно, придется что надо! Но коли артистом решил стать, держись!
Дойнов поставил побледневшего Левку лицом к себе. Левка сделал мостик. Дойнов с силой потянул его за плечи. Мальчик вскрикнул.
— Терпи! Твоя башка должна лечь на задницу! Гнись назад! Гнись! Сызнова гнись!
Дойнов опять сильно надавил, и Левка еще раз вскрикнул от боли.
— Не бойсь! Не сломаю! Теперь садись на пол!
Громадина-борец всей своей тяжестью стал давить на мальчика сверху, мять ручищами. Эта пытка продолжалась около двух часов. Вспотевший, измученный, Левка к концу репетиции еле дышал.
— Теперь сходим в баню, попаримся как следует, потом — обедать. Любишь париться-то? Молодец!
После бани Дойнов торжественно вручил ребятам заветные матроски.
— Как херувимы вы у меня! Как куклята!
— Мы пойдем в детдом. Наших навестить!
— Дело! Стой, куда без шляпы-то? Спятил?
— Не надо шляпы...
— Как так не надо? — мгновенно рассвирепел Дойнов. — Чмур упрямый! Что такое шляпа, я тебе объяснял? Повтори!
— Символ артиста, — робко пролепетал Левка.
— Ну, вот! То-то! Чтобы по улице без шляпы ходить не смел! Только в комнатах разрешаю сымать! Подложи газетины и дуй!
Было ужасно стыдно идти в шляпе. Левке казалось, что вся улица смотрит на него. Мимо пробежали трое мальчишек.
— Велипут! Цилиндра! — закричали они.
Левка снял шляпу.
В детдоме старенькие матроски с якорями произвели фурор.
— Вот повезло вам! — с завистью говорили ребята. — А шамовка хорошая?
— Мировая! Не то, что в детдоме.
Левка с Сабиной еле успевали отвечать на вопросы.
— А лягушки у хромого дрессированные?
— Ясное дело, дрессированные! Будут тебе обыкновенные лягушки вылезать изо рта вперед задними лапками! Знаешь, сколько с ними репетировать приходится! С ума сведут, пока их не вразумишь!
— Неужели все понимают?
— Абсолютно! Только что не разговаривают! Одна ему прикурить спички приносит! Сам видел! Умора! Ее Люськой зовут. А Манька по утрам будит. Приползает на подушки, квакает, как будильник! И всегда в шесть утра. Ровно! А возит он их в особом чемодане с аквариумом. У каждой своя подушечка! Как буржуйки! Только на мягком спят!
— Брешешь!
— Не верь, твое дело!
Ребята ахали, слушали, раскрыв рты.
— А как он столько воды выпивает?
— Он несчастный человек. Этот номер работать очень трудно. Его учили с детства. Он здорово желудок разработал. Конское ведро входит. На двенадцать литров! Выдует ведро, напряжет мускулы и обратно...
— А керосин он на самом деле пьет?
— Да, он обедает в час дня. Потом до вечера ничего не жрет. Приходит за час до работы, промывает водой желудок. И после керосина час промывает. Потом ужинает. И так каждый день.
— Веселенькая житуха!
— Умора! Пришли мы в керосинную лавку. Панич не знает, какой сорт брать. Попросил попробовать. Продавщица не поверила. Думает, шутит человек. Он взял в рот, проглотил. У нее глаза на лоб! Дала всех сортов и денег никаких не взяла. Чуть не заплакала от жалости. Иди, иди, говорит, алкоголик, несчастный человек, пропащая душа твоя, погубитель своей жизни!
Ребята долго хохотали.
— А Дойнов вас не калечит?
— Что ты! Сказал тоже! Он совсем, как родной!
Тем же вечером Дойнов случайно встретил Левку на улице со шляпой в руке.
— Я что тебе сказал, упрямый чмур? Будешь слушаться или нет?
Залепив Левке увесистую оплеуху, Дойнов по самые уши нахлобучил на него шляпу.
Летели дни.
Как-то к Левке и Сабине в гости пришел Миша Кац. Из комнаты хозяйки доносился равномерный стук швейной машинки. В клетке распевали канарейки. Сабина отдыхала, лежа на диване, Левка — на вытертом коврике для выступлений.
— Есть такая казнь, — рассказывал Левка, глядя на Мишу, — наклоняют макушки деревьев, привязывают к ним за ноги человека и отпускают деревья... Вот и мне так же больно, когда делаю шпагат... А когда Донец мять начинает, еще больней...
— Больше сил нет, — неожиданно вздохнула Сабина, — шпагат мне дается легко. А вот когда стою на руках, тошнит и запястья болят... А уж сколько времени репетируем...
— А я на любые муки согласен, лишь бы в клоуны взяли, — вздохнул Мишка Кац.
— Это тебе так кажется, — сказала Сабина. — Ни рукой, ни ногой не пошевелить... Верно Дойнов говорит, слабенькая я... И температура тридцать восемь и два.
— И у меня повышенная, — сказал Левка, — тридцать семь и девять... Это просто коропатура...
— Что за «коропатура»? — спросил Миша.
— Перетренировались маленько. С непривычки. Большая нагрузка на мышцы...
— Так ведь целые дни репетируем, — сказала Сабина. — И с Дойновым и без него...
— Пошли ко мне, бедолаги! Костюмы будем мерить! — позвала хозяйка.
С трудом передвигаясь, ребята отправились вслед за хозяйкой. Костюмы получились убогие, безвкусные, но ребята этого не заметили. Левка очень понравился себе — в шароварах из марли с синим поясом и в красных матерчатых тапочках. На голове пестрый платок.
— Совсем как разбойник из сказки про Али-Бабу! — воскликнул Миша Кац. — А ты, Сабинка, похожа на Золушку, когда она уже принцесса! Только юбочка малость коротковата.
В комнату вошел радостный Дойнов с портфелем в руках и объявил:
— Все! Скоро можем отплывать! Вот документы на испытательный срок, вот бумаги на право работать! Поедем по селам, по местечкам, по городишкам. Лафа! Житуха, как у птахов разных! Лети на все четыре стороны! Отсюдова на юг махнем — в Кисловодск, а может, в Тбилиси! Но это все потом! А пока разведку боем провернем. Вокруг Уральска помотаемся пару месяцев! Все от вас зависит. Выдержите испытательный срок — артистами станете, нет — будете в макаках весь век ходить! Сдрейфили? Нет? Молодцы! А сейчас, хозяюшка и пацанчик, садитесь — поглядим на артистов. Ну-ка, Левка, ложи коврик и весь номер с начала до конца.
Левка налил из графина воды, поставил стакан себе на лоб.
— Продажу! Сразу же давай продажу! Как я учил! — крикнул Дойнов. — Комплимент выдавай!
Левка развел руки в стороны, медленно повернулся налево, потом направо.
— Жми дальше!
Продолжая держать стакан с водой на лбу, Левка плавно опустился на коврик, лег на спину, балансируя стаканом, поднял ноги до головы, согнул их, зажал коленями стакан и коленями же поставил его на пол за своей головой, перевернулся, встал и раскланялся, расставив в сторону руки.
— Улыбайся! Улыбайся! Что за комплимент без улыбки?
Левка улыбнулся.
— Нет, это у тебя «собачья улыбка» выходит: одни губы улыбаются, а глаза плачут! Глазами улыбайся! Всем мордоворотом! Так! Уже лучше. Теперь в обратном порядке всю комбинацию! Алле!
Дойнов бросил на пол веточку сирени. Левка встал к ней спиной и, медленно прогибая тело назад, вспотев от сильного напряжения, с трудом ухватил цветок зубами, но неудачно. Он выпал.
— Сызнова! — закричал Дойнов. — Настоящий артист цирка будет повторять трюк, пока не получится!
Левка никак не мог ухватить сирень зубами. Ее запах дурманил, кружилась голова.
— Сызнова! Сызнова! — кричал Дойнов до тех пор, пока Левка не выполнил трюка. — Теперь шпагат!
Левка медлил.
— Шпагат, чучело! Не бойсь! Сейчас больно будет, зато потом мне спасибо скажешь! Ну! Садись!
Левка сжал зубы, заранее предчувствуя знакомую боль, медленно расставил ноги, опустился... и улыбнулся.
— Ты чего?
— Не так больно уже! Не так больно!
— А я что говорил, чмур? Кончается коропатура!
Сабине тоже на этот раз было не так больно.
Отрепетировав, Дойнов собрался отдохнуть.
— Можно нам с ребятами пойти в детдом? — спросил его Миша Кац.
— Нет! — ответил Дойнов. — Сегодня никаких детдомов. И завтра. Сейчас надо разминаться и разминаться до бесчувствия. Вот будем уезжать, сходят попрощаются!
— А когда вы уезжаете? — спросил Миша Кац.
— Скоро уже! Совсем на днях. Едем на гастроли.
Глава IV
На гастролях
Панич объявил:
— Юный артист Лев Осинский — «Человек-змея»!
Левкино сердце застучало. Руки тут же вспотели. Страшно волнуясь, он вышел на сцену и раскланялся. Словно в тумане, стал наливать в стаканчик воду. Руки дрожали, не слушались, вода расплескивалась через край. Левка поставил стакан на лоб, сел на коврик и тут же уронил стаканчик. Вода полилась по полу. Не помня себя от стыда, Левка попятился на четвереньках, оторвал от пола задник и нырнул под него. В зале захохотали.
— Получай, чмур! — зло прошептал Дойнов и дал Левке оплеуху. — Это за «собачью» улыбку! А вот это за дрова[4].
Залепив вторую пощечину, Дойнов вытолкнул его на сцену. Левка снова «завалил» трюк и убежал в кулису. Получив еще одну затрещину, он с грехом пополам выступил и забился под стол в пыльном, темном углу. Из зала за кулисы прибежала Сабина.
— Где Лева? — спросила она у Дойнова.
— Вон твой жених под столом сидит, рыдает.
— Дрова, одни дрова! — чуть не плакал Левка с досады.
— Да брось ты, все хорошо! — утешали Левку Сабина и жонглер Абашкин.
В Гурьеве Левка написал маслом портрет Сабины. Портрет получился на славу. Дойнов, увидев его, присвистнул.
— Может, ты и рекламу сумеешь делать? А то у нас не афиши, а черт знает что! Панич пишет, как курица лапой! Сумеешь?
— Конечно, сумею!
— И значок Госцирка сумеешь в углу намалевать?
Дойнов показал афишу с эмблемой девушки в полете на фоне трапеции, под надписью ГОМЭЦ[5]. Девушка тянулась руками к красной звездочке.
— Сумею.
Афиши вышли замечательные. Все артисты наперебой расхваливали Левкину работу. Особенно восторгался Абашкин.
— А меня во фраке с хризантемой изобразить можешь?
— Могу, конечно.
— Сколько слупишь?
— Что ты, Паша! Нисколько!
— Ну, тогда подарю тебе что-нибудь! Красок куплю, бумаги, холста!
— Все у меня есть. В детдоме дали. Вот только если белил немного...
— Бочку достану! На одну хризантему и манишку, знаешь, сколько белил уйдет?
Когда все вышли из комнаты, Абашкин, кивнув на афишу, шепнул Левке:
— А девушка, знаешь, на кого похожа?
— Какая девушка?
— Не знаешь? Брось притворяться! Та девушка, что на трапеции?
— На кого? — спросил Левка сдавленным голосом, и уши его запылали.
— На Сабину! — весело сказал Абашкин и многозначительно подмигнул.
Левка ничего не ответил, но уши его покраснели еще гуще. Абашкин рассмеялся, понимающе стукнул Левку по плечу.
— Идем, что ли, жених!
На другой день с утра Левка и Паша Абашкин отправились покупать белила.
— Можешь снять шляпу-то! — сказал жонглер, когда они отдалились от дома.
— Нет. Я слово дал... — тяжело вздохнул Левка.
— Стойте, ребята! — крикнул сзади Панич, размахивая палкой. — Вы куда?
— На рынок.
— И я с вами. Мне новый аквариум нужен. Вчера разбил.
Купив в ларьке белила, они прошли на шумную, людную барахолку. С трудом протискиваясь сквозь толпу, подошли к забору, около которого среди всякого хлама Панич разыскал аквариум. За него пришлось отдать все деньги.
— А ну, кому ботиночки? Мировые ботиночки! Налетай! Хватай! Даром отдаю! — кричал верзила в сетчатой майке, раскручивая синие ботиночки, связанные за шнурки. — Эй, шляпа, ботинки бери! По дешевке! К твоему кокошнику как раз подходят!
— Бери, — сказал Панич. — Стоят!
— Красивые, — вздохнул Левка. — Да денег нету...
— Денег нет, так я их мигом заработаю, — сказал Панич. — Пошли за мной! А ты, парень, жди нас! Вернемся, заберем ботиночки! Никому не продавай!
Они остановились у пивной.
— Ты войдешь попозже, будешь набивать цену! — сказал Абашкину Панич.
Левка ничего не понял: «На что набивать цену? Чем Панич торговать собирается?»
В пивной было людно. Левка и Панич уселись за длинным столом, покрытым старой, липкой клеенкой. К ним подошла официантка. Панич сделал заказ.
«У него же нет ни копейки!.. Чем расплачиваться будет? — подумал Левка. — Ну и отчаянные люди эти артисты!»
— Сейчас карася поймаем! — тихонько шепнул Панич.
— Какого карася? — изумился Левка, покосившись на аквариум.
— Увидишь!
Панич приглядывался к посетителям. Его взгляд остановился на румяном толстяке, который сидел напротив. Медленно потягивая пиво, тот сдувал с кружки пену и, судя по всему, был настроен весьма добродушно.
— Подходящий карась! — шепнул Левке Панич и вежливо осведомился у румяного толстяка: — Сколько, извините, приняли внутрь?
— Четвертая!
— И хорошо проходит?
— Великолепно!
— А норма у вас какая?
— Кружек восемь выпью!
— За весь вечер?
— Конечно. Часа за четыре.
Официантка принесла заказ.
— А вы что же, только одну кружечку? — приветливо улыбнулся толстяк. — Маловато больно.
— Мне много не выпить... — пожаловался Панич. — Организм не принимает. Обидно даже...
Левка прыснул и чуть не испортил все дело.
В пивную вошел Абашкин с банкой белил в руках. Попросив разрешения, он занял место рядом с толстяком, заказал водки и пива.
— Рыбками интересуетесь, молодой человек? — спросил он у Левки, указав на аквариум.
— В основном карасями! — совершенно серьезно ответил Левка.
— Приятное занятие... Не помешал вашему разговору? О чем беседуете?
— Да вот, товарищ рассказывает, что восемь кружек за вечер выпивает, — сказал Панич.
— Извините, — спросил Абашкин, — а за раз сколько можете?
— Кружки две-три, наверное...
— Спорим, что не выпьете! Угощаю! Все три оплачиваю!
Толстяк согласился. Абашкин крикнул громко, на всю пивную:
— Товарищи! Прошу всех сюда! Всех, кто в выпивке понимает. В судьи зову! В свидетели!
Посетители окружили стол тесным кольцом. Принесли пива. Первую кружку толстяк опорожнил залпом, вторую выпил с остановками, третью — с трудом. Его глазки покраснели, стали рачьими, казалось, вот-вот вылезут из орбит.
— Больше не угодно? — вежливо спросил жонглер.
— Нет, спасибо!
— Здоровье героя! — крикнул Абашкин. — Молодец! Хотя я одного типа знал, так тот десять кружек за раз выпивал. Правда, потолще был, раза в четыре.
— Ну, это вы, извините, брешете! — сказал толстяк.
— Ясное дело, брешет! — зашумели посетители. — Хоть в сто раз толще будь, а столько за раз не выпить!
— А я верю! — сказал Панич. — Что тут особенного? Сам бы, кажется, запросто мог выпить!
Все рассмеялись.
— Да у вас, извините, кишка тонка! — сказал толстяк. — Сколько времени сидите, все с одной кружкой никак не справитесь, а это как-никак пять литров. Молчите лучше!
— А вот возьму да пять литров и выпью! Спорим!
Все зашумели, загалдели. Толстяк крикнул:
— Выставляю десять кружек!
— Нет, это уж не по-честному выходит! — вмешался Абашкин. — Человек, можно сказать, за ради нашего удовольствия будет жизнью рисковать и за бесплатно! Такой спор может состояться только на деньги! Как скажете, товарищи понимающие? Как, товарищи пьющие, на деньги будет справедливо?
— Справедливо! Только на деньги! О чем разговор!
— За вашу справедливость и понятие предлагаю чокнуться!
Посетители выпили. Назначили сумму.
— Ну, деньги на стол, и бейте по рукам!
— По рукам! — подхватили посетители.
Принесли пива. Официанты и буфетчик, чтобы лучше видеть, залезли на стулья. Панич поставил в ряд десять кружек по краю стола.
— Сроду такую махину не одолеть! — заметил кто-то. — Это ж бегемотом надо быть!
— Тихо! — крикнул Абашкин. — Перед опытом предлагаю всем выпить за здоровье смельчака!
Снова принесли водки, пива. Посетители выпили.
— Ну, в добрый путь! — крикнул Абашкин.
Панич, сдувая пену, легко выпил первые две кружки...
После третьей он взялся за сердце. После шестой оглядел всех помутневшим взглядом и тихо спросил:
— Минуты две передыху дадите?
— Отдыхай! — загудела толпа.
«Здорово играет, артист!» — восхитился Левка.
— Не осилит! — обрадовался толстяк.
— Осилит! — возразил кто-то.
Поднялся страшный шум. Абашкин суетился больше всех. Он заказал еще водки, пил, чокался со всеми направо и налево, заключал новые пари. Страсти разгорались.
— Две минуты прошло! — крикнул толстяк. — Пора!
Панич поднялся со стула, не спеша, отдыхая после каждого глотка, выпил три кружки. Десятую пил медленно, с остановками, маленькими глоточками. Наконец он сделал последний глоток и с трудом опустился на стул. Посетители кричали, хлопали в ладони, стучали ногами. Толстяк лез целоваться.
— Денег не жалко за такое удовольствие! Качать его!
— Качать!
— Нет! — закричал на всю пивную Левка. — Помрет он! Не дам брательника! Не дам!
— Прав пацан! Нельзя качать! Смертоубийство может случиться!
Панич вышел в туалет и вскоре вернулся.
— Вылили? — поинтересовался шепотом Левка.
— Все в порядке! Смотри, что сейчас будет! — тихо сказал Панич и закричал на всю пивную:
— Внимание! А что, если бы я выпил еще десять кружек без остановки, одну за другой, в один присест, не сходя с места?
— Спятил!
— Обалдел!
— Совсем окосел! И так еле живой!
— Новое пари! Новое! — засуетился Абашкин.
— Эх, пропадай моя телега, все четыре колеса! — завопил толстяк. — Ставлю пиво и еще столько же!
— Это мало! Удваивай ставку! Гони монету!
— Согласен!
Принесли пива. Панич бодро встал, разом выпил десять кружек. Толпа ахнула. Замерла. Панич получил деньги и под изумленными взглядами вышел из пивной. Левка с аквариумом — за ним.
Купив ботинки, они отправились на розыски Абашкина.
Сильно захмелевший жонглер стоял неподалеку от рынка рядом с женой Валерией. Она тащила его за рукав.
— Пошли домой, Паша! Еле на ногах держишься!
— Отстань!
Увидев Левку и Панича, он радостно сообщил заплетающимся языком:
— Потерял белила! А знаешь, почему? Потому что неизвестно, кто из нас больше выпил!
— Пошли домой, Паша...
— Отстань, Валера!.. А ты, Панич, вылил обратно пиво-то?..
— Конечно. Сразу же.
— Ну и дурак! Я бы ни за что не выливал, — с трудом выговорил жонглер, покачнулся и затянул: — «Бывали дни... веселыя... гулял... я молодец...»
Глава V
Большие перемены
Левка сидел совершенно убитый: вернувшись в Уральск, он узнал, что Дойнов больше не берет на гастроли Сабину.
— Ты чего? — спросил Дойнов, входя в комнату. — Чего нос повесил?
— Сабину жалко. Переживает...
— Ишь ты! Жалко! А чего ей переживать? Матроску же я назад не отымаю! И какую матроску! Почти совсем новую! Пускай ходит!
— При чем тут матроска? Ей артисткой стать хочется!
— Кому же не хочется красивой жизни? Только у меня не лазарет и не богадельня! Разве это дело, чтобы у акробатки голова кружилась? Пусть в балет идет! И вообще, ежели в человеке сидит хворь, так дома надо отлеживаться. Ты выдержал срок, она — нет. Сколько времени кормил, поил, обувал, катал — хватит! Вернется в детдом. Совсем неплохо. Я же заранее предупреждал, никого не обнадеживал, верно?
— Предупреждали... Все равно жалко...
Левка пошел в детский дом.
— Выйдем поговорим, — сказал он Мише Кацу.
Они вышли на пустынную улицу.
— Прошу тебя, помогай Сабине... Во всем помогай, обещаешь?
— Клянусь!
— Вызови-ка ее.
На крыльцо вышла Сабина, увидела Левку, подошла к нему. Они стояли и молчали. Сабина заплакала. Левка погладил ее по плечу, не зная, чем утешить. Почувствовав, что вот-вот разрыдается сам, проговорил с трудом:
— Ну... ладно тебе... хватит...
Она порывисто поцеловала его в щеку, взбежала на крыльцо, крикнула:
— Будь счастлив, Левка! — и скрылась за дверью.
Левка слышал, как простучали ее тяжелые башмаки по лестнице. Он еще долго стоял внизу у забора, потом вздохнул и медленно зашагал прочь...
Бригада выехала на гастроли. Сборы были безрадостными. Все ходили мрачные: денег нет, нечего есть, нечего продать.
— Что бы мне загнать? — рассуждал Абашкин. — Ничего не осталось... Разве вот чемоданчик?..
Он показал Левке небольшой чемоданчик, оклеенный линялым дерматином, разукрашенный изнутри вырезками из старых цирковых афиш и программ, фотографиями артистов, полуобнаженных красоток, рисунками лошадей.
— Жаль такой шик загонять! — вздохнул Абашкин. — Сколько лет прослужил мне верой и правдой! Знаешь что, Левка, — неожиданно предложил он. — Бери-ка ты его, на память! Все равно никто красоты этой не оценит...
— Что ты, — сказал Левка, — такую ценность! И потом мне нечего в него складывать...
— Разбогатеешь еще! — пообещал Абашкин. — Бери...
Вскоре после этого разговора Абашкину пришла телеграмма. Его жена Валерия сообщала о рождении дочери, звала в Тбилиси. Левка отправился на станцию проводить друга. Абашкин с бригадой не поехал.
— Жду тебя в Тбилиси, Левка! Вот адрес! Рассчитывайся и приезжай! Жить будешь у меня! Места — вагон! Начнем сразу репетировать, попытаемся наняться в настоящий государственный цирк. Надоело мне мотаться с Дойновым. А пока суд да дело, поступим в филармонию, поработаем на эстраде. Не пропадем! Жди писем!
Письма шли одно за другим. В них Абашкин расхваливал жизнь в Тбилиси, звал Левку к себе. Тот наконец решился, сложил в чемоданчик, подаренный Абашкиным, все свое имущество: трусики для работы, матерчатые тапочки, старый резиновый бандаж, альбом и пачку махорки.
«Даже полотенца не нажил, артист... — с горечью усмехнулся Левка, захлопнув крышку. — Поеду в общем вагоне зайцем. Не тратить же деньги на билет. Лучше купить подарки для Паши, Валерии и новорожденной...»
Тбилиси поразил его. Левка вышагивал по улицам, заглядываясь на говорливых прохожих, красивые здания, высокие горы, обступившие город со всех сторон.
«Первым делом схожу в бани! — решил он. — В знаменитые серные бани, о которых рассказывал Паша. И сколько бы это ни стоило — найму банщика. Пашка объяснял, что без банщика серные бани — не бани! А потом — к Абашкиным!»
Левка сравнительно легко разыскал бани. В них противно пахло сероводородом. Он лег на каменную скамью, и банщик в белых мокрых кальсонах принялся делать ему «глубокий массаж»: выворачивал руки, ноги, тер Левку какой-то шершавой рукавицей, намылил белую наволочку, надул ее и бил ею Левку, который только кряхтел да удивлялся. А потом проехался пяткой по Левкиному позвоночнику и снова мял, растирал, выворачивал руки.
— Слышишь, как тело скрипит? Так чисто, как в наших банях, нигде в мире не вымоешься! — сказал банщик, закончив работу. — На сто лет помолодел, верно?
И Левка почувствовал, что действительно помолодел на сто лет...
Он вышел на проспект Руставели, свернул к Верейскому спуску и, проходя мимо Куры, увидел старенькое здание цирка. Подбежав к нему, Левка прочел объявление, вывешенное на дверях: «Цирк закрыт на ремонт». Левка постоял немного в раздумье и отправился по магазинам. Купил погремушки новорожденной, расческу и наборный поясок Паше, конфеты и пудреницу Валерии. А себе зачем-то рог для вина.
Свернув на новую улицу, мальчик глянул на гору и обомлел. На ней стоял огромный цирк. Он был похож на сказочный дворец.
«Нет, это не цирк... Не может же в городе быть сразу два цирка...» — подумал Левка, но тут же перебежал площадь и стремглав бросился вверх по нескончаемым ступенькам. У цирка стоял дворник.
— Это цирк? Это цирк?
— Ты что... слепой, мальчик? Не видишь? Конечно. Не аптека.
— Значит, в Тбилиси два цирка?
— Ты что, считать не умеешь, мальчик? Конечно, два.
«Раз в городе два цирка, значит, есть шанс попасть!» — радостно думал Левка, слетая со ступенек.
Вот наконец и техникум физкультуры, где обосновались Абашкины. Усатый привратник неодобрительно покосился на Левку.
— Сама с младенцем гуляет. Сам, кажется, дома. Последняя комната. Там спросишь! — Он пропустил мальчика через проходную.
Разыскав дверь, Левка постучал. Никто не отозвался. Левка постучал еще, толкнул дверь и очутился в душной комнатенке с голыми стенами. Детская люлька, два венских стула, стол, железная койка, большой фанерный ящик для циркового багажа — вот, пожалуй, и вся обстановка.
На веревке сушились пеленки. На полу у окна темнела груда старого тряпья.
Неожиданно в ней что-то зашевелилось, показалась взлохмаченная голова Абашкина. Он оперся на руки, поглядел на Левку осоловелыми глазами и повалился обратно в тряпье.
— Паша! — крикнул Левка, поставил на пол чемоданчик и бросился к Абашкину. — Пашенька!
Он долго тряс Абашкина за плечи, тер уши. В это время открылась дверь и вошла Валерия с дочкой на руках. Увидев Левку, заплакала.
— Счастье, что ты приехал! Запил Пашка! Ничего не слушает. С работы выгнали, никуда не принимают. Хоть бы ты заставил его заняться делом. Живем без гроша.
Левка как мог успокоил Валерию, вытащил подарки. Она растрогалась. Левка спросил:
— Как же я тут помещусь у вас? Вам самим тесно!
— Никуда я тебя не отпущу! Ты будешь спать на ящике, мы — на койке...
Громко, во весь голос заплакала девочка. Абашкин очнулся, приподнял голову, тупо посмотрел на дочь, перевел взгляд на Валерию, потом на Левку, долго, пристально глядел, не узнавая.
— Паша... Это я, Паша...
— Ты, что ли?
— Я, — обрадовался Левка. — Я, Пашенька, я! Приехал я, Паша! Вот я и приехал!
— Ах, приехал... значит, приехал... — повторил Абашкин, по-прежнему не узнавая Левку. — А раз приехал, тогда что надо сделать? Выпить! Пойдем выпьем?.. А?.. Ну, хоть по сто? Хоть по пятьдесят!.. А?..
Глава VI
Новые беды
Пригородный поезд трясло. Дуло в щели. За окнами вагона — непроглядная темь.
«Больше пригородными поездами на концерты ездить нельзя, — думал Левка. — Надо садиться в поезда дальнего следования. В них теплее. И билеты проверяют реже».
Левка поежился, подул на пальцы, спрятал их под мышками. Вагон покачивало сильней и сильней. Соседи-колхозники громко, гортанно о чем-то спорили. Пианист, певица, чтец сидели тихо. Видно, тоже устали после концерта. Левка закрыл глаза.
Ему вспоминался день приезда в Тбилиси, серные бани, приход к Абашкиным. Как давно это было!.. В тридцать восьмом! А на дворе уже конец тридцать девятого! Левке уже пятнадцать, шутка сказать! В кармане — бумажка, обтрепалась по краям. Сколько раз рвалась, вся клеена-переклеена! Буквы стерлись: «Осинский Лев — внештатный артист филармонии. Жанр — «каучук»... Внештатный... Вот и работает Левка без гарантий, а от случая к случаю... А нет выступлений, так приходится открытки рисовать, торговать ими на рынке или около почты. Или еще как-нибудь промышлять, изворачиваться. А промышлять все трудней — холод на улице. Холод, а как Левка одет?
Увидел бы сейчас Дойнов, обрадовался бы: «Так тебе и надо, чмур упрямый! У меня уже другой пацан есть. Не хуже тебя! И не в тряпье, как ты, а в новой матроске и шляпе ходит! Не захотел, дурак, настоящим артистом быть, с «великим мастером» связался! Многому этот спец тебя научит! Не получается ваш номер! И не получится».
Кто-то тронул Левку за плечо.
— Твой билет, мальчик!
Левка открыл глаза. Никакого контролера. Это пианист решил подшутить. Смеется:
— Приехали, Левка! Тбилиси! Пашке кланяйся!
Дрожа от холода, он сел в трамвай. Билета не купил. Увидел издали контролера, соскочил на ходу, пошел пешком. Проходя мимо цирка, остановился. У входа стоял огромный щит.
ТБИЛИССКИЙ ГОСЦИРК. СКОРО! ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
ГАСТРОЛИ ВТОРОГО КОЛЛЕКТИВА ГОСЦИРКА
ПОД ХУДОЖЕСТВЕННЫМ РУКОВОДСТВОМ
И ПРИ УЧАСТИИ
заслуженного артиста РСФСР
А. АЛЕКСАНДРОВА-СЕРЖ (орденоносца)
Все артисты — участники выступлений
на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке
в 1939 году.
ХВОЩЕВСКИЙ И БУДНИЦКИЙ
акробаты-эксцентрики
Заслуженный артист РСФСР и Грузинской ССР
клоун АЛЕКС ЦХОМЕЛИДЗЕ
Николай ТАМАРИН (музыкальный жонглер)
ДЕРИНГ-ГАЛИЦКИЕ (эквилибристы на лестницах)
СИЛАНТЬЕВЫ (воздушный полет)
БРАТЬЯ ВОЛЖАНСКИЕ (крафт-акробаты)
БИРЮКОВЫ-КРУФФИ (акробаты на турниках)
ТРУППА ВОЛЖАНСКИХ (люди-лягушки)
СЕМЕЙСТВО СЕРЖ (жокеи-рекордсмены)
и другие номера
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ПАРАД-ПРОЛОГ
Участвует вся труппа.
В случае заболевания артиста, или выходного дня
артиста, или по техническим причинам дирекция
оставляет за собою право отмены номера или
замены одного номера другим.
НАЧАЛО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В 8 час. 30 мин. ВЕЧЕРА
Левка несколько раз перечитал афишу. Прибежав к Абашкиным, он рассказал о приезде труппы.
— Скорей поправляйся, Паша, будем репетировать без устали, чтобы показать наш новый номер. Могут принять, если понравимся!
— Нечему еще нравиться, — возразил Абашкин. — Ничего не готово. Ничего не получается.
— Ты, я вижу, совсем руки опустил, — вмешалась Валерия. — Что значит не получается? Надо больше работать, и получится!
— С ног валюсь, а ты говоришь: работать! Слабость у меня, нервная трясучка! Булавы из рук валятся!.. Мне уже не поможешь! Петля у меня! Понимаешь — петля!
— Не надо пить! — закричала Валерия. — Не будет никакой петли!
— Не на свои пью! Не перевелись еще у Абашкина поклонники в Грузии! Есть ценители таланта...
Наутро они поднялись рано.
— Я в филармонию, Паша! Пойдем со мной?
— Нет. У меня есть дела в городе. Насчет иллюзионной аппаратуры. Свидание со специалистом.
Абашкин вырядился в черный костюм, надел галстук, пальто, ушанку. Они вместе вышли на улицу и разошлись в разные стороны. Левка пришел в филармонию, дождался приема к директору.
— Я к вам с просьбой: нельзя ли концерты в черте города иметь... Хоть немножко...
— Ладно, попробуем. Но на много не надейся! У тебя не такой номер, с которым можно работать на больших площадках! Балаганом пахнет! Филармония — очаг культуры: лекции, концерты. И вдруг... «человек-змея»! Да и приодеться тебе не мешает! Не на артиста похож, а на беспризорника! И еще! Будешь «зайцем» кататься, позвонят еще раз из милиции — уволю! Так и знай!
Директор посмотрел на часы. Левка понял, что разговор окончен, и вышел из кабинета.
— О чем беседа шла? — спросил в коридоре Левку пианист. — Что кислый?
— Я не кислый! С чего же киснуть, когда директор решил прибавить мне ставку, похвалил номер и обещал давать концерты только на больших столичных площадках!
— Ну?
— Вот вам и ну!
В этот же день Левку ожидала новая неприятность.
— Не велено тебя больше пускать, — сказал ему в проходной привратник.
— Как так не велено? — растерялся Левка.
— Очень просто. Комендант узнал — ругался. Без прописки живешь, без документов! У нас не ночлежка! Так что поворачивай оглобли, парень!
— У меня же там вещи... Мне нужно...
— Ничего не знаю. Не велено пускать! Принесешь записку от коменданта — пропущу, нет — все!
Левка некоторое время стоял на тротуаре напротив дома, ждал Валерию. Она не появлялась.
«А может, она к родственникам с младенцем ушла... — подумал он. — Пойду-ка поброжу по городу!..»
Мальчик долго шатался по улицам, вышел на Кирочную, увидел церковь.
«Зайду, погреюсь немного... Заодно погляжу, как там внутри...»
Шла служба. Народу было много, откуда-то сверху доносилось пение. Мелодия молитвы была красивой, торжественной.
Еще громче зазвучал хор.
«Где же артисты спрятаны? — думал Левка. — Почему же их не показывают? Вот вышли бы сейчас из ворот в костюмах ангелов или святых... Было бы куда интереснее! И поаплодировали бы им».
Молебен закончился. Священник протянул молящимся большой крест.
«И как не боятся заразиться друг от дружки? — удивился Левка. — Разве я стал бы целовать крест после вон того алкоголика с подвязанной щекой? У него и рожа-то вся в красных пятнах... А девушка с косой поцеловала... Неужели ей не противно?..»
Левка чуть не сплюнул, отвернулся, глянул вправо и увидел в толпе рядом с гробом Абашкина. Левка удивился еще больше, когда Пашка поцеловал иконку на груди усопшей.
«Наверное, это умерла родственница специалиста по иллюзии, вот он и попал вместе с ним в церковь, — подумал Левка. — Где же он сам?»
Павел не замечал Левку. Он был, по-видимому, совершенно убит горем: стоял со скорбным лицом, сложив руки на груди, беззвучно бормотал что-то, закатив глаза. Левка чуть не рассмеялся, но понял, что его тут же с позором выведут из церкви, и тоже скорчил скорбную рожу.
— Дайте проститься! Дайте проститься! — послышалось за Левкиной спиной.
Левку оттолкнул и протиснулся к гробу алкоголик с завязанной щекой.
Громко заплакала пожилая женщина, по-видимому, сестра покойной. Она покачнулась. Павел подскочил к ней, подхватил под руки, сопровождал до кладбища.
«Наверное, она сама и есть иллюзионный мастер!» — думал Левка, плетясь в конце процессии.
Около могилы Пашка одним из первых бросил на заколоченный гроб горсть земли, вытирал глаза, ни на шаг не отступая от убитой горем женщины. Но вот его на миг оттянул за рукав в сторону алкоголик с перевязанной щекой. Левка услышал хриплый шепот:
— Пашка, брось ты эту старуху! За углом побогаче мертвяка приволокли! Слышишь, оркестр жарит? Еще пышнее будут поминки! Пошли стараться туда!
Левка подскочил к ним, оттолкнул проходимца, задыхаясь от гнева, резко выпалил в лицо Павлу:
— И не стыдно? Докатился! Это твои поклонники? Это иллюзионные мастера! Так ты заботишься о номере! О Валерии! О дочке! Эх, ты! Ты...
Левка повернулся и бросился бежать.
Бледный, растерянный Павел нагнал мальчика у ворот кладбища, крепко схватил за плечи.
— Прости, Левка! Все! Завязал! Больше не повторится! Самому стыдно! Верь!
И Левка поверил. Первым протянул руку. Успокоившись, рассказал о разговоре в филармонии, о случае с привратником.
— Сволочи! — выругался Абашкин, выслушав Левку. — Жить не дают! Ничего, попробуем потолковать с комендантом, может, и уломаем! А не выйдет, так можно перелезать через ограду. Даже интереснее! Будешь рано утром уходить, ночью возвращаться. Это когда есть концерты. А когда свободен, — весь день репетировать будем. Не унывай!
Они перемахнули через ограду.
— Видишь, как просто! — сказал Паша.
— Вижу! Здорово! — попытался улыбнуться Левка, но улыбка получилась невеселой.
Второго января Левка выступал на новогодней елке. В клубе было очень холодно. Мальчика продуло. Во время разминки он вдруг почувствовал боль в пояснице, не смог ни повернуться, ни вздохнуть. С острым приступом радикулита его отвезли домой и уложили в постель.
— Надолго ты выбыл, — вздохнула Валерия. — У меня был радикулит... Знаю, что это такое...
Спать легли рано. Левка лежал тихо, боясь пошевелиться. Хотелось спать. За окном уныло свистел ветер, мел снег. И вдруг Левка услышал какой-то хруст.
Он доносился со стороны койки Абашкиных.
«Что это? Неужели грызут сахар? — мелькнула мысль, но он тут же отогнал ее. — Не может быть... От меня тайком... Накрывшись одеялом... вдвоем грызть сахар... Почудилось...»
При мысли о сахаре рот наполнился густой слюной. Он не видел сахара четыре месяца. Левка кашлянул. Хруст тут же прекратился.
«Это мышь... Это мышь... — убеждал себя Левка. — Не могут же они так... Тайком...»
Он заснул только под утро. С нетерпением ожидал, когда все уйдут и оставят его одного.
— Что с тобой, Левка? — спросила Валерия, подавая на стол картошку. — Давай есть!
— Спасибо, не хочется... Поясницу ломит...
Ему было стыдно глядеть на них.
Первым ушел Павел, за ним — Валерия. Левка приткнул дверь стулом, открыл гвоздем один замок, потом второй, долго не решался снять их с петель.
«Дай бог, чтобы я ошибся ночью... Дай бог...» — думал он, снимая замки. В сундуке лежало немного масла и сахара.
Левка долго плакал от обиды.
В тот же день — третьего января — он собрался на концерт. Валерия ужаснулась.
— Куда ты? С ума сошел? Снова за город? С радикулитом?
— Ничего, поеду!
— Хоть спину обвяжи моим платком! И голову шарфом! И, смотри, билет купи!
Левке удалось после концерта прошмыгнуть в бесплацкартный вагон, забраться под скамью и тут же заснуть. Перед Тбилиси проводник и контролер обнаружили его, осветили карманным фонариком.
— А ну, вставай, безбилетник!
Левка вылез из-под скамьи сонный, измазанный пылью, с шарфом на голове, озираясь, как затравленный звереныш. Его окружили пассажиры.
— Плати штраф, заяц! А нет — отправим в милицию!
Левка испугался.
— Сколько?
— Десять рублей!
— У меня только три... Остальные занесу завтра!
— Занесет он, ждите! — процедил пассажир в шубе, брезгливо глянув на Левку.
— Володя! Коля! — позвала миловидная женщина в широком сером пальто.
К ней подошли два очень похожих друг на друга молодых человека.
— Что случилось, Марина?
«Братья... — определил Левка. — Второй постарше».
— Воришку поймали! — весело сообщил братьям пассажир в шубе.
— Ну зачем вы так! — возмутилась Марина.
Пассажиры загудели, заспорили.
— Вы меня не учите! — обиделся пассажир в шубе. — Я ихнего брата-безбилетника хорошо знаю! Откуда у него чемоданчик? Ясное дело: украл!
Пассажиры снова загалдели.
— Эй, ты, полегче на поворотах! — решительно сказал один из братьев, постарше на вид, которого Марина назвала Колей. — А на тебе откуда шуба? Мотай-ка лучше отсюда, пока цел!
Пассажир, отругиваясь на ходу, поспешно удалился. Все рассмеялись.
— Тбилиси! Подъезжаем! — объявил проводник.
— Какой с пацана штраф? — спросил Владимир.
— Десять рублей, — ответил контролер.
— Держите! Сыпь домой, малец!
Левка быстро сунул в руку Володе три рубля, буркнул «спасибо» и выскочил в тамбур.
Марина и братья вышли из вагона. Владимир нагнулся над небольшой плетеной корзинкой, укрытой теплым платком, приподнял край.
— Выгружайся, Трефка. Ты у нас не собака, а заяц. Как тот пацан!
Из корзинки выскочила мохнатая длинношерстая собачонка, отряхнулась, завиляла хвостом, запрыгала, подметая огромными ушами перрон.
— Побегай, побегай, разомнись! — сказал Николай. — А ты присядь пока на чемодан, Марина. Что-то не видать экспедитора...
Николай сложил губы трубочкой и громко засвистел какие-то странные позывные, напоминающие первые ноты популярной песенки о чижике-пыжике:
— Сиу-сиу... сиу-сиу...
Никто не отозвался. К выходу потоком двигались пассажиры. Перрон быстро пустел.
— Сиу-сиу... сиу-сиу... — свистел и свистел Николай, озираясь по сторонам.
Владимир не выдержал, тоже засвистел:
— Сиу-сиу... сиу-сиу... сиу-сиу...
По-прежнему никто не отзывался на этот странный свист. Подул холодный ветер. Посыпал снег. Трефка забрался в свою корзинку.
— Вечная история, — недовольно сказала Марина, — как поздно в город приезжаешь, так не встречают...
— Ну, это ты напрасно, — возразил Владимир. — Мы сами виноваты. Телеграмму-то когда дали? Может, не дошла...
Лязгнув буферами, пустой состав отошел от платформы. Часть фонарей погасла.
— Сиу-сиу... сиу-сиу... сиу-сиу... — вдруг донеслось издалека, со стороны вокзала.
Все обернулись. Навстречу прибывшим, насвистывая, шел незнакомый человек в короткой зимней куртке.
— Сиу-сиу... сиу-сиу... сиу-сиу... — громко и радостно засвистели в ответ все трое.
Трефка затявкал из своей корзинки.
— Наконец-то! Слава богу! — сказала Марина.
Незнакомец приветливо помахал рукой.
— Товарищи Волжанские?
— Да! Что же так поздно, товарищ экспедитор?
— Только что принесли телеграмму.
— Ну, что я говорил? — сказал Владимир Марине.
— Сиу-сиу... сиу-сиу... сиу-сиу... — снова раздался свист со стороны вокзала.
— Нина с Васей встречать пришли! — радостно воскликнула Марина.
— Что же вы так поздно телеграмму дали? — тоненькими голосами закричали оба лилипута, подбегая к Волжанским. — Весь коллектив волнуется! Мы говорили, надо было вместе с нами ехать!
— Врач меня не пускал, вы же знаете, — сказала Марина.
— Что он сказал?
— Говорит, надо ждать мальчишку. Примерно через месяц, а может, и раньше.
— Пошли, пошли, товарищи, — заторопил экспедитор, — машина ждет.
Все уселись в небольшой, холодный автобус...
Тем временем Левка подошел к техникуму. Перемахнул через ограду, прокрался в комнату, открыл дверь. Уронив голову на стол, спал пьяный Абашкин...
«Петля... — подумал Левка, — петля...»
Часть вторая
Путевка в жизнь
Глава I
Трудный экзамен
Шестого января 1940 года Левка снова работал на утреннике. Вечернего концерта не было. Мальчик возвращался домой вместе с пианистом и по дороге рассказал ему о своей жизни.
— А знаешь, Левка, — сказал пианист, — кажется, я смогу тебе помочь. Я слышал от друзей, что в цирке нужен такой пацан, как ты!
— Что вы говорите! — с надеждой воскликнул Левка.
— Ну да! Я бы сразу сказал тебе, но я ведь не знал твоих планов. Сейчас там репетиция. Вчера смотрели каких-то ребят, может, уже взяли. Договоримся так: если мальчик уже не нужен, я не зайду, нужен — заскочу перед представлением.
Левка опечалился. Глянув на него, пианист сказал:
— А впрочем, зайду в любом случае, проведу тебя в цирк. Не был еще? Вот и сходишь.
Левка пришел домой, лег на ящик в ожидании вечера. Валерии он ничего рассказывать не стал, притворился спящим. Около шести пришел пианист.
— Здравствуй, Валерия, — сказал он. — Вот решил провести Левку в цирк.
— Завидую. Был бы Павел дома, — пошла бы с вами.
— А где он?
Валерия ничего не ответила, только безнадежно махнула рукой.
— Вы идите через проходную, я — другим ходом! — сказал Левка, поспешно натягивая на себя пальто.
Поясницу ломило, и он еле перелез через ограду. Пианист уже стоял на улице.
— Что, здорово болит?
— Сил нет...
— А если просматриваться придется?
— А придется? — спросил Левка, задыхаясь от волнения.
— Моли бога, чтобы понравился! Молодые артисты братья Волжанские готовят какой-то номер с лягушками. Они уже выбрали несколько пацанов, но если ты окажешься лучше — возьмут тебя. Конкурс страшный! От пацанья отбою нет! Пронюхали! Идут и идут!
— Спасибо! — сказал Левка. — Я знаю такой номер. Наверное, придется глотать лягушек, но я все равно согласен! Я хоть керосин, хоть бензин согласен пить, лишь бы в цирк взяли!
Обойдя здание цирка, они прошли через служебный ход. В нос резко ударил незнакомый еще Левке густой, тяжелый цирковой дух.
— Так пахнет только в цирке, больше нигде, — сказал пианист. — Тут и аммиак, и сырая глина, и навоз, и мыши, и черный хлеб, и конский пот, и звери, и опилки... И еще гримом пахнет, и пудрой, и лесной водой... Чуешь?
— Чую, — ответил Левка, стуча зубами.
На оборванного, дрожащего от холода Левку покосился сторож.
— Посторонним вход воспрещен!
— Я из оркестра, — сказал пианист, — вот пропуск. А мальчик — к Волжанским.
— Сколько же еще мальчиков к Волжанским будет ходить? Надоели уже. Весь день спрашивают...
— Мы обо всем договорились, — сказал пианист. — Жди меня здесь, Левка, я сейчас...
Пианист скрылся. Левка никак не мог согреться, хотя за кулисами было очень тепло. Конюшня тускло освещалась одной лампочкой. В стойлах дремали огромные жокейские лошади — першероны с длинными густыми хвостами и гривами. Напротив — клетки с хищниками, отгороженные деревянными барьерами. Всюду в беспорядке ящики с реквизитом, какие-то диковинные аппараты в чехлах.
За Левкиной спиной кто-то засопел.
Мальчик обернулся и увидел совсем рядом гималайского медведя. Зверь был привязан тонким ремешком к небольшому дверному колечку. Он с любопытством смотрел на Левку небольшими блестящими глазками, пытаясь дотянуться до него лапой. Левка поспешил отодвинуться подальше, к стойлам.
Тут его внимание привлекла маленькая лошадка-пони, у которой на спине мирно дремал петух. Женщина в белой косынке и синем халате делала лошадке «маникюр»: подрезала копыта длинным кривым ножом. Пони покусывала женщину за плечо.
— Не балуй, Огонек, — смеялась женщина.
В это время старый конюх принес и поставил перед женщиной ведро с белилами, и они принялись красить копыта Огонька, обматывать его ноги ослепительно белыми бинтами. Петух открыл желтый глаз, подмигнул Левке и снова притворился спящим.
Откуда-то вышмыгнула крошечная черная собачка, подбежала к конюху. Он отмахнулся.
— Не мешайся, Ишлоник!
«Странная кличка», — подумал Левка, с интересом наблюдая за резвой собачонкой. Ишлоник обнюхал его, смешно завилял обрубком хвоста и направился к белому першерону в коричневых яблоках. Они встретились, точно старые знакомые. Лошадь приветственно заржала, закивала головой, а Ишлоник, изловчившись, лизнул ее морду и звонко затявкал, припадая на передние лапы.
— Ишлоник, домой! — раздался строгий голос с едва заметным грузинским акцентом, и собачку словно ветром сдуло.
Левка увидел элегантно одетого, стройного красавца с седыми висками. К лацкану его пиджака был прикреплен орден Трудового Красного Знамени.
— Здравствуйте, дядя Цхома! Здравствуйте, дядя Алекс! — раздались приветствия со всех сторон.
Увидев знаменитого Цхомелидзе, Левка оробел Неожиданно артист обратился к нему:
— К Волжанскому, мальчик?
Левка хотел ответить, но, смутившись, кивнул головой.
— Не холодно тебе так налегке?
— Ничего... — еле выдавил из себя Левка. — Жить можно...
Артист внимательно посмотрел на Левкины резиновые тапочки и скрылся. Левка глянул себе под ноги. Повсюду, где он ступал, резко отпечатались следы босых ног. Мальчик чуть не расплакался.
«Он понял, что тапочки для близиру... Одни верха... Грязный... Драный... И трусы рваные... И бандаж забыл... И поясницу ломит... Как просматриваться? Может, убежать?..» — подумал он.
Послышались шаги и оживленный разговор. Появились пианист, Цхомелидзе и два молодых человека.
Левка обмер. Он тут же узнал братьев, что вступились за него в поезде.
Пианист представил Волжанских.
— Я... Мы знакомы... Семь рублей вам должен... — Левка опустил глаза, снова заметил след босой ноги, быстро наступил на него, оставив новый след, покраснел. — Я... отдам...
Братья переглянулись. Владимир сказал:
— Это ошибка! В первый раз тебя вижу. А ты, Коля?
— И я впервые! — не моргнув глазом, ответил Николай.
— Как же... в поезде... — растерянно возразил Левка, — у вас еще есть жена...
— Есть жена, но это просто совпадение. И вообще мы не поездом приехали, а на самолете прилетели... Верно, дядя Цхома?
— Как же неверно, когда я вас встречал на аэродроме? — кивнул Цхомелидзе. — И вообще пора! Человек волнуется, просматриваться пришел, а мы тянем. Идите-ка, готовьтесь!
Братья и Левка двинулись по коридору, остановились у дверей с надписью «Волжанские».
— Подожди-ка минуточку, — сказал Владимир и скрылся за дверью.
«Жену пошел предупредить...» — предположил Левка.
— Входи! — вскоре крикнул Владимир.
Так и оказалось. Левка тут же узнал Марину. Она сидела, отвернувшись, в широком халате и наспех накинутом на голову платке.
— Ну разве ж это она? — спросил Владимир.
— Да... Вы правы... Я ошибся, кажется, — пролепетал Левка, опуская глаза. — Вы... это не вы...
— А я что говорил? — очень обрадовался Владимир. — Конечно! Мы — не мы! А она — не она!..
Владимир достал откуда-то из ящика тапочки, трусы, бандаж и протянул их Левке.
— Одевайся! Пойдем посмотрим, что умеешь делать!
Все вышли, оставили его одного: Левка быстро оделся, оглянулся по сторонам.
В длинной, узкой гардеробной были расклеены афиши, таблички: «Не курить!», — аккуратно развешаны обшитые чешуйками трико зеленого цвета, несколько лягушачьих голов из папье-маше. К доске, стоящей у зеркала, были приколоты три высохшие лягушки. На окне, в аквариуме, покрытом марлей, тоже плавали лягушки.
«Что же за номер у них все-таки?.. Подойду ли? — в волнении подумал Левка. — Как бы радикулит не скрутил...»
— Готов? — крикнул из-за дверей Владимир.
— Готов!
— Тогда пошли.
Его вывели на манеж. Под ногами мягко пружинили опилки. Вокруг сновало множество людей.
— Дайте полный свет! — крикнул Цхомелидзе.
Вспыхнули прожекторы. Левка зажмурился от неожиданности. Слышался треск и шипение вольтовых дуг.
— Разминайся, — сказал Владимир.
— Нет, не надо! — хрипло ответил Левка.
— Как же без разминки?
— Ничего, ничего...
Казалось, еще ни разу в жизни он так не волновался. Забыв про радикулит, Левка выжал стойку, до боли оттянул носочки. В зале послышались одобрительные возгласы. Владимир сказал:
— Молодец! Что еще можешь?
— Шпагат, боген, складки...
— Показывай! Не спеши!
Упрямо нахмурив брови, мальчик показал все, что умел. Сердце его колотилось, мысли путались. Он выполнял все упражнения, словно во сне.
— Сделай мостик, приготовься, я на тебе исполню стойку, — сказал Владимир.
Левка сделал мостик.
— Готов?
— Готов.
— Ап!
Не снимая пиджака, Владимир оперся руками на Левкину грудь и легко отжал на ней стойку. В зале раздались аплодисменты. Левку бросило в жар.
Владимир легко спрыгнул с его груди. Левка, даже не ощутив его тяжести, быстро выпрямился.
— Хорош! Пойдет! — сказал Владимир, хлопнув его по плечу.
— Значит, принимаете? — спросил Левка тихо.
— А ты как думаешь?
— Думаю... возьмете...
— Правильно думаешь! Пошли за кулисы. Пора публику пускать.
В гардеробной Владимир снял с себя белые, грубые шерстяные носки, протянул их Левке.
— Надевай!
Левка начал отказываться.
— Давай, давай! Без разговоров! Обидеть хочешь?
Сердце Левки сжалось. Он отвернулся. Глотая слезы, принялся натягивать носки...
Глава II
На представлении в цирке
Марина и Левка уселись на обычные места артистов, выступающих в программе. Марина спросила:
— Ты давно не был в цирке?
— Сейчас мне пятнадцать. Значит, восемь лет назад. Но кое-что помню... Например, сестер Кох, Гладильщикова... Выступают они сейчас?
— Работают, как же.
— А вы, Марина, не работаете сегодня? — спросил он.
— Мне уже нельзя, — просто ответила Марина. — Жду маленького. Меня заменяет одна девочка-балерина.
Сразу же после третьего звонка раздались торжественные звуки. Левка насторожился.
— Что это будет за номер? Зачем в манеже столько бочек?
— Это не бочки, а пьедесталы. Будет парад-пролог.
— А что это такое?
— Неужели никогда не видел?
— Только борцовские.
— Это совсем другое.
Оркестр заиграл марш. Вспыхнул яркий свет. Появились нарядно одетые участники программы с пестрыми флагами. Они заняли места на пьедесталах и начали одновременно жонглировать, прыгать, выполнять различные трюки.
У Левки разбегались глаза. Невольно вспоминались керосиновые лампы, газовые фонарики, засыпанные шелухой от семечек полы...
Два чтеца представили участников программы, и начался парад-пролог.
— Артисты Волжанские! Люди-лягушки! — торжественно объявил шпрехшталмейстер в конце первого отделения.
Левка насторожился. Сейчас начнется его будущий номер.
Манеж изображал лесное болото. Яркая луна освещала кочки, лилии. Одна из лилий раскрылась. Из нее выпрыгнул маленький лягушонок. Потом второй. Появились взрослые лягушки. Все прыгали, выполняли стойки, кульбиты, колесики, сложные акробатические упражнения. В одной из лягушек Левка безошибочно узнал Владимира. Встав рукой на длинную ходулю, он начал прыгать. Прыжки на ходулях! Левка не верил своим глазам.
«Пятьдесят, шестьдесят, семьдесят... сто»... — считал пораженный мальчик.
Объявили антракт. Левка за кулисы не пошел, сидел грустный.
Во время второго отделения рядом с ним уселся какой-то мальчуган лет четырех, тронул его за плечо.
— Чеготебе, мальчик? — досадливоотмахнулся Левка.— Не балуйся!Не мешай смотреть!
— Во-первых, я не мальчик, а взрослый, а, во-вторых, почему ты не пришел в антракте? Володя ждал тебя...
Левка внимательно посмотрел на соседа. Лицо его было в мелких морщинках. Он приветливо улыбался, глядя на Левку, подмигнул ему.
— Что разинул рот? Никогда не видел лилипута? — Ипредставился: — ВасилийЯкимов.Будемработать вместе.
— Так это вы были лягушонком? — догадался Левка.
— Я.Авообще можешь говоритьмне«ты»! Не люблю, когда «выкают».
Представление закончилось. Они вошли в гардеробную.
— Паспорт у тебя есть? — спросил Владимир.
— Нет. Я несовершеннолетний.
— А какие-нибудь документы? Метрика?
— Ничего нет... Справки из колхозов, из клубов...
— Это похуже. Но ладно! Пойдем к директору. Он у нас энергичный, из местных. Что-нибудь сделает.
Выслушав Левкину историю, директор пообещал помочь, распорядился, чтобы мальчика поселили в комнате с лилипутом. Она находилась недалеко от цирка и очень понравилась Левке. Особенно кровать, застланная персидским ковром.
— Идите с Васей, забирайте вещи! Вот тебе на первое время десять рублей. Потом дам еще. Завтра зайду, — сказал Владимир и ушел, похлопав Левку по плечу. — Главное — не робей!
Вместе с Василием Левка отправился в техникум.
— Подожди меня на улице, — сказал он лилипуту и вошел в проходную.
— Опять ты? — рассердился усатый привратник. — Сколько раз говорил тебе: не велено пускать!
— А я здесь, между прочим, больше не живу, — сказал Левка. — Я пришел проститься. Мне, между прочим, государственный цирк снимает отдельную квартиру. В самом центре. Четыре комнаты на одного. Со всеми удобствами, с балконом! С лифтом! С ванной! Ясно? — И он решительно прошел мимо вахтера.
У дверей Абашкиных Левка остановился. Он долго стоял перед дверью, не решаясь войти. Наконец постучал.
— Заходи! Заходи! — закричал Паша. — Ну, как программа?
— Замечательная...
Павел был возбужден. Перед ним на столе лежали куски проволоки. Он схватил их и подошел к мальчику.
— Вот, Левка, все для новой конструкции иллюзионного аппарата. Был у мастера. Гляди. Это будет каркас. Что не раздеваешься? Замерз?
— Я... ухожу, Паша...
— Куда это на ночь глядя? И я с тобой!
Левка перевел дух, решился.
— Ты меня не понял, Паша, я совсем ухожу...
— К-куда?
Павел в растерянности опустил руки с проволокой.
— Буду работать в цирке. В труппе у Волжанских.
— Ну, что ж. Желаем счастья... — сказал Павел не сразу.
Чувствуя на спине грустные взгляды Павла и Валерии, Левка склонился над чемоданчиком. На дне его лежали тапочки, альбом с рисунками, трусы, рваный бандаж и бублик для копфштейна.
«Только бублик прибавился... Да дурацкий рог для вина... Полотенца по-прежнему не нажил...» — подумал Левка и, пожав руки Абашкиным, мучимый совестью, пошел к двери.
— Заходи...
— Конечно, зайду.
— Я провожу тебя, — неожиданно предложил Павел. — Может, оно так и лучше... — еле выговорил он, выйдя на улицу. — Знаешь, Левка... Виноват я... Наобещал с три короба... ты кормил... поил... Прости, Левка...
Он круто повернулся и скрылся в дверях.
— Хватит тебе переживать, — сказал по дороге Василий.
— Я товарища бросил... Товарища... Понимаешь?..
Рано утром пришел Владимир.
— Директор вызывает.
— Что-нибудь случилось? — испугался Левка.
— Пока еще ничего, но должно случиться. Паспорт тебе хлопочем.
В пять часов вечера они вышли из отделения милиции. В кармане счастливого Левки лежал тоненький листочек — временный паспорт «сроком действия на три месяца».
— Теперь за Мариной и в магазин! Оденем тебя. Что насупился?
— Неудобно... Опять вы тратитесь...
— В цирке неудобно только сальто-мортале под столом крутить! Остальное все удобно! Понял? Двинули!
Назавтра Левка пришел в цирк первым. Он принял душ, нарядился в новый костюм, тупоносые ботинки, нарядное теплое пальто. Мучась от жары, слонялся по конюшне, крутился перед зеркалами.
— Хорош, хорош, раздевайся, а то простудишься! — услышал он голос лилипута. — Жених, что и говорить! А вот тебе и невеста! Подойдет? Знакомься — Ниночка Банная.
Рядом с Василием стояла необыкновенно стройная, голубоглазая красавица лилипутка, элегантно одетая в беличью шубку и крошечные туфельки на высоких каблучках. Она была похожа на большую куклу. Левка нагнулся и пожал ей руку.
— Василий вечно глупости говорит, не обращайте на него внимания, — улыбнулась Нина. — А раздеться вам действительно нужно, а то простынете потом. В цирке всегда страшные сквозняки. Еще, не дай бог, радикулит схватите...
Голос лилипутки звучал, как тонкий серебряный колокольчик.
— Уже схватил, — сказал Левка.
— Тем более...
...В феврале труппа уезжала в Ереван. Абашкин пришел на вокзал проводить Левку. Они стояли у вагона.
— Меня мучает одно дело, — сказал Павел, не глядя на Левку. — Мы тайком от тебя покупали сахар для Валерии. Ей без него нельзя. И чуть масла. Она же кормящая... Пойми... Прости... Левка...
Павел быстро пожал руку друга и, не дав ему вымолвить ни слова, торопливо зашагал прочь. Левка хотел кинуться вслед за ним, но состав тронулся.
Глава III
Новый друг — Сандро Дадеш
Левкин дебют в «лягушках» состоялся в день премьеры. Он отлично выполнил все трюки, но под финал «завалил» от волнения стоечку на локтях. Придя за кулисы, он снял лягушачью маску и сел в углу на табурет, опустив голову. Ему было стыдно глядеть на партнеров.
— Не расстраивайся! — сказал Владимир. — Пошли Дадеша смотреть! Он сегодня приехал, второе отделение заканчивает!
— А кто это Дадеш? — спросил Левка.
— Увидишь — ахнешь!
Войдя в гардеробную, Левка обомлел: за столом у зеркала сидел человек в майке и гримировался... ногами. Рук не было. Совсем. На вешалке висела фрачная рубашка, в рукава которой были вставлены два протеза в белых перчатках.
— С приездом, Шурка! — крикнул Владимир.
Человек обернулся.
Лицо у него было молодое, красивое, в правом ухе болталась крошечная золотая сережка. Подняв ногу, он сорвал с вешалки полотенце и вытер ноги так, как вытирают руки.
— Поздравляю с сыном!
— Спасибо!
Дадеш подошел к Владимиру, сбросил с правой ноги туфлю, протянул ее Владимиру.
— Временно буду работать с вами, понятно, да? Не возражаешь?
— Что ты! Очень рад! Помочь тебе одеться?
— Нет, я сам. Маринка в больнице? Завтра сходим вместе навестим! Ясно, да?
Он подошел к вешалке, снял рубашку с протезами, сел на ящик, надел ее ногами, нагнулся, застегнул на груди ремни от протезов, несколько раз повел плечами, прилаживая протезы поудобнее. Потом надел туфли, подошел к Владимиру.
— Заправь рубашку сзади!
Владимир заправил рубашку в брюки.
— Спасибо. А это новый партнер? — спросил Дадеш, кивнув в сторону Левки.
— Да. Знакомься. Лева. Это наш товарищ, замечательный артист и художник Сандро Дадеш.
— Вернее, Дадешкелиани. Дадеш — псевдоним. И артист и художник я далеко не замечательный, не верь.
Левка, скрывая смущение, пожал мягкую, как руку, ногу Дадеша. Обе ноги были сильно татуированы. Из-под обшлагов брюк виднелись изображения бабочек, кораблей, якорей. Рисунки были выполнены отлично.
— Дураком в детстве был, понятно, да? — с приятным грузинским акцентом сказал Дадеш, кивнув на татуировку. — Как альбом себя разрисовал, ишак! За один день не рассмотришь! А на груди и на спине — целая картинная галерея, даю честный слово! Как вывести, не знаю. Понятно, да? Не хотелось отставать от других ребят.
— Я поэксплуатирую тебя, — сказал Владимир. — Надо вылепить новые маски лягушек. Сделаешь?
— О чем разговор!
— И я помогу, — предложил свои услуги Левка.
— А ты разве рисуешь? — удивился Владимир.
Левка вышел из гардеробной, вернулся с альбомом. Рисунки понравились всем.
— Хорошо! — похвалил Дадеш. — Порисуем вместе!
На его ногах уже были надеты перчатки без пальцев — митенки. Владимир подал ему фрак. Дадеш присел, ловко попал протезами в рукава, выпрямился, подсел к зеркалу, снял туфлю, дотянулся ногой до белого бантика-бабочки, поправил его, потрогал хризантему в петлице, надел цилиндр.
— Все в порядке! Набрось-ка накидку!
Левка накинул на плечи Дадеша легкий шелковый плащ на белой подкладке.
— Меня смотреть пойдете? — спросил Дадеш. — Новый трюк делаю.
— Обязательно!
Левка и Владимир с партнерами отправились в зрительный зал, сели у форганга.
— Он из очень старинного рода, — сказал Владимир. — Родился в Сванетии. Горец. Ногами может делать все. Ты сам видел. Даже бриться может. Снайпер замечательный. Художник. Мастер на все... ноги.
— И ест ногами?
— Конечно. А чем же? Он очень чистоплотный. И нож, и вилку, и ложку держит красиво, по всем правилам. Он и шить умеет. И вышивает отлично.
Раздался выходной марш из кинофильма «Цирк».
— Смотри, идет, — сказал Владимир.
На манеже появился Дадеш. Он сбросил с ноги туфлю, снял цилиндр, подкинул его к самому куполу и ловко поймал ногой.
— Здорово! — воскликнул Левка.
— Подожди. Еще не то будет! — сказал Владимир.
Сандро сел у ресторанного столика, взял ногами меню, полистал его, достал правой ногой из внутреннего кармана очки, подбросил их и поймал переносицей.
— Настоящий жонглер! — вырвалось у Левки.
— Да еще какой! Смотри, смотри дальше!
Дадеш снял с ноги часы, поднес их к уху, завел, переставил стрелки и положил на стол.
— А он и в жизни часы носит на ноге?
— Конечно. Не на протезах же!
К Дадешу подошла официантка, приняла заказ. Она никак не могла вытащить из бутылки пробку. Дадеш быстро ввинтил штопор, вырвал пробку, бросил ее вместе со штопором вверх, поймал пальцами на лету. Потом достал портсигар, вынул из него папиросу, размял, отправил в рот, достал спички, вытащил одну, подбросил коробку вверх и на лету зажег об нее спичку.
В зале дружно захлопали.
Дадеш подошел к мольберту и нарисовал угольком на бумаге портрет коверного клоуна. В конце номера выстрелом из ружья погасил свечку.
— Сила! Просто сила! — восторгался Левка. — А рисунки какие! Какой художник!
С этого дня Левка почти не расставался с Дадешем. Они рисовали, лепили головы лягушек, ходили стрелять в тир.
Однажды поздним вечером Левка проводил Сандро домой. Они стояли, курили. Из-за угла показались два пьяных парня.
— Дай прикурить! — обратился рослый к Дадешу.
Дадеш сдул пепел, перебросил языком папиросу из угла на середину рта, потянулся к парню.
— Эй, ты, «ручки в брючки», — грубо сказал парень, — не можешь дать прикурить по-человечески! — И толкнул его в плечо.
— Отойди лучше, плохо будет, — предупредил, бледнея Дадеш. — Понятно, да?
— Что?
Парень замахнулся, но ударить не успел: Сандро молниеносно сбросил туфлю, и ударил его в грудь. Тот упал навзничь. Приподнялся и, так ничего и не поняв, бросился наутек. Дружок последовал за ним.
— Вот это я понимаю! — восторженно воскликнул Левка.
— Я еще не сильно, — улыбнулся Дадеш. — И туфлю снял. А в туфле убить могу. Рычаг-то, знаешь, какой? Не то, что ваши руки!
Глава IV
Война
Письмо от детдомовцев пришло во Владивосток 22 июня. И Левка тут же сел за ответ.
«Дорогие ребята! Я жив-здоров. Работаю и учусь в школе, кончаю ее. Если бы вы знали, как я рад, что у вас все в порядке! Когда меня в начале сорок первого приняли в комсомол, я получил телеграммы из разных цирков. У меня замечательные друзья — Волжанские и Сандро Дадеш. Дадеш отлично рисует. У нас выходит стенгазета «Арена», мы ее вместе оформляем.
Очень интересно ездить. После отпуска, который я провел у Волжанских в Иванове, побывал во многих городах.
Я очень много репетирую. Володя хочет сделать из меня настоящего артиста. Сегодня в восемь вечера у нас премьера. Ну, вот, пожалуй, и все!
Привет воспитателям.
Мы остановились в гостинице «Челюскин», но все равно пишите мне на цирк».
Около семи вечера он зашел за Волжанскими. Вскоре распахнулась дверь, и ворвался лилипут Вася.
— Ребята, война!
— Да ну тебя к черту! — не поверил Владимир.
Все пробежали в номер напротив. Из окна было видно, как мимо гостиницы мчались грузовики и трамваи, переполненные красноармейцами и краснофлотцами.
— Пошли в цирк, — сказал Николай.
Представление не состоялось: зрителей не было. Владивосток к ночи был уже в полной боевой готовности. Всюду затемнение. Только в одном из домов на Пекинской ярко горели окна.
— Закройте окна! Занавесьте окна! — закричали Левка и Владимир.
Не спеша выглянул пожилой японец. Улыбнулся.
— Засем паника? Все в порядке! — И задернул шторы.
— Тоже нападут, сволочи! — хмуро сказал лилипут.
Вскоре труппа Волжанских переехала в Москву.
Помимо выступлений в цирке, ежедневно по три-четыре раза артисты выступали в госпиталях.
Однажды, проходя по коридору госпиталя, тесно заставленному койками, Левка услышал, что кто-то зовет его. Он обернулся. В кресле на больших колесах сидел молодой человек с перекошенным контузией лицом.
— Подойдите, пожалуйста, сюда, с вами хотят поговорить, — сказал он, кивнув на койку рядом, на которой неподвижно лежал человек с забинтованным лицом.
Левка подошел.
— Говорят, вы из цирка? — спросил забинтованный раненый.
— Да.
— Кто вы?
— Осинский.
Раненый обрадовался.
— Я униформист Борисов. У Цхомелидзе был, помните? А Гусарова, ассистента коллектива, тоже помните, Левушка?
— Конечно.
— Убит... Под Смоленском, — сказал, вздохнув, раненый в кресле на больших колесах. — Вместе воевали... Однополчане... Вот так-то... Часто с Борисовым его вспоминаем... Мы двое в живых остались... Вот и привозит меня сестричка в это отделение побалакать. Главврач разрешил...
Борисов с трудом приподнялся на локтях. Его голос глухо звучал сквозь бинты.
— Познакомься, Левушка! Корешок это мой. Самосеев... Лев... А, Лев!.. Может, выступишь тут перед нашими? Тут, правда, одна слепота лежит, никто тебя не увидит, но это все равно... Мы хоть баян послушаем... Баянист-то с тобой?
— Здесь баянист...
— Ну, вот, видишь, до чего здорово! А я буду объяснять ребятам твои трюки. Я ведь всю твою работу помню... Все перед глазами...
— Обязательно выступлю! О чем разговор! — поспешно промолвил Левка.
Заиграл баянист. Раненые устроились поудобнее.
— Начинаю! — хрипло сказал Левка и сделал шпагат.
— Он сейчас гнется назад, делает мостик, — радостно объяснял Борисов.
Слепые захлопали.
Левка выпрямился, заплакал, не смог продолжать номер. Громче и громче играл баян. Медсестра тоже заплакала, отвернулась, словно слепые могли ее увидеть. Левка собрался с силами, быстро сделал мостик.
— А сейчас, — продолжал радостно объяснять Борисов, — очень трудный трюк: стоечка на локтях — ломанец! Правда, здорово?
Опять дружно зааплодировали. Самосеев нагнул голову, съежился в своем кресле на колесах.
Левка просунул голову между ногами, согнувшись назад.
— А сейчас он гнется. Вперед. Вдвое! Называется клишник. Верно объясняю? Здорово объясняю, а, Самосеев? Ты ведь видишь! Подтверди ребятам! Точно все, что я говорю?
— Точно.
Левка давно уже не исполнял тот номер, который видел когда-то униформист. А Борисов все объяснял и объяснял старую Левкину работу.
На другой день после долгих настояний Левке вручили наконец долгожданную повестку. Из военкомата в цирк он шел в приподнятом настроении. Наконец-то он будет драться на фронте! А после войны — снова в цирк! В родной цирк!
В цирке Левку встретил Дадеш.
— Где Волжанские? — спросил Левка.
— Уехали в госпиталь. Совсем недавно. И я только что с выступления.
Левка опечалился:
— Что же делать?.. Ведь мне уходить...
— Уже?
— Уже, Сандро... Немного подождать, конечно, могу... Может, вернутся...
Левка нервничал: а вдруг опоздают? Нельзя же, не простившись с Волжанскими, с Володей...
— Жалко расставаться, Левка, — вздохнул Дадеш. — Эх, вместе бы нам... Завидую тебе... Никогда никому не завидовал, а тебе завидую... Знаешь ведь, как я стреляю, какой снайпер? Не берут... Слышать даже не хотят... Обидно... Понятно, да?.. А я бы и разведчиком мог быть... Тебе не страшно?
— Меня ни за что не убьют, Сандро. Чувствую, что не убьют. Может, ранят. Тоже чувствую. А убить не могут...
Прошло полчаса. Волжанских не было. Левка заволновался еще сильней. Это заметил Сандро, сказал:
— Знаешь, Левка! Поеду-ка я в госпиталь, выступлю, заменю Волжанского. Отработаю за него. Скажу, что ты уходишь.
Левка посмотрел на друга с благодарностью, кивнул. Сандро молча снял с ноги часы, протянул их Левке.
— Что ты... Зачем?..
— Память будет, слышишь?.. На счастье... Особенные у меня часы... Здорово тикают. Послушай. Из коридора слышно, наверное. До свидания, Левка, до встречи, слышишь?
Он поцеловал Левку и, отвернувшись, быстро вышел из гардеробной.
«Сейчас чуть не заплакал, а как с Володей прощаться буду?» — подумал Левка.
«Неужели не вернутся, не простимся?» — волновался Левка. Часы, подаренные Дадешем, громко тикали. Взглянув на них Левка, решил: «Пора!»
Он присел на краешек стула и начал писать записку. От волнения сломал карандаш. Пришлось развязывать мешок, доставать нож. Написав несколько строк, он услышал в коридоре быстрые шаги. Кто-то остановился за дверью, не решался войти. Левка оторвался от записки, замер, сидел неподвижно, прислушиваясь.
Наконец дверь распахнулась и вошел Владимир. Он был бледен, глаза казались воспаленными.
К горлу Левки подступил горький ком. Почему-то сразу вспомнилось, как он во время их первой встречи в цирке пытался прикрыть следы босых ног.
Левка поднялся, скомкал записку, быстро засунул ее в карман.
— Готов? — только и сумел спросить Владимир.
— Готов, Володя...
Они стояли в тягостном молчании. Слышно было, как тикают часы, как ветер скрипит ржавым листом железа на крыше.
Владимир не выдержал:
— Двинули!
Они вышли за ворота, долго стояли рядом, не глядя друг на друга.
— Ну, привет... — еле слышно сказал Левка.
— До встречи...
Они не обнялись, не поцеловались, не протянули друг другу руки. Левка резко повернулся и пошел в сторону Трубной. Он шел все быстрее и быстрее, потом почти побежал. Владимир долго смотрел ему вслед.
Часть третья
Фронт
Глава I
В Рязани
Из окон казармы видны орудия в маскировочных чехлах. На них садится снег, ласковый, легкий и пушистый.
Стоит только взглянуть на белые пушки, сразу становится холодно. А каково прикасаться к ним?
Осинский пушек не видит. Они за забором. Ему видна только пустынная ночная улица, занесенная снегом.
Очень холодно, и хочется спать. Это плохо: он ведь только что заступил на пост.
Ему еще повезло. Пост у штаба считается самым легким.
Левка зевнул, поежился, передернул плечами, крепче сжал в руке винтовку. Совсем вымотали учения! А по вечерам еще нужно дежурить, перечерчивать схемы, готовить рабочие карты. И сегодня, после возвращения из караула, придется немного почертить. Просил сам командир батареи, лейтенант Горлунков.
Левка снова зевнул, следя за медленным полетом снежинок...
Снег шел весь декабрь, январь, февраль... Давно уже полк покинул Коломну, стоял под Тулой, отправился было на Сталинград, и вдруг по дороге срочный приказ:
«Артиллерийскому истребительному противотанковому полку Резерва Главного Командования расквартироваться в военном городке в Рязани».
Цель — освоение новой техники. Вместо «сорокопяток» — семидесятишестимиллиметровки. Отличные пушки!
Дверь штаба отворилась, и из нее вышел лейтенант Снежков. Они недружелюбно посмотрели друг на друга.
«Интересно, куда это он на ночь глядя попер? — подумал Осинский. — В штабе еще работают... Ишь, вышагивает, проклятый! Сверток какой-то под мышкой тащит. Наверное, хлеб и сахар. Будет выменивать, гад!»
Все солдаты не уважали и не любили лейтенанта Снежкова. Карьерист он и самодур. Каждый солдат испытал на себе эти качества Снежкова, и ефрейтор Осинский тоже.
Не раз сталкивались Снежков и Осинский, и всегда Снежков использовал свое положение старшего по званию и всячески унижал Осинского.
А недавно произошло следующее. Снежков дежурил по полку. Осинского назначили охранять самый дальний склад боеприпасов. Вечерело. Выл ветер, мела поземка. Осинский увидел Снежкова.
— Стой, кто идет?
Снежков молчал. Шел прямо на Осинского.
— Стой, кто идет?
Лейтенант ничего не ответил. Осинский щелкнул затвором.
— Стой, стрелять буду!
— Я те выстрелю, мать твою!..
Осинский выстрелил вверх.
— Ты что, обалдел? Это же я, Снежков, дежурный по полку! — И снова матом.
— Ложись! — крикнул Осинский. — Застрелю, как собаку!
Испугался Снежков. Лег, крикнул:
— Ты, психа! Сейчас же вызывай начкараула!
— Не слышно будет! Пурга! Лежи давай! Сам психа!
Лейтенант Снежков пролежал на снегу лицом вниз довольно долго. Стало совсем темно. Пришла смена. Осинский доложил. Снежков идти пешком отказался:
— Несите меня. Несите прямо в санчасть! А его, сукина сына, на губу! Он меня обморозил!
Осинского отправили под арест. Минут через двадцать привели к командиру полка.
— Что натворил? Докладывай!
Осинский доложил. Подполковник еле заметно улыбнулся, приказал:
— Из-под ареста освободить. Действовал правильно. Все по уставу. Можешь идти! Снежков где? Все еще в санчасти? А ну-ка ко мне его! Живо!
С тех пор Снежков люто возненавидел Осинского.
...Веки слипались. Левка заставил себя широко раскрыть глаза, энергично затряс головой.
«Ну, до чего же хочется спать! Вот горе-то!.. Нельзя спать, нельзя!» — уговаривал себя Осинский. Но глаза слипались, голову тянуло вниз, болела шея. Подбородок то и дело утыкался в грубую, холодную шинель на груди... Как и чеховской Варьке, ему казалось, что лицо его высохло и одеревенело, а голова стала маленькой, словно булавочная головка...
Он снова встрепенулся, больно ударил себя кулаком в бок, в ребра, с силой протер глаза. Казалось, в них насыпали песку.
«Я должен на чем-то сосредоточить внимание, напрячь мысли, что-то начать вспоминать. Иначе точно засну...»
И он вспомнил бой под Тулой, вспомнил, как прямо на пушку двигался танк.
— Танк! — с ужасом закричал кто-то рядом.
Осинский прижался к окуляру прицела, одеревеневшими, дрожащими от волнения руками схватился за маховики.
— Огонь!
Он тут же нажал на спуск. Пушечка резко дернулась назад. Тугой каучуковый наглазник больно ударил в переносицу. Резко запахло пороховым дымом.
— Перелет! Перелет! — в страхе кричит мариец Иван Иванович.
— Прицел семь! — хрипло приказывает командир.
«Бу-бу-бух! Бу-бу-бух! Бу-бу-бух!» — снова и снова бьет пушечка.
Она даже подскакивает на колесах. Но усилия тщетны. Перелет. Перелет. Недолет. Танк приближается. Его длинная пушка, похожая на вытянутый хобот слона, уверенно нащупывает цель.
Новая беда: снаряды кончились.
— В ров! За бутылками! За гранатами!
Из ровика видно, как танк с ходу наваливается на оставленную сорокапяточку и с ожесточением начинает крутиться на пушке, вминает ее в землю...
«Это я не сплю... Так, точно так все и было... Именно так...»
Он на секунду поднимает отяжелевшие веки, видит темную улицу и тут же снова закрывает глаза, отметив с радостью:
«Не сплю... Не сплю ведь... Как тихо на улице... Как много снега... Что это так громко тикает?.. Ах, это мои часы — подарок Сандро Дадеша... Мировой парень!.. Где-то он сейчас? Где Волжанские?.. Володька... Милый Володька... Николай... Марина...»
Он снова прислушивается к ходу часов.
«До чего громкий ход... Небось, вся улица слышит... Верно говорил Сандро: ни у одних часов нет такого хода...»
Он вспомнил, как с силой швырнул гранату, выглянул на бруствер... Целый и невредимый танк двигался прямо на ровик. Раздался вой снаряда, он пригнулся и почувствовал резкий удар в плечо... Сверху посыпались комья снега и земли...
И сейчас он чувствует удар по плечу. По плечу ударяют еще раз, потом начинают трясти...
«Что за чертовщина? Такого тогда не было... Я помертвел тогда, полузасыпанный, полуоглохший... А потом — Москва, госпиталь. Сплю, что ли?.. Нет, не может быть...»
Раскрыть глаза уже нет сил. А за плечо все трясут и трясут... И откуда-то издалека слышится:
— Вот он, ваш любимчик, товарищ лейтенант, полюбуйтесь!..
«...Это говорит Снежков... При чем тут Снежков?.. И Горлунков... Их не было тогда в ровике... Меня сейчас откапывать должны... Их не было тогда...»
Осинского снова трясут за плечо. Он ощущает на лице чье-то дыхание.
— А что ты, ефрейтор, здесь делаешь?
Осинский наконец открыл глаза, увидел Снежкова, Горлункова, начхима, двух писарей.
— Что ты, ефрейтор, здесь делаешь? — ехидно, не скрывая радости, снова спросил Снежков.
Осинский сжал правую руку.
Винтовки не было. Похолодело в груди. Земля заколыхалась под ногами...
Глава II
На собрании
Не сказав ни слова, он отстегнул новенькие погоны, снял с себя ремень, протянул все заметно опечаленному командиру батареи и, ссутулившись, направился в караульное помещение.
Знакомый часовой, дежуривший у входа, посмотрел на него с тревогой и изумлением. Пройдя мимо часового, он сел на табуретку у окна, неподалеку от пирамиды с винтовками. Командир батареи устроился за столом. Осинский старался не встретиться с ним взглядом.
Из казармы доносился чей-то громкий храп. Было жарко.
«Застрелюсь... — неожиданно решил Осинский. — Иного выхода нет... Пирамида рядом... Магазин полный... Встану, протяну руку, нажму на спуск... И все... Нет! Нет! Что это я? Я же комсомолец... Пусть судят... Я заслужил...»
Своим чередом шла смена караула. Солдаты, кто с сочувствием, кто с осуждением, кто просто с любопытством, смотрели в его сторону. Осинский сидел, ничего не замечая.
Издали послышались торопливые шаги. Дверь распахнулась, и вошел командир полка.
— Караул, смирно!
Осинский продолжал сидеть, ссутулившись, низко опустив голову.
«Уже утро... Уже новое утро... Может быть, последнее...» — подумал он, холодея.
Командир батареи доложил о происшедшем.
— Что ж... Ясно... — задумчиво произнес подполковник, потерев ладонью синеватую, побитую порохом щеку, и сел рядом.
От его новой, чуть поскрипывающей портупеи приятно пахло кожей. Он молчал, глядя на Осинского. Тот встретился с ним взглядом, перевел его вниз на сапоги подполковника, начищенные до блеска.
Было слышно, как за окнами солдаты скалывают скребками лед. Кто-то раскатисто захохотал. Потом прогромыхал грузовик. Подполковник медленно, в задумчивости, перекатывал по столу толстый граненый красно-синий карандаш.
«Сколько же еще можно молчать?.. Пусть заговорит... Я ко всему готов...» — подумал Осинский.
Подполковник отложил в сторону карандаш. Сказал наконец:
— Понял, Осинский?
— Конечно, — ответил тот едва слышно. — Если бы я мог не понимать, мне было бы легче.
— У нас сегодня полковое комсомольское собрание, — сказал подполковник лейтенанту. — Я бы поставил первым вопросом ЧП с Осинским, вторым — замену заболевшего комсорга.
Сказал и вышел, плотно притворив за собой дверь.
Собрание началось в полдень. Клуб был переполнен.
— Прошу слова! — звонко выкрикнул с места мариец Иван Иванович.
От волнения его лицо покрылось красными пятнами. Голос срывался. Он налил себе воды из графина, но пить почему-то не стал, отодвинул стакан в сторону.
— Только один пример, ребята, и Осинский весь как на ладони. Только один пример!
Голос срывался. Он взял стакан, отпил глоток. Потом продолжал:
— Он лежал в Москве, в госпитале. Ранение в плечо было тяжелым, вы все знаете. Когда его откопали без памяти, никто не верил, что он выживет... Я переписывался сперва с медсестрой, потом с ним. Когда я сообщил ему из Тулы, что мы вот-вот снова поедем на фронт, вы знаете, что он сделал?
Мариец перевел дух.
— Он сбежал из госпиталя ночью, через окно, не долечившись! И с забинтованным плечом вернулся в полк. Помните? Каждый ли так поступит? Я думаю, если по-честному, нет! И какой он смелый солдат, мы все знаем. Он уже награжден значком «За отличную артиллерийскую стрельбу». Он совершил большую провинность. Но, учитывая, что он всем своим прежним поведением доказал, как беззаветно любит нашу великую Родину, можно ограничиться выговором без занесения в личное дело! В крайнем случае — «губой»!
— Правильно! — дружно поддержали солдаты.
— Ишь, какие добренькие! — не выдержал и выкрикнул со своего места Снежков. — Да за это штрафбата мало! Шутка ли, уснул на посту!
Все повернулись в его сторону. Подполковник тоже метнул на него сердитый взгляд.
Следующим выступил командир батареи Горлунков. Он охарактеризовал Осинского как хорошего солдата и в заключение сказал:
— Если бы не этот проступок, я бы именно его рекомендовал вместо заболевшего комсорга. Какой Осинский солдат, вы все знаете. А вот все ли знают, что он в прошлом артист?
В зале оживились, закричали:
— Как — артист? Левка Осинский — артист?
— Да, оказывается, он артист цирка. Артист с тринадцати лет. Он рано лишился родителей. Воспитывался в детдоме. Случайно попал в бродячую труппу. Мотался с этой «дикой» бригадой по всей стране. Недоедал. Недопивал. Не раз хозяйчик бил его. Эксплуатировал. Вы слышали, я его в шутку иногда зову «пассажиром без билета»? А почему? Да потому, что был без прав, без места в жизни. Оборванный. Вшивый. Грязный. И не сломился. Стал человеком. Хорошим артистом. Он скрывал это. Как звали твоего коллегу, что ко мне заявился? — обратился командир батареи к Осинскому.
— Герман Резников. Только зачем вы об этом?
— Надо. Пусть все знают. Так вот, ребята, заявляется ко мне как-то этот Герман Резников. «Я слышал, что у вас в батарее Осинский?» «У меня, — отвечаю, — а зачем он вам?» «Я, — говорит, — назначен руководителем фронтового акробатического ансамбля, мне нужны люди». «Очень приятно, — говорю, — поздравляю с высоким назначением, только при чем тут Осинский?» «Он артист!» У меня, ребята, как и у вас сейчас, глаза на лоб! Осинский — и вдруг артист! Вызвал я его. Он сразу этого Резникова узнал, смутился. «Ну, потолкуйте, потолкуйте, ребята», — говорю и вышел... О чем они там разговаривали, не знаю, а только снова приходит ко мне этот Герман. «Повлияйте на Осинского! — говорит. — Я имею полномочия. Осинского запросто к нам в ансамбль зачислю, а он еще чего-то думает, не хочет, а мне позарез нужен «верхний» в пирамиду и трубач в оркестр». «Нет, — отвечаю, — пусть сам решает. У него своя голова». Через день обращается ко мне Осинский: «Разрешите на репетицию сходить?» Я его отпустил. А у самого, ребята, душа болит. «Не выдержит, — думаю, — в ансамбль запросится. Уговорит его этот Герман, черт бы его подрал! Жаль будет парня отпускать... А куда денешься?» Нет Осинского и нет. Я жду, нервничаю. Пришел он поздно. Бледный, взволнованный. «Ну, — спрашиваю, — репетировал свои пирамиды?» «Репетировал...» «И на трубе играл?» «И на трубе...» И таким грустным тоном сказал он это: «И на трубе...», — что, чувствую, уйдет, не может не уйти! «Что ж, — спрашиваю, — значит, будем оформлять твой перевод в ансамбль?» «Нет, — отвечает, — полк — мой родной дом. Только ребятам ничего не рассказывайте. Пусть не знают по-прежнему, что я артист. А на репетиции меня еще пару раз отпустите, пожалуйста, если можно...»
Через десять дней, вернувшись из-под ареста, Осинский вместе с полком выехал на фронт.
Глава III
На Курской дуге
Осинский спал, завернувшись в шинель, неподалеку от пушки, на ярко-зеленой, прогретой августовским солнцем траве. Рядом было неубранное поле. Тяжелые колосья склонялись к земле.
Слева, у невысокого холма, стоял огромный, обгоревший «Тигр». Он осел набок, бессильно свесив покалеченный ствол.
Около танка валялся мертвый танкист в полусгоревшем френче, с серебряными черепами и розовым кантом на погонах и петлицах.
А неподалеку от огневой позиции покуривали командир батареи, несколько солдат-артиллеристов и какой-то пожилой пехотинец в выбеленной солнцем и ветром гимнастерке с поблескивающими на ней медалями.
— А хоть представили вас за «Тигра»? — помолчав, спросил пехотинец.
— Представили. Нас к медалям, сержанта Осинского — к «Звездочке».
— Трофей стоящий, — сказал пехотинец. — Как думаешь...
И он не успел закончить свою мысль, как в метре от него в землю врезался снаряд. И, казалось, только потом послышался зловещий, стремительно нарастающий звук.
— Ложись! — громко крикнул лейтенант Горлунков.
Осинский проснулся, метнулся к пушке, спрятался за стальное колесо. Остальные тоже попрятались кто куда: мариец Иван Иванович — в старую воронку от бомбы, лейтенант и пехотинец — в окопчик.
Распластавшись, Осинский старался как можно сильнее прижаться к земле, целиком вдавиться в нее.
— Ну, когда же? — не выдержав, тоненьким детским голоском выкрикнул из воронки мариец.
Но взрыва не последовало. Снаряд не разорвался.
— Подъем! Ложная тревога!
Солдаты поднимались с опаской. Иван Иванович вылез из воронки весь в известковой жиже.
— Ты совсем как наш цирковой клоун Роланд! — рассмеялся Осинский. — Только у того хоть одна бровь черная да уши красные, а ты весь белый.
К снаряду подходили осторожно, отряхивая с себя землю, негромко переговариваясь.
— Ничего себе, — шепнул и даже тихонько присвистнул Иван Иванович, сбросив на траву мокрую гимнастерку. — Восьмидесятивосьмимиллиметровый калибр! Приличная штучка!
— Да, считайте, что мы все в рубашках родились. Здорово повезло, — сказал лейтенант. — Ну, по местам, ребята, скоро начнется!..
Они направились к укрытию, но не сделали и десяти шагов, как послышалось пронзительное взвизгивание шальной мины. С хлюпаньем она разорвалась впереди лейтенанта.
Командир батареи пошатнулся, рухнул набок, начал медленно заваливаться на спину. Все кинулись к нему.
— Живы, Петр Ильич?
— Жив... Ничего... Не в первый раз... Отлежусь... — пытался шутить лейтенант.
Лицо его стало таким же белым, как у марийца, когда тот вылез из воронки с известью.
— Сообщите в санчасть! Машину! А пока пакеты сюда, пакеты! — крикнул Осинский, сбрасывая с себя шинель и наклоняясь над командиром батареи.
На перевязку ушло шесть индивидуальных пакетов. Иван Иванович быстро стянул с себя нижнюю рубаху, разорвал ее на широкие полосы и принялся перевязывать раненого. Кровь проступала алыми пятнами сквозь бинты, капала на сухую землю.
Едва только санитары унесли лейтенанта, как из-за большого холма послышался знакомый рев.
— По местам! Танки! — скомандовал Осинский.
Первым бросился к пушке мариец, так и не успев надеть гимнастерку. Незагорелая, впалая детская грудь его и тонкие, как у ребенка, руки были перепачканы кровью лейтенанта.
Не дожидаясь приказа Осинского, он поспешно схватился за тугую рукоятку и, открыв затвор, нетерпеливо повернулся к расчету.
— Скорее! Скорее!
Из-за большого холма уже видны были клубы пыли; тяжелый гул нарастал.
— Каску! Каску надень! — приказал марийцу Осинский, сам торопливо натягивая на пилотку старую, исцарапанную, чуть помятую по краям каску. От волнения он никак не мог застегнуть тоненький ремешок под подбородком. Наконец это ему удалось.
— Сейчас врежем! Подождите, гады!
Беспощадно палит солнце. Танков еще не видно, но они вот-вот появятся: все гуще растет туча пыли, все громче ревут моторы и гремят траки.
— Подкалиберным! — приказывает Осинский и одним глазом прижимается к прицелу.
Снаряд в патроннике. Лязгает затвор.
Самое неприятное — скрежет гусениц. От него внутри становится пусто и холодно, скребет в ушах, что-то переворачивается под сердцем, к горлу подступает тошнота, почему-то стынут зубы.
— Сейчас выползут!
Все полны тревожного ожидания. Соленый, липкий пот слепит Осинскому глаза, струйками стекает за ворот.
На миг оторвавшись от прицела, он быстро вытирает пот рукавом гимнастерки и снова припадает к прицелу.
— Идут!
Косяк рыжевато-серых танков похож на ползущих тараканов. Они гремят и грохочут, катятся в клубах пыли, набирая скорость. Нарастает железный гул, ползет по земле, стонет в поднебесье.
— Огонь!
Выстрелы тонут в общем грохоте и реве. Слева, справа и над головами с воем проносятся снаряды. Эхо не умолкает, разрастается, удесятеряет гул, звон, скрип, рев. Сотрясается воздух, дрожит земля.
— Огонь! Огонь! — кричит Осинский.
Полуоглохшие ребята стараются, не щадя сил. Задыхаясь, не закрывая ртов, они жадно глотают горячий, удушливый, горький от пороха и тротила воздух.
Осинскому плохо видно в прицел: горизонт то и дело исчезает за клубами порохового дыма и столбами земли. Космами висит пыль. До боли прижавшись к каучуковому наглазнику, он водит и водит маховиками, целится, нажимает на спуск, снова хрипло кричит:
— Подкалиберным!
Много танков уже горит, некоторые повернули обратно, но три прорывают оборону и двигаются вперед.
«Дело плохо... Сектор обстрела у нас только впереди... Стрелять назад невозможно...» — быстро соображает Осинский и приказывает, указав на тропинку в жнивье:
— Выкатывай!
Пушка тут же застревает правым колесом в воронке от снаряда.
— А ну, взяли!
Пока расчет возится с пушкой, первый танк, обогнув холм, скрывается во ржи.
— Ушел, подлец! Три-четыре! Взя-а-ли!
Еще несколько мучительных усилий, и пушка наконец стоит на нужном месте. Солдаты втискивают сошники в землю. Теперь можно стрелять.
— Заряжай!
В панораме прицела — второй танк.
Выстрел. Снаряд угодил в цель. Танк пылает.
Третий танк загорается с пятого снаряда. Солдаты в азарте кричат «Ура!». Забыв об опасности, они готовы пуститься в пляс.
Но что случилось с Иваном Ивановичем? Почему лицо его перекосилось от ужаса? Почему он так кричит? Куда показывает? Что там налево?
Осинский оборачивается...
Метрах в пятидесяти словно из-под земли вырос танк. Это тот самый, первый. Грязно-серый, пыльный, огромный, стоит он в горящей золотой ржи, освещенный ярким солнцем.
Осинскому даже кажется, что он видит, как идет дымок из его длинной пушки. Выстрела он не слышит. Резким движением поворачивается вправо, чтобы развернуть пушку на танк... и чувствует удар по руке. Чуть выше локтя. Кажется, что по руке ударили палкой.
«Что за черт?»
И тут же его оглушает взрыв, сильной волной воздуха отбрасывает в сторону.
С неестественно громким треском разрывается тонкий ремешок каски, и она, сорвавшись с головы, летит, словно легкая панама, подхваченная ветром.
Все тело изранено мелкими осколками, но Осинский не чувствует боли. И не замечает, что из полуоторванного чуть ниже локтя левого рукава гимнастерки обильно сочится кровь.
Снова грохочут снаряды, издали все явственней доносится отвратительный скрежет гусениц.
«Надо повернуть пушку... Надо стрелять...»
Осинский пытается схватиться за маховик наводки и поначалу не может понять, почему это ему не удается. И вдруг нестерпимая боль в левой руке застилает сознание. «Рука! — ударяет в голову страшная мысль, — оторвало руку!» Тело становится ватным, он покачивается, обессилев, кружит на месте, вот-вот упадет. Глаза заливает кровь, и все-таки Осинский успевает заметить мертвого, полуголого Ивана Ивановича. Мариец лежит в пыльной траве. И кажется, будто срезанное осколком лицо его растет прямо из земли. Совершенно белое. Как гипсовая маска. Как посмертный слепок...
«Снаряд угодил прямо в расчет... — вспоминает Осинский. — Я стоял у наводки... Остальные — справа...»
Он поворачивается к танку, грозит ему кулаком и кричит. Кричит яростно, негодующе, кричит до хрипоты в горле:
— Фашисты! Собаки! Гады!..
Начинает стрекотать пулемет. Осинский видит, как прямо от танка на него идет цветной трассер. Но он продолжает кричать, исступленно, злобно.
«Тик-так... Тик-так... Тик-так...» — все громче и громче доносится откуда-то слева, снизу.
«Часы, что ли?.. Нет, не может быть... Это пульсирует кровь... Конечно... Вон как хлещет... Надо остановить ее... Немедленно. Иначе — смерть... Надо найти жгут...»
Он оглядывается, замечает в траве длинную змейку красного телефонного кабеля. Сев рядом, с трудом перекусывает кабель, берет один конец в зубы, а другой в руку и туго обматывает обрубок выше локтя.
«А моя рука там, во ржи... Валяется теперь ненужная, с часами на запястье... Сколько же они будут идти? Я заводил их перед второй атакой... Они громко тикают... И долго будут еще тикать там, во ржи... На мертвой руке... Живые...»
Взрыв обрывает лихорадочный бег мыслей. Это танк прямой наводкой ударил в пушку. Летит вверх искореженная сталь, комья земли. Раскоряченные, развороченные, дымящиеся станины грохаются оземь.
Танк поворачивается и уходит.
Осинский поднимается и устало движется к прежней огневой позиции. Вокруг ни души. Орудия полка далеко впереди. Пехота давно ушла.
Окоп пуст. Нужно идти в тыл, в санчасть. Идти скорее. Но силы иссякли. Все же он встает и, поддерживая все еще кровоточащий обрубок правой рукой, входит по грудь в высокую рожь.
Полуослепший, он идет, спотыкается, падает, снова идет, шатаясь, не разбирая дороги. Дым ест глаза. Осинский стискивает зубы. С каждым новым шагом он теряет силы. Волосы, лицо, гимнастерка — все в крови.
Уже видна полуразрушенная колокольня.
«Там штаб... Там санчасть... Там свои...»
Вот наконец деревня...
Его встречают полковые шоферы.
— Пить... Пить... Пить...
Глава IV
В тот же день
Брезентовые госпитальные палатки стояли на опушке леса, неподалеку от выжженной деревушки, в которой чудом уцелели две хатки да банька.
На шинелях и прямо на траве, под тентами и под открытым небом сидели и лежали раненые. Особенно много их было у входа в хирургическую палатку с небольшими целлулоидными окнами.
Время от времени полог приподнимался и две санитарки в забрызганных кровью халатах выносили раненых. Их укладывали на подводу и увозили в деревушку.
Осинский опустился на траву. Мучительно болела рука. Подняв ее вверх, он прислонился спиной к дереву, тихо застонал.
Кто-то тронул его за плечо.
— Сам идти можешь?
— Могу, — неуверенно ответил он.
— Ну, давай.
Войдя в палатку, Осинский почувствовал резкий запах лекарств и бензина. Вдоль брезентовых стен на табуретках сидели раненые солдаты, возле них хлопотали медицинские сестры.
— Ложись вон на тот свободный стол, — сказала Осинскому седая женщина-врач.
Сестра помогла ему раздеться. Он лег на тепловатую липкую клеенку и тут же почувствовал, как по всему телу побежали мурашки.
Слева от него на столе лежал раненый с откинутым назад небритым лицом. Ему оперировали живот. Он не стонал, только шумно, как лошадь, фыркал.
Солдат, лежавший на столе справа, дышал ровно. Одной ноги у него не было.
— Не вертись, лежи спокойно, — строго сказала Осинскому седая женщина-врач.
— Есть! — ответил он по привычке и почувствовал, как часто-часто забилось сердце.
Сначала врач извлекла осколок из века, промыла глаз. Потом сняла жгут с руки. Обильно пошла кровь, и Осинский почувствовал облегчение.
Он хотел повернуться, чтобы еще раз взглянуть на соседние операционные столы, но почувствовал на плече крепкую руку врача.
— Лежи, лежи!
Обрубок руки прижали к столу клеенчатой подушкой с песком. Осинский с мольбой посмотрел на врача.
— Ты что, солдат?
— Оставьте длиннее кость, как можно длиннее.
— Ну, как же можно длиннее, когда у тебя разорвано почти до самого плечевого сустава!
— Ну, сделайте хоть что-нибудь!
— Попробуем натянуть ткани пластырем.
На лицо наложили маску, начали капать эфир.
«Задохнусь... Когда же заставят считать?.. Я слышал, что обязательно заставляют считать... Вот, сказали: «Готов»... Значит, я уже усыплен?.. Почему же тогда я все слышу?.. Туман какой-то в голове... Шум... Все мутится... Вот молодая сказала: «Оставим подлиннее кость...» Молодец! Вот старая: «Дайте зажимы...» Что-то отрезают... Кожу, наверное... Сейчас начнут пилить...»
Он дернулся и тут же почувствовал резкий запах. Глубоко вдохнул и забылся.
Когда он очнулся, обрубок был уже забинтован.
— Много отпилили?
— Сколько можно было, оставили.
— Теперь вижу... Эх... Почти до плеча... Почти до плеча... Но ничего... Что же делать...
— Держался ты молодцом, — устало улыбнулась врач и уже без улыбки сказала сестре: — Следующий!
Часть четвертая
Возвращение
Глава I
Цветной бульвар, 13
Санитарный эшелон прибыл на Савеловский вокзал рано утром. Осинский добирался до цирка пешком. Он не торопился, шагал размеренно, худой, небритый, с ввалившимися глазами.
Вот и Цветной бульвар. Здесь все, как прежде: замаскированные аэростаты, зенитки. Вот он, цирк. Осинский остановился, не решаясь идти дальше.
«Может, повернуть?.. Уйти назад?.. Куда? Все равно куда!.. Нет, так нельзя... Раз решил, значит, надо вернуться... Не один день решал, не одну ночь в госпитале не спал. А вдруг начнут жалеть? Кому я нужен такой?..
А кто же работает в Москве? Реклама глухая: «ПОЛНАЯ ПЕРЕМЕНА ПРОГРАММЫ. У КОВРА КАРАНДАШ». Других фамилий нет...»
Наконец он решился войти в здание. В полутемном фойе никого не было. Он воровато огляделся, снял шинель, накинул ее на плечи, как бурку, подошел к зеркалу, посмотрелся в него.
«Хорошо, ничего не заметно, рук вообще не видно...»
Осинский нагнулся, подтянул обмотки, краем шинели смахнул пыль с ботинок, поправил на голове пилотку и двинулся к приемной. Секретарша печатала на машинке.
— Здравствуйте. Директор у себя?
— Да, пройдите.
Он вошел в кабинет.
— Узнаете?
— Конечно, узнаю. Проходи. Садись, фронтовик, рад видеть.
Директор слушал Осинского, подперев голову рукой, думал с жалостью: «Какая трагедия... Какое несчастье... Как бы ему помочь?»
— Вот что, дорогой! Раздобудем мы тебе на дорогу немного денег, продуктов, отправим домой.
Осинский сказал:
— У меня близких никого нет. Я никуда не тороплюсь. Поселите меня в цирке. Поживу тут немного, соберусь с мыслями.
«Конечно, конечно, надо его здесь устроить», — подумал директор и сказал:
— В цирке, говоришь? Сделаем. Только куда же мы тебя здесь поместим? Дай сообразить, не волнуйся, обязательно придумаю что-нибудь... Гардеробные все заняты: в них живут артисты программы... Наверху — в бывшей конторе — Кузнецов...
— А при конюшне? При слоновнике? Там, где конюхи живут, берейторы, слоновожатые?
— Там тоже вроде все занято. Война, сам понимаешь! Хотя... есть одна каморка, да неудобно вроде ее тебе предлагать... Очень маленькая, без окон. И живет в ней уже один парень...
— Кто такой?
— Конюх. Неплохой малый. Он, как и ты, фронтовик. Словом, согласен?
— Конечно.
Директор отдал распоряжения секретарше, и они вместе вышли из приемной. С манежа доносились команды дрессировщика, слышалось щелканье шамберьера, лошадиное ржание.
— Пошли через зал? — спросил директор.
— Нет, лучше через фойе, — ответил Осинский.
Ему ни с кем не хотелось встречаться.
Чем ближе они подходили к конюшням, тем сильней ощущался знакомый острый запах. От нахлынувшего волнения у Осинского заныло сердце.
Миновав стойла для лошадей, они нырнули в низенькую дверцу, вделанную в широкие ворота, и очутились в слоновнике. Огромные животные не обратили на них никакого внимания.
Возле деревянной перегородки у верстаков плотники в фартуках сколачивали рамы. Пол утопал в пахучих сосновых стружках. Двое художников трудились над портретами Карандаша и Юрия Дурова.
«Может, и мне наняться к этим мастеровым в бригаду?..» — мелькнуло у Осинского.
Комнатенка конюха находилась в самом углу. На двери висел большой замок.
— Хозяин в манеже, — сказал плотник, ворочая доски.
— Позови его, пожалуйста, — попросил директор.
Вскоре, поскрипывая протезом, появился конюх.
Выслушав директора, он кивнул головой.
— Понимаю, понимаю! О чем говорить! Оба фронтовики, оба калеки, оба цирковые. Конечно, согласен.
— Ну, вот и отлично, — сказал директор, попрощался и ушел.
Конюх открыл дверь.
— Проходи. Есть хочешь? Вон на столе хлеб, молоко, лук. Бери, не стесняйся!
— Я сыт, спасибо.
— А я поем.
Осинский развязал «сидор», положил на стол продукты, сел рядом на табурет.
— Угощайся!
— И угощусь, не волнуйся. А ты хоть чайку выпей! Медок у меня есть. Деревенский!
— Ну, чайку давай...
Закусив, они притащили вторую койку, закурили. Осинский коротко рассказал о себе.
— А сейчас куда подашься? — спросил конюх.
— В фотографы, думаю, или в художники по рекламе.
— Неплохие ремесла, раз пути в актеры больше нет.
— И я так думаю...
— А ты наверх, к артистам, не пойдешь?
— Не пойду. Не хочется. Жалеть начнут, а я не люблю этого. Так что обо мне помалкивай.
— Ладно. Ты пока один тут поживешь. Я сегодня в деревню махну на пару дней. К родне.
— Хорошо.
Осинский не пошел ни на репетицию, ни на представление. Весь день пролежал в комнате. Разболелась, тупо ныла рана.
Вечером он слышал перед началом представления звонки, топот над головой, потом аплодисменты, взрывы хохота, музыку. Лежал, зарывшись головой в подушку.
Глава II
Встреча друзей
Осинский не вышел из своей каморки и на второй день. Лежа на койке, он пытался по доносившейся музыке угадать, кто выступает на манеже:
«Галоп» — это прыгуны или дрессировщица собачек, «Марш гладиаторов» — силовые жонглеры, крафт-акробаты, «Вальс» — лошади или «рамка»... А вот кто работает под марш Дунаевского из фильма «Цирк»?.. Могут воздушники... Могут гимнасты... Могут эквилибристы... А может, и Дадеш!»
Мысль о друге заставила его приподняться. Он почувствовал, как к лицу прилила кровь.
«Сандро! Вот кого бы сейчас увидеть!.. Неужели Шурка в Москве?.. Какой же я дурак, не спросил про него у конюха! Про Волжанских спросил — недавно были здесь проездом, — а про Шурку не спросил... Если в финале раздастся выстрел, значит, это Дадеш! Только Дадеш!..»
Он прижался ухом к шершавой, холодной стене, напряженно вслушиваясь. Громко колотилось сердце. И вдруг действительно раздался выстрел. Он набросил на плечи шинель и рванулся к рабочему занавесу, притаился за ним...
Красный парадный занавес был широко распахнут. Дадеш стоял посреди ярко освещенного манежа и раскланивался. Осинский видел его спину в накидке, спину шпреха во фраке, спины униформистов в зеленых мундирах с золотом. Они стояли по бокам прохода в две шеренги. Дальше, через манеж, виднелись знакомые лица оркестрантов, затылок дирижера. Директор стоял в центральном проходе, рядом с главной билетершей тетей Катей. Цирк был переполнен военными.
— Браво, Дадеш! — кричали они снова и снова.
Шпрех не отпускал Сандро, заставлял его кланяться еще и еще. Наконец улыбающийся, разгоряченный Дадеш вернулся с манежа. В развевающейся накидке он шел прямо на рабочий занавес. В правом ухе поблескивала золотая сережка. Следом за ним униформисты несли столик, мольберт, мишени и ружья.
— Сандро! — окликнул его Осинский.
Дадеш не услышал: мимо с грохотом пронеслась бочка со свастикой, нарисованной черной краской. Верхом на бочке восседал Карандаш в фашистской форме и маске гитлеровца. Раздался хохот, аплодисменты. Бархатный занавес задернулся. За кулисами стало темнее.
— Шурка! — снова глухо позвал Осинский.
Теперь Дадеш услышал, обернулся, несколько мгновений, словно не веря своим глазам, глядел в упор, потом радостно вскрикнул, кинулся к Осинскому, чуть не сбив его с ног.
— Левка! Дружище! Живой-здоровый! Когда прибыл? Откуда? Насовсем? На побывку? Проездом? В отпуск? Где воюешь?
— Отвоевался я, Шурка... Все...
— Как так отвоевался? — не понял Дадеш.
Осинский не смог ответить, улыбнулся криво, быстро заморгал.
На манеже с треском разорвалась бочка, раздался взрыв хохота.
— Броню тебе дали? Отозвали с фронта? Надолго? Насовсем? Что не отвечаешь?
Оркестр грянул галоп. Снова раскрылся красный занавес, и мимо друзей, смешно прыгая на костылях, проскакал Карандаш. Фашистская форма на нем висела клочьями. Из лохмотьев валил дым. Знаменитый клоун сбросил маску, радостно кивнул Осинскому: «Привет, Лева, заходи!» — и побежал раскланиваться.
— Руку я... потерял... — тихо сказал Осинский, глядя в глаза Сандро.
В зале снова захлопали, засмеялись чему-то.
— Правую? Левую? — медленно спросил Дадеш.
— Левую.
— Посторонись! Посторонись! С дороги! — крикнул сзади старый джигит на лошади.
Друзья отскочили в сторону, прошли в фойе. По нему тоже разъезжали всадники в лохматых папахах, нарядных черкесках с газырями, в черных бурках. Цокали копыта.
— Левая рука не так страшно, не горюй, — все так же медленно сказал Дадеш. — Я без обеих не горюю.
В оркестре затрещала барабанная дробь.
— Берегись, Дадешка, задавим! С приездом, Левка, заходи после представления! — весело крикнули джигиты и с гиканьем промчались мимо, выхватив из ножен клинки, стреляя на скаку из ружей.
— Что же мы здесь стоим? — спохватился Дадеш. — Поднимемся ко мне, поговорим!
— Нет, наверх не пойду. Разгримируйся и выходи на бульвар. Я буду ждать.
На улице было свежо, сеял мелкий, как пыль, дождь. Осинский поежился, перешел дорогу, вышел на пустую, темную аллею и опустился на облепленную осенними листьями скамью. Мимо, стуча сапогами, прошли по лужам патрульные.
Осинский достал из кармана кисет, сложенный гармошкой обрывок газеты, положил все на колени и стал скручивать цигарку. Налетевший ветер вырвал газету и обдал дождем. Подошел Дадеш, сел рядом.
— Ты Волжанскому написал про руку?
— Нет.
— Так... Курить будешь?
— Буду.
— Возьми портсигар в кармане. Папиросы особого сорта. Сам клею, сам набиваю. Таких не достанешь. Наркомовские! Вкусный табачок, верно?
— Вкусный. Крепкий.
Они курили молча, жадно затягиваясь. Дадеш сказал:
— Напрасно ты Володьке не написал. Глупо. Очень глупо.
— Не напрасно. Я теперь калека. О чем писать? Не могу я быть обузой.
— Ты тронутый, даю честный слово! Понятно, да? Они же тебе как родные, слышишь?
— Слышу. Тем более.
— Что городишь? Что городишь? Вах! Слушать противно! Какая может быть обуза? Какой ты, к черту, калека? Убогий, что ли? И что вообще значит калека? Калека — тот, кто работать не может, на чужой шее сидит, попрошайничает, побирается, понятно, да? Я себя и то калекой не считаю! Без обеих-то рук! Никак не считаю, слышишь! Я такое могу, что другому и с тремя руками не сделать! И с четырьмя! Даже нитку в иголку сам вдеваю! Попробуй-ка вдень ногами! Попробуй! Оторви мне сейчас ногу, и то калекой не буду! Нипочем не буду, слышишь? Понятно, да? Оторви мне обе ноги, — зубами смогу рисовать, не пропаду, никому обузой не буду! И ты никому не будешь, уверен!
Осинский не ответил.
— Противно на тебя смотреть, слышишь? Понятно, да? Раскис, как барышня!
— Ничего не раскис.
— Раскис, раскис, вижу! Оказывается, два дня, как вор, от людей прячешься! Как упрямый ишак! Курить будешь еще?
— Да.
— Возьми в кармане. С одной рукой горы ворочать можно! Зачем вторая вообще нужна? Одной человеку за глаза хватит! Понятно, да? И не стыдно тебе? Эх, мне бы одну руку! Я бы вам всем показал! А теперь ты разве на гитаре сыграть не сумеешь, это верно. Так под чужой аккомпанемент будешь петь! Ты все сумеешь, слышишь? Даже рыбачить, слышишь? Понятно, да, ишак ты упрямый?
Он долго еще кричал, потом сказал чуть спокойнее:
— Напиши Волжанским, я тебе говорю! Вместе придумаете что-нибудь!
Осинский отрицательно покачал головой.
— С кем-нибудь из начальства говорил?
— Нет. О чем говорить?
— Зачем к Кузнецову не пойдешь? Он тут, в цирке, живет! Поможет, найдет выход, точно тебе говорю, понятно, да?
Двери цирка распахнулись. Из них повалил народ.
— Хочешь, ногами работать научу? Как я? Номер на двоих сделаем?
— Нет.
— Значит, с цирком покончено?
— С цирком — все, — медленно повторил Осинский.
— Ничего у тебя не выйдет! Ничего! — снова вспылил Дадеш. — Кто опилки хоть раз в жизни понюхал, из цирка не уйдет!
— Уйду!
— Чего же ты вообще хочешь? — вконец рассердился Дадеш.
— На рыбалку съездить.
— На рыбалку, говоришь?
— На рыбалку...
— Дело...
Они долго молчали. Дождь кончился.
— Еще покурим?
— Покурим.
— Ты бы попробовал все-таки на правой стойку сделать, слышишь? Может, получится... Поймаешь темп...
— Давай не будем об этом.
— Давай не будем.
Они вернулись в цирк. Все давно разошлись, было пусто, холодно, неуютно.
— В художники пойду или в фотографы, — неожиданно сказал Осинский.
— Тебе видней. Мою точку зрения знаешь... Спокойной ночи, что ли?
— Спокойной ночи.
— Вот, возьми на ночь, — протянул Дадеш ногой портсигар и вдруг хмыкнул.
— Ты чего?
— Придумал хорошую загадку. Слушай: три удочки, три руки, три головы, пять ног. Что такое?
— Три удочки, три руки, три головы, пять ног?.. Не знаю, не могу отгадать.
— Подумай, подумай!
— Бесполезно. Не могу.
— Очень простая загадка. Это ты, я и твой конюх на рыбалке.
Осинский невольно рассмеялся, сказал:
— Дурачок.
— Но смешно ведь?
— Смешно... Завтра пойду к Кузнецову.
— Вот это — дело!
— А потом с ним на рыбалку, да? Четыре удочки, четыре головы, пять рук, семь ног, верно? Еще смешней получится!
— Правильно. Еще смешней. Потом возьмешь отношение от цирка на протезный завод. Протез пойдем заказывать вместе. Я мастеров знаю. Хороший сделают. Перчатку красивую тебе подарю, понятно, да? Спокойной ночи! Высыпайся и чтобы завтра, как штык, на репетиции был! Хватит от людей прятаться, слышишь?
— Спокойной ночи. Слышу. Буду.
То, чего так опасался Осинский, не произошло. На репетиции артисты искренне обрадовались его появлению, никто не стал выражать соболезнований.
«Шуркина работа», — подумал Осинский.
А когда в зале неожиданно появился заместитель начальника Главцирка Кузнецов, Осинский понял, что и тут «поработал» Дадеш.
— С приездом, Левушка, — приветливо сказал Кузнецов. — Вечером прошу пожаловать в гости, обязательно.
За чаем Кузнецов спросил:
— Чем заниматься думаете?
— Не знаю, Евгений Михайлович.
— Я разговаривал о вас с начальником главка. Он думает о Строгановском училище, вы ведь неплохо рисуете. Но мне кажется, ваше место в цирке. Как вы сами полагаете?
— Конечно, в цирке было бы лучше. Только что же я смогу делать? Может быть, что-нибудь типа лягушек?
— Вот именно. И я так полагаю. Вы подумайте еще, спешить не надо. Когда решите твердо, — заходите. В чем вы нуждаетесь?. Говорите прямо.
— Ни в чем. Вот только протез хорошо бы заказать...
— Конечно, конечно... Мы напишем письмо в Институт восстановительной хирургии. Я завтра созвонюсь с ними.
Узнав об этом разговоре, Дадеш сказал:
— Сегодня после представления назначается первая репетиция. Хочешь — на манеже, хочешь — на конюшне, хочешь — даже на бульваре под дождем! Хочешь — я буду тебе пассировать, хочешь — лучшего акробата-стоечника пригласим, хочешь — сам, без пассировки. И учти: спорить бесполезно!
— Лучше вдвоем: ты да я. У меня в комнатке. Конюх на несколько дней в деревню уехал.
— В комнатке так в комнатке, мне все равно. Уверен, что получится. Главное — вспомнить, поймать нужный темп! Как закончу номер, зайду к тебе, начнем репетировать. Раз в комнатке, значит, и конца представления ждать нечего!
Глава III
Исполнение желаний
Осинский не стал дожидаться Дадеша. Он вошел в комнатку, зажег свет, разделся. Долго не решался встать на руку. При первой же попытке закололо сердце, задрожали пальцы. Пришлось сесть на койку, отдышаться.
— Спокойнее, спокойнее, — сказал он вслух, — это же пустячный трюк! Да, надо запереться: вдруг войдет кто-нибудь.
Он поднялся, закрыл дверь на крючок, снова подошел к койке, встал на корточки, уперся здоровой рукой о пол, раненой — о край койки.
«Ну, что же ты, Левка? Не медли, делай рывок!»
Он оттолкнулся от пола ногами, задрыгал ими в воздухе.
«Сбился... Потерял баланс... — подумал Осинский с тоской. — Что же делать?.. Что делать?.. Потерял чувство... Совсем...»
Он стоял у стены, бледный, дрожащий.
«Ну, успокойся, успокойся. Это от волнения не получается...»
Вторая, третья, пятая, шестая попытки тоже не удались.
«Ну, давай еще! Еще пробуй! Смелей!»
Трюк удался после двух десятков попыток.
— Ай да Пушкин! Ай да молодец! — радостно воскликнул Осинский, стоя на руке.
Он долго стоял так, словно боясь, что не сможет повторить трюк.
— Теперь без опоры, — решил он, вставая на ноги, — на манеже койки не будет, опираться не на что!
Трюк удался с пятого раза.
— Ну, хватит, можешь и отдохнуть, заслужил, — сказал он себе и, замирая от счастья, уселся на койку.
В дверь постучали.
— Минуточку, Шурка! — крикнул Осинский и, желая обрадовать и удивить Дадеша, на цыпочках подошел к двери, бесшумно снял крючок, подбежал к койке и после третьей попытки повторил стойку. — Входи!
В комнату, пыхтя, вошел конюх с мешком картошки, нагруженный свертками.
— Вот черт неугомонный! — воскликнул конюх.
— Вернулся? С приездом!
Они расцеловались.
— Гостинцев из деревни привез! — сказал конюх.
Снова раздался стук.
— Ты, Шурка?
— Я.
— Минуточку подожди, мы тут мебель переставляем, не войдешь. — Он подбежал к койке и после второй попытки встал на руку. — Теперь можно входи!
Дадеш сделал вид, что вовсе не удивлен.
— Стоишь?
— Стою, Шурка, стою, милый!
— Ну и стой, кто тебе мешает! Разве я против?
Осинский подбежал к Сандро, обнял так, что затрещали кости.
— С ума сошел, даю честный слово! Задушишь, медведь! Ну что, уверовал в себя?
— Уверовал. Но будто заново ходить учусь, будто младенец!
— И ума, как у младенца, не больше! Точно! Гляди, сколько ссадин, сколько синяков! И из культи кровь проступила, гляди-ка! Совсем ишак, даю честный слово!
— Ничего. Это от напряжения. Получилось, а это — самое главное!
— Получилось... А я что говорил? Я знал, что получится, только не знал, что ты такой законченный ишак!
Он долго еще распекал Осинского, а в заключение сказал с улыбкой:
— А сейчас, ребята, ко мне! Заранее шашлык приготовил по этому поводу. Конечно, что за шашлык не из вырезки, что за шашлык не на шампурах, а на примитивной сковородке, срам один! Пародия, даю честный слово! Не вымоченный в уксусе! Позор на мою голову! Но все-таки шашлык. Считай, что шашлык репетиционный. После войны настоящим угощу!
— А у меня к шашлыку тоже кое-что найдется. Спирту есть немного. В госпитале хирург подарил на дорогу.
— И у меня найдется, — сказал конюх. — Яичница. В три десятка. Обожремся.
— Еще гостей позовем! Пир будет горой! — сказал Дадеш. — Ну, одевайся быстрее! В трусах, что ли, пойдешь?..
На другой день Дадеш и Осинский пришли к Кузнецову.
— Пожалуй, смогу, Евгений Михайлович! — сказал Осинский.
— Давайте тогда запросим Волжанского. Он в Ереване.
Составили телеграмму:
«ОСИНСКИЙ ВЕРНУЛСЯ ИНВАЛИДОМ ТЧК ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ ВАШ НОМЕР ЗПТ СООБЩИТЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК ТЧК КУЗНЕЦОВ».
Ответ из Еревана пришел в тот же день.
«В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ ЗПТ БЕЗ РУК ЗПТ БЕЗ НОГ ЗПТ БЕЗО ВСЯКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА СОГЛАСЕН ВОЗВРАЩЕНИЕ ОСИНСКОГО НА ПРЕЖНИХ УСЛОВИЯХ ТЧК ВОЛЖАНСКИЙ».
— Ну, вот, Левушка, все в порядке, — дрогнувшим голосом сказал Кузнецов. — Будем оформлять!
— А я что говорил! — воскликнул Дадеш каким-то низким, незнакомым голосом. — Иначе и быть не могло! Все правильно! А он не верил! Поглядите на него, Евгений Михайлович, ревет белугой! Есть хоть платок-то? Возьми у меня в кармане! Чудак, даю честный слово. Плачет!
— А вы сами почему плачете, Сандро? Почему отвернулись?
— Я не плачу, Евгений Михайлович. Просто вчера шашлык жарил, много луку резал...
Глава IV
Снова в пути
Прошло два месяца.
Наконец-то был принесен домой долгожданный протез. Осинский бережно развернул его, положил на койку, задумался.
— Ну, как он тебе? — спросил конюх, склоняясь над койкой. — По-моему, хорош! Очень хорош! Лучше некуда!
— Неудобен, придется переделывать...
— С ума сошел! Такую красоту, разбойник, нарушить хочешь! — испугался конюх. — Жаль, уехал Сандро, он бы тебе показал, как ломать! Протез мировой, не придирайся!
— Ты чудак, — рассмеялся Осинский. — Он же не сгибается. Просто косметический, для красоты. А мне для работы нужен. Ты лучше, чем ворчать, достань сыромятину от старой сбруи, веревку какую-нибудь или ремень... Да и коловорот нужен.
— Батюшки! А коловорот зачем?
— Дырок побольше понаделаю.
— Совсем спятил!
— Так надо, чтобы он стал полегче. Лишние замки снимем: они совершенно не нужны.
— Правильно, не нужны! Дураки, выходит, на заводе делали, а ты умный! Ну, валяй, валяй, порть вещь! Вконец порть!
Продолжая ворчать, конюх вышел, вскоре вернулся, неся коловорот, сапожное шило, дратву и нож.
— Что надумал?
— Устрою тут целую систему разных тяг. Протез будет сгибаться и разгибаться от движений мышц спины и груди.
— Да полно тебе!
— Одно движение — сгибание, другое — разгибание, рука, как живая, сможет двигаться взад-вперед. Будет работать, как часы. Я уж давно все обдумал, должно получиться...
— Может, скажешь, и пальцы будут хватать? — недоверчиво спросил конюх.
— Пальцы, конечно, нет... Не скажу, к сожалению...
Через неделю Осинский простился с Кузнецовым, конюхом, Карандашом и уехал в Тбилиси.
Из Минеральных Вод он отправил Волжанскому телеграмму. Поезд прибыл в два часа ночи. Пришлось дожидаться конца комендантского часа на вокзале.
«Как только выпустят в город, зайду к Абашкиным, — подумал Осинский. — В цирк все равно рано — никого там нет, адреса Волжанских я не знаю. А Пашка обрадуется. И Валерия тоже...»
В шесть утра, накинув на плечи шинель, он вышел на вокзальную площадь и отправился к физкультурному техникуму. Усатый привратник узнал его, встретил весьма приветливо, долго расспрашивал про положение на фронте.
— Не живут теперь тут Абашкины, давно уж не живут. Новую комнату получили. Схожу сейчас адрес узнаю у соседей, а ты подежурь тут за меня, да никого, смотри, не пропускай! Я мигом!
Валерия очень обрадовалась его приходу.
— И ты тоже в армии был?
— Почему тоже?
— Павел в армии. Раздевайся.
Осинский снял шинель. Увидев протез, Валерия заплакала.
— Левушка, милый! Да как же это так? Горе-то какое...
— Так уж случилось, что поделаешь...
Она усадила его за стол, принесла завтрак, слушала, по-бабьи подперев голову рукой, смахивая слезы.
— Ну, мне пора, — поднялся из-за стола Осинский. — Пойду в цирк.
— Рано еще, посиди немного, никого там нет.
— Нет, скоро девять. Волжанский уже должен быть. Тем более, что я телеграмму дал с дороги.
— Приходи обязательно!
Валерия оказалась права — Волжанских в цирке еще не было. Осинский вышел из помещения, уселся на ступеньках. Из-за угла показалась лилипутка Ниночка Банная, издали узнала, бросилась к нему на шею.
— Левка! Вернулся! Левушка! Сейчас Володя придет! Что же ты телеграммы не дал? Мы бы встретили! Всей труппой встретили бы!
— Я дал телеграмму.
— Мы не получили, честное слово. — Она уселась рядом, на ступеньках. — Куда тебя ранило? Рука? Рука — это ерунда, — она заливисто захохотала, — мы уж думали, что ты без головы! Ерунда, ерунда, ерундовина! Смотри, Левушка, вон и Володя идет! Да не волнуйся ты так! Разве можно? Чего ты так? Чего?
— Подожди, Ниночка... — Он встал, весь напрягся, глядя на Владимира.
Тот шел, насвистывая, помахивая дюралевым молотком на длинной рукоятке. Увидев Осинского, не остановился, не прибавил шага, а даже специально — чтобы не выдать волнения — пошел чуть медленнее, продолжая беззаботно насвистывать и размахивать молотком. Осинский видел, как все больше и больше бледнело лицо друга, но тоже не двигался, безуспешно пытаясь справиться с нервной дрожью.
Только подойдя совсем близко, Владимир сказал наконец притворно-равнодушным голосом:
— У-у-у-у, паразит, вернулся! Ну, что у тебя?
— Да вот руки нет.
— Ну, это ерунда, сделаем.
— Я в этом не сомневаюсь, уже кое-что придумал! Видишь: сгибается, разгибается. — И он с гордостью продемонстрировал протез.
— Вот и отлично! Все в порядке, как живая.
— До живой еще далеко.
— Ничего, ничего, скоро начнешь работать. А почему ты телеграмму не прислал, встретили бы.
— Я дал. Из Минвод.
— Ну, значит, еще придет. А теперь айда к Марине!
Марина была на кухне. Увидев Осинского, бросилась к нему, повисла на шее, начала целовать.
— Что же ты плачешь, Мариночка, ведь жив я, жив!
Она отправила его помыться с дороги, полезла куда-то и извлекла костюм Владимира.
— Сейчас же в штатское переодевайся! Что значит: «Не нужно»? Обязательно нужно! Отдыхайте, пока я на рынок слетаю, постараюсь грибов достать, состряпаю Левкину любимую грибную икру. Отобедаем, отдохнем, а уж вечером, после представления, отметим твой приезд по-настоящему — выпьем так, чтобы чертям тошно стало!
Осинский начал переодеваться.
— Что это у тебя за синячище на бедре? — спросил Владимир.
— От протеза. Пальцы-то стальные. Карманов не напасешься: рвут.
— А резиновую кисть нельзя сделать?
— Сложно. Но что-то придумать необходимо.
— А перчатка не помогает?
— Тоже рвется.
— Ничего, покумекаем.
На обед Марина пригласила всю труппу: Николая, Васю Якимова, Ниночку Банную, новых партнерш, а также Валерию Абашкину.
— Ну и удивишься же ты одной штуке, одной новинке в нашей работе, — говорил Осинскому по дороге в цирк лилипут, гордо вышагивая рядом.
«Одной штукой» оказался круглый прозрачный занавес из пантомимы «Конек-Горбунок», целиком закрывавший манеж. На тюле было нарисовано морское дно с коралловыми цветами, плавающими рыбами, причудливыми водорослями. Внутри этого чехла, словно в сказочном аквариуме, и шел номер. С гордостью и радостью смотрел Осинский выступление Волжанских.
«Как они выросли за это время! Какие молодцы! Вот этот новый «кувырок», что делает Володя, и мне бы хорошо перенять... Надо попросить, чтобы научил. Меня с сольными трюками можно будет пустить после Коли, перед новой девушкой... А во время комплимента я могу занять место слева от Марины, а еще лучше за Ниночкой Банной или справа от Васи Якимова... Надо продумать, как делать стойку и на руке и на протезе, посоветоваться с Володей... Если на большом пальце правой руки сделать петлю и вставлять в нее большой палец от протеза, — пожалуй, может получиться стойка на двух кистях!.. Только надо снова переделать кисть... Вот это будет чудо!.. Действительно, никому в голову не придет, что я без руки... До чего здорово, что мы работаем в трико и в масках!.. А прыжки на одной правой, пожалуй, пойдут!.. Попробую... Протез не помешает...»
Ужин был веселым, шумным.
— Научу тебя «кувырку», Левка, так и быть! — смеялся Владимир. — Вообще отдам его тебе. Хочешь?
— Конечно, хочу, спасибо! А я за это тебе тоже подарок сделаю. Одна идея родилась!
— Что за идея?
— Мне новый занавес очень нравится, но... Дай-ка карандаш!
Все перешли за письменный стол. Рисовали, чертили, спорили до хрипоты.
— Убедил! Убедил, черт головастый! Завтра же за переделку!
В передней раздался звонок. Владимир вышел и вскоре вернулся с телеграммой в руках.
— Вот теперь мы можем тебя встретить, Левка! Узнали наконец, что ты едешь! Телеграмма из Минвод!
Осинский начал выступать в канун нового, тысяча девятьсот сорок четвертого года. Все шло хорошо, но в феврале произошла неприятность.
Весь день Осинский провел в цирке вместе с лилипутом. Занавесив окна гардеробной одеялами, они проявляли и увеличивали фотографии. Отдыхать домой не пошли. Во время выступления, после первой же стойки, Осинский почувствовал жгучую боль в обрубке. Он чуть не потерял сознания, однако с манежа не ушел, выполнил все трюки до конца.
— Что с тобой? — встревоженно спросил Вася за кулисами после того, как Осинский снял с лица лягушачью маску.
— Не знаю... Чертовски больно... Помоги-ка стянуть трико, снять протез...
— Ой! — испуганно воскликнул лилипут. — Кровь из протеза льет...
— Наверное, лопнула перевязанная артерия, — догадался Осинский. — Пошли скорее в гардеробную!
Протез был весь в крови. Она хлестала из обрубка, точь-в-точь такими же пульсирующими толчками, как в день ранения.
— Вызывай неотложку! Мигом! — приказал лилипуту перепуганный Владимир.
Лилипут стремглав выскочил из гардеробной.
— Пинцет! Скорей пинцет! — крикнул Осинский, кивком указывая на столик с фотографическими принадлежностями.
Владимир передал пинцет. Подержав его над пламенем спички, Осинский нащупал пульсирующую артерию и крепко зажал.
— Суровую нитку, Володя! У меня в рыболовном мешке! Отрезай ее! Завязывай! Туже завязывай! Хорошо! Теперь брызни-ка одеколончиком, вон он, на столике! Так! Дезинфекция сделана! Все... Спасибо...
Кровь остановилась. Осинский долго не мог вставить самокрутку в прыгающие, посиневшие губы.
Вскоре приехал врач. Осмотрев обрубок, он долго качал головой, сказал тоном, не допускающим возражений:
— Все обошлось, но никакой нагрузки! Выступать запрещаю категорически! Ка-те-го-ри-чески! Никаких цирков! Покой! Только покой!
— Еще чего! «Никаких цирков»! Покой будет только на кладбище! — передразнил врача Осинский, как только тот вышел из гардеробной.
— Да, Лева, сделаем перерыв! — строго сказал Владимир.
— Никаких перерывов! Я только в форму вхожу! Ни-ка-ких!
Заспорили. Осинский даже слушать ни о чем не хотел.
— Это случайность! Чистая случайность! Это тогда, еще в госпитале, врач неудачно артерию перевязал! — кричал он. — Очень хорошо, что так случилось! Зато теперь больше не лопнет! Никогда не лопнет!
С трудом договорились, что Осинский будет исполнять трюки только на одной руке.
Спустя несколько дней Волжанский, проходя мимо цирка, заглянул в свою гардеробную. И остолбенел: у столика стоял Осинский в одних трусах и сосредоточенно колотил обрубком по стене. Лицо его морщилось от боли при каждом ударе.
— Ты что? Рехнулся? — ворвался в комнату Владимир.
Осинский, словно не слыша, продолжал тыкать обрубком в стену.
— Зачем кричать? Я все слышу. Так надо, чтобы мозоль набить, просто мозоль набить. Мне лучше знать, как лечиться.
— Ничего себе лечение! Все равно не разрешу на двух руках делать ни одного трюка! Или Кузнецову напишу и из номера выгоню, так и знай!
— И долго не разрешишь?
— Полгода минимум!
— Ну и не разрешай! — разозлился Осинский. — А мозоль все равно набивать буду! Мне она нужна — мозоль! И никто не запретит ее иметь! Мне протез переконструировать надо! Мне для протеза мозоль нужна!
— Что с психом говорить!
— Вот правильно! И не говори!
Глава V
Случай с Сиамом
— Ну вот, полгода прошло, что будет дальше? — не глядя в глаза Владимиру, спросил Осинский.
— Уговор дороже денег. Начнешь сегодня делать все трюки. Все дуешься?
— Все дуюсь, — просиял Осинский. — Ну и характерец у тебя! Упрямый, как черт!
— Весь в тебя! Снимай протез, покажи мозоль.
— Гляди! — с гордостью сказал Осинский. — Как кремень стала. Гвозди забивать можно!
— Смотри взаправду не вздумай! С тебя станет! Значит, мир?
— Мир. Идем репетировать.
С манежа донесся злобный рев слонов.
— Что там такое?
— Опять Сиам буянит, наверное. А ну-ка скорей!
Они добежали до конюшни. Громко трубя, постоянно оборачиваясь в сторону манежа, неохотно двигался красавец слон Сиам. Его вел тесть дрессировщика Корнилова — Филатов, сам замечательный дрессировщик, любитель и знаток животных.
— Что там случилось, Иван Лазаревич? — спросил Волжанский у Филатова.
— С Рангу подрался! Еле разняли! — крикнул старый мастер. — С дороги! С дороги, ребятки, как бы не зашиб! Опасно!
Друзья поспешно отступили, в проход между стойлами. Филатов и слон прошли мимо.
— Удивительно, до чего старика все животные слушаются... Чародей какой-то... — сказал Владимир, глядя им вслед.
Посреди арены стоял разгневанный Рангу, Корнилов, молодой дрессировщик медведей Валентин Филатов, слоновожатые, несколько артистов. Все громко обсуждали происшедшее.
— Рангу его не задевал, дядя Саша, я все видел с самого начала, — горячо спорил Валентин с Корниловым. — Сиам сам ни с того ни с сего толкнул Рангу, вот тот и перелетел через барьер.
— И сильно подрались, Валя? — спросил Осинский.
— Счастье, что в первом ряду никого не было... Рангу здорово попало. Сильно ушибся... Если Сиам дальше так будет буянить, придется в зоопарк сдавать...
— Такого артиста... Настоящий премьер!..
— Жаль, конечно... Никто его не заменит, — вздохнул дрессировщик. — И по трубе, как по канату, ходит и на одной ноге стоит... Сам ведь знаешь!.. Ну, репетируйте, ребята, наше время истекло...
После представления все горячо поздравили Осинского с выздоровлением, со второй премьерой.
С конюшни доносился яростный рев Сиама. Осинский и не предполагал в тот вечер, какую роль в его жизни сыграет слон-буян...
Произошло это в Краснодаре, куда переехала труппа. Сиам был очень привязан к Ивану Лазаревичу Филатову, и, когда дрессировщик тяжело заболел, слон забастовал, отказался принимать пищу. Рабочего, заменившего Ивана Лазаревича, он просто возненавидел и однажды чуть не убил его.
— Если не поправится старик Филатов, будет плохо, — говорили в цирке.
А тут еще, как на грех, забежала как-то в цирк маленькая бездомная дворняжка, попала в слоновник. Сиам обрадовался, затрубил. Собачка сперва испугалась, потом подошла к незнакомому, страшному, громадному чудищу, стала обнюхивать его. Сиам погладил ее хоботом. Завязалась дружба. Слон соорудил гостье в своем стойле мягкую постель из сена. Собачке понравилось это жилье. Слон не расставался с новой подружкой, играл с ней, обсыпал ее сеном. Однажды собачку заметил Корнилов, рассердился:
— Что за чучело гороховое? От нее всякая зараза может пойти. И глисты, и блохи, и чумка! Выгнать! Чтоб духа ее здесь не было!
Собачонку выгнали из слоновника, выбросили из цирка. Сиам взбунтовался. Трубил, лез драться, отказался работать.
Вместо нее притащили другую. Сиаму она явно пришлась не по душе. Он бунтовал еще больше.
— Найдите ту дворняжку! — приказал Корнилов. — Черт с ней, в конце концов!
К счастью, беглянка нашлась. Сиам обрадовался, ласкал ее, никуда от себя не отпускал. Даже когда выходил на манеж работать, брал ее с собой, усаживал на барьер. А после выступления забирал в слоновник. Все — особенно зрители — были очень довольны. Номер имел большой успех.
Но вот собачка исчезла снова. Теперь уже бесследно. Сиам снова начал буйствовать: приставал к слонам-соседям, дрался, трубил, пытался разорвать цепи, ударил хоботом дрессировщика.
Пришлось слона изолировать — перевести в пустующий гараж. Здесь Сиаму не понравилось. Он задирал прохожих, никого к себе не подпускал, швырял в людей камнями, проволокой, кусками труб.
— Это он на волю просится! — говорили в цирке.
Слона с трудом удалось вывести во двор, приковать к большой развесистой чинаре. И вот тут началось! Сиам никого не впускал во двор, мощенный кирпичом. Он разбирал кладку хоботом и швырял кирпичи в людей, снова отказался от пищи. Часами раскачивался из стороны в сторону, гремел цепями. И все время... плакал. Слезы текли буквально ручьями.
Слон худел с каждым днем, кожа у него отвисла.
— Что же будет дальше, а, Валя? — спрашивал у Филатова Осинский.
— Уверен, что Сиам успокоится, если с ним будет отец. Но он тяжело болен, лежит, не встает. Про Сиама все знает, переживает ужасно... Что делать, ума не приложу...
Иван Лазаревич все же не выдержал, поднялся с постели и пошел к Сиаму. Увидев Филатова, ковыляющего к чинаре с ведром воды и шваброй в руках, Сиам перестал обсыпать себя землей, радостно затрубил, чуть не разорвал толстые цепи.
— Сиам! Сиамушка! Мальчик мой! — с дрожью в голосе закричал старик, убыстряя шаги.
Слон от нетерпения заревел, будто всхлипнул, начал подпрыгивать на всех четырех ногах.
— И смеется и плачет... Совсем как человек... — зашептали в толпе.
Иван Лазаревич подошел к слону. Тот обнял его хоботом, прижал к себе, долго не отпускал.
— Осторожно, дурачок, ведь радикулит у меня, еле стою... — успокаивал его Иван Лазаревич. — Ну, что за слоновьи нежности такие? Ну, перестань реветь, ведь не барышня, успокойся...
Слон продолжал плакать.
— Ну, вот и я заревел! Красиво это, скажи? Красиво? Стоим, ревем, как два дурака! А люди смотрят! Ведь здесь я, здесь, никуда не денусь теперь... Разве ты дашь поболеть по-человечески?.. Ну, что ты меня за ногу хватаешь? Зачем тебе моя нога? Ах, понятно, — в пасть хочешь взять... Ну, возьми, возьми, подержи немного, глупая скотина... Что же ты заставляешь меня акробатикой заниматься на старости лет, дурачина ты, простофиля...
Слон подержал в пасти ногу Филатова, потом отпустил ее, вложил в пасть руку.
— Ну, хватит! Сколько можно? Обижали тут тебя, небось, без меня? А?
Слон немного успокоился, начал гладить Ивана Лазаревича хоботом по плечу, обдувать волосы, лицо.
— Мыться сейчас будем! Мыться надо, грязнуля ты эдакий! Ишь, как вывозился! Хуже маленького! И не стыдно? Подсади-ка меня, только осторожно, смотри! Болен я, понимаешь? Слабый еще...
Слон подсадил Ивана Лазаревича к себе на спину, тот принялся его мыть.
— Нет, тут ведром не обойдешься, — сказал Иван Лазаревич. — Опусти-ка меня! Молодец! Придется сходить за шлангом.
Он направился к конюшне. Слон занервничал, затрубил.
— Сейчас приду, дурачок, не волнуйся! А как вымоешься, обедать будем! Голодовку устроил, сукин ты сын! Разве бунтовать можно? Катар желудка наживешь, — сказал Иван Лазаревич, оборачиваясь, и скрылся в конюшне.
Глазки слона налились кровью. Он заревел злобно, протяжно.
— Боится, что отец не вернется, — сказал Валентин.
Слон внезапно вырвал из земли кирпич и швырнул его в сторону артистов.
— Отец! Скорей назад! — крикнул Валентин.
Но было поздно. Один из кирпичей угодил в протез Осинского. Тот громко вскрикнул и от острой боли присел на корточки. Из обрубка закапала кровь...
— Дело нешуточное, — сказал врач. — Работать нельзя. Травма серьезная. И надо же угодить именно в это место!.. Покой, полный покой...
Осинский от досады скрипнул зубами. После ухода врача Владимир предложил:
— Поезжай в Иваново. Поселишься у наших — у мамы или у сестры Кати. Они будут рады.
— Да, иного выхода нет... — согласился Осинский.
В Иванове пришлось долго залечивать травму. Обрубок очень болел, стал неметь. Осинский выполнял все предписания врачей, аккуратно принимал лекарства, ходил на процедуры.
В феврале Волжанские приехали в отпуск.
— Я здоров теперь, совсем здоров, Володя! — без устали повторял Осинский. — И протез опять переделал. Он был слишком легким! Я заблуждался. Оказывается, чем тяжелее, тем лучше! Им стало легче двигать! И даже круговые движения начинают получаться, посмотри!
— Так что же ты хочешь этим сказать? Можешь ехать, что ли?
— Конечно, могу!
— Значит, отдохнем, и поехали?
— Поехали!..
Глава VI
Баку, май, 1945 год
Осинский проснулся от криков. Подбежав к окну, увидел огромную толпу. Люди танцевали, пели, размахивали руками, обнимались.
— Все на улицу! Все на улицу! Наши взяли Берлин!
Осинский выскочил на улицу. Из винных погребов выкатывали большие бочки, угощали всех подряд.
— Пейте! Фашистское логово взято! За конец войны! За мир! За скорую победу!
— Зайдем ко мне, — предложил Владимир. — Посидим немного. Все равно не заснуть в такой день...
Он подошел к карте, вонзил флажок на булавке в Берлин. А потом, подумав, снял карту со стены.
— На вот, глянь, — сказал он, — возьми карту в руки, погладь ее, как я, посмотри на просвет... Чувствуешь? Она вся исколота, эта карта, вся шершавая...
— Верно... Будто раненая... Будто живое тело...
— Вот именно... Будто живое тело... Никогда нельзя забывать об этих следах, об этих шрамах... И после победы нельзя забывать...
Об окончании войны Осинский услышал восьмого мая поздней ночью. Он мгновенно оделся, выскочил на лестничную клетку и начал стучать кулаком во все соседские двери по очереди:
— Войне конец! Победа! Победа!..
Так он пробежал с верхнего этажа на нижний, очутился на улице. Одно за другим распахивались окна. Почти на всех домах уже развевались алые флаги. Пять девушек шли в обнимку, плача от счастья. Старуха-азербайджанка с трясущейся седой головой прижимала к груди смущенного юного нахимовца. С песнями прошла воинская часть. Ее встретили дружными криками «ура». Осинский двинулся к цирку, заметил за своей спиной стайку мальчишек. Они о чем-то шушукались.
— Дяденька! — окликнул его наконец самый бойкий из них. — Вы фронтовик?
— Фронтовик.
— Граждане! — во все горло завопили мальчишки. — Держите его! Держите! Он фронтовик! Качайте его!
И тут же крепкие руки схватили Осинского, подбросили вверх, еще, еще и еще.
Двор цирка был уже переполнен артистами. Неожиданно на багажный ящик вскочил Валентин Филатов.
— Товарищи! Идея! Предлагаю: срочно написать транспаранты, лозунги, нарядить слонов, лошадей, медведей и праздничным карнавалом выйти в город.
Все зааплодировали, закричали: «Ура!»
— Осинский! — сказал Филатов, слезая с ящика. — За транспаранты, за лозунги возьмешься?
— Конечно. Подручных подберу.
— Да, а оркестр весь в сборе?
— Только барабанщика нет.
— Придет еще, я думаю... Ну, если все ясно, по местам — гримироваться, одеваться, готовить животных!
Лозунги и транспаранты были готовы и вынесены из цирка во двор. Осинский увидел слонов в роскошных попонах, расшитых шелком, украшенных разноцветными красивыми камнями. Оркестр в маскарадных костюмах ждал у самых ворот. Жокеи и наездницы разъезжали по двору на лошадях, в хвосты и гривы которых были вплетены разноцветные шелковые ленты, а на крупах щетками вычесаны шахматы. В центре каждой клетки блестело по яркому камешку.
— В чем задержка? — спросил Осинский у Филатова.
— Да вот барабанщика до сих пор нет, заболел, наверное... Не можем двинуться...
— Нацепите-ка мне какой-нибудь нос и дайте поярче пиджак, — попросил Осинский.
Быстро нарядившись, он надел через плечо большой барабан, взял в руку колотушку, ударил ею по барабану.
— Вперед!
Праздничный цирковой карнавал двинулся к саду Двадцати шести бакинских комиссаров. Прыгуны, жонглеры, гимнасты на ходу исполняли свои трюки. Вскоре артисты разошлись по всему городу, выступали на улицах, в переулках, в скверах, во двориках. Люди хлопали, смеялись, целовали артистов, угощали вином.
Перед оркестром прямо на булыжной мостовой танцевал слон, размахивая флагом.
— Трам! Там! Там! — без устали колотил в барабан Осинский, а рядом иллюзионист в чалме и халате доставал из складок неиссякаемого халата голубей и одного за другим запускал высоко в небо...
Эпилог
Золотая медаль
Осенний дождь барабанил по большим, ярко освещенным окнам дворца Примасовских в Варшаве. В двухъярусном банкетном зале собрались цирковые артисты всех стран мира, члены жюри I Международного фестиваля циркового искусства, множество корреспондентов.
На стенах яркие цирковые плакаты на всех языках. Вот с большой афиши лукаво улыбается знаменитый «солнечный клоун» Олег Попов, веселый, золотоволосый, в поварском колпаке. На указательном пальце артиста сидит белый петух и, склонив голову набок, хитро щурит глаз на своего хозяина. Рядом на афише — эквилибрист Лев Осинский в стойке на одной руке на верхушке длинного, тонкого стержня. Попов и Осинский и в зале сидят рядом.
На эстраду выходит известный польский клоун Дин Дон, председатель жюри фестиваля.
— Начинаем вручение наград лауреатам международного фестиваля цирка. Попрошу на эстраду всех членов жюри!
Под дружные аплодисменты на эстраду поднялись известные всему миру цирковые артисты. Среди них был и румяный, с огромными усами, могучий восьмидесятилетний старик, напоминавший Тараса Бульбу. На его черном костюме красовались золотой значок лауреата Димитровской премии и четырнадцать орденов и медалей.
— Семь за искусство, семь за храбрость на войне! — сказал кто-то.
— Герой, дедо Добрич!
— Он же и «лопинг[6]» изобрел!
Лазар Добрич занял центральное место у стола рядом с руководителем «Союзгосцирка» Феодосием Бардианом.
— Дорогие товарищи! — начал Дин Дон. — Взгляните на стены! Вы видите — на афишах написано: «Теgо jесzе nе bуlо nа swiеtе!» Наш фестиваль действительно первый в истории цирка. Перед нами выступили четыреста пятьдесят сильнейших мастеров советского, чехословацкого, немецкого, шведского и других цирков. Лучшим из них сейчас будут вручены награды.
Оркестр играл туш. Щелкали затворы фотоаппаратов, трещали кинокамеры.
Один за другим выходили известные всему миру русские артисты Валентин Филатов, Олег Попов, чешка Мария Рихтерова, поляк Михал Мозес...
— Артист советского цирка Осинский Лев Александрович за номер «Соло-эквилибр» награждается высшей наградой — Большой золотой медалью и почетным дипломом лауреата фестиваля. А кроме того, ценным подарком — фотоаппаратом. Проше, проше! — торопил со сцены Дин Дон.
Невысокий, стройный Осинский поднялся из-за стола и через весь зал направился к эстраде.
— Поверьте мне, — нагнулся к Бардиану Добрич, — за семьдесят лет работы в цирке я много повидал! А вот такого оригинального и красивого номера, как у Осинского, не привелось видеть!
Когда Осинский поднялся на эстраду, Добрич вручил ему медаль и диплом.
— Прошу!
В зале дружно зааплодировали. Оркестр грянул туш.
— Вот еще фотоаппарат. Снимайте на здоровье! — сказал старик и протянул Осинскому коробку с фотоаппаратом. — Поздравляю Вам! Много поздравляю Вам!
Осинский переложил правой рукой диплом и медаль под мышку той же руки и взял ею коробку.
«Вот чудак-человек, — удивился Добрич. — Куда проще переложить их в левую руку...»
Старый мастер улыбнулся и протянул руку для рукопожатия.
Но что это?
Осинский не подал руки... Он смутился и беспомощно огляделся по сторонам, как бы подыскивая место, куда положить диплом и коробки...
Добрич, не отрываясь, смотрел на левую руку артиста, глубоко засунутую в карман брюк.
— Положи на стол, Левушка, — негромко предложил Бардиан.
— Спасибо, Феодосий Георгиевич, — так же негромко ответил Осинский и положил коробки и диплом на стол. Повернувшись к оцепеневшему Добричу, он крепко пожал его руку и спустился с эстрады. Добрич нагнулся к Бардиану.
— Нет... Не может быть... — прошептал он срывающимся от волнения голосом. — Неужели он... без руки?..
— Именно без руки, — ответил Бардиан.
— Стой, сыне! — неожиданно крикнул Добрич так громко, что все вздрогнули. — Стой!
Осинский остановился посреди зала. Звеня орденами и медалями, старик стремительно приближался к нему. Он задыхался от волнения. На глазах его были слезы. Они скатывались по усам, по щекам.
— Това не чувано[7]! Великий акробат — и без руки! Герой войны... да? Това не чувано!
Старик быстро говорил что-то, мешая русские и болгарские слова.
— Я и подумать не мог... Никто... Никогда... Все же видели, сыне, во время номера ты двигал левой рукой...
— Протез... Особой конструкции... — смущенно улыбнулся Осинский.
— Да это же подвиг... Това не чувано... — повторял старик.
И все, кто был в зале, встали, как один человек, восхищаясь подвигом артиста.
Гастроли в Польше закончились.
На Варшавском вокзале в ожидании экспресса «Берлин — Москва» советские артисты оживленно беседуют с польскими, венгерскими, болгарскими, чехословацкими друзьями. Добрич ни на минуту не отпускает Осинского.
— Ну, значит, поехал ты снова с Волжанскими, а дальше что было?
— Номер «Лягушки» вскоре сняли. Но ничего... Цирковые помогли... Нигде в мире нет таких людей, как у нас в цирке... Я очень страшился выступать без трико и без маски лягушки. Волжанский заставил. Придумал номер — «Двойной эквилибр» — для меня и для него. Выступали мы на двух тумбах, синхронно. Костюмы сшила Марина. Брюки и рубашки, рукава-буфф. Это чтобы протеза не было видно. Волжанский нарочно держал руку, как я, будто у него тоже протез, представляете! Вставали на одну руку. Я на правую, он — на левую. Стойки получались одинаковые. Все, что делал я, — делал и он. Будто отражение в зеркале. Потом пускали сольные трюки: «флажки», «углы», «каучук», «мостики»... Я в финале делал шпагат, Володя на моих плечах стойку... Вселил он в меня веру.
— Очень неплохой номер был, — сказал Бардиан.
— Ну, а потом что? — спросил Лазар Добрич.
— Потом Волжанский и художники из Иванова помогли с сольным номером, — продолжал Осинский. — Идея родилась от эмблемы киностудии «Мосфильм» — вращающейся скульптуры Мухиной. И от грузовика с выдвигающейся люлькой. Подал я заявку в главк. Утвердили. Направили в Центральную студию циркового искусства. Прикрепили режиссеров Баумана и Аркатова. Вместе голову ломали, рисовали эскизы. Помогли Карандаш, Анель Судакевич — замечательная художница! Сперва думали так: темнота. Экран. Кинокадры — наступление армии. Госпиталь. Я снят в наступлении и в госпитале. Потом — возвращение в Москву, тренировки, репетиции... Гаснет экран. Прожектора выхватывают пьедестал. На нем — я. На моей руке сидит белый голубь — символ мира. Голубь улетает. Начинается работа. В конце в моей руке появляется алый стяг...
— Очень красиво! Просто здорово! — воскликнул Лазар Добрич.
— И нам понравилось, — сказал Бардиан, — но вы не знаете Осинского! Решил делать номер чисто профессиональным, цирковым. Вот и получилась у него... эквилибристическая поэма или балет в воздухе, что ли... недаром на нем костюм Ромео...
— Словом, великолепный номер получился...
— Поезд! Поезд идет! — кричит кто-то.
— Он стоит всего четыре минуты, — волнуется Осинский, — надо успеть погрузиться. Наши вагоны — шестой и десятый. Шестой останавливается примерно здесь, десятый — вон там. Давайте перенесем вещи!
Мимо проплывают вагоны. Первый, третий, шестой, десятый...
— Просчитались! Бегом!
Весело смеясь, артисты быстро перетаскивают вещи.
— Скорее! Скорее! Подавайте чемоданы в окна!
— До видзеня! — кричат с перрона.
— Счастливо оставаться!
Экспресс «Москва — Берлин» набирает скорость. Скоро Брест. В вагон входят пограничники и таможенники.
— У-р-р-р-р-ра! — кричат артисты. — Мы дома! До-ма!
— Здравствуйте, товарищи! Показывайте золото!
— Какое золото?
— То самое, которое можно ввозить в Советский Союз в неограниченном количестве! Медали выкладывайте! Мы тут «болели» за вас. Поздравляем с успехом!
Все засмеялись, стали показывать награды и подарки.
— А теперь, ребята, в вагон-ресторан! Обедать! — сказал кто-то.
Проходя через мягкий вагон, Осинский заметил у окна невысокого, плотного, лысоватого человека.
— Разрешите пройти, — попросил он.
Человек обернулся. Лицо его пересекал красноватый шрам. Из-под сросшихся на переносице бровей смотрели огромные глаза. Они, казалось, насквозь пробуравили Осинского. Человек посторонился.
«На кого он похож?.. Где я уже видел эти глазищи?..»
Он взялся за дверную ручку.
— Минуточку, молодой человек!
«И голос знакомый...» — подумал Осинский, оборачиваясь.
Человек приветливо улыбался.
— Нехорошо, нехорошо старых друзей забывать! Не узнаешь? А ведь когда-то говорил: «Век помнить буду!»
— Простите... — смутившись, сказал Осинский.
— Да уж придется простить! А не стоило бы... Эх, пассажир без билета! Пассажир без...
Осинский не дал договорить. Радостно воскликнув, он бросился обнимать человека со шрамом, крепко прижался к его плечу.
— Товарищ командир батареи! Товарищ Горлунков... Петр Ильич!..
— А кто же еще? Собственной персоной!
— Вот так встреча, Петр Ильич! Вот так встреча! Ведь давно вас похоронил!
— А я жив! Видишь, жив! — расхохотался Горлунков, выпуская Осинского из объятий.
— Дружка повстречали, товарищ подполковник? — раздался голос проводника.
— Не дружка, а друга, — обернулся к нему Горлунков. — Воевали вместе. Он — сержант — отделением командовал, я — лейтенант — батареей. Непосредственное начальство, так сказать. А видишь — не узнал!
— И до сих пор не узнал бы вас, Петр Ильич, — признался Осинский, — если бы вы меня «пассажиром без билета» не назвали. Вы один так меня звали...
— Где же узнать, — рассмеялся подполковник. — Во-первых, новое украшение, — он указал на шрам, — во-вторых, не в форме, растолстел, постарел...
— Откуда едете?
— Из ГДР. Служу там уже пятый год. Домой, в Иркутск, отдыхать еду. У тебя-то как? Женат?
— Женат. Жена тоже артистка цирка. Танцует на проволоке. Дочь Маринка в школу пошла... Живем дружно... Ну, до чего я рад встрече, не представляете!
— А я-то как рад! Неужели опять выступаешь в цирке?
— Работаю, Петр Ильич.
— С одной рукой?
— С одной, Петр Ильич.
— Дай-ка я снова тебя поцелую! Молодец! Какой же ты молодец, чертушка!
— Где же вас так ранило? — Осинский указал на шрам.
— В Берлине. На другой день после войны. Представляешь, досада какая? Не хватало мне этого украшения к прежним болячкам! Да будет об этом! Сколько лет-то прошло!
Поезд остановился.
— Прогуляемся? — предложил Горлунков.
— С удовольствием, — ответил Осинский, — наши уже выходят! Идемте, я вас познакомлю.
На перроне их окружили артисты цирка. Все улыбались, глядя на фронтовых друзей. После того, как объявили посадку, Горлунков пригласил артистов Бардиана, Кузнецова и режиссера Арнольда в свое купе.
— Ну, хоть по рюмке-то за встречу должны выпить? Как считаете?
— Безусловно.
Беседа была оживленной.
— А почему вы его прозвали «пассажиром без билета»? — спросил у Горлункова Бардиан.
— А как же иначе? — ответил тот. — С тринадцати лет в поездах, в автобусах да в трамваях ездил без билета — «зайцем»... Как же его еще называть было? А вообще-то он билет свой заработал... Выстрадал даже... Выпьем за героя!
Все чокнулись, выпили. Горлунков поинтересовался:
— Скажи, Лева, тебе не страшно забираться так высоко да еще вниз головой?
Осинский улыбнулся.
— Нет, все нормально, Петр Ильич. Только мне по сторонам смотреть нельзя — потеряю равновесие!
— Неужели?
— Конечно. Это закон эквилибра. Я выбираю точку на пьедестале или на собственной руке и по этой точке «держу баланс».
— У Левы еще одна сложность, — сказал Олег Попов. — Ему приходится не только балансировать, но и управлять протезом. Ведь у него руки нет по плечо. Это очень сложно.
— А если «заест» мотор? Как же спуститься вниз?
— Казалось бы, можно соскользнуть по стержню. Но он весь в масле, скользкий, не удержишься. И главное — у Левы протез. С ним спуститься совершенно невозможно.
— Значит, каждый вечер он рискует жизнью?
— Выходит, так.
Осинский задумчиво потер ладонью лоб.
— В цирке «Аэрос» у меня недавно произошел необычный случай. История весьма загадочная... И началась она с такого же вопроса: могу ли я спуститься вниз, если откажет мотор? А задал мне этот вопрос директор цирка «Аэрос» дрессировщик слонов Лангельфельд...
Осинский рассказал про случай в Лейпциге.
— Я бы этого электрика... — гневно сказал Горлунков.
— Тут не в нем дело...
— А в ком же?
Осинский рассказал, как два дня спустя после происшествия поздним вечером он направлялся в гостиницу. Сеял мелкий дождь, холодный ветер раскачивал тусклый фонарь у ворот. Рядом сутулилась одинокая фигура в непромокаемом плаще.
Осинский остановился, пристально вглядываясь. Человек в плаще показался ему знакомым. Это был электрик. Лицо его выражало решимость. Зябко поежившись, он начал что-то быстро говорить по-немецки.
С трудом Осинский понял, что электрик извиняется за случившееся и хочет объяснить причину недавней аварии: все делалось с благословения и под руководством... самого директора цирка «Аэрос» Лангельфельда.
— Он мне ничего не сказал про протез, и я не знал, что лестница спрятана, — объяснил парень.
Осинский рассказал Горлункову, как встретил советских артистов Лангельфельд — толстый, белобрысый крепыш с зализанными редкими волосами и квадратным черепом.
— Я опасаюсь за успех, — говорил Лангельфельд. — Ин Лейпциг ест тепер международни ярмарк. Тепер ин Лейпциг ест много купец, много бизнесмен. Они умеют ценить искусство. Я боюсь, я отшень боюсь, что руски цирк их не удивишь!
— В России есть мудрая пословица: «Цыплят по осени считают»! — возразил ему Бардиан.
— Будем жить — будем посмотреть! Такой пословиц ест тоже ин руски язык! — засмеялся директор. — Желаю успех!
После первого же выступления советских артистов Лангельфельд пригласил Осинского в кабинет и, подкатив к его креслу столик на колесиках, разлил по бокалам темное, старое вино.
— Это ест настоящи, добры немецкий рейнвейн, — приговаривал он, — для меня приятно угощать руски друг!
Они чокнулись.
— Я отшень рад, что делаль ошибка, — продолжал Лангельфельд. — Программа ест прима! Программа ест люкс! Я отшень рад, что мой руски друг ест прима номер! Ви мне отшень зимпатишь! Я карашо сказаль по-руски? Я биль плен ин Россия, говорю немного. В прошлом ми биль враги, но тепер все забыло? Втшера я слютшайно узнал, что мой руски друг не имеет рука. О, как я биль удивлен! Это поразительно! Мой руски друг настоящи герой! Мой добри совет — на этом делать реклама, делать бизнес! Объявльять так: «Чудо-эквилибрист без одна рука!» Или — «Чудо! Единственный в мире акробат без рука!» И работать, конечно, безо всяки протез! А еще лючше — голый до пояс! Чтобы все видели, что рука нет по самый плечо!
— Ни в коем случае! — сказал Осинский. — Это будет уже не искусство, а демонстрация уродства!
— Жаль! Жаль! Пусть мой руски друг еще подумайт!
— Нет, ни за что.
— Где вы биль ранен? — перевел разговор Лангельфельд.
— Под Белгородом.
— Знаю. То ест Курски дуга. И, как зольдат, мог стрелять на вас. Это ест правильно? Ви тоже, как зольдат, могли стрелять на меня. Это ест правильно?
— Мог бы, — коротко ответил Осинский.
— Ну вот, видите, — расхохотался Лангельфельд, — значит, ми ест друзья. Война ест война!
Лангельфельд расспросил Осинского о финальном трюке, поинтересовался, как устроен протез. Узнав, что с протезом вниз спуститься невозможно, сочувственно вздохнул и покачал головой.
— Мои слони тоже ест коварный животный. Я, как и мой руски друг, тоже все время рискую своя жизнь...
— Я много думал потом, для чего он так сделал, — сказал Осинский. — Может быть, просто решил сорвать выступление для советских солдат... А может, в бою встречались, — запомнил он меня, решил отомстить. Случай подходящий... Помните, Петр Ильич, первых наших пленных немцев? Очень уж он похож на того, что вы допрашивали... И все равно этот гитлеровский последыш не испортил впечатления от поездки в ГДР! Знали бы вы, сколько там осталось у нас настоящих друзей!.. И дружбу эту ничем не разобьешь! Никакими провокациями...
Все долго молчали. Тишину нарушил Горлунков.
— А как вел себя Лангельфельд дальше?
— Как ни в чем не бывало. Приветливо улыбался, пытался заговаривать со мной...
— Подлец, — сказал Горлунков.
— Именно подлец, — сказал Бардиан. — Знаете, совсем недавно Лангельфельд сбежал в Западную Германию. Ограбил кассу «Аэроса», бросил своих четырех слонов и сбежал.
— Успел! — сказал Горлунков. — Ну да черт с ним! Покажи-ка лучше свою медаль, Левушка!
Осинский принес медаль. Горлунков положил ее на ладонь, несколько раз потряс, будто взвесил.
— Да, недешево она тебе досталась...
— Золотых медалей даром не дают, — согласился Бардиан. — Победа на фестивале! Полная победа!
— На весь мир, можно сказать, прославился мой бывший сержант! — воскликнул Горлунков.
На снимке (слева направо): заслуженные артисты РСФСР Лев Осинский и Владимир Волжанский и режиссер цирка — автор повести Александр Аронов.
Фото С. Васина.
— На весь мир, — согласился Бардиан. — А теперь еще предстоит бывшему вашему сержанту весь этот мир объехать! И в Европу еще раз пошлем, и в Японию, и в Америку! Пусть посмотрят, на что способен русский человек!
Поезд миновал Борисов. Одно за другим темнели в вагонах окна. Только в окне мягкого вагона еще долго горела настольная лампа.
Журнальный вариант.