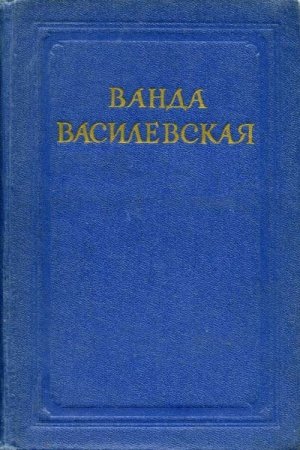
Выплываем в байдарке на середину реки. Так вот она, Турья, которую до сих пор мы знали только по карте — тонкая ниточка, впадающая в Припять.
Перед нами открывается широкая-широкая равнина. Быстро исчезают из виду маленькие домишки Ковеля. Сейчас мы плывем среди ракит, под склонившимися к воде ветвями, меж бесконечных болот.
Плещет рассекаемая веслами вода. Золотом сверкают на солнце слетающие с весел брызги. Голубые небеса, и зеленые просторы, и синева воды. Как отдыхают здесь легкие, глаза и вечно напряженные нервы!
Змеей вьется река, уходя в зелено-голубую даль. Медленно клонится к закату солнце. Над полями, топями и над рекой поднимаются седые туманы. Сгущаются, клубятся, рваным покрывалом цепляются за прибрежные камыши, белым облаком опускаются на траву.
Пристаем к берегу. На зыбкой, оседающей под ногами земле разбиваем палатку. Погружаемся по колени в туман, как в вату. Трава серебрится от росы, на угасающем небе мерцает первая звезда. Туман становится плотнее и, наконец, белой стеной закрывает от нас мир.
В белом тумане кто-то идет. Вынырнула высокая фигура. Первый крестьянин, которого мы встречаем в пашу первую поездку по этим краям. Угощаем его папиросой. Берет. Но от спичек отказывается. Нет, нет, жалко спичек, он обойдется огнивом.
Гляжу на согнутый подковкой кусочек железа, на кремешок, из-под которого сыплются искры.
Вспыхивают в тумане огоньки папирос. Вот ведь как добывают люди огонь в здешних местах — огниво и трут.
Будит нас голубой рассвет. Выходим из палатки мокрые от росы. И кругом все мокрое. Первые солнечные лучи нежными красками расцвечивают редеющий туман.
Плывем, как в сказке. Река то разливается небольшими озерцами, то попадает в тесные протоки, густо заросшие водяными растениями. Широко раскинулись листья кувшинок. Сто рукавов — сто ложных дорог. Смотрим в воду; на дне реки растения клонятся по течению. Пушистый роголист, резак, как маленький кактус. Только по листьям и стеблям можно узнать, в какую сторону течет река, — воды Турьи почти неподвижны. Течет она, сонная, тихая, в далекий край. Изредка только плеснет рыба или дикая утка, хлопая крыльями, поднимется из гущи камышей и долго еще виднеется в небе темным крестом. Еле пробивается вода сквозь зеленый туннель, с обеих сторон камыши, кусты и деревья стоят стеной, а вьюнок перекидывает осыпанные белыми цветами плети с одного берега на другой. Куда ни глянешь — всюду вода, топи, болота.
Деревня Хушин. Наши запасы уже на исходе. Надо их пополнить.
На берегу возятся ребята, сталкивают в воду громоздкую лодку. Спрашиваем, есть ли в деревне лавка. Молча указывают направление.
— Хлеб есть?
Стоящий у прилавка человек отрицательно качает головой, подозрительно присматривается к нам.
— Колбаса?
Снова отрицательное движение. Нет, ничего нет у них. Ни папирос, ни мыла, ни сала. Все то же покачивание головой в знак отрицания и внимательный, неприязненный взгляд.
— А где у вас тут колодец? Хотим воды набрать.
Нет, колодца тоже нет. Во всей деревне нет колодца, только тинистая, нагретая солнцем вода Турьи.
Выходим из лавки. Тут же рядом колодезный журавель, колодец полон чистой родниковой воды.
Мы с мужем переглядываемся. Ну да, ну да. Мы ведь поляки на украинской земле. Кто знает, о чем думал стоявший за прилавком человек, какие воспоминания возникли в его памяти при звуке польской речи, кто знает, какой страшный счет обид и горя лег между нами…
Пылают под золотым солнцем воды Турьи. Чуть заметный ветер напевает в камышах монотонную мелодию. На стеблях виснут маленькие рыжие птички, виснут вниз головками, щебечут что-то забавно, по-детски торопливо. С шумом сквозь густые заросли протискивается байдарка.
А вот и еще деревня. Серый болотистый берег. Тощие, длинноногие, поросшие темной щетиной свиньи возятся в грязи. Они больше похожи на дикобразов, чем на свиней.
Молодая женщина помогает нам вытащить байдарку на берег.
— Переночевать? Почему нет? Сена только мало в овине…
Ничего, переночуем как-нибудь и на маленькой охапке. Направляемся к дому.
Просторная изба. Муж молодой женщины, брат, еще какие-то родственники. Полно народу. На печке лежит больная старушка. В люльке, подвешенной к потолку, грудной ребенок. Дети разглядывают нас с удивлением. Маленький Петро вскарабкался на скамью и внимательно рассматривает наши дорожные богатства.
— Мамо, купите мне такую ложку?
— Куплю, куплю, сыночек, — отвечает женщина.
— Мамо, и такой нож купите?
— Куплю, куплю, сыночек.
Малыш смотрит на нас торжествующе, чтобы мы невзначай не подумали, что им так уж плохо, чтобы не стали жалеть их. Нищета выглядывает из каждого угла. Сколько человеческого достоинства в этом ребенке, сколько бессознательной гордости в маленьком человечке, одетом в холщовую рубашонку, из-под которой виден голый животик…
Выходим во двор. Медленно, в молчании, собираются мужики. Садятся на бревна, сложенные перед домом. Молчаливая, серая группка. Внимательно присматриваются к нам. Пытаемся завязать разговор.
— Что это у вас нигде садов не видать?
— Не родит эта земля… Сплошь болото, а где посуше — там пески…
— Молока достать у вас можно?
Загадочно переглядываются.
— Э, где там у нас молоко!
— Капусту сажаете?
— Не родится у нас капуста…
Разговор не клеится. Печальные, утомленные лица. Печальная, вся какая-то замученная, серая деревня. Она тонет в грязи скверных дорог. Хаты разваливаются. Молчат изнуренные люди.
Перевязываю мужику порезанную косой ногу. Большая гнойная рана. Разворачиваю грязные тряпки. Ни кусочка полотна в избе нет. К счастью, у нас с собой бинты. Вычищаю края раны, смазываю иодом, бинтую. Не поморщившись, мужик терпеливо переносит эту операцию.
Вечером старушка, лежавшая на печи, робко начинает свою повесть. Вот лежит-лежит, и смерть о ней позабыла. А как хотелось бы умереть, наконец умереть… Хватит этой жизни, ох хватит…
Подавленные, усталые, выбираемся из смрада и тоски этой избы к реке. Сверкает звездная ночь, таинственно перемигиваются звезды в поблескивающей воде. Ночь, полная запахов, перекликается тысячами голосов.
У моста кто-то насвистывает песенку. Молодой техник, работающий на постройке моста.
— Ну и деревню выбрали вы для ночлега.
— А чем вам деревня не нравится?
— Да, деревня… Ведь здесь ни одной избы не найдешь, чтобы кто-нибудь не сидел в тюрьме! Мужики, бабы — все. Один староста не сидел.
— За что же это?
Техник швыряет камешки в неподвижную воду.
— За что? За воровство, наверно, или за бандитизм…
Идем в овин. Сквозь щели в крыше виднеются звезды. Над деревней плывет полная ароматов, звенящая тысячами голосов июньская ночь.
Много времени спустя один еврей из местечка на реке Мухавец сказал нам:
— Бузаки? Щитынь? Да вы ведь ехали по следам «пацификации»…[1]
Теперь мы все поняли. Угрюмая, забитая деревня, бледные лица, дома без зелени, без садов, пустые хлевы, зияющие дырами соломенные крыши. Три года назад здесь свирепствовал террор в самых страшных своих проявлениях. Резали скот, вырубали фруктовые деревья, срывали солому с крыш, сжигали хлеб, избивали людей, толпами гнали их в тюрьмы. Ураган ужасов пронесся над тихими, прикорнувшими над рекой Бузаками. Ничего удивительного, что и три года спустя после «умиротворения» печать пережитого лежала на людях, на деревне.
А нам никто не сказал ни словечка. И только в соседних уездах узнали мы множество подробностей.
— Да, да, уезд Камень-Коширский. Это там три года тому назад восстали крестьяне…
— Под Каменем-Коширским… Сколько тогда народу погибло… Боже праведный, как жестоко карали народ…
— В том уезде полиция особые права имеет…
— Какие это особые права?
— Ну, по этой… пацификации… Там она может стрелять и бить когда вздумается. Их уже три года бьют, бьют, и ничего до сей поры не выбили…
Река Стоход течет среди зеленых ольховых лесов, и вода в реке зеленая, а над стремительной волной склоняются листья папоротника и лиловые лесные колокольчики. Быстро несется байдарка по зеленой воде, под зеленой тенью деревьев. Сверкает тысячами красок, переливается радугой всех цветов жаркий июль.
В хате у реки нас принимает безрукий, рослый мужик. Долго разговариваем вечером, сидя на лавке в избе. А поговорить есть о чем.
Рядом, тут же неподалеку, великолепный парк. Огромный дворец прячется среди вековых деревьев. На каждом дереве гнезда грачей. Сотни, сотни гнезд. Графиня живет в Варшаве, здесь только управляющий. Весной, когда крестьяне бросают тощее зерно в пашню, из графского парка налетают на крестьянские поля черные тучи грачей. Крепкие клювы раскидывают мелко вспаханную, плохо взбороненную землю. Тысячи грачей уничтожают зерно на крестьянских полях прежде, чем оно даст всходы.
— Грачей ведь можно уничтожить.
— Не позволяет пани графиня. Она обожает пташек…
— Но ведь и ее хлеб уничтожается.
Безрукий мужик качает головой.
— Н-е-е… у нее сеялкой сеют, глубоко заделывают семена. Это только наше… Ходили мы к управляющему, неплохой человек, но что же… Не даст птиц тронуть пани графиня, а с каждым годом их все больше…
— Вы должны, как приедет графиня, пойти к ней, объяснить, что и как, если с управляющим нельзя договориться…
Темные глаза с недоумением глядят на меня.
— Мы? К графине? Графиня с мужиком станет разговаривать?
Плывем дальше. Еще долго преследует нас гул грачиных голосов. Черной огромной тучей вьются они над парком — видно, их кто-то вспугнул. В ушах звенит от оглушительного карканья птиц, которых обожает пани графиня из Зарудча.
Аиром и мятой благоухает Стоход. Плывем среди прекрасных, буйных, бесконечных лугов. А на песке по берегам реки стадами стоят худые, невзрачные крестьянские коровы и тупо глядят в воду.
— Луга панские. У нас нет лугов.
Без конца без краю тянутся панские луга. А рядом с ними — обглоданные, плохонькие крестьянские пастбища. Над Стоходом, над Стырью гибнет, подыхает без корма крестьянский скот, потому что луга эти — пана Орды, пани Хойницкой, батюшки из Рафалувки.
Широка Стырь. Буйной волной катится она по обильной земле. Кусты калины в белом цвету, непроходимая чаща цветов, а дальше — дубы в высокой, по пояс траве и гнезда аистов на высоких деревьях. Одуряющий запах цветов. Сказочная земля, лазоревая, золотая, зеленая земля кажется созданной для счастья.
На берегу Стыри два живых скелета в лохмотьях. Молодой и старый. Но надо как следует приглядеться, чтобы определить их возраст. Глубокие морщины придают всему их облику выражение горечи. Пальцы, как когти хищной птицы, худые длинные шеи. На фоне зелени, среди цветов, в блеске солнечного дня эти люди кажутся привидениями.
— Паны, хлеба!
Протягивают к нам руки. Умоляюще глядят на нас.
Торопливо вытаскиваем хлеб из байдарки, наш дорожный запас.
— Откуда вы?
Они из деревни Бяла. Лежит деревня Бяла на песчаном холме. Трудно добиться урожая на бесплодных песках. Сохнет кинутое в землю зерно, слабые, вялые вырастают колоски.
А потом еще град выбивает дочиста то, чего не успели одолеть бесплодие почвы, палящий зной, весенние заморозки. Деревня Бяла не соберет в этом году ни хлеба, ни картофеля. И пойдет деревня Бяла по миру.
Широко раскинулась голубая Стырь. Слушаем рассказ. Просят, настаивают, чтобы мы прошли пять километров в сторону от реки, посмотрели, что осталось от деревни. В избах лежат опухшие от голода люди. Старики, дети и больные. Остальные разбрелись за куском хлеба по соседним деревням, таким же обездоленным, как и эта.
На широких заводях Припяти, разукрашенных белыми цветами кувшинок, встречаем тяжелые «дубы», лодки, выдолбленные из дубовой колоды. Это женщины и дети двинулись на поиски пищи. Рвут траву ситник, жуют ее мягкие стебельки.
— Ничего это?
— Коли хлеба нема, то и трава хороша.
Вечером садимся за общий ужин. Хозяйка поставила на стол глиняную миску. В миске молоко с водой, заварена в молоке мелкая белая кашка — цветы, появляющиеся на лугах в эту пору.
— Хороша похлебка?
Едим медленно-медленно. Дети с жадностью подносят ко рту ложки с этой пищей, которой хотят обмануть вечно пустой желудок…
Достаем шоколад, притащили из байдарки колбасу. Хозяйка, взрослая женщина, мать четверых детей, первый раз в жизни ест колбасу.
— Куда уж нам!.. Надо покупать, а откуда деньги?
Озеро Нобель бьет голубой волной о кремнистый берег. Летают над водой иссера-белые с черными головками чайки. Садятся на торчащие из воды колья, поднимаются, хлопая крыльями, резко и пронзительно кричат. Монотонно колышется озеро Нобель, набегает волна на берег, расплескивается, отступает и вновь возвращается. Без отдыха шумит озеро. Над озером деревня. Сушатся на берегу потемневшие сети, верши и неводы.
В озере, в реке, впадающей в него, в тысячах заводей, в сети вод, опутавшей этот край, — огромные рыбные богатства. Крупные, длинные щуки с хищными головами речных разбойников, осторожные язи, поднимающиеся из глубин тысячными стаями. Окуни, сверкающие радужной чешуей. Серебристые стада плотвы. Неисчислимые богатства.
На это озеро приехал однажды пан инженер. Быстро подсчитал, какие богатства таятся в глубинах вод. Созвал мужиков, предложил им великолепную сделку.
Как известно, правительство проводит комасацию[2]. Земли, раздробленные так, что часто десять гектаров разделены на сто кусочков, будут соединять. В любой день может приехать комиссия и заняться этой работой. Известное дело, казенная комиссия сделает, как захочет, и денег сдерет много, а он, пан инженер, хочет помочь мужикам, очень уж он, пан инженер, мужиков любит. Вот он сам и проведет им комасацию, частным образом, И стоить это им ничего не будет, совсем бесплатно. Только одно — услуга за услугу. На четырнадцать лет пан инженер получит право ловить рыбу в озере Нобель и его притоках. Одну треть улова мужики отдадут даром. Две трети будут продавать ему же. Цены, понятно, назначает он, ибо ом ведь разбирается лучше в этом, чем рыбаки с озера Нобель.
Кое-кто в деревне возражал, кое-кто объяснял, что это неладно получится. Но пан инженер не выпустит из рук такой удачи. Неудобного человека устранить можно — сообщить властям, что он коммунист, ведет агитацию среди мужиков. И тогда все пойдет гладко. Мужики с Нобеля будут четырнадцать лет ловить рыбу для пана инженера. Одна треть улова даром, две трети по цене в шесть раз ниже рыночной.
А если подсчитать стоимость комасации, то этот расход можно покрыть одним осенним уловом, когда сети вытаскивают тонны язей и центнеры щук. Но это подсчитал только один человек, тот, кто сейчас сидит в тюрьме. Теперь деревня Нобель выходит на рыбную ловлю, закидывает сети, тянет неводом рыбу, добывает много, много рыбы… для пана инженера. И так будет продолжаться четырнадцать лет.
Байдарка качается на волнах. Голубая Стырь, черпая Турья, зеленый Стоход и Льва с коричневой, как настой чая, водой. И везде луга, буйные, зеленые, и везде леса, высокие, шумные, и везде лазурь, синева, зелень и золото, как в сказочной стране.
И повсюду живет здесь грустный, замученный человек.
Луга, луга, луга… Красные от пушистых султанов щавеля, белые от звезд тысячелистника, розовые от кукушника, что маячит вдали, как упавшее на землю облако, пронизанное солнцем. Вот луг в окружении огромных дубов. Барский луг. Годами косили его мужики по здешнему обычаю — исполу. Скосят, траву высушат, свезут — себе половину, пану половину. И еще доплата «за место». Восемь, десять злотых — целое состояние для крестьянского кармана.
Разнесся как-то слух — казна забирает луг за подати. Как будет с лугом? Мужики пишут прошение, вытаскивают из узелков последние гроши на гербовый сбор. Повезли прошение в город. Но ответа нет. Ждут. Ответа нет.
Долго, долго тянулось это. И, наконец, пришел ответ. Но не письмо в конверте с казенной печатью пришло. Ответом был осадник[3] из соседней деревни: ему достался луг. Зеленый, цветущий, буйный луг. А мужикам из Ухринищ дали бесплодное, болотистое пастбище у реки.
Шумит сосновый лес над Белым озером. Колышутся высокие-высокие деревья. Красноватые стволы блестят на солнце. Идет поверху шум разгулявшихся ветвей. Глядят вековые сосны в лазоревую гладь Белого озера.
Пуща на берегу реки Львы. Ольха и дуб, непроходимая чаща, сквозь нее продираются лось и кабан, торопится в свою нору барсук.
День, другой плывем бором, не встречая живой души. Только лес, лес и лес. Покажется из воды круглая головка черепахи, с шумом, с треском поднимется из камышей сердитый лось, желтовато-белая косуля промелькнет на поляне. Лес, лес и лес, без конца без краю.
А в мужицких хатах нет топлива, нет жердей для заборов, нет бревен для нового сарая. Мужик только рубит лес и сплавляет его в дальние страны. Плывут плоты по Стыри, Припяти, Мухавцу — бесконечные плоты. Березовые белые стволы, и красноватая сосна, и могучие дубовые колоды. Для заморских далеких портов, для чужих доков растут здешняя сосна и здешний дуб.
На плотах люди в рубахах с засученными рукавами, вспотевшие, запыхавшиеся, длинными шестами отталкивают стволы от берега. С рассвета и до ночи плывут, борясь с течением, с мелями, со скрытыми под водой сваями давно разрушенных мостов. Медленно-медленно движутся деревья по течению этих рек. Печет солнце. Сухой кусок лепешки и случайно пойманная рыба — вот и вся еда.
А ведь потом придется и домой возвращаться — за десятки и сотни километров. Плата — один злотый в день. На это надо и еду в дороге покупать и домой добраться, а обратный путь в расчет не принимается. Однако сплавщикам на плотах выпала лучшая доля, — хуже тем, которые тянут груженные лесом баржи против течения. До Луцка, до Любашова, до местечек и городов. Тридцать тысяч килограммов леса на барже. Запряжется человек в холщовую шлею, пригнувшись, бредет по берегу и тянет за собой страшную тяжесть. Ноги вязнут по колена в болоте, в прибрежной тине. Ранят ноги густые, колючие кусты. Пот течет со лба, из израненных ступней сочится кровь. Четыре человека, согнувшись, волокут баржу, течение относит ее, затягивает на поворотах реки. Некогда хребет выпрямить, нет минутки для отдыха. И за это тоже злотый в день — вот какие «богатства» перепадают от здешних лесов в мужицкие руки.
В изданном главным статистическим управлением «Малом статистическом ежегоднике», который является сущим кладезем всевозможных справок, нахожу сведения о составе населения здешнего края. Количество, родной язык, вероисповедание.
И в рубрике «родной язык» бросается в глаза странное определение. Оказывается, что здесь, над Турьей, над Стоходом, над Стырью восемьдесят процентов населения говорит на «местном языке».
Не знаю такого языка. И когда мы плывем в байдарке по зеленым и голубым рекам, мне вспоминаются эта рубрика и это странное определение.
Рыбаки с лодок закидывают сети в глубину. С минуту глядим, как коричневатые ячейки исчезают в воде.
— А вы на каком языке говорите?
— На украинском. Мы украинцы.
Расспрашиваем детей на берегу, женщин в деревнях, мужиков, волокущих барки с лесом. Нет, никто не говорит на «местном» языке. Никто не дает нам ответа, фигурирующего в официальном издании.
— По-украински.
— Мы украинцы.
— Говорим по-украински…
— По-белорусски…
Белорусские земли, украинские земли, в просторах вод, в зелени лугов, в шуме лесов, под лазоревым небом и под тяжким, кошмарным гнетом.
Однако не до конца еще придушил их этот гнет. Еще выходят девушки к мосту над Струменем и поют вечерней порой. Долго слушаем, я записываю слова песен.
Высокие, ясные голоса. Над потемневшей рекой, в которой отражаются звезды, над уснувшей деревней, под искристое звездное небо плывет жалоба украинской земли, песня о тюремной камере и кандалах.
В деревне Прикладники богатый мужик предостерегает нас, внимательно оглядываясь по сторонам:
— А вы тут смотрите… Потому здесь деревня, и говорить не стоит… Здесь коммунисты, одни коммунисты…
— Ну да, рассказывайте!
— А как же? Известно, что тут за народ… Да что там? Мало ли они в тюрьмах сидели и сидят? А как вернутся, так еще хуже. Их там в тюрьме еще лучше выучат, узнают там всякую всячину, тогда уж не дай бог… Тот, кто вам рыбу утром продал — коммунист, в самом Кракове сидел в тюрьме… А этот, у дороги, видите? Тоже коммунист! Вот какая деревня… На Испанию собирают, бумажки разные разносят, собрания устраивают — известно, коммунисты…
Отсюда, из этих деревень, подбирается контингент узников для Равича, Вронек, Коронова. Отсюда, с зеленых полей, с шумливых вод, с широких просторов — в тоску и духоту тюремной камеры, где чахотка быстро съедает мужицкие легкие. Это здесь, в этих деревнях, сыплются самые суровые приговоры — десять, двенадцать лет — по делу без улик, по делу, основанному на подозрениях, основанному на «внутреннем убеждении» судей.
Упорная, глухая, подпольная борьба идет здесь день и ночь. Борется с помещиком староста из Судчи, — его деревню хотят обмануть при распределении сервитутов[4]. Борются мужики с помещиками, с осадниками, с полицейскими, с уездным управлением.
Борется и другая сторона. Тысяча непонятных предписаний, тысяча нигде в иных местах не виданных обычаев, которым здесь, на «окраине», суровые исполнительные органы придают силу закона. И направляют-то сюда на работу сброд со всей Польши.
Одних присылают, другие прибывают самотеком, вроде того инженера с озера Нобель, — все, кто чувствует, что здесь можно делать «хорошие дела», используя темноту, неопытность, добродушие здешнего мужика. Слетаются как вороны, почуяв легкую, верную добычу.
Колышется волна. Плещут весла. Моя записная книжка пухнет с каждым днем.
Да, у нас больше знали о дебрях Амазонки, чем о лесах над Львой, больше о деревнях Африки, чем о деревнях над Хорынью, больше о жизни китайского кули, чем о жизни здешнего мужика.
Первое путешествие закончено. Возвращаюсь в Варшаву, чтобы писать о том, что я видела.
Писать надо осторожно, не касаясь тысячи вопросов. Неусыпное око цензора не дремлет.
Но все же кое-что увидело свет. Номера журнала с корреспонденциями с Турьи дошли до пана уездного начальника в Камень-Коширский.
Наш уездный начальник созвал старшин из всех деревень. Они стоят, боязливо выжидая, что будет. Пан уездный начальник должен поставить их в известность о том, что в печати появились лживые, клеветнические статьи. И особенно обижен Камень-Коширский уезд. Из этих корреспонденций ясно, что некая Ванда Василевская длительное время безнаказанно бродяжничала по всему уезду и ей не только никто не препятствовал в этом преступном путешествии, но еще и давали ей информацию, показывали дорогу, пускали на ночлег, оказывали всяческое содействие. Не исключено, что та же Ванда Василевская захочет еще раз появиться на этой территории. В таком случае следует таковую немедленно задержать и уведомить ближайший полицейский пост, а полиция уже призовет ее к порядку.
Через несколько лет мне пришлось снова побывать в этих местах. Мы уже не плыли в байдарке. У пристани в горящей Варшаве была оставлена наша прелестная «Чайка», на которой мы прошли по воде несколько тысяч километров. Теперь пришлось пешком прошагать сотни километров.
И снова мы спали на мужицком сене в украинских деревнях. И снова руки украинских крестьянок подавали нам хлеб и молоко. Только теперь мы уж не были беззаботными экскурсантами, которые могли угощать шоколадом детей и расплачиваться за хлеб. На этот раз карманы наши были пусты и ноги натерты до крови. Но везде перед нами гостеприимно открывались двери хат, и везде добрые люди подавали нам хлеб, и всюду слышали мы доброе слово.
И потому меня ждет еще одно путешествие в те края. Пойти от деревни к деревне, по тем самым домам, по тем самым жилищам. Поглядеть, как теперь живется этим людям. Навестить старых знакомых, посмотреть, как выросли дети, как изменились лица.
А потом написать вторую часть книги «Песнь над водами». Первая — «Пламя на болотах» — возникла из моих путешествий по краю неволи, по краю гнета. Вторая покажет судьбу моих героев в советской отчизне.
1940